Алексей Васильевич Леснянский
ДЕЖУРНЫЕ ПО СТРАНЕ
роман
И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, — в объедении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного другим? Твёрдо верую, что нет и что время близко… И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немыслимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш…
Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы
Глава 1
Эти интересные события произошли в одном сибирском городе. Претендовать на пафосное звание мегаполиса он не стремился, а на ярлык «села городского типа», который ему приклеивали приезжие мастодонты из столицы, обижался. Надо сказать, что жителей в нём проживало несметное количество, но только если кому вдруг придёт в голову шальная идейка спрятаться от правосудия в одном из микрорайонов, то об этом через два с половиной часа уже знают все дворники наперечёт, а через три и всё остальное население: от градоначальника Николая Гербертовича Горностаева до бродячих котов, жадных в отношении молочно-кефирных рек и мартовского прелюбодеяния.
Автора так и подмывает назвать точное число жителей города, и он, пожалуй, сделает это, иначе к концу произведения его окончательно подмоет и унесёт в Мировой океан. Так вот, если взять жителей Москвы без обитателей северо-западного округа на пару с теми, кто в отчаянном порыве штурмует столицу в поисках работы и успеха, и разделить эту цифру на сорок лет, проведённых Моисеем с евреями в пустыне, чтобы из египетских рабов превратить их в свободных людей, — то получится единица, за которой гордо шествуют пять голопузых нулей.
Особых достопримечательностей в городе не было, если не считать драматического театра с провинциальной труппой и краеведческого музея, где томилась за стёклами суровая флора и скалила зубы таёжная и степная фауна. Зато высших учебных заведений в городишке было хоть отбавляй. В постперестроечную эру они росли, как грибы после обильного дождичка, стремясь подтянуть население в экономическом и юридическом плане. Институтов обозначенного профиля развелось так много, что стали они ютиться в бывших общежитиях и оккупировать детские сады — благо, что дети перестали рождаться.
В городе было три рынка: один — центральный, другой — так себе, третий был блокирован нашими желтолицыми крошечными товарищами по утопленному в Лете, но ещё не до конца захлебнувшемуся соцлагерю. Громадные цеха тяжеловесно-серого мясокомбината громоздились в затхлом воздухе на улице Пушкина, и зданием в стиле «модерн» непременно бы гордились жители, если бы перепадало от его величия в консервные банки побольше мясных прожилок, а бледный жир, от которого заплывали металлические стенки, куда-нибудь бы исчез во веки веков. Пивоваренный завод, расположенный по улице Советской, был выкрашен в таинственный бордовый цвет, что никак не отражалось на качестве пива в холодный осенне-зимний период, а летом и весной, когда глотку сушит палящее солнце, как говорится, не до суждений о вкусовых качествах прохладительных напитков — лишь бы кое-как утолить жажду. Если бы автор отведал сметанки, произведённой «Маслосыркомбинатом», то нашёл бы её превосходной, потому что жирность в данном продукте ему претит, но о ней напоминала лишь надпись на этикетке, которую читают редко.
Ещё в городишке был зоопарк. Его следовало бы отнести к достопримечательностям, но пожалеем верблюдов и медведей, знакомых с голодом.
На этом язвительное повествование, кстати и некстати пересыпанное гиперболами, на какое-то время прекращается, и начинается серьёзный рассказ о тех, кто родился при Брежневе, рос при Горбачёве, а мужал при Ельцине. Они не знали друг друга до 99-ого года, учились в разных школах, имели разные интересы, но судьбе было угодно раз и навсегда соединить их в маленькой беседке у стен заштатного института за четыре месяца до того момента, как по всей планете в трескучем морозном воздухе под завывания декабрьской вьюги закружатся в танце снежные хлопья миллениума.
Когда закончилась первая в их жизни пара по высшей математике, они вперёд всех сбежали вниз и заняли уютную беседку, залитую уставшим осенним солнцем. Они быстро познакомились и стали наперебой делиться друг с другом первыми впечатлениями о вузе, в котором им дальше предстояло учиться долгих пять лет. После десятиминутной беседы выяснилось, что пока все без исключения метят на красный диплом, а дальше будет видно, потому что студенчество, как резонно заметил один из них, — это не только учёба. Они и не подозревали о том, что им вместе предстоит пройти. Им казалось, что пироги успеха с ватрушками счастья планируют в воздухе и надо только во время зевка не прикрывать рот ладонью, и в него обязательно залетит настоящая любовь или ещё какая-нибудь штука, поперхнуться которой было бы так здорово. Заманчивые перспективы на будущее роились в их головах, и они не позволяли себе даже сомневаться в том, что у них всё получится, так как все шестеро имели крепкие тылы в лице своих отцов — бизнесменов средней и выше средней руки.
Пришло время познакомиться с ними поподробнее. Женоподобного парня, который беспрерывно сыпал утончёнными остротами, звали Артёмом Бочкарёвым. Он был высок, красив, широк в плечах и узок в талии — словом, из тех парней, от коих хрустальным звоном дребезжат сердечки глупеньких девчонок. Однако любовные признания задолго до поступления в институт ему до того надоели, что он стал намеренно уродовать свою внешность ультрамодными причёсками и броской одеждой, отчего стал ещё более притягательным, и стайки недалёких красавиц продолжали лететь на свечу, в безжалостном пламени которой неизменно сгорали. Когда в отношении слабого пола его душа уже окончательно, но ещё не совсем бесповоротно окаменела, Артём почти перестал обращать на них внимание и общался с ними, как с неизбежным злом. Чтобы заполнить возникший в сердце вакуум, который по издревле сложившимся традициям заполняют хрупкие создания, он переключился на автомобили. Да, чуть не забыл. Всё-таки были у нашего автолюбителя четыре постоянных женщины. Артёма часто видели под ручку с госпожой Безответственностью. Легкомыслие, подобно доброй матери, целовало его перед сном. А миссис Ветреность не без оснований ревновала его к Непостоянству. Его называли душой компании, потому что на вечеринках он беспрерывно жонглировал безобидными остротами и никогда не пьянел. Артём мог поддержать любой разговор. Все темы Вселенной он знал на два процента, а на остальные девяносто восемь бессовестно домысливал, за что на него никто не обижался.
От толстого парня, подсевшего к Артёму, веяло ядрёной харизмой. Ясно, что ему не следовало даже открывать рот, чтобы вызвать к своей персоне глубокое уважение и даже боязнь. Но он заговорил, и ореол недосягаемости мгновенно улетучился. Яша Магуров оказался добродушным парнем, чем сразу же завоевал симпатии парней, сидевших в беседке. Его обаяние не знало пределов. Он мастерски сплетал кружевные улыбки и мог за пару секунд убедить даже незнакомого ему человека, что тот приходится ему, как минимум, двоюродным братом. Если всем нам светит солнце, то Яше светила полуночная звезда его пращура Давида, который, как известно, не только метал камни во всяких Голиафов, но и завещал своим детям, внукам и правнукам быть загадочными, уступчивыми и плутоватыми, чтобы кроме банка они уже ничего не метали. Магурова любили люди, и за это он платил им тем же, но при этом никогда не забывал брать сдачу, потому что сбалансированность в отношениях ценил превыше всего. Чтобы расшевелить еле тлеющие угли в его сердце, требовалось большое человеческое терпение или, на худой конец, банальный отрезок женской ножки от того места, где заканчивается голенище сапожка и до самых, как говорится, до окраин. Бесспорным плюсом Якова было то, что его добрая душа, — очень шедшая обрюзгшему телу, — всячески упиралась делению женщин на красивых и не очень, на что горделивым первым было почти глубоко наплевать, а обделённым вторым хотелось петь от близости человека, умевшего даже бесформенную талию обозвать несравненным футуризмом. На тот же самый манер, с каким строгие родители отвешивают подзатыльники непослушным детям, Яша отвешивал комплименты, а потом зажимал девушку в углу и закладывал дамские уши прекрасной чепухой, что, в конце концов, приводило или к постели, или к звонкой пощёчине.
Перейдём к Васе Молотобойцеву. Его грубоватые черты лица, неуклюжая походка и твердолобая прямота делали его похожим на простого мужика. Его раскатистый бас, казалось, рубил дрова, закидывая словесными щепками уши собеседников. Иногда на Василия находили периоды несносной правильности, когда он в грубой форме делал замечания всем подряд, упрекал людей в том, что они его не понимают, а потом на две недели запирался в своей комнате, пытаясь понять, в каком таком месте пускает свои корни Вселенское зло. В такие дни добровольного затворничества он также сочинял героические песни песней, мысленно спасал Мир, а затем, настроив душу на минорный лад, тренькал на гитаре о несчастной любви, о расплодившихся повсюду крысах и бомжах, о бедном и непонятом людьми плотнике по имени Христос и о том, как однажды к нему в дом ввалится обездоленный народ со словами: «Иди, Васёк, отстраивать Россию». Частенько на старой гитаре от его чувственных пальцев с восторгом рвались струны, что, однако, никак не могло ему помешать допеть очередную песню до конца уже безо всякого инструментального сопровождения, только мешающего хорошему голосу. Какие бы возвышенные чувства не обуревали Васю за время двухнедельного отрешения от падшего Мира, он помнил о завтраке, обедал даже плотнее обычного, а ужинал аж два раза, убедив себя в том, что на сытый желудок совершить подвиг гораздо легче. Сосание под ложечкой и надоедливое бурчание в животе, думалось парню, не должны отвлекать его от дела спасения голодных и рабов, если вдруг представится такой случай. И только, надо отметить, вследствие такой убеждённости он, боясь разбудить домочадцев, по-воровски крался к холодильнику ночью и, словно Мамай, не оставлял там пищи на пище. После поглощения всяческого сервилада, слоёных пирогов и ноздреватого швейцарского сыра Василий возвращался в свою комнату, ложился в кровать, минуты полторы размышлял о суете сует и тщете всего сущего, а затем забывался в крепком сне, будучи в котором ежесекундно пушечно всхрапывал, вероятно, от боли в сердце за всех и вся.
Низкорослый белоголовый живчик Вовка Женечкин был из той породы людей, которые и в двадцать, и в тридцать, и в шестьдесят лет остаются Вовками. Трогательно наивный, по-детски непосредственный, он любил подражать звукам милицейских сирен, животных, сливных бачков и стекающего по крышам дождя. Его младенческая душа давно настроила великое множество параллельных миров, где он был безраздельным хозяином. Когда Вовка говорил, то в обычную земную речь постоянно перетаскивались странные образы и идеи. Его отвлечённое мироощущение привело к тому, что парня перестали воспринимать по причине инопланетного поведения, но любить — любили. Даже закоренелая сволочь считала святотатством обмануть мальчишескую доверчивость Вовки. Правда, и игнорировать его все без исключения тоже считали первейшей обязанностью. Он в совершенстве владел языком телодвижений, орудовал мимикой, как Чарли Чаплин, входил в образ с той же лёгкостью, с какой десятки тысяч людей ежедневно входят в московское метро, а любой герой, от имени которого произносил речи Вовка, казался настолько живым и реальным, словно сошёл со страниц произведения.
Алексей Левандовский был высок, пылок, сухопар и порывист. Его проницательный взгляд либо колол, либо резал, либо жалел, а мысль не знала покоя. Мятежник по духу, весельчак и неплохой оратор, он боялся проторенных троп, спокойного течения жизни и ненавидел фальшь. Алексей привык строго спрашивать с людей и требовал от них такого же отношения к себе. За ним не было замечено больших недостатков, но из мелких не составило бы никакого труда выложить вторую Великую Китайскую Стену. Его философия сводилась к тому, что в Мире существует только три цвета: бесчинствует превалирующий чёрный, корчится в агонии белый и, словно маятник, качается от одного лагеря к другому жестокий, справедливый и победоносный красный, принимая во мгле оттенки бордового, а на свету — безобидно-оппозиционного алого. Он пьянел от звуков барабанов и горнов. Пороховая гарь над полем кровавых сражений представлялась ему самым лучшим запахом на свете. Во сне он приступом брал Бастилию, оборачивал вспять отступающие дивизии, дрался на баррикадах, тонул вместе с «Варягом», переходил с Суворовым через Альпы, водружал над Рейхстагом изрешечённое пулями знамя и сидел в острогах за правду… В общем, мечтал.
Леонид Волоколамов был самым старшим среди своих новых знакомых. Накануне поступления в институт ему исполнилось двадцать лет. По внешности он напоминал голодного волка, который не видел добычи уже несколько дней, а потому сильно похудел, уже утратил веру в быстроту ног, но ещё не разочаровался в качествах своего ума. Его поступки носили излишне рациональный характер. Он с математической точностью просчитывал развитие любой ситуации, а выдвинутые им гипотезы, казалось, должны были стать аксиомами для людей, занимающихся прогнозами на будущее… Но он ошибался, ошибался жестоко и часто, потому как забывал, что живёт в непредсказуемой России, где даром провидца обладают только юродивые и святые. Об этой непреложной истине он догадывался, но перестроить свои взаимоотношения с людьми, подстроиться под окружающую действительность не мог, так как жил умом, а не сердцем. В какой бы компании ни оказывался Леонид, он быстро восстанавливал людей против себя, несмотря на то, что был интеллигентным и старался взвешивать каждое своё слово. Определённо можно сказать, что Лёня представлял собой парня, замечательного во всех отношениях,… но чужого. А чужаков, имеющих неосторожность разговаривать на русском языке без акцента (впрочем, как и с акцентом), у нас недолюбливают.
Ребята, представленные читателю, по уму, образованности и развитию обгоняли своих сверстников на несколько лет, но заметим, что их аттестаты о среднем образовании пестрели тройками. Дабы не прослыть ботаниками, они никогда не обострялись на оценках, а знания, которые они впитывали как губка, были им нужны только для того, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы, а также главенствовать в компании ровесников.
Скоро им предстояло шаг за шагом пройти шёлковый путь от ветреного школьника, падкого на всякую мерзость и несущественную ерунду, до — не стоит бояться этого словосочетания — настоящего гражданина. Предвосхищая события, скажем, что однажды молодые ребята запасутся терпением, резиновыми сапогами и начнут без устали маршировать по бескрайним просторам государства в поисках одинокой повозки по имени Россия. Отыскав её, они займут вакантное место ломовой лошади и попробуют сдвинуть все четыре чёртовых колеса с мёртвой точки.
А если ничего не получится сдвинуть (ведь и такая может случиться оказия), то, — будем надеяться, — никуда больше не пойдут, но останутся, при разгрузке ненужного хлама надорвутся, а потом займут круговую оборону и хотя бы попытаются сохранить то добро, которое было накоплено предыдущими поколениями…
Глава 2
Пока заметно одряхлевшее второе тысячелетие писало завещание по передаче долгов и наследия третьему, институт в городе N только намеревался отпраздновать пятилетие. По меркам человеческих представлений ему следовало зваться не иначе, как Антошкой, уплетать за обе щеки манную кашу, заниматься раскрашиванием картинок в подготовительной группе детского сада, ковыряться в носу в свободное от отдыха время и только начинать штудировать по букварю «азы» и «буки». Ан нет. С момента своего основания новорождённое дитя решило нагло миновать все известные нам стадии развития и становления личности, заставив величать себя ни больше, ни меньше — Антоном Сигизмундовичем. Что ж — в этом нет большой беды, потому как конкуренция среди вузов большая, и патриархи образовательных услуг так и норовят совершить «избиение младенцев», словно какие-нибудь жестокосердные правители времён нулевого года нашей эры.
Не пришитые к делу и не ужившиеся в других образовательных учреждениях кандидаты и кандидаты в кандидаты наук бросились устраиваться на работу в новоиспечённое детище постперестроечной эпохи. А оно, не растерявшись, приняло всех с распростёртыми объятьями и в дальнейшем пожалело только о том, что назначило людям высокую зарплату, тогда как на первых порах можно было обойтись не просто нищенским, а вообще никаким вознаграждением за труд. Для молодого института, который по воле времени планировал заняться подготовкой экономических кадров, всё складывалось как нельзя лучше. Преподаватели рвались в бой, ректор не жалел денег на приобретение книг и учебников лучших отечественных и зарубежных авторов, три аудитории были оснащены компьютерами.
Кирпичное здание в пять этажей, некогда являвшееся общежитием для студентов, учившихся в ГПТУ-57, формально приобрело статус института, но от этого быть общагой отнюдь не перестало. Можно переделать жилые комнаты под аудитории, избавить полы и стены от виноводочного запаха, но вытравить дух вольницы из потолков не сумеют никакие евроремонты. Так и произошло.
Анархия, — которой грезил, но так и не добился батька Махно, — продержалась в вузе целый год. Слова «перемена», «порядок» и «дисциплина» были вычеркнуты из студенческого лексикона и забыты, как страшный сон. В первые же месяцы после своего рождения Антон Сигизмундович подарил городу сотни легенд о нестандартных методах обучения, которые заключались в том, что преподаватели не просто проводили пары, а будоражили мысль студентов, сталкивали лбами мнения, терзали неопытные умы новыми идеями и разработками, распаляли воображение, травили сильных ребят, доводили до кипения слабых и сжигали на эфемерных кострах инквизиции тех подопечных, которые выказывали равнодушие к предмету. Молодые люди не шли в институт, они бежали туда сломя голову. Бешеный ритм, в который были вовлечены вчерашние выпускники школ, за короткий срок подавил растерянность ребят, неуверенным шагом вступивших во взрослую жизнь.
Скучные знания, покоившиеся под толщей непробиваемого льда, совместными усилиями учеников и учителей через лунки свободомыслия вытаскивались на свет, просачивались в студенческие мозги, вырубали глухие леса дремучести и бестолковости, распределялись по полушариям, утрамбовывались в извилинах и переплавлялись в мартеновских печах современности. Ошеломляющие результаты первой аккредитации потрясли скептиков. Молодой институт за глаза окрестили рассадником будущих квалифицированных специалистов, вольтерьянцев и патриотов.
В стенах вуза молодёжь не карабкалась по отвесным скалам в стремлении достичь Олимпа знаний, а свистнула Гермеса и прямо у подножия горы растолковала оному, что его крылья перекочуют к Икару, если многоуважаемая Афина через минуту не сбросит с вершины верёвочную лестницу. Вестник богов был взбешён, когда ему всё-таки вырвали крылья, несмотря на то, что просьба молодых людей была тотчас исполнена. Очнувшись от такой неслыханной дерзости, он крикнул богине Мудрости, чтобы та немедля подняла лестницу на недосягаемую высоту. И зря. Студенты обозвали крикуна Герпесом, тюкнули его по голове чем-то навроде эмалированного тазика, связали гордиевым узлом, запихали в мешок из-под картошки, а потом, не забыв прихватить пленника с собой, повисли на верёвках и стали быстро подниматься наверх.
— Эй, Афина, неужели ты не чувствуешь, что груз, который ты втаскиваешь на вершину Олимпа, слишком тяжёл? — завопил очухавшийся Гермес.
— Правду говорят, что шила в мешке не утаишь, — буркнул кто-то из ребят и повторно саданул вестника богов по макушке.
— Гады-ы-ы! — совсем даже по-русски заорала богиня Мудрости. — Сейчас я обрублю лестницу, и через пару секунд вы шмякнитесь на землю на пару с этим олухом Гермесом!
— Куда подевался твой безукоризненный древне-греческий, Афина?! — крикнул кто-то из парней. — Мы не потесним тебя на вершине! Неужели люди и боги Эллады, которые славятся своей демократичностью, столь равнодушны к студентам, желающим всё знать?! Нам нужна вершина Олимпа! Олимпа знаний!
— Знать всё невозможно, недоделок! Знать абсолютно всё имеет право только знать, да простит меня богиня истории Клио за этот каламбур! — прозвучал ответ сверху.
— Да, но многого не зная сейчас, мы уже о многом догадываемся, красавица! — включился в диалог какой-то наглец.
— Похвально, юноша! Но как ты уже мог понять, вас это не спасёт, несчастные потомки великого народа!
— Как, оказывается, наша воительница может красноречиво выражаться! — с деланным восхищением выкрикнула симпатичная студентка. — Последняя фраза была просто великолепна, словно сам старик Сократ водил кончиком твоего языка!
— Зови Зевса! — прорвало кого-то. — Мы желаем видеть главного! Имеем право! Мы желаем!
— Не надо выдавать желаемое за действительное, жалкие человечки! Недавно Верховный принимал в своих покоях Вакха!
— Наверное, сильно устал? — раздались сочувствующие голоса.
— Да, еле ворочает языком! — подтвердила Афина. — Надеюсь, вы в курсе, что олимпийские боги могут беседовать только с равными себе?.. То есть только с богами! Или даже с людьми, но…
— Не стесняйся, женщина-город! Продолжай! — дружно крикнули снизу.
— С людьми, но первыми среди равных… опять же богам! — заключила богиня Мудрости.
— Нам нужны имена этих героев, чтобы послать их к Зевсу в качестве своих представителей! — восторженно выкрикнул какой-то храбрец и, разжав пальцы от счастья, полетел в пропасть.
— Первый готов, не добравшись и до приёмной Знания, — с грустью проводив друга, заметил студент, которых называют «вечными». А потом раздражённо гаркнул: «Мы испытываем информационный сушняк, который надо утолить!.. Имена, Афина! Нам нужны имена!»
— Они, по-моему, не принадлежат вашему кругу! У них нет имён! — испугалась богиня Мудрости, вероятно, забыв, что может дёргать за верёвочки по своему усмотрению. — То есть имя им — Легион!
— Так говорят о тех, кого много! Следовательно, о нас! — раздались дружные крики радости.
— Или чертях! А нам — поделом! — подытожил какой-то студент, осознав, что сила воли ему больше никогда не пригодится, так как в дело вступила сила тяжести.
Надеюсь, что читатель составил приблизительное впечатление о тех настроениях, которые царили в образовательном учреждении на протяжении целого года. В институте не готовили специалистов, словно яичницу на сковородке. Там их творили, как могут творить только талантливые скульпторы, которые в банальной гранитной глыбе видят неизвестного солдата с малюткой-девочкой на руках. Слава об Антоне Сигизмундовиче (будем в дальнейшем называть ВУЗ так, чтобы никого не скомпрометировать) разнеслась по ближайшим городам и весям, несмотря на то, что до первого выпуска было ещё далеко. Маманы и папаны, переживавшие за судьбу своих чад, перестали терзаться сомнениями по поводу выбора учебного заведения. «Какие там Оксфорды! Долой Кембриджи! Пропади всё пропадом, а также Гарварды! Детей — на выкорм к Антону Сигизмундовичу!» — истошно вопили родители. Как и следовало ожидать, неразумное дитя, решив, что оно уже большое и вполне самостоятельное, зазналось и подняло оплату за обучение.
В общем, прокатившись с ветерком на волне популярности, институт сорвал неплохой банк, а потом испортился, как это всегда бывает, когда в воспитательный процесс вмешивается денежный паводок. Финансовые потоки смыли анархию, словно какой-нибудь зловонный эпизод в общественном туалете. Плюс ко всему началась кампания по дискредитации Антона Сигизмундовича, потому что он стал опасен; в местных газетах появились заметки с такими заголовками: «Угомонись, Антошка», «Негосударственный ВУЗ ведёт себя как государственный», «Слишком хорошо — тоже нехорошо», «Не зарывайся Антошка, а то мы тебя по макитре, по макитре» и т. д.
Статую Свободы свергли с пьедестала. Перед входом в учебное заведение воздвигли памятник Диктатуре, в поднятую руку которой вложили полый череп. По прошествии некоторого времени мутная вода спала, и на горизонте высветился островок демократии. Неизведанное чудо показалось из мутной жижи, но потом оказалось, что всем просто показалось. Новый монумент приказал инакомыслию долго жить, и оно умерло.
Институт произвёл зачистки. Неуёмные преподаватели, принесшие вузу честь и славу, были преданы анафеме и уволены. Ректор объяснил этот шаг тем, что молодому учреждению, некогда заложенному на верфях мыса Доброй Надежды, отныне следует плыть по течению, довольствоваться скромной ролью шлюпки, войти в полосу тумана и лечь в дрейф, пока вокруг не улягутся бури негодования со стороны властей и штормы зависти, насылаемые другими вузами. Реакционный курс, взятый на «чёрт знает что — бог видит надолго» привёл к студенческим бунтам, которые были жестоко подавлены на зимней сессии второго года. Двадцать храбрецов выбросили за борт, не дав им даже опомниться и как следует хлопнуть дверью в кают-компанию. Отчисления грозили принять характер поголовных, но часть ребят пожалела заплаченных за учёбу денег и приспособилась к новым условиям, часть успокоилась в надежде на глобальное потепление, ещё часть перебралась в андеграунд, откуда чертыхалась в адрес ректора и его лизоблюдов, попутно вспоминая славные дни, когда позволялось почти всё, но этим никто не пользовался.
Помчались годы. Не будем лукавить перед читателем и скажем, что, несмотря на то, что студенческая вольница была вздёрнута на рее, качество образования в Антоне Сигизмундовиче поддерживалось на нормальном среднем уровне. Никаких там тебе прений, политических баталий, творческих подходов и прочей мишуры, должных зажечь пламенный огонь в сердцах юношей и девушек. Нива образования колосилась обычной рожью, давала низкие стабильные урожаи и убиралась старыми комбайнами. Имея все предпосылки для производства сдобных булочек, печатных пряников, хрустящих вафлей и пирогов с сёмгой, институт, однако, решил ограничиться выпуском ржаных лепёшек, зато стандартизированных и сертифицированных. Валовая выпечка штампованных менеджеров высшего и среднего звена, подёрнутых грибковой прозеленью, наверняка бы завершилась тем, что её бы не стали покупать на и без того переполненном рынке труда, но в дело вмешался его закономерное величество случай, который, словно сюрприз, всегда внезапен, но не всегда понятен.
В августе девяносто восьмого ректора избрали в местный парламент, и на капитанский мостик поднялась красивая женщина средних лет с уставшими глазами побеждённого, но несломленного коммуниста. Взгляды, привитые ей комсомолом в юношеские годы, не стали разменной монетой в эпоху либеральных преобразований. Как честный человек, переживающий за судьбу страны, она не плевалась в адрес реформаторов, а с содроганьем наблюдала за тем, как обогащались её бывшие соратники по партии, сначала пересмотревшие свои политические убеждения, потом — общечеловеческие нормы морали, далее — охотно подпавшие под власть золотого тельца. Она видела, что в ренегатов превратились, конечно, не все, но многие. Младодемократы тоже показали себя не с лучшей стороны, но её не радовали их бесчисленные провалы, потому что в истинном гражданине идеолог никогда не убьёт человека.
Студенты — вот на кого она теперь надеялась, к ним устремлялись все её помыслы, для них она намеревалась пожертвовать многим, так как, будучи хорошим психологом, разглядела то, что многим ещё только предстояло разглядеть…
Глава 3
Старшекурсники, битые жизнью и сессиями, зевали.
Шумное сборище неугомонного племени первокурсников, искрившееся заразительным смехом, гвалтом безудержного веселья, девичьими перешёптываниями под стать шелесту листвы, взорвалось тишиной, когда перед входом в институт появились два молодых человека. Один был одет в чёрный костюм, голубую рубашку, связанную синим галстуком, и широкополую шляпу, глубоко сдвинутую на лоб, вероятно, для того, чтобы лицо оставалось сокрытым от любопытных взглядов. Другой — в ботинки а-ля бульдожья морда, тёмно-зелёные брюки на чёрных подтяжках, рубашку в клеточку и серую кепку, по форме напоминавшую патиссон. В общем, как уже догадался читатель, перед глазами притихших студентов возник типичный банковский клерк и такой же типичный высококвалифицированный рабочий.
Оба парня защитили дипломы в июне девяносто девятого, при этом наш повзрослевший Антон Сигизмундович облегчённо вздохнул, так как, наконец, избавился от двух буянов-подпольщиков и подобных им архаровцев, которые вплоть до самого своего выпуска не переставали баламутить воду в институте с намерением вернуть славный девяносто четвёртый. Неожиданное появление служащего «Сибторгбанка», нашедшего работу по профессии, и бригадира старательской артели, устроившегося на предприятие своего отца, никогда бы не вызвало такую мёртвую тишину, если бы не одно обстоятельство, о коем не забудем упомянуть. То ли нескольким преподавателям, спустившимся покурить на перемене, основательно напекло голову, то ли ещё по какой причине, но они, словно какие-нибудь школьники, срывались с места и, бесцеремонно расталкивая растерявшихся первокурсников, быстрым шагом направлялись к недавним выпускникам. Как потом утверждали очевидцы, некоторые звероподобные кандидаты наук не только крепко пожимали руки молодым людям, но при этом даже не стеснялись нагружать свои гофрированные позвоночники лёгким поклоном, а это чего-то да стоило. Весь честной народ, стоявший на улице, за исключением равнодушных представителей старших курсов, начал переглядываться, а некоторые студенты не преминули воспользоваться новым поводом для насмешки и стали в тихушку копировать странное поведение едва знакомых им преподавателей, о чём, к слову сказать, в дальнейшем пожалели.
— Хэ, прямо панибратство какое-то развели, — соорудив на лице гримасу самодовольства, осмелился нарушить молчание рыжеволосый студент из молодых.
— Как думаешь, Семен, — доживёт ли этот зашкаливший борзометр до зимней сессии? — спокойно спросил студент третьего курса Вадим Горчичников у своего товарища.
— Дожить-то доживёт, а вот пережить — не переживёт, — прозвучал ответ.
Но молодой студент, похоже, не собирался успокаиваться:
— Я говорю — панибратство какое-то развели.
Вадим Горчичников протяжно зевнул и со скучающим видом заметил:
— К этому невоспитанному олуху, господа, прошу отныне применять прошедшее время… Родился, вырос, с горем пополам окончил школу, поступил в институт, отчислен… Кстати, Пузырь с Митрохой что-то больно спокойно себя ведут. Помнится, было время, когда зарвавшийся «лимон» огребался и за меньшее.
— Так они теперь это — дипломированные специалисты, — сказал Семён. — Несерьёзно им со всякой полуграмотной шелупонью связываться.
Тем временем Пузырь и Митроха, вдоволь наговорившись со своими теперь уже бывшими преподавателями, зашли в беседку, сели на скамейку, колким взглядом обвели ребят, которых мы на первых страницах представили читателю, и завели такой разговор.
— Не правда ли, Пузырь, что перевёлся ныне студент? Ни петь, ни рисовать, ни на дуде сыграть, — начал Митроха.
— Правда, чистая правда, дружище, — ответил Пузырь, снял шляпу, достал из кармана пиджака папиросы «Беломорканал», закинул ногу на ногу и закурил.
— С прискорбием должен тебе заметить, что и людей-то не осталось, — ехидно заявил Митроха и расплылся в улыбке. — Не люди — гуппёшки аквариумные. Вона — от тополей и то больше проку. Те хоть кислород выделяют.
— Конечно, не хотелось бы выражаться в присутствии достопочтенных «лимонов», но выделительная система человека по-прежнему выдаёт…
— Гнусь. Ты ведь хотел сказать гнусь, Пузырь?
— Ой ли, ой ли, дружище. Вещи давно напрашиваются на то, чтобы мы стали называть их своими именами… Знаешь, на ум почему-то пришла история о нашем с тобой товарище. Надеюсь, в кладовых твоей памяти сохранилась история о Хоботяре?
— Да-а-а, — протянул Митроха. — Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Хоботяре.
— Озвучить ли её, мой друг? Уместно ли сейчас?
— О, да! Самое время, самое время, — утвердительно закивал головой Митроха. — Но только коротко, предельно сжато, иначе лопнешь от напруги, и в подлунном мире станет одним замечательным человеком меньше.
— Хорошо… Жил Хоботяра, месил Хоботяра, вышибли Хоботяру, но люди не забывают о нём, пример, так сказать, берут… Ну, как?
— Сама лаконичность должна гордиться тобой, а теперь уходим.
У всех шестерых первокурсников, сидевших в беседке, проступили на лице признаки агрессии: у одних — ярко выраженной, у других — еле заметной. Молотобойцев взорвался первым:
— А ну стоять! Вы на кого это тут намекаете?
— А намекают они на то, что я, ты, да и все мы — навозные черви, копошащиеся в вонючем дерьме, — вскипел Левандовский. — Это нетрудно понять из их диалога.
Магуров лениво потянулся, кое-как заставил своё грузное тело оторваться от скамейки, соорудил на своём лице что-то навроде недовольства по поводу всей этой мышиной возни, подошёл к выходу из беседки и загородил его. Загородить в Яшином случае означало — наглухо замуровать, что он, сам того не подозревая, с успехом и проделал. Не то, что человек — комар терял теперь всякую надежду на проникновение в беседку через живую дверь, которая на уличной стороне стала покрываться испариной.
— Мы ждём ответа, господа, — спокойно заметил Волоколамов. — Я знаю Яшу два часа, но уже успел разглядеть в этом гиганте дикого зверя, не подозревающего о существовании слова «милосердие». Надеюсь, я не ошибся в своём предположении?
— Хотелось бы тебя разочаровать, однокурсник, но вот этими вот руками я действительно могу разорвать льва, — ответила живая дверь.
— А слонов ты случаем не выгуливаешь на поводке? — подключился Бочкарёв.
— В далёком детстве бывало и такое… Так-то я вообще пакостный был. Играл в футбол юпитером, бодался с носорогами, выпивал до донышка Байкал, дрался с динозаврами, сбивал из рогатки…
— Неужели птерадактелей? — улыбнулся Бочкарёв.
— Нет, космические ракеты. За это мама лупила меня металлической хлопушкой размером с Вселенную, а папа ставил меня…
— На противотанковые ежи, — вырвалось у Бочкарёва.
Пузырь с Митрохой не выказали и тени страха. Дерзкое поведение юнцов провоцировало их на ответные действия, но они понимали, что напросились сами, а «лимоны» просто отстаивали своё достоинство.
— А я никуда не тороплюсь, Митроха, — сказал Пузырь. — Вижу, что ты тоже. Посидим, поговорим с молодёжью. За жизнь поговорим, просветим их в плане того, что было и могло бы быть. Возможно, они и хорошие ребята. Кто их сейчас разберёт? Они готовились перейти в седьмой класс, когда мы переступили порог этого института. — Голос Пузыря упал. — Мы были полны надежд, — помнишь?
— Да.
— Тогда страна была такой же молодой, как вы сейчас… Мы влюблялись, дарили девушкам цветы, строили планы на будущее. А как мы дружили, — помнишь? Я тебя спрашиваю: помнишь ли ты, как мы дружили?
— Не надо, Пузырь.
— Нет, пусть знают, как мы дружили! Так уже не дружат, чёрт тебя подери, Митроха!
— Замолкни!
— Колю Волнорезова, Димку Брутова, Стёпку Круглова помнишь?
— Заткнись! — побагровев от ярости, бросил Митроха.
— Нас было пятеро, мы зажигали на вечеринках, пили водку, упивались свободой, гуляли до зари, стояли друг за друга, когда кто-нибудь попадал в передрягу… Помнишь?
— Твой язык надо вырвать с корнем! — взревел Митроха. — Заглохни!
— Нас было пятеро. А сейчас сколько? Сколько нас осталось на выходе? Я тебя спрашиваю…
— Двое! — рассвирепев, закричал Митроха. — Ты же сам знаешь, что нас осталось только двое!
— А где ещё трое? Где? Куда подевались ещё три человека? Отвечай.
— В земле, гад!
— А мы на земле, гад! — пригвоздил железный голос Пузыря. — И будь я проклят, если эти молокососы не дослушают меня до конца… Я вижу, что они заёрзали. Им надо бежать на пары, Митроха. Им не терпится поднабраться ума, дружище, а мы тут с тобой нюни разводим. Этим ребятам ничего не грозит. Они попали в хороший институт, в котором, к счастью, осталось достаточно много преподов из старой команды. Их всему научат, дружище.
— Ты действительно веришь в это? — вытерев лицо кепкой-патиссоном, отрешённо спросил Митроха.
— Верю, свято верю. А как же не верить-то? Во что же тогда остаётся верить, если не в это?.. А помнишь, как Волнорезов играл на гитаре? Наш местный Бродвей оживал, когда он пробегал по струнам. Машины сбавляли ход, чтобы услышать его пронзительно-чистый голос. Люди выходили на балконы при звуках его песен. Под него засыпал и с ним просыпался город. Он управлял человеческим настроением, как добрый моряк парусами, заставлял плакать и смеяться вместе с ним. Он, словно весенний ветер, гнал холод из душ. Коля ни разу не выезжал за пределы города, но казалось, что он побывал везде и перевидал всё — так он пел!
— Я тоже слабать могу, — позволил себе заметить Молотобойцев.
— Слабать и я смогу, парень, — усмехнулся Пузырь. — А так, чтобы земля содрогалась, так, чтобы рождаться с началом песни и умирать на последнем аккорде… И кем их теперь заменить, пацаны? Это, как в футболе. Три кроваво-красные карточки, вскинутые главным судьёй в голубую даль неба, не подрывают командного духа, но силы противников становятся неравными. Яростные атаки без трёх нападающих разбиваются на середине. Трибуны ревут и требуют гола, но коллектив, лишённый ключевых игроков, вынужден перейти к обороне и выстраивать стену на подступах к штрафной площади. Защитники уже не помышляют о победе и думают только о том, как избежать поражения. Проходит какое-то время, и ноги футболистов, играющих в меньшинстве, наливаются свинцом. В обороне возникают бреши, голы сыпятся один за другим… Мы не вышли в финал… Нас было пятеро, осталось двое.
— Девяносто пятый год. Три человека отчислены из института за неуспеваемость и призваны в ряды Вооружённых Сил… Гражданская война, — бесстрастно произнёс Митроха.
— Первая чеченская кампания, — осторожно поправил Лёня.
— Когда свои убивают своих на своей территории — это Гражданская война, — злобно процедил Пузырь.
— Там было полным полно наёмников из Прибалтики и арабских государств, эта война не может называться Гражданской, — твёрдо произнёс Левандовский.
— Когда-то «белым» тоже помогали интервенты. Значит, следует говорить о Гражданской, — отрезал Митроха. — Федералы гибли за целостность России, чеченцы — за независимость республики Ичкерия, уроды — за деньги, твари — за ложную ветвь древней и великой религии.
Несколько минут длилось молчание.
— Я так думаю, что всё не так просто, — сказал Бочкарёв. — Правда металась от федералов к сепаратистам долгое время, не зная, к кому примкнуть, но… Но потом стали происходить страшные вещи. В чеченском лагере борцы за свободу слились с наёмниками и ваххабитами, переняли у уродов и тварей антигуманные методы ведения боевых действий, и правда закрепилась за нашими войсками.
— А разве уместно говорить о правде на войне? — удивился Женечкин, до этого не произнесший ни слова. — Люди убивают друг друга, а у них мамы, жёны, дети дома плачут. Давайте лучше яблони сажать, встречать рассветы в горах, любоваться закатом, собирать ромашки в поле. Рыбу тоже удить можно! Весело!
— Откуда ты такой взялся? — с недовольством спросил Митроха, явно намекая на Марс — Первый раз таких странных вижу. Бред какой-то несёшь.
Женечкин чихнул, несколько раз моргнул, а потом серьёзно произнёс:
— Так-то с Краснотуганска, а вообще-то, — Он осёкся, когда увидел устремлённые на него сочувствующие взгляды, поэтому не стал распространяться о том, как в своих грёзах поедал синюю землянику и ночевал в лунном кратере. — Я ведь шучу, а вы и поверили. Пойду на пары, устал я с вами.
— Так тебя никто не держит, — расплылся в улыбке Магуров. — Иди, братишка.
— Я бы с радостью, да не могу. Ваша злоба мне с места сорваться не даёт. Вроде все хорошие люди, а цепляетесь друг к другу. Дайте уйти, пожалуйста. — Женечкин увидел, что его вновь принимают за сумасшедшего. — Шучу, пацаны. Вот вы и опять поймались… Конечно, могу уйти, но уже передумал. Я ведь непостоянный — поймите! — На лице Вовки неожиданно появился испуг, хотя для появления страха не было никаких предпосылок. — Вы меня, Пузырь и Митроха, простите, что я какую-то фигню сморозил. У меня ведь ветер в голове. Так мама с папой говорят. Мне их всегда жалко, что я у них такой… А за друзей ваших не переживайте. Они достойно погибли.
— Кто дал тебе право рассуждать об этом? — с негодованием спросил Пузырь.
— Да ведь понятно же! — вскрикнул Женечкин и, согнувшись, схватился за сердце…
Глава 4
Июль 95-ого года. Гражданская война.
Уже полгода в республике не затихали бои. В чеченское пекло вводили свежие батальоны, и древние горы Кавказа сотрясались от топота армейских сапог. Танки, бронетранспортёры, боевые машины десанта, пушки и миномёты полосовали израненную землю адской сталью смертельных снарядов, не зная, не желая даже знать, откуда проклюнутся зёрна безжалостных воинов, засеянных на пашне Ареса, фанатично преданных делу убийства, своим полевым командирам и скрытной тактике ведения боевых действий, которую называют партизанской.
Мобильные отряды вооружённых до зубов сепаратистов под покровом ночи спускались с гор, терзали занятые федералами города и аулы, убивали предателей, собирали у информаторов сведения о перемещении вражеских колонн и уходили в своё звериное логово зализывать раны, полученные в непродолжительных стычках с частями российской армии. В этой войне не было передовой, широкомасштабных наступлений, фронта и тыла. Здесь правили снайперы, лесные растяжки, фугасы и мины.
Не знал русский солдат, за каким холмом, за каким домом, за какой скалой ухнет предательский выстрел и пробьёт сердце навылет. Вскрикнет боец, раскинет руки, и навсегда притянет его к себе мать сыра земля — колыбель рождения и ложе смерти.
Мудрые горы молчали и устало наблюдали за теми, чья жизнь настолько быстротечна, что покой и простое человеческое счастье не успеют стать для многих мерилом могущества племени людей. Свидетели незапамятных времён жалели загнанных на бойню солдат, мирных жителей, но вмешаться не могли, потому что вмешаться — это похоронить всех до единого. Им оставалось только наблюдать, как одни, успев прикоснуться к тайнам мироздания, будут пытаться образумить других, страдать от безуспешности своих попыток и, умирая, уносить с собой Знание.
У незнакомого большинству россиян чеченского посёлка, на безымянной высоте располагался блокпост.
— Отделение, ровняйсь! Смир-р-рно! Гвардии младший сержант Волнорезов, выйти из строя! — рявкнул старшина Кашеваров. — Вы чё совсем охренели, мать вашу так! По линии контрразведки до меня дошли сведения, что воины-десантники, подчиняющиеся непосредственно мне, самовольно оставляют рубежи, которые доверила им Родина!
— По какой, по какой линии? — вмешался рядовой Брутов.
— По такой разэтакой, мистер куриный мозжечок! Пожизненный наряд вне очереди, товарищ гвардии дура! Не слышу, солдат!
— Есть!
— После афганской контузии мне заложило уши! Не слышу!
— Есть, товарищ старший прапорщик! — выпалил Брутов.
— Не могу разобрать твоих слов, гвардии ничтожество! Может быть, ты смеёшься над своим командиром?!
— Так точно! — Сдержанные смешки в строю. — То есть — никак нет!
Старшина Кашеваров по прозвищу Кощей был взбешён. Военный до мозга костей, обветренный, как скала, худощавый и подтянутый, со шрамом на правой щеке, он был доволен тем, что подчинённые боятся его как огня. Жена ушла к другому, когда узнала о тяжёлом ранении мужа под Кандагаром в Афганистане. После выхода из госпиталя, в котором он пролежал три месяца, проклиная всех женщин на свете, Кашеваров не скурвился и не спился, но семьёй решил больше не обзаводиться. Его женой стала армия, детьми — солдаты, воспитывать которых, по его мнению, было уже поздно, но перевоспитывать — самое время. Изнеженных слюнтяев, которых государство отрывало от мамкиной юбки и на два года передавало ему в руки, он превращал в настоящих мужчин и гордился тем, что после его школы жизни дембеля будут с ненавистью и уважением вспоминать прапора Кашеварова, который отдавал приказ «грызть землю», и все грызли, потому как сапёрной лопаткой для рытья окопов пользуются сосунки из пехоты, а гвардейцы-десантники имеют ротовую полость не для того, чтобы задавать глупые вопросы, а как раз таки для окапывания по периметру».
— Кто осмелился подсыпать пурген в чай своего боевого командира и таким способом хотел сжить его со свету через вонючую диарею? Кто решил, что в дневном рационе солдата должны присутствовать не только консервы, но и козье молоко, купленное позавчера у местного населения? Хотите, чтобы вам глотки перерезали?.. По чьей наводке, рядовой Брутов?
— Я! — вышел из строя Брутов, преданно глядя в лицо Кощея.
— Что я, недоделок?!
— Это сделал я по наводке ефрейтора Круглова, которого подослал младший сержант Волнорезов, который, увидев, как загибается от недостатка витаминов рядовой Прунько, посоветовался с остальными, и они вместе решили…
— Отделение, ровняйсь! Смир-р-р-но! Марш-бросок — на Восток! Конечная цель — остров Сикоку! Задача: добежать до места и принять неравный бой со страной восходящего солнца! Две минуты на сборы! Полная выкладка! Кто посмеет вернуться живым, будет причислен к предателям и расстрелян на месте! Брутов — первый, я — замыкающий! Есть вопросы, сброд?
— Никак нет! — хором ответили бойцы.
Уже четыре часа гвардия бегала вокруг блокпоста, завидуя двум счастливчикам, которые несли службу на мосту в ста пятидесяти метрах от места дислокации десантного отделения, потому что максимум, чем они себя там утруждали, так это проверкой документов у проходящего или проезжающего мимо населения.
— Товарищ прапорщик, Япония — это ведь дружественная нам страна! — позволил себе заметить Волнорезов.
— Сегодня — дружественная, а завтра Курилы оттяпать захочет! — рявкнул Кощей, а потом добавил: «А за пререкания с командиром будете переправляться через Тихий океан вплавь. Мы уже как раз приближаемся к воде. Приготовиться принять положение пластуна!
— А жрать мы сегодня будем или нет?! — проскрипел Брутов.
— Когда отечество в опасности, настоящий воин должен забыть о жратве! — крикнул старшина. — Держать темп, оголодавшие девицы.
— Не могу больше! — пробормотал ефрейтор Круглов и упал на земле.
Первая потеря нисколько не расстроила Кощея, и он отдал приказ:
— Убитого взвалить на себя, младший сержант Волнорезов. Негоже бросать свои трупы в чужой земле.
— Есть! Брут, дуй за плащ-палаткой! Не переживай, Круглый! Всё в норме!
Так продолжалось изо дня в день: изматывающие марш-броски, стрельбы, рукопашные бои, конспектирование и обсуждение политической ситуации в стране и мире, чистка оружия, подновление фортификационных сооружений и парко-хозяйственные работы.
Отделение, представленное читателю, без отрыва от места дислокации перебывало во всех горячих точках, где геройски дралось с врагами, рождёнными плодовитой на выдумку башкой Кощея. Антироссийские настроения мнились старшине везде, даже безобидные дикари из амазонской сельвы, оказывается, имели стратегические интересы в отношении наших хвойных богатств для наладки производства по изготовлению деревянных луков и щитов. Что уж говорить о Соединённых Штатах с их ядерным потенциалом и притязаниями на мировое господство; ограниченный контингент Кощея с неограниченными полномочиями с завидной регулярностью терроризировал базы морских пехотинцев неожиданными манёврами и стрельбой холостыми, клятвенно обещая при случае пальнуть женатыми, если что не так, а сяк.
Всё тот же русский солдат, что и раньше: хитёр, сметлив, расчетлив и храбр. Он, возможно, и слыхом не слыхивал о суворовских чудо-богатырях, дружинниках Донского, героях Бородина и защитниках Сталинграда, а за Отечество, как и его предшественники, готов сражаться, живота не жалея. А всё потому, что в каждом бойце Вася Тёркин сидит — человек крепкого мужицкого корня, который до беззлобной шутки охоч, на гитаре и гармонике сыграть — мастак, да и, чего греха таить, бабу за голое место ущипнуть и водки попить — тоже большой любитель. А в офицере нашему солдату всё ещё барин видится, перехитрить которого — святое дело. Русская армия — это вам не вышколенные британские королевские войска, а мужицкая артель. На тыловых снабженцев и сознательность штабных генералов наш боец не рассчитывает и желает только, чтобы отвернулся на часок-другой офицер, а там уж сами по себе включаются непонятные механизмы: кто-то куда-то исчезает на время, а потом возвращается, волоча за собой тюки невиданных размеров, в которых есть всё, что душе угодно, и даже немного трюфелей. «Где взяли»? — для проформы задаёт вопрос офицер. Грязное, сытое, довольное и слегка поддатое подразделение глядит орлом, раскаивается в проступке, а по самодовольно-сдержанным рожам солдат видно, что просятся в бой. Ни дать, ни взять: «Окропим землю русскую своею кровью, а врага лютого в пределы Отечества не пустим»… И здесь уже не лукавит боец.
На следующее утро после описанных выше событий чеченскими боевиками было атаковано несколько блокпостов.
Занималась кровавая заря. Огненный диск солнца выступил из-за гор, и тьма, поклонившись ему, попятилась. Заполыхал Восток, и прокажённая Чечня взвыла от новой волны ненависти, к которой никак не могла привыкнуть. Разорённая родными ей людьми, раздавленная горем, поседевшая от навалившихся на неё несчастий, нищая дочь России взывала к благоразумию, молила о милосердии, но одни лишь проклятия сыпались ей в ответ. Республику ненавидела вся страна, люто ненавидела, потому что ни одна мать не была теперь уверена, что её сын вернётся домой из армии. Чёрная девка — Чечня, чёрные и ссохшиеся груди её — Горы, грязно-чёрный платок носит она — Грозный.
Негодяям из властного круга нужна была прорва для отмывания денег — и прорва универсальная, чтобы по прошествии многих лет ни другие негодяи, ни честные люди, ни сам чёрт не догадались бы, куда канули народные деньги. Чечня являлась социально-опасным, но беспроигрышным вариантом. Чем дольше продлится война в республике — тем лучше; чем больше потерь понесут гражданские объекты и армия в живой силе и технике, тем ужасней покажутся россиянам масштабы катастрофы, а значит, те огромные суммы, направленные на восстановление мятежного региона, в дальнейшем будут реабилитированы в глазах общественности. В довершении ко всему Чечня стала превосходным по своей безобразности отвлекающим манёвром; заставить людей забыть о нищете, безысходности, разрухе и навалившихся бедах могли только ещё более страшная нищета, ещё более ужасающая безысходность, планетарная разруха и беды, сравнимые с апокалипсисом. В республике такого адского набора было с избытком, и неунывающие СМИ, присосавшись к смуте, как рыбы-прилипалы к акуле, питались трупами русских солдат, пили слёзы матерей, но делали это статично и сухо, руководствуясь двумя железными инстинктами самосохранения: отвлекать, но не привлекать, освещать, но не просвещать.
Чеченский пастушок, мальчик лет восьми-десяти, понял, что оказался в кольце огня, когда увидел, как неожиданно с разных сторон, рассекая ночную мглу, к блокпосту понеслись пунктирные линии трассеров. Он приник к земле и подумал:
— Кто сегодня на мосту? Наверно, Вано и Серый. Их очередь, и они уже убиты. А мне надо уходить, потому что стреляют люди Зелимхана, это о них вчера говорил отец. Я не боюсь. Пусть моя сестра боится, а я — мужчина, джигит. Нет, уходить нельзя. Отец накажет меня за то, что я бросил баранов.
Зашипела рация.
— На связи полевой командир Дзасоев.
— Слушаю, Дзасоев, — ответил старшина.
— Нам нужен мост, командир, чтобы прошли 66-ые. Сдавайтесь, и я пощажу тебя и твоих людей. Если не послушаешь меня, сравняю высоту с землёй, и она станет равниной. Нас — двести человек. На каждого твоего — по двадцать. У тебя минута. И помни, что матерям твоих бойцов не нужны «двухсотые».
— У тебя хорошие связисты и железная логика, Дзасоев, — холодно бросил Кощей. — И ты даже наверняка в курсе, что этой ночью мне было велено заминировать мост. Так вот передай той штабной крысе, которая тебя проинформировала, что, получая приказ, я не дожидаюсь утра, а исполняю его немедленно.
— Блефуешь, командир… Я бы знал, — засмеялся Дзасоев.
— Ты меня раскусил. Я в панике. Дрожу, не соврать бы, как осиновый лист на чеченском ветру. Но, как говорится, потрясусь, потрясусь — да и перестану. И совладаю я со страхом, конечно, в тот момент, когда первая машина в колонне сунется на мост. Подобью её, потом укокошу последнюю, а вот середину обещаю не трогать; сама погибнет. Так зловредные духи шутковали с нами в ущельях Афгана, и уроки той войны не прошли для меня даром.
— Где ты воевал? — прозвучал по рации вопрос.
— Под Кандагаром.
— А я — под Баграмом, и нас однажды предали. Вас наверняка тоже не раз предавали, и ты это знаешь. Подмоги не жди. В тридцати километрах отсюда в «зелёнке» — засада, и бэтэры не подойдут к вам. Пощади своих людей. Я даю тебе слово афганца, что в память о тех днях, когда мы воевали под одним флагом, я сохраню жизнь твоим десантникам, если ты поведёшь себя благоразумно и сдашься.
— Хорошо… Я согласен принять твоё предложение с небольшой оговоркой. Мы выйдем с поднятыми руками в том случае, если ты не только никого не тронешь из оставшихся со мной, но и оживишь солдат, которым вы перерезали глотки у моста. Надеюсь, во фляжках твоих людей есть живая и мёртвая вода… А вообще-то я не верю тем, кто преступает присягу.
— Я присягал Союзу! России я никогда не присягал! Так жду ответа от тебя, иначе плохо вам будет.
— Мой ответ — нет! Попробуй взять нас, Дзасоев!
— Жаль. Ты мне нравишься. Тем хуже для тебя. От связи с твоим командованием мои тебя отрубают. Всё. Конец связи.
Боевики обложили блокпост плотным кольцом. Смертельная петля начала затягиваться на шее безымянной высоты. Старшина Кашеваров понял, что он и его бойцы обречены.
— Ничего, сколько-нибудь продержимся, — пробурчал старшина себе под нос, подозвал Брутова и приказал: «Две красные, одну белую!»
Сигнальные ракеты взвились в небо, предупреждая кого следует, что в квадрате 333.746 по улитке два завязался бой.
— Стёпка! Круглов, твою мать! Живой? — крикнул младший сержант Волнорезов своему другу, прижавшись спиной к мешкам с песком и меняя магазин автомата.
— Я-то? А чё мне сбудется? — прозвучал ответ. — Воюем! Чё надо-то?
— Чё, чё! В очо! Пацан там чеченский с баранами! Знаю его! Кажется, Аслан! Справа внизу!
— Да вижу, вижу, Коля! Чё делать-то? Не уходит ведь! Отец ему за баранов башку оторвет-нА! Знаю этого горца-нА!
— Чё ты накаешь-нА? В штаны наложил что ли? Тащи ватман и маркер-нА! Мухой!
Круглов метнулся в палатку, где хранился провиант, взял в правом ближнем углу свёрнутый в трубочку ватман, на котором любил рисовать в свободное время, и подбежал к Волнорезову:
— Всё принёс, как ты сказал! Дальше-то чё? Рисовать что ли?
— Стёпа, ну ты баран! Внизу бараны и наверху один! Если бы ты на лекциях поменьше художествами занимался, да побольше за преподами записывал, то наверняка не оказался бы в этом дерьме! Баран! Бараном и подохнешь!
— Взаимно, Коля! Меня — живопись, а тебя семиструнная сюда завела! Говори толком!
— Пиши маркером крупными буквами: ВЫВЕСТИ ПАЦАНА И СТАДО. ОДИН — ОТ ВАС. ОДИН — ОТ НАС.
— Как думаешь — подействует? — задал вопрос Круглов, когда вывел последнее слово.
— Отделение, слушай мою команду! — вместо ответа закричал Волнорезов. — Прекратить стрельбу!
Услышав преступный приказ, старшина со всех ног бросился к сержанту. Ударив подчинённого прикладом по челюсти, прохрипел:
— Пристрелю, сука!
— Стреляй, — процедил Волнорезов, выплюнув два зуба. — Всё одно помирать!
— Товарищ старшина, пацан там! Аслан из соседнего аула! Спасти бы! Вот на ватмане накалякали! — заслонив друга, вступился Круглов.
— Что раньше молчали, писаря грёбанные? — в миг остыл Кощей, а потом зычно рявкнул: «Прекратить стрельбу!»
Осаждённый бастион затих. Наступило утро. Небесный дискобол, на протяжении миллионов лет метавший раскалённое солнце с восхода на закат, дарил последний день русским десантникам. Ни один человек не помнит момента своего появления на свет, и лишь немногим Бог даёт знать о времени прихода их смерти. Когда багровый диск рухнет на горизонте, ни одного бойца крылатой пехоты чеченская ночь уже не застанет в живых. Вместе с солдатами погибнут их неродившиеся дети, несбывшиеся надежды, неосуществлённые мечты и несделанные ошибки. Затянутые в водоворот грязной войны, они так до конца и не поймут, за что расстанутся с жизнью, зато у них не будет и тени сомнения, как это надо сделать.
Полевой командир Зелимхан Дзасоев заметил, что противник прекратил стрельбу. Вооружившись биноклем, он стал внимательно осматривать укреплённый блокпост федералов, пока, наконец, не обнаружил причину странного молчания десантников. Прочитав надпись на ватмане, Дзасоев отдал приказ о прекращении огня и, подозвав одного из боевиков, сказал:
— Соберёшь стадо и выведешь мальчишку из огня. Один из русских поможет тебе. Пошевеливайтесь. У нас не так много времени. И всё-таки эти без пяти минут мертвецы — хорошие солдаты. Клянусь Аллахом, мне жаль, что они встали у нас на пути.
И словно не было войны…
Младший сержант российской армии Коля Волнорезов снял китель, сбросил сапоги, закатал до колен брюки, лихо сдвинул голубой берет на затылок, улыбнулся, засунул загорелые руки в карманы и, насвистывая какую-то весёлую мелодию, бодрым шагом направился вниз.
— Ты смотри-ка! Бард в пастухи заделался, — с завистью пробормотал ефрейтор Круглов.
— Что ты там мямлишь, сынок? — задал вопрос Кощей.
— Это я так, товарищ старшина. Сам с собою.
— Что-то мне твой голос не нравится. Ссышь немного?
— Боюсь! Да, боюсь! А чего такого? Это мне задачу выполнять не мешает, — с вызовом в голосе пробурчал Круглов, а потом задумчиво продолжил: «Колька всегда и во всём был первым: на студенческих пирушках, в драках и любовных похождениях. Я всегда завидовал ему. Один он у матери, товарищ старшина. Она в нём души не чает. Вот я, к примеру…
— Отставить! — перебил Кощей. — Бог собрал на этой проклятой высоте отборную гвардию, и ты ничем не хуже твоего друга.
— Да вы только посмотрите на меня. Несклёпистый тюфяк, лицо — тяпкой. Сам не знаю, как Волнорезов с Брутовым меня к себе подтянули. Они ведь никогда не давали мне почувствовать свою ущербность. Бывало, что вляпаюсь в какую-нибудь историю, а эти уже тут как тут. Волнорезов самого чёрта мог заговорить и убедить его в том, что Степан Круглов успеет подготовиться к зачёту, закроет долги перед сдачей экзамена и т. д. Подшучивал он надо мной, конечно, и тупорылым идиотом обзывал, но это у него всё так — от избытка энергии и эмоциональности. Мятущаяся душа и светлая голова, он всегда страдал оттого, что не может найти для себя настоящего применения. Оголённый нерв, в общем… А Брутов… Когда раздавали смелость…
— Я бы сказал наглость и пакостность, — прервал старшина.
— Не знаете Вы его, — зло бросил Круглов. — Его наглость — от глубоко запрятанной стеснительности, пакостность — от любви к разнообразию. Никто не знает, что у него очень чувствительная душа.
— А жрать мы сегодня будем или нет?! Голодным я подыхать не намерен, товарищ старшина! Не хлебом единым — это не по мне! А вот мясом и салом — самое то! — прокричал весёлый голос, который, без сомнения, принадлежал чувствительной душе.
Круглов замялся и пожал плечами, а Кощей не замедлил со ответом:
— Пообедаем с тобой в аду, Брутов! Там уже ждут пополнения! Я, как старший по званию, сразу же назначу тебя в наряд по кухне! Прапорщик Сатанинский уже доложил мне с того света, что котлы ни хрена не чищены!
— Согласен! — отозвался Брутов. — Но с одним условием! Ужин в этих котлах я сварганю из Вас, товарищ старший прапорщик! Думаю, что грешники оценят кашу из старшины!
— А поперёк горла не встану, сынок? — рассмеялся Кашеваров.
— Никак нет! В капусту вас искрошу!
— Значит, обедаем в аду?
— Так точно!
— Смотри, сынок! Не подведи своего командира!
В это время у подножия высоты, богатой густой и сочной травой, пытались сбить в кучу перепуганных животных чеченский боевик и русский солдат. Сначала их действия по сбору стада напоминали бессмысленную беготню. Коля и Умар, враждебно настроенные друг против друга, не желали реагировать на призывы раскрасневшегося мальчика объединить усилия.
— Ну вы! Ну вот! Ну вот опять всё не так! Зря ты туда побежал, потому что тебе надо было сюда, а не здесь! Без вас я и то быстрее справлюсь! — запальчиво воскликнул парнишка, уже вполне оправившийся после недавно пережитого потрясения.
— Да куда туда-то? — развёл руками Волнорезов. — Ты лучше этому, Аслан, скажи, чтоб он с того боку зашёл.
— Хорошо, Коля. Сейчас скажу, только тебе туда надо. Не ходи возле меня, а то так до вечера не соберём, — заметил пастушок покровительственным тоном и указал пальцем место, в район которого надо было переместиться десантнику. — А ты! Как там тебя? Умар ведь! Там и оставайся! Всё! Всё! Не двигайся! Я их сейчас на вас, в коридор погоню!
Федерал и сепаратист стояли рядом и провожали взглядом Аслана, уводившего стадо в аул. Несмотря на то, что они старались не смотреть друг на друга, но думали об одном: о том, что глупо и страшно теперь стрелять и убивать после того, как они помогли маленькому мальчику; о том, что война — грязное чудовище и нет в ней никакой романтики, а только беспрерывный страх, вялое ожесточение сердец, выворачивающая кишки дизентерия, хроническое недосыпание, вечное неустройство и усталое равнодушие к чередованию жизни и смерти перед глазами.
Пастушок вдруг вздрогнул и обернулся, словно вспомнил о чём-то. Его глаза расширились, по телу прошла судорога. Увлёкшись сбором стада, Аслан на какое-то время забыл о том, что была стрельба, а потом неожиданно прекратилась. В момент затишья он был озабочен только тем, как вывести баранов; также мальчика интересовало, сколько его блеющих подопечных убито, сколько ранено и как ко всему этому отнесётся отец. Когда в уме были подсчитаны потери, и стадо оказалось в безопасности, он восстановил события раннего утра и всё понял. «Если б не они», — пронеслось в голове у Аслана, а уже в следующую секунду он со всех ног бежал к своим спасителям. Споткнувшись несколько раз и разбив при этом колени в кровь, пастушок подбежал к молодым парням и обнял обоих. Слёзы душили Аслана.
— В-в-в-ы-ы! В-в-в-ы-ы! Не н-н-на-д-д-о! Па-г-г-ги-б-б-нете! — всхлипывал пастушок.
— Что ты, что ты, — грустно улыбнувшись и погладив мальчика, стал успокаивать Волнорезов. — Всё будет хорошо, не плачь только.
— Я и не плачу, — гордо выпрямившись, шмыгнул носом пастушок.
— Он не плачет. Он — настоящий джигит. Я, русский Коля, твой отец, тейп, к которому ты принадлежишь — мы все гордимся тобой, Аслан, — бесстрастно произнёс Умар.
— Правда? — слизнув зелёную капельку, повисшую на носу, воскликнул мальчик и весь засветился от сдержанной похвалы своего земляка.
— Правда, — произнёс Волнорезов и одел на Аслана берет.
— Правда. Ты не бросил баранов, которых тебе доверили. Ты поступил как настоящий мужчина. А теперь тебе надо уходить. Я как старший — приказываю тебе, — строго сказал Умар.
— Я понял. А вы? — спросил пастушок.
— Мы остаёмся. Всё. Беги, — подтолкнул мальчика Волнорезов.
Умар погиб спустя десять минут после возобновления боя.
Два часа огрызалась высотка, сдерживая атаки неприятеля. Земля смешалась с небом в чёрном квадрате 333.746 по улитке 2, гибли люди, протяжно стонали раненые, воздух насытился пороховой гарью, а громадной стране не было никакого дела до того, что где-то на одном из её атомов нарывает гнойник, так как Россия давно была объята пламенем постперестроечной войны. На всём пространстве от Калининграда до Дальнего Востока пускали метастазы раковые опухоли коррупции, чёрного передела собственности и бездуховности. За тысячи километров от Чечни люди расплачивались за беспредел нищетой, наркоманией и пьянством, а в мятежном регионе — кровью своих сограждан.
После двухчасового боя в живых осталось четыре десантника: старшина Кашеваров, младший сержант Волнорезов, ефрейтор Круглов и рядовой Брутов. Изрешечённый бело-сине-красный флаг полоскался на ветру.
— Сука, арабов-то сколько. Обкуренные — к бабке не ходить. Они-то куда лезут, бля! Штатам на руку, в рот компот, что мы тут друг другу глотки перегрызём… Следующий штурм будет последним, пацаны. Теперь мне хотелось бы знать, за что мы здесь все поляжем, — сказал Волнорезов и жадно припал пересохшими губами к фляжке. — Какая польза стране от двенадцати трупов? Отделили бы их к чертям собачим!
— Присоединяюсь, Колян, — сплюнул Брутов.
— И ты, Брут? — прозвучал голос Кощея.
— Да, и я! И я, будь всё проклято! Мне плевать, что здесь грохнут меня! Пусть лучше меня смолотит в этой мясорубке, чем какого-нибудь молокососа, но я должен знать для чего!
— Крайних ищешь? — спокойно сказал старшина и впился глазами в подчинённого — Их нет!
— А кто нас сюда загнал? — впал в истерику Брутов. — Твари! Они все там в Кремле — твари! Они видели, как у парней отрезают члены, как внутренности наматываются на гусеницы бмдэшек и танков, в каком дерьме мы живём здесь изо дня в день?
— Забудь о президенте, олигархах, Думе и генералах, сынок! Забудь! — встряхнул подчинённого старшина. — Да, они сюда нас послали, но на этом их власть кончилась! Двенадцать человек сейчас решают, прорвутся ли дикие орды дальше или захлебнутся! Здесь я — президент, а ты — министр обороны — понял? Мы и только мы решаем, быть ли Чечне или быть ли Чечне в составе России!
— Минут пять ещё решать будем! — заметил Волнорезов. — Только всё-таки на хрен нам она сдалась?
— Не ради неё самой. Сегодня — Чечня, завтра — Татарстан, послезавтра — Адыгея. Феодальная раздробленность, князьки, распри — и кранты! А потом в Россию хлынут все кому не лень. А теперь, Круглов, взрывай мост! Быстро! Всё-таки не зря мы здесь — Кощей поднялся во весь рост. — Держи чёрную метку, полевой командир Дзасоев! А теперь советую всем погибнуть, иначе живые и раненые позавидуют мёртвым. К бою!
И была резня. Младший сержант Волнорезов подорвал себя гранатой. Зарезав штык-ножом трёх арабов-наёмников, с перерезанным горлом повалился на землю рядовой Брутов.
— Брать живыми! — закричал Дзасоев, ворвавшись на высоту.
Ефрейтора Круглова, раненого в ногу, вместе со старшиной, у которого после попадания пули развалило правую половину лица, поволокли к полевому командиру. Десантников пинали ногами, долбили прикладами и глумились над их беспомощностью. Безумный хохот озверевших нелюдей сотрясал высоту.
— Мама! Мамочка! Милая моя! Я не вынесу, не вынесу! — с перекошенным от ужаса лицом шептал Круглов.
Старший прапорщик хранил молчание.
— Что там у тебя, солдат? — обратился Дзасоев к Круглову. — Крест что ли?
Ефрейтор стоял на коленях, его голова была опущена на грудь, руки свисали плетями. Грудь девятнадцатилетнего мальчика содрогалась от беззвучных рыданий, глаза были закрыты. Грязный, оборванный, затравленный, одуревший от побоев, залитый кровью, — он уже не понимал, что происходит вокруг, поэтому не ответил на поставленный вопрос.
— К тебе обращаюсь. Сорви крест, обратись в нашу веру и будешь жить, — усмехнувшись, предложил Дзасоев. — Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его.
— Не изгаляйся над ним, сука, если в тебе осталась хоть капля человеческого, — медленно выговорил старшина, делая акцент на каждом слове.
— Слышь, командир, не к тебе обращаюсь — да! — засмеялся Дзасоев, подошёл к Кашеварову и ударил его ногой в живот.
Круглов поднял голову, открыл заплывшие от синяков глаза, бережно выпростал крестик из-под тельняшки и крепко зажал его в кулаке. Что-то необъяснимое и загадочное совершалось в душе юноши, но никто не заметил этого. Над ним продолжали измываться, а он смотрел на перекошенные от ненависти лица боевиков и плакал от счастья и жалости к ним, потому что неожиданно ему открылось то, что было недоступно их пониманию.
— Вы — другие. Я знаю, — тихо произнёс солдат, поднял глаза к небу, а потом из его груди вырвался жуткий крик: «Свой крест я пронесу до конца! Господи, прости нам, ибо не ведаем, что творим!»
— Кончайте! — бросил Дзасоев и отвёл глаза в сторону.
— Этого? — спросил один из боевиков, указывая на Круглова.
— Обоих, — ответил полевой командир и, избегая взглядов, быстро пошёл прочь.
Глава 5
Странное и удивительное было время, когда ребята подросли до вуза. Ситуация в стране начала помаленьку стабилизироваться в том плане, что до улучшения было ещё далеко, а вот неприятных неожиданностей стало меньше. Абсолютная монархия царя Бориса в новогоднюю ночь тихо и мирно уступит место монархии конституционной во главе с Владимиром «Помнящим Добро». Уходили в прошлое «малиновые пиджаки» с их прямолинейной тупостью, ханжеством, ограниченностью, бандитскими разборками и дерзкими предприятиями ради быстрой наживы. Однобоко поумнел народ, потому что не верил уже не только плохим, но и хорошим людям. Улучшилась экология в городах, так как редко где теперь дымили трубы заводов и фабрик. Дошли до последней степени обнищания русские деревни; они потихоньку смирялись с существующим положением дел, переключались на натуральное хозяйство и попивали горькую, поругивая политиков на пару с колхозами, в которых даже воровать теперь было нечего, так как последнее коллективное имущество растащили в середине 90-ых. Сказочно обогащались сырьевики, банкиры и чиновники. Просто обогащались торговцы. Перестали жаловаться и бастовать бюджетники, потому что в этой сфере к концу 90-ых остались только самые преданные делу люди. Интеллигенция, ополоумевшая от свалившихся на страну свобод, занимала койко-места в сумасшедших домах.
Поколение 80-ых, которое возмужало к миллениуму, было ещё более странным, чем само время. Молодые люди сплошь и рядом представляли собой смесь бестолкового добродушия, легкомыслия и беспечности. Искромётное остроумие секунды ценилось выше глубокого ума; находчивость и умение зарабатывать деньги имели больше поклонников, чем честность и порядочность; независимость предпочиталась дружбе, а секс — любви.
От сессии до сессии живут студенты весело, а вот великолепная шестёрка, представленная читателю в первой главе, вела себя не просто весело, а прямо-таки буйно. Избавившись от пристального внимания школьных учителей, они жадно втягивали ноздрями воздух свободы. Никто не требовал от новоиспечённых первокурсников выполнения домашних заданий и ответов у доски. Не знакомые преподавателям, распределённые в разные группы, они вдруг стали серой массой, просто фамилиями в журналах проверки посещаемости. Вся наша шестёрка угодила в группу 99-6, которую в дальнейшем будут называть не иначе, как «чумовой» за богатую палитру характеров и талантов, соединённых вместе. Первое время активность наших студентов никак не проявлялась, не считая того, что женоподобный красавчик с утончённым юмором Артём Бочкарёв выкрасил волосы в брусничный цвет, еврей милостью божьей Яша Магуров раздался вширь и профессионально подлизался ко всем преподавателям, живчик Вовка за неугомонность и вертлявость на парах получил ласковое прозвище «Мальчишка», твердолобый и самолюбивый Вася Молотобойцев начистил рожи нескольким студентам, холодный и рассудительный Лёня Волоколамов парализовал преподавателя по высшей математике решением наисложнейшей задачей со звёздочкой, а революционно настроенный Алексей Левандовский затравил на одном из семинаров молоденькую преподавательницу и устроил мини-бунт в студенческой столовой из-за таракана в борще.
Прошло три с половиной месяца. Студенты старших курсов забрасывали свою лень в дальний угол и плотно брались за учёбу: почитывали методическую литературу, переписывали у своих товарищей недостающие лекционные материалы, регулярно посещали занятия, активной работой на семинарах мозолили глаза преподавателям и вели трезвый образ жизни. А вот первокурсники, на которых почти никто не обращал внимания, распоясались донельзя. Две трети набора 99-ого года, — не усвоив хотя бы элементарных понятий об экономике из-за систематических отсутствий в институте, не запомнив даже многих преподавателей по именам, — изо дня в день обмывали получение статуса студента в дешёвых забегаловках, на квартирах у местных и студенческом общежитии с многообещающим названием «Надежда». Пивоваренный завод, не справляясь с возросшим спросом на свою продукцию, принял экстренное решение «об убиении двух зайцев». Одного «серого» пристрелили разбавлением пива ключевой водой, что позволило увеличить объёмы и сразу же зацепить остаточной дробью второго русака, потому что вредные для здоровья людей градусы были не просто понижены, а практически нейтрализованы.
— Вовка! Женечкин! — забарабанив в дверь комнаты № 303, крикнул Молотобойцев и, не дожидаясь приглашения, ввалился внутрь. — Мы к тебе, Мальчишка! С нас — водяра, с тебя — харч!.. Я не один. Мы уже поддали, к тебе догоняться пришли. — Вася развернулся на сто восемьдесят градусов, театральным жестом распахнул дверь настежь и пробасил: «Заваливай, пацаны! Вовка сегодня принимает»!
— Поцыки! — радостно воскликнул Женечкин, быстро почесал указательным пальцем под носом, юркнул под кровать, тут же выкатился из-под неё и упавшим голосом произнёс: «Хавчик вместе с бабками кончился, а мама только на следующей неделе приедет. На китайской лапше живу».
Молотобойцева такой ответ не обескуражил. Он степенно разделся, потянулся, хозяйским взглядом осмотрел комнату, по-отечески пожурил Вовку за то, что даёт в долг кому не попадя и начал отдавать приказания:
— Лёха, тебе надо будет реквизировать несколько картошек у студентов из соседних комнат в пользу голодающих собратьев по вузу. — Молотобойцев с напускной серьёзностью посмотрел на друга. — Только без лишнего кипиша, а то выйдет, как в прошлый раз… Да, и не в падлу зайди к Волоколамову, он мне с рефератом обещал помочь.
— Сделаем, Васёк! — осклабившись, бросил Левандовский и испарился.
— А ты, Яша, чё разлёгся? — продолжил Молотобойцев. — При всём уважении к твоей массе отрывай-ка свои килограммы от кровати и дуй к девчонкам, они по твоей части.
— Зачем, блин?
— За репчатым луком, блин.
— А без него разве никак нельзя обойтись? — мягко спросил Яша, вкрадчиво улыбнулся и обратился к Бочкарёву: «Брат, принеси воды, пожалуйста».
Артём удивлённо вскинул брови, покачал головой и пошёл выполнять просьбу друга.
Так уж как-то сразу повелось, что Яше Магурову нельзя было отказать. Самостоятельно он только ел, пил и спал. Это был не в меру упитанный Карлсон без пропеллера, которого следовало боготворить только за то, что он присутствует рядом и привносит в компанию лукавый дух загадочности. Ему бы никогда не простили болезненного и усталого вида, который он ловко напускал на себя, если бы при этом из его слоновьих глаз не хлестало игривое шампанское любви и веселья.
Артём принёс Яше воды, выслушал от друга ажурные благодарности и подошёл к окну. Пугающая мысль о приближающейся сессии вторглась ему в голову, но он тут же выпроводил её, как выпроваживал всякую мысль, которая могла вывести его из душевного равновесия. Люди, окружавшие Бочкарёва, всегда завидовали его способности с лёгким сердцем переносить неприятности, потому что все без исключения понимали, что имеют дело не с банальной беспечностью, а хорошо продуманной стратегией, своеобразной методой. Артём никогда не уподоблялся людям «ростовщикам в себе», которым свойственно раздувать из мухи слона; у него всё происходило наоборот. Лишь проблема высвечивалась на горизонте, Бочкарёв бодрой походкой направлялся к ней, вежливо здоровался с непрошенной гостьей в своей голове и просил её зайти завтра, а лучше послезавтра. После такого холодного приёма проблема начинала чахнуть; её перемалывало время, пережёвывали меняющиеся к лучшему обстоятельства, она становилась привычной, а потому вполне безопасной и часто даже смешной в прямом смысле этого слова. Люди часто ошибочно полагали, что вот-вот Артёма уже ничто не спасёт, что ещё немного — и человеку конец. Для того чтобы хоть как-то поддержать Бочкарёва в безвыходных ситуациях, они начинали наперебой давать ему дельные советы, ходатайствовали за него, ссужали парня деньгами. В общем, сломя голову бежали ему на выручку, почти домогались участия в его делах, потому что не понимали, как он может быть до такой степени безучастным к своей судьбе. Когда «конкурсные управляющие» расправлялись с проблемами Артёма, он виновато улыбался, но никого не благодарил, так как искренне считал это лишним, ведь он действительно самый несчастный на всём белом свете.
За окном густо валил снег, покрывая застывшую землю пуховой периной. Тысячи ворон, облепив верхние этажи деревьев, извергали проклятья на всю округу. Хлопья медленно и отвесно падали вниз, вытесняя воздух и ограничивая видимость. Мороз постепенно спал, образовался гололёд. Машины включали ближний свет фар, снижали скорость. Было три часа дня. Артём увидел, как на дороге перед общежитием закрутило и вынесло на встречную полосу движения иномарку. Через секунду от утончённого Бочкарёва, которого за женские ужимки часто относили к «голубым», не осталось и следа: его губы презрительно сжались, глаза засверкали решимостью, лицо стало напоминать чёрствую корку. Ни один томный вздох не вырвался из его груди, как это часто случалось с ним даже по самым незначительным поводам.
— Встречка, тупень, — последовало мысленное предупреждение мужчине, сидевшему за рулём джипа. — Выворачивай вправо. Подставься, баба рядом с тобой… Красавчик. Теперь не дрейфь, скоро конец. — Визг тормозов, глухой удар. — Game over.
Бочкарёв отошёл от окна, молча налил себе водки и залпом выпил.
— Что там на улице? Ты на себя не похож, — сказал Молотобойцев.
— Тихо, — властно произнёс Бочкарёв. — Схожу на вахту, вызову скорую и ментов. Водилы — трупы, баба вроде жива.
— Базара нет, он реально какой-то не такой, — заметил Яша, когда Артём вышел.
— Это и есть его настоящее лицо, сейчас он как раз и был похож на себя, — беззаботно произнёс Вовка, аккуратно разлил водку по стопкам и обратился к друзьям: «За всех, кто в эту секунду выпал из жизни… Не чокаясь».
— Не то мелешь… Не выпал, а ушёл, — поправил Вася.
— И за тех, кто родился в эту секунду, чтобы однажды умереть, — сказал Яша.
Глава 6
Левандовский разжился картошкой на втором этаже у своей однокурсницы, студентки группы 99-1 Наташи Сакисовой, и направился к Волоколамову, чтобы спросить его, когда будет готов Васин реферат по предмету «Научная организация труда студента». Комната № 214 была открыта, и Алексей зашёл без приглашения. Будучи местным, как Бочкарёв, Молотобойцев и Магуров, Левандовский не переставал благодарить Бога за то, что ему не надо было жить в студенческом общежитии, как другим. Кто-то из острословов под вывеской «НАДЕЖДА» однажды написал на листке формата А-4: «ВХОДЯЩИЙ СЮДА, ОСТАВЬ НАДЕЖДУ…». Перл провисел под табличкой всего сутки, но был оценен по достоинству. Особое одобрение у жильцов вызвало всеобъемлющее многоточие после слова «надежду», потому что три точки давали обильную почву для фантазии. Безымянный автор сделал гениальную подачу в штрафную площадь на головы своих товарищей, и они уже просто обязаны были забивать: «ВХОДЯЩИЙ СЮДА, ОСТАВЬ НАДЕЖДУ сохранить целомудрие, быть сытым, жить без долгов, нормально вымыться, остаться трезвенником, ПАВЛОВНУ беременной и т. д.
Левандовский увидел мертвецки пьяного Волоколамова, спавшего на груде книг. Повсюду валялись пустые пивные бутылки и окурки. На столе, где Волоколамов с товарищем обедал и готовился к занятиям, громоздилась пейзанская башня из грязной посуды. Левандовский брезгливо поморщился и приступил к уборке.
Левандовский чувствовал странное удовольствие, когда скрупулёзно и последовательно наводил порядок в чужой комнате. Дело было отнюдь не в благодарности за услугу, — которую выразит ему товарищ после того, как проснётся и увидит вокруг чистоту, — а совсем в другом. Левандовский ощутил дыхание реальной, почти диктаторской власти над беспомощным телом друга и его вещами.
— Я мог бы вылить на тебя ведро воды, чтобы привести в чувство, но не сделал этого, — думал Алексей. — Я мог бы превратить тебя в кровавое месиво, и ты бы даже не понял, кто тебя избил. Ты прожил двадцать лет до встречи со мной, не подозревая о том, что 14 декабря 99-ого года именно Лёха Левандовский будет решать, поставить ли твою пепельницу на стол или, к примеру, на подоконник, встречать ли тебе Новый год за фужером шампанского или в гробу, будут ли завтра плакать твои родители над трупом сына или радоваться его успехам, потому что в данный момент менеджер твоей судьбы — я. Топ-менеджер, ведь твоя жизнь находится в моих руках, которые могли бы вцепиться тебе в горло, но вместо этого убирают окурки, вытирают пыль и моют посуду. Не я нагадил и развёл свинарник, но, несмотря на это, убираю и подчищаю за тобой, потому что из всей нашей шестёрки только мы с Молотобойцевым не боимся чёрной работы, не стесняемся её, даже любим, поэтому у нас есть все шансы выжить в этом мире. — Левандовский поднял с пола «Отверженных» Гюго и горько усмехнулся. — Привет, Витёк… Не рад, совсем не рад тебя видеть. Сколько мы с тобой знакомы?.. Лет пять, наверное. Ну и растравил же ты меня однажды. Я тогда не плакал, а выл над тобой. Сполохи революционной Франции, Гавроши, Козетты, Вальжаны, свобода, равенство, братство… Подлец. Ты подлец, Виктор. Скольких ты завербовал своими книгами, сколько наивных мальчишек и девчонок увлёк за романтическим знаменем, выдернув их из реальности? Тебе всё мало, Витя. Давно уже умер, сволочь, а не перестаёшь. Теперь и этого хочешь? — Левандовский кивнул в сторону Волоколамова. — Лёньку тебе не дам. Обрыбишься. — В полёте книга раскрылась, отчаянно зашелестела, раненой птицей врезалась в стену и медленно стекла вниз. — Хотя нет. Рекрутом Гюго после прочтения «Отверженных» ты не станешь, так как представляешь собой танковую гусеницу по перемалыванию книг, которая не желает превращения в пусть и красивую, но уязвимую бабочку. Литература для тебя отнюдь не духовная, а такая же материальная пища, как сосиски и картошка. Особой разницы между художественным романом и учебником по физике ты не видишь; от первого тебе требуются крылатые фразы, от второго — законы и формулы, для того чтобы прослыть человеком умным и разносторонне образованным.
Волоколамов уже двадцать минут скрытно наблюдал за Левандовским. Он испытывал нестерпимую жажду с похмелья, но терпел и не подавал признаков жизни. Он поклялся себе, что пробудится ото сна только тогда, когда комната будут сиять чистотой, потому что у него не было ни сил, ни желания помогать другу. Как назло Алексей наводил порядок, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой; любовно обрабатывая каждый квадратный сантиметр комнаты половой тряпкой, он с живодёрским воодушевлением сажал на кол всех известных науке микробов и брал в плен неизвестных. Такая обстоятельность, конечно, радовала Леонида, но одновременно и озлобляла его против Левандовского, так как лежать на книгах было нестерпимо больно. Волоколамов не помнил, как он оказался на собственной библиотеке, вывалившейся из шкафа. Писательские труды, закованные в латы твёрдых переплётов, с каждой минутой всё сильнее впивались в тыльную сторону рук и ног, а также спину Леонида, как будто стремились разодрать его телесную оболочку, погрузиться в горячий ливер, разложиться там и стать плотью и кровью парня. Это не входило в планы Волоколамова, его холодный рассудок противился проникновению чужеродных тел, но он продолжал терпеть.
— Интересно, долго ты ещё будешь дрыхнуть? — спросил Левандовский, не рассчитывая на ответ.
— А сколько тебе требуется времени, чтобы довести начатое дело до конца? — сухо ответил человек, лежавший на куче из книг.
— Минут десять.
— Постарайся за пять.
— Это почему?
— Потому что Достоевский уже в печёнках сидит, — нехотя ответил Волоколамов.
— Что за тон, Лёнька? Ну что ты за человек!
— Как все.
Левандовского взбесили холодные реплики Волоколамова. В Алексее закипела желчь, угрожая выплеснуться в поток язвительных фраз, но он сдержался. Отсутствие огня в глазах друга всегда неприятно поражало Левандовского, хотя, надо отметить, у него самого глаза блестели не совсем чисто. Алексей был, что называется, продуманным романтиком, закалённым в горниле капиталистического реализма. Например, он готов был с гитарой за плечами сорваться «за туманом и за запахом тайги», если бы с точностью до сантиметра знал, где находится золотоносная жила, чтобы по возвращению домой миллионером и владельцем прииска позволить себе непозволительную роскошь быть романтиком. Если бы команданте Че жил в наше время и обратился к Левандовскому за помощью, то последний, воспламенившись, не забыл бы спросить: «Каковы шансы на победу кубинской революции? Если пятьдесят на пятьдесят, то я — пас. Только сдохнем всем на смех. Кстати, Советский Союз выполнил обещание насчёт поставки вооружения и боеприпасов?.. Не полностью?.. Тогда подождём, дорогой Че. Участь Данко меня не привлекает, предпочитаю видеть результаты от вложенных усилий».
— По какому поводу бухаешь? — спросил Левандовский.
— Ровно два года назад, чтобы не забрали в армию, я отказался от российского гражданства.
— Значит, на радостях квасишь?
— Нет.
— Неужели с горя? — съязвил Левандовский.
— Тоже нет.
— Пацифист? Свидетель Иеговы? Идейный противник существующего строя?
— Опять не угадал. Мне просто не по себе. Вроде как никого не убивал, а чувствую себя хуже убийцы. Не крал, а завидую сейчас последнему вору. Как будто меня вообще нет. Не для государства, а для себя нет. — У Волоколамова из стороны в сторону быстро заходила челюсть, так случалось с ним каждый раз в минуты сильного волнения. — У меня состояние нравственной импотенции, Лёха. Уже два года, как я не могу стать насильником, но и зачать, родить что-нибудь стоящее тоже не могу. Я не могу стать даже Иудой, так как для того, чтобы предать, надо иметь что предать. — В глазах Леонида забегали огоньки безумия. — У тебя при себе паспорт? Паспорт гражданина Российской Федерации? Дай мне его!
— У тебя с пахмы башню снесло, ты спятил! — произнёс Левандовский и отшатнулся от друга, как от прокажённого.
— Не больше, чем ты, не знающий, какой ценностью владеешь, какой жемчужиной пренебрегаешь!
Алексей с жалостью посмотрел на Леонида и достал паспорт.
— Держи, если для тебя это так важно. Это всего лишь корочки, удостоверяющие личность. Можешь даже оставить документ у себя, а я сделаю себе новый. По утере.
— А по утере совести восстанавливают паспорт? По утере чести и достоинства, по утере смысла жизни?
— Ты загнался, — бросил Левандовский. — Выпей ещё.
Волоколамов опорожнил бутылку пива и открыл паспорт. На его бледном худощавом лице появилась улыбка. Левандовский с удивлением наблюдал, как у Леонида постепенно разглаживались острые линии подбородка, а в арктических хрусталиках глаз началось глобальное потепление. Только внешнее преображение не шло ни в какое сравнение с преображением внутренним. В холодную душу Волоколамова заглянула короткая полярная весна: солнце обогрело сердце, на деревьях набухали почки, садовники разбивали цветочные клумбы, а неприхотливые зверушки севера устремлялись по округе в поисках второй половины, чтобы успеть заключить браки и справить праздники любви.
Мы бы прочли: «Левандовский Алексей Васильевич, 02.08.1982 года рождения, пол — мужской, паспорт выдан УВД города N Республики Y».
Мы — да, но только не Волоколамов, лишённый гражданства, который читал паспорта, как романы (Алексей ошибался, думая, что его друг не делает отличий между художественной и технической литературой), жадно любуясь каждой буквой: «Левандовский Алексей свет Васильевич — один из ста пятидесяти миллионов потомков великого племени (куда дреговичи тоже входили), дравшегося с печенегами, утопившего немецких рыделей в Чудском озере, расправившегося с Золотой Ордой на Куликовом поле, подарившего миру прекрасных зодчих, учёных, скульпторов, Фонвизина, художников, Сурикова, писателей, бомбардира Петра I под Полтавой, Екатерину Великую, которая вела переписку с Вольтером, Святослава «иду на вы», а какие у нас раздольные степи и т. д. Левандовский Алексей сын Василия имеет полное право гордиться деянием пращуров, приумножать славу России в своём временном отрезке на любом поприще, которое пожелает избрать, может голосовать на своём избирательном участке, родить себе сына, который подарит ему внука и т. д.
Обычно Волоколамов выстраивал чёткие логические цепи, но только не тогда, когда рассматривал чужие паспорта. Эмоциональное перевозбуждение приводило к метанию мысли, перескакиванию с одного предмета на другой, недооценке одного события вкупе с преувеличением значимости другого, так как в состоянии восторженного аффекта он опьяневшим казаком мчался на необузданном жеребце не по дороге, а по кочковатому полю, и конь этот летел чёрт знает куда сразу во всех направлениях. В общем, Остапа непоследовательно несло, но одно не вызывало сомнения: паспорт представлял для Леонида большую ценность.
— Почему ты его в обложку не закатал? Истреплется ведь, ветошью станет! — благим матом заорал Волоколамов.
— Псих! — бросил Левандовский.
— А ты — сволочь! Где ты его носишь? Так я тебе напомню. В заднем кармане джинсов ты его носишь! Рядом с анусом он у тебя хранится! Чтобы достать паспорт, ты проделываешь такое же движение рукой, когда вытираешь одно место в туалете! Один в один! Давай туда ещё пачку мальборо запихай, чтобы паспорт дешёвым американским табаком пропитался, чтобы вонючий ковбой нашего двуглавого орла сношал!
— И запихаю! — взревел Левандовский.
— И запихай! Кто тебя просил у меня убираться?! Лучше бы ты сам убрался к чёрту!
— Куда подевалась твоя интеллигентность? В пьяном виде ты похож на неандертальца, на обезьяну! Посмотри на себя! Ты же животное! И куда подевалось твоё преклонение перед Западом?! Может, я его с окурками подмёл?! Ты же ещё вчера был готов заглядывать им в рот, подстилкой стать, ботинки лизать, потому что они де — великие нации, а мы де — дерьмо! А сегодня про ковбоя с паспортом мне базаришь.
— Твари мы! — опустившись на табуретку и вцепившись в волосы, отрешённо произнёс Волоколамов, и подбородок его задрожал. — Водку третий месяц жрём, всех баб в общаге уже того. — В глазах Леонида вскрылись реки, начался ледоход, но пока ни одна капля не вышла из берегов. — Я хотел стать государством в государстве, Лёха. Передвижной державой, самодостаточной единицей. Вы всё время упрекаете меня в холодности, а это была всего лишь независимость, территориальная целостность страны, которую я годами создавал внутри себя. Государство — это машина, оно по определению бездушно. — На глазах Леонида выступили слёзы. — Машина может сломаться, но боли при этом чувствовать не должна.
— Должна, но не обязана, параноик. Давай разнойся ещё, — бросил Левандовский, с неудовольствием почувствовав, что после слов друга у него самого на душе заскребли кошки. — Книг-то развёл, яблоку негде упасть. Я бы на твоём месте…
— И ведь как с инстиком-то нам повезло, Лёха, но никто не ценит, — перебил Волоколамов. — Ты видел, что некоторые преподы на парах вытворяют, какие мысли пытаются в нас заложить. О долге, чести, общественном благе, гражданском мужестве говорят. И это в провинциальном-то ВУЗе! Не в столичном, в заштатном! Нонсенс. Я не ожидал, совсем не ожидал, хотя помнишь Пузыря с Митрохой… Они намекали.
— И я рад, что в Москву или Питер поступать не поехал. Там сейчас в большинстве своём золотая молодёжь учится, а мне с ней не по пути. В настоящий момент в столичных ВУЗах готовится элита, которая уже не будет иметь ни малейшего понятия, что такое народ. Нет, это вовсе не значит, что выпускники МГУ, выучившись за родительские деньги, выйдут из стен своего учебного заведения бесчестными и глупыми. Нет, я не о том. Одновременно с нами на исторической арене появятся, может быть, умнейшие, компетентнейшие и образованнейшие люди, но их оторванность от народных истоков будет настолько велика, что мы столкнёмся с дипломатами для дипломатии, политиками для политики, экономистами для экономики, юристами для юриспруденции. В общем, вращаюсь в своём богатом и интеллектуальном кругу, а про простых людей ничего не знаю и знать не хочу. Народ будет казаться им спивающимся иностранцем, с которым они по какой-то нелепой случайности проживают на одной территории. Их даже судить за это нельзя… А вспомни девятнадцатый век, Лёнька. Вспомни, как кипели универы обеих столиц, как на каждое событие в жизни страны отзывались. Во многом, конечно, тогда заблуждались студенты, но боролись же, не было у ребят равнодушия. С преподами действительно повезло. К примеру, взять Иванковского. Это же сколько литературы надо для одной только лекции по «Политологии» перелопатить, чтобы довести до нас самую объективную и важную информацию под запись. Тонны, блин! Тонны! И так ведь он каждый раз готовится. А где благодарность?.. Ему в прошлом году за принципиальность на экзаменах тачку изуродовали, на дверцах новой машины «КОЗЁЛ» и «СУКА» в отместку написали. — Левандовский хмыкнул. — Я бы ещё мог понять, если бы просто колёса прокололи, а то ведь мужику тойоту перекрашивать пришлось. Бешеные бабки. Узнаю, кто нагадил — мало не покажется.
— А толстячок Печёрский. Почему про него забыл? Месит ведь мужик.
— Или Лепёшкина!
— Штольц!
— Тивласова, Карпенко, Жданова!..
— Сам ректор! — воскликнул Волоколамов, а дальше его глаза сузились до щелок, и он процедил: «Но я их всех ненавижу. Ненавижу за то, что они в наших с тобой сокурсниках ответного блеска в глазах вызвать не могут. Подхода не знают. Того не понимают, что у большинства студентов даже примитивной подготовки нет, что в семьях, с которых всё должно начинаться, говорят не о литературе, искусстве или гражданских доблестях, а о деньгах, карьере и тряпках. Тут с азов начинать надо, а у преподов нет на это времени, и я начинаю их презирать, себя презирать. Ненавижу наши тесные и убогие хрущевские кухни! Ненавижу за то, что они пришли на смену столовым, в которых в незапамятные времена текли неторопливые беседы о высших ценностях в большом кругу друзей и родных. Со столовых выходят гении, с кухонь выползают злодеи; эта мысль красной нитью в любом классическом романе проходит — понял?.. Помнишь, как я на паре с историчкой поругался? Один единственный раз меня прорвало. Не потому поругался, что с ней не согласен был — нет! Чтобы заглохла — вот почему! Мне её жаль стало, ведь почти никто не слушал, о чём она говорила, а те, кто слушал, посмеивались. Типа, дура ты… Я ведь святые мысли, которые она тогда озвучивала, на поругание не хотел отдать. Она теперь ненавидит меня, а я за неё жизнь положу. В армию побоялся идти, а за неё — в огонь и в воду»!
— А я смеялся?.. А Мальчишка, Бочарик, Васька, Яша смеялись? Пацаны не по дням, а по часам меняются. Хоть кого возьми. Я внимательный до характеров. Точно тебе говорю, что Васёк два месяца назад и Васёк сейчас — разные люди. Одни черты отмирают, другие усиливаются, третьи трансформируются во что-то немыслимое. Ничего не понимаю. И с Яхой, со всеми нами так. Тебя вот сегодня не узнать, то есть я хочу сказать, что совсем тебя не знаю. Идёт не взросление, а что-то другое, страшное. Может, преподы влияют, новый коллектив, наше общение друг с другом? Как думаешь?
— Всё вместе влияет, — выдохнул Волоколамов, обдав перегаром Левандовского.
— Да быстро как.
— Я бы сказал — экстерном.
Левандовский залпом выпил бутылку пива и заявил:
— Книги — зло!.. Бей их!
А потом случилось страшное: комната наполнилась безумным хохотом. Как будто бесы вселились в Алексея и Леонида. Ребята стали с остервенением швырять книги в стену.
— Кто сказал, что рукописи не горят?! — взорвался Левандовский.
— Булгаков!!!
— Без сопливых! Я к тому, что это он через край хватил! На костёр его!
— Сжечь без базара! Но тебе не дам! Он мой! У меня с ним старые счёты! — закричал Волоколамов.
— А Гюго — мой! Благодаря этому человеку я никогда не буду счастливым!
Книги были подожжены. Едкий запах дыма распространился по комнате. В руках Волоколамова горели «Мастер и Маргарита», в руках Левандовского полыхали «Отверженные». Глаза друзей хищно светились, но никто из них уже не хохотал.
— Брось книгу. Сгоришь к чертям, — сказал Волоколамов.
— А сам почему не бросаешь?
— Тебя не касается… А ты?
— Не твоё дело, — огрызнулся Левандовский.
В комнате запахло палёным мясом. Оба друга побледнели, заскрежетали зубами, но ни один звук боли не сорвался с их губ. В их поведении не было никакой юношеской бравады. Им вдруг сделалось стыдно за свой проступок, и они его искупали.
— Брось! Это всего лишь книга! — взвыл Левандовский. Мужество с каждой секундой оставляло его, из глаз покатились слёзы, но он терпел. Мысль о том, что правая ладонь может не вынести испытания огнём и подведёт его, испугала Алексея, и он, не раздумывая, схватился за «Отверженных» ещё и левой рукой, как будто хотел равномерно распределить пламя и тем самым ослабить его действие.
— Как скажешь! — отозвался Волоколамов на предложение друга, ощерился и разжал пальцы. Роман Булгакова упал на пол, и Леонид тут же наступил на горящую книгу голой ступнёй.
Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы в комнату не вернулся сосед Леонида и не раскидал бы инквизиторов по углам.
Перебинтовав друг друга, ребята поднялись к Вовке.
— Чё перевязанные? Случилось чё? — спросил Магуров.
— Всё нормально. Давайте бухать, — ответил Волоколамов.
Друзья пили до трёх часов ночи, пока не вышли все деньги. Вахтёрша была задобрена тремя коробками шоколадных конфет, и поэтому сквозь пальцы смотрела на вакханалию в комнате № 303. Когда гости, наконец, разошлись, бедный Мальчишка еле держался на ногах. У него раскалывалась голова, в глазах двоилось, ему хотелось спать, но он вспомнил маму, которая бы не одобрила бардак, и приступил к уборке. Сегодня Вовка не хотел пить. Он был вообще такой человек, который любит веселье, но на дух не переносит спиртные напитки. Несмотря на неприятие алкоголя, он всегда с радостью принимал затаренных водкой друзей, потому что любил их больше, чем ненавидел пьянки. Мальчишка мирился с нездоровой обстановкой студенческих пирушек, так как ребята раскрепощались и становились похожими на детей — задорных и способных на милые его сердцу безобидные шалости и глупости. Правда, иногда случался перебор, и дело доходило до драки; тут Вовка терялся и начинал метаться между одуревшими людьми, тщетно призывая их к благоразумию.
Убравшись, Мальчишка лёг в постель, укрылся пуховым одеялом, сжался в комок и по детской привычке засунул руку под подушку; там его всегда ожидала приятная прохлада. Люди часто разочаровывали Женечкина, но он не переставал верить в них, потому что опирался на счастливые воспоминания из детства и мало кому понятные вещи, как эта прохлада под подушкой, которая никогда его не подводила. Засыпая, Вовка изобразил гудок паровоза, отрывистые команды машиниста, пожелал маме «спокойной ночи» и обратился к Богу:
— Разбуди меня, пожалуйста, в пятнадцать минут восьмого. Я не стал бы Тебя беспокоить, но завтра утром голова будет болеть, без Твоей помощи никак не обойтись. И поцыков тоже. Особенно Бочарика, а то его пушкой не поднять. Его вообще-то можно попозже. Например, к восьми. Да-да, к восьми. Он в институт на такси или на своей тачке поедет. Да, признаюсь Тебе, что я ему завидую. Завидовать нехорошо, грех, а я всё равно завидую. Пьёт больше всех, но никогда не пьянеет. Только я не об этом. У него такие огромные внутренние силы, такой ум, а он предпочитает просто острить и быть поверхностным. Тут какая-то серьёзная травма, хотя Ты и сам всё знаешь.
Морозный воздух после душной Вовкиной комнаты освежил Молотобойцева. Он попрощался с друзьями и, пошатываясь, побрёл домой. По дороге он вспомнил о своём психически больном брате, который редко выходил за пределы своей комнаты:
— Опять эти мысли… Господи ты боже мой, опять они…
Молотобойцев стыдился идиота Ванюши. Вася любил своего неполноценного брата, но подсознательно чувствовал, что его любовь хуже ненависти. Он видел в Ванюше бесполезное существо, почти растение, и такое отношение к родному человеку мучило Васю. Он старался ни с кем не заговаривать о больном брате, словно хотел убедить себя и окружающих: «Его нет. Я его никогда, никогда не брошу, но его нет».
Меж тем Ванюша был и не просто был, а даже, может быть, влиял на жизнь семьи и общества больше, нежели кто-либо другой. Редко кто понимает, что Спаситель являет себя Миру каждый день через сирых и убогих, и в этом заключается чудо. Его ждут на небе, одетым в парчовые одежды и окружённым святым воинством, а Он притаился в пропитанном мочой бомже, спрятался в складках яркой одежды презираемой всеми проститутки и плачет одинокой старушкой на церковной паперти. Тот, кто протянет руку нищему, калеке, падшей женщине, тот имеет полное право сказать: «Мне не нужны чудеса. Я вижу страдающего Христа каждый день. Утром по дороге на работу я подал нищему, но на самом деле ссудил деньгами Спасителя». Замечательно, что созидательные силы общества стремятся искоренить бедность и пороки, но это, к счастью, невозможно. Не стоит пугаться такой формулировки, потому что наше божественное естество может проявляться только через бескорыстную поддержку убогих, покинутых, презираемых и обездоленных. Других способов стать чище и лучше человечество пока не знает.
У Васи болела душа. Чем больше он старался стереть брата из памяти, тем ярче, отчётливей и несчастней виделся ему Ванюша. Погруженный в себя, Молотобойцев никого и ничего не замечал вокруг. На перекрёстке улиц Мира и Артельской Вася остановился.
— Налево пойдёшь — сифилис найдёшь, прямо пойдёшь — домой попадёшь и маму расстроишь, напра… — поперхнулся Молотобойцев, потому как то, что он услышал, ликвидировало все его сомнения. — Направо пойдёшь — проблему найдёшь, но и совесть, даст Бог, успокоишь.
За ларьком кричала девушка, и Вася побежал на звук её голоса.
Три подонка сорвали с девчонки шубу, повалили на землю и пытались наяву проделать с девушкой то, что в мыслях проделывают три четверти мужчин со всякой мало-мальски симпатичной женщиной, при этом считая себя образцами добропорядочности. Молотобойцев был сыном своего времени, поэтому ничему не удивился. Страха Вася тоже не испытывал, так как его детство прошло на улице, где слабаков высмеивали и презирали. Не единожды побывав кровавым сгустком, Молотобойцев со временем научился драться и игнорировать боль. Его называли храбрецом, и он соглашался с таким определением, но в глубине души чувствовал, что его отвага происходит от привычки и опыта: привычки к физическому страданию и опыта накопленных боёв в одиночных и массовых стычках. Слившись с придорожным тополем, Вася решил на какое-то время остаться незамеченным. Что-то удерживало его от немедленного вмешательства, и он тупо наблюдал за попыткой изнасилования. Он даже не сомневался в том, что в его присутствии надругательства над женщиной не может быть по определению. Молотобойцев спокойно отметил про себя, что на таком лютом морозе у подонков вряд ли что получится. «Сидела бы дома, дурёха. Шаришься по ночам… Странно, что ты перестала звать на помощь. Не жертва, а разъярённая тигрица какая-то», — подумал Вася.
— Ладно, ладно, кобеля ненасытные. Всех обслужу, только шубу не забирайте… В очередь, — вдруг скомандовала девушка.
Васю передёрнуло. Он сначала не поверил своим ушам, но через несколько секунд вынужден был поверить глазам. Борьба за обладание телом прекратилась. Девушка поднялась с земли, отряхнулась от снега, надела шубу, прислонилась к ларьку и приказала:
— Рыженький, начнём с тебя. Только быстро.
Вася вышел из-за тополя:
— Доброй ночи, дамы и господа! Вижу, у вас тут очередь. Кто последний?.. Рыжий, тебе придётся пропустить меня вперёд, потому что инвалиды духа обслуживаются вне очереди. — Вася мельком взглянул на девушку, сплюнул и тут же отвернулся от неё. — Ничего, с пивом потянешь. Распрягайся, милая. Сейчас я тебя жёстко наказывать буду за то, что ты меня своим поведением со второй группы инвалидности на первую перевела. Я аж отрезвел, ребятки! — Молотобойцев рассмеялся. — Надо же так. Одни — сволочи, другая — хуже, чем шалава, да и я, выходит, — не герой, ни хрена не рыцарь. Как жить-то теперь?
— Ты откель взялся, инвалид? — спросил высокий парень с изрытым оспой лицом.
— Отсель, гребень, — рубанул Вася. — Ты вообще судьбой обделённый — понял? Фишка даже не в том, что твоя харя напоминает поле битвы; с лица воду не пьют, не в этом дело. Практически у всех на плече имеется прививка. Как ты думаешь, что она означает? Не напрягайся, сам отвечу. Означает она то, что хотя бы в какой-то период детства мы были кому-то нужны: маме, папе, бабушке, воспитателю детского дома или хотя бы врачу в роддоме. — Насильники опешили. — А ты вот никому не был нужен. Прививка от оспы есть у самого последнего бомжа, попрошайки с вокзала, последней проститутки с панели. Через прививку в плечо кто-то заботился о нашем лице на всю жизнь, а ты его потерял. Знаешь, что такое уже в детстве потерять лицо? Хочешь, я расскажу всю твою биографию от начала до этой минуты, закономерная дрянь.
Последнее слово Вася выплеснул в воздух вместе с кровью уже из горизонтального положения. Сжавшись до предела, Молотобойцев прикрыл голову руками и терпеливо ждал, когда выдохнутся противники, чтобы в подходящий момент начать контратаку. Он по опыту знал, что минуты через две его враги потеряют бдительность, и это станет началом их конца. Вася умел и любил драться, его боевой нижний брейк с каскадом ударов и подсечек был бесподобен. Он решил, что начнёт с Рыжего, который, конечно, не успеет даже вскрикнуть после падения на землю, как к нему присоединятся два его товарища.
— Поехали, — произнёс Молотобойцев знаменитую фразу Гагарина, и его ноги быстро описали окружность.
Рыжий как подкошенный рухнул на Васю.
— Сука… Спина… Задыхаюсь, — где-то в сторонке прохрипел парень с изрытой оспой лицом.
— Этот гад мне руку сломал, руку сломал, сломал руку, — перекатываясь по земле, причитал третий насильник.
— 2:1 в пользу меня, — подытожил Молотобойцев. — Делай отсюда ноги, девка! — Рыжий молотил Васю кулаками. — Веселей, гнида! Убей меня! Невыносима такая жизнь!
Глава 7
И грянула сессия, то есть для кого, конечно, началась, но для большинства именно грянула. В декабре. Потом студентам предстоит пережить ещё две. Вижу недоумение на лице читателя, так как он знает, что традиционная система высшего образования подразумевает две сессии в год. Поясняю. Об институте перестали говорить по местному телевидению и писать в прессе; он вдруг почувствовал, что слился с огромной армией других негосударственных ВУЗов, а это не устраивало его по многим причинам.
— Надо, чтобы обо мне вновь заговорили. Что делать? Ну что же делать? — мучился Антон Сигизмундович. — И ведь нечем похвастать. На 94-ом уже не выедешь. Хоть бы уж что-то говорили, а то ведь вообще молчат. Может с Московским Государственным Университетом переспать? Антон Сигизмундович — голубой ВУЗ. По-моему, звучит круто. Ничего страшного, что на меня косо смотреть будут; так ведь для пиара сейчас все делают. Нет, я всё-таки — кузница кадров, так поступать мне не пристало… А не добавить ли мне ещё одну сессию к двум имеющимся? Безобидно и резонанс.
Подумал и сделал.
Ранним декабрьским утром преподаватель по философии Радий Назибович Ибрагимбеков, за мушкетёрскую бородку и одухотворённое лицо прозванный студентами Арамисом, пешком направился в институт, чтобы принять экзамен у головорезов из шестой группы. Он был одет в серый костюм, кожаную куртку и норковую шапку. Несмотря на скверное настроение, на его лице то и дело появлялась улыбка триумфатора, потому что сегодня он был намерен раздать всем сестрам по серьгам. Полный негодования Радий Назибович решил, что на экзамене не будет жалеть их (презрительным «их» преподаватель обозначил всех без исключения студентов, поступивших в 99-ом), как они не жалели его своим преступным отношением к предмету в продолжение двух с половиной месяцев. Арамис уже давно пришёл к выводу, что людей, знающих и любящих философию, осталось ровно столько, сколько самих философов; и он был недалёк от истины, когда думал, что фамилия Гегель стала произноситься реже, чем словосочетание «вельми понеже». Ибрагимбеков был странным и наивным. Он всё никак не мог дождаться появления идеальных студентов, которых институт пытался вырастить в 94-ом. Разве мог предположить Радий Назибович морозным декабрьским утром 99-ого года, что слова, которые он произнесёт на экзамене, вышвырнут на арену российской действительности несколько борцов за народное счастье, к которым потом примкнут сотни людей? Да-да, читатель. Автор правильно подобрал слово. Не выдвинут, а именно вышвырнут, как слепых котят, и отрежут ребятам все пути к отступлению. Начало великого пути будет настолько своеобразным, что по прошествии многих лет никто не поверит, что всё началось с… Впрочем, всему своё время, не будем торопить события. Скажем только, что за пять дней до миллениума, казалось, ничто не предвещало рождения первой колонны.
Разложив экзаменационные билеты на столе, Радий Назибович с грустью посмотрел в окно и произнёс:
— Сейчас или никогда. Здесь всё кончено. Они давно зовут меня, они оценят меня по достоинству. — Он открыл дверь и уставшим голосом обратился к студентам: «Кажется, у вас это последний экзамен… Хорошо. Долго я вас не задержу. Заходите-ка все разом».
— А разве не по пять человек сдавать будем? — спросил Мальчишка.
— Припухни, Вовка, — загудели студенты.
Группа 99-6 зашла в аудиторию, расселась и притихла.
Студенты почувствовали халяву; группа напоминала натянутую струну.
Ибрагимбеков всматривался в лица ребят, и ему хотелось плакать от жалости к себе и к ним, потому что он принял судьбоносное решение, с которым ещё ни с кем не успел поделиться. Радий Назибович неловко одёрнул полу пиджака и тяжело вздохнул; плуты из шестой группы вздохнули с ним в унисон, чтобы у расстроенного преподавателя не возникло сомнения в их сочувствии его горю. Потом у Радия Назибовича задрожал подбородок, задёргался правый глаз, и студенты в едином порыве для симметрии задёргали левым; сострадательное «ох-ох-ох, что в жизни не бывает» пронеслось по аудитории. Когда Арамис начал говорить и споткнулся на втором слове, умная девушка с грудным голосом, Ира Щербацкая, чуть всё не испортила:
— Радий Назибович, что с вами?.. Мы все сегодня готовы на сто процентов.
Последняя фраза явно была лишней, и на Ирину зашипели… Поздно. Арамис приободрился.
Чтобы переломить ситуацию, Молотобойцев, подобно отважному Гастелло, для общего дела пошёл на смертельный таран:
— Говори за себя, Ира… Радий Назибович находится сейчас в таком состоянии, что враньё может ещё больше расстроить его. Будем смотреть правде в глаза: для меня Диоген ассоциируется только с пустой бочкой — не более.
В роли Александра Матросова неожиданно для всех выступил Магуров:
— Да, брат. Что тут поделать?.. Я… То есть, конечно, все мы… Да, все мы ничего не знаем о Ницше.
Радий Назибович схватился за сердце.
— Да, но это вовсе не означает, что мы не любим его, — слащавым голосом произнёс Бочкарёв. — Мы обожаем Ницше, души в нём не чаем. Чтобы любить человека, совсем не обязательно его знать. Не за его учение, а просто так любим. Это лучше, это выше!
Радий Назибович побледнел и в изнеможении облокотился на кафедру.
— А я их всех знаю! — подскочил Женечкин. — Знаю, а сказать не могу. Зато лягушачий хор изобразить могу! В подробностях!
— Сядь, сядь, — загомонили студенты.
— Вы не поняли, — огорчился Женечкин. — Не одну лягушку, а целый болотный хор!
— Это, конечно, меняет дело, но Арамис итак не в себе, а ты тут со своими жабами лезешь, — ущипнув друга за мягкое место, тихо произнёс Левандовский, поднялся в рост и пошёл ва-банк: «Мы с Лёней… В большей степени, конечно, Лёня. В общем, мы с Лёней серьёзно подготовились к сдаче экзамена. Ведь так, Леонид?
— Вот гад. И меня подвязал. Сейчас начнёт — не остановишь, — подумал Волоколамов, спалил Алексея взглядом, но вслух произнёс: «Да, Алексей».
— Так вот, — продолжил Левандовский. — Мы с моим другом знаем о философах и их постулатах абсолютно всё! Более того — ни один факт из биографии того или иного искателя мудрости не был обойдён нами при подготовке к экзамену! — Во время этого пламенного спича через аудиторию уже летела записка, в которой значилось: «Ты, гад такой, когда подробно о ком-то начнёшь говорить, этот кто-то должен быть Кант, иначе отмазывайся сам. Волоколамов». — Остаётся только удивляться, как плеяда замечательных деятелей, практически не повторяясь, а чаще дополняя и углубляя идеи друг друга, продвигала человечество в постижении истины всё дальше и дальше. — Левандовский незаметно ознакомился с содержанием подсунутой ему записки, но решил ещё немного поплутать в дебрях риторики, чтобы потешить публику и довести Леонида до сердечного приступа. — Карл Маркс! Как много в этом звуке для сердца русского, советского слилось. Но нет! Не будем, не будем о Марксе, потому что тогда неизбежен разговор о его друге Энгельсе, Кларе Цеткин, Розе Люксембург и Владимире Ульянове. Они нанизываются на автора «Капитала» как добрый шашлык на шампур. — Услышав сие откровение, вся группа 99-6 без исключения в срочном порядке полезла доставать неожиданно упавшие на пол ручки, и только наивному Радию Назибовичу было не до смеха; он весь проникся ораторским пафосом и искренними интонациями Левандовского, поверил в глубокие познания разошедшегося злодея и даже поторопился сравнить своего студента с Демосфеном. — А великий Никколо?.. Чу, что я слышу! — Левандовский презрительно скривил губы. — Кто посмел, у кого поднялся язык произнести фамилию Паганини под сводами храма Мудрости? Жалкий музыкант не достоин упоминания! Не достоин! Не достоин! — Пена вдохновения выступила на губах трибуна. — Как есть только один Николай — Николай Гоголь, так и есть только один Никколо — Никколо Макиавелли! Этот гений, этот, простите за выспренний слог, глашатай эпохи Возрождения, этот, не побоюсь этого слова, указующий перст Реформации бросил вызов гниению, открыв собой эпоху горения.
— Остановись, мгновение, — прошептал Радий Назибович.
— Но нет! Нет! Тысячу раз нет! Всуе об этом гиганте? Никогда! — исступлённо воскликнул Левандовский. — Через годы, через расстоянья устремимся на быстрокрылых грифонах в апельсиновую рощу Эллады. — Левандовский со значением закрыл глаза, и группа затаила дыхание в предчувствии увлекательного путешествия по Древней Греции. — О Боже, что я вижу! Кто там бродит в прохладной тени дерев?! Белоснежная туника! Сандалии! Это же он! Это же сам Сократ с учениками!.. Быстро все обострились вон на том бойком и любопытном мальчишке, который одной рукой ковыряет в носу, а другой чертит палочкой на земле. Неужели вы не узнали его?! Это же Платон! Он пока молод, как оливка, но уже дерзит, уже о чём-то там спорит с учителем, негодник. — Левандовский с укоризной погрозил пальцем в пустоту. — Не дерзи, Платоша, не зарывайся до времени. Сократ пока сто крат тебя умнее, почитай его как отца, а мы в знак благодарности тебя потом почитаем. — Лицо Левандовского изобразило крушение надежд. — Вот так всегда. Они удаляются, звуки их беседы относит к побережью ласковым ветром. Интересно, о чём же они говорят? — Левандовский не очень хорошо знал древнегреческую философию, но это его отнюдь не смущало. — Об истине, бесспорно! Об истине, и я вызову на дуэль всякого, кто будет утверждать обратное. Я знаю то, что ничего не знаю. Сколько людей — столько и мнений, а истина одна! Одна!
— Демосфен, — произнёс загипнотизированный Радий Назибович и прослезился.
— Демагог, — подумала группа 99-6 и прослезилась от смеха.
— Подробнее о Платоне, Алёша. Мы в восхищении, — зло произнёс Волоколамов.
Левандовский понял, что пора красиво перевести стрелки на Канта:
— О Платоне можно говорить бесконечно, но, к моему глубокому сожалению, наше время ограничено… Демокрит, Сен-Симон, Шопенгауэр, Монтескье, Фурье, Вольтер, Кант… Не стоит продолжать! Да-да — Кант! Как выстрел звучит фамилия! Как будто молнии прорезали тьму, как будто кто-то разорвал грубую телесную оболочку и вынул из неё трепещущее сердце мысли! Кант, Кант, Кант! Вы слышите?! Что в имени тебе моём?.. Мой храбрый Леонид, мой спартанский царь, я не могу говорить об этом человеке спокойно, меня охватывает священная дрожь, а философия требует сосредоточенности и спокойствия духа. Эти две добродетели есть у тебя, поэтому поднимись и скажи, друг.
— Выдающийся философ Кант, — поднялся было Волоколамов, чтобы уже наверняка размазать по стене Арамиса в хорошем смысле этого слова, но был прерван.
— Ребята, я тронут до глубины души, — сказал Радий Назибович. — Может быть, сейчас я слышал только то, что хотел слышать, но всё равно, всё равно. Спасибо. Я уезжаю в Соединённые Штаты Америки, ребята. Меня пригласили на работу в пенсильванский университет. О причине отъезда распространяться не буду, потому что вы всё равно не поймёте. Через меня прошли тысячи студентов, по-своему замечательных людей, и лишь в единицах я увидел то, что мне было нужно. — Голос преподавателя дрогнул. — С этой страной всё кончено, а в обречённом государстве я жить не собираюсь. Давайте зачётки и покиньте аудиторию. Не переживайте, у всех будет «отлично», а теперь уходите. Экзамена не будет.
Обрадованная группа сорвалась с места, чтобы за шесть секунд соорудить стопку из зачётных книжек и исчезнуть за дверью. К чести студентов надо сказать, что, жалея чувства преподавателя, они покинули аудиторию бесшумно.
Только ушли не все. Пять человек остались сидеть на своих местах. Бочкарёв достал чупа-чупс и поместил его за щекой; в аудитории зазвучали страстные причмокивания. Левандовский демонстративно начал напевать «Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут…». Молотобойцев достал из папки игральные карты, произвёл над ними шулерские махинации, подсел к Женечкину и предложил:
— Сыгранём, Мальчишка. В дурака.
— Давай не будем.
— А я сказал — будем. Я тебе даже поддамся, чтобы ты с полным основанием мог произнести: «Вася, в аудитории уже есть один дурак, которого нельзя оставлять в одиночестве. Так вот тебя, Васёк, я оставил в дураках ему за компанию. Ты остался, Васька. И в аудитории, и в дураках, что равносильно».
Радий Назибович сглотнул слюну и подумал: «Господи, неужели»?
В это время Волоколамов уже вскочил на стул и, холодно улыбнувшись, произнёс:
— Стих.
— Просим, просим, — зааплодировал Левандовский. — Жги, Лёня! Глаголом жги!
— Уже один раз жгли с тобой. И не глаголом, а глагол. Поэтому — степ. — Преподаватель и ребята, оставшиеся в аудитории, две минуты тупо наблюдали, как танцевал Волоколамов. — Ну, как?
— Сносная дробь, — вытащив чупа-чупс изо рта, заключил Бочкарёв и снова занял рот кругляшкой на палочке.
— Да, средненький степ, но ничего, с пивом покатит. Чечётка у тебя получилась бы лучше, — сказал Молотобойцев и, вскрыв козырь, обратился к Женечкину: «Опять крести, Мальчишка. Дураки, как говорится, на месте».
Фарс не мог продолжаться долго. Радий Назибович ничего не понял или будет правильно сказать, что наоборот слишком хорошо всё понял.
— Почему остались в аудитории или в дураках, что, по мнению одного из вас, равнозначно? — спросил преподаватель.
Студенты ощетинились, внутренне подобрались и пошло-поехало.
— Мне не нужна Ваша пятёрка, Радий Назибович. Ставьте мне неуд и можете ехать, куда угодно, а я остаюсь. Остаюсь и в аудитории, и в дураках, и в обречённой, как Вы сказали, стране. Остаюсь, потому что люблю Роди… — Левандовский замялся, потому что хотел сказать «Родину», но застеснялся, а ещё каким-то инстинктом почувствовал, что это слово слишком интимное, чтобы озвучить его при перебежчике, что он ещё много лет будет не достоин произнести его вслух, что при бросовом употреблении рукой подать до написания этого слова с маленькой буквы, что над ним, Левандовским, неизбежны насмешки, пока он своими делами не завоюет себе право говорить «об этом», что в такое время, когда многие вечные понятия обесценились, людей нельзя заставить полюбить Отечество просто так, а только через Человека Отечества, поэтому и решил остановиться на нейтральном понятии: «Пельмени! Да, потому что я люблю пельмени. Чё вылупились?.. Без комментариев!»
— А Вы, студент? — взволнованно спросил преподаватель у Волоколамова.
— Я терпеть не могу пельмени, но предпочитаю не любить их в том месте, где происходит лепка. Знаете, в последнее время они состоят из одного теста, а вот с мясной начинкой — напряг. Скажу вам по секрету, что и мясо-то не стопроцентное, свинину непременно с соей перемешают. В пользу сои, конечно, а не мяса; так себе вкус. Когда вырасту, стану лепщиком пельменей. — Взгляды Волоколамова и Левандовского пересеклись. — И не надо так на меня смотреть, Лёха. Не надо. Я же не врагом народа собираюсь стать, а безобидным лепщиком пельменей, которые ты так любишь. Труд — рутинный, но почётный. Простите, что мудрствую лукаво.
— Гнилой базар развели, — развалившись на стуле и скрестив руки на груди, пробасил Молотобойцев. — Пусть катится на все четыре стороны, никто не держит. Я остаюсь, потому что остаюсь, как Портос дрался, потому что дрался. Баба — с возу, кобыле — легче. Баню, солёные огурцы и Сан Сергеича Пушкина, чай, не заберёт с собой, поэтому — скатертью дорога! Пусть подавится своей пятёркой… Я всё сказал.
— Пельменям и гамбургерам предпочитаю сексуальные отечественные бублики. Они такие круглые, такие нежные и гладкие, что не передать. Их можно грызть, лизать, медленно погружать в горячее лоно чая, а также тыкать в дырку мизинчиком, — перегнав чупа-чупс из левой щеки в правую, с эротической интонацией сказал Бочкарёв и поднял руки вверх, как будто собрался сдаться в плен. — Всё! Не буду, не буду, не буду! Я имею ввиду совсем не то, совсем не то… Что имею, то и введу — вот что я имею… Всё! Не буду, не буду, не буду!..
— А зачем куда-то уезжать?! Это лишнее, это не надо! — перебив Бочкарёва, встрепенулся Мальчишка. — Мы уже в Америке! Она пробралась, она в нас! Она в нас хлынула и думала, что всё просчитала, а мы её по-своему переиначим и в лучшем виде в неё саму же и переправим! В лучшем виде назад вернём, какой она себя и забыла, какой и не знала!.. Не понимаете меня? Опять не понимаете?.. Давайте уже понимайте, а то я устал. Просто же всё! Здорово, что к нам все хлынули. Я не боюсь! За убытками прибыли пойдут — вот! Мы одновременно являемся и фильтрами, и накопителями! Чужой и даже чуждой энергии — вот вам! Универсальными!.. Вы же не из-за денег туда, Радий Назибович? Нет, нет, Вы туда за поддержкой и условиями. Зря, зря! Они Вас всем обеспечат, а главное отнимут. Вы здесь от боли своей устали, а там по мукам своим тосковать станете. Не по радостям, а по мукам своим!.. Кстати, а где шельма Магуров?
— Я здесь, — появился в дверях Яша. — Я ненадолго отлучился. Желудок подвело, бегал в столовку перехватить… Радий Назибович, Вы мне ещё не выставили оценку? — Студенты улыбнулись: Левандовский — ехидно, Волоколамов — грустно, Молотобойцев — презрительно, Женечкин — добродушно, Бочкарёв — глазами. — Тройка меня устроит. Как говорится, не нашим, не вашим.
Преподаватель был в ужасе и даже не имел сил скрыть это. Он стал во фронт и с достоинством поклонился ребятам со словами:
— Приветствую героев новейшего времени.
— О чём это Вы? — спросил Вовка.
— Поймёте в свой час, юноша. Почему вы не смеётесь надо моими словами и дурацким поклоном? Смейтесь же, мне будет легче. Смейтесь же, иначе я не выдержу, потому что, потому что…
— Не смейте продолжать! Ни слова больше! Я Вам запрещаю! — крикнул Мальчишка и одарил преподавателя таким взглядом, что у того всё похолодело внутри. — Пацаны, зачётки на стол. Все — на выход.
— Да-да, конечно. Вы правы, молодой человек. Простите, Вам ведь виднее. Пожалуйста, простите, — пробормотал в конец растерянный преподаватель.
Когда парни покинули аудиторию, Женечкин плотно прикрыл за ними дверь и упавшим голосом произнёс:
— Вы уверены?
— Да.
— Шансы избежать, уклониться, обойти, понаблюдать просто со стороны — есть?
— Никаких.
— А на благополучный исход?
— Самые призрачные. Один процент из ста.
— Скольких не досчитаемся на конце?.. Не лгать.
Радий Назибович отрицательно покачал головой.
— Понятно… Наша самая сильная сторона на вскидку.
— Непредсказуемость… Ни одному смертному не будет дано предугадать ваш следующий шаг.
— Не навредим?
— Только себе, кажется.
— Мне пора. Будем считать, что экзамен состоялся. Меченым выставьте по «четвёрке», остальным — «отлы», как обещали. Запишите наши фамилии: Магуров, Бочкарёв, Левандовский, Волоколамов, Молотобойцев и Женечкин.
— Но почему вам по «четвёрке»?
— Кому больше дано — с того больше спрашивается. Ещё вопросы?
— Мне уезжать?
— Нет. Когда всё начнётся, мы должны знать, что в городе есть хотя бы один человек, который будет понимать, что происходит. Вмешиваться в события Вам и людям, подобным Вам, запрещаю, иначе всё испортите. До свидания… И никому про нас ни слова.
Женечкин нашёл друзей на крыльце института.
— О чём базарили, Вовка? — спросил Магуров. — У меня нехорошее предчувствие.
— Сам не знаю. Он гнал, и я гнал. Мистика и гон, гон и мистика, а в результате у нас — по четвёрке.
— Вы с Арамисом друг друга стоите, ничего удивительного, — заметил Левандовский. — Только мне тоже как-то не по себе, да и Яшка тут ещё. Его редко чутьё подводит. — Алексей посмотрел на ребят и увидел, что они взволнованы, но ни за какие деньги не станут говорить о том, что их сейчас мучит, чтобы не накликать беду. — Проехали, пацаны. Кажется, несостоявшийся экзамен на самом деле чересчур состоялся. А теперь обо всём забыли.
— Забыли — так забыли, — сказал Волоколамов. — Подведём неутешительные итоги прошедшей сессии. Прорвались мы через неё чудом, а вон Артём с Мальчишкой — так те вообще с долгами. Подходы к учёбе надо менять, иначе отчислят.
Весь день после экзамена Радий Назибович был сам не свой. Вечером он сообщил некоторым коллегам по институту о своём открытии. Реакция преподавателей была однозначной:
— Как! Не может этого быть, ведь никаких предпосылок, ведь в своё время сами пытались, но не смогли. Потом хотели других воспитать, но всё тщетно. Тут какая-то ошибка, недоразумение.
— Не верю, коллега. Я внимательно наблюдала за первым курсом, со многими беседовала, прощупывала. У них каша в голове. Балласт. Ни ума, ни сердца!
— Самообман, Радий Назибович. Выпейте чайку и ложитесь-ка лучше спать. Утро вечера мудренее.
— Сколько, сколько?.. Шесть человек?.. Не один, не два и не пять что ли? Не великолепная семёрка, не святая троица, не двенадцать апостолов, не двадцать шесть бакинских комиссаров хотя бы, а заурядная шестёрка что ли?.. Почему не называете фамилий?.. Как нельзя?.. Кто запретил? Они запретили?.. Я смеюсь? Что Вы, что Вы. Смеюсь — это мягко сказано, меня сейчас просто в клочья разнесёт. При всём уважении, которое я к Вам питаю, Вы — сумасшедший… Они Вас уже строят, это уморительно… Да не горячитесь Вы. Что значит: имеют право?
— Ты себе надумал, дружище. Это всё нервное перенапряжение. Они над тобой посмеялись… Ах, это они сквозь слёзы смеялись! Как трогательно… Передаёшь их мне по наследству, значит… Ты, значит, их выявил, а я теперь работай. Ни тебе, Сергей Анатольевич, фамилий, а сам, мол, догадывайся во втором семестре, где — они, а где — не они. Спасибо, удружил.
Все телефонные разговоры Радий Назибович заканчивал одинаково:
— Вы есть неверующий Фома, Такой-то Такойтович. Мне Вас жаль. Я плююсь в трубку и прерываю с Вами дружбу. Потом опомнитесь, придёте ко мне с повинной, а я скажу Вам со своей гордой высоты: «Не знаю Вас, господин».
Напоследок Арамис решил позвонить ректору, Ларисе Петровне Орешкиной; о своём решении он не пожалел.
— Вы уверены, Радий Назибович?
— Говорю же Вам, что сегодня я их видел своими собственными глазами.
— Какие они из себя?.. Коммунисты есть?
— Право, не знаю.
— Подумайте, подумайте… Политические убеждения, моральные принципы…
— Ну, право, Вы ставите меня в тупик. Всякие есть. Мне пока не совсем понятно, что может связывать таких разных людей, но не вызывает сомнения, что они — друзья. Ребята, как мне кажется, идеально адаптированы под эпоху. Такие же, как все, и в то же время отличаются от своих сверстников. Все шесть — лидеры; если говорить образно, то одни — военного толка, другие — дипломатического. В общем, странный секстет. Думается, что для них не будет безвыходных ситуаций, потому что они хоть и разные, а играют в одной команде; когда один выстрелит и откровенно промажет, то другой в эту же, прямо в эту же самую секунду попадёт в яблочко. Странно и страшно — да?
Глава 8
Когда Арамис беседовал по телефону, в общежитии «Надежда» студенты праздновали окончание сессии. В комнату отдыха, которая занимала половину первого этажа, набилось человек пятьдесят полупьяных ребят. Студенты, разбившись на группы по 10-15 человек, травили свежие анекдоты, делились друг с другом последними новостями, обсуждали прошедшие экзамены и рассказывали смешные истории из студенческой жизни.
— …ей-богу, не лгу с этой проклятой Тамарой Павловной. Она ко мне подкатывает, а я ей: «Не смешиваю учёбу с личной жизнью». Вот так прямо и сказал, — уже успел наврать с три короба в одном из стихийно образованных кружков Бочкарёв. — Вот с места не сойти, если обманываю… Или вот ещё казус. Наш Арамис, Химический Элемент Назибович в свободное от работы время бутылки по мусорным бакам собирает. Своими глазами видел. — Увидев, что ему не верят, Артём ввёл подробности. — Я сам в шоке был. Думал, бомж какой-то, а присмотрелся — философ. Лицо опухшее, куртка на спине в двух местах прорвана, на ногах — стоптанные «аляски». Только на голове новая кожаная кепка на меху; знать, бережёт мозги-то от переохлаждения, боится застудить извилины, чтобы Аристотель в них ангиной не заболел. Вот так вот роется своей палочкой в поисках чебурашковой тары, а вечерком отмоется, надушится и новым рублём в аудиторию — шасть. — Насладившись гомерическим хохотом, Бочкарёв для пущей правдивости стал на сторону преподавателя. — Вот вы ржёте, а меж тем у человека, может, философия такая. Бомж — олицетворение свободы на земле. Никаких обязательств, думок о будущем, как у зверушек и птичек. Покушать нашёл — радость, в ментовку не попал — радость. Выпить удалось, найти, где переночевать — счастье. Счастье ведь не бывает маленьким или большим, не измеряется в тоннах или миллионах. Оно либо есть, либо его нет. Вся фишка в запросах. — Бочкарёв неожиданно для всех сник. — За скачущим воробышком полюби наблюдать, за работающим муравьём, и такие горизонты откроются, что и не передать словами. Вроде как досрочно в рай попадёшь.
Ещё перед одной группой студентов Женечкин показывал миниатюры. Ему ассистировал Магуров. Дамы были в восторге от пипеточной Моськи, лаявшей на слона. Парни хохотали над репризой «Серп и молот», потому что роль колхозницы с растрепавшимися косоньками — и где только был раздобыт парик — исполнял упитанный до кровомолочности Яша. Вовка, игравший рабочего, бил Якова Израилевича несуществующим молотом и приговаривал: «Жни, тётка, жни. Не выполняем план, Коба накажет». Когда внимание зрителей стало ослабевать, Женечкин отозвал Магурова в сторону, о чём-то быстро посовещался с другом и громко возвестил: «Миниатюра последняя. Ленин на броневике».
— Идите сюда!
— Давайте к нам!
— Зачем в сторону отошли?
— Ближе к публике надо! — посыпались возгласы.
На это Вовка голосом вождя мирового пролетариата резонно заметил:
— Товарищи, броневик революции не может передвигаться сам по себе! Его необходимо заправить! Генеральный спонсор заправки — немецкая разведка!.. На карачки, Яков Израилевич!
Выпивший Магуров, не соображаясь с приличиями, встал на четвереньки, обозначая бронированную машину. Владимир Ильич со всей силы зарядил Яше пинком под зад и взвизгнул:
— Горючее в баке! Трогай, политическая проститутка! Мы ещё покажем этой буржуазной дряни, где раки зимуют! Зачатый в моей голове декрет «О мире и земле» уходит в декрет, чтобы скоро родить в ночь не то сына, не то дочь, а Красный Октябрь!
— Больно же… Послабже не мог ударить? — пробубнил Яша.
— Бил по системе Станиславского, чтобы никто не усомнился в реальности происходящего.
Вовка уселся на броневик, запихал большой палец под жилетку, и машина, безбожно сигналя, с крейсерской скоростью устремилась к центру комнаты. Движение стального колосса революции с вождём наверху было замечено. Группы общавшихся между собой студентов стали распадаться. Разговоры стихли. Магуров и Женечкин не успели проехать ещё и половины пути, а их институтские товарищи в ожидании занимательной комедии уже расселись на зелёных креслах, стоявших по периметру помещения.
— Битый небитого везёт, — хихикнув, шепнула миловидная блондинка своей подруге Галочке. — Вот бы ему на лацкан мою брошь прицепить. Было бы потрясно: Ленин с брошью… Какой он всё-таки симпатичный.
— Который? — спросила Галочка.
— Оба, но особенно тот, который наверху, — часто заморгав глазками, ответила блондинка. — Не замечаешь, что венок ему бы тоже пошёл.
— Терновый, — не удержался от замечания Молотобойцев, сидевший справа от подружек, а про себя подумал: «Чую, неспроста ты всё это затеял, Мальчишка-Кибальчишка. Подписать нас под какой-то фигнёй хочешь, столкнуть в пропасть, из которой потом не выбраться». — Он стал озираться в поисках остальных друзей.
Первым Молотобойцев увидел Волоколамова. Леонид был бледный как мел. Двадцать минут назад он по всем пунктам разбил двух третьекурсников, утверждавших, что западная демократия нам не подходит. Волоколамов с убийственной логикой доказал обратное, но удовлетворения от победы не чувствовал. Несмотря на то, что ребята соглашались с его выводами, в конце спора они всё-таки ядовито бросили ему в лицо: «Всё так, да не так». Волоколамов с теплом смотрел на Вовку. Этот человек, которому удалось оседлать даже хитрого Яшу, был ему ближе всех друзей. Вовка, Вовка, и Леониду вспомнилось, как однажды на семинаре по «Истории экономических учений» он хвалил Адама Смита, на что Левандовский со злобой произнёс:
— Ты — западник, Лёня. Ты — опасный человек, ведь любишь не их джинсы и машины, а идеологию. Лучше эмигрируй. По-хорошему прошу.
Тогда Вовка, который, как всем казалось, всю пару витал в кучевых облаках, рисуя на листке перистые, вступился:
— Лёха, ты гонишь. Лёнька — свой! Он же среди наших полей и церквей вырос! Пусть и в городе, но поля и церкви рядом были. Ой-ой-ой, сейчас ведь опять не поймёте меня, опять станете говорить, что я чепуху понёс. Как же мучительно тяжело с вами. — Вовка закрыл лицо руками, отклонился назад и быстро-быстро замотал головой, как это делают дети, когда их что-то сильно напугает. — Лёха, ну как же, ну за что же ты постоянно Лёньку травишь. Ведь он от чистого сердца об Адаме Смите, ведь ему же никто не заплатит за то, что он о шотландском экономисте вот так вот. Просто Лёнька наши подходы справедливо и несправедливо ругает, западные взгляды — справедливо и несправедливо возвышает… Ты вот, Лёха, Россию хвалишь, Запад же категорически отвергаешь, а так нельзя, так до национализма скатишься. Ты вообще в наше время тип редкий. Ты — настоящий славянофил, потому что художественную литературу, православие и нашу самобытную историю любишь и знаешь. Сейчас малограмотных и необразованных фашистов — пруд пруди, а славянофилов почти нет. Когда от других лучшее брать научимся, первую половинку себя найдём. Только даже с передовыми западными принципами избирательно надо; ты здесь Лёньке подмогой должен стать. Сверяясь с многовековой историей, укладом и традициями, перепроверять то, что он безоглядно брать начнёт… И самим отдавать. Это обязательно, что самим тоже. Вот она твоя роль, Лёха. Тебе проще, чем Лёньке, потому что отдавать у нас в крови; и ты прекрасно знаешь, чем мы можем поделиться. Отдавать, Лёха, если за особый русский путь выступаешь. Так вторую половинку себя найдём. Лёнька берёт лучшее, ты отдаёшь лучшее; Лёнька берёт у Европы и Америки мудрость холодного западного ума, ты отдаёшь Европе и Америке мудрость горячего русского сердца. Так в полном объёме Путь получится. — Вовка вскочил со стула. — Вы же одного поля ягоды, только Лёнька — кислица или там брусника, а ты, Лёха, — приторная малина. Варенье бы из вас обоих сварить. Кисло-сладкое с горчинкой, чтобы зимой лечиться, чтобы вкусно и полезно было. Сейчас ведь зима, люди болеют, а вы, — Вовка махнул рукой, — вы в одну банку лезть не хотите… Ну вас, только в охотку и хавать. Поймите, что нам сейчас все нужны, кроме равнодушных и сволочей. Если вы будете с Лёнькой по раздельности, то оба — враги России.
Никто тогда не понял Женечкина…
Мальчишка благополучно доехал до центра комнаты и скомандовал:
— Тпру-у-у, родной! Речь толкать буду.
Студенты покатывались со смеху. Пошли выкрики:
— Бомби, Вован!
— Яшку не раздави!
— Флаг ему в руки!.. Нет — я реально! Вон — в углу с совковских времён стоит!
— Давай, Володя! Имя у тебя подходящее! Тот — Ленин! Ты — Женин!.. Даже Женечкин!
— Люда — молодец! Он уже с флагом! Реквизит, блин!
— Флаг — красный, а сам — белый! Ха-ха! Чё бледный такой? Взбледнулось?
— Вся власть — Советам!
— Долой Советы!.. Царя!
— Бориску на царство?! Повинен смерти! За смуту — на кол!
Подняв руку, Мальчишка призвал всех к тишине. У него было трагическое выражение лица, потому что актёр комедийного жанра не может позволить себе даже улыбку, если она, конечно, не предполагается ролью. Роль Владимира Ильича Ленина в Отечественной истории улыбок не предполагала, и лицедею Вовке это было известно.
— Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты, матросы и студенты! — обратился Женечкин к присутствующим, и голос его дрогнул. — Россия во льду! Нет, не в огне, а именно во льду! Ледниковый период, товарищи! Часть людей — заморожена, другая часть — отморожена! — Следующие пять предложений потонули в хохоте. — …ётесь? А я плакать хочу! Не за горами то время, когда на контакт с нами выйдут внеземные цивилизации, а мы, мы… Как мы их примем? Я очень волнуюсь, потому что не знаю «как». Что мы им покажем?.. Только бы не боеголовки! Вот только ядерное оружие им предъявим, и они улетят! Ключ на старт — и в космос открытый сразу! — Мальчишка замолчал, чтобы сделать для себя какие-то выводы. — Точно, точно! Быстрей сказать, а то эта мысль выветрится или заслонится более обдуманной, но менее верной. Им только нравственность наша нужна — вот! Чтоб как братья были! Тогда примут нас в Содружество Вселенной и помогут, продвинут нас и в технике, и во всём, во всём продвинут!..
Левандовский и Молотобойцев подсели к Волоколамову.
— Смеются, — сказал Волоколамов.
— Хохочут, — произнёс Левандовский.
— Как кони ржут, — заключил Молотобойцев.
— …Лукас со своими «Звёздными войнами» всё наврал! — не унимался Мальчишка. — Он Космос оболгал, чтобы зрителю угодить. Угодить-то — угодил, да ведь только одним землянам, требующим хлеба и зрелищ! Я с юпитерцем во сне говорил, так он мне: «Вовка, мы не ведём войн. Последний из нас живёт по законам, которые у вас игнорируют и первые».
— Перед свиньями бисер мечет, — сказал Молотобойцев.
— Это конец, — произнёс Волоколамов.
— Это начало, — заключил Левандовский.
— …скованные льдом сердца будет растапливать морозная Россия! — гремел Мальчишка. — У неё неоспоримый опыт в работе с холодом и льдом! — В комнате беснование. — Смейтесь, будущие рядовые и генералы Чёрных дыр, дипломаты Марса, первопроходцы Млечного Пути, колонизаторы Плутона и объединители Земли! Гагарину и не снились возможности, которые откроются вам и вашим потомкам! То поймите, что по вашим делам и поступкам будет складываться образ землянина на тысячелетия вперёд!
— Вы прекрасно понимаете, что происходит, — сказал Молотобойцев. — Это судьба… Назад пути нет.
— Пути назад нет, — согласился Левандовский.
— Нет назад пути, — не отличился оригинальностью Волоколамов. — А теперь кое-что попробуем. Идейка одна есть… Я сейчас всё усугублю. Поближе к реалиям усугублю. Подальше от космических далей, поближе к реалиям. — Леонид облизнул пересохшие губы и сглотнул слюну. — Короче, слушайте меня. Сейчас я вызову рвоту, чтобы студентам желудок промыть. Поставлю прививку. Короче, в малых дозах болезнь привью, чтобы начал вырабатываться иммунитет. Ничему не удивляйтесь, вкупайтесь в тему по ходу дела. Лёха, сначала дай мне слово не вмешиваться и быть на моей стороне, что бы я там ни говорил. — Левандовский утвердительно кивнул. — А ты, Вася, готовься к бою. Посмотрим, всё ли так плохо. Мальчишкой и Яшей придётся пожертвовать. Подмигнёте Бочкарёву, как начну, чтобы по курсу был.
— Всё сделаем, как сказал. Вперёд! — бросил Молотобойцев.
Волоколамов вплотную подошёл к Женечкину и начал громко аплодировать. Студенты притихли, потому что лицо Леонида не выражало ничего хорошего. После непродолжительных оваций Волоколамов оставил Мальчишку в покое, встал на колени и начал дёргать «броневик» за нос. Яша сморщился от неприятных ощущений и завалился на бок, умудрившись при этом подмять под себя Вовку.
— Что смотрите? — спросил Волоколамов, не дав актёрам опомниться после падения. — Клоуны! Шуты гороховые! Мигом поднялись и освободили мне место.
«Броневик» быстро пришёл в себя:
— Офигел что ли?
— Рот закрой, — отрезал Волоколамов.
— Лёнька, что с тобой? — спросил Женечкин.
— Заткнись и ты. Россию продавать буду.
— Не надо! Это не надо! Не смей!.. Мы с Яшкой лучше мушкетёров изобразим. Тебя не берём. — Вовка стал оглядываться по сторонам в поисках Левандовского, Молотобойцева и Бочкарёва. — Лёха, где ты тут? Будешь Атосом?.. Артём, как насчёт Арамиса? Или хоть Вася!
— Атос убит на дуэли! — откликнулся Левандовский.
— Арамис канул под Ла-Рошелью! — крикнул Бочкарёв.
— И если Портос на пару с гасконцем в ужасе не рассосутся со сцены, то их постигнет та же участь! — пробасил Молотобойцев.
Волоколамов был удовлетворён. На его лице вспыхнул румянец, серые глаза засветились. Он попросил, чтобы принесли стол, красную скатерть и молоток, сказав студентам, что игра, в которой он призывает всех принять участие, будет называться «Аукцион. И смех, и грех».
— Тихо всем! Тишина! — крикнул Волоколамов. — Итак, приступим. Первый и последний лот на сегодня — Россия. Первоначальная цена — сто рублей, больше она не стоит. Выкрикиваем на понижение. Понижая, не зарываемся. Рубль скинули — и довольно. Обоснование обязательно. Для особо одарённых напомню, что Россия или Российская Федерация — это такая холодная страна, в которой мы живём, то есть не живём, а зябнем и прозябаем. Площадь — семнадцать миллионов донельзя запущенных квадратных километров. Население — около ста пятидесяти миллионов человеко-рабов. Столица… теоретически есть, но практически — отсутствует. Основные источники дохода: вонючий газ, чёрная жидкость и два твёрдых тела, которыми успешно топят не только печки, но и экономику, потому что в парадоксальной северной стране, которая выставляется на торги, экономику можно легко утопить даже в твёрдых телах вопреки законам физики. Государственный язык — матерный с вкраплениями русского. В общем, тон задан… Поехали!
— Тон задан, — прозвучала реплика Бочкарёва. — Задан — от слова зад! Дерьмо — страна! Девяносто девять рублей!
— Завуалировано, но принимается, — сказал Волоколамов и стукнул молотком по столу. — Активней, студенчество! Активней, бурсаки! Девяносто девять рублей — раз, девяносто девять рублей — два…
Так Россия в очередной раз пошла с молотка. Не пошла — полетела; за десять минут цена на шестую часть суши была сбита до семидесяти рублей. Радовало одно: если в 90-ых продажа страны осуществлялась без каких бы то ни было правил и закулисно, то в общежитии «Надежда» студенты придерживались строгого регламента торгов, определённого Волоколамовым, и хищного желания заполучить государство по дешёвке от народа не скрывали. У большинства ребят было приподнятое настроение (коктейль из возбуждения и весёлого озлобления после возлияний в ознаменование окончания сессии). Языки развязывались. Каждому хотелось, а главное имелось что сказать при опускании цены и России. Обстановка накалялась. Волоколамов ни на секунду не забывал о том, что перед началом торгов мат был возведён в ранг государственного языка, и горячо приветствовал нецензурную брань. Правда, к чести Леонида надо сказать, что авторов примитивно-пошлых реплик он безжалостно выключал из игры и апелляций не принимал; мат должен был не резать, а ласкать его чувствительное ухо.
Магуров и Женечкин с тоской смотрели на происходящее и непрестанно повторяли слово «измена».
Ваш скромный слуга, студент группы 99-2, присутствовавший в тот вечер на аукционе, со свойственным ему в студенческие годы легкомыслием высмеивал происходящее. Он тогда и не подозревал о том, что однажды возьмётся за перо и будет мучиться из-за того, что не может в полной мере передать обстановку, царившую в комнате. Поделом графоману. Пусть страдает, ведь есть за что, потому что он… Вам не кажется, что мы отвлеклись от нашего повествования? Поверьте на слово, что горе-романист не стоит того, чтобы долго на нём задерживаться.
Лучше поговорим о девчонках. Они-то как раз к немалой радости автора и огорчению Волоколамова площадные выражения в ход не пускали, но, правда, только потому, что участия в торгах не принимали. А вот если бы на аукцион выставлялся Генка Прокудин, — изменивший не какой-то там незнакомой и малоинтересной стране, а реальной и до боли родной Вальке Карамашевой из шестой группы, — то со всей ответственностью можно сказать, что мы бы ещё и не такое услышали. В общем, представительницы прекрасного пола воротили свои прелестные носики от презанимательных торгов; зато теперь, спустя годы, автор даже при всём желании не имеет права обвинить их в разбазаривании государства, которым с воодушевлением занималась сильная половина. Да, порой женская пассивность бывает лучше мужской активности.
Когда цена России понизилась до семидесяти рублей, Волоколамов пришёл в бешенство, так как увидел, что ещё никто не затронул главные государственные недостатки. Теперь Леонида устроили бы только драка.
— Что ты орёшь?! — напал Волоколамов на лопоухого парня. — Сам-то понял?! Прочисти локаторы и слушай сюда! Если один мент тебя на дороге обул, так ты думаешь, что я дам тебе право с целой страны цену сбивать?! Чё у нас, по-твоему, все менты такие?! Облом тебе, а не шестьдесят девять рублей за лот № 1! И всех предупреждаю, что свои эгоистические претензии оставляйте при себе, а то так и в минус можно уйти.
— Оборзел, оборзел, — загудел народ то ли в адрес Волоколамова, то ли в сторону ушастого парня.
— Олигархов, как собак нерезаных! Доволен?! Шестьдесят восемь рублей! — выкрикнул парень по прозвищу Шнырь.
— Не принимается! Как собак — это нас, а их — горстка, с гулькин хрен — понял?! — парировал Волоколамов. — Олигархи — это не проблема! Проблема — их сверхдоходы! Всех убить, всё отнять — это не по мне! Новое поколение политиков оставит им два-три процента от совокупной прибыли — и баста! Это во много раз больше, чем просто хлеб с маслом, так что все останутся довольны!.. Слабо работаем, слабо! Пятиминутный перерыв! После возобновления торгов мат использовать запрещается!
Смех стал переходить в глухой ропот. Запахло жареным. У многих глаза налились кровью.
Молотобойцев сжал кулаки, потому что почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля.
Магуров и Женечкин демонстративно покинули торги.
Бочкарёв достал из-за уха побывавшую в употреблении жвачку, засунул её в рот и стал надувать и лопать пузыри. В его голове вновь всплыла гениальная, как ему казалось, фраза «Стихотворный яд, отравиться наизусть», с которой он пробудился, счастливо прожил день и намеревался заснуть.
Левандовский не переставал завидовать Волоколамову: «Мою роль взял, Лёня. В моём стиле работаешь. Я бы, конечно, играл по совсем другому сценарию, но теперь уже поздно. Ты — на трибуне, я — в народе. Доигрывай, раз взял с меня слово. Будь всё проклято. Перегораю».
Волоколамов вспотел. Он скинул пиджак, в два приёма избавился от серого галстука, глотнул воды из графина и расстегнул две верхние пуговицы рубашки, словно хотел сказать: «Стреляйте! Моя грудь открыта для пуль».
Частичное обнажение вырвало у девчонок томные вздохи.
Стриптиз возбудил и парней, но в ином роде; они лихорадочно взводили курки мысли, чтобы по команде открыть беспорядочный словесный огонь. Кое-кому по причине отсутствия мозгов или перебора со спиртным открывать стрельбу было нечем; такие готовились к рукопашной.
Волоколамов хватил молотком по столу и возвестил:
— Продолжим торги! Мы остановились на цене семьдесят рублей за страну. Итак, семьдесят — раз, семьдесят — два, семьдесят…
Тридцать кольтов выпалили разом, чтобы превратить грудь Леонида в дуршлаг и не дать ему произнести преждевременное: «Три! Продано!». Цена дрогнула, но устояла, потому что из-за какофонии Волоколамов не смог определить, кто в него попал, а кто промахнулся. Странно, что человек, который ещё пятнадцать минут назад был готов сбагрить страну по дешёвке, теперь уцепился за семьдесят рублей и, похоже, намеревался оборонять эту цифру до последней возможности. Когда дым от последнего залпа рассеялся, и тишина практически восстановилась, Волоколамов сгрёб со стола украшенную бахромой красную скатерть и накинул её себе на плечи, не забыв, однако, предварительно выхлопнуть из неё пыль. Он стал похож на спартанского царя Леонида, ставшего у Фермопил на защиту раздираемой усобицами Греции. «Семьдесят рублей или смерть», — читалось в глазах Волоколамова.
Смех выветрился из комнаты. Разгорячённые студенты вскочили с насиженных мест и взяли Волоколамова в кольцо, словно какого-нибудь негодяя Паулюса. Попав в окружении, «спартанец» приободрился, так как терять было уже нечего. О почётной сдаче на милость покупателей не могло быть и речи; «Варяг» открыл кингстоны под названием рот и бросил:
— К порядку!.. Выкрикиваем по очереди.
И всё смешалось. За частотой посыпавшихся горохом реплик автор, к своему стыду, не запомнил, кому принадлежит та или иная фраза (исключая ответы Волоколамова), поэтому ему только и остаётся, что свалить всё в кучу.
— Нищие кругом! Бомжи! Шестьдесят девять рублей!
— Не принимается! Ты сам лично хоть одному нищему подал?!
— …хватизацией!
— Шестьдесят восемь! Беспредел чиновников!
— Ты же их сам взятками плодишь! Семьдесят — раз!
— Дороги разбиты!
— Зато дураки в целости! Это тебе не Европа! Перепад температур на дорожном покрытии! Плюс тридцать — летом, минус тридцать — зимой! Семьдесят — два!
— У стариков пенсия какая! Шестьдесят девять!
— Шестьдесят восемь! Скатываемся к тоталитаризму!
— Бога забыли! Шестьдесят семь!
— Насчёт пенсий! Старикам собственные дети должны помогать, а ты на государство бочку катишь, спишь и видишь, как родителей в дом престарелых сплавить! Борцу за демократию! Не надо засорять бумажками и без того грязные улицы! Кидай их в урну для голосования, и тоталитаризма не станет! Кто там говорил про всеми забытого Бога?! Ты-то, как вижу, помнишь! Значит, не всеми! Семьдесят раз!
— В армии — развал! Дедовщина! Шестьде…
— Сходи отслужи сначала — раз! Мы тут водку жрём, а они сейчас в караулах мёрзнут, тебя, между прочим, охраняют — два! Семьдесят рублей…
— Три! Ори: «Три! Продано!». Я — матрос! Два года на Северном флоте! Кличка — Хохол! Второй курс! За армейку — спасибо! А этому я щас хлеборезку поломаю!
— Себе поломай! Отвечаешь, что за всю службу ни одного «духа» не тронул? Семьдесят — раз!..
— Алкоголизм! Наркомания! Проституция! Бандитизм! Тунеядство! Холуйство!.. Шестьдесят девять!
— «А» — алкоголизм! «Н» — наркомания! «П» — проституция! «Б» — бандитизм! «Т» — Тунеядство! «Х» — холуйство! А.. Не… Пошёл… Бы… Ты… на… Х..й!.. Семьдесят — раз!
Кольцо из студентов с заключённым в нём Волоколамовым сжалось до опасных пределов.
— Сволочь!
— На себя посмотри, шкура!
— Да я не тебе! Я вон тому!
— А я как раз тебе!
— Наших бьют!
— Остыньте! Держитесь в рамках! Оттащите этих! Быстрее, а то вахтёрша ментов вызовет!
— Убери руки! Кто дал ему право Россией распоряжаться?!
— Хочет и продаёт! Гражданские свободы, — понял?! Свобода слова! Тронешь его — зарою!
— А мы — тебя!
— А мы — вас!
Вокруг стола завязалась греко-римская борьба. Все против всех.
— Семьдесят рублей — два! Иссякли?! Вы — не студенты! Вы — ПТУшники! — крикнул Волоколамов, смещённый вместе со столом на три метра вправо.
— А я — ПТУшник. И горжусь этим. И на станке детали вытачивал. И любил свою работу. Меня девчонка бросила, потому что зарабатывал мало. Поэтому станок на экономический факультет променял. Что ты можешь знать о рабочих, овца тупорылая, — прорвавшись через толпу студентов, прохрипел в лицо Леониду третьекурсник Егор Кузнецов и, сплюнув, ударил «спартанца» в правый глаз.
Волоколамов растянулся на полу, но молоток из рук не выпустил. Молотобойцев бросился к другу на выручку.
— Стоять, Васька! Я заслуженно получил! — крикнул Леонид и обратился к обидчику: «В друзья тебе не набиваюсь, пролетарий. Пошёл ты. Просто приятно жить рядом с тобой. Параллельно тебе. Разрешаю надругаться над ценой. Даёшь обвал!».
— Тридцать! — выкрикнул бывший ПТУшник.
— Хрен тебе, а не тридцать! — бросил Волоколамов, рывком поднялся на ноги и хлёстким ударом разбил обидчику нос. — Квиты… Это тебе за то, что ты за тридцать серебряников страну хотел купить. Ты же не сказал «рублей». Ты сказал «тридцать», и я домыслил. Не наша это валюта, несвойственна она нам, не ходит она у нас в обращении. — Одобрительный гул. — Не быть тебе экономистом, кефарь. Возвращайся-ка лучше к станку. Каждому — своё! Я тебе сейчас вполне серьёзно говорю, нисколько не юродствую. Там ты сейчас нужнее, только там гордиться тобой буду… Семьдесят отечественных и хоть как-то подкреплённых золотом рублей — раз! Семьдесят непредсказуемых, но до боли родных рублей — два!..
И снова всё смешалось:
— Москва на доллар подсела! Наркоманка! Да что там — молится на бакс! Мамоне поклоняется! Сорок пять рублей!
— И что с того, что поклоняется! Свобода вероисповедания!
— Не Москву покупаем — Россию! Столица отдельным лотом идёт!
— Сепаратист!
— От слепошарого придурка слышу!
— Из-за какого-то дерьма цапаетесь!
— Так дерьмо разложилось и вонять уже начало — вот и ссорятся! По всей территории зловоние поползло! В Сибири, на Дальнем Востоке — везде смрадный дух!
— А русским духом и не пахнет! Только в сказках и остался!
— Не хочешь — не дыши!
— Пусть разлагается! Как разложится — удобрением станет! Москва — удобрение! Недурно звучит — правда?!
— Принимается! — воскликнул Волоколамов. — Сорок пять рублей — раз! Баба ягодка опять — два!
В это время дверь комнаты распахнулась, и Магуров с Женечкиным внесли внутрь накрытый белой скатертью стол. Яша осведомился у девушек, не продали ли ещё Россию и, узнав, что всё ещё не продали, подмигнул Мальчишке, что, мол, действуй.
Открылись альтернативные торги.
— Ни за какие деньги не продаётся государство, которое, которое, которое и ещё много раз которое, — заторопился Вовка. — Первый и последний лот на сегодня — Россия! Первоначальная цена отсутствует! Выкрикиваем даже не на повышение! Нет, не на повышение, а просто от сердца, которое и подскажет обоснование! Напомню, что Россия или Российская Федерация — это такое место на Земле, куда определил всех нас Бог в двадцатом веке, оснастив при этом великой историей, чтобы нам уже было на что опираться! Площадь — самая большая в Мире, чтобы именно мы и никто кроме нас распоряжались на огромных пространствах!.. Население у нас относительно небольшое, но зато какие возможности выпадают на каждого отдельного человека. Основные источники дохода: газ, нефть, древесина и каменный уголь. Стыд и срам, конечно, что всё так запущено, но зато стартовый капитал уже есть и работает на нас, пока учимся. У нас всего этого так много, так много всякого сырья, что даже при всём желании страшные люди не смогут разворовать природные богатства в ближайшие годы. Кишка у них тонка, а там и мы на ноги встанем! Бесценная она у нас! Бесценная! — Мальчишка стал хватать воздух ртом, он задыхался, но на два слова его всё-таки хватило: «Родина, ребята!».
— Уродина! — мгновенно подыскал однокоренное слово Левандовский и встал рядом с Волоколамовым. — Мне хочется примкнуть к тебе, Мальчишка, но я дал слово Лёньке. Прости!.. Надеюсь, все в курсе, что брокеров, играющих на понижение, называют «медведями». Так вот с этой секунды я в команде «красных медведей» Волоколамова.
— А ты, случаем, не забыл, Лёха, что кроме «медведей» на фондовых биржах существуют ещё и «быки», играющие на повышение?! В общем, я с «белыми быками» Женечкина, — сказал Бочкарёв и занял место позади Вовки.
— Ломаного гроша за Россию не дам! — рубанул Молотобойцев. — Нет, пусть мне ещё доплатят за то, что я здесь живу! К чёрту «быков» на пару с Вовкой, Яхой и Артёмом! Да здравствуют «медведи»! «Красные медведи» Волоколамова!
В комнате началось деление на «красных медведей» и «белых быков». Студенты совещались между собой к кому примкнуть.
И снова реплики в комнате:
— «Быки» почти не отличаются от «медведей», но Бочкарёв мне бабки должен, поэтому я за «медведей».
— Так-то я с тем желторотым «лимоном» больше согласен… Ну тот, который цену ронял, а вот любимое животное — бык.
— Обоим, блин, симпатизирую. Надо монетку бросать.
— Э-э-э, смотри, Кислота. У «медведей» что-то народу много. Несправедливо. Давай к «быкам».
— Зырь, Лысый. Кислота с Костомаровым к «быкам» попёрли. Нам, стало быть, в другую сторону.
— Сашенька, если к этому козлу Волоколамову подойдёшь, больше не дам себя поцеловать. Я приказываю тебе идти к Женечкину. И не вздумай меня к нему ревновать… Что??? Совсем не ревнуешь? Совсем, совсем? Значит, Маринку любишь. Дурак, она же со всеми спит!!! То-то в последнее время избегаешь встреч со мной. Не отпирайся, я всё поняла. В наказание иди теперь к «медведям»… А ну стой! Аж побежал! Дружков своих, с которыми тёлок по городу цепляете, там увидел — да?
— Однозначно — «быки». Мы принимаем бой.
— «Медведи» — сто пудов. Славной будет охота.
— Красавицы, кому рожу начистить?.. Всё понял. Бочкарёву из Виларибы — так Бочкарёву из Виларибы. Будьте спокойны.
— Не партия делает человека, а человек — партию. Я за Вовку. Пронзительный до наглости, чертяка.
— Вообще-то быки не бывают белыми, а медведи — красным, скорее — наоборот. Что не знаете, что Женечкин и Волоколамов с одной компании? Это же провокация. Их можно легко поменять местами, и ничего не изменится. Они специально всё это затеяли.
— От перестановки мест слагаемыми сумма не меняется, но, чёрт возьми, давно уже не участвовал в массовой драке. Как подерёмся, так и помиримся.
— Буду рад получить по соплям в честной борьбе. Пацаны все реальные. Нож в спину никто не засадит.
Не будем продолжать. «Быки» хотели сварить яйцо вкрутую, «медведи» — всмятку, остальные предпочитали или омлет, или яичницу-глазунью, или Бог ещё знает что; равнодушных к судьбе белка и желтка под конец торгов замечено не было.
Пока студенты определялись, цыплёнок уже стучал по скорлупе и просился на белый свет…
Ребята вывалили на улицу и устроили драку «стенка на стенку». Автору тогда здорово попало. Он по причине алкогольного опьянения уже не помнит, за кого сражался, но ему это и неважно, потому что, когда он с выбитой челюстью отполз в сторону и услышал разговор двух катавшихся по снегу парней, то понял, что сделал правильный выбор.
— Это тебе за Россию, — врезал первый второму.
— И тебе — за Россию, — отплатил второй первому.
Меж тем страна с замиранием сердца следила за дерущейся молодой порослью и плакала от счастья. Она вспоминала конец семнадцатого века и юного Петра с товарищами. Да, тогда всё начиналось со штурмов снежных крепостей потешными полками, постройки игрушечных ботов и пушек, которые стреляли репой. Но пройдёт совсем немного времени, и потешные «преображенцы», «семёновцы» и «измайловцы» станут ядром регулярной армии, ботики вырастут в корабли военно-морского и торгового флота, пушки ударят настоящими ядрами под Полтавой.
— Мальчишки, мальчишки, — думала Россия. — Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Никто не ждёт вашего прихода. Тем лучше. Я вас укрою, спрячу до времени, усыплю бдительность тех, кто так боится вашего появления. Никто не узнает о вас. Обещаю. Даже ваших славных старших товарищей не поставлю в известность, лишу их надежды на достойную смену, разочарую в новом поколении, чтобы не ослабляли давления и тем самым не привлекли внимания к вам со стороны моих врагов, чтобы ожесточённо дрались в окружении и стягивали на себя всю армию недругов, пока вы твёрдо не встанете на ноги. Мне жаль ваших предшественников, но вас, милые мои мальчики, уже не имею права жалеть, потому что ваше будущее поле битвы — не я, а планета Земля. Меня одну уже не имеет смысла спасать. Только вместе с другими, лишь вместе с другими, и вы должны это понять перед тем, как плечом к плечу встанете на Куликовом поле против чёрных орд, не имеющих ни национальности, ни вероисповедания, ни моральных принципов. Битва будет длиться на всех морях и континентах несколько десятилетий, то затихая, то разгораясь с новой силой. Ваш неприятель будет бесстрашен в своём ослеплении властью, деньгами и религиозным фанатизмом… Спустя годы вы поймёте, почему в конце 80-ых я открыла «железный занавес». В этом был промысел Божий, которому я подчинилась. Тогда моему народу пришло время вкусить от Древа Познания Запада и Востока. Вы должны были пропустить через себя все цивилизации, чтобы эффективно строить и бороться в условиях грядущей невидимой войны… Да, на изломе эпох мы понесли огромные потери… Но горе тому из вас, кто осудит своего старшего брата, погибшего от передозировки, соседа по лестничной клетке, спившегося от невозможности справиться с новыми условиями, парнишку со двора, убитого в бандитской разборке. В начале переходного периода не было противоядий, а отделить добро от зла могли лишь единицы. Миллионы легли в братскую могилу рядовыми, чтобы вы на их горьком опыте доросли до маршалов и возглавили передовые армии на фронтах политики, экономики, науки, культуры и искусства… Ваше время близко.
Глава 9
В обед следующего дня шесть человек, украшенных синяками, стояли на ковре у ректора, опустив глаза долу. Фактически зачинщиками драки являлись только Волоколамов и Женечкин, но как-то уж у нас с давних пор повелось, что стукачок, в обязательном порядке присутствующий на любой более или менее взрывоопасной сходке, считает своим долгом перевыполнить план по закладыванию людей на двести процентов. По старой традиции нынешние Павлики Морозовы продолжают сдавать не только реальных возмутителей сложившегося миропорядка, но и потенциальных претендентов на нарушение, потому что сказанное слово — серебряное, а несказанное — золотое.
Лариса Петровна Орешкина не спешила начать разговор. Она тридцать минут занималась изучением бумаг, лишь изредка бросая недовольные взгляды на провинившихся парней. Друзьям уже стало казаться, что всё, может быть, ещё обойдётся, как грянул гром:
— Ничего не чувствуете, молодые люди?.. Я о запахе. Интересно, чем так неприятно может пахнуть? И ведь регулярно проветриваю помещение, а этот запах появляется вновь… Не знаете, чем так дурно пахнет?
Парни старательно потянули носами в надежде обнаружить источник зловония, но были вынуждены развести руками.
— Не напрягайтесь. Пахнет отчислением, — с убийственным равнодушием произнесла Лариса Петровна. — Я знаю этот запах, уже привыкла к нему.
— Это от Яши. Он вчера помыться забыл, — неудачно пошутил Бочкарёв.
— Боюсь, юноша, что Вас тоже чистым не назовёшь, — заметила Лариса Петровна. — Посмотрите на своё синюшное лицо. От Вас же просто смердит вчерашним побоищем.
В кабинете ректора зазвонил телефон; Орешкина отвлеклась от ребят. Магурову хватило сорока секунд, чтобы жестами объяснить друзьям, что дальнейшие переговоры проведёт он.
— Итак, кто из вас спровоцировал драку? — закончив телефонный разговор, спросила Лариса Петровна.
— Понимаете, — вкрадчиво начал Магуров, — тут такое дело, что это как бы была не совсем драка.
— Резня, — подсказала Лариса Петровна.
— Нет, ну что Вы, — мягко возразил Магуров и продолжил понижать статус вчерашнего происшествия. — Не резня и не драка. Может, стычка? Нет, даже и не стычка, а так — крохотное недоразумение. Я бы даже сказал — спортивное состязание. Удары ногами почти не использовались. Бокс — вот подходящее слово. Бокс с элементами вольной борьбы.
— Бог ты мой, как всё, оказывается, безобидно, а я-то думала. Настолько безобидно, что аж восемь человек в милицию забрали. Служители закона, конечно, в отличие от вас наплевали на правила бокса и употребили дубинки — да?
— Они-то?.. Они — да… Разве они могут знать, что бокс — это спорт настоящих джентльменов? — гордо встряхнув головой, не без обиды в голосе произнёс Магуров, выдержал театральную паузу и совершил экскурс в историю: «Английские короли не гнушались боксёрских перчаток, небезызвестный Шерлок Холмс считал своим долгом изредка поколачивать Ватсона».
— Что-то по вашим заплывшим физиономиям невидно, что вчера вы использовали боксёрские перчатки, подобно британским монархам, — заметила Лариса Петровна.
— Русский стиль, — беззаботно отмахнулся Магуров. — Такая разновидность, знаете ли. Радикальное ответвление от эталонной, привычной модели бокса. Не должны же мы слепо копировать англичан.
— Причина драки? — спросил ректор, заметно смягчившись.
— Банальная история… Самая банальная, — сказал Магуров. — Из-за девчонок… То есть из-за одной девчонки.
— Не одной, а одинокой, — вмешался Левандовский.
— Так женись. Тебе и такая сойдёт, — бросил Волоколамов.
Чтобы угодить всем, Магуров начал лавировать:
— Понимаете, Лариса Петровна, у особы, о которой идёт речь, нет возраста, потому что её лицо скрывает вуаль. Немного странно для нашего времени, но факт. Для одних она — смазливая девчонка-несмышлёныш, для других — мудрая женщина в расцвете лет, для третьих — беззубая карга, впавшая в маразм. Одни говорили, что никто не сравнится с ней по красоте, другие утверждали, что она — само безобразие. В общем, спор, Лариса Петровна, между нами разгорелся нешуточный.
— Зато никто не остался равнодушным к упомянутой даме. Если говорить образно, одни хотели видеть её раздетой, другие — одетой, — вставил своё слово Бочкарёв.
— Что-то вы меня путаете… Вы можете внятно ответить, где она живёт, работает, с кем общается, как её зовут, наконец?
— Её адрес — не дом и не улица, — загадочно произнёс Магуров. — Несмотря на то, что мы имеем дело с видной женщиной, но работает она, по общему мнению, прислугой в чужом доме, потому что ничего серьёзного пока делать не умеет… Имя забыл. То ли Рита, то ли Роза, то ли Рима. Нет, не то. Может, Росанда? Иностранное, по-моему, какое-то имя.
— Я те дам иностранное, — сказал Левандовский.
— Ты прав, ты прав, — быстро согласился Магуров. — Имя у неё, конечно, русское.
— Относительно недавно она была в паспортном столе и изменила имя, — вклинился Волоколамов. — С нашего на иностранное. Сейчас она испытывает вполне понятные неудобства, потому что так её называть никто не привык; новое имя должно обкататься, прижиться, так сказать.
— Раиса, Рената, Розалия, — продолжал лавировать Магуров, как тридцать три корабля.
Страшная догадка осенила ректора: «Неужели о них вчера говорил Радий Назибович? Шесть человек. Всё сходится. Разные, умные, с фантастическим сиянием в глазах. Точно они. Только почему говорят загадками, таятся, конспирируются? Боже мой, неужели ещё не пришло время для регулярных войск?.. Десант? Да, похоже, десант. Звёздный десант с партизанскими методами… Боже мой, на что вы себя обрекаете, мальчики».
Лариса Петровна Орешкина была, прежде всего, женщиной, а потом уже ректором и коммунистом, поэтому помимо воли на её лице проступила жалость к ребятам. Задиры уловили кардинальный перелом в настроении ректора и нагло воспользовались моментом, наперебой выдав по фразе:
— Синяки украшают мужчину.
— Больше не будем.
— Команду КВН организуем, и институт прогремит.
— За учёбу плотно возьмёмся.
— Отчислить Вы нас всегда успеете.
— Вы красивая и мудрая женщина, это сразу видно.
Лариса Петровна подошла к Мальчишке. Этого парнишку ей было жаль больше всех. Вовкино лицо напоминало грозненскую площадь «Минутку» на второй день после штурма, потому что на нём невозможно было разглядеть ни одного живого места, кроме, разве что, небесно-голубых глаз, светившихся из воронок-глазниц.
— Ты-то куда полез? — ласково спросила Лариса Петровна и погладила Вовку по голове. — Кто тебя так?
— Свои, чужие — все приложились, — бодро ответил Женечкин. — То есть так-то, конечно, свои. Вчера все свои дрались, чужих не было.
— И ты не в обиде на них?
— Что Вы, что Вы. На своих грех обижаться. Разве ж можно на своих-то?! Никак нельзя.
— Так убежал бы. В следующий раз убегай, — посоветовала Лариса Петровна.
— Я бы с радостью, только некуда. От себя не убежишь… Участвовать в драке — плохо, потому что обязательно замараешь руки в крови. Но удариться в бега, удариться в бега — ещё хуже; руки останутся чистыми, а совесть заляпаешь, что в трудную минуту не со всеми был.
Лариса Петровна отошла от Вовки и села за стол. Она запретила себе спрашивать парней о том, что её по-настоящему волновало, но женское естество возобладало. Язык без какого-то ни было участия со стороны головы соорудил на своём кончике вопрос, и с трамплина губ сорвалось:
— Может быть, имя этой женщины — Россия?
В мгновение ока лица ребят стали непроницаемыми, из их глаз повеяло холодом.
— За кого Вы нас принимаете? Разве мы похожи на идиотов?.. Если так, то лучше отчисление, — грубым тоном произнёс Молотобойцев.
— Многих женщин знаю, но среди них нет ни одной с таким глупым именем. В даунах я ходить не намерен… Отчисление, — поддержал Бочкарёв.
— Красивое имя. Не глупое, а красивое имя, — поправил Левандовский. — Пусть и красивое, но смеяться над собой я не позволю. Сегодня же забираю документы.
— Некрасивое имя, — холодно заметил Волоколамов. — Женщина, за которую я дрался, не имеет ничего общего с Россией. Какой дурак будет биться за то, что не имеет материальной оболочки. Одну духовную, да и та с гнильцой. Я Вам не воздухофил, Лариса Петровна… Отчисление.
— Я с поцыками. Пропадут они без меня, да и я без них. Отчисляйте, — сказал Женечкин.
— Остановитесь, пацаны! Одумайтесь! Простите их, Лариса Петровна. Не то они говорят… Академ! Не нашим, не вашим! Академ! — стали лавировать все тридцать три корабля Магурова, но только лавировали, лавировали, да не вылавировали. — С другой стороны год терять, а потом опять на первый курс. Какой смысл? Уж лучше отчисление, а следующим летом в более престижный ВУЗ поступим.
По спине ректора побежали мурашки. Лариса Петровна была растеряна, не знала, как вести себя дальше. Не сомневалась только в одном: она их никуда от себя не отпустит.
— Я что-то задумалась. С нами, женщинами, это бывает, — произнесла Лариса Петровна. — Так о чём вы сейчас говорили?
— Всё Вы прекрасно слышали. Ложь! Лжёте всё! Уходим, пацаны! Здесь нам больше нечего делать, — нахамил Молотобойцев.
Лариса Петровна была мудрой женщиной, поэтому не обиделась на слова Васи. Она даже про себя поблагодарила нахала за то, что он, сам того не понимая, подыграл ей, так как теперь ничего не надо было придумывать для того, чтобы парни изменили решение. Лариса Петровна пустила в ход универсальное женское средство, от которого размягчаются до состояния лебяжьего пуха даже самые суровые мужчины. Глаза ректора увлажнились. Парни заволновались. Молодые и неопытные, они и не подозревали о том, что концентрация хитрости в дамских слезах зачастую превышает все допустимые нормы, что увлажнить глаза можно простым усилием воли (это и сделала Лариса Петровна), что параллельно солёным потокам нередко текут спокойные мысли о том, что теперь уже точно простится измена, будет куплена норковая шуба, состоится поездка к тёще и отошьются друзья на пару с проклятым футболом. В многофункциональной природе женских слёз парни ориентировались слабо, поэтому чувство вины закономерно придавило их к земле; иначе и быть не могло. Из всех друзей только Бочкарёв почувствовал неладное и до последнего сопротивлялся мокрой атаке, предпринятой ректором.
— Меня не проймёте. Плавали, знаем, — думал Артём.
Вымочив парней в горьком рассоле слёз, Лариса Петровна как бы невзначай обвела взглядом место морского сражения и увидела, что один, несмотря на все её усилия, остался таки сухим. Оценив ситуацию, она приняла решение увеличить сброс воды из глазных гидроэлектростанций и произнести фразу, уникальную по своей простоте и одновременной силе воздействия:
— У вас нет сердца.
Червяк сомнения, точивший Бочкарёва, был раздавлен.
Лариса Петровна ещё какое-то время поплакала для проформы и успокоилась. Она неловко улыбнулась, и ребята поспешили улыбнуться ей в ответ. Молодые люди, дравшиеся вчера в первых рядах с петушиным задором, не боясь при этом получить синяк, потерять зубы, переломать себе руки и ноги, теперь трусили перед красивой женщиной средних лет. За пять минут парни натерпелись такого страха, перед которым хвалёный животный страх выглядит сущей безделицей. Это был тихий ужас, идущий из глубины веков — ужас, который через слёзы научились вселять прекрасные создания в сердца мужчин за неимением силы победить их в открытом бою.
Вот уж чего никак нельзя было ожидать от грозной Ларисы Петровны, так это того, что она, подобно озорной девчонке, начнёт носиться по кабинету. Но именно так и случилось. Ректор сайгаком скакал от стенки, из которой доставал фотографии и вырезки из газет, к рабочему столу. Парни с удивлением наблюдали за ней. Лариса Петровна молодела на глазах, и ребята грешным делом подумали, что она ещё очень даже ничего; вот только изменить причёску, подобрать подходящий макияж, поработать над стилем в одежде — и хоть сейчас под венец (Орешкина была в разводе).
— Молодые люди, обещайте, что не будете смеяться надо мной, — сказала Лариса Петровна.
Друзья утвердительно кивнули.
Ректор разложил фотографии на столе и начал рассказывать:
— На этих фотокарточках я в молодости… Вот это маленькая девочка с огромными белыми бантами — октябрёнок Ларисонька. Как жаль, что сейчас не носят гольфы, — правда? Не находите, что гольфы идут малышам? По-моему, очень… Здесь — пионерка Лариска по прозвищу Утюг, потому что всегда тщательно гладила школьную форму… На этом снимке мне вручают комсомольский билет. Видите, как я волнуюсь? Это сейчас партии меняют как перчатки, а в мои времена вступали пусть и в одну, но раз и навсегда… На этой фотографии Лариса на правах парторга выступает на партийном собрании… А здесь я уже являюсь вторым секретарём горкома.
— Это, конечно, всё замечательно, но за семьдесят лет коммунисты угробили страну, — деликатно заметил Волоколамов.
— Вы говорите штампами, юноша, — не обиделась Лариса Петровна. — Сволочи, которыми изобилует всякий государственный режим, безусловно, издевались над страной, а вот настоящие партийцы, коих тоже было немало, хотели сделать наше государство процветающим. По-моему, коммунистов можно разделить на три поколения. Первое поколение — братоубийцы. Второе — защитники Отечества, антифашисты. Третье — строители светлого будущего. — Лариса Петровна вздохнула. — Одни вытекали из других. Сейчас многие смеются над утопическими идеями, но вы — я уверена — уже должны смотреть на историю беспристрастно. Да, было очень много грязи, но и немало хорошего… А наши песни, ребята?! Как были прекрасны наши песни! «Землянка», «… кто-то с горочки спустился», «Прекрасное далёко», «Гимн Олимпиады-80», а из старых кинофильмов берите любую — не ошибётесь. Сами фильмы берите — и здесь не промахнётесь: бессмертные комедии, героические ленты о войне, детские фильмы. Как же всё это можно списать?! Ведь там пропаганды — на грамм. Там ведь о вечных ценностях: чистой любви, бескорыстной дружбе, честности, порядочности, доброте, трудолюбии, патриотизме, жертвенном служении людям и братстве народов. Нравственность не имеет цвета, не бывает красной или белой. Вот так, ребята. А ненавидеть социалистическую эпоху, заниматься бездумным отрицанием прошлого — значит, ненавидеть своих мам и пап, бабушек и дедушек, которые воспитывались на всём этом, значит, предать их, признать, что они зря родились на свет.
— Благодаря таким замечательным людям, как Вы, Лариса Петровна, безобразная система продержалась очень долго, — произнёс Волоколамов. — Семьдесят лет продержалась. От своего дяди я наслышан о Вашей честности, скромности, невероятной принципиальности на партийной работе. Вас любили простые люди, Вам верили, но это не комплимент. Вы заблуждались сами и других вводили в заблуждение. Люди, подобные Вам, отодвигали наступление демократии… Вы отсрочили приход западников, приход правых сил.
— А я вот, Лёнька, — славянофил. И уж точно левый, потому что на твоём фланге ультраправые националисты гнездо свили, потому что гарные хлопцы из твоей свиты, дав свободу, отняли у людей землю и промышленность, — сказал Левандовский. — Знаю, что «левый славянофил» звучит, мягко говоря, странно, но мне всё равно… Зачем людям свобода без земли, заводов и фабрик?
— Прежде всего, нужно вырастить средний класс, — бросил Волоколамов.
— А откуда он, по-твоему, должен взяться? Не из народа разве?
Увидев, что между Леонидом и Алексеем снова назревает ссора, Магуров решил переключить внимание на себя:
— Я вот, к примеру, — центр.
— Не нашим, не вашим, — решил позубоскалить Бочкарёв.
— Зачем ты о нём в таком тоне? — с негодованием произнёс Женечкин. — Или ты забыл, сколько раз Яшка нас выручал, примирял, спонсировал? Некоторые уже бы тут глотки друг другу перегрызли, если бы не его постоянное вмешательство. Он — центр, и центр — настоящий.
— Ты-то сам чьих будешь? — улыбнулся Бочкарёв.
— Не понял.
— Чей холоп говорю?
— Только не смейтесь, — серьёзно сказал Женечкин. — Верхний я. Партия чистых облаков. Богу служу… Пытаюсь служить по мере сил, но не всегда, правда, выходит. Инопланетяне, ребятишки, лешие, эльфы, волшебники, гномы всякие в одной команде со мной, потому что их тоже Господь создал. — Вовка задумался. — Или мог бы создать, если бы люди заслужили сказку, доросли до неё.
— Если ты — верхний, то я тогда — нижний, — с грустью произнёс Бочкарёв. — Принадлежу к партии грязных страстей. На мой взгляд, главная из них — ненормальная тяга к женщинам. Надеюсь, что у меня получится переманить своих однопартийцев к тебе, Мальчишка. Надо только разобраться в причинах, почему во все времена убийство, воровство, ложь считаются преступлениями, а прелюбодеяние романтизируется.
— Возьми меня к себе, Тёма, — сказал Магуров. — Ну, пожалуйста.
— Отдыхай. С недавнего времени я в этой партии не удовольствия ради, а дела для.
— А я — мужик, — бросил Молотобойцев. — Я прикрою, как всегда прикрывал.
Лариса Петровна подумала: «Пока все без чёткого царя в голове, но определённо с ромашками в сердце». А вслух сказала:
— Делаю вам последнее предупреждение, молодые люди. И запомните: драка — не решение проблем. Можете идти.
Как только ребята покинули кабинет, Орешкина подробно ознакомилась с анкетами хулиганов и начала звонить коллегам. Пользуясь служебным положением в бескорыстных целях, Лариса Петровна не просила, а приказывала:
— Во втором семестре к Волоколамову, Магурову, Левандовскому, Женечкину, Бочкарёву и Молотобойцеву — особое внимание. С перечисленных студентов спрашивать строже, чем с остальных. Ни в коем разе не заигрывать с ними, иначе сядут Вам на шею. И не вздумайте подстраивать парней под себя, ломать их убеждения. Лишь слегка направляйте и дорабатывайте ребят, занимайтесь огранкой, а не распиливанием… Что? Не слышу Вас. Что, что?.. Нет, не алмазы. Обычные буяны. Просто я поручилась за них перед родителями.
Глава 10
31 декабря 1999 года вся страна готовилась к встрече нового тысячелетия. Тоннами строгались традиционные салаты «оливье», исключительно для запаха покупались не менее традиционные мандарины, раскладывалась по тарелкам «какая это гадость, ваша заливная рыба». Советское шампанское, которое в другое время не переносилось на дух, расходилось в магазинах со свистом, чтобы ровно на одну минуту в году под бой Кремлёвских курантов и залпы праздничного салюта единым фронтом выступить против диктаторской власти водки и с последним ударом часов геройски погибнуть в неравной борьбе. Нестареющая Барбара Брыльска, иронизируя по поводу прорухи-судьбы на первом канале, в очередной раз долго не могла сделать выбор между двумя городами федерального значения, потому что в глубине души мечтала о Красноярске. На второй программе гнали к исправлению бессмертных «Джентльменов удачи», параллельно Барбаре гнали, чтобы перессорить домочадцев, разделить их в канун светлого праздника на тех, кто за классику любовного треугольника и тех, кто за милого вора Крамарова. Тридцать первого декабря каналы ОРТ и РТР по негласной договорённости будили только лучшие чувства в людях, чтобы уже завтра с удвоенной энергией вновь взяться за старое. Компьютерщики боялись сбоев в программах, потому что три девятки должны были смениться на нули.
Наши друзья решили справить Новый Год вместе. Они сняли двухкомнатную квартиру в центре города. Чтобы не утруждать себя лишними хлопотами и ничего не забыть, ребята чётко распределили обязанности. Местные взяли на себя горячие блюда, холодные закуски и салаты, иногородние — спиртные напитки и фрукты.
Было девять часов вечера. Левандовский и Волоколамов накрывали на стол. Женечкин вырезал из белой бумаги снежинки и лепил их на окна. Молотобойцев развешивал по квартире гирлянды и шарики. Бочкарёв, развалившись на диване, смотрел телевизор. Магуров спал.
— Просыпайся, Яшка, — сказал Женечкин и стал трясти друга, растянувшегося на полу. — Хватит дрыхнуть, а то так Новый Год, новое тысячелетие проспишь.
— Еврей своё не проспит, не беспокойся, — буркнул Магуров и перевернулся на другой бок.
— Яков Израилыч, ёлку достать надо. Тебе одному это под силу. Как без ёлки-то? — произнёс Молотобойцев.
— Как Новый Год встретишь, так его и проведёшь. Хотите, чтобы я у вас в 2000-ом на побегушках был? Не попрёт, — не сдавался Магуров. — Нашли крайнего. И вообще у меня аллергия на хвою.
— На работу у тебя аллергия, — рассмеялся Левандовский. — Как командовать, так ты мастер. Пора меняться, Яша. Потрудись-ка на общее благо.
— Командовать тоже надо уметь, — мягко заметил Магуров. — Только дураки с плеча рубят, приказывают, а ты научись искренне интересоваться человеком, принимать его таким, какой он есть, возвеличивать его достоинства, и тогда он сам для тебя всё сделает, просить даже не надо. Всем советую почитать Дейла Карнеги, много полезного для себя почерпнёте.
— Ты — лучший, Яша! Ты — гений! Сходи, пожалуйста, за ёлкой, — патетично произнёс Волоколамов.
— В твоих словах неоправданного пафоса много, а елей струйкой должен сочиться, — принялся за обучение Магуров. — Пусть кто-нибудь ещё попробует. Ни ругать, ни хвалить толком не умеете. Вы должны научиться находить подход к любому человеку вне зависимости оттого, плохой он или хороший, — понятно вам? С вашими методами далеко не продвинетесь, в самом начале проиграете. Хоть в тысячу раз лучше других будете, а вас всё равно обставят. Принципиальность — это смерть. Например, не нравится тебе человек, не согласен ты с ним, и ты ему об этом в лоб. Что ж — поздравляю вас с ещё одним нажитым врагом. А вы прогнитесь, гордость свою в одно место запихайте, если человек вам для большого дела нужен. Гордецы никогда ничего значительного не добивались, принципиальные тоже до финиша не добегали. И любите врагов, — ясно вам? Любить врага — вовсе не значит принимать его взгляды. Не надо грубить, кричать и плеваться. Всех без исключения любите, — уяснили? Добрых, злых, некрасивых, хитрых, наглых, жадных, всяких, — понятно? Любите и используйте людей. Используйте и сами выручайте тех, кто в вас нуждается. Идите наверх не по трупам, а по своей гордыне и принципиальности, потому что наверху будете иметь больше возможностей помогать тем, кто остался внизу.
— А помните, поцыки, как Яшка всю группу выручил? — воскликнул Мальчишка. — И ведь никому ничего не сказал, тихушник. Семинар по «Экологии». Препод в бешенстве. Все думали: «Хана, встряли. Промежуточный контроль ни за что не пройдём». А Яшка откуда-то узнал, что у Марины Алексеевны дочка тяжело больна, и нигде нет нужных лекарств. Яха бы и так ей помог, потому что у него куча полезных связей по городу, а тут вообще в тему пришлось. Мы погибать собираемся, а тут раздаётся стук в дверь. Заходит человек и передаёт Марине Алексеевне посылку, а на посылке написано: «Бог милостив». Не «Яша» написано, а «Бог милостив». Внутри — лекарства. У нашего друга лукавое, но доброе сердце, — понимаете вы это или нет? Это же рукотворное чудо было. Это же, это же…
— Ладно уже. Хватит. Я ничего особенного не сделал, — растрогался Магуров. — Ёлку вам действительно без меня не достать, а то фиг бы пошёл… Но я её не понесу. Как хотите, а не понесу.
— Ну и плут, ну и плут, — расхохотался Молотобойцев. — Таки умер, а ногой дрыгнул. Я понесу. Ты, главное, достань её в девять часов вечера, а я уж как-нибудь донесу, не переломлюсь.
— Не «красный» и не «белый»… Касторский! — произнёс Бочкарёв, оторвавшись от телевизора. — Буба Касторский. Оригинальный куплетист Буба Касторский. Национальность: одессит. Яша, он же — Буба, он же — лондонский аэропорт «Хитроу», радушно принимающий плохих и хороших, сильных и слабых, чтобы быть в курсе всех событий, иметь козырные карты, сводить и разводить целые государства. Пропадём без тебя, пропадём.
Через сорок минут Магуров достал не только ёлку, но и костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Ребята не стали украшать лесную красавицу; все сошлись на том, что живая природа не нуждается в искусственных блестяшках. Но звезду на макушку Мальчишка всё-таки водрузил, заметив друзьям:
— Как будто она прямо с неба упала. Так Землю с Космосом породним.
Пять минут до третьего тысячелетия. Новогоднее поздравление Бориса Николаевича Ельцина. Страна в шоке. Пьяные трезвеют, трезвые пьянеют, потому что Сам уходит. 20 миллионов в оцепенении повторяют за президентом: «Я ухожу в отставку». 100 миллионов вздыхают с облегчением: «Король умер», и тут же с надеждой в голосе восклицают: «Да здравствует король»! Ещё 20 миллионов спокойно произносят: «Я принимаю пост».
Бой курантов, хрустальный звон бокалов и крики радости:
— С Новым годом! С новым счастьем! Здоровья, радости, веселья! Ура-А-А!
Потекли первые минуты третьего тысячелетия. Левандовский поднялся из-за стола и сказал:
— С этой минуты начинает своё существование тайное студенческое общество, которое мы давно хотели организовать. По-моему, момент подходящий. Надо придумать название.
Пошли предложения: «Сибирское братство», «Союз спасения», «Череп и кости», «Россия и Космос», «Гламурный респект», «Содружество патриотов», «Яша и компания», «Провинциальный прорыв», «Союз шести», «Национальная идея», «Спозараночные будильники», «Незолотая молодёжь», «Судьба и Родина», «Весёлые ребята», «Русский стиль», «Три плюс три», «Массовики-затейники», «Небрезгливые падальщики», «Два плюс четыре», «Возвращенцы к истокам», «Мудрый сплав», «Коалиция храбрецов», «Один за всех», «Студенческая артель», «Вольные каменщики», «Шесть минус ноль», «Евразийский секстет», «Поисковая группа», «Молодые цирюльники», «Молодая гвардия», «Сказка и быль», «Легенды нового века», «Безусые зачинщики», «Революционный сдвиг», «Дети подземелья», «Эволюция и песец», «Люди и хлеб», «Вера и правда», «Кнуты и пряники», «Партизанская начинка», «Таёжные бородачи», «Миноискатели», «Авоська и парадигма», «Союз благоденствия», «Травоядные хищники», «Хищные травоядные», «Кислотный звездопад», «Товарищи и господа», «Хрестоматийщики», «Охотники за охотниками», «Необожженные горшки», «Вече и эксперимент», «Народная воля», «Буратино и Пинокио», «Волонтёры гильотины», «Мороз и солнце», «Физики и лирики», «Грешные праведники», «Праведные грешники», «Западники и славянофилы», «Долг и честь», «Не секс, не наркотики, не самогон», «Защитники и нападающие», «Шесть в одном», «Беспредел разума», «Грустная клоунада», «Структурированный разброд», «Сердца на блюде», «Несписанная Русь», «Пансионат духоведов», «Господь с нами».
— Господь с вами. Какой «Господь с нами»? — возмутился Женечкин. — Поцыки, не зарывайтесь, пожалуйста. Нельзя. Грех… Всё это не подходит. Мы предлагаем либо то, что уже было, либо начинаем заимствовать то, что уже есть, либо глумимся, либо ударяемся в пафос, либо устраиваем каламбур, либо не можем в двух словах всей сути выразить. Надо просто и со смыслом. Представьте, к примеру, что мы дежурные по классу. Не надо в начале деятельности много на себя брать, а то надорвёмся, и на всю жизнь нас не хватит. Таким макаром многие сломались. Надо всё делать постепенно, иначе покалечимся и других покалечим. Будем пока просто стирать с доски всякую гадость и писать на ней стихи, подметать полы, поливать цветы, мыть окна, чтобы через них свободно проникал солнечный свет, приучать к порядку одноклассников, а там, может, и дорастём до чего-то более серьёзного… То, что общество пока тайное, я очень рад. Тайна привлекает сердца, в тайне есть что-то сокровенное, от детства что-то… В общем, какие-нибудь дежурные…
— …по стране, — добавил Бочкарёв.
— Дежурные по стране. ДПС в сокращении. Решено. Думаю, что никто не против. Отныне мы называемся «Дежурными по стране», — сказал Волоколамов.
— Символ: красная повязка дежурного. Как в школе, — произнёс Левандовский.
— Клятва на верность обществу должна быть простой, — подключился Молотобойцев. — Никаких кровопусканий в чашу Грааля, мистических обрядов посвящения и прочей ерунды… Заводим журнал, заносим туда свои фамилии, а напротив фамилий не расписываемся, а ставим крестики. Двойной смысл получится. С одной стороны ставим крест на себе, на своих амбициях и желаниях, с другой — становимся ближе к народу, потому что неграмотные люди из низовой прослойки когда-то расписывались именно так.
На том и остановились. Магуров старательным почерком переписал в тетрадь фамилии и инициалы парней, а потом все расписались. Женечкин предложил посмотреть город с крыши. Взяв с собой шампанское, друзья покинули квартиру.
Мороз давил за тридцать. Воздух был настолько чистым и прозрачным, что, казалось, стоит только протянуть руку — и можно собирать звёзды в лукошко. Всё реже слышались залпы праздничного салюта, потому что победоносные армии новогоднего фронта в спешном порядке покидали город и развивали наступление на запад. Люди не спали. Из окон многоэтажных домов лился свет. Не обращая никакого внимания на холод, разогретые алкоголем горожане выходили из подъездов, соединялись в толпы и шумными компаниями валили на городскую ёлку в Белогорский парк. Там можно было встретиться с друзьями и старыми знакомыми, поздравлять и быть поздравленным, покататься на горках, поиграть в снежки, поводить хороводы и много чего другого.
Друзья стояли на краю крыши, смотрели вниз и молчали. Первым заговорил Мальчишка:
— Поцыки, я должен обязательно сказать вам, что из нашей затеи ничего не выйдет. Нет, я не к тому, что надо остановиться. Просто раньше ни у кого не получалось, и я хочу, чтобы вы были готовы к этому.
— А как же тогда идти вперёд? — спросил Магуров.
— Переквалификация, — ответил Женечкин. — Все любят славу, успех, деньги, а вы влюбитесь в бесславье, неудачи и безденежье. В такое ещё никто не влюблялся. Если сможете, станете обладателями страшной силы, просто необоримой, поцыки. То, что будет ломать и корёжить других, вас будет радовать и вдохновлять. Среди провалов вы будете чувствовать себя как рыбы в воде, сможете принимать правильные решения, когда другие начнут опускать руки. Научитесь любить неудачи, мечтать о них, хвалиться ими. Так же, как сребролюбивые люди хотят заработать новые миллионы, так и вы должны думать о том, как бы нарваться на новые неприятности. Коллекционируйте рубцы на душах, как марки. И как всякий филателист мечтает иметь в своём альбоме редкий, нигде не встречающийся экземпляр, так и вы просите Бога о том, чтобы он послал вам испытание, с которым ещё не сталкивался ни один человек. Помните, что железо закаляется не на лазурном побережье, а на страшном огне. А нужная форма придаётся ему не через поглаживание, а через удары молотом о наковальню. Так из никчёмной руды, которую мы пока собой представляем, получится твёрдый металл, далее — дамасские клинки и лемеха плугов.
— Понятно, Вовка. Не продолжай, — произнёс Молотобойцев. — Теперь вот о чём. Нам не надо устраивать тайные собрания, как это делают все общества. Организация — ведь не для самой организации, а для простых людей, которым мы хотим помочь. Надо идти на самые трудные участки и менять там ситуацию — вот и всё. Найдём последователей там — найдём везде. Наша задача — не свержение существующего строя, а его безболезненное реформирование. Эволюционный путь, в общем. Я сейчас конкретно к Левандовскому обращаюсь. Эволюционный, Лёха. Только эволюционный. Революцию уже проходили, сам знаешь, чем всё это закончилось. — Левандовский закусил губу, но всё-таки кивнул в знак согласия, и только тогда Вася продолжил: «У меня тоже кровь бродит, у всех нас в большей или меньшей степени бродит, потому что молоды, но баррикады — не выход. Я ни разу не слышал, чтобы даже самый мерзкий политик сказал нам с высокой трибуны: «Режьте, убивайте, крадите». Ни разу. Этого достаточно, чтобы я терпел их беззакония».
— Я с тобой согласен, Вася, но в низы не пойду, — сказал Волоколамов. — Туда сейчас лучше не соваться, иначе хребет поломаешь. Изменить ситуацию можно только реформами сверху… Отупевшее быдло. Спившийся, ничего не понимающий плебс.
— Это быдло и плебс — великий русский народ, — бросил Левандовский.
— Тёмное царство. Не нашим, не вашим. Тёмное царство, — выступил Магуров в роли третейского судьи.
— А я вот о чём подумал. Каждый из нас должен научиться бороться в одиночку… Надо расстаться, — тоном, не терпящим возражений, произнёс Бочкарёв. — Пусть каждый выберет себе участок, а потом расходимся. На всё, про всё — месяц. Время «Ч» — 1 февраля. Место общего сбора — общежитие «Надежда».
Наступила зловещая тишина. Парни задумались.
— Внедряюсь в местную фашистскую организацию «Русское Национальное Единство», — хладнокровно произнёс Левандовский.
Услышав эти слова, Магуров вздрогнул, серьёзно посмотрел на Алексея и сказал:
— А мой участок — Шанхай… Район нищеты.
— Pushkin street… Проститутки, — бросил Бочкарёв.
— Деревня… Еду в деревню, — выбрал сегмент Молотобойцев.
— Войду в молодёжный парламент Республики, — сказал Волоколамов. — Что-то они там закисли. Растрясу ребят. Всё у них там «как будто» и «понарошку». Я им устрою такие «игрушечные» парламентские чтения, что мало не покажется.
— Детдом, — скромно произнёс Женечкин. — Детдом «Золотой ключик». Подбирать буду… Ключик к несчастным детям подбирать.
Бочкарёв разлил шампанское по бокалам. Кто-то из друзей сказал, что вот тут, стоя на крыше, они зависли между небом и землёй; от людей оторвались, а к облакам пока не прибились.
— Пацаны, а мы, случайно, не чокнулись? — спросил Молотобойцев.
— Нет ещё, — авторитетно заметил Женечкин. — А надо бы… Фужерами и самим.
Под тост «За удачную кампанию» парни осушили бокалы до дна и разбили их.
Меж тем месяц, не отвлекаясь, продолжал пасти звёздное стадо, чтобы люди, ориентируясь на его мерцающих подопечных, даже в кромешной тьме не сбились с пути. Он как никто другой знал, что через некоторое время его обязательно сменит солнце…
Глава 11
1 января 2000-ого года. Республика X. Район Y. Деревня Z в восьмидесяти пяти километрах от города N. Тридцать один день до времени «Ч».
— Здорово, братан! С наступившим тебя! — обнимал Васю Молотобойцева двоюродный брат Иван. — Какими судьбами? С лета ко мне носа не казал, с покоса самого не виделись. Отодрать бы тебя, как следует. Совсем к старшому дорогу забыл. Как батька? Мамка как? Ванюша?
— Что напал-то? Все живы-здоровы вроде… Вы тут как?
— А мы чё? Мы — ничё. Помаленьку, Васёк. Я, как видишь, бороду отпустил. А работы… работы, сам понимаешь, нет. Хозяйством выживаем. Тут с Людкой двух бычков и свиноматку прикупили. Герефордов двух, значит, и ландрасиху на развод. Мясные породы. Бычки — не бычки, а натуральные квадраты. Пойдём в стайку, оценишь приобретение. Пошли, пошли. Заодно корму задам… А чё на куртёхе повязка красная? Прикол что ли городской?
— Вроде того, — ответил Вася. — Дежурный я. По твоим стайкам дежурный. Авгиевы конюшни чистить приехал.
— Одобряю. Иди, пожри с дороги, а там и приступим. Я пока к Людке в магазин сгоняю, она там продавцом второй месяц работает. Водки куплю, а вечерком раздавим бутылочку, приезд твой вспрыснем, — лады?.. Банька соответственно.
— Замётано.
После плотного обеда братья Молотобойцевы чистили стайки. Вася начал оттаивать после шумной суеты города; в деревне он чувствовал себя в своей тарелке, не стеснялся быть самим собой: простым, грубоватым и прямодушным.
— Ваня, а ты своё хозяйство любишь? — спросил Вася. — Ведь никуда от него не отойти. Пашешь тут без выходных и проходных. Коров держишь, коней, бычков, гусей, кур, цесарок.
— Я как-то об этом не думал, — опёршись на подборную лопату, ответил Иван. — Тут не любовь… Мне просто на душе спокойней, когда животина сыта и здорова. Мы же с ней друг от дружки зависим. Вы вот собачек и кошек в городе для забавы заводите, от скуки там или от одиночества, а у нас все при деле. Все — полноправные члены хозяйства. Собака сторожит дом, кошка мышей ловит, а о коровах я забочусь, потому что они мне молоко взамен дают, быки — мясо. В общем, круговорот в природе. Быть накормленным, чтобы потом меня кормить, без остатка себя, к примеру, через мясо отдать. Они вправе отрывать меня от суббот и воскресений, и я никогда не злюсь на них за это, не нервничаю, так как своей хозяйской волей определяю, когда наступает уже их черёд меня кормить. Каждый из нас выкладывается по очереди: сначала — я, потом — они. Так испокон веку идёт.
— А почему землю не пашете? Почему поля у вас пустуют?
— Техники нет.
— А будь у вас техника — пахали бы?
Иван отрицательно покачал головой и сказал:
— Нам уверенность нужна, что продукцию сдадим. За землёй ещё пуще, чем за скотиной, догляд нужен. Некогда на сбыт отвлекаться. Это тебе не город, что до пяти отработал — и свободен.
— А почему водку жрёте?
— Потому и жрём, что по земле тоскуем. Уменьшились мы, половинчатыми стали. До размеров деревни уменьшились, а ведь поля, реки, леса — тоже деревня. Этого тебе никто не скажет, слов не подберёт… Я тебе сейчас о том говорю, что в подкорке у всех сидит.
— Допустим, будет и сбыт. Возьмётесь?
— И тут не возьмёмся. Здоровая гордость за самое главное, за хлебное дело убита. Нас сейчас за самых последних считают. Вон — попрыгунчиков с эстрады восхваляют, актёришек, политиканов. Пустышки на умы влияют. Мне вот тридцать четыре года всего, а и то знаю, что нам каюк придёт, они — следующие на вылет. Не смех и аплодисменты, а харчки пожнут.
— Хорошо. К примеру, пригласят тебя на какую-нибудь передачу. Что ты в прямом эфире скажешь?
— С какого перепуга я к ним ехать должен?! — полосонул Иван. — Пускай сами ко мне в гости приезжают. Накормлю, напою, спать уложу — не беспокойся. Не мы для них, а они для нас, — понял? Хотя бы только потому, что нас больше. И говорить мне особо ничего не надо. Пусть в деле меня снимают. За рулём комбайна, за окучиванием картошки, за ремонтом сенокосилки. Я им тогда в двух словах смысл жизни выражу, а земля за меня то доскажет, о чём в её близости умолчу по необразованности. Нет, не по необразованности даже, а из уважения к ней — к земле… Только ты не думай, что у меня все кругом крайние. Крестьянин сегодня справедливо страдает.
— За что?
— За что, за что?.. За всё хорошее. За то, что от пашни отступился, за то, что тряпкой стал. А ведь и похуже, Вася, времена были. Хоть девятнадцатый век возьми. Барщина. Сам знаешь, что наши предки дармовой рабочей силой у помещиков были и, несмотря на невыносимые условия труда, всё равно продолжали сеять и убирать. А после отмены крепостного права крестьяне безземельными остались. И что?! Не жаловались, не ныли, а старались у хозяев землю выкупить. Работали, Вася. С утра до ночи пахали. Ты мужику в то время говённую глину во владение предложи — он бы из неё конфетный чернозём сделал. И нашёл бы, на чём пахать. Сам бы при надобности в плуг впрягся… У нас ведь сейчас земельные паи есть, а мы…
— Что же делать-то теперь? — перебил Вася.
— Стайки чистить, — отрезал Иван.
Весь оставшийся день Вася мучился, не зная, с чего начать работу на своём участке. На свежем деревенском воздухе его энтузиазм начал улетучиваться, ведь одно дело — загореться какой-нибудь идеей, произнести в запале красивые речи и совсем другое — претворить задуманное в жизнь. Он знал «для чего», но не имел ни малейшего понятия «как». И тут Вася вспомнил Мальчишку, который предупреждал, что в начале пути, скорей всего, будет много трудностей, которых не следует опасаться.
Вечером Вася позвонил приятелю.
— Здорово, Лимон. Ты хотел купить мою иномарку. Не передумал?
— Нет.
— Отдам её за сто пятьдесят кусков. Нахожусь в восьмидесяти пяти километрах от города по синегорской трассе. Деньги нужны завтра. Спросишь у деревенских, как найти Ивана Молотобойцева; они покажут.
— Yes, of course. Пока.
— Бывай.
Братья Молотобойцевы парились в жарко натопленной бане. Городская грязь и сомнения выбрасывались из Васи вон. Хлебный дух, — заполнивший парилку после того, как Иван поддал парку из ковшика, доверху наполненного домашним квасом, — чудодейственным бальзамом умастил сердце студента экономического факультета. И Вася, не имея ни сил, ни желания сопротивляться накатившему блаженству, отрёкся от города и присягнул деревне. Когда братья, орудуя берёзовыми вениками, подобно удалым казакам на джигитовке, по очереди отхлестали друг друга, Вася перестал сдерживать чувства и, окатив себя холодной водой, пробасил:
— Всё! К чертям собачим учёбу! Фуфайку мне! Фуфайку, дедовскую рубаху с косым воротом, галифе и сапоги хромовые! Сегодня, братан, пить будем! Гулять до зари и душу рвать! Расчехлить гармонь, гитару к бою! Хотя нет! Не надо ни гитар, ни гармоней! Петь будем, просто петь!
После бани братья Молотобойцевы пили водку. Они степенно закусывали «её родимую» салом с прослойками, ядрёными огурцами из кадки и строганиной, разжижая всю эту «сухомятку» наваристым бульоном из курицы, зарубленной гостеприимными хозяевами в честь приезда городского родственника.
— Вот что, Люда, — обратился Вася к хозяйке, опрокинув в организм шестую стопку и занюхав её душистой головой Ивана. — Скажи-ка мне, какая проблема стоит перед вашим селом в данное время.
— Муженёк мой дорогой к стопке часто стал прикладываться, — затараторила Люда, обрадовавшись возможности почесать язык и излить душу. — Ты бы хоть, Вася, повлиял на него, чёрта рыжего. Опуститься ведь недолго. Вон — хоть Стёпку Плошкина возьми, за три месяца мужик скурвился. Я Ване всегда Смирнова Димку в пример ставлю, а он и слышать о нём не хочет, говорит: «Хапуга — твой Димка, я ему рожу набью». А он, Плошкин, уже и машину купил, и сына в город пристроил.
— Цыц, баба, — стукнул кулаком Иван. — Чё тебе вечно не хватает? В город он сына пристроил, видите ли. Наш Андрейка, как вырастит, при мне останется. Так и знай. Если потребуется, вдвоём с ним тута куковать будем, а с дедовой земли шага не ступим. Заруби это себе на носу. Рассказывай Ваське про общие проблемы села, а то человек её про Фому, а она ему про Ерёму талдычит. Одно слово — баба. Вместо языка — понос. — И тут Иван смачно выругался.
— Можно и об этом, — в миг утихомирилась Люда. — Главная проблема у нас такая, что мясо сдать не можем. Как зима, массовый забой, так рынки и колбасные цеха начинают цену ронять. А мы ж ведь сейчас только скотиной и живём. В общем, ждут все; большинство животину пока колоть не начинало. Другая проблема — сдать молоко. У населения председатель совхоза по 3.50 за литр скупает, а с молокозаводом по 8 рублей отбивается. Вот такая арифметика. Душат нас со всех сторон, а поделать ничего не можем.
Вася ворочал стеклянными глазами. У него путались мысли, но сердце не пьянело и учащённым пульсом долбило по ушам:
— Докатились…докатились… докатились…
Ночью деревню накрыл Васин голос. В глубоком, пронзительном и светлом миноре разливались по улицам старинные и современные русские песни. В домах горел свет. Никто из деревенских и не думал ложиться спать, так как то, что начинается в ночь с 31 декабря на 1 января может обуздать только Старый Новый год, выпуская в деревни весёлые отряды ряженой нечисти. Перед выходом из дома Вася поклялся себе, что сегодня он будет петь в последний раз, что раздарит свой голос жителям, речке, полям, лесам и лугам, что песня за песней выстроит на пригорке за огородами церквушку с маковками небывалой красоты и зарядит воздух народными напевами на годы и годы вперёд.
Господи, — обратился Вася к Всевышнему, — помоги мне начать так, как никто никогда не начинал. Я совсем не знаю, что говорить и делать, но умею петь. Пусть сегодня мой голос разговаривает с душами, пусть в нём отразится всё то, что называется Святой Русью, а потом отними у меня дар. Я понял, что не достоин таланта, которым Ты меня наградил. Я им девчонок прельщал, я им зарабатывал славу вместо того, чтобы петь людям о том, о чём они мечтают услышать по-настоящему. Пусть мой голос сегодня будет распят в песне. Господи, помоги. Помоги мне, Господи.
Вася был услышан. Богом и людьми. Молодёжь, направлявшаяся в сельский клуб на ёлку, останавливалась и замирала. Взрослые и старики прерывали разговоры и выходили на улицу. То, что передавалось по генам из поколения в поколение, через Васин голос облеклось в плоть и кровь. Тысячи лучших певцов России возродились в Молотобойцеве. Колокольный перезвон, соловьиная трель, неизбывная тоска, колыхание дремучих лесов, журчание рек, дыхание пшеничных полей, народная мудрость, смиренная молитва святого, нелёгкий труд пахаря, — воспетые в разное время при разных обстоятельствах, — восстали из пепла, чтобы укрепить Веру, подарить Надежду и вознести на небывалые высоты Любовь.
До утра не умолкал Вася, посещая дома, гуляя по улицам в сопровождении десятков сельчан. Он пел настолько хорошо, что некоторые, как оказалось, ещё не совсем готовы принять в своё сердце магическую силу песни. Как водится, Васе досталось на орехи. Дело было так. На заре один из десяти парней, выдержавших песенный марафон, произнёс:
— До талого душу разбередил, Васька. Сейчас или заплачу, или накостыляю тебе. Выбирай.
— Лучше врежь, а завтра поговорим по трезвянке.
Загадочная русская душа в момент раскрытия напоминает пленника, освобождённого из мрачного подземелья. Душу ослепляет яркий солнечный свет, дразнит свежий воздух, поэтому, освободившись от материальных пут, она часто ведёт себя непредсказуемо. Вася знал народный инстинкт, поэтому дал себя поколотить. Сам тоже в долгу не остался, разукрасив лица трёх парней тёмно-синей краской. Потом компания выпила «за мировую» и отправилась к Ивану. Четыре человека, не вязавшие лыка, были взвалены на плечи, доставлены до Молотобойцева-старшего, разложены на полу валетом и бережно укрыты одеялами. Остальные семь человек улеглись рядом, и уже через минуту в хате раздавался здоровый храп простых и честных людей.
Васе снился сон про покос. Ставили копна.
— Молотком, брат, — говорит ему Иван. — Только ты на пуп навильники берёшь, а так и грыжу заработать недолго. На технику надо. Черенок в землю упирай, ближе к вилам хватайся, а потом поднимай всё это дело над головой и до копны, как под зонтом, шуруй. Выигрыш в силе получится.
— Пробовал, Ваня. Ни черта не выходит. За тобой не угнаться, — отвечает брату Вася.
— Не надо на меня смотреть. Оставь свою гордость. Я и телом справней, и сноровки у меня поболе будет. Учись с первого дня, а то развалюхой в город вернёшься. Сверх силы пока не бери. Ещё ведь две недели на износ вкалывать.
— Две недели, — упавшим голосом произносит Вася. — Как представлю, так плохо становится.
— А ты не думай об этом. Одним днём полновесно живи, тогда выдюжишь. Я вот, допустим, когда навильник к копёшке несу, думаю о том, что он прокормит одну из моих коров в течение суток. Даже бурёнку тебе назову: Пеструшка. И число мне известно; тринадцатого февраля этот навильник к ней на стол последует.
— А вдруг дожди зарядят, и колом покос встанет.
— Запомни раз и навсегда, Вася: Бог оставляет крестьянина в последнюю очередь, потому что деревня главней всех, потому что на ней всё держится. В стародавние времена сельчане отвечали за дух и пропитание народа. Сейчас, правда, — только за дух, но это дела не меняет. Дух главней, потому как не хлебом единым, — слыхал такую фразу? Покос уберём, не переживай. Солнце жарить будет.
— А вдруг всё-таки дожди.
— Тогда, как прекратятся, в три дня то сделаем, что за неделю убрать рассчитывали. И сам не поймёшь, откуда силы появятся. А это Бог дал… Базар окончен. Давай, приноравливайся. Унылым и уставшим по своей глупости ты мне тут не нужен, а то я от тебя заражусь. Работа должна быть в радость, усталость — приятной.
Утром парней разбудил Иван:
— Рота, подъём! Все — на улицу! Голый торс! Устроим обтирание! Это вам плата за ночлег! Ха-ха-ха!.. А ты, Васёк, иди во времянку. К тебе дружбан из города приехал. Чаи гоняет, деньги, говорит, какие-то привёз.
Вася прошёл во времянку. Лимон за обе щеки уплетал пирожки с картошкой.
— Здорово, Андрюха.
— Хай, жиган, — с набитым ртом ответил Лимон, выпил кружку парного молока и продолжил: «Реальное сельпо. Доярки — кровь с молоком. Я уже присмотрел тут пару девок, пока тебя разыскивал… Вот что, Васёк. Давно мечтаю покувыркаться с деревенскими тёлками на сеновале. Подгонишь какую-нибудь красотку, — а? Сам-то, наверное, уже оторвался здесь по полной программе, всех перетоптал — факт.
— Ну, всех — не всех, а половину точно оприходовал, — хвастливо заявил Молотобойцев.
Васе стало противно до тошноты. Ему не хотелось разговаривать на безнравственном наречии города, но он всё равно втянулся в грязный диалог из боязни показаться не таким, как все. Самое интересное, что Лимону тоже было гадко от собственных слов, но он знал, каких фраз ждёт от него Вася, поэтому и завёл речь о бабах. Город цепко держал молодых парней в руках, подчинял своей чёрной воле.
Разрушительная работа, которую провела ельцинская десятилетка с детьми, оставила неизгладимый след в душах мальчиков и девочек. Малыши, подростки, юноши и девушки, к которым хоть одним пальцем прикоснулись уродливые 90-ые, стали предпочитать компьютер улице. Представители старшего поколения, выросшие на дворовых играх в «казаки-разбойники», «классики», «салки», «лапту», с ностальгией вспоминали, как в детстве их под угрозой расправы загоняли домой родители. Освежив себя приятными воспоминаниями из далёкого прошлого, взрослые начинали теряться в догадках, почему же, по какой причине их родные дети не горят желанием общаться со сверстниками и с каждым днём всё глубже погружаются в виртуальный мир. Компьютер здесь был ни при чём, потому что в основе поведения поколения «next» лежали более глубокие причины. Дети 21 века так же, как и их предшественники, подсознательно хотели быть героями улицы, мечтали о настоящих дворовых друзьях, верили в торжество добра над злом в реальном мире, но всё-таки выбирали сидение перед монитором. Спрашивается: почему? Всё станет предельно ясно, если привести конкретный пример. Взять хоть Васю Молотобойцева с Лимоном. Встречаясь, парни меньше всего хотели говорить о женщинах в плохом тоне, о модных тряпках, которые может себе позволить себе тот-то или тот-то, о пьяных безобразиях или деньгах, потому что это противоречит романтической природе юношества, но всё равно говорили, чтобы не прослыть отсталыми и немодными. Услышав беседу наших приятелей, многие бы точно подумали, что перед ними законченные негодяи, а ведь это не совсем так, то есть совсем не так. Да, двадцать процентов современных молодых людей — глупые, безнравственные и ограниченные подонки, а вот оставшиеся восемьдесят процентов просто умело подстраиваются под первых двадцать, несмотря на то, что в глубине души считают своё поведение зазорным. Поэтому Лимона невозможно было оторвать от компьютера, где он, подобно Робин Гуду, в одиночку пачками расстреливал кибернетических злодеев. Поэтому Васю постоянно тянуло в деревню, где не надо было думать одно, говорить другое, а делать третье. Как Лимон, так и Вася были достойными людьми, но друзьями стать не могли по причине недостатка искренности в общении. А как бы всё в один миг перевернулось, если бы в самом начале разговора Молотобойцев, отбросив ненужное стеснение, произнёс:
— Андрей, я здесь ни с кем не сплю. Я людям пытаюсь помочь.
Но Вася скорее бы дал себя растерзать, чем дать, как ему казалось, слабину, потому что даже первоклассник знал, что бескорыстно делать добро глупо, смешно, немодно и невыгодно. Так двадцать процентов, опираясь на шквальную поддержку Средств Массовой Информации, возобладали над восьмьюдесятью. В общем, диалог приятелей продолжался в привычном русле.
— Зачем тебе столько бабок? — спросил Лимон.
— Развлечься хочу по-крупному.
— Не понял.
— Деревню с потрохами куплю.
— За сто пятьдесят косарей?
— Это я ещё завысил цену… Бары, девки — всё надоело. Экстрима хочу.
— Понимаю.
— Ни фига ты не понимаешь.
— А тачку не жалко? Тебе же её родоки на восемнадцать лет подарили. Между прочим, на их деньги иномара куплена, — куснул Лимон.
— Типа, ты на кровно заработанные гуляешь, — огрызнулся Вася в ответ.
— Ладно, не кипятись, — Лимон открыл спортивную сумку. — Здесь всё до копейки. Пересчитывать будешь?
— Верю… Короче, Андрюха, просьба у меня к тебе есть.
— Говори.
— У тебя же вроде батя на госзаказе сидит.
— Но.
— Не в курсе, по какой цене мясо скупает?
— Говядина — девяносто четыре рубля за килограмм. Слышал, как он с поставщиками по телефону базарил.
— Это же на двадцать четыре рубля больше, чем предлагают деревенским перекупщики, — подумал Вася, а вслух сказал: «Мне нужно сдать двадцать тонн».
— Где столько возьмёшь?
— С этой деревни соберу.
— Зачем тебе это?
— Финансовый интерес имею. Если поможешь, скину цену с тачки. Не за сто пятьдесят, а за сто двадцать отдам. Тридцать кусков уступлю… Подумай.
— Заманчивое предложение, — вяло произнёс Лимон. — Только сначала объясни, чё у тебя на рукаве. Я такую же повязку видел у Левандовского. Фишка что ли новая?
— Вроде того… Что думаешь насчёт моего предложения?
— Замётано… Только вот что. Иномару куплю за сто пятьдесят, как договаривались.
У Васи поднялись брови:
— А скидка за услугу? Рождественская, Лимон. Я же от чистого сердца.
— Пошёл ты со своей скидкой, Молотобоец. Ты меня, как вижу, за продажную тварь принимаешь. А почему не пятьдесят сбросил? Почему не двадцать, а именно тридцать? Иудушку во мне увидел, — да? Думаешь, что я уже просто так помочь не могу? Думаешь, у меня язык отсохнет, если я два словечка за тебя перед батей замолвлю?
— Прости, Андрюха. Я ведь думал…
— Плевать мне, что ты думал, — резко произнёс Лимон. — Иван в отличие от тебя — здравый мужик. Считай, что я у твоего брательника за тридцать кусков пирожки с молоком купил. С ним есть, о чём потолковать. С тобой же мне базарить не о чем. — Лимон поднялся и пошёл к двери.
— Андрюха, тормози. Мне ведь твой отец нужен, чтобы…
— Содрать с деревенских три шкуры, — так? — развернувшись в дверях на сто восемьдесят градусов, бросил Лимон. — Эх, ты… Ладно, помогу. Может, когда наваришься на них, совесть в тебе проснётся, хотя…
— За базаром следи! — вспылил Вася.
— За своим паси! — ответил Лимон в пику Молотобойцеву и вышел.
Вася заметался по времянке как тигр в клетке. Он был вне себя от ярости. Два противоречивых чувства боролись в нём. С одной стороны — ненависть к Лимону за то, что этот человек не захотел его выслушать, с другой — глубокое уважение к приятелю, который на поверку оказался не таким уж плохим парнем, каким его все привыкли считать.
— Докатился, блин, — сев на табуретку, подумал Молотобойцев. — Вроде как всегда отличал правду от лжи, добро от зла. А теперь негодяи под нормальных работают, нормальные — под негодяев косят, чтобы выжить, запутать всех, сохранить душу в неприкосновенности. Маскарад. Карнавал почище бразильского; как хочешь, так и разбирайся, кто перед тобой. Наверху черти в ангелов наряжаются, а внизу это видят, догадываются о подлоге, поэтому сами низы уже в отместку чертей играют. Только ведь верхи со своей маской не сольются, а низы… низы могут и доиграться… Лимон, Лимон… Думаешь, я забыл, как однажды, напившись в умат, ты декламировал нам свои стихи? В них было столько искреннего чувства и понимания жизни во всех её тонкостях, что мы опешили. Зачем же ты, закончив чтение, сказал нам, что это творчество наивного поэта Эрнеста Окаянного из Пензы? Зачем? Зачем ты высмеивал самого себя, с пеной у рта доказывая нам, что это — не ты, что такую доблестную чепуху в наше время могут нацарапать только выжившие из ума идиоты? Почему ты начал доказывать нам, что сейчас надо писать о силе денег, красивом времяпровождении в Куршавеле, диких оргиях в клубах и барах?.. Тогда твои аргументы были очень убедительны, Лимон, и мы соглашались с тобой. Ненавидели тебя и себя, но со всем соглашались, а потом клялись, что заработаем миллионы и купим всех с потрохами, потому что только с набитыми карманами нас будут любить женщины и уважать мужчины. Самое страшное, что твои аргументы и сейчас не потеряли своей чёртовой силы. Только любить и уважать нас никто не будет; нам станут лишь завидовать, — вот и всё. Мы согласно кивали головами, когда ты сказал, что добра больше нет, а есть только два зла, из которых нужно выбрать наименьшее, то есть разбогатеть любой ценой и смотреть на всех сверху. А ведь тогда в «Айсберге» собрались отличные пацаны, лучшие из лучших, но, несмотря на это, мы выходили на танцпол и лапали обнажённые тела бесстыдно красивых девчонок, грубили барменам и творили чёрт знает что. Я никогда не забуду, как Бочкарёв вернулся из туалета и сказал тебе: «Лимон, ты прав во всём. Видишь вон ту пышногрудую блондинку? Так вот я поимел её во все щели, и мы с ней сейчас ненавидим друг друга. Ей действительно не нужны герои, рыцари и поэты навроде твоего Окаянного, а только деньги, дома и машины. За такой подход я её и наказал. Стоило пообещать ей золотые горы, как она тут же отдалась мне в клозете. После того, как всё кончилось, я сказал ей, что она — шлюха, и я знать её не желаю. Вместо того чтобы быть одухотворённым посмешищем, в которое плюются, я сам посмеялся и в какой-то степени наказал большое зло, выступив в роли зла малого. Раз она не хочет жить по принципу «рыцарь-принцесса», значит, мне ничего другого не остаётся, кроме варианта «толстосум — шлюха». Только не думай, что я доволен своей победой и её поражением. У неё — обида, у меня — опустошение. Мы оба расплачиваемся за то, что она перестала быть настоящей женщиной, а я — мужчиной. Подавляющее большинство из них расстаются с невинностью, как с ненужной вещью. За это они будут шлюхами, а мы — подонками».
Вася вышел на улицу и погрузил голову в сугроб. Под надзором Ивана деревенские парни заканчивали обтирание.
— Пацаны, будете работать у меня? — спросил Вася.
— Это смотря, сколько забашляешь. Если две тыщи заплатишь, я готов, — сказал Максим Кичеев, парень двадцати двух лет с копной соломенных волос на бедовой голове.
— Что-то ты свою работу ни во что не ставишь, Кичей. Два косаря предел мечтаний что ли?.. По пять тысяч на рыло даю. Если согласны, представьтесь кратко, а то я некоторых не очень хорошо знаю. Имя, фамилия, год рождения, навыки, умения и так далее.
Парни переглянулись и стали представляться.
— Кичеев Серёга, 80-ого года рождения. На тракторе могу и по хозяйству… Давай, Дрон.
— Ильюха Дронов. С 83-его я. И украсть могу, и покараулить. Своих пацанов не сдаю. Также батя плотничать научил, но это, я думаю, не пригодится. Следующий.
— Лёха Гаршин. Семнадцать с гаком мне. В машинах шарю, в мотоциклах. Движки, короче, за пять секунд перебираю и всё такое. Если не веришь, у всех спроси. Давай теперь ты, Колян.
— Николай, для своих — Колян. А фамилию тебе знать не обязательно. Чё скажешь — сделаю. Всё могу, а по железу ваще всё.
— А меня ты децл знаешь. По лету пару раз бухали с тобой. Миха, если забыл. Удар у тебя здравый. Уважаю.
— Чё нам тоже представляться? — в голос сказали пять оставшихся парней, один из которых продолжил: «Глупо. С детства друг друга знаем. Помнишь, как подсолнухи у деда Зырянова ночью воровали? А как на речке с теми же Антохой и Булыгой»?
— Не помню, — произнёс Вася и продолжил: «Мы с вами, может, и зажигали по детству, но никогда не работали вместе. Вместе гулять и вместе работать — не одно и то же, так что прошу представиться всех».
— Ха, всех — так всех, шеф… Теперь, наверно, так придётся тебя называть. Ладно, от меня точно не убудет. Вовка Остапенко. Я с 81-ого, как и ты. За пять кусков в ад за тобой пойду, если потребуется. Грешники нападут — прикрою. Надо будет — там и останусь. Чутьё у меня, что неспроста ты нас вербуешь. Глаза у тебя ненормально блестят, башка у тебя какая-то ненормальная стала. Вон — хоть песни твои вчерашние взять.
— Антон Варфоломеев. Фронт работы обозначь. Грабить, как я понял, никого не будем. Говори, что за работа, а то я уже нервничаю.
— Петруха Булыгин. Десантура. Разведвзвод. Достаточно.
— Васёк, ну мне ли тебе представляться. Две недели вместе на «Сорокозёрках» жили. Я тебя ещё сети ставить учил. — Молотобойцев строго посмотрел на приятеля. — Понял. Всё понял, Васёк. Забыл — так забыл. Федя я. Фёдор Гуснетдинов. Спец в охоте и рыбалке. Все места знаю.
Иван Молотобойцев терялся в догадках, чего же хочет добиться от парней его брат. Он уже понял, что после завершения работы Вася заплатит ребятам деньги, полученные от продажи автомобиля, но какой будет эта работа — вот вопрос. Иван ещё вчера заметил, что Вася очень изменился после того, как они с ним расстались четыре месяца назад.
— Что-то не то с тобой, брат, — думал Молотобойцев-старший, пока Молотобойцев-младший занимался наймом на работу. — Ты стал более сдержанным и спокойным. Взбрыкиваешь точно меньше, да и как-то рационально. Скоро остепенишься. Корневой мужик в тебе зарождается, который с землёй и людьми «на ты» говорить будет, просто и ясно говорить. Вот-вот своим умом и себе на уме заживёшь, а в этом сила русской земли. Мужик ведь всегда только делал вид, что под кем-то ходит, потому что, как бы не менялся политический строй, а ему надо было любой ценой при земле остаться. Поэтому, забывая о себе, терпел, всякой власти покорялся, чтобы только пахать, себя и всех кормить. С пренебрежением произносится поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». А ведь в этой поговорке совсем другой смысл, в ней мудрость крестьянина заложена. Пусть вокруг творится всё, что угодно, а земля не должна пустовать, до последнего обязана обрабатываться. Если уж до невозможности прижали, — только тогда бунт и бунт страшный, чтобы на годы и десятилетия спокойствие для земли выбить. — Иван вздохнул полной грудью. — Да, пустует сейчас пашня, но это только потому, что сама так хочет. Это мысль невыносима моему сердцу, требующему немедленного дела; только земле отдохнуть надо; истощили мы её, засевая по указке сверху не тем и не так. Проверка идёт, многолетняя проверка на вшивость. Первый раз за всю историю земля встала, она нас проверяет. Кто не опустится и пронесёт любовь к ней сквозь чёрное время — всю её возьмёт, всю до последнего клочка. Однажды. Задаром. Раз и навсегда. Заводчиков, фабрикантов и прочих элементов, — которые в эпоху запустения захотят воспользоваться ей не по прямому назначению, не для хлеба, — она отторгнет. Это даже не обсуждается. Как срок придёт, шепнёт нам пашня, что пора, а пока подождём, ничего. И знаю, что государство для восстановления сельского хозяйства одновременно с землёй созреет. Это будет древний зов, вечный зов, которому нет равных. Пахать! Обо всём забыть и пахать, пахать, только пахать. Как ребятишки станем, которым любимую игрушку вернули. Для многих это в первый раз будет. Впервые, к примеру, золотые поля мой сын увидит, и это будет для него таким потрясением, после которого он сможет быть только хорошим и счастливым человеком.
— Иван! Иван! Ваня! Брат, ё, пэ, рэ, сэ, тэ! — сложив ладони лодочкой, кричал Вася в ухо брату. — Где витаешь?! Очнись! Сколько уже можно орать?! Красная материя есть или нет?
— Оставайся у меня, Вася, — невпопад ответил Иван и глупо улыбнулся. — Построиться помогу. Заживём.
— Нет, я не смогу здесь жить, — серьёзно сказал Вася. — Я ведь у тебя в гостях просто энергией подзаряжаюсь, потому что все мы родом из деревни. Тут наши корни, Иван. После того, как у тебя побываю, город больше люблю. Если с концами в деревне поселюсь, затоскую. Оставшись, привыкну. Привыкнув, захрясну. Мне ведь деревня для сверки необходима. Пульс вырабатываю. У города — учащённый, у вас — слабый пока, а мне нормальный нужен, чтобы хорошо себя чувствовать. Нигде мне в полном объёме не нравится, поэтому и мечусь туда-сюда. Полугородской или недодеревенский — вот весь я… Короче, это всё философия, а мне красная материя требуется. Пацанам на повязки. Найдёшь?
— У Люды спросить надо, однако. Думаю, что найдётся для тебя кумач. Горн, случаем, не требуется? А то прямо пионерия какая-то.
— С горном — тоже тема. И барабан бы. Я учился в музыкальной школе, немного умею играть на этих инструментах, — ответил Вася. — А частичку знамени — галстук — на рукав переместим, чтоб не душил. Кто начнёт задавать глупые вопросы, зачем мне всё это надо, будет сразу уволен без объяснения причин. Ваша задача — выполнять то, что я скажу… Говоришь, в ад за мной пойдёшь, Вовка?
— Угу.
— Так вот в ад не надо. Достань горн и барабан. Хоть всю деревню перетряси, а сегодня же принеси мне инструменты.
— Хорошо, Васёк. Считай, что они уже у тебя.
— Вот и славно, — потянувшись, произнёс Вася. — Вижу, что ребята вы толковые. Сработаемся. Значит, с Остапенко — горн и барабан, остальным — точить ножи, готовить паяльные лампы, забыть на месяц о спиртном, найти ещё десять нормальных пацанов, которые согласятся на меня работать. Как протрублю «Зорьку», считайте сезон массового забоя крупного рогатого скота открытым. Это может произойти в любой момент, так что вымойте сегодня уши. И скажите родителям, что цена за кило — девяносто четыре рубля, за базар отвечаю. Как свою скотину заколете, начинаете помогать односельчанам. В деревне много стариков, которые по немощности вынуждены нанимать забойщиков; вы же будете колоть их бычков и тёлок бесплатно. Если узнаю, что кто-то из вас взял с пенсионера деньги, выбью зубы, не цацкаясь. Миха вчера опробовал мой удар. Напомню, что моя фамилия — Молотобойцев. Она происходит от словосочетания «молотом бью». Если вопросов нет — свободны. Ждите сигнала.
Вечером братья совершили конную прогулку по деревенским окрестностям. Вася ехал на спокойной рыжей кобыле, Иван — на холёном сером жеребце. Остановившись в лесопосадке, от которой в обе стороны тянулись запорошенные снегом поля, помолчали. Застывшие в сёдлах, с устремлёнными вперёд взорами, братья напоминали былинных богатырей на пограничье.
— Так и жизнь наша, Вася, — заметил Иван. — Полоса белая, лесополоса, полоса белая, лесополоса. Солнце закатывается. Тронули, пока не стемнело.
— Ага.
— Ничего мне напоследок сказать не хочешь?
— Нет, вроде.
— Ладно, пытать не стану. Только послушай меня. Видишь, как вокруг нас деревья плотно посажены. Сосны копейным частоколом стоят, древко к древку. Ширина лесопосадки — всего шесть метров, а с маху пройти — не пройдёшь. Один, конечно, продерёшься, протиснешься, но с тобой ведь конь; тебе о нём тоже думать надо. Выйдешь в чисто поле один — конец и тебе, и коню. При всём желании ума земле не дашь, так как один управляет плугом, другой его тащит. Так испокон веку поставлено. В тебе — ум, в коне — сила. Ум без силы — ничто, как и сила без ума. В общем, напрямки у тебя вряд ли получится. Тысячу метров, может быть, надо будет вдоль лесополосы двигаться, пока нормальный проход не найдёшь. Понимаешь, о чём я?
— Нет.
— Врёшь. Всё ты понял, насквозь тебя вижу. Смотри теперь. Предупреждён — значит, вооружён. Распустишь сопли — грош тебе цена тогда.
Прошло два дня. Лимон не подвёл. В обед третьего января в деревню приехал представитель его отца; он разыскал Васю и сказал ему, что завтра в шесть часов вечера из города придут рефрижераторы. Иван, присутствовавший при разговоре, уточнил закупочную цену и пошёл оповещать односельчан, но Вася остановил брата:
— Не вмешивайся. Тебе лишь бы мясо сдать, а мне сказка нужна, чудо, если хочешь. Сам знаю «когда», «что» и «как».
Представитель, с недоверием посмотрев на Васю, произнёс:
— Из говядины что ли сказку сделать хочешь? Что-то мне всё это не нравится. Завтра будут задействованы люди, машины, деньги. Ты уверен, что выдашь мне двадцать тонн? Это приблизительно сто голов. Это тебе не шутки шутить, Шарль Перро. Это серьёзное дело. Это госзаказ, парень.
— Да не волнуйтесь Вы так, Александр Семёнович, — сказал Вася. — Я прекрасно понимаю, что такое госзаказ. Может быть, даже лучше понимаю, чем Вам кажется. Я его выполню, чего бы мне это не стоило. Точно и в срок. У меня двадцать парней с руками и мозгами. Двадцать тонн для двадцати парней — не проблема. Завтра к 18-00 ждём рефы.
— Хорошо, — сказал Александр Семёнович. — Знай, что за тебя поручился своей головой сын шефа. У него с отцом был обстоятельный разговор, после которого мне приказали ехать к тебе. Не буду скрывать, что лично я был против сотрудничества с тобой. Ветреная и безответственная сейчас молодёжь, не то, что в наше время. Если сорвёшь предприятие, многим не поздоровится: твоему другу, его отцу, мне и многим другим… И как Андрюха убедил отца — ума не приложу. Кстати, тебе просили передать кое-что. — Александр Семёнович вытащил из внутреннего кармана пиджака красную повязку и вручил её Васе. — Держи, парень. С ума все посходили что ли?! Ничего не понимаю. Может, объяснишь?
Вася поднялся со стула и снял кофту.
На левом рукаве голубой рубашки краснела повязка, ничем не отличающаяся от той, которую передал студенту Александр Семёнович.
— Пожалуйста, скажите Лимону, то есть Андрею, что Молотобойцев не подведёт, — произнёс Вася. — Пусть скажет всем нашим, что на деревню можно положиться. Пускай за город переживают, а за моих не надо… Хотите чайку?
— Нет, спасибо. Мне пора.
— Я Вас провожу, — засуетился Иван. — Не волнуйтесь, всё будет по плану, ведь не только мой брат, но и вся наша деревня заинтересована в том, чтобы сдать вам скотину по такой высокой цене.
В ночь с третьего на четвёртое января Вася спал спокойно. Его не мучили кошмары. И та самая Россия, — о которой Молотобойцев и его друзья с недавнего времени думали и говорили не иначе, как о живой женщине, — стояла у изголовья своего сына и охраняла его сон. Она нисколько не обижалась на то, что молодые ребята представляют её по-разному.
— Главное, что вы любите меня, — думала Россия. — Остальное не так важно. Я подстроюсь под ваше восприятие, мальчишки. Пожалуй, это единственное, что я могу для вас сделать… Видишь меня матерью, Васятка, — буду тебе матерью… Представляешь меня злой тёщей, от которой тебе житья нет, Лёня? Хорошо. Тёщей тебе стану, смирюсь с твоими справедливыми нападками… А для тебя, Вовка, я, конечно младшая сестрёнка, которой ты сопливый нос вытираешь, с которой играешь, которую от всех защищаешь. Что ж — буду для тебя несмышленой и капризной малышкой, братишка… А ты, Лёша? Самая красивая я для тебя. Мои недостатки от себя самого и от всех скрываешь, ни с кем даже в мыслях мне не изменяешь. Постараюсь соответствовать статусу настоящей жены, муж мой… Поздно спохватился, папка Артём. Дочурка, на которую ты не обращал никакого внимания, стала взрослой девушкой. Ты — налево, и я — налево. Вся в тебя пошла. Теперь давай, вытаскивай меня из дурной компании, ведь у твоей России — ветер в голове, одни мальчишки и побрякушки на уме. К воспитанию готова. Лучше поздно, чем никогда. Торопись… А вот кем я прихожусь тебе, Яша, — до сих пор определить не могу. Даже меня запутал, плутишка. То я тебе, значит, мать, то тёща, то жена, то сестрёнка, то бабушка, а то и вообще — седьмая вода на киселе…»
Утро для Васи Молотобойцева началось затемно. Иван сорвал с брата одеяло, терпеливо подождал, пока младший брат расклеит глаза, и сказал:
— Завтрак на столе, лежебока. Кто рано встаёт, тому Бог даёт.
Добрую минуту студент хлопал глазами, силясь понять, где он находится и почему его подняли так рано.
— Одно слово — город. Всё не как у людей. Днём спят, ночью шарятся… Природный уклад нарушаете, поэтому ничего не успеваете. Вечером у вас бессонница, а утро почему-то в обед начинается, — сказал Иван.
— Сова — я, — буркнул Вася. — Особенности организма знать надо, биологические ритмы. Совы и жаворонки. Наука.
— Соня ты, а не сова, — улыбнулся Иван. — Хочешь, всю вашу науку одним ведром колодезной воды под хвост пущу? Мигом жаворонком станешь.
Угроза подействовала эффективно. Вася вскочил с постели и начал лихорадочно одеваться. Иван с ехидством наблюдал за братом, который никак не мог попасть ногой в штанину.
— Кому суетишься? — спросил Иван. — Мысли у тебя рваные. Думай о том, что в данный момент делаешь. Суета — помеха для дела. Всему тебя учить надо, студент.
Умывшись и позавтракав, Вася взял музыкальные инструменты, которые ему принёс Вовка Остапенко, и вышел во двор.
— Как жить-то хорошо, — с восторгом произнёс студент. — Петухи, песню запевай!
И тут произошло маленькое чудо, о котором Вася будет вспоминать всю жизнь. Началась перекличка деревенских часовых. Выпучив глазные мячики, вытянув горло, первым заголосил пёстрый забияка брата Ивана. Сдвинув алую пилотку-гребень набок, подхватил знакомый мотив чёрный соседский петух. Потом вступили задиристые горлопаны деда Кузьмы.
— Пятый — на месте, шестой — не дремлет, седьмой — в карауле, восьмой — на посту, девятый, десятый, одиннадцатый, — считал Вася. — Благодарю за службу, ребятушки. Двенадцатый — молотком! Топчи кур на пару с унынием, хлопцы. Снова соседский. Молодец. Завтра на плаху, под хозяйский топор пойдёшь, а сегодня — пой, дери глотку, буди деревню, а я от тебя не отстану. Надо весело делать добро. Чтобы и мне, и всем было весело. Под музыку и с размахом надо, а не через силу, как большинство.
Вася снял фуфайку, зашвырнул в огород шапку, перекинул через плечо барабан, приладил к горну насадку, чтобы к духовому инструменту на морозе не прилипали губы, и полез на крышу.
— Стой! Куда попёр!? — крикнул снизу вышедший на крыльцо Иван. — А-а-а-а, давай, пропади всё пропадом!.. С Богом, брат.
А потом произошло событие, о котором уже никогда не забудет деревня. В тишине морозного утра, раздирая завесу ночи, выплеснулись на зарю призывные звуки пионерского горна. Разбрызгав ноты на четыре стороны света, выкрасив округу в радужные цвета, духовой инструмент замолчал, уступая место товарищу из ударной когорты. Прошло три секунды, и разговелся после длительного поста в пыльной школьной каморке Его Величество — барабан. Разогрев затяжной дробью закоченевшие на холоде руки, студент обернулся назад и отдал приказ невидимым полкам:
— Развернуть знамёна! Первая колонна вперёд — марш! Сомкнуть ряды, держать строй, чётче шаг, рядовые переходного периода! Трусам — позор, павшим — слава, победителям — почёт!.. Эх, Левандовский, видел бы ты это.
— Бравый барабанщик, бравый барабанщик, бравый барабанщик по-ги-бал! Бравый барабанщик, бравый барабанщик, бравый барабанщик по-ги-бал! Бал-погибал, бал-погибал, бравый барабанщик по-ги-бал! — выбивал ударный инструмент, салютуя зорьке, уведомляя деревню о начале массового забоя крупного рогатого скота.
Затем снова горн. И ещё раз барабан. Горн, барабан, горн, барабан, горн, барабан. Целый час Вася трубил и барабанил, не переставая наблюдать за тем, что происходит вокруг. Заспанные сельчане выходили за ворота; они ёжились от холода, переминались с ноги на ногу и с недоумением пожимали плечами, стараясь понять, какая нелёгкая занесла молодого человека на крышу. Одни с удовольствием слушали музыкальные марши, другие крутили у виска, третьи, озадачившись, несли свои вопросы к соседям, которые тоже разводили руками. А Вася ждал только своих ребят. Его бросало то в жар, то в холод. Он никогда и никого так не ждал. И они показались. Разом. На всех улицах и переулках замелькали люди с красными повязками на рукавах; они перебегали от дома к дому и что-то объясняли односельчанам.
— Через два часа буду, баб Мань, — выпалил соседке Лёха Гаршин. — Жди. Как своего Борьку заколю, так сразу за твоего Мишку возьмусь. Час твоего быка пробил, бабуля.
— С чего это, касатик?
— Долго объяснять. Сдашь мясо по девяносто четыре рубля за кило. Слово.
— Не может быть, родненький.
— Точно тебе говорю. Посмотри на мою руку. У нас у всех такие повязки. На госзаказ работаем.
— Тимуровцы чё ль?
— Кто такие?
— Так это, сынок, таки пионеры, каки…
— Некогда мне про твоих тимуровцев слушать, других предупредить надо. В общем, жди, — перебил старушку Гаршин и выбежал из дома.
Забой прошёл без срывов, потому что в успешном завершении дела были заинтересованы все участвовавшие стороны: деревня, государство и Молотобойцев. За день Вася многому научился. Он с интересом и восхищением наблюдал за тем, как быстро и качественно сельчане разделывают туши, как преображаются лица людей, когда дело доходит до работы, и думал о том, что интеллигенция при всей своей начитанности и образованности всегда будет отставать от крестьянства.
— Литература, искусство, живопись, наука, — думал Вася, — всего лишь производные от человека, идущего за плугом. Если у мужика всё идёт хорошо, то начинается культурный ренессанс. Если плохо, то сразу упадок или непропорциональное развитие, отсутствие гармонии, расцвет науки в ущерб искусству, например.
Он понял, что не имеет морального права быть для ребят командиром, учителем или хозяином, и решил взять на себя скромную роль катализатора, ускоряющего химические процессы. Вася вспомнил утро и донельзя обрадовался, что свой первый рабочий день он, слава Богу, начал не вождём, а рядовым горнистом и барабанщиком, третьим человеком справа в первой шеренге авангардной колонны.
— Что-то в тебе есть, Василий, — сказал Александр Семёнович, когда рефрижераторы были заполнены мясом. — Прощай что ли.
— Если что-то есть, тогда не прощайте, а до свидания. В 2004-ом выпускаюсь, а в стране такая безработица, такая безработица.
— Намёк понял. Хочешь, чтобы я тебя без стажа на работу взял?
— Нет, я уж как-нибудь сам. Лучше кого-нибудь другого возьмите. Сразу и без лишних вопросов. Так и скажите парню или девчонке: «О твоём трудоустройстве позаботился один студент четыре года назад. Ты его не знаешь, он тебя тоже». Пообещайте, пожалуйста, что выполните мою просьбу.
— Добро… Только мне кажется, что страна должна знать своих героев. Я назову твоё имя.
— А вот этого не надо. Пусть Ваш будущий молодой специалист думает, что ему помог кто-то из города; в каждом встречном тогда хорошего человека видеть будет.
— Да, недооценил я тебя. Держи пять, студент… Интересно, много вас таких?
— Какова вероятность, что Вы встретите слона в Сибири? — вопросом на вопрос ответил Вася.
— Не знаю. Мизерная, наверное.
— Не угадали. Пятьдесят на пятьдесят, так как или встретите, или не встретите. В общем, как Вы поняли, нас таких ровно половина.
— Хэ, — хмыкнул Александр Семёнович, — это радует. Спасибо. Если всё-таки будешь нуждаться в работе — обращайся. За такие слова и тебе, и неизвестному студенту помогу.
— Не благодарите меня. Я сейчас с Вами говорил в стиле своего друга Яши. Шесть человек во мне сидит. Время такое. Один — во всех, и все — в одном.
Вася ликовал. Сегодня был его день; всё задуманное удалось осуществить. Он поблагодарил парней и отправил их по домам, сказав, чтобы завтра они подошли к Ивану к восьми часам утра.
— Будем без опозданий, — ответил за всех Илья Дронов. — Мы же не слепые. Видим, что для всей деревни стараешься, а нам ещё и деньги платишь. Ты запретил спрашивать тебя о чём-либо, но нам всё-таки интересно, какую цель преследуешь.
— Ты уволен, — бросил Вася.
— Я пошутил. Чё так сразу-то?
— Снова принят. Все свободны.
Парни стали расходиться. Они изредка оборачивались назад; при этом их лица с наморщенными лбами хранили вопросительно-озабоченное выражение.
— Загадал я вам загадку, — подумал студент. — Теперь до смерти разгадывать будете. Катализатор ничего не станет вам разжёвывать и объяснять. Думайте, терзайтесь и делайте выводы сами, пацаны. Я несу убытки в материальном плане, зато распаковываю ваши души. Вы и не догадываетесь, какую ценность представляют для меня ваши души. Для недалёких людей деревенские обыватели — чёрные ящики с гнилыми досками, но я-то чую, что внутри ящиков — сапфиры, алмазы и бриллианты. С гвоздодёром или без, но я вскрою крышки, достану изнутри драгоценности и разбогатею… Знаете, кто мы с вами, пацаны? Я — терпеливый старатель. Деревня — прииск. Вы — золотой песок, который надо намыть. Задача нелёгкая, но выполнимая. — Вася закурил сигарету. — Я не могу вместо вас засеять поля, потому что в сельском хозяйстве ничего не смыслю. Поэтому буду сеять в сердцах. Завтра же начнёте работать у своих односельчан, парни. Все нуждающиеся получат от нас необходимую помощь. Бабушек, малообеспеченных, многодетных — всех за этот месяц обойдём.
В девять часов вечера Вася спросил у брата, где проживает директор совхоза, и отправился по указанному адресу. У ворот усадьбы, обнесённой двухметровым кирпичным забором с бойницами, студента переполнило чувство негодования; он долго топтался на одном месте, пока не потушил ярость и не привёл мысли в порядок. Успокоившись, он засунул два пальца в рот и свистнул. Залаяли собаки. Через минуту из ворот вышел человек, похожий на откормленного хряка.
— Чё рассвистелся, молокосос?.. Кто такой?
— А представляться уже не надо, — ответил Вася. — Я действительно — молокосос. Молокосос Молокососович Молокососов. Короче, теперь с этой деревни молоко буду сосать я, и других молокососов-конкурентов рядом с собой не потерплю. До настоящего момента меня звали Мясоедом, но, признаться, это имя мне не по нраву. Вам не кажется, что оно отдаёт чем-то хищным?
— А-а-а, узнаю, узнаю, — сказал директор, сцепив пухлые руки в замок. — С госзаказом связан. Вася Молотобойцев. Наслышан. Неплохо ты дельце провернул.
— Знаете что, — мечтательно перебил Вася. — Такие же хоромы, как у Вас, хочу. Такой же дворец, такие же кремлёвские стены, чтобы от всякой дряни отгородиться и жить себе припеваючи… Кстати, собаки какой породы?
— Волкодавы.
— Понимаю. Волков, значит, позорных давят. Это хорошо. Таких же хочу. Главное, чтобы на хозяина не бросались, а то не ровён час — загрызут.
— Чего тебе надо, парень? — зло спросил директор.
— С завтрашнего дня будете закупать молоко по семь рублей.
— С какой стати?
— С такой. Не стану рассказывать, что в наше время значат связи наверху. Я в деревне всего четыре дня, а уже кое-что успел сделать. Если останусь здесь навсегда — Вам крышка. Пара звонков — и всё.
Пауза…
— По семь не пойдёт. Затраты на горючее, зарплата шофёрам, запчасти для машин. Плюс молоко разводят водой… Шесть рублей.
— Отлично, — сразу согласился Вася. — Я же не мироед какой-нибудь, всё понимаю. К слову — будущий экономист. Только смотрите, — как Вас там?
— Михаил Дмитрич.
— В общем, смотрите, Михаил Дмитриевич. Дело под личный контроль беру.
— Зачем тебе всё это надо, студент? — пробуравив Васю взглядом, спросил директор. — Мутный ты какой-то.
— Сговорились вы все что ли? Зачем, зачем? Мне самому интересно: «зачем». А если серьёзно, то на свете рождается два типа людей. Достигнув зрелости, один тип определяется на работу, другой — на службу. Если найдёте между этими понятиями десять отличий, получите ответ на свой вопрос.
— Не пудри мне мозги. Военные служат. Чиновники, менты, священники, врачи.
— А вот и нет. Многие из них сейчас работают, а не служат. Следовательно, вместо них начал служить кто-то другой, потому что свято место пустовать не должно.
На следующее утро Вася поздоровался за руку со своими товарищами, собравшимися возле дома Ивана, после чего задал несколько вопросов:
— Сколько отсутствующих? Причины?.. По какой цене час назад закупалось молоко? Разбавлялось ли водой?
Васе ответили, что отсутствующих двое, которые просили передать, что выйдут на работу через три дня, когда «мало-мало оклемаются после гриппа». Насчёт молока Ильюха Дронов заметил:
— Как бодяжили, так и будем бодяжить, потому как директор — сволочь и вор, хоть и скупал сегодня по шесть рублей за литру.
— Понятно, — произнёс Вася. — Делайте, что хотите, а на мою помощь можете больше не рассчитывать. Хочешь, как лучше, а получается, как всегда. Всё-таки скажите всем, что, если станут и дальше разбавлять, то директор снова обвалит цену, и это будет по справедливости. Теперь абсолютно от каждого зависит, какой будет конечная жирность продукта. Из-за одного нечистоплотного человека могут все пострадать. Я бы на месте директора с каждого литра пробу брал, но он этого не делает, потому что ему проще по дешёвке молоко закупать, чем нервы себе и вам трепать.
— Кружку на ведро всего. Чё такого? — едко произнёс Дронов. — А он-то тебе, наверно, расписал, что мы наполовину разводим. Его бабёнки, которые за приёмку молока отвечают, тоже ведь шарят. Нюх у них, без лаборатории обходятся… В общем, нет у нас таких, которые бодяжат.
— А зачем тогда врёшь, что разбавляете? — взъелся Вася.
— А чё ты веришь этому борову?! — зло бросил Дронов. — Он тебе лапши на уши накидал, а ты и раскис. Меня это задело, поэтому и сказал, что разводим.
Вася сделал вывод, что голова у деревенского жителя устроена как-то по-другому, поэтому впредь решил быть осторожней в речах и поступках.
Восьмидесятилетняя бабушка Агафья, о которой уже несколько лет не вспоминала единственная дочь, растапливала печку, когда услышала на улице крики. Старушка вздрогнула и засеменила к окну. Раздвинув загаженные мухами занавески, она прильнула к стеклу. Бабушка всплеснула руками, потому что у неё зарябило в глазах от людского столпотворения перед её палисадником.
— Господи, чё стряслось-то. Иль война? — подумала Агафья. — Одни напасти. Скорей бы уж Бог прибрал.
Она вытерла жёлтые высохшие руки о фартук, поправила на голове зелёный платок и, шаркая по деревянному полу негнущимися ногами, поспешила на улицу.
Вася на секунду опешил, когда из калитки вышла маленькая сморщенная старушка, трясшийся подбородок которой шёл на соединение с крючковатым носом.
— Здравствуй, бабушка, — сказал Вася.
— Здравствуй, мил человек.
— Помогать тебе пришли. Запустишь нас или как?
— Да у меня не прибрано, сынок. Грязища кругом.
— За тем и пришли. За пару часов из твоей избушки на курьих ножках дворец царский сделаем.
— Чаво, чаво? Недослышу я.
— Хоромы, говорю, из твоей развалюхи отгрохаем, — прибавил громкость Вася.
— Иль президент тебе наказал? Не может того быть. Неужто сам Борис Николаич?
— Нет больше Ельцина.
— Свят, свят, — закрестилась Агафья. — Преставился, сердешный. Какой-никакой, а человек всё ж таки был. Царство ему небесное.
— Куда там, — рассмеялся Вася. — Живее всех живых.
— Ну, — не поверила старушка.
— Вот тебе и ну, бабуля. На пенсии он теперь. Путина вместо себя назначил. Так и сказал народу: «Верьте этому человеку, как мне».
— И верят?
— Как будто у нас выбор есть, — сказал Вася. — Верят, конечно.
— Так это, выходит, он тебе телеграмму отбил, чтоб мне помочь-то?
— Он самый. Так и написал мне: «Василий, ты, конечно, в курсе, какое мне досталось наследство. Государство наше большое, и я не справляюсь. Ты уж постарайся, чтоб я о бабушке Агафье и думать забыл, не до неё мне. Передаю тебе все полномочия. Смело действуй от моего имени. Приказывать не могу, а просто надеюсь на тебя, Василий, потому как ты — муж государственный, не чета многим. Россия на таких людях, как ты, с древних времён держится, но награды от меня не жди, потому что медалей и орденов на всех не напасёшься. Сильно по этому поводу не расстраивайся, так как на небесах ведётся учёт всем заслугам и подвигам, и награда по выходу на тот свет своего героя непременно найдёт. На этом прощаюсь. С глубоким уважением, и. о. президента В. Путин».
Парни, стоявшие за спиной студента, давились от смеха. Бабушка Агафья качала головой. Вася же никогда не был так серьёзен, как сейчас.
— И плату не возьмёте? — спросила старушка. — А то вчера Антошка Варфоломеев с Колькой Кудрявцевым кормилицу мою закололи, помогли сдать её, значит, а потом расчёт потребовали… Одной вы артели или нет?
Вася изменился в лице, но назад не обернулся. Он начал проделывать вращательные движения головой, и в гулкой тишине, наступившей после слов бабушки, был отчётливо слышен хруст его шейных позвонков. Парни попятились назад. С каждой секундой пространство вокруг Васи расширялось.
— Суки… Гниды… Мочить тварей… С божьего одуванчика бабки содрали… Отдай их нам… Уроем гадов, — донеслось до студента.
— Предупреждён — значит, вооружён, — ошпарило сознание воспоминание о брате, а потом голова дежурного по стране стала раскалываться от вторжения мыслей. — Потеряю хоть одного пацана — конец. Пойду на поводу у толпы — конец. Растеряюсь сейчас — конец. Дам волю ярости — конец. Позволю разгадать себя — конец… Не подведи, бабушка.
Вася повернулся назад через левое плечо, словно настоящий солдат, и спокойно произнёс:
— Колян, Антоха, идите-ка сюда.
Провинившиеся парни отделились от толпы, подошли к студенту и потупили головы.
— Баб Гаша, — ласково начал Вася, — ты, пожалуйста, вспомни, что сама деньги парням вручила. Они упирались, а ты на своём настаивала. Ведь было же такое? — Старушка подняла выцветшие глаза на студента и увидела на его лице такую немую скорбь, что её сердце тут же наполнилось беспричинной жалостью к парню и тревогой за него. Настойчивым голосом Вася продолжил: «Не торопись, бабушка. В твоём возрасте люди часто забывают о том, что с ними случилось. Ты же сама отдала им деньги, — ведь так?».
— Припоминаю, сынок. Всё было в аккурат, как ты говоришь. Запамятовала я. Я им — берите, а они — ни в какую. На силу взять уговорила.
— Ничего страшного, со всяким бывает, — сказал Вася и поблагодарил старушку взглядом.
Деревенские парни оторопели. А Варфоломеев с Кудрявцевым вообще испытали шок, потому что не понимали, какими мотивами руководствовался студент, когда решил взять их под свою защиту.
А потом сельская молодёжь дружно работала на подворье у бабушки Агафьи. Ребята красили, белили, мыли, кололи, скребли, колотили, сверлили, чистили, переносили, строили, готовили, чинили и подметали. Вася только успевал отсчитывать деньги на необходимые материалы, которые покупались в промышленном отделе центрального магазина. В течение пяти часов в хозяйстве забытой всеми старушки не умолкала деловая перебранка плотников и маляров, каменщиков и сварщиков, монтажников и электриков, трубочистов и печников. Студент с радостью отметил про себя, что нет ни одной рабочей профессии, которой бы не владел хотя бы один из двадцати его парней.
— С такими орлами горы свернуть можно, — размышлял Вася. — Дотошность во всём. Не думая о красоте, прежде всего о добротности, удобстве и долговечности заботятся, а потом красота у них как-то сама по себе выходит. У всех какая-то удивительная природная сноровка. Если горожанину всё ещё надо рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо, то деревенского жителя надо просто обеспечить работой, и тогда у него в голове само по себе всё выстроится. Крестьянин становится нравственным только в труде; ни проповедовать ему, ни урезонивать его не имеет смысла, если он безработный… Божьи заповеди и государственные законы для него — пустое место, если поля бурьяном и чертополохом поросли. Попробуй заставить его отказаться от водки, коль земля вокруг него ничего не рожает, бездельничает. Его совсем не волнует, он ли или кто-то другой виноват в том, что поля не пашутся. Просто, если не пашутся — значит, правды нет, справедливости нет, морали нет, смысла жизни и Бога нет, потому что с незапамятных времён крестьянин и земля — одно и то же. Мужик и ведёт себя в соответствии с состоянием земли: если она даёт хлеб — он нравственный, если же не даёт, то ему на себя и на весь мир плевать. Вот такая у них наркотическая зависимость друг от друга… Эх, Россия, Россия… Такие времена, что и не умрёшь теперь за тебя. Жить надо. Погружаться в рутину, подобно бухгалтеру, и дебет с кредитом сводить, баланс восстанавливать. Столько-то израсходовали, такой-то доход получили, такие-то имеем основные средства, которые увеличим в будущем месяце за счёт того-то и того-то. Скука неимоверная, — а что делать? Тебе, Россия, требуется скучный подвиг, протяжённый во времени. Подвиг скрупулезного бухгалтера, а не богатыря. Андрей Болконский, поворачивающий вспять отступающие дивизии, сегодня не пройдёт, потому что нет ни знамени, ни дивизий, ни тылов, ни оружия. Ничего нет, поэтому будем просто работать. Изо дня в день.
Так прошло ещё двадцать пять дней. О Васе Молотобойцеве судачила вся деревня, а он только, знай себе, посмеивался и помогал людям. Ранним утром 31 января к нему пришёл Вовка Остапенко.
— Уезжаешь? — спросил Вовка.
— Да.
— А мы?
— Сами теперь, — ответил Вася. — Кстати, где остальные? Сегодня день получки, если что.
— Я за всех… Мы вчерась с пацанами побакланили и решили, что денег не возьмём. Я говорить не умею, Васёк, но ты меня понял. В общем, спасибо тебе за всё.
— Деньги возьмёте, иначе я их по ветру развею. И вот что. Приезжайте-ка завтра в город. Прошвырнитесь по рынку, сходите в кино, а вечерком отправляйтесь по адресу Советская 132.
— Чё за адрес?
— Адрес «Надежды».
— Какой ещё Надежды?
— На лучшее, Вова.
— Опять тайны?
— Не опять, а снова. Завтра всё поймёте.
Через два часа Вася оставил деревню. От ста пятидесяти тысяч у него осталось восемьдесят рублей на обратный проезд…
Глава 12
6 января 2000-ого года. Город N. Парикмахерская. Двадцать шесть дней до времени «Ч».
— Какую стрижку хотите, молодой человек? — вежливо спросила симпатичная девушка, кокетливо прикоснувшись к плечам Левандовского. — Может, модельную? Вам очень пойдёт.
— Моделей итак хватает, — улыбнувшись, ответил Алексей. — Раньше глядели в наполеоны, теперь — в модели. Надоело.
— Вы против моделей?
— Я-то?.. Нет, я только «за». Чем больше разведётся моделей, тем быстрее они обесценятся в глазах общества. Помните август 98-ого? Тогда произошла девальвация рубля, если не забыли. То же самое в скором будущем ожидает служителей бедра и подиума. Думаю, Вы согласитесь со мной, если я скажу, что красота — страшная вещь.
— Да.
— Нет, я к тому, что она — страшная вещь в прямом смысле слова, потому что ничего не умеет делать. Кроме дефиле, разумеется. Как сейчас вижу объявление в брачном агентстве: «Ищу спутницу жизни, скромную женщину, которая станет хорошей матерью для моих детей, умеющую шить, готовить, стирать. Модель женщины не предлагать».
— Какой Вы всё-таки жестокий.
— Но справедливый, — добавил Левандовский. — Так что в знак протеста побрейте меня наголо.
— Совсем? — удивилась девушка.
— Я же не Самсон, у которого вся сила в волосах, — ухмыльнулся Левандовский. — Повторяю ещё раз. Под Котовского. Под глобус. Под ноль.
— В армию готовитесь?
— Да… Только в нацистскую. Дивизия «СС».
— Шутите…
— Нет, я вполне серьёзно. Вступаю в русский легион фашистской армии.
— Вы так спокойно об этом говорите. А как же Великая Отечественная Война? А ветераны?
— Знаете что, девушка. Сейчас я скажу Вам одну нелицеприятную вещь, которая может Вас шокировать, но молчать не имею права. При всём уважении к ветеранам замечу, что современные фашисты — их родные внуки. Понятно Вам? Не двоюродные, не троюродные, а родные, ведь и Ваш дед воевал, и мой тоже, между прочим. До самого Берлина рядовым пехоты прошагал. И Вы не найдёте ни одного человека в этой стране, чей бы муж, отец, брат, дед не воевал. Это как же, расправившись с фашизмом, надо было потом воспитывать своих детей, чтобы уже в третьем поколении у нас самих появились фашисты? Страшная правда, — не так ли? Не в десятом, не в двенадцатом колене, а уже в третьем. Выходит, так воспитывали, ведь всё от семьи идёт. От мамы и папы, бабушки и дедушки. — Левандовский задумался на пару секунд, а потом безо всяких эмоций стал произносить лозунги, выбрасывая правую руку вперёд: «Россия — для русских. Бей жидов — спасай Россию. Инородцам не место на нашей земле. Национал-патриоты — forever. Зиг — хайль».
— Что Вы делаете? — испугалась девушка.
— Это я так… тренируюсь.
— Тренируйтесь где-нибудь в другом месте. Я отказываюсь стричь поганого фашиста, потому что не одобряю идеологию расовой ненависти.
— Ай-ай-ай, какие громкие слова. Во-первых, не стричь, а брить. Во-вторых, такая красивая, а хамите. Я не фашист, я только учусь. — Алексей улыбнулся. — Позвольте узнать номер Вашего телефончика.
— Ещё и клеится ко мне. Ну и нахал. Вы — сволочь, молодой человек, а сволочей я не брею, а отбриваю. Если немедленно не покинете салон, я вызову охрану.
Левандовский никак не отреагировал на угрозу. Он начал выдавливать прыщ на подбородке, думая о том, что в скором времени ему будет не до смеха. Девушка, похоже, не собиралась спокойно смотреть на наглое поведение юноши. Она с минуту наблюдала за тем, как Левандовский сражается с прыщом, надеясь на то, что он самостоятельно покинет помещение, но, увидев, что её желание явно не совпадает с намерениями молодого человека, вздёрнула нос-кнопку и пошла к выходу. Левандовский краем глаза засёк подлый манёвр парикмахера. Он оставил проклятый прыщ в покое и юлой раскрутился на кресле вокруг собственной оси. Центробежная сила оторвала белую накидку от тела, и студент стал напоминать танцующего дервиша, у которого, правда, отсутствуют ноги и туловище.
— Идите, идите, — произнёс Алексей, остановившись напротив овального зеркала. — Только знайте, что Вы хуже меня, так как спокойно смотрите, как скинхеды разгуливают по городу, и ничего не делаете. Меня, может быть, грохнут завтра, а Вы даже не хотите постричь Штирлица перед смертью. Нехорошо, Кэт.
— Кэт??? — округлив глаза от удивления, спросила девушка и отпустила дверную ручку. — Откуда Вы знаете, как меня называет мама? И что ещё за Штирлиц?
— Вот так вопросы, — удивился Левандовский, но уже через секунду на его лицо выкатилась хитрая улыбка. — «Семнадцать мгновений весны» — это же актуальнейший фильм, недавно показанный на первом канале. Отстаёте от жизни, мэм. Не сомневаюсь, что Ваша мама его уже посмотрела. Что мама — даже дедушка, я уверен, был восхищён игрой Тихонова.
— Не слышала об этом актёре.
— Как?! Это же наш ровесник, которому подражает вся российская молодёжь. Вру. Пока не вся, но не за горами то время, когда мальчики захотят быть похожими только на главного героя «Мгновений» — горбоносого разведчика Штирлица. Кстати, критики уже пророчат Тихонову будущность секс-символа. Правды ради надо отметить, что картина имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, это чересчур многосерийный фильм, относящийся к разряду сериалов, а они за десять лет уже изрядно надоели искушённому зрителю. Во-вторых, там в прямом смысле всё чёрным по белому. Наибеднейшая цветовая палитра.
— Даже в одежде?
— Даже в одежде… Для усиления впечатления от картины режиссёр решил, что никаких вам там красок, а только два цвета, потому что зло — всегда чёрное, а добро — белое. Зато никаких дураков, а все главные положительные и отрицательные герои — умные и храбрые, как в жизни. Опять вру… Переходный серый цвет тоже использовался. Мышиный, девушка.
— Мышиный?
— Мышиный, мышиный… А что делать, если надо было угодить всем, если мышиный — любимый цвет обывателя. Серый цвет, как обычно, был введён для тех, кто или никогда ничего не понимает, или никогда ничего не хочет понимать.
— Если честно, я Вас тоже не понимаю.
— Тогда брейте. Как говорится, задушим на корню предрасположенность моих волос к ранней седине.
На этом юмор Левандовского приказал долго жить. Покинув парикмахерскую лысым полуфашистом, студент почувствовал, что его самоуверенность и отвагу состригли вместе с русой шевелюрой. Он стал говорить самому себе, что надо продолжить перевоплощение в полноценного фашиста, иначе его ещё, упаси Бог, примут за призывника-добровольца, заранее готовящегося к службе в армии (Алексей собрался отдать долг Родине, но только после окончания учёбы — не раньше).
— И как им нестрашно нацистами становиться? — думал Левандовский. — От недостатка информации что ли? Об одном только Бабьем Яре вспомню — мурашки бегут. Расстрелы, лагеря смерти, страдания миллионов ни в чём неповинных людей. Как сейчас заставить себя купить берцы с тупым приподнятым носком, милитаристские штаны, подтяжки, короткую кожаную куртку с поясным ремнём? Как они одевают всё это? С каким чувством носят? Неужели спокойно? Это же ведь сатанинская одежда, насквозь пропитанная кровью и слезами детей, женщин и стариков. Чтобы свободно разгуливать в этом по улицам города, надо быть не просто плохим человекам, а отродьем. А взрослые люди с равнодушием взирают на подростковую и юношескую дьяволиаду. Нет, не с равнодушием даже, а с молчаливым одобрением. Именно, именно с одобрением, потому что из-за собственного малодушия хотят разрешить свои проблемы руками ожесточившихся детей. Если бы не хотели, создали бы вокруг скинхедов такое общественное мнение, которое приравняло бы человека со свастикой к изгою, которому самый последний убийца может плюнуть в лицо и будет прав. Кавказцев, африканцев, азиатов и государство, которое, видите ли, не защитило нас от «чёрного» беспредела 90-ых, виним. А того не понимаем, что первыми после распада Союза в зверей превратились — хищных и трусливых зверей-одиночек, озабоченных только собственным выживанием. И только потом на запах падали, исходивший от нас самих, без опаски потянулись гиенообразные подонки из сопредельных государств ради наживы, так как труп хоть и вонял, но был безопасен. Мы рвали на части друг друга, а пришлые рвали нас. А теперь несчастный студент из Конго, не имеющий никакого отношения к сучей свадьбе 90-ых, должен страдать. Мы все — фашисты. Все до последнего человека, поэтому уже не имеет значения, в каком прикиде я буду ходить через час. Смело иди в магазин, Левандовский, и вковывайся по полной программе.
В ночь перед Рождеством отец выгнал Алексея из дома.
— Где шарахался опять? Одиннадцатый час ночи. Сколько мать может мучиться с тобой? — начал выговаривать отец. — И что за одежда на тебе?
— Я теперь скинхед, папа.
— Что???
— Ты не ослышался. Я примкнул к нацистам по идейным убеждениям. Целиком и полностью разделяю их взгляды.
— Целиком и полностью? — съязвил отец.
— Да.
— Разделяешь?
— Разделяю.
— Галя, иди-ка сюда. Где ты там? Послушай, что твоя кровиночка говорит.
Мать зашла в зал. То, что она увидела, повергло её в ужас.
— Алёшенька! — вскрикнула женщина и повисла на жилистой руке мужа, душившей её мальчика. — Василий, отпусти! Не тронь его! Не смей! Ты же убьёшь его!
— Фашист, значит? — сквозь зубы процедил отец, не обращая внимания на истерику жены.
— Да, — смежил глаза Алексей.
— Чтобы через минуту духу твоего в моём доме не было. Иди, куда хочешь, а на глаза мне больше не появляйся, — произнёс отец и разжал пальцы. — Убирайся и благодари мать, что я тебя не убил.
— Иного не ждал, — откашлявшись, сказал Алексей и потёр шею. — Сам бы ушёл, если бы ты не выгнал.
— Не пущу! — упала мать на грудь сыну.
— Не надо, мама. Я перестал бы уважать папу, если бы он поступил иначе. Я очень люблю тебя, но ты — женщина. А женщина пойдёт на любое преступление ради своего ребёнка, поэтому главным всегда будет мужчина, который ради правды и справедливости не остановится даже перед убийством собственного сына.
— Алёшенька, что ты такое говоришь! Отец любит тебя! Василий, ну что ты молчишь! Скажи же хоть что-нибудь!
— Он прав, — сказал отец. — Твой сыночек, кажется, первый раз в жизни сказал что-то умное. Вчера он фестивалил по общагам, жрал водку и развратничал, и я терпел его безобразия, потому что ты всякий раз останавливала меня. Сегодня он фашист, завтра станет вором и наркоманом, послезавтра — насильником и убийцей, но, несмотря на это, твоя животная любовь к нему всё равно не пройдёт. Для других он будет чудовищем, для тебя — несчастным ребёнком. Позора я у себя не потерплю. — Отец указал Алексею на дверь. — Убирайся с глаз долой.
Оказавшись на улице, студент впал в отчаяние. Погружённый в грустные раздумья, он долго стоял возле своего подъезда, а потом поднял воротник и отправился, что называется, туда — не знаю куда. Он решил, что в такой одежде идти к родственникам или друзьям, у которых можно было бы пожить какое-то время, ему никак нельзя. Алексей не отдавал себе отчёта в том, куда направляется. Здоровые ноги, которым не было никакого дела до того, что их хозяин чем-то расстроен, весело маршировали по тротуару, радуясь, что голова не указывает им путь. Левандовский прошагал мимо городской мэрии, драматического театра, сети магазинов «Далалар», загса, удачно форсировал напряжённый перекрёсток и вышел на Дружбы Народов street. Широкая улица, тянувшаяся до аэропорта, была очень удивлена тому, что нога нациста ступила на её территорию, но замечания не сделала. Миновав пятизвёздочную гостиницу «Дружба» («Народы» по непонятной причине в название решили не пускать), оставив позади n-ский Дворец Молодёжи, ноги Левандовского, к своему не малому огорчению, почувствовали, что хозяин расквитался с мучившими его вопросами и, получив приказ «бегом», трусцой понесли шестьдесят семь килограммов в сторону Преображенского Храма.
— Господи, в Твоём Доме переночую, — в миг разрешились сомнения Алексея, и он стал посекундно прибавлять в скорости. — Сегодня же Рождество. Как я мог отчаяться в такой великий день. Двери Храма круглосуточно открыты для всех. Священники в праздничном облачении, свечи горят. Ровно две тысячи лет назад на небе зажглась Вифлеемская звезда. Каспару, Мельхиору и Балтазару она осветила путь. Ты родился в яслях. Для иудеев и эллинов. Перенёс мученья. Пострадал за нас… Господи, радость-то какая, а я…
Перед резными воротами Алексей остановился, лихорадочно выгреб из кармана все деньги и раздал их нищим.
— Знать, припекло, фашист, раз пожаловал, — пригвоздил старушечий голос сзади. — Хоть бы одёжу бесовскую скинул, коль каяться надумал. Я тебя сразу узнала. Намедни казали по телевизеру, как ты людей убивал… Нехристи. Как только земля таких носит.
— Это не я, — повернувшись к старушке лицом, с расширенными от ужаса глазами пробормотал Левандовский.
— Ты, ты на экране маячил. Не отнекивайся мне.
— Бабушка, не я это! Господи, это не я! Не верь ей, Господи! — схватившись за голову, закричал Левандовский и бросился прочь.
Долго бежал Алексей… Ему казалось, что за ним кто-то гонится, и он запретил себе оборачиваться назад. Его сердце разъедал страх. Он мчался по ночному городу, огибая дома, перепрыгивая через выраставшие на пути заборы, сторонясь случайных прохожих, которые могли бы выстрелить ему в лицо: «Это ты! Ты убил!». Ему хотелось завыть от отчаяния, но голос отказывался повиноваться ему, и только жуткий хрип с присвистами от искалеченного бегом дыхания вырывался из его груди. В ушах звенело: «Я убил!». Неожиданно ноги студента стали ватными. Он поскользнулся и упал. Собравшись с духом, Алексей поднял голову и… обмер. Страх, преследовавший его по пятам, поджал хвост, побитой собакой отскочил в сторону и рассеялся во мгле. Алексей протёр глаза, ущипнул себя, но видение не исчезло. Перед ним вновь высился храм Преображения Господня, подпирая куполами звёздное небо, подобно Атланту. Охваченный трепетом юноша подполз к церковной ограде, схватился за железные прутья и, подтянув корпус на руках, встал на колени. Он посмотрел ввысь и едва не потерял сознание от чудной картины, открывшейся его взору. По серебряному руслу Млечного Пути небосвод раздвоился, и звёздный серпантин, потеряв точку опоры, осыпался на землю дождём и притянулся к храму. Колокола, стены и купола засветились.
— Господи, — с умилением произнёс Левандовский. — Чудо маловерному дал. Я теперь не достоин молиться в Доме Твоём. Кичился своей верой перед друзьями, а меньше всех верил, знамения ждал… А вот Вася не ждёт. Он совсем по народному, по-мужицки в Тебя верит, хоть и городской. Вроде современный и умный парень, но стоит заговорить о Тебе — сразу как-то отупеет и оборвёт: «Бог есть. Исполняй заповеди. Нечего копаться в этой сфере, потому что глубин нам понять не дано». Он не сомневается, что есть ад, где грешники горят на страшном огне и рай, в который попадают благочестивые люди. Всё для Васи ясно и просто. Он не задаётся вопросами, не расшатывает свою веру сомнениями, потому что крепок и твёрд… У Артёма отвлечённый мистический ум. При всей своей отталкивающей и притягивающей беспорядочности в каждом событии Твоё присутствие видит. Подключив воображение, так незначительный эпизод обставит, что не остаётся никаких сомнений в Твоём незримом участии. Если нужно, то, по своему обыкновению, даже приврёт в Твою пользу, руль, так сказать, довернёт, чтобы все в один голос воскликнули: «Промысел Божий — факт»… Вовка, он как ребёнок верит. Так же просто и ясно, как Молотобойцев, но не совсем. Вася Тебя суеверно побаивается, а Вовка — нисколько, потому как утверждает, что того, кого любишь, глупо бояться. Мальчишка всегда всем говорит, что Твоё пришествие на Землю — единственная сказка, случившаяся взаправду… Лёнька из себя атеиста строит. Прямо по полочкам разложит, что Тебя нет. Дарвином обстреливает, но при этом ждёт от нас опровержения, жадно ждёт. Он даже не пытается скрыть от нас своей радости, если мы не сломаемся под напором его доводов, выстоим, не усомнимся. Вот такой он человек. Ревизор веры. А как Лёнька расстраивается, когда кто-нибудь из пацанов смеха ради начинает соглашаться с ним. Это же надо только видеть, как он расстраивается, потому что не хочет, чтобы в религиозном вопросе у него шли на поводу. В таких случаях в его глазах так и читается: «Кому ты поверил? Мне? Мне, рабу Божьему Леониду? Я же тебя только на твёрдость испытать хотел, а ты… Не смей. Не смей — слышишь?»… А иудей Яша? Это ничего, что он неправославный. Какая разница? Заповеди, данные Моисею, для всех одни… Господи, я только католиков не воспринимаю. Не воспринимаю совсем. Муку эту в себе ношу. Их священники малышей насиловали. Как же это, Господи? Детишек ведь. Сколько случаев уже всплыло! Истлела Римская Церковь! Вся, Господи! Я их всех за страдания невинных созданий одним миром мажу! Индульгенции и крестовые походы — ничто по сравнению с тем, что они сейчас натворили!.. Прости меня за слова эти. Прости, Господи. На улице останусь, чтобы не смущать людей своим видом. И не замёрзну. Буду молиться и славить Рождество.
— С кем говоришь? — услышал Алексей голос со спины. Он поднялся на ноги и обернулся.
Перед студентом стоял мужчина лет сорока, одетый в поношенное осеннее пальто, вельветовые штаны и рваные летние туфли. Его широкий лоб с волнообразными складками, глубоко посаженые глаза, греческий нос, тонко очерченный рот и густая чёрная борода выдавали в нём мыслителя.
— С Богом, — замявшись, ответил Алексей.
— И отвечает? — серьёзно спросил мужчина.
— Нет, но всё слышит… А Вы бомж, — да?
— Да… Когда-то меня называли Владимиром Сергеевичем.
— А почему от Вас не пахнет помойкой?
— Потому что регулярно моюсь. Не хочу, чтобы из-за ненависти ко мне у людей завоняли души.
— А Вы разве не боитесь меня? Вдруг бить Вас начну. Я же — фашист.
— Боюсь, но только не боли, а того, что через меня новый грех в мир войдёт. Он ведь не только на тебя, но и на меня падёт.
— Почему? Я же Вас бить буду, а не Вы меня.
— И что? Грех-то появится. Ты — главный виновный, а я — соучастник преступления. Перед Божьим престолом вместе отвечать будем.
— Странный у Вас подход. Как-то в голове не укладывается, потому что…
— Тихо, — приложив палец к губам, перебил бомж. — В Вифлееме зажглась путеводная звезда… Он родился.
Они опустились на колени и молились до утра. Алексею было тепло. Сначала он не понимал, откуда взялся огонь, ставший согревать его изнутри, но с каждой минутой его духовное око, которое с годами запорошило пустынным песком человеческих страстей, очищалось всё больше и больше, пока пелена полностью не спала. Прозрев, Алексей удивился ослепительному свету, исходившему от обыкновенной молитвы «Отче наш».
— Господи, как же мы могли забыть её, — думал студент. — Одно то, что с этими словами обращались к Богу все предшествующие мне поколения вне зависимости от сословной принадлежности, напитало эту молитву такой созидательной энергией, по сравнению с которой солнечная — ничто. К двадцать первому веку уже не осталось ни одной просьбы, ни одного сомнения, ни одной радости, ни одной муки, о которых бы не знала эта молитва до того, как мы прочтём её Всевышнему в минуты скорби или восторга. Во все времена эта молитва не требовала от нас ничего, кроме полной искренности. Сказано ведь: «Знать, как Отче наш»… Вся страна до сих пор в поиске. Как я этому рад. Меня даже не пугают деструктивные секты, им не заполнить вакуум. Господи, мне жаль только самых ищущих, самых, может быть, лучших наших людей, которым никто не подсказал в 90-ые годы, что помимо тоталитарных конфессий есть религия, первые последователи которой, — страшно подумать, — вживую слышали Нагорную проповедь Иисуса Христа. Скольких святых, скольких духовных пастырей, скольких учителей, которые могли бы увлечь за собой народ, мы потеряли в прошлом десятилетии, бросив их в чёрную пасть сектантства. Мы проиграли 90-ые. В перерывах между службами священники Русской Православной Церкви были просто обязаны выходить за пределы церквей и храмов и нести людям Слово Божье. Россияне впервые после княжения Владимира Святого ничего не знали ни о Христе, ни о том, куда надо обращаться со своими вопросами и чаяниями, а обрядовая сторона православия, конечно, не могла удовлетворить возросшим духовным запросам общества. И растерянных людей стали расхватывать секты, зомбировать лжеучителя, маги и чародеи. Все же тогда, как дети были, любому слову верили.
После рождественской ночи Левандовский поселился у Владимира Сергеевича в подвале дома № 45 по улице имени Маршала Победы Жукова, который, глядя с таблички, безусловно, уже не мог помешать проникновению фашиста на свою территорию, потому что из героя и освободителя был превращён «благодарными» потомками, как говорится, в одно название. Алексею сразу понравился сырой климат подземелья, потому что он никогда не был в Санкт-Петербурге, о котором грезил с детства; теперь же его мечта начала осуществляться. Он так и прозвал подвал: «Мой Питер». И пусть от Невы, бежавшей по канализационным трубам, несло зловонными продуктами человеческой жизнедеятельности, зато какие здесь были люди. Не люди — блокадные ленинградцы, которые жили в книгах огромной библиотеки бомжа Владимира Сергеевича, когда вся страна перестала жить в книгах и обосновалась в телевизорах. Левандовский не знал ни одного питерца, поэтому жадно набросился на пыльные тома и читал, читал, читал. Знакомство с жителями северной столицы (Алексей не сомневался, что прочитал их и о них) не разочаровало студента, потому что все они были сплошь героями. Положительными и отрицательными, но героями, а не зажиревшими и скотоподобными буржуа из Москвы.
— Вы отстояли свой город, петербуржцы, — подумал Левандовский. — Я должен верить в то, что отстояли. Помогите теперь нам. Кроме вас нам больше не на кого надеяться. Сибирь и Дальний Восток молят о помощи. Златоглавая, за которую мы сражались из века в век, предала Россию. Пётр Великий никогда не доверял Москве, он боялся её. И правильно. Рыба в очередной раз загнила с головы. Ты же всегда был мужчиной, Питер. Петербург. Петроград. Ленинград. А мужчина в истинном понимании этого слова — ум, честь и совесть эпохи. Стань духовной столицей, поддержи нас морально, подари регионам новое слово, будь достоин самого себя, и периферия никогда не забудет тебя. Не с высоты семи холмов ты взираешь на то, как копошится внизу Россия. Одетый в походные сапоги с ботфортами, ты твёрдо стоишь на болотах и не боишься запачкать руки в народной грязи. Лёха Левандовский, — весёлый оратор, противоречивый человек, неравнодушный гад, законченный провинциал и недоделанный славянофил, нашпигованный революционным луком и социалистической гречкой, словно запеченный поросёнок, — клянётся тебе, что твёрдо определится со своими политическими взглядами и другими позициями, если такому исторически прозападному городу, как ты, удастся поправить положение в стране. Я устал от сумбура в своей голове. Нельзя быть эсером и славянофилом одновременно, но я вынужден разрываться и жить под диктовку своего времени, которое говорит мне: «Лёха, будь и тем, и другим (а на правом фланге Волоколамова достаточно), так как в нашем народе наблюдается острый дефицит политически, социально, духовно и нравственно активных граждан. Все косят от гражданского общества, как от армии. Недоборы, недоборы, недоборами погоняют, поэтому ты разместишь и разовьёшь в себе всё, а потом, как пробьёт час, поделишься опытом и знаниями с остальными. Мне плевать, что тебе тяжело. Тяжело в учении — легко в бою. Будь универсалом. И лёгкой кавалерией, и тяжёлой артиллерией, и пехотинцем, и танком будь.
В воскресенье Левандовский разыскал конспиративную штаб-квартиру «Русского Национального Единства» с помощью знакомого частного детектива. Поначалу он опасался, что из-за слабой идеологической подготовки его сразу выставят вон. Страхи Алексея оказались напрасными. Дежурный скинхед, открывший Левандовскому дверь, ограничился простым вопросом:
— Ты за Россию для русских?
Получив утвердительный ответ, нацист проводил студента в огромную квадратную комнату. Сев на кожаный диван, Алексей начал осматриваться. Чёрные и красные цвета, преобладавшие в комнате, раздражали глазные яблоки. На стенах висели плакаты фашистской направленности. Маленькие бумажные флажки с пластмассовыми древками, — напоминавшие уменьшенные копии знамён, сожжённых советскими солдатами у подножия кремлёвских стен на параде Победы, — окаймляли горизонтальную поверхность обшарпанного холодильника «Бирюса», в котором, словно в застенках Бухенвальда, томилось пленное немецкое пиво, готовясь отощать, превратиться в стеклотару и погибнуть, разбившись о чью-нибудь голову. Без Гитлера тоже не обошлось. Гипсовый бюст фюрера с культями вместо рук с недовольством глядел с тумбочки и молча курировал деятельность русского филиала давно распущенной организации. Адольф только никак не мог взять в толк, где его откопали в таком захолустном городишке и почему, откопав, не только не отреставрировали, но и явно поглумились над ним, прилепив под носом какую-то несуразную мочалку вместо отколовшихся усов.
— И после этого они борются за право называться фашистами; даже салфетку под туловище не подстелили, — казалось, думал гипсовый калека. — Хоть бы для приличия «Mein Kampf» пролистали. Тривиальные отморозки. Мюллера на вас нет. Гут, что хоть волосики в целости и сохранности; вы, жиденькие мои, не облупились, не покинули своего вождя, а то бы эта свора наверняка прикрыла мою плешь русской каской с пятиконечной звездой и назвала бы эту нелепицу «преемственностью, интеграцией и интернационалом».
Кроме Левандовского и дежурного скинхеда в квартире никого не было. Активисты «Русского Национального Единства», вероятно, или работали на производстве, или, словно полицаи времён ВОВ, патрулировали улицы, что было уже совсем невероятно, но факт. Из разговора с дежурным Алексей выяснил, что средний возраст национал-патриота — семнадцать лет и один месяц.
— Такие молодые, а уже фашисты, — произнёс Левандовский и с восхищением присвистнул, чтобы не вызвать подозрений.
На это бритоголовый не без гордости заметил:
— Фигня. С каждым годом средний возраст растёт. Дай срок. Как исчезнет последний ветеран, подомнём под себя всех от мала до велика. Средняя продолжительность жизни в стране работает на нас.
К двум часам дня в квартиру стали подтягиваться скинхеды. Дежурный фашист приветствовал их выбрасыванием правой руки, и они отвечали ему тем же концом по тому же месту. К Левандовскому никто не подходил; он был новеньким, и ему пока не доверяли. Из-за высокой концентрации фашистов на квадратный метр Алексею стало казаться, что он попал в гестапо и что вот-вот вокруг него зазвучит чистая немецкая речь. Но этого не случилось. Обрывочные фразы, которые Левандовский с трудом выдёргивал из нечленораздельного шума, были до боли знакомым сорным русским языком, которым он владел в совершенстве. У Алексея сразу отлегло от сердца, потому что с этой стороны провала явки можно было не бояться. К трём часам собрались все двадцать три человека, являвшиеся членами неонацистской организации «РНЕ». Последним подошёл бригадир. От рядовых фашистов лидер отличался нарукавной повязкой, на которой помимо свастики блестел металлический значок «весёлый Роджер», какой Левандовский видел на пиратских стягах и околышах на фуражках гитлеровских офицеров. Алексей никак не мог запомнить молодых людей в лицо. Бритоголовые, одетые в одинаковую униформу, — они виделись ему суррогатной призывной командой, прибывшей в воинскую часть для прохождения службы.
— Какие уж там белокурые бестии — призывники, — анализировал Алексей, пользуясь тем, что им пока никто не интересовался. — Только не туда призвались… Точь-в-точь, как брат рассказывал. Пашка говорил, что, когда его побрили наголо, обули в кирзовые сапоги, выдали ему форму, он перестал узнавать товарищей, с которыми ехал в одном поезде, и знакомился с ними заново… Серая масса… И у Пашки, и здесь у меня — серая масса, живущая по законам толпы, которая всегда не права, так как по пути наименьшего сопротивления выбирает примитивный закон силы и страха, который быстрее усваивается тупым большинством… Да, да… Так чем же солдаты российской армии отличаются от скинхедов? Абсолютно ничем. Первые не обладают свободой перемещения, поэтому издеваются над «духами; вторые обладают таковой, поэтому избивают иностранных граждан на улицах города. В обеих категориях сплочение основывается на страхе, ненависти и круговой поруке. Гнусное сплочение, но от этого оно сплочением быть не перестаёт. И первые, и вторые застрахованы от проникновения здоровых сил, способных разрушить отлаженную систему насилия. Армия — это государство в государстве, закрывающее глаза на дедовщину, так как считает, что только с помощью неё можно заставить повиноваться огромные массы людей вне зависимости от образования и социальной принадлежности солдат. Бритоголовым ещё проще. В их деятельность общество вообще не вмешивается, потому что подсознательно видит в националистах своеобразных чистильщиков, санитаров леса, выполняющих грязную, но нужную работу… Неужели мы все так очерствели? У людей выработался формальный взгляд и на беспредел в армии, и на фашистские течения. Ленивый взгляд. Сонный взгляд. «Фашизм — это плохо, дедовщина — это дурно, — зевает обыватель. — Милая, что там у нас сегодня на ужин?». Мы все перестали ощущать горький вкус жестокости и зла; они для нас пресные, как вода. Если хотя бы раз в неделю не чувствуешь боль незнакомых людей, как свою, — значит, не имеешь права называться человеком, а русским человеком — тем паче. А у нас так. Вывод: России уже давно нет. Есть национальности и народности, а нации и народа нет. Есть государственные службы, существующие в своих корпоративных мирах по инерции, а государства нет. — В противоположность тягостным размышлениям сердце героя новейшего времени затрепетало от восторга. — Это что же получается: не восстанавливаем, а с нуля строим что ли? Как Рюрик, Святослав и Владимир Красно Солнышко?.. Всё, как в древней легенде о варягах, которых призвали враждующие славянские племена со словами: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и…».
Дальше Левандовский мысль развить не успел, потому что увидел, как дежурный скинхед показывает на него пальцем лидеру группировки — Виталию Стёгову, худощавому подтянутому парню с властным и решительным взглядом. Бригадир внимательно посмотрел на Алексея и спокойным голосом, — который сам собой устанавливается у людей, пользующихся непререкаемым авторитетом, — сказал:
— У нас боевое пополнение, господа. Ещё один маменькин сынок решил, что…
— Лёха, — с вызовом перебил Левандовский. — Меня зовут Лёха.
— Ещё один маменькин сынок Лёха, — продолжил Стёгов, — решил, что имеет право носить форму нациста, будучи трусом и хлюпиком.
— Проверь меня.
— Проверим, не волнуйся. «РНЕ» — это тебе не институт благородных девиц. Здесь все связаны кровью черномазых и железной дисциплиной. Беспощадное уничтожение врагов нации, беспрекословное подчинение командирам боевых «пятёрок», личное мужество — законы для национал-патриота. — Фанатичная вспышка в глазах, выброс правой руки вперёд. — Зиг!
— Хайль!!! — взревели скинхеды.
— Они занимают наши рынки, трахают русских баб! Зиг!
— Хайль!!!
— Сбывают наркоту, травят людей пойлом! Зиг!
— Хайль!!!
— Образуют преступные сообщества, проникают в высшие эшелоны власти! Зиг!
— Хайль!!!
— Отнимают рабочие места, мусорят в городах, плюют на наши законы! Зиг!
— Хайль!!!
— Втаптывают нас в грязь, смешивают с дерьмом, смеются над нашей беспомощностью! Заплачут!
— Хайль!!!
— Завоют!
— Хайль!!!
— Подохнут!
— Хайль!!!
У Левандовского волосы встали дыбом. Заурядная идеологическая накачка, за каждым словом которой стояли непримиримая ненависть и звериная жестокость, нашла одобрение в душе Алексея, и он ужаснулся своей слабости. Забылась горячая молитва у ограды храма, ускакала на задворки памяти цель, с которой он пришёл в «РНЕ». Вспомнился азербайджанец, торгующий спиртом возле виадука в самом центре города, потом — цыгане, промышляющие героином и ханкой на «Полярке», далее — китайцы, продающие ширпотреб на одном из рынков, затем отважные и вульгарные девчонки, по глупости увядающие в руках хачиков, и Алексей как недорезанный заорал «хайль» вместе со всеми.
Вооружённые автоматами злобы, опоясанные патронташами мести, увешенные гранатами жестокости, скинхеды вышли на улицы города, чтобы разрядиться и посеять страх и панику в сердцах иностранцев. Блевота смело шла по местному Бродвею, в ногу шагала. Чтобы не наступить в неё, люди шарахались в сторону. Парочки влюблённых вспархивали со скамеек и, взявшись за руки, улетали в более безопасные места.
Морозный воздух отрезвил Левандовского.
— У Стёгова за каждым лозунгом — ненависть, — покатился с горы снежный ком мысли. — Ни слова о любви и созидании. Всё построено на одном разрушении, пронизано отрицательной энергией. Допустим даже, что бригадир прав насчёт всех иноземцев поголовно. Тогда выходит, что тёмные силы, — которые олицетворяют собой фашисты, заражённые злобой, — организовали борьбу с иностранными тёмными силами. Получается, что дьявол схватился с сатаной. Это нонсенс. Чёрный не закрасить чёрным, при столкновении они могут образовать только ещё более страшный иссиня-чёрный… Но ведь ещё и не прав бригадир. Спиртовик азербайджанец? В ста метрах от него русский бодягой торгует; обоих крышуют наши родные менты. Цыгане? А что цыгане? У их барона подвязки в мэрии. Китайцы? Ну и что? Торгуют дешёвым товаром, который не бьёт по карману нищего n-ца. За то, что выпускают товар с низкой себестоимостью, их уважать надо, а не тиранить. Они же тем самым подстёгивают нас к занятиям отечественным производством и временному уходу от торговли, в сфере которой мы пока не можем с ними конкурировать. Производство — причина, торговля — следствие. Из следствия никогда не вытекает причина, из болванки — станок, из колоса — поле, из ребёнка — его родители. Ведь всё предельно просто, а мы в трёх шагах заблудились. Конечно, можно из следствия вывести причину, но мы её всё больше в других видим, а в себе — нет… Разве этому учили Пушкин и Лермонтов?
Левандовский не заметил, что произнёс последние слова вслух.
— К чему ты о поэтах? — повернувшись к Алексею, спросил шедший рядом Стёгов.
— Не понял.
— Понял, не понял — отвечай, когда бригадир спрашивает. Честно и прямо. Твои мысли — мои мысли. Так мною определено.
— А мои сомнения? — нашёлся Левандовский.
— И твои сомнения.
— Короче так, Виталя, — включил дурака Левандовский. — Пушкин — потомок эфиопа, Лермонтов — шотландца. Как к ним относиться?.. Поэты вроде русские.
— В натуре, объясни, Витальбас, — заинтересовались скинхеды, услышавшие разговор. — Пацан в тему спросил. Пушкин с Лермонтовым вроде за нас.
— Копает, сука. И эти за ним, — подумал Стёгов, приказал бритоголовым остановиться и, въевшись в наивно-пустые глаза Левандовского, произнёс: «Не парьтесь, пацаны. Пушкин — та ещё тварь. Выступал за отмену крепостного права, а своим крестьянам вольную не давал, последние соки с них высасывал. Около декабристов околачивался, которые против царя пёрли, а сам на Сенатскую площадь выйти зассал, съехал с участия в восстании. Они вышли, а он — нет. Африканская кровь, твою мать. — Стёгов, сплюнув, выругался. — А у Лермонтова строчки такие есть: «Люблю Россию я, но странною любовью. Не победит её рассудок мой». Странною, пацаны. Странною любовью.
— Как гомосек что ли? — спросил один из скинхедов. — В натуре, пидор гнойный. Странной любовью он любит. Люби, как все, как нормальные пацаны любят!
— Всосал, новобранец? — спросил Стёгов. — Как нормальные пацаны, а не как всякие пидорасы.
— Умён, змий. Ничего, пободаемся ещё, — подумал Левандовский, а вслух выдал: «Всосал. Против фактов не попрёшь».
Скинхеды пошли дальше. Когда они проходили мимо детского парка «Орлёнок», Левандовского заметили два его приятеля по институту. Парни из группы 99-4 проводили бритоголовую шайку взглядом, но Алексея не окликнули.
— Всё, — подумал Алексей. — Как выйдут на учёбу, разнесут по всему институту, что я теперь со скинами. Разговоров на неделю хватит. Обсудят и осудят, по косточкам разберут. Вот она — слава Герострата. Сбылась мечта идиота.
Проигнорировав красный сигнал светофора, банда перешла перекрёсток улиц Вяткина и Ленина. Один из бритоголовых остановился на «зебре», вращая тазом, помочился на спину безобидного животного, стряхнул с отростка последние капли, с ядовитым удовлетворением ощерился и со словами: «Привет саванне», — побежал догонять остальных.
Из закусочной «У Оли» навстречу фашистам вывалила полупьяная компания офицеров, служивших в мотострелковой бригаде, расквартированной в городе.
— Схлестнёмся, — подумал Левандовский. — Как пить дать. Кажется, вечер перестаёт быть томным. Эти дорогу нам не уступят. — В кровь Алексея толчками выбросился адреналин, и вены его закипели. — Это вам не узбеков в подворотнях запинывать. Тут десять против одного не пройдёт. Силы равны. Сейчас они нам устроят такой Сталинград, что мало не покажется. До самого Берлина драпать будем.
Расстояние между компаниями сокращалось. Тридцать… двадцать… десять метров…
…Пересечение взглядов.
Попытка расшифровки чужих намерений.
Мысленный рентген силовых и морально-волевых качеств потенциального противника.
Психологическая атака бравой походки и делано-спокойного выражения лиц на манер: «сверните с дороги, или мы вам шею свернём».
Раздвоение личности в плане: «стоит связываться — не стоит связываться».
Анализ антропометрических данных и молниеносные выводы: «этот убьёт, рука не дрогнет — этот не убьёт, рука не поднимется».
Метание от неизвестности: «посадят — не посадят».
Фашисты (с безмолвным упрёком): «Дедовщину в частях развели, фашисты». Офицеры (с безмолвным упрёком): «Невинных людей убиваете, фашисты».
Фашисты (честный отчёт перед совестью): «Мы ничем не хуже их». Офицеры (честный отчёт перед совестью): «Мы ничем не лучше их».
Извечные вопросы: «кто виноват? — что делать?».
Фашисты (ядерный распад душ): «Лучше погибнуть в разборке, чем иметь такую Родину». Офицеры (ядерный распад душ): «Лучше застрелиться, чем служить такой Родине»…
…Четыре… три… два метра…
Журналист республиканской газеты, притаившийся за углом закусочной в надежде на сенсационный кадр, не вынес развязки исторической встречи фашистов с офицерами. Он был честным человеком, поэтому опустил фотоаппарат. То, что произошло на его глазах, нельзя было снимать, как нельзя снимать порнографические сцены с детьми даже в том случае, если за них предлагают миллионы долларов, прижизненную славу и рай на небесах… даже рай на небесах (допустим эту преступную мысль, чтобы содрогнуться нашему падению). Мужчина стёк по стеклянной стене закусочной, закрыл лицо руками и тихо заплакал, так как с первых своих шагов в журналистике доподлинно знал, что есть негативы, которые при проявлении всё равно останутся негативами.
Скинхеды не приняли в сторону. Не отвернули и русские офицеры. В мёртвой тишине строй бритоголовых прошёл сквозь строй офицеров, как нож сквозь масло. Нацистские плечи поцеловали командирские погоны, и даже саму брезгливость передёрнуло от этого холодного поцелуя. Фашистский штопор, не встретив никакого сопротивления, мягко пробуравил офицерскую пробку, и горькое вино российской действительности было откупорено.
Компании продолжили свой путь…
— Я потерял честь… Кончено, — пройдя двести шагов, решил для себя молодой лейтенант, недавно окончивший училище. Он отделился от офицеров и вернулся в закусочную.
— Дайте, пожалуйста, кухонный нож, — сказал лейтенант продавщице.
— Зачем? — удивилась она.
— Подонка одного убить.
— Шутите?
— Никак нет.
— Тогда не дам.
— Тогда не шучу, — произнёс лейтенант и вымучено улыбнулся.
— Тогда берите, только не забудьте потом занести.
— Спасибо… Честь имею.
Лейтенант решительным шагом вышел на улицу. Осмотревшись, он свернул за угол здания, дошёл до забора, перелез через него и оказался на пришкольном участке, засаженном тополями. Прислонившись спиной к дереву, офицер приставил нож к горлу и хладнокровно произнёс:
— Сделана твоя карьера, Дима… Лена, прости, если сможешь. С таким позором я всё равно нежилец.
— Давай, лейтенант, — поднялся с корточек журналист, сидевший возле соседнего дерева. — Раз — и готово. Я вот уже убит. Люди, наблюдавшие за вашей встречей с фашистами двадцать минут назад, тоже убиты. Наповал, лейтенант. Я жалею только о том, что не запечатлел вас всех на память, чтобы очередной газетой убить ещё десять тысяч. Вот это был бы номер так номер, всем номерам — номер. Не сомневайся, что я бы его выкинул, если бы не любил своих читателей, которых даже не знаю. Я и заголовок уже придумал: «Союзники. Встреча на Эльбе». Двадцать лет в журналистике проработал, думал, что уже ничему не удивлюсь, а вы на моих глазах разошлись, как в море корабли.
— Что тебе от меня надо, журналист? — убрав нож от горла, устало спросил офицер. — Без тебя знаю, что мы повели себя как последние сволочи. — Лейтенант горько усмехнулся. — Полагаешь, что мы испугались?.. Нет, в моей компании почти не было трусов. Всё хуже, гораздо хуже, журналист. Мы просто растерялись. Контингент, который сегодня встал у нас на пути, ничем не отличается от бойцов, которые служат в моём батальоне. Везде полно отморозков. Как с ними быть?.. Бить?.. Или не бить?.. Бить — недостойно офицера, не бить — распоясаются. Это называется «вилкой». Это пат для командиров взводов и рот. Ходить нам некуда, журналист. Слышал, наверное, об издевательствах над бойцами со стороны офицеров.
— Да.
— За зверей нас держишь?
— Да.
— Правильно держишь. Я перед тобой оправдываться не буду. Всё так и есть на самом деле, только знай, что среди нас мало жестоких. В основном, остервеневшие от бессилия. А ещё больше тех, кто, столкнувшись с дерьмом, опустил руки и плюнул на службу.
— Вы и в рабство солдат продаёте.
— Продаём, журналист. Не я продаю, но я уже только потому сволочь, что наши погоны с этими ублюдками ничем не отличаются.
— Чему вас в военных училищах учили?
— Обращаться с оружием, которое мы не имеем права даже носить! Сегодня одного выстрела в воздух было бы достаточно, чтобы разогнать этих сопляков по домам. Если даже мы, боевые офицеры, посвятившие себя служению Отечеству, не имеем права на ношение личного оружия, то что ты можешь от нас требовать. Предположи чисто гипотетически, что мы — элита, как это было и при царе, и при советской власти. Нормально, по-твоему, если бы мы при такой постановке вопроса дрались с этой шантрапой на кулаках? Мы — не уличные забияки, не боксёры. Мы — офицеры, которых готовили для того, чтобы убивать врага на войне и быть убитым врагом на войне, а не за тем, чтобы загнуться под забором от финки недоноска, подобно пьянчужке… Я даже по кодексу чести застрелиться сейчас не могу! Нечем стреляться! Я смешон, журналист! Смешон, — понял?!
Лейтенант сдавил голову ладонями. Его красивое лицо обезобразила мука. Он сел на снег и стал качаться из стороны в сторону, как маятник. Журналист присел рядом и опустил руку ему на плечо. Лейтенант дёрнулся от этого прикосновения, лёг на землю и застыл в скорченной позе.
— Оскорбил я тебя, товарищ лейтенант, — поднявшись, задумчиво произнёс журналист, — но слов своих назад не возьму… Терпи, офицер. Когда такие, как ты, несут службу, я спокоен. Как гражданин России, которому ты присягал на верность, приказываю тебе жить. Приказы не обсуждаются, товарищ лейтенант. Покончить с собой сейчас — равно предать. Стреляться можно только тогда, когда другие офицеры живут по таким же неписаным законам долга и чести, как ты. Тогда, когда твоя смерть от пули никого не удивляет, потому что твой полковой товарищ завтра готов поступить так же в случае проступка. Тогда, когда твоя гибель не ослабляет армию, а укрепляет её, так как кругом все лучшие (одним лучшим больше, одним меньше — не имеет значения). Сейчас же каждый благородный офицер на счету, поэтому твоя задача — стать образцом для российской армии… Я пошёл. Разрешаю погибнуть только на войне. — Журналист улыбнулся. — Лена может гордиться своим мужем. Передай ей, что сегодня ты встретил человека, который в течение тридцати минут умер и воскрес.
Прошла неделя. Владимир Сергеевич и Левандовский пили чай в каморке подвала. У Алексея было скверное настроение, потому что сегодня его ждало серьёзное испытание.
— Почему грустный такой? — сделав глоток, спросил бомж.
— Человека надо будет избить. Это правило вступления в организацию.
— Думаешь, что не сможешь переступить через себя?
— Надо переступить, — бросил Левандовский. — Обязан переступить.
В каморке, каких в подвале было множество, горела керосиновая лампа. Её раритетное сияние по стародавнему, перешедшему от предков обычаю не стремилось проникнуть в тёмные углы, предпочитая недосказанность всем прелестям ярко-голого света электрических ламп. Несмотря на удручённое состояние духа, Алексею было хорошо и спокойно в гостях у Владимира Сергеевича. После совместной молитвы у ограды храма они редко разговаривали друг с другом. В этом насыщенном молчании между ними установилось такое взаимопонимание, которое возникает только между очень близкими людьми, коим легко и приятно думать рядом, просто думать, не испытывая при этом никакой неловкости за отсутствие общения. О Владимире Сергеевиче знали все жители дома, они называли его «нашим хранителем подземелья». За то, что бомж содержал подвал в чистоте, помогал людям ремонтировать квартиры и подъезды, ухаживал летом за цветочными клумбами, разбитыми во дворе, ему платили по сто рублей в месяц с лестничной клетки. За неделю, которую Левандовский провёл у Владимира Сергеевича, они вдвоём занимались благоустройством четвёртого подъезда. После работы Алексей уходил к скинхедам, убивал с ними вечер (на следующий день после воскресной вылазки на город высадился парашютно-десантный полк снега, ударил мороз, и фашисты не выходили на улицы), а поздней ночью возвращался под гостеприимный кров бездомного друга. С зажжённой керосиновой лампой и связкой ключей, словно дворецкие старого замка, они совершали традиционный ночной обход подвальных помещений, читали книги, принесённые в каморки жильцами дома, и ложились спать.
— Могу я тебе чем-нибудь помочь? — спросил Владимир Сергеевич.
— Вырежьте мне жалость и сострадание к ближнему, как аппендицит. Эти вещи мешают мне продолжить миссию.
— Это можно устроить, Алексей, только потом придётся оперировать совесть; после содеянного зла её обязательно хватит инфаркт.
— Инфаркт?
— Да, потому что совесть — сердце души. Муки её нестерпимы… Но и очистительны, правда.
— Значит, удалить и её.
— Погубишь душу… Впрочем, совесть нельзя удалить. Она либо есть, либо её нет, поэтому люди делятся на духовных и бездушных.
— Вы не совсем правы. Совесть имеется у всех, только у одних — спит, у других — бодрствует. Вы уж простите, Владимир Сергеевич, но не до философских рассуждений мне… Как быть-то?
— Кажется, кое-что можно сделать, — подумав, сказал Владимир Сергеевич. — Куда планируете идти?
— В Шанхай вроде собирались.
— Буду там. Насколько я знаю, нацисты на дух не переносят бомжей.
— Не понял.
— Что тут непонятного? Буду рыться в мусорных баках, и ты со своими наткнёшься на меня…
— Они мне — не свои! Не надо меня с ними сравнивать! — гневно перебил Левандовский.
— А здесь ты не прав. Проще всего ненавидеть нацистов, полюбить их — сложнее. У них же больные, покрытые язвами души. Вспомни детство. Когда ты болел, мама не отходила от тебя, поила таблетками, бросала все свои дела и бежала за лекарствами в аптеку, если у тебя ухудшалось самочувствие… Больное тело лечится лекарствами, душа — любовью. Только смотри, не заразись от них, Алексей. Ты же не в карантине, общаешься с ними, значит, такая опасность существует. Эпидемия национализма быстро распространяется в атмосфере социальной несправедливости, безработицы и бессилия государства; в годы разрухи и хаоса даже наши лучшие люди соблазняются на посулы харизматическых лидеров радикальных организаций… А сегодня будешь бить меня. Я так хочу.
— Я не смогу.
— Сможешь. Это мой скромный вклад в общее дело. Сегодня ты утопишь меня в крови, чтобы даже худшие из них поразились твоей жестокости. Я знаю, что тебе нужна ещё неделя.
— Да, мне требуется ещё дней пять, и я буду на коне.
— Точно?
— Точнее не бывает. Я о скинах почти всю информацию собрал, родственника из ФСБ подключил.
— Тогда я к твоим услугам. Если станешь упрямиться, больше никогда не переступишь порог моего подвала.
— Это шантаж.
— Нет, это не шантаж. Это наше с тобой время… Время, когда мне нет никакого дела ни до тебя, ни до себя. Время исполнения долга.
— Страшно мне, — сказал Левандовский и поднялся. Его била дрожь.
— Долг — это всегда страшно. Долг — не весёлый полёт на карусели с карамелькой за щекой. Долг — это нечеловеческие перегрузки при выходе в открытый космос, а потом одиночный полёт в безвоздушном пространстве без людей, но для них. От него нет никаких прибылей, а только неудовлетворённость и беспросветность, потому что он считается выполненным до конца только тогда, когда перестанет страдать последний человек на земле, а это невозможно. Следовательно, от мук долга может освободить только смерть. Есть и плюс. Один. Один единственный плюс, Алексей. На исполнение долга всегда идут добровольно, никто не может заставить тебя идти вперёд против желания. Долг — удел только свободных людей, рабов — никогда.
Шанхай считался самым неблагополучным кварталом. Старые двухэтажные бараки с гнилым и вонючим нутром, улицы, заваленные мусором, не были обозначены на карте города, потому что давно подлежали сносу. В тесных комнатах с протекавшими потолками и наспех слепленными печками ютились нищие и опустившиеся семьи отверженных; здесь люди плодились, как кролики и мёрли, как мухи. Повальный алкоголизм, наркомания, убийства и кражи, укоренившиеся в Шанхае, закрепили за кварталом дурную славу. О жителях бараков привыкли говорить только в прошедшем или будущем времени: «Умер, спился, скололся, сел в тюрьму… Вот-вот умрёт, сопьётся, сколется, сядет в тюрьму». Шанхайские дети и подростки были бесстрашны, как львы, потому что не цеплялись за жизнь, от которой не видели ничего, кроме побоев, голода и ненужности. Взрослых обитателей квартала боялись даже участковые милиционеры, ссылавшиеся в «район смерти» за нерадивую службу.
Оказавшись на территории Шанхая, фашисты построились клином или «свиньёй» — излюбленным боевым порядком рыцарей тевтонского ордена. Левандовский и Стёгов шли в «пятачке», олицетворяя собой ноздри шелудивого животного, с которым чего только не делали, а оно всё равно воскресало из мёртвых, вселялось в великий народ Гёте и Шиллера и норовило в грязь, не страшась ни меча, ни воды, ни пороха.
— Виталя, вон бомж в мусорке роется. Опустилась тварь, русскую нацию позорит. Может его? — произнёс Левандовский.
— Можно и его, — согласился Стёгов. — Только я покрупней птицу вижу.
— Где?
— Позырь направо. Жирная еврейская гнида из трущоб вырулила.
Когда Левандовский повернул голову, у него внутри всё оборвалось. В полном парне, спускавшемся с барачного крыльца, Алексей узнал своего друга — Яшу Магурова.
— Это не еврей. Местный, скорей всего, — справившись с волнением, равнодушно произнёс Левандовский.
— С фига ли местный, когда я его знаю, — бросил Стёгов и приказал «свинье» остановиться. — Наши отцы вместе шубами мутят. Товарищество с ограниченной ответственностью, блин.
— И что? Отец этого еврея безответственный что ли?
— Нет, но тебя это колебать не должно. Ты чё-то, в натуре, много вопросов задаёшь. Иди боевое крещение принимай. Или сдрейфил?
Левандовский выпал из строя и отправился к Магурову. «Свинья» осталась наблюдать со стороны.
— Привет, брат, — поприветствовал друга Магуров и покосился на фашистов, которые стояли метрах в пятидесяти. — Рад тебя видеть на своём участке.
— Я по твою душу, — сказал Левандовский. — Один из скинов указал на тебя.
— Понятно… Бей, пока я не передумал, Лёха. Я выдержу.
— Не могу.
— Ты с самого начала знал, что мы не в игры играем. Бей.
— Нет.
— Бей.
Левандовский замотал головой и попятился назад.
— Назад, собака бритоголовая.
— Яша, ты что? Мы же с тобой за одной партой.
— Ха, за одной партой, — ухмыльнулся Магуров. — Помнишь, как у тебя деньги из папки исчезли?
— Так это ты???
— Я!
— Врёшь!
— Это русский может врать, сколько ему будет угодно, а для нас, евреев, ложь — непозволительная роскошь, потому что вы сразу всех собак на нас вешаете.
— А ты очень изменился, Яша.
— Ты тоже, Лёха… Не в игры играем.
— Ты же меня сейчас просто разозлить хочешь.
— В яблочко, — бросил Магуров. — Я не нуждаюсь в твоей сопливой дружбе. Из-за таких вот драных гуманистов, как ты, африканские дети с голодухи пухнут, на Югославию с воздуха гадят, танками Ирак боронят. Иди в генеральную ассамблею Организации Объединённых Наций, там твоё место. Тусуйся с этими человеколюбивыми пустомелями, а с моего участка — вон. Они там до такой степени гуманны, что скоро мы вместе с ними весь мир политкорректно оплакивать будем. Бей, Лёха, пока я не приравнял тебя к ним.
— А ты бы меня смог?
— Да. Мы с тобой не бабы, чтобы нюни разводить.
— Яшка-а-а, — взмолился Левандовский.
— Бей, крыса бритоголовая, иначе уже завтра я куплю тебе сарафан и кокошник, а потом проведу по улицам города, как медведя.
Бомбовый удар Левандовского раздробил Магурову нос. Кровавые осколки от взрыва взметнулись в воздух, упали в снег и растопили его. Алексей продолжил яростную атаку, и уже через минуту местность на лице Якова изменилась до неузнаваемости. Вот так же (с тем лишь отличием, что во время чеченской войны солдаты второго мотострелкового батальона не знали, что из-за преступной халатности командования расстреливают высоту, занятую четвёртой десантной ротой сутки назад) Левандовский из всех орудий расстреливал Магурова, своего лучшего друга. Там, в Чечне, пехотинцы не подозревали о том, что над ними гибнут не успевшие окопаться десантники. А здесь, в Шанхае, — в который с чистыми помыслами пришёл Яша неделю назад, — Алексей уже видел, кто перед ним, но всё равно ничего не мог поделать. Дежурные по стране несли потери, а целый и невредимый враг стоял в сторонке, ехидно улыбался и комментировал удары руками и пинки. Но даже озверевшие от вида человеческой крови фашисты содрогнулись бы, если бы услышали диалог наших героев, состоявшийся после того, как всё было кончено.
С глухими рыданиями Алексей опустился на колени перед ветошью, в которую превратился его друг после избиения, и произнёс:
— Я проклят… Я ведь не для проформы, а из ненависти тебя бил. — Левандовский упал на спину Магурова и тихо-тихо завыл: «Яша-а-а. Яша-а-а, как жи-и-ить. Не хочу-у-у. Хуже и-и-их. Мальчишка-а-а. От славянофила до фашиста один ша-а-аг. Не вери-и-ил. Фашист во мне всегда ж-и-и-ил. Всегда-а-а.
— Знаю, Лёша, — расклеив запёкшиеся в крови губы, сказал Магуров. — Знаю и то, что твоя ненависть… сейчас вышла… Иди к ним… Бросишь… возненавидишь их — прокляну… И не кори себя… Ты не так, как менты людей в казематах… У них — метод, спокойно калечат, душегубы, а ты — не такой… Для тебя страшно было… Слава Богу… Иди.
После встречи с другом Левандовский перестал есть. Он мало спал и быстро терял в весе. Его глаза ввалились и горели лихорадочным огнём, совесть хватали инфаркты, исстрадавшаяся душа рассогласовалась с истощённым телом и мечтала о смерти, как узник Освенцима. Алексей ненавидел и боялся себя. Он замолчал, и Владимир Сергеевич не докучал ему разговорами, понимая, что рядом с ним живёт человек, самостоятельное сердце которого не нуждается ни в одобрении, ни в понимании, ни в поддержке со стороны людей.
— Боже мой, — думал бомж. — Их сотни тысяч, если даже я одного встретил. Откуда они? У них же самые обыкновенные матери и отцы. Пища, которую они употребляют, ничем не отличается от еды, готовящейся на кухнях всей страны. Я же вижу, что он счастлив. Пал, а счастлив, и даже сам не осознаёт этого. Ему кажется, что он мучится, а ведь он счастлив как никогда. Россия ещё не знала таких. Сейчас они готовятся, ломаются и бродят, как закваска, чтобы потом в самом жестком обществе, в самой гнилостной среде, среди самых порочных людей чувствовать себя превосходно и весело высасывать гной из общественных ран. Прошла эпоха «белых ворон», которые лелеяли своё одиночество, отпочковывались и были гонимы отовсюду за броско-избранный цвет перьев, экстравагантное поведение и экстраординарные принципы. Чёрные вороны с белыми сердцами — вот новые русские; таких и примет, и полюбит стая. Людям, подобным Алексею, будет радостно и интересно только там, где самое дно; они изучат родословную зла, как свои пять пальцев, и начнут расщёлкивать тёмные души, как семечки. Чёрта с два кто-нибудь из них отступится или взвоет от народа, потому что без него им жизни нет.
В продолжение пяти дней после шанхайской истории Левандовский собирал компромат на фашистов. Попутно он успел провалить восемь рейдов боевых «пятёрок», заранее предупреждая милицию о маршрутах передвижения скинхедов по улицам города.
— Чё-то легавых развелось, — недоумевали бритоголовые, не догадываясь о том, что милицейские кордоны на пути следования чёрных отрядов выставлял Алексей, и что стоило чуть отклониться от заданной Стёговым траектории передвижения по городу, и уже бы никто не смог помешать их беззакониям.
Двадцатого января 2000-ого года, находясь в штаб-квартире «Русского национального единства», Левандовский почувствовал, что его презрение к самому себе достигло Эвереста и вонзило истерзанный флаг совести на макушке горы. Алексей посмотрел вниз. Под ним проплывали облака. Лёгкий ветерок трепал его волосы, и он никак не мог понять, откуда у него, у бритоголового фашиста и последнего человека на планете, появились шёлковые пряди. Ему было легко и спокойно. Он не испытывал страха. Алексей долго стоял на пике, наслаждаясь ласковым солнцем, а потом, когда вокруг него опять начала сгущаться тьма, вырвал флаг из снега и начал спуск. Внизу его ждали люди.
— Это я вас ментам сдавал, — сказал Левандовский.
Среди скинхедов произошло замешательство. Только спустя минуту Стёгов заговорил:
— Ты знаешь, как поступают с предателями.
Фашисты поднялись с дивана, стульев и вынесли приговор:
— Смерть!
— Ты всё слышал, Лёха, — произнёс Стёгов. — Раз сознался сам, мы тебя не вздёрнем, а расстреляем. — Бригадир посмотрел на часы; они показывали половину первого ночи. — Самое время. Если готов — поехали.
— Поехали. Мне уже всё равно, как умирать.
Левандовского отвезли в берёзовую рощу и приказали ему рыть могилу. Замёрзшая земля не поддавалась лопате, и Алексей развёл костёр. Он сказал скинхедам, что никуда не собирается бежать, поэтому им лучше посидеть в тёплых машинах, пока он не приготовит себе могилу. Посовещавшись, фашисты решили, что из-за крещенских морозов Левандовский разогреет землю не раньше утра и, оставив с пленником двух караульных, разошлись по автомобилям.
Потекли часы ожидания. Это была последняя ночь для Левандовского, и он упивался ею. Догадываясь о том, какая участь постигнет его за предательство, он ещё до прихода к скинхедам подвёл итоги прожитой жизни, мысленно попросил прощения у друзей и напрямую — у Бога. Оставался только один неразрешённый вопрос, который мучил его, не давая в полной мере насладиться красотой зимнего леса: что будет с родителями?
— Папа… Мамочка милая, — перенёсся Алексей в родной дом, в котором родился и вырос. — Я благодарен вам за всё, что вы для меня сделали, но вы должны понять, что я иду на смерть сознательно и что моя душа, как и души всех людей с незапамятных времён и до скончания века, не принадлежит никому, кроме Господа. Для вас Алёша — прежде всего тело, которое ты, мамочка, кормила молоком в первые месяцы жизни, а ты, папа, с умилением учил ходить. Тело — ваше, а душу в меня вдохнул Бог, а потом наблюдал за её малейшими движениями, за её ростом и развитием. Ваши понятия о душе сына ограничивались двумя предложениями: «Лёша, ты хороший мальчик… Лёша, ты плохой мальчик». А Господь в мельчайших подробностях видел, насколько я хорош или плох. Для тебя, мама, я пошёл в первый класс в семь лет, как это положено всем детям, а для Бога — раньше, намного раньше. Мне не было ещё и трёх, когда я поделился мороженым с девочкой из бедной семьи, которой никогда ничего не покупали. Да, именно тогда я получил свою первую пятёрку, а ведь не то, что читать и писать — разговаривать толком не умел. А вот во второй класс я перешёл, когда мне было уже десять лет. Десять, мама, а не восемь, потому что мой дневник пестрел двойками, которые ставил мне Господь за то, что я не слушался тебя, дерзил старшим, дрался и хулиганил. До сегодняшнего дня физический рост вашего сына перегонял духовный, и я хочу это исправить. Немедленно. Экстерном. — Левандовский подбросил веток в огонь, достал из куртки записку и обратился к охранникам: «Пацаны, когда вы меня сюда везли, то говорили, что вам нужно алиби. Я позаботился об этом. Вот записка, собственноручно написанная мной. Подбросите её в мой почтовый ящик. В ней ваше алиби, ваше стопроцентное спасение, парни».
Угрюмый скинхед, которого в организации звали Крестом, подсел поближе к костру, раскрыл записку, пробежал по ней глазами, передал её второму охраннику и произнёс:
— Что я могу для тебя сделать, Лёха?
Не дождавшись ответа от приговорённого к расстрелу, нервный скинхед по прозвищу Бром понёсся по строчкам вслух: «Дорогие мама и папа, я ухожу в монастырь. Не ищите меня, ибо сказано: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её». Папа, ты всегда говорил, что ненавидишь фашистов, а в Евангелии от Матфея сказано: «… любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…». Прощайте. Ваш сын Алексей».
— Убойно сказано, — произнёс Бром, взял в ладонь снег, растёр им лицо и задал вопрос Левандовскому: «Это Бог написал?»
— Его Сын… Он попросил апостолов, и они написали.
— А чё Он сам не написал? — спросил Крест. — Некогда что ли было?
— Да, некогда, — ответил Алексей. — Он людей спасал.
— Чё-то Он добрый, — заметил Бром. — Люди — такие твари, а Он их спасал. На фига?.. Мочить их надо, вырезать под корень.
— Я слыхал, что Он погиб, — сказал Крест. — Как это было? И разве Сын Бога может умереть?
— Может… Его на кресте распяли, гвоздями к доскам прибили.
Бром повалил Левандовского на землю и, вцепившись ему в горло, зарычал:
— Врёшь, падло. Разве за такие слова, которые у тебя в записке, кто-то мог Его убить? У последней сволочи рука бы на Него не поднялась. Ты сдохнешь за свою ложь. Я тебя лично грохну, скотина. Он живой, — понял? Такой Человек не заслуживает смерти, не может умереть, не должен умереть. — У Брома началась истерика. — Я тебя сейчас кончу, а потом сам могилу вырою! Сам вырою-ю-ю, сам вырою-ю-ю!
— Скажи ему, что ты соврал, — бросил Крест, тщетно пытаясь оторвать Брома от Левандовского. — Скажи, Лёха, что ты соврал, иначе я ему мешать не стану. Пусть душит тогда. Смерть тебе тогда.
— Он воскрес, — прохрипел Левандовский.
— Как понять «воскрес»? — сказал Бром и ослабил хватку. — Я такого слова не знаю. Выражайся понятно, падло. Бог в твоей записке понятно выражался, а ты всякую фигню несёшь.
— Ожил, значит.
— На попятную пошёл! — рассвирепел Бром. — Крест, тащи пушку! Тащи пушку! Пока наши спят, я его кончу! Он у него умирает, а потом оживает! Зачем ты глумишься над Его светлой памятью, собака?! Пушку, Крест! Теперь он меня, в натуре, накалил!
— Ему нет смысла врать! — закричал Крест в ухо Брому. — Он сам нам сдался! Такие не врут! Отцепись от него! Отвянь, — слышишь?! Наших перебудишь!
Три человека молча сидели у костра и думали о своём. Лунный трансформатор работал на полную мощность, и на лесной полянке было светло. Лампочки в звёздных бра, не выдерживая напряжения, сгорали, вычерчивая хвостатые следы на космическом полотне.
— Вроде оттаяла земля, — произнёс Левандовский. — Пойду с Россией попрощаюсь, а потом могилу рыть начну.
— Где ты её тут найдёшь? — ухмыльнулся Крест. — Тёмный лес кругом.
— Так он и есть — Россия… Берёзки в двух шагах, с ними и попрощаюсь.
— Пусть сходит, если ему надо, — буркнул Бром. — Лишь бы не сбежал.
— Не бойся, не слиняет, — авторитетно заметил Крест. — Такие не сбегают. У него это на роже написано. Правильно я говорю, приговорённый?
— Правильно. Некуда мне бежать. Я даже углубляться в лес не стану, а то вас потеряю. Рядом постою, чтобы вы меня видели, а я — вас.
— Только нюней там не разводи, — посоветовал Бром. — Москва слезам не верит. Жёстко надо, без лишних слов. Прощай, берёзовая Россия, а я помирать пошёл, — уяснил? Сказал, как отрезал. Это в фильмах её по коре гладят, слезами поливают, серёжки её на уши цепляют и гнусят: «Ой, ты моя белая, ой, ты моя распрекрасная, ой, ты моя одноногая». А ты ей: «Так, мол, и так, кудрявая. Я умру, Крест сдохнет, Бром в ящик сыграет, а ты, как стояла, так и стой назло врагам и кислород выделяй. Пока кто-нибудь из нас жив, мы твою последнюю ногу отрубить не дадим, потому как калек не бросаем».
— Я же предатель. Почему ты меня в свой список вставил? — спросил Левандовский.
— Ты — гребень, вот ты кто. Ты нас продал, а её — нет.
— Бром прав, — сказал Крест. — За это я никому не позволю издеваться над тобой, Лёха. Сам пристрелю. Сразу — в сердце. Ты это заслужил.
Наступил молочно-розовый рассвет. Дежурный по стране стоял возле свежевырытой могилы.
— Это хорошо, что яма неглубокая, — заметил Алексей пасмурным фашистам, высыпавшим из машин. — Подснежники по весне прямо из меня расти будут. Человечина — отличное удобрение. Только бы успеть разложиться, только бы успеть. И ведь не успею же, чёрт вас всех подери! Зима-то вон какая лютая. Надо было летом к вам податься. Если бы в июне к вам заглянул — в июле бы грохнули, то есть уже бы на исходе августа я бы полностью сгнил. А теперь чё? Теперь лежи в земле ледниковым мамонтом, как бестолочь. — Левандовский занервничал. — Эй, вы! Чтобы расчленили меня, — понятно?! Так быстрее процессы разложения пойдут. С того света вас достану, если на части меня не изрубите. Проследишь, бригадир, чтобы исполнили моё желание. Я же не требую от вас невозможного. Знаю, что отделить руки от брюха вам вполне по силам.
— Готов, Лёха? — спросил Крест.
— Готов… Быстро отошли все от меня, а то Крест кого-нибудь из вас зацепит. Отвечай потом перед Богом.
— Не зацеплю. Я на кошках натренировался.
— Только вот что, — произнёс Левандовский. — В вашей поганой одежде я помирать не согласен. Брезгую. Погибну дежурным по стране, в родной форме. Она у нас небогатая, но в мильён раз лучше вашей.
— Дежурный??? — воскликнули скинхеды.
— Да… А теперь напущу чуток пафоса, чтобы нагнать на вас страху… Смотрите, заблудшие, как умеют умирать наши рядовые, чтобы вам оставалось только догадываться, какие у нас маршалы.
Левандовский снял кожанку и остался в белой рубашке с красной повязкой на рукаве. Он не испытывал страха. Его чувства обострились до предела, и Алексей подумал, что иногда стоит умирать, чтобы вот так вот, как ему это легко удаётся сейчас, с наслаждением дегустировать тонкое вино лесных запахов, зримых и незримых прелестей русских берёзок, редких звуков, осязательного до тошноты биения сердца с терпким привкусом жизни, продолжающейся несмотря ни на что. У Алексея открылось и шестое чувство. Он ясно понял, что скинхед по прозвищу Сизый хочет заполучить его золотую печатку, но не решается сказать об этом.
— Иди сюда, Сизый, — позвал Левандовский. — Хочу подарить тебе печатку, ты давно о ней мечтал.
— Откуда ты знаешь? — поразился скинхед.
— Не знаю, а чую. Наверно, близость смерти сказывается. — Алексей попытался снять печатку с безымянного пальца, но она не поддавалась. — Проклятый металл! Намертво прикипает, стерва… Слазь с пальца, железяка, а то хуже будет. Даже перед смертью человеку покоя не даёшь, но я тебя проучу… Сизый, тащи топор.
— Не н-н-надо, — застучал зубами скинхед.
— Дурак! — оборвал Левандовский. — Зачем мёртвому палец? Тем более безымянный. Все — пальцы как пальцы, а этот без роду и племени, чужой для всех. Между прочим, на вас смахивает, пацаны. Вроде на одной руке вместе со всеми живёте, а именем вас пока не удостоили. Сволочи, подонки, ублюдки, нечисть — слишком мягкие имена по отношению к вам, поэтому оставайтесь пока безымянными. Ничего. Потомки придумают. Потомки — они такие стервецы, что обозначат вас, как надо.
— Стреляй, Крест! — закричал бригадир. — Я приказываю!
— Успею, Виталя. Обещаю, что прикончу его. Сначала посмотрим, как палец рубить будет.
Фашисты притихли… Левандовский потрогал острие топора, положил палец на берёзовую ветку и без того, что называется «собраться с духом», ударил наискось. Брызнула кровь. Ни звука при обжигающей боли. Только самопроизвольно дёрнулись веки, и помутилось в глазах. В состоянии шока Алексей подул на обрубок, потом поднял палец с земли, подстрогал его, как чопик, снял с него кольцо и бросил золотую безделушку Сизому. С отсутствующим взглядом Левандовский стал подниматься на земляную насыпь. В его глазах закоченела пустота, на бледном лице не было ни одной морщинки, как у спящего ребёнка. На подъёме его повело в сторону, и ошеломленные скинхеды простили Алексею эту единственную слабость. Два человека даже бросились ему на помощь, но их остановили.
Выпрямившись на кургане, Левандовский повернулся к бритоголовым, прочертил обрубком кровавую полосу на лице и скомандовал:
— Товьсь! — Крест поднял пистолет. — Цельсь! — Крест поймал Алексея в прицел. — От российского информбюро! Мать: Крестова Маргарита Васильевна, 1957 года рождения, уроженка Одинцовского района Новосибирской области, русская. Отец: Крестов Анатолий Фёдорович, 1955 года рождения, уроженец Первомайского района Новосибирской области, русский. Сын: Крестов Николай Анатольевич, 1981 года рождения, уроженец Первомайского района Новосибирской области, русский. Член фашистской партии с 1998 года. Характер — нордический. С товарищами по работе сдержан. В связях, порочащих его, замечен не был. Дед: Крестов Фёдор Михайлович, 1918 года рождения, уроженец Первомайского района Новосибирской области, русский. Двадцать седьмого июня 1941 года добровольцем ушёл на фронт. В составе 242-ой стрелковой сибирской дивизии участвовал в битве под Москвой. Поднявшись из обледенелых окопов в сорокаградусный мороз, в рядах отдельного лыжного батальона перешёл в контрнаступление. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был награждён медалью «За отвагу». В сражении за деревню Смирновку подбил вражеский «тигр» ценой собственной жизни. Пал… смертью… храбрых… Пли!
В глазах Креста потемнело. Он сам не понял, как его рука согнулась в локте, а палец нажал на курок. В берёзовой роще раздался выстрел в воздух и страшный крик:
— Слава… павшим… героям!!! — Крест бросил пистолет Брому и встал рядом с Левандовским.
— Товьсь!.. Цельсь!.. 42-ой год. Сталинград. Высадка роты балтийских морпехов на берег Волги. «Город взят», — празднуют победу в гитлеровской ставке. Ты меня слышишь, Бром? Город взят. Так уже думали все, кроме ста реалистов из упомянутой мною роты, которой командовал твой дед — капитан Браминский. Он и его матросы были уверены в том, что Сталинград — не Гитлербург ещё минут двадцать, а если повезёт — тридцать. Повезло, Бром. Они прожили сорок минут. Вот такие они были славные реалисты. Последнего из них подняли на штыки в двадцать минут четвёртого, а уже в двадцать пять минут четвёртого на берег Волги высадилась новая рота, но уже романтиков, которые решили, что будут удерживать береговой плацдарм в течение часа. Они были наивнее бойцов твоего деда, поэтому не дожили до своей мечты пять минут, а бойцы твоего деда пережили её аж на десять. Матросы комроты Браминского погибли счастливыми людьми, Стас, потому что были реалистами… Романтики и реалисты, оптимисты и пессимисты, умные и не очень — они продлевали жизнь Сталинграду на десять, двадцать, сорок минут, пока не сделали его бессмертным. Пли!
— Вечная… память… героям!!! — прокричал Бром, выстрелил в воздух, бросил пистолет в снег и встал рядом с Левандовским.
— Подбирай, Сизый. Твоя очередь… Товьс!.. Цельсь!.. Не знаю, что с тобой делать, парень. У тебя бабушка — армянка. Армянка, фашист. Она у тебя армянка, нацист. Ты меня понял? Она вынесла с поля боя пятьдесят четыре солдата всех родов войск. Пехотинцев, Сизый, танкистов, Сизый, эстонцев, Сизый, евреев, Сизый, азербайджанцев, Сизый и прочих, не помнящий родства Иван по имени Юра. Её все звали сестрицей, а она их — братишками. Ты меня понял? Её медалями и орденами можно засыпать яму, которую я вырыл. Знаешь, что она сказала, когда ей отняли отмороженные руки и ноги в медсанбате в 43-ем? Ты даже не представляешь, какую работу проделал мой родственник из ФСБ, чтобы я произнёс тебе её фразу, бритоголовый. Слушай. Она сказала: «Ничего, доктор. Я спасла пятьдесят четыре солдата. Значит, в запасе у меня осталось ещё сто восемь ног, которые будут ходить по всему Советсткому Союзу… Рук меньше. Их только девяносто четыре. У некоторых отняли, доктор, но ведь и одной рукой можно собирать виноград». Твой русский дед носил её на руках до 53-его года. Так не носят на руках даже здоровых женщин, парень.
Стёгов подлетел к Сизому, вырвал у него пистолет и произнёс:
— Командуй, Левандовский. Давай! Я вас всех перещёлкаю. Одного за другим. Мой дед — власовец. Воевал против Красной армии. Давай! Стрелял по коммунистам. Командуй! Сгнил в сталинских лагерях. Смелей!
— Товьсь! — Бригадир навёл пистолет на Алексея. — Цельсь! — Пистолетная мушка села на грудь. — 45-ый год. Берлин. Штурм Рейхстага. У тебя было два деда, нацист. У человека всегда, как минимум, два деда, фашист. Один твой дед стоил другого, скинхед. Вся Россия отразилась в твоей семье. Медаль «За взятие Берлина» имеет две стороны. На лицевой стороне — твой первый дед. Крутояров Евсей Петрович, 1900 года рождения, член РСДРП с 1916 года, участник Гражданской войны на стороне «красных». На оборотной стороне — твой второй дед. Стёгов Александр Иннокентьевич, 1901 года рождения, монархист, участник Гражданской войны на стороне «белых». Это наша с тобой Россия, Стёгов. Её выдали нам вместе с паспортом. Знаешь, что бы сказал по этому поводу мой друг Волоколамов? Так вот он бы сказал: «Лёха, если сжечь паспорт, у нас не будет никакой России. Если оставить его, то будет дерьмовая». Не знаю, как ты, а я предпочитаю дерьмовую, чем никакую. Да, синицу в руках, чем журавля в небе. Паспорт лежит у меня в левом кармане рубашки. Ты сейчас как раз в него целишь. Пару месяцев назад, чтобы убить меня, тебе бы пришлось стрелять мне в задницу, потому что именно там находилась моя жизнь вместе с паспортом. Но потом я переместил документ гражданина из района мягкого места в район твёрдого сердца — туда, где ему и положено быть. Знаешь, что это значит? Это значит, что я не осуждаю и люблю твоего деда по отцовской линии, который только в силу обстоятельств стал предателем. Это значит, что я уважаю и люблю твоего деда по материнской линии, который только в силу обстоятельств стал героем. Позор первого — мой позор, слава второго — моя слава. Чтобы стать настоящим человеком, мне требуются оба твоих деда. Через позор я уже прошёл, когда превратился в фашиста задолго до того, как пришёл к вам. Теперь — к славе. Пристрелишь меня, когда расскажу до конца историю о штурме Рейхстага. Твой дед, Виталя, воевал в отделении сержанта Егорова, а грузин Кантария был его лучшим другом. Знамя, водружённое над Рейхстагом Егоровым и Кантарией, было пятым по счёту. Не все это знают, но вы теперь знайте.
Сердце Алексея учащённо забилось. Перед его глазами поплыли развалины Берлина…
— …Крутояров, нашему полку выпала большая честь. Будем водружать знамя Победы над Рейхстагом. Перед тобой пойдут три группы. Если им не удастся выполнить задачу, пойдёте вы с Вердером. Далее — Егоров и Кантария. Далее — Алёшин и Сидоренко и так далее, пока наш флаг не будет реять над куполом. — Замполит замялся. — В Рейхстаге засели лучшие солдаты вермахта. Фанатики, Крутояров… Можешь отказаться, я всё пойму.
— Готов выполнить приказ Родины, товарищ капитан, — отчеканил старый солдат.
Первых две группы знаменосцев погибли на подступах к зданию, третья — на первом этаже фашистского логова. Пошли Крутояров и Вердер. Им было легче. Они уже бежали по краснознамённой ковровой дорожке, постеленной перед ними Стечкиным и Танаяном, Балуевым и Алкснисом, Герасименко и Базадзе. Там, где не хватало красной материи, товарищи знаменосцев по батальону, прикрывавшие очередной символ Победы, стелили кровью; она ничем не отличалась от цвета флага. Шквальный огонь врага превращал штурмующие батальоны в роты, но натиск на чёрную цитадель не ослабевал. Сегодня волны боевого моря знали только прилив. Никакого отлива. Только прилив. Шёл советский солдат. На последний приступ шёл, потому что он был действительно последним и для тех, кто выживет, и для тех, кто погибнет. Шёл советский солдат и не строил планов на будущее, потому что сегодня надо было закончить войну. Не завтра. Не послезавтра. Сегодня, так как зло надо всегда уничтожать сейчас и никогда не оставлять его на потом.
На пятой ступеньке крыльца пуля эсэсовца Курца прошила рядового Вердера, и боец воткнулся лицом в лестничную гармонику.
— Доигрался, — упрекнул себя Вердер. — На радостях, не сгибаясь, шёл. Крутоярову — крышка. Скоро встретимся, друг.
Взлетев на крыльцо, безоружный Крутояров развернулся, взмахнул знаменем живым и мёртвым, которые бежали за ним, и пошёл к парадному входу в Рейхстаг, чтобы своим телом забаррикадировать горящее зло в его доме для дуэта Егорова и Кантарии. Когда он переступил порог здания, то в миг отяжелел от вонзившегося в грудь свинца.
— Жатва, Господи, — произнёс Крутояров. — Расплата за братьев, убитых мной в Гражданскую. За продразвёрстку, за раскулачивание, за взорванные церкви. Смыл кровью. Прими мя, Господи. — И рухнул на пол…
Виталий Стёгов снял с рукава повязку с нацистской свастикой и бросил её в яму. Его примеру тут же последовали другие фашисты. По лицу бригадира текли слёзы.
— Лёха, скажи мне как на духу, — произнёс Стёгов. — Понял ли дед перед гибелью, что пятое знамя Егорова и Кантарии взовьётся над куполом?
— Он знал это точно так же, как то, что Бог простил его за колчаковцев, убитых в 19-ом, как то, что за ним пойдёт уже не пара, а тройка… Сержант Егоров, рядовой Кантария… и офицер, имя которого будут предано забвению с подачи высшего партийного руководства.
— Назови нам его фамилию, Лёха, — попросил Бром. — Мы должны знать всё.
— Нет, пацаны. Сделать великое дело и остаться при этом неизвестным — высшая гражданская и человеческая доблесть. Если скажу вам, как звали этого офицера, то отниму от его подвига ровно половину… Под гранитной плитой, над которой горит вечный огонь, лежит мой дед… А может, твой, Малый?.. Нет, твой, Батон… Хотя, скорей всего, твой, Тайсон. Мы все — прямые наследники героев. Слава — это вам не трёхкомнатная квартира, которую рвут на куски ополоумевшие родственники после смерти хозяина. Её нельзя разделить на части и продать на толкучке за тысячу рублей. Железку «За взятие Будапешта» — можно, а славу деда, освободившего столицу Венгрии, — никогда.
— Никогда не говори никогда! — в гневе выпалил Стёгов. — Слушай разговор двух братьев при разделе отцовского имущества:
«Старший брат: Чёрт с ним, с пылесосом. Забирай его, но подвиг нашего отца на Курской дуге я тебе не отдам. Он принадлежит мне по праву старшинства.
Младший брат: Нет, за Курскую дугу ты не отделаешься пылесосом. Семь вражеских танков, подбитых в окружении, тянут на квартиру.
Старший брат: Забирай эти проклятые квадратные метры, братишка. Это пыль по сравнению с тем, что сделал наш контуженый батя, когда задымился его Т-34… Не забыл?
Младший брат: Разве такое забудешь?.. Он взял банку с краской, вылез из боевой машины и начал подновлять надпись на броне: «Смерть фашистским оккупантам». Немцы из танковой бригады фон Штольца оценили мужество наводчика и не пристрелили его. Даже не взяли плен. Отец говорил, что многих из них Гитлер погнал на войну насильно, поэтому убивал их, но не ненавидел.
Старший брат: А на 9 мая отец всегда плакал, вспоминая, как некоторые воины-освободители насиловали немецких девушек и мародёрствовали в городах Германии с не меньшим скотством, чем это делали фашисты на территории Советского Союза… После всего этого забирай себе всё, брат. И пылесос, и квартиру, и славу. Мне уже ничего не надо».
— И это тоже правда, — вздохнул Левандовский.
— А ты, наверное, думал, что я тебя расцелую, — произнёс Стёгов. — Знаешь, почему я не пристрелил тебя?.. Совсем не за красивые глазки и проникновенные речи, полуфантазёр. Нет, не за это. За наглую уверенность в победе добра над злом, Лёха. За вызывающую, бестактную, упёртую, ехидную, даже подлую уверенность в торжестве правды и справедливости. Сознайся, что тебе сегодня было весело и интересно. Не сомневаюсь, что с такими подходами ты бы и дьявола обработал. Я заметил перемены, произошедшие в тебе, уже тогда, когда ты признался в предательстве, но я не ожидал, что ты будешь приручать нас, как диких коней. Ты редкостный ковбой, Левандовский. Я аж опешил от твоей прыти. В тебе всё так и кричало: палец — так палец, смерть — так смерть, горькая правда — так другой и не надо, потому что ты, гад такой, свято веришь в то, что пусть и через миллион лет, но добро обязательно победит зло. Ты был настолько самоуверен, что мне ничего другого не оставалось, как поверить в то, что подонком на полянке являюсь я, а не ты. Пацаны раньше припухли, а я до последнего тебя прикончить хотел. Если бы ты сказал, что мой дед погиб окончательным и бесповоротным героем, чтобы польстить мне, то я бы всадил в тебя пулю. Но ты не побоялся напомнить нам о «красном» терроре, в котором участвовали красноармейцы, и я понял, что являюсь мерзавцем. Гениальная партия, Лёха. Ты меня прочитал. Клянусь, что теперь не трону ни одного человека и буду творить добро… Как палец?
— Нормально. Зарою его в могилу. Прошлого не воротишь.
— Но обрубок следует прижечь, чтобы не началось заражение крови. Я костёр разведу. Как начнём прижигать, кричи от боли и радости за нас, за великое и низкое прошлое России. Теперь не можно, а нужно. Ты… мы все пока легко отделались. Раз слава дедов досталась нам бесплатно, значит, за их грехи рано или поздно придётся платить.
Глава 13
21 января 2000-ого года. Больница города N. Одиночная VIP-палата. Одиннадцать дней до времени «Ч».
Избитый Магуров лежал на койке и мысленно благодарил Левандовского за то, что через отбитые внутренности Алексей освободил его от работы в Шанхае. Плутишка наивно полагал, что выбрал сдуру самый сложный участок, тогда как его товарищи по тайному обществу — Яша не сомневался — теперь загорают.
— Да, я не справлялся, — успокаивал себя Магуров, — но там бы никто не справился. Шанхай — полноценный ад безо всяких оговорок, поправок и скидок, потому что в этом квартале в нечеловеческих условиях живут отборные грешники, которые люто ненавидят друг друга и мечтают о смерти, как о рае. Пусть они и не горят пока на страшном огне, зато мёрзнут, как надо, так как уже употребили на дрова последнюю щепку в округе. Даже не знаю, что лучше. Жар-то хоть костей не ломит…
…Благо, что коммунальные службы отрубили в Шанхае электричество, и теперь люди не имеют возможности смотреть телевизор, а то бы ещё хуже стали. Одна телевизионная дива Ксения Собачкина чего стоит. Соблазнительная девушка, про которую давным-давно написано, что «соблазнам должно прийти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит». Через неё соблазн не то, что входит, а прямо без стука вламывается в каждую квартиру. Уж лучше бы ты, Ксюша, тупой и некрасивой была, а то ведь умная и красивая. Уж лучше бы ты убийцей, воровкой, проституткой и наркоманкой была, чем талантливой телеведущей. С тобой мне всё понятно. На Страшном Суде пойдёшь как соучастница всех преступлений, совершённых в стране с такого-то по такой-то год. Всех, Ксюша, кроме шанхайских, так как этот квартал отрублен от электричества за систематическую неуплату. Своеобразно они бойкотировали твои передачи, — не правда ли? Уж до чего скверные люди, а тебя бойкотировали. Если бы были так же умны, как ты, Ксения, то наверняка сказали бы что-нибудь навроде: «Уж лучше в темноте, холоде и без Собачкиной, чем при свете, в тепле и с Собачкиной». Совершив преступление, шанхаец скажет в суде: «Я обокрал магазин. Ксюша Собачкина тут не при чём, потому что за электричество не плачу, телевизор не смотрю». По-своему честные и порядочные люди, — не так ли? А другой вор, бриллиантовая ты моя, непременно станет отпираться: «Я не виноват. Ксюша Собачкина научила. Вот вы меня судите, а её покрываете. Она до сих пор не в тюрьме, а на первом канале сидит. Советую вам, Ваша честь, усилить милицейские наряды в городе. Готовится новое преступление. Я в этом уверен на триста процентов, потому что двадцать минут назад кончилась передача с её участием»…
…Интересно, сколько человек ты угробила, Ксюша? Думаю, счёт пошёл на миллионы. Вылезай из чёрного ящика, не прилагай грехи к грехам. Это надо сделать тотчас. Выпрыгивай из телевизора, иначе в 2020-ом году телезрители опять проиграют. Уверен, что в будущем какой-нибудь Пётр Емельянов из Урюпинска отправит на передачу «Что? Где? Когда?» следующий вопрос: «В начале 21 века были развращены и уничтожены миллионы людей. Что в чёрном ящике?». Если не покинешь прямой эфир, Ксюша, то знатоки даже не будут брать минуту на обсуждение и ответят досрочно: Ксения Собачкина. Заметь, что для приличия могли бы и помучиться, ведь, например, наркотики, водка или власть тоже вроде подходят. Так нет же. Ты не хочешь оставить несчастному Пете ни одного шанса. За то, что ты обокрала его мозги в начале тысячелетия, он не получит даже денежную компенсацию за моральный ущерб. Знатоки сразу раскусят немудрёный вопрос Петрухи, потому что им не надо ни копаться в энциклопедиях, ни к бабке ходить, чтобы уже сегодня знать то, до чего Емельянов дойдёт только через двадцать лет, если вообще дойдёт. Вот такая ты у нас умница и красавица…
…Грубиян Вася называет тебя сучкой, но ты его прости. Он — парень прямой, с плеча рубит, а я вот — не такой, стараюсь обходить рифы, лавировать до последней возможности. Как у Молотобойцева только язык поворачивается называть такую красивую, обаятельную, умную и талантливую девушку, как ты, сучкой? Только кобели могут позволить себе непристойное слово в адрес дамы. Какая же ты сучка, если ты — сучок? Респектабельный сучок на четвёртой ветви власти. На СМИ, Ксюшенька. Древесный сучок — это совсем безобидно…
…Ксения, я почти уверен в том, что это определение, характеризующее тебя с головы до пят, не посмеют вырезать даже невидимые главные редакторы, которые борются за чистоту русского языка в космическом пространстве. Они в курсе, насколько материальна мысль, выпущенная голубкой в небо. Они замечательные и честные ребята, поэтому не потерпят в своей епархии ни зла, ни сучку, а вот куртуазный сучок — запросто. Видят же, что Магуров целых две с половиной секунды мучился, подбирая нейтральное определение, которое не затронет чести и достоинства всем известной светской львицы, не подмочит её кристальной репутации и в то же время слизнёт с неё гламурную пудру невинности и непричастности. Нет, даже не гламурную пудру. Может, детскую присыпку? Опять не то. Стиральный порошок? Ищи лучше, Яша. Неужели кокаин? Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. — Магуров выпрямился на больничной койке и, соединив полные кулачки в молитвенный замок, обратился к строгим цензорам. — Не режьте мыслишку насчёт ультрамодного сучка, ребята. За это я скажу, что вы в выгодную сторону отличаетесь от английской королевы, которая властвует, но не правит. Приготовились? Начинаю хвалить. Вы и властвуете, и правите. Властвуете над людьми, которые создают мыслишки, и правите сами мыслишки. Что бы люди только делали без вас? Пропали бы, напичкали бы информационный эфир ересью и злом. Но этого никогда не произойдёт, потому что вы дали клятву Космического Редактора: «Ересь и зло не пройдут». Насчёт чепухи вы никому ничего не обещали, так как она навредить не может. Всё верно, и я вас не виню. Рыночная конъюнктура — она и в небесных сферах рыночная конъюнктура. Капитализм — он и в Африке капитализм. Человеческими мыслями сыт не будешь. Чай, не хлеб. Мне вас вообще больше всех жаль. Люди же не контролируют свои мысли, льётся из них и льётся. За языком ещё немного следят, а мысли совсем не контролируют, как вдохи и выдохи…
…Например, я тут на больничной койке думаю, что Россия до ручки дошла, несмотря на то, что по телеку базарят о том, что всё прелестно. Настолько дошла, что некоторые оборванцы, которые с детства мечтали о карьере проводника в поездах дальнего следования, за эту пресловутую ручку взялись. Пишут там что-то, пытаются. Много таких знаю. А иные, может, баранов хотели пасти. Не под водочку, а под дудочку. Так нет же. Животноводство на пару с пастухами ликвидировали, как какую-нибудь буржуазию. Что остаётся? Пасти человеческое стадо, а это дело хлопотное. Тонкорунная овца напрочь не признаёт грубошёрстную, чёрный баран — белого собрата. Все носятся по лугу в поисках изумрудной травки, вытаптывая только-только проклюнувшуюся зелень, невразумительно блеют друг на друга, бьются лбами, теряют животный облик, не говоря уже о человеческом. И всех их надо помирить, вылечить от парши, защитить от волков в овечьей шкуре, потому что не бывает плохих баранов, а только никудышные пастухи. Но эти мысли едкие, как белизна, и горькие, как полынь; космические цензоры отфутболят их бумерангом зарвавшемуся автору, чтобы отбить у него всякое желание думать или, на крайний случай, почки, как мой друг Левандовский…
…Уж лучше запустить в небо не бомбардировщик, а что-нибудь из гражданской авиации, какую-нибудь пустяковую мысль. Например, бумажный самолётик. Гуня тискал Пузика в подъезде. Он путешествовал язычком от Красной Пади до горно-грудного прохода, а потом прижал к перилам всю эту географию и произвёл такое землетрясение в пять баллов, что Красная Падь лопнула при первых толчках и приняла в себя такой объём белёсой лавы, что наступил последний день беззаботной Помпеи. В упоении над падшей красоткой сексуально озабоченный Помпей, безусловно, ещё не подозревал о том, что проник своими извержениями так глубоко, что на месте погибшей Помпеи заложил фундамент нового города, ленточку-пуповину которого перережут через девять месяцев в честь открытия. И нарекут сей град Мишкой-беспризорником. Вырастит Мишка без материнской ласки и твёрдой руки отца, научится нехитрому строительному делу, станет разрушать новые Помпеи и закладывать на пепелищах обесчещенных городов уродливые фундаменты деревень и хуторов, так как пьяный мастерок уже не будет способен на основание стольного града. И пресечётся род Мишки на внуках, потонет в морях пьянства и разврата. И восстанет деревня на деревню, хутор на хутор, брат на брата. Господи, что только не придёт в голову больному человеку, находящемуся в бездействии…
…Я честно ушёл из Шанхая, пацаны. Вы бы там и неделю не продержались. Не сбежал же я от трудностей? Нет. Просто красиво ушёл. Помог Левандовскому, загородив его от провала собственным телом, которое, между прочим, до сих пор ноет и болит. В придачу вылечил друга от рака национализма. Да если бы не я — конец Лёхе, а так сейчас со скинами, небось, пиво глушит, сушёной воблой закусывает, по ходу дела развенчивая фашизм…
…А Вася в деревне, наверное, уже раздобрел на пирожках и парном молочке…
…Про Артёма и говорить нечего. Ему вообще больше всех повезло, в малину попал. Как там у Есенина: «Я читаю стихи проституткам и с бандюгами жарю спирт». Эротический сектор — это вам не Шанхай. Красные фонари, безразмерные лифчики, розовые стринги, пеньюары с рюшечками, телячьи нежности, французские поцелуйчики, фривольные позы из «Камасутры», презервативы со вкусом брюквы. В общем, в распоряжении Артёма целая сексуальная индустрия. Живи — не хочу. N-ский гарем — не Гарлем нью-йоркский. В первом можно зачать ну максимум новую жизнь, если не предохраняться; во втором — легко потерять собственную. В гареме нет буковки «л», потому что любви там и так с избытком. В Гарлеме «л» присутствует, чтобы хоть как-то скрасить отсутствие самого главного чувства в афро-американском квартале. Артёму всегда везёт, приятное с полезным совмещает. Может, конечно, в малине пальчик уколоть, но это не смертельно. Любовь с элементами мазохизма сегодня никого не шокирует, от неё кайф получают. Тело требует новых впечатлений, неизведанных удовольствий. Пока всё безобидно, но я уже знаю, к чему приведёт весь этот сексуальный постмодернизм. Скоро мазохизм перестанет устраивать любовников, и они пойдут дальше. После совокупления женщина начнёт пожирать мужчину, как это делает самка богомола с самцом после завершения полового акта. Вот до чего может довести неуправляемая похоть. Вместо того чтобы носить классический смокинг, мы решили щеголять в порнографических лохмотьях постмодернизма, сшитых из аляпистых лоскутов. Надо остановиться, забыть о бренном теле и вспомнить о вечной душе, молиться Богу Авраама, Исаака и Иакова, а не насекомому богомолу. Да, видно, Левандовский здорово вправил мне мозги, если всякая мысль ведёт к краху…
…Мальчишке тоже повезло. Стоп, Магуров. Он пошёл к детям, к будущим продолжателям нашего дела. Не смей развивать мысль, не смей перекладывать с больной головы на здоровую. Не трожь детей, которых бросили родители, иначе до страшных глубин доберёшься. Пока с ними Вовка, всё будет нормально. Он к своим пошёл, в детдоме ему будет легко…
…Не забыл я про тебя, Лёня, не забыл. Тебе легче всех, между прочим. С элитой работаешь, в молодёжном парламенте тебе ничего серьёзного не угрожает. От ленивых остолопов, которые в нём заседают, не дождёшься ни вреда, ни пользы, как от балласта. Вообще-то зря я балласт унизил. От него хоть какой-то толк есть; его можно сбросить с воздушного шара за борт, чтобы тем самым облегчить массу падающего корабля. Молодых парламентариев вниз не скинешь. Они зубами вцепились в свои кресла, как будто их этому наверху кто-то уже научил. Впрочем, если Лёня и скинет их с воздушного шара, то корзина от этого легче не станет, никому от этого легче не станет. Что он будет с этими ребятами делать — ума не приложу. Ему остаётся только весело падать вместе с ними, ведь потребительская корзина, в которой они сидят, уже и так пустая. Народ с пробитого шара они уже сбросили. Что у них осталось? Литр молока, булка хлеба, полтора яблока, сто грамм ливерной колбасы и они сами, конечно. Скинут продукты — умрут с голоду, не скинут — всё равно разобьются. Им по всему уже недолго жить осталось. Пусть пока точат лясы, как спасти воздушный шар, пока не заточат их до такой степени, чтобы уже не пользоваться ножом при дележе продуктов, оставшихся в потребительской корзине падающего вниз корабля. Эх, и повеселится Лёня. Ему нечего терять. Перед тем, как упасть, он дополнительно пропесочит молодых парламентариев, чтобы эти пустопорожние мешки с песком засыпали весь гололёд на земле. Только бы он постарался, только бы грамотно разбился, только бы кому-нибудь на голову не упал. Я уверен, что внизу ещё есть живые. Это в корзине, это наверху живым не пахнет, а внизу — всё в относительном порядке. Народ у нас крепкий таки до обидного. Его вываливают за борт, сбрасывают со счетов, а ему всё ни по чём. Другие на его месте уже бы давно перемёрли хотя бы в знак протеста. Но нет. Наш народ в знак протеста может только жить. Боже, я свихнулся, наверное. В любом случае мне больше всех не повезло. Я самый несчастный в мире человек.
— Здорово, Яшка. О чём задумался? Я уже тридцать минут тут нахожусь, а ты меня не замечаешь.
— Лёшка? — удивился больной и присел на кровати.
— Собственной персоной.
— Лицо у тебя какое-то странное.
— Не бери в голову. У тебя — фиолетовое, у меня — странное. У всех разные лица.
— Ты осунулся с момента нашей последней встречи.
— Лучше осунуться, чем осучиться. Я сегодня просто не выспался. Не шёл сон, Яха, — вот хоть убей. Думаю, дай-ка я в лес сгоняю, костерок разведу, за жизнь на свежем воздухе подумаю. Знаешь, прямо до смерти захотелось пошептаться с берёзками. Пацаны из «РНЕ» с понятием оказались, сразу согласились подвезти. Видят же, что человек при любом раскладе до утра не дотянет, если его немедленно до леса не подбросить. Скорым поездом, скорой помощью долетели мы до рощи. У меня даже ощущение сложилось, что они сами погибнут, если я скончаюсь у них на руках. Вот такие сердечные люди, а мы про них — фашисты, фашисты.
Левандовский улыбнулся и стал доставать из пакета фрукты. Магуров отшатнулся от протянутого ему мандарина, увидев, что на руке Алексея не достаёт безымянного пальца.
— Брат, что у тебя с пальцем?
— Ничего страшного, — спокойно сказал Левандовский. — Я его нечаянно отрубил, когда дрова для костра заготавливал. И вообще чё ты ко мне прикопался? То лицо ему моё не нравится, то отсутствием пальца я ему не угодил. Спроси лучше, как у меня со скинами.
— Как у тебя со скинами? — задал вопрос Магуров, не сводя глаз с обрубка.
— А чё скины? Я им: «Ребята, давайте жить дружно, как Леопольд учил. Кот плохого не посоветует».
— А они?
— А чё они? «Кто грызунов наказывать будет?», — говорят. А я им в ответ: «Бог накажет. Он шельму метит».
— А они тебе чё?
— А они мне: «Так, может, Ему помочь? Не всесильный же Он, в конце концов». А я им: «В том-то и дело, что всесильный, но и не без своих слабостей, конечно. Господь сказал, что можете творить добро, сколько вам будет угодно, грести достойные поступки экскаваторами. Зная несовершенную природу человека, Бог разрешил даже ненасытность в проявлении любви к людям. Мало вам любви к маме и папе — любите соседа. Не хватает соседа — переключайтесь на аборигена из Папуа — Новой Гвинеи. Хоть всю Океанию жадно обожайте. Бог с вами — воруйте, зелёный свет вам даю. Бессовестно крадите возможность совершения добра у менее расторопных людей. Развязываю вам руки даже на убийство. Вешайте на осине собственную жадность, посылайте на гильотину зависть, распинайте на кресте гордыню, морите голодом чревоугодие, отправляйте в каторжные рудники праздность, забивайте до смерти злость, с особым цинизмом насилуйте и умерщвляйте похоть и так далее до бесконечности. Знаете, что вам за всё это светит? Пожизненный срок в раю без права переписки… А месть и расправу над злом оставьте Мне. Это Моя вотчина».
— А нацисты чё?
— Сошлись на том, что свободы им насыпали с горкой… А как у тебя в Шанхае?
— Полный завал, Лёха, — начал жаловаться Магуров. — Не разгрести, кажется. Я пытался им что-то рассказывать, к чему-то их призывать, но всё бесполезно. Даже слушать не хотят. На нищету ссылаются, а потом посылают.
— Это ничего, — успокоил друга Левандовский. — Я-то думал, что всё гораздо хуже будет, а тут — нищета.
— Так они же ею прикрываются. Типа, пьём, потому что бедные, воруем, потому что никому не нужны.
— А они, между прочим, на тебя похожи. Сущие хитрецы, — рассмеялся Левандовский. — Нищетой, значит, прикрываются? Умора. Посмотрим, что они станут говорить, когда мы лишим их этой защиты. Не факт, что лучше станут. Богатые свои злодеяния деньгами и телохранителями прикрывают, бедные — отсутствием таковых. Не страна — сплошной бронежилет. Весело живём. А в том, что они посылают тебя на три буквы с твоими душеспасительными беседами, усматриваю добрый знак. Если словам не верят, значит, поумнели. Без высшего образования, без книг, безо всего поумнели. Заметь, что для России от этого — одна экономия. Зачем вкладывать деньги в просвещение, если все и так просветятся?
— Циник, — бросил Магуров.
— А ты — нытик и хлюпик. Они тебя послали, и ты сразу руки опустил. Что ты так моего цинизма испугался? Не надо уподобляться святошам, которые от страха за свою нравственную чистоту шарахаются от зла, равно как и от добра. Интеллигенция пропитана этим пороком, как торт — кремом. Она хочет отсидеться за крепостными стенами, когда страна гибнет. И белый флаг выбросить не желает, и выйти к народу не хочет, и впустить его к себе не соглашается, потому что в грязи замараться боится. А я вот в форме нациста ходить не страшусь. По фигу мне, с кем общаться. Мне и с академиком, и с грузчиком одинаково приятно. И с плохим, и с хорошим человеком дружбу водить буду. Буду делать добро, а думать — о зле. В убийцу, вора, насильника мысленно перевоплощусь, чтобы изучить технологию зла, его первопричины и следующие шаги, чтобы ничему не удивляться, ничего не бояться и успешно бороться. Если знаешь болезнь досконально, найдёшь противоядие. Не знаешь, страшишься её — неминуемо заразишься.
— Докатились, Лёха, — вздохнул Магуров. — Мне иногда кажется, что наша дружба только на боли за Россию держится. По-моему, таких разных людей, как мы, объединяет только страна. Только о ней и говорим. Скандалим, ругаемся, спорим только из-за неё. Ведь есть же ещё девчонки, вечеринки и прочее.
— Я с тобой полностью согласен. Девчонки, вечеринки, водка — это тоже Россия. Россия, в которой мы будем отдыхать от трудов праведных. А Шанхай, фашисты — это Россия, в которой мы будем работать.
— Помнишь, как я у Волоколамова девчонку увёл? — задал вопрос Магуров.
— Увёл и увёл.
— Нет, ну вы посмотрите на него. И он туда же. А если у тебя уведу?
— Так у меня пока никого нет, — пожал плечами Левандовский. — Так-то я не против.
— Наградила же судьба друзьями, — посетовал Магуров. — Один другого хлеще. Хорошо, очень хорошо. Тогда вот что… «500 дней» Явлинского выведут Россию из кризиса.
— Ложь! — взорвался Левандовский. — Это тебе Волоколамов напел?! Наглая ложь!
Магуров лёг на кровать и, подложив руки под голову, изрёк:
— Так и знал, что Россия — это диагноз. Ему пять стодневок политика дороже, чем любовь к женщине. Ненормальный… Мы все — ненормальные.
— Яша, ты чего? Обиделся что ли? Сам посуди. Явлинский — мужик хороший, только он…
— Мужик, — перебил Магуров. — Обыкновенный мужик, дубина ты стоеросовая. А я тебе о девчонках, о девчонках говорю.
— Не понял.
— Ты дурак или как?
— А ты, ты, ты, — от обиды и непонимания начал заикаться Левандовский, — ты воспользовался мной, чтобы сбежать из Шанхая.
— Твоё личное мнение, — забегали глаза у Магурова.
— Не юли. Я уже одного парня в твой район направил. Поможем, чем сможем. Не строй из себя калеку. Ты выгнал из меня беса фашизма, теперь моя очередь за твоих лукавых чертенят браться. К ответу, Яша.
— Как ты мог обо мне такое подумать? — надулся Магуров.
В это время кто-то ударом ноги открыл дверь в палату и втолкнул в проход мужика лет тридцати, одетого в спортивный костюм, поверх которого был накинут застиранный больничный халат, какие выдают родственникам и друзьям перед тем, как пропустить их к больному. Следом зашёл Стёгов и бросил:
— Принимай военнопленного, Лёха. — Бывший бригадир «РНЕ» посмотрел на Магурова. — Здорово, Яша. Заочно тебя знаю. Наши отцы вместе шубами торгуют. Прости меня за всё, ведь это я тогда Левандовскому приказал тебя избить. Лёха мне уже рассказал, что ты тоже дежурный. — Стёгов заскрежетал зубами, его глаза налились кровью, а ноздри расширились и побелели, когда он перевёл взгляд на мужика, которого привёл в больницу под дулом пистолета. — На твоём участке сорняки растут, Яша. Вот один вырвал и сюда притащил. Рассказывай дежурным, шанхайский бурьян, за какие заслуги я тебя сюда приволок.
— Осади, Виталя, — сказал Левандовский. — Говори толком.
— Хорошо. Освободи меня от клятвы, которую я дал тебе утром. Если бы не она, я бы этого урода ещё в Шанхае шлёпнул. Без суда и следствия. Рассказывай пацанам, лебеда шанхайская, как ты жену дубасишь, как ещё беременной лупил её по животу, как она забивается под кровать, чтобы накормить ребёнка молоком. В подробностях, собака.
— Щенёнка от другого прижила, сука, — глухо зарычал мужик. — Если бы не твоя пушка, я бы тебя сам в Шанхае положил. Узнал бы тогда, как в чужую семью нос совать.
Стёгов бросил пистолет на пол и потребовал:
— Забери слово, Лёха. Я с этим чертополохом на кулаках разберусь.
Левандовский подошёл к Стёгову, взял его за грудки и, поразив и без того опешившего Виталия северным сиянием в глазах, сухо произнёс:
— Мало крови пролил, скинхед? Слово, данное мне в берёзовой роще, назад не беру.
— Лёха, ты сдурел? Если мы тебя несправедливо расстрелять хотели, то с этим мужиком… он же беременную женщину бил.
Шанхаец опешил. Магуров схватился за голову и стал бормотать:
— Всё. Остановиться. Нельзя. Люди. Нет, нет. Выхожу из игры. Надо остановиться. Погибнем. Мы все погибнем. Забыть. Обо всём забыть. Лёха, что же мы делаем?
— Желаю прожить долгую и счастливую жизнь, друг, — ухмыльнулся Левандовский. — А я продолжу погружение.
— Только кессонную болезнь не подхвати, когда всплывать будешь, — отцепив руки Алексея, сказал Стёгов. — Что с этой шанхайской падалью делать?
— С этой секунды ты приходишься ему родным братом, Виталя.
— Братом???
— А ты как думал? Плоть от плоти, кровь от крови.
— Лучше пристрели меня.
— Обрыбишься. Раз не дорожишь ни своей, ни чужой жизнью, будем учиться трепетно любить и свою, и чужую.
— Кто ты такой, чтобы мне указывать?
— Никто. Проваливай отсюда. Уходи, а бить его я тебе не дам.
— Что предлагаешь?
— Поселишься с ним под одной крышей.
— Вы чё совсем охренели? — заартачился мужик. — Тамбовский волк ему брат. Я его ментам сдам, если он ещё раз ко мне сунется.
— Пасть завали, брат, — вежливо произнёс Левандовский. — Все люди — братья, брат. Ты — старший, Стёгов — средний, а я — младший. Сдашь его ментам — застрелю, брат.
— Психи, — не на шутку перепугался мужик. — Вы тут все — психи.
— Заткнись, брат, — улыбнулся Стёгов и обратился к Левандовскому: «Продолжай, брат».
— В общем, вроде всё уже сказал. Живёшь с ним, Виталя. Помогаешь ему во всём. Начнёт приставать к нашему племяннику — огонь на поражение. Рыпнется на свою жену — огонь на поражение. Нецензурная брань — огонь на поражение. Нажрётся — огонь на поражение. В нашей большой российской семье, дорогие братья, скоро воцарится мир и покой. А про большую семью я к тому, мужик, что, если кому-то вдруг захочется прибегнуть к помощи третьих лиц, написать жалобу в милицию, например, то этот кто-то очень пожалеет о своём необдуманном решении. Братьев у нас много, — правда, Виталя? И все без исключения — ворошиловские стрелки на поражение, если кто-то захочет стащить у них победу. Чё смотришь, мужик? Много нас у матушки России. Как там у классика: «Нас тьмы, и тьмы, и тьмы».
Во время этого разговора Магуров постепенно отошёл от потрясения, вызванного известием о несостоявшемся расстреле Левандовского. Ему стало стыдно. Зная друга, Яша понял, что Алексей, заглянувший в глаза смерти прошлой ночью, открыл в себе какие-то внутренние резервы, которые помогают ему оставаться адекватным и спокойным даже в случае с мужиком, издевавшимся над женой и ребёнком. Магуров подумал, что, если он по отношению к шанхайцу испытывает страх и неприязнь, Стёгов — ярость и неприязнь, которые застилают им глаза, то Левандовский в отличие от них не ощущает ничего подобного. Яша пришёл к выводу, что это чувство нельзя назвать равнодушием. Тогда что? Неужели любовь? Магуров стал отгонять эту мысль, но она возвращалась к нему снова и снова, как преданная собака, пока не овладела им полностью. Да, Яша вынужден был признать, что Алексей любит это чудовище, но как-то беспощадно, как тех бесстыдных людей, которых Христос выгнал из храма. Магуров угадал. Это была суровая любовь, которая наказывает подлеца одними ей ведомыми способами, но никогда не уничтожает и не растаптывает человека.
— Всё ясно, — произнёс Стёгов. — Мы с моим шанхайским братом уходим. Осталось только выяснить его имя.
— Вадим Евгеньевич, — пробурчал мужик. — Почаще и с улыбочкой.
— Пошли, дорогой Вадик. Я уже успел привязаться к тебе. Пошевеливайся. Мне не терпится познакомиться с племянником. Кстати, надо будет забежать в магазин и купить мальчонке игрушку, а то не по-людски как-то. Дядька я или не дядька, в конце концов? Устроим маленький безалкогольный праздник в узком семейном кругу.
— Это почему безалкогольный? — воспротивился мужик.
— Можно и алкогольный, только потом я прострелю тебе позвоночник. Обездвижу, так сказать, до полной парализации, чтобы ты какое-то время ходил под себя, а потом умер в собственных испражнениях, из которых я тщетно пытался тебя вытащить, брат.
— И ещё, — сказал Левандовский. — Если вдруг выяснится, что жена нашего любимого брата — шалава, родила племянника от соседа, то отомстишь за поруганную честь семьи, Виталя.
— Огонь на поражение? — уточнил Стёгов.
— Да, в этом случае пристрелишь всех: и Вадима Евгеньевича, и его жену, и ребёнка.
Только сейчас Стёгов понял, что Левандовский затеял новую игру на грани фола, и решил подыграть ему:
— Пожалуй, надо было вчера тебя грохнуть, Лёха. Ты совсем лишился рассудка, чё попало буровишь.
— Да вы чё, пацаны? — заскулил мужик, упал на колени и пополз к Левандовскому. — Какая она шалава? Ни с кем она не путалась. Мой ребёнок. Мой, — слышите? Это всё языки злые. Оговорили её, оговорили. Не надо никого убивать… Пожалуйста! Я всё осознал!
— Тише будь, непутёвый брат, — спокойно сказал Левандовский. Он присел на корточки, погладил мужика по голове, почесал у него за ухом, как будто у него в ногах действительно валялся не человек, а самый настоящий пёс, и произнёс: «Возвращайся к семье, Вадим. Мы тебя изредка навещать будем. Можем помощь оказать, можем и убить. Вот такие у тебя жестокие, но справедливые родственники».
— Спасибо, братья, — униженно прошептал мужик. — Я теперь ни-ни.
Когда шанхаец вышел, Левандовский сказал Стёгову:
— В такое время живём, что надо или всех подчистую к стенке ставить, или всех поголовно любить. Как будущий менеджер среднего звена замечу тебе, что второе предприятие выгоднее первого по следующим соображениям. Во-первых, не посадят. Во-вторых, никаких затрат на пули и похороны. В-третьих, если всех перебить, то некому будет работать. Не знаю, как вы, а я намерен вкладывать свои моральные капиталы в разрушающиеся души, как в банк. Согласен, что проценты по вкладам у нас невысокие, но это ещё бабка надвое сказала. Пока невысокие. Это только потому, что ради стабильности мы предпочитаем открывать счета в проверенных банках. А ты инвестируй свою душу в разваливающиеся общества, товарищества, организации, предприятия и банки, скупай контрольные пакеты, тогда или вылетишь в трубу, или сверхприбыли получишь. Например, вчера я поставил всё на фашистов и не прогадал. Не хвалюсь, Виталя. Пойми правильно.
— Я понимаю.
— В общем, в народ надо душу вкладывать. Больше скажу. Чем хуже обстоят дела у простых людей, тем выгоднее с ними работать. Взять хоть рядового немца. Всё у него хорошо, и сам он хорош. Защищён, обеспечен, доволен. Свяжись с ним — получишь всего лишь два-три процента годовых, потому что ты со своей помощью ему не нужен; ему и без тебя тепло и сухо. А с обычным россиянином, нашим с вами современником, всё не так. Он живёт из рук вон плохо, и все привыкли говорить, что он на кого-то надеется, чего-то ждёт, а сам даже пальцем не хочет пошевелить, чтобы улучшить свою жизнь. Это мне понятно, потому что в силу сложившихся традиций ему требуются духовные лидеры, чтобы тянуться к ним и гордиться ими. Когда народ увидит, что есть такие Ильи Муромцы, Добрыни и Алёши, он сам такой подвиг совершит, что и Христос удивится. Всего-то надо двести-триста человек на город и два-три на деревню.
— Экий ты шустрый, — заметил Стёгов.
— Лёха, я в деле, — поднявшись с кровати, неожиданно произнёс Яша. — Мне не нравится твой энтузиазм, поэтому я включаюсь в работу. Ты явно переоцениваешь народ.
— А ты — выключатель. То включаешься, то выключаешься. Помнится, пять дней назад ты меня в ООН отправлял, и я снёс. Теперь ты не обижайся, так как я тоже посылаю тебя на три буквы. Знаешь, кто такой Чуб? Рыжий Чуб, за который хочется схватиться и сунуть его под напряжение, потому что напрягает? Вот на эти три буквы я тебя и посылаю. Пошёл ты на Чуб. Включай и отключай вместе с ним, заведуй рубильником, делай карьеру на свете и тьме. К примеру, сойдутся в смертельной битве армии света и орды тьмы, а вы с Чубом тут как тут: «Здорово, ребята. За свет не уплачено. Да будет тьма». Подержите, подержите народ в напряжении, а потом: «Да будет свет». Вам же заработать надо, силу свою продемонстрировать, а на одной тьме куш не сорвать. Тот, кто регулирует напряжение в стране, влиятельнее президента. Всё в руках тех, кто сжимает в кулаке рубильник. Хочешь — врубай марш Мендельсона, хочешь — похоронный, хочешь — вообще вырубай. Умение зарабатывать деньги и на добре, и на зле, регулировать потоки света и тьмы, — оставаясь при этом в сторонке, — высший пилотаж. Не нашим, не вашим.
— Я не обиделся, потому что на дураков не обижаются, — скромно заметил Магуров. — Без таких, как я, вам точно хана. Вот скажи, Лёха, что ты собираешься делать дальше?
— Выйдем на площадь перед Домом правительства, забросаем министерские окна кирпичами и булыжниками. Мгновенный успех у народа…
— Дурак. У толпы, но никак не у народа, — оборвал Магуров. — И вообще вам сразу ласты скрутят, и горожане даже не успеют понять, с какой целью вы вышли на баррикады.
— Сам дурак, — вступился Стёгов за Левандовского. — Шанхай надо сносить. Людям срочно нужны новые квартиры, и мы привлечём внимание общественности к этой проблеме.
— Два дурака, — разозлился Магуров. — Оба в квадрате, в кубе, в четвёртой степени. Власть в тыщу раз сильней вас. Менты, ФСБ, суды, пресса — все под ней. Вас посадят, а потом выставят провокаторами и подонками, потому что вы идёте не «за», а «против». Европейцы могут себе позволить идти «против», так как они живут в гражданском обществе, которое их всегда поддержит. У нас же ничего даже отдалённо напоминающего гражданское общество нет, поэтому подавляющее большинство горожан вас не поймут. Если даже поймут, то не примкнут к вам… Левандовский, сознайся же, что ты просто хочешь покуражиться, с революционным флагом поскакать, под брандспойтами помыться, покидать бутылки с зажигательной смесью. Давай, давай — сознавайся, а то я скажу Витале, что ты выступаешь за социализм, но больше за его атрибуты: красное знамя, обвязанную голову и кровь на рукаве.
— Как у Щорса? — не удержался Алексей от радостного восклицания.
— Что и требовалось доказать, — довольно улыбнувшись, поставил мат Магуров. — Ладно, неуёмные. Так и быть — сделаю из вас мучеников и героев, но мирных и обстоятельных. Обещаю, что вас сожгут, как Жанну д-Арк, но не сразу. Сначала надо показать, что вы являетесь Орлеанской девой с нимбом над головой, а не безумной тёткой, которую спалили за то, что она сама не понимает, чего хочет. Венком самопожертвования вас должны короновать до драки. Легенду следует продюссировать, дозировано впрыскивать её в вены города, как наркотик, чтобы вы сначала просто понравились, потом — полюбились, далее — боготворились. Городские легенды — они ведь как дубы. Какой смысл в том, что вы желудями на эшафот взойдёте? Про вас так и скажут: «Намедни жёлуди сожгли. Слабый костерок был, надымили только. Не понять, кто горел и для чего горел». Поймите же, что за ростом корабельного леса должен наблюдать весь город, чтобы начались такие разговоры: «Гляди, мать, какие деревца у нас под окнами подрастают. Любо-дорого посмотреть. Я-то сначала грешным делом подумал, что обычная шантрапа, а присмотрелся — Александры Невские и Дмитрии Донские. Смена, мать, а я уж было отчаялся. С каждым днём привязываюсь к ним всё больше и больше. Боюсь, что скоро вообще без них не смогу, ведь они на радость нам из земли к свету пробились. Только почва у них под ногами нетвёрдая. Асфальт, мать. Им без нашей помощи не выжить. Поддерживать их надо. Поливать, прививать, подбеливать, чтобы не засохли, не выродились в пустоцвет, от заячьих зубов не пострадали. Мы с тобой опытные садоводы, поэтому просто обязаны им помочь. А вообще недоброе сердце чует. Лесорубы около наших деревьев круги вьют. С топорами и бензопилами, мать. Как бы чего худого не вышло, как бы на растопку наши дубки не пошли»… Поняли, болваны?
— Хитёр, лис, — с восхищением произнёс Левандовский. — Не знаю, что бы мы без тебя делали.
— Умыл, чертяка, — присоединился к похвалам Стёгов. — Рули, Яша. Двадцать штыков под твои знамёна ставлю.
— Только не надо обольщаться, пацаны, — сказал Магуров. — Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Лёха, вспомни Мальчишку, который говорил о неудачах и о железе, закаляющемся не на лазурном побережье, а на страшном огне.
— Всё помню, Яша, поэтому победы не жду. Гражданское общество за неделю не построить. Нас точно ждёт поражение. Только между бессмысленным провалом и красивой неудачей я выбираю второе. Как видишь, неприхотливым становлюсь.
— Помирать — так с музыкой, — поддержал Стёгов. — Что там у тебя в загашнике, Яха? Моцарт? Штраус? Бах? Вынимай скорее.
Магуров засунул руку в карман больничной рубашки, которая сидела на нём детской распашонкой, сделал вид, что достал бумажку и вслух прочёл: «Это пройдёт. Царь Соломон».
— Что пройдёт? — спросил Стёгов.
— А всё пройдёт, — улыбнулся Левандовский. — И хорошее, и плохое. Это универсальная формула, с которой в счастье будет грустно, в горе — радостно. Я правильно понял эпиграф к твоей затее, Яков Израилевич?
— Ни прибавить, ни отнять. В скором будущем радость прикипит к нам, как смола.
Дневниковые записи Якова Магурова:
22 января. 2000-ый год.
Решил вести дневниковые записи. Сегодня мы вышли на Первомайскую площадь перед республиканским Домом правительства и начали строительство гражданского общества. Пока что у нас мало что получается, но если вдруг возведение сего непонятного здания — это мёрзнуть на тридцатиградусном морозе с плакатами: «Шанхай — под снос», «Каждой шанхайской семье — по благоустроенной квартире», «Стыдись, Республика», «Долой трущобы 30-ых годов», — то мы на правильном пути и даже значительно продвинулись вперёд, потому что продрогли до костей.
Два бывших фашиста уже пострадали за правду. Они отморозили носы, и Стёгов обвинил их в членовредительстве, так как вчера вечером все были предупреждены о том, что перед выходом на площадь следует тепло одеться. Виталий покрыл ребят трёхэтажным матом, но потом, однако, растёр им носы, предупредив, что в следующий раз эти самые носы расквасит.
Левандовский прочёл длинную лекцию по технике безопасности, главный пафос которой заключался в одной единственной фразе: «Сибиряк — это не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается». Алексей помирился с родителями и со вчерашнего дня живёт дома. Даже не знаю, как ему удаётся скрывать от матери отсутствие пальца. Впрочем, я никогда не сомневался в том, что у меня разносторонне одарённые друзья; сегодня, например, выяснилось, что Алексей ещё и талантливый фокусник. Робеспьер в нём пока дремлет, но это ненадолго. Должен сказать, что у меня вырабатывается странное отношение к другу. Нам тяжело быть вместе, но при этом ни я без него не могу, ни он без меня. В данной ситуации я напоминаю моряка, который тоскует по морю на берегу, а в плавании мучится от морской болезни. В общем, меня от Левандовского укачивает. После расстрельной ночи он пользуется непререкаемым авторитетом у бывших скинхедов, и я боюсь, что будет достаточно одного его слова, чтобы наша мирная акция переросла в январское восстание. Клянусь памятью моих предков, что это произойдёт только через мой труп. Если республиканские власти не пойдут нам навстречу, то жить мне осталось дней пять — не больше. Что ж — придётся умереть, чтобы отсрочить революцию ещё дня на три, ведь ребятам надо будет похоронить меня честь по чести; я ведь — дежурный, один из них. Сделаю несчастный случай, и у чиновников будет дополнительное время, чтобы изыскать средства на строительство новых домов для шанхайцев. Я даже не допускаю мысли, что наверху проигнорируют наши требования, что там всем наплевать, в каких условиях живут люди в «квартале смерти». Хочется верить, что в республиканском бюджете просто не запланированы средства на строительство. Отсюда следует вывод, что все эти дни власти будут звонить в Москву, договариваться с ней насчёт выделения денег, а это дело долгое и муторное. Нехорошо будет, если федеральный центр начнёт раскошеливаться, а мы тут бунтуем. Столица у нас обидчивая, поэтому не стоит портить с ней отношения. Какой я всё-таки хитрый. Буду полёживать в гробу и контролировать ситуацию. Мы с тобой, Россия, никому не скажем, что сыны Израиля даже в мёртвом виде могут править бал.
В час дня я вызвал съёмочную группу; завтра о нас узнает весь город. Чтобы отвлечь Левандовского от опасных мыслей, которые набухают в его голове, пришлось натравить на него журналистов. Дав интервью, он расстрелял весь свой революционный боезапас и успокоился, но завтра мне опять придётся что-то придумывать. Наверное, приглашу правозащитные организации. Если им удастся утихомирить моего друга, то я признаю, что от них есть реальная польза.
Подходили менты. Они сказали, что мы организовали несанкционированную акцию, поэтому им приказано нас разогнать. Стёгов ответил, что никто из его ребят не сдвинется с места, пока шанхайцев не переселят. Менты пригрозили нам дубинками, на что мои разбойники рассмеялись им в лицо, заметив служителям закона, что, если хоть один волос упадёт с головы кого-нибудь из нас, то остальные, недолго думая, подожгут себя. Менты стали давить на жалость. Они начали распространяться о том, что в случае невыполнения приказа начальства их уволят с работы, но мы были неумолимы. Правда, не очень долго, так как они стали прикрываться своими детьми, которые умрут с голоду, если их отцов оставят без средств к существованию. Это был удар ниже пояса, и мы поняли, что наши неприступные бастионы сразу превратятся в преступные, если мы не войдём в положение людей в погонах. Что нам оставалось делать? Пацаны расстроились и начали потихоньку сворачиваться, но сволочному майору этого показалось мало. Он стал добивать нас Достоевским, который писал, что вся правда Мира не стоит слезы ребёнка. Это он зря. Я имею в виду майора, а не Фёдора Михайловича. В общем, пацаны ускорили сборы. Когда мы стали расходиться, офицер допустил непростительную ошибку. Он ехидно улыбнулся. Это вывело Стёгова. Виталя решительным шагом подошёл к милиционеру, сорвал с него погоны и закричал: «Оборотень! Он смеётся над нами! Назад! Все — назад! Построиться в боевой порядок! С места не сойдём, сука! Лучше твоему сыну вообще остаться без кормильца, чем иметь такого отца!». Это была провокация. Я здорово струхнул, но не растерялся и повалил Стёгова на землю. Из-под меня сложно выбраться. Сто пять килограммов всё-таки. Всё произошло так быстро, что менты не успели вступиться за офицера, а пацаны — за Виталю. Благодарю Бога, что всегда нахожусь рядом с тем местом, где может произойти что-то не то.
Пока Левандовский и Бром связывали ремнями разъярённого Стёгова, у меня родился план. Я написал записку, в которой говорилось о том, что мы совершим акт самосожжения, если нам будут мешать проводить акции протеста. Потом пацаны подписались под моими словами, и я передал записку сержанту, сказав ему, чтобы он предъявил наш ультиматум начальству. Менты поблагодарили меня за охранную грамоту и ушли. Майор, конечно, долго чертыхался, что он этого так не оставит. Стёгов, видите ли, его честь задел. Как можно задеть то, чего нет? Поделом менту. Не фиг было лыбиться.
23 января. 2000-ый год.
Власти почему-то мало интересуются нами. Странно. Очень странно. Мне даже кажется, что все эти два дня верхи были усыплены какими-то мистическими силами, чтобы мы успели врасти в площадь.
Весь день дул пронизывающий ветер, но никто из ребят не жаловался. Пацаны были одеты в форму фашистов; они решили не снимать милитаристскую одежду, пока не искупят вину перед Россией. Ещё месяц назад я даже в самых радужных мечтах не мог себе представить, что буду стоять рядом с ними, а теперь вот стою. Это счастье, которое я ничем не заслужил. До встречи с Левандовским души этих ребят напоминали грецкие орехи в скорлупе, но с помощью отбойного молотка моему другу удалось добраться до ядрышек. Парни стали голыми. Им стыдно, и это делает их беззащитными. Я боюсь за них. Если при мне кто-то посмеет упрекнуть их прошлым, то я за себя не ручаюсь.
Левандовский становится опасным. Он — боец баррикадного толка. Таким людям надо или всё, или ничего. Он неистово любит Родину, а так нельзя. Если она не ответит ему взаимностью, он убьёт и её, и себя. Сегодня его выхолостили правозащитники, и я им благодарен. Алексей увяз в прениях с этими лодырями, утомил язык, и шельма Магуров, таким образом, выиграл ещё одни сутки. Завтра предстоит трудный день, потому что я уже не знаю, как дальше удерживать друга от гибельного мятежа. Мне кажется, что я вскрыл сущность Левандовского. Он относится к типу святых преступников, которые могут принести России страшные беды. Наша история уже знала таких. Заблуждения и ошибки людей, подобных Алексею, приносят в сто раз больше вреда, чем преступления настоящих злодеев.
О нас уже знает весь город. Знает, но молчит, и это расстраивает парней, хоть они и делают вид, что им всё равно, что «народ безмолвствует». А я рад, что события развиваются именно так, а не иначе. За нами внимательно наблюдают. Люди должны убедиться в том, что наш протест — это искренняя жертва Авеля, а не искусственная — Каина. Интересно, как долго нас будут проверять? Я готов ждать столько, сколько потребуется, потому что мне нужно, чтобы нас поддержал народ, а не радикальные элементы, ненавидящие существующий строй.
Боже, дай нам всем терпения. Гражданское общество — это, к сожалению, не антоновское яблоко с привычным вкусом, а экзотический ананас, покупка которого, кажется, дорого нам обойдётся. Никто из нас не знает, что это за фрукт, с чем его едят и с какой стороны к нему подходить. Одно точно: за него придётся заплатить высокую цену, потому что в наших садах он не растёт, а импортный продукт — это всегда три цены плюс катаклизмы в желудке, который может переварить картошку, морковку и даже железо, но не чужеземный ананас. А переварить надо, чтобы нас уважали и в собственной стране, и за кордоном. Как не крути, а пионеров гражданского общества всё равно пронесёт. Выражение «меня пронесло» потом будут употреблять и те, с кем на стройке приключился понос, и те, кого миновала чаша сия. А что делать? К кому обратиться? Может быть, у президента есть архитекторский план ГО? Думаю, что нет. Никто ничего не знает. Никто, кроме студента первого курса, группы 99-6, Магурова Якова Израилевича. А ведь всё просто. Отстаивай интересы незнакомых тебе людей, как свои собственные, — вот тебе и всё гражданское общество. Терпи бумага, сейчас сматерюсь. Сука-а-а, подхвати воспаление лёгких или лучше того — превратись в ледяную статую на главной площади Республики, и шанхайцы обязательно получат новые квартиры.
24 января. 2000-ый год.
На гражданском фронте без изменений. Чтобы избежать провокаций со стороны проснувшихся властей, мы обложились журналистами, как студенты — книгами. Теперь нас, кажется, никто не тронет, так как в этой стране всё ещё демократия, несмотря на то, что многие с этим не согласны. Как же не демократия, когда демократия? Полная свобода в выборе смерти. Хочешь — умирай с голоду, хочешь — загибайся от водки, хочешь — подыхай от наркотиков или, скажем, от безысходности. Например, мы с парнями твёрдо намерены погибнуть от холода. А что? Я слышал, что лёгкая смерть; цветочки перед кончиной мерещатся.
Сегодня мы не выкрикивали лозунгов, ни с кем не вступали в разговоры, никому не давали интервью. Стояли молча, и, кажется, наговорили своим молчанием на тысячу книг. Горстка людей становится совестью города. Тридцатиградусный мороз закрепил на наших лицах выражение олимпийского спокойствия, с которым мы вышли на площадь в семь часов утра и разошлись в час ночи. Челюсти застыли. Брови, ресницы в инее. Грозная картина. Если за окном было минус тридцать, то наша компания выглядела на все шестьдесят ниже нуля. Завтра мы будем давить под восемьдесят, послезавтра перевалим за сотню и т. д., пока холодный январь не покажется жарким июлем по сравнению с нами.
Заболел Крест. У него поднялась температура, и он еле стоял на ногах. Когда мы предложили ему пойти домой, он послал нас туда, где за свою короткую жизнь мы уже не раз бывали и ещё не раз побываем. И после всего этого кто-то смеет списывать Россию; героев у нас на тысячу лет вперёд припасено. Мы связали Креста, постановив, что отвезём его в больницу силой, но не тут то было. Он начал кричать, что покончит с собой, если ему не дадут спокойно сдохнуть за шанхайцев. Крест хочет быть таким, как дед, а для этого, по его словам, надо непременно за кого-нибудь сдохнуть. Мы начали его уговаривать, напирая на то, что сейчас мирное время и умирать за людей совсем необязательно, а он, знай себе, твердил, что времена всегда одинаковые и что он крепко решил сдохнуть, иначе дед, погибший на фронте, будет лучше его. Вот такое у Креста наивное соревнование с предком. Короче, мы отошли от больного и заняли свои места, потому что на таких ребят не действуют никакие аргументы. В ту минуту я подумал, что, если республиканские власти не разродятся сегодня, тогда завтра мы будем стоять, а Крест — лежать. При надобности мы все поляжем вслед за этим парнем, поэтому никто не похвалил его за проявление гражданского мужества. Мы ничем не хуже товарища, и наши деды тоже кое-чего стоили. Мой, например, погиб в белорусских лесах, прикрывая отход партизанского отряда. Он спас сорок человек от верной смерти, но сегодня меня этот факт не радовал. Если Кресту, чтобы сравняться с дедом, надо умереть всего лишь один раз, то мне придётся умирать, как минимум, раз пятьдесят. Почему? Да потому, что сорок спасённых человек — это, на самом деле, сотни спасённых людей, если вспомнить о том, что каждого мужика дома ждали семьи. Жаль, что у кошки десять жизней, а у меня — только одна. Мне не удастся переплюнуть деда. Спасибо, партизан. Удружил внуку. Я прямо сержусь на тебя, солдат. Хоть бы уж какую-нибудь записку черканул, которая научила бы меня любить людей так, как это умел делать ты.
Сцену с Крестом оператор местного телевидения снял на камеру, но ему пришлось отдать нам плёнку, так как мы не хотим ни показухи, ни того, чтобы горожане поддержали нас из жалости к больному парню. Даже мне было бы противно увидеть по телевидению самопожертвование нашего товарища, несмотря на то, что я обещал сделать парней мучениками. Плюс ко всему ругань Креста не украсила бы эфир, хотя лично я, например, давно пришёл к выводу, что все дежурные от Калининграда до Дальнего Востока имеют полное право использовать в речи нецензурную брань, потому что романтики и идеалисты со своим фиалковым языком явно не справляются с ситуацией. Мы с ребятами чем-то похожи на бойцов штрафных батальонов времён ВОВ. Атака. Вместо традиционного «ура» душераздирающий мат. Победа или смерть. Наверное, со стороны на нас страшно смотреть. Это закономерно. Мы не можем выглядеть красиво, так как искупаем совокупную вину трёх предыдущих поколений.
Когда Крест потерял сознание и упал, мы не подняли его и запретили подходить к нему журналистам. Стёгов произнёс:
— Пусть лежит. Он прилёг отдохнуть, потому что просто устал со всеми нами. Если сейчас хоть кто-нибудь из наблюдателей сдвинется с места, чтобы помочь нашему товарищу, то можете мне поверить, что завтра город будет хоронить двадцать молодых трупов.
Полагаю, что в тот момент у нас были такие лица, посмотрев на которые люди перестали сомневаться в том, что Виталий выразил мысль всех дежурных без исключения. Через пять минут Крест пришёл в себя, самостоятельно поднялся и, виновато улыбнувшись, попросил прощения за то, что вздремнул на посту. Этот парень не из тех, кого надо жалеть. Он сам кого хочешь пожалеет. Левандовский подошёл к больному, похлопал его по плечу и, оскалившись, пригрозил:
— Мой тебе совет, друг. Ещё раз заснёшь — лучше не просыпайся, потому что за халатное отношение к гражданским обязанностям в мирное время мы тебя всё равно пустим в расход.
Чёрный юмор вызвал у журналистов тихий ужас, но нам на это плевать, потому что тихий ужас — это не беспощадные фразы Алексея, а сорок миллионов наших соотечественников, живущих за чертой бедности.
Когда стемнело, Левандовский опять забурлил. Он становится невыносимым. Мы оба сошлись на том, что мятеж будет подавлен, только последствия от выступления видятся ему в белых красках, а мне — в чёрных. Разозлившись, я послал его гораздо дальше трёх букв, в 17-ый год отправил, но это не подействовало. Тогда мне пришлось использовать запретный удар. Я сказал Алексею, что его учительница по истории — будь она здесь — наверняка бы не одобрила экстремистские настроения своего ученика. Гениальный Яков Израилевич знал, куда бить. Это был хук в пах. Я знать не знаю, кто такая Лидия Степановна, которую Левандовский без конца ставил всем в пример, но она, безусловно, замечательная женщина, потому что её именем я отправил друга в нокаут. Кто там говорил, что у нас плохие педагоги? В общем, замолчали, а то я за себя не отвечаю.
После одиннадцати лет, проведённых в средней школе, Магуров имеет смутные представления об алгебре, Женечкин — о биологии, Левандовский — о физике, Волоколамов — о химии, Бочкарёв — о географии, Молотобойцев — обо всём, кроме труда и физкультуры, зато все мы в совершенстве освоили предмет, который называется «Быть человеком». Эта факультативная дисциплина не входит в обязательный курс обучения, но в памяти миллионов выпускников она стоит под номером один. Первый школьный звонок, первая учительница, первая любовь. Кажется, у меня началась ностальгия. Сейчас мои школьные друзья не догадывается о том, что в эту ночь они не дадут мне заснуть до утра, а завтра — замёрзнуть до вечера. Я выстою, потому что прошёл хорошую школу.
Теперь вот о чём. Когда я поборол Левандовского Лидией Степановной, он обозвал меня малолеткой. По всему видно, что эта женщина так его ничему и не научила, если он не смог придумать ничего лучше, как оскорбить меня принадлежностью к славной когорте юношества. К слову, я старше его на два с половиной месяца. Магурову целых семнадцать лет и восемь месяцев, а этому недорослю только семнадцать и шесть. Сопляк! Тогда, когда Яшенька уже научился самостоятельно держать головку, несмышлёную тыковку Алёшеньки всё ещё поддерживала материнская рука. Тогда, когда Яшенька уже полностью отказался от молока и почти пошёл, Алёшенька всё ещё благим матом орал, чтобы ему дали пососать грудь. Одним словом — молокосос. Молокосос, который никак не хочет признать, что в знаниях о гражданском обществе я обошёл его на два с половиной месяца. О, я бы ещё смирился, если бы только на два дня. Но ведь речь о двух месяцах. Ах, ему примеры нужны. Завтра я расколю ему голову Отечественной войной 1812-ого года, когда за каких-то два с лишним месяца Наполеону удалось вплотную приблизиться к Москве. Нет, этот исторический факт на него не подействует, так как он терпеть не может столицу.
Знаешь, Златоглавая, я что-то тоже начинаю тебя недолюбливать. Ты настолько опустилась в настоящем, что даже твоё героическое прошлое уже не может послужить примером. Если я напомню о тебе Левандовскому, то сразу угроблю дело. Он так и скажет: «Москва — не вся Россия. Более того — вообще не Россия. Ты привёл отвратительный пример. Чтобы захватить разложившуюся Первопрестольную, может, и достаточно двух месяцев. А для покорения огромной страны, на территории которой разлеглась эта священная корова с золотыми лепёшками в утробе, требуются годы и годы, которых у тебя нет». Москва, ты меня слышишь? Которых у меня нет! Или ты оглохла?! Надо же так: учительница из Сибири может повлиять на Алексея, а целый мегаполис не может. Думаешь, я этому рад? Эй, ты! Русский человек не может этому радоваться. Не может, — поняла?! Я плачу, Москва. Словами навзрыд плачу, предложениями рыдаю, абзацами реву. Я вою, Москва!
Боже, что нам делать? Где народ? Почему город молчит? Неужели погибать нам?! Неужели мы прокляты?! Креста лихорадило, а он улыбался. Чему он улыбался? У него никого нет. Его родители погибли в автомобильной катастрофе, и сегодня он поклялся маме, что завтра выйдет на площадь. Мы отвезли его домой. Стёгов остался с ним. Сейчас я пишу дневник, а Виталий поит его сильнодействующими таблетками, которые мы в складчину купили в круглосуточной аптеке.
За нами установили слежку. Хвосты удалось отсечь. К чёрту всё! Спать.
25 января. 2000-ый год.
9 часов утра. Веду дневник прямо на передовой, потому что сегодня мы уже не разойдёмся. Будем стоять насмерть. Лютый мороз. Ручка быстро застывает. Мне приходится постоянно нагревать её на огне парафиновой свечки; горячее дыхание в борьбе за нормальное течение пасты тоже использую.
В семь утра на площади появились менты и федералы. Они хотели помешать нашей акции, но мы оказались хитрее, так как заняли круговую оборону у памятника Ленину за час до их прихода. В 7:30 они попытались взять нас штурмом, но вопль Брома остановил их. Он закричал: «Стоять, а то мы вспорем себе животы!». Эти слова выбили из колеи даже видавший виды ОМОН. Хорошо, что Первомайская площадь освещается фонарями, иначе в темноте нас бы точно положили лицом в брусчатку. Словом, неразберихи не произошло. Когда омоновцы начали выскакивать из автобусов, мы уже держали руку на пульсе, а ножи — на животе. Несчастный Шанхай стоит того, чтобы дежурный по стране сделал ради него харакири.
Самураи Японии, знайте, что мы законно воспользовались вашим приёмом. В европейских жилах россиян течёт азиатская кровь. Не навязывай своё мировоззрение, Запад. Угомонись, Восток. Над исторической ареной парит коршун Евразии. Вам никогда не достать нас, зато мы можем упасть камнем вниз в любой момент. Никто из вас не способен нанести нам урон, потому что мы — это вы.
Да, я согласен с тем, что самурайское вываливание кишок наружу — омерзительное зрелище, но нам на это плевать, так как гораздо более отталкивающим выглядит то, что один покупает шампанское за тысячу долларов, а хлеб другого не намазывался сливочным маслом уже около десяти лет. Страна контрастов. Проклятая страна. Если бы у России не было Сергия Радонежского, Бориса и Глеба, Иоанна Кронштадтского, то я бы возненавидел Россию. Но эти праведники смотрят с деревянных икон на прихожан православной церкви, напоминают им о подвигах давно минувших дней, и я тем сильнее начинаю любить Родину, чем хуже у неё дела. Эти святые не из моей веры, но из моей страны. Я богаче ортодоксальных иудеев, католиков, протестантов, православных, буддистов, мусульман, последователей индуизма и др., так как их пророки — мои пророки. Мне даже кажется, что я относительно легко переношу холод только потому, что меня согревают свои и чужие святые. Плюс одноклассники. Плюс пацаны, вышедшие из мрака фашизма. Друзья и родственники. История нашего государства. Литература. Даже Борис Николаевич Ельцин, которому я прощаю всё только за то, что он не допустил Гражданской войны. Да, сейчас население России сокращается каждый год на один миллион человек, зато брат не убивает брата. Я не глумлюсь. Люди умирают сами по себе, и это означает, что наши потомки уже не столкнутся с расплатой за братоубийственную резню, которая могла бы начаться в 90-ых. В общем, всё не так уж плохо.
Мы опоясали памятник вождю колючей проволокой и украсили её разноцветными флажками. Это моя вчерашняя задумка. Конечно, нелепая картина, когда на военном атрибуте висят мирные бумажки, раскрашенные в цвета радуги, зато теперь мы уверены в том, что нас признают сумасшедшими. Безумцы опаснее бомб, так как непредсказуемы. И вообще народ, который мы ждём, прислушивается к юродивым. Мы боремся за Шанхай разными способами. Помнится, школьные учителя только приветствовали решение задачи вот так, а ещё вот эдак. Если провести параллели, прибегнуть, так сказать, к аллегории, то на Первомайской площади идёт первая контрольная работа по предмету «Гражданское общество». Все нервничают, потому что отличники пишут первый вариант, ударники — второй, троечники — третий, двоечники — четвёртый. Нет никакой возможности списать у соседа, так как каждый решает свою задачу сам. В придачу всех ещё и рассадили. По итогам контрольной будет выведена среднеарифметическая оценка всего класса, поэтому дежурный не имеет права выигрывать, власть — проигрывать, а народ — проспать весь урок. Одно дело делаем. Короче, или все постараются сработать на «пять», или в глазах мирового сообщества мы так и останемся дикими варварами. К слову, границы между отличниками и двоечниками размыты, пока непонятно кто есть кто. Мы с пацанами просто прилагаем все усилия, чтобы хорошо написать свой вариант. Безусловно, помарки и ошибки уже имеются у всех учеников, но ещё есть время их исправить.
12 часов дня. Площадь кишит зеваками и журналистами, а народа всё ещё нет. Подождём. Люди смотрят на нас, как на диковинных зверей в зоопарке. Что ж — их можно понять, так как мы действительно редкий вид, выловленный эпохой Бог знает в каких джунглях. Хорошо, что пока на нас просто показывают пальцем. Переживём. Другое дело, если кому-нибудь захочется просунуть руку в наш вольер. В этом случае, не церемонясь, отхватим любопытную корягу по самый локоть, потому что мы — дикие животные. Нас может приручить только народ, которого до сих пор нет.
Мы стоим по кругу на расстоянии трёх метров друг от друга; рядом с каждым дежурным — канистра с бензином. Стоят не все. Крест, — закутанный в пуховое одеяло, как гусеница в кокон, — лежит на раскладушке. Ему совсем плохо, и он вряд ли превратится в бабочку. Ленин сидит на постаменте. От нашей акции протеста ему не жарко и не холодно, но он — с нами. Глупо злиться на него за то, что он сделал с нашей страной в прошлом веке, потому что уже всё равно ничего нельзя изменить. Хотя нет. Пожалуй, можно. Коль обстоятельства сложились так, что за свои преступления Владимир Ильич не отсидел положенный срок живым, он отсидит его памятником рядом с нами и тем самым искупит часть своей колоссальной вины перед Россией. На мой взгляд, соратники Ульянова поступили правильно, размножив своего божка после его смерти. Да-да, партийная верхушка, сама того не понимая, явно занялась очищением вождя, сделав с него ксерокопии и разослав их по всем городам и весям, над которыми он надругался. Памятники ответят за всё. Ленин расплатится со страной во всех положениях. Он и отсидит, и отстоит, и отлежит мумией в мавзолее столько, сколько будет нужно. Сейчас его нельзя хоронить, так как ещё живы те, кто его ксерокопировал. Ничего страшного. Когда придёт время, мы придадим его земле; так принято у всех народов, кроме древних египтян и коммунистов. Надо приложить максимум усилий, чтобы злой гений не стал яблоком раздора; у нас и без этого проблем хватает. Я сижу на раскладном стульчике за низким столиком рядом с Владимиром Ильичом и, — постоянно макая замерзающую ручку в рот, как в чернильницу, — веду дневниковые записи. Хэ, прямо как дьяк гражданского приказа.
Боже мой, как же мы обрадовались, когда час назад в нашу клетку попросилась сердобольная бабушка. Она принесла нам чай в термосах. Мы впустили старушку к себе, но от горячего напитка наотрез отказались, несмотря на то, что от холода наши зубы беспрестанно выстукивают морзянку: SOS, SOS, SOS. Титаник с дежурными на палубе медленно уходит под воду, но мы бодримся и играем (правда, беззвучно) весёлые произведения, как те отважные музыканты, погрузившиеся в морскую пучину, не выпустив из рук оркестровые инструменты. Нам не нужны спасательные шлюпки. 22 января 2000-ого года мы столкнулись с айсбергом, но никто не дождётся от нас того, что мы станем делить город на казаков и разбойников. Я прослежу за этим. Или все выживем братьями, любящими друг друга, или все погибнем братьями, любящими друг друга. Третьего не дано. И первое, и второе прекрасно.
Только сейчас я понял, что в отличие от тех музыкантов на Титанике мы с ребятами не станем героями. В нас начисто отсутствует едва ли не самая главная добродетель — смирение. Мы баламутим тухлую воду в государстве, и за это Бог рано или поздно покарает нас. Все дежурные без исключения будут жестоко наказаны, а потом прощены.
Это как с Иудой Искариотом, предавшим Спасителя. Судьба апостола была предрешена за тысячи лет до его рождения. Если кому-то кажется, что один из двенадцати продал своего Учителя только потому, что сам этого желал, то я вынужден не согласиться с таким дилетантским выводом. Иуда просто исполнил волю Бога-Отца, которой не может сопротивляться ни один смертный. И рождение Христа, и предательство Иуды были предсказаны пророками. И Сын Божий, и его ученик совершили то, что определил им Отец. Эти две колоссальные фигуры, положившие начало новой эре, не были свободны в выборе жизненного пути, чтобы мы стали свободными. На своём примере Христос показал всё мировое добро, Иуда — всё мировое зло. Они дали ориентиры человечеству, и сегодня каждый из нас, прочитав Библию, легко может различить все оттенки белого и чёрного, а потом сделать свой выбор. Я не презираю Иуду. Я ненавижу поступок, который он совершил. Мне кажется, что Бог-Отец должен был простить человека, предавшего Его Сына, хотя, возможно, я и ошибаюсь.
Ситуация с дежурными немного другая. Мы, конечно, не предатели, но тоже будем наказаны, так как по доброй воле (Иуда в отличие от нас не был свободен) отвергли смирение и встали на путь борьбы. Наши руки сжимают рукояти мечей, хотя должны перебирать молитвенные чётки. В общем, кара неизбежна, и это в высшей степени справедливо. Если когда-нибудь мой дневник прочтёт человек, в котором всё восстанет против такого вывода, пусть знает, что только из-за этого дежурный по стране — я, а не он. Говорю всем, кому попадутся на глаза мои строчки: «Нам никто не давал права менять сложившийся порядок вещей в государстве, и это понимает даже бунтарь Левандовский. Может быть, за преступления, которыми Россия насытила двадцатый век, ей суждено страдать ещё не одно столетие, но вмешались Молотобойцев, Женечкин, Бочкарёв, Волоколамов, Левандовский и я. Не знаю, получится ли у нас всё, что мы задумали, но то, что за нанесённые удары по хребту страны по нам самим пройдётся хлыст, — ясно, как Божий день.
Дежурных не надо жалеть. Жалеют глупых, а мы в свои семнадцать лет дадим фору академикам. Людям, наверное, кажется, что наши мысли, слова, действия загадочны и непредсказуемы, но это не так. Если бы они выключили ум и сознание и включили бы сердце и подсознание, то прочитали бы нас от корки до корки. К слову, тогда бы отпала всякая необходимость в дежурных. К примеру, Левандовский, трудившийся над фашистами, благодарит судьбу за то, что она лишила его пальца, а не головы. Сегодня утром Алексей сам признался мне, что он не стал бы легендой переходного периода даже в том случае, если бы погиб в борьбе с национализмом. Хорошо, что мы оба понимаем, кем он является на самом деле. Какая, на фиг, легенда? О чём вы говорите? От его работы за версту несёт злодейством, а не мессианством. Левандовский бесцеремонно вторгся в чужие души, постирал их на руках, а потом выкрасил в нужный ему цвет. Разве это допустимо? Благо, что Алексей — не дальтоник, может отличить чёрный от белого. А если бы он перепутал краски или оторвал рукава у чьей-нибудь души? В общем, пальца он лишился справедливо. Душа человека имеет тонкую организацию, над ней надо трудиться годами, а мы сокращаем сроки. Время «Ч» поджимает. Мы несёмся вперёд со скоростью света, поэтому травмируем окружающих, которые не привыкли к перегрузкам. Не надо далеко ходить за примером, он лежит рядом. Это Крест. Левандовский в спрессованные сроки сделал из него человека, и теперь этот человек не хочет жить, потому что с таким званием в нашей стране можно только существовать и молить о смерти.
3 часа дня. Сорок минут назад подходили коррупционеры. То есть так-то, конечно, чиновники, но коррупционеры — слово звучное, нельзя не употребить. Таким определением следует награждать лишь достойнейших из достойнейших. Да-да, только лучших наших людей, народных избранников, а остальные… остальные пусть довольствуются шкодливым званием взяточника, пока не научатся служить так, чтобы для исполнения своих желаний не нуждаться в золотой рыбке, у которой помимо нищих стариков и старух и так дел по горло. Люди мечтают жить, как в сказке, но при этом даже пальцем не хотят пошевелить. А коррупционеры не ждут с моря погоды в виде позолоченного малька из карасиной стайки. Они своими руками создают молочные реки и кисельные берега. Их нередко лишают имущества, сажают в тюрьмы, а они всё равно не отказываются от сказки. Это каким же мужеством надо обладать, чтобы строить замки из хрусталя, которые рано или поздно всё равно будут конфискованы государственными людьми из сволочного разряда честных и порядочных? О, в последнее время эти честные и порядочные плодятся, как кролики. Если так и дальше пойдёт, то скоро все сказочники будут выселены в район Магадана, в котором, видите ли, некому валить сказочный лес. Ах, оставьте! Как это некому? Мелких воришек что ли мало? Шушеры всякой? Руки прочь от коррупционеров! Маститых не трожь! Впрочем, рано радуетесь, господа добропорядочные. Спасибо Пушкину, который давным-давно написал всем душителям сказок: «Над павшим строем свежий строй штыки смыкает». С гением не поспоришь.
Коррупционеры, отозвавшие меня в сторону, оказались очень интеллигентными людьми. Не скрою, что именно такими я их себе и представлял. Наисимпатичнейшие люди. Пожалуй, составлю их словесный портрет. Вот загвоздка. Они абсолютно ничем не отличаются от нас. Я даже уверен, что они, как все нормальные люди, осуждают коррупцию, когда видят её по телевизору. На экране она выглядит образцово-показательным злом. Бери выше — исчадьем ада, вызывающим справедливое негодование. «Ай-ай-ай, — качает головой среднестатистический взяточник. — Разве так можно? Да я по сравнению с этими негодяями почти не беру. Я честный человек, служу Отчизне, а эти… Тьфу! Глаза бы мои не видели! Согласен, что и ко мне приходят посетители, и просят, конечно, чтоб помог. Конвертики приносят, не без этого. А как отказать? Скажите, как отказать человеку, который без тебя погибнет? Вы бы смогли?.. Вот и я не могу. Бывало, слёзы так и брызнут, так и брызнут, когда услышишь, через какие тернии прошёл человек, но так ничего и не добился. А я помогу! Помогу ему, — понятно вам?! Сажайте меня, делайте со мной, что хотите, а я всё равно не брошу человека в беде. А он, конечно, отблагодарит за услугу. А вы бы разве не отблагодарили, если бы вас провели за ручку через все инстанции, как ребёнка? Разве это взятка? Чушь собачья! Подарок благодарного посетителя благородному государственному мужу… А вот некоторые приходят в присутственное место без подношения в белом конверте. Таким намекну, что так не делается. Если они хотят, чтобы я потратил время на решение их личных вопросов в ущерб государственным, — значит, мой труд обязательно должен быть вознаграждён. А как иначе?! Служебные дела отставляю в сторонку, чтобы помочь человеку». Вот такие пироги с неутешительной начинкой.
Коррупционеры предложили мне деньги в обмен на то, что мы с парнями уйдём с площади. Каково, — а? Это дежурному по стране-то. Это они бойцу переходного периода с трёхнедельным стажем эволюционной борьбы. Это они человеку, который за свои идеалы так же легко расстанется с жизнью, как с очередной подружкой после ночи любви. Это они небоскрёбу чистых помыслов, Александрийскому столпу патриотизма, Останкинской башне целебных преобразований. Как смели они?! Как у них только язык повернулся?! Конечно, я, не задумываясь, взял. Если есть возможность заработать деньги на строительстве гражданского общества, то её надо использовать. Взять-то — взял, но только своих обязательств не выполнил. Мы остались на площади. Коррупционеры были в бешенстве. Понятно, что им хотелось кричать о том, что я без зазрения совести засунул в карман тысячу долларов, поклявшись, что мы уберёмся с глаз долой. Но кругом, простите, журналисты. Тут не поорёшь. Пятнадцать минут я наслаждался бессильной злобой чиновников, но потом сжалился над ними. Чтобы немного согреться, мы с пацанами развели костёр из валюты. Не нашим, не вашим — это моё кредо. Люди за колючей проволокой были в шоке, увидев, как мы безобразно распорядились деньгами. Замечу, что они явно переоценивают силу доллара. Баксы горели ярко, но тепла не дали; от обыкновенных дров было бы больше проку.
Сейчас в трёх метрах от меня плачет Стёгов, доказывая лежащему на раскладушке Кресту, что это не слёзы, а пот. Какой это, на фиг, пот?! На улице тридцать два градуса ниже нуля. Кажется, что-то сейчас будет. Возобновлю записи позже…
— Колян, ты чё? Помирать что ли собрался? Ты это брось. Мы же с тобой уже два года…
— Как зло творим, Виталя, — продолжил Крест и закрыл глаза. — Кажись, сдохну я. Трясёт всего. Горю… Кончай слёзы лить.
— А ну заткнись, — бросил Стёгов. — С чего ты решил, что это слёзы? Просто пот от твоей наглости прошиб. Ты, значит, помрёшь, а мы тут сопли морозь, — так? Не имеешь права.
— Мамка ночью звала. В белом вся.
— В натуре?
— Да… У меня всё нутро сгнило. Не хочу жить.
— Больной что ли? Мы ещё повоюем. Скоро народ подтянется, а ты тут дохлый. Это невежливо, негостеприимно это… Провоняешь ещё.
— За это не переживай. Тридцатник давит. Поди, не протухну. Мороженым «Эскимо» гостей встречу. Да и не прав ты. Лёха говорит, что народ — не гость, а хозяин. Базар окончен. Иди на свой пятачок, а то ещё заразишься от меня.
— Чем от тебя можно заразиться? Разве что только унынием. Другой болезни я в тебе не наблюдаю.
— Как это?
— Так это… А теперь лежи и смотри, как у деревни Крюково будет геройски погибать взвод.
Стёгов оставил больного и начал обход дежурных. Он тихо объяснил каждому парню, что они будут делать дальше. Ребята заулыбались. Им понравился план, который предложил Виталий. Удивлению людей, стоявших за колючей проволокой, не было предела, когда они увидели, как дежурные стали снимать шапки, куртки и сваливать их в кучу у памятника Ленину. Стёгов снял с рукава красную повязку, сложил её вдвое и перевязал правый глаз. Львиный рёв, вырвавшийся из горла новоиспечённого Кутузова, отбросил зевак, журналистов и милиционеров на пятьдесят метров от колючей проволоки:
— Раздевайся, пацаны! Бой за Шанхай будет жарким! Левандовский!
— Да, капитан!
— Где народ?! Ты обещал подкрепление! Где оно?!
— Не могу знать!
— А как выглядит твой народ?! Скажи хотя бы, какого цвета у него штаны?!
— Чёрт его знает!
— А глаза какие?!
— Бесстыжие, капитан!
— А какого чёрта мы тогда ждём?! Взво-о-од, к бою! Занять круговую оборону! Зарыться в брусчатку! Живо! Браминский!
— Я!
— Облить бензином колючку! Возьмёшь в помощь первое отделение! Пустишь красного петуха по команде!
— Есть!
— Тайсон!
— На месте, кэп!
— Как у нас с боеприпасами?!
— Китайские бомбочки! Дымовые шашки! Новогодние фейерверки! Ракетницы!
— Раздать бойцам! Огонь по команде!
— Есть! — крикнул Тайсон и бросился выполнять приказ Стёгова.
Площадь замерла. Зеваки, ППСники, омоновцы, офицеры ФСБ, не ожидавшие такого развития событий, растерялись. Никто из людей, присутствовавших в тот день на площади, не мог припомнить ничего подобного. Включились камеры.
Магуров подбежал к Стёгову и бросил:
— Господин фельдмаршал, разрешите обратиться к рядовому Левандовскому!
— Что ещё за самодеятельность?! Этого нет в сценарии!
— Прошу Вас! — Магуров упал на колени. — Дозвольте, Ваше сиятельство!
— Христос с тобой, Безухов! — Кутузов перекрестил толстяка. — Валяй!
— Левандовский! — сложив ладони рупором, изо всех сил закричал Магуров, хотя прекрасно видел, что друг лежит в каких-то трёх метрах от него.
— Я! — откликнулся Алексей.
— Возможно, нас будет штурмовать ОМОН!
— Получат отпор!
— Уверен, что ты будешь драться до последней капли крови!
— Не сомневайся!
— Этого делать нельзя!
— Пошёл ты!
— Кровь мента — братская кровь!
— Теперь всё равно! Шанхай гибнет!
— Побойся Бога!
— Яшка-а-а!
— Побойся Бога!!
— Замолчи-и-и!!
— Побойся Бога!!!
— Сволочь!!! Магуров, ты — сволочь!!! Будь проклят тот день, когда ты стал моим другом!!! Сво-о-о-ла-а-ачь!!! Будь я проклят, если хоть один волос упадёт с головы моего соотечественника!!! — Левандовский зажал уши и сжался в комок. — Ма-а-ама-а-а-а!!! Ма-а-а-мочка-а-а-а!!!
— Клянись, дежурный! На площади! Принародно!
— А-а-а-а-а!!!
— На колени, Лёха!.. Все дежурные по стране — на колени! Повторять за мной!.. Клянусь на лобном месте всем святым, что у меня есть, что в борьбе за светлое будущее Отчизны не пострадает ни один человек, кроме меня! Клянусь в этом своими родителями, прахом предков, верой, которую исповедую! Отныне и во веки веков!
— …Отныне и во веки веков! — поднялось в небо над площадью.
После того, как парни повторили за Магуровым слова клятвы, Стёгов отдал приказ о начале боя против превосходящих сил равнодушия. Загорелась колючая проволока. Вспыхнула брусчатка. Пошла в ход пиротехника, приготовленная ребятами для встречи с народом, на поддержку которого уже не рассчитывал ни один дежурный. Алые языки пламени начали лизать и оптимизм Левандовского, и пессимизм Магурова.
Пала лошадь по имени Вера. Не выдержав бешеной скачки, отбросила копыта Надежда. И только Любовь — самая жизнеспособная и выносливая кляча из всей тройки — продолжала нести карету с дежурными и мёртвых подруг по ухабистым дорогам России.
Дым от шашек занавесил бойцов гражданского фронта от людей, которых нельзя назвать даже дезертирами, так как они ни разу не были на передовой. Яростные крики солдат перекрывали разрывы китайских бомбочек и хлопки ракетниц: «Справа — танки!.. Второй — пошёл!.. Закат, Закат, я — Восход! Равнодушие обходит с правого фланга! Приём!.. Держаться!.. Прорыв обороны на линии Брома! Поддержка огнём! Поддержка огнём!.. Позади Шанхая для нас земли нет!.. Брешь на участке Тайсона заделать отделением Сизого!.. Малой, твою мать! У твоих бомбочек отсутствуют фитили! Китай, твою мать!.. Закат, Закат, я — Рассвет! Равнодушие ввело резервы! Саранчой прут! Огонь на меня! На меня!.. Ма-а-ма-а-а!.. Есть, капитан!.. Патагонов убит!.. Бронебойный!.. Ура-А-А!.. Осколочный!.. Бесплатный совет, Батон! Оставь одну пулю себе! Как ворвутся сюда — свинец в мозги! Сдрейфишь — будешь прозябать в равнодушии! Нет ничего страшнее, чем попасть к нему в плен! Это Бухенвальд, Батон! Бухенвальд!.. Капитан, пошли к Левандовскому! На его участке скопище равнодушных! Хочу им в глаза заглянуть!».
Чёрный от копоти Стёгов улыбнулся. Он с детства мечтал стать актёром, но три года назад приёмная комиссия «Щуки» вынесла ему приговор: «Не верю». Виталий на коленях упрашивал Станиславских о том, чтобы они послушали ещё одну басню в его исполнении, но генералы театральных подмостков были неумолимы. Фомы. Людям всегда надо верить на слово, иначе они превратятся в фашистов. Даже их басням? Даже их басням. Баснословно верить, если так можно выразиться. После холодного приёма в 1997 году униженный Стёгов озлобился на весь мир и создал собственное неонацистское училище. Поступить в его учебное заведение было намного легче, чем в «Щуку». Виталий принимал всех, кто к нему приходил. Из отвергнутых обществом бездарностей он готовил первоклассных актёров чёрного жанра, игра которых наводила на людей ужас.
Слава Богу, что пути дежурных и скинхедов пересеклись. Взяв сценарий, страницы которого пестрели вечными ценностями, Левандовский поставил трагедию. И вот не прошло и недели, как Виталий сменил Алексея за режиссёрским пультом. На этот раз перед Домом правительства давали трагикомедию. Если Левандовскому, чтобы достичь результатов, необходимо было вызвать слёзы, то Стёгов пошёл дальше. Он уже добивался смеха сквозь слёзы. Виталий превзошёл своих товарищей по тайному обществу. Применив сокрушительный удар по системе Гоголя, Платон перерос Сократов. Засеяв людские души семенами смеха, Стёгов сразу оросил их слезами, чтобы добрые растения не погибли. Почувствовав, что для уксусной остроты зрительских ощущений просто необходимо убить артистов под занавес спектакля, он, сам того не понимая, вдохнул новую жизнь в забытый жанр балаганных представлений, игравшихся на площадях для народа.
То, что происходило у памятника Ленину перед Домом правительства, было одновременно и весёлым, и грустным зрелищем. Театр военных действий, насыщенный спецэффектами и бутафорией, давал спектакль с участием талантливых актёров, которые с каждой минутой всё больше и больше покоряли зрительские сердца. С затаённым дыханием люди следили за развитием событий. На улыбавшихся лицах горожан блестели слёзы.
Сон смешался с явью, когда на площади раздался пронзительный крик Стёгова:
— Крест ранен! Магуров, вынести товарища с поля боя!
— Нет! Я не ранен! Я болен! Я остаюсь с вами!
— На войне не бывает больных! Или раненые, или убитые!.. Магуров, у него сквозное ранение лёгких! Уже наверняка началось воспаление! В санбат!.. И передай там врачам и медсёстрам, Крест, что мы не в силах повысить им зарплаты, но обещаем уступать им место в общественном транспорте и при встрече кланяться в пояс даже в том случае, если они будут младше нас на пятьдесят лет! Врачи — дворянское сословие! Нищее, но дворянское! И пусть теперь только попробуют угробить тебя только потому, что их труд не оплачивается!
Магуров взвалил Крестова на плечи и покинул поле боя. Он направился в республиканскую больницу.
Тишина. Дым рассеялся. Тридцать один градус ниже нуля. На ледяной брусчатке лежали полураздетые молодые люди. Артисты балаганной труппы стали трупами. Хлопьями повалил снег; он стал присыпать дежурных. Загипнотизированные горожане ждали, что будет дальше. Прошло пять, десять, сорок минут, но ни один парень не пошевелил даже пальцем. Это были сибиряки, читатель. Суровое племя, которое в счастливые времена ничем не отличается от остальных россиян. Другое дело — година нелёгких испытаний. Здесь сибиряку нет равных. Он остаётся надёжным и спокойным даже тогда, когда всё летит в тартарары. Сибиряк — это боец элитного подразделения, спецназовец, который тяжёлую работу считает привычной. Пройдут годы, и Россия обязательно призовёт сибиряков из заснеженных далей, чтобы они пришли и спасли её. Она ничего не будет обещать им взамен: ни денег, ни почестей, ни наград. Родина просто скажет: «Мужики, мне плохо. Срочная мобилизация. Две минуты на сборы». Пожалуй, так и надо, потому что депутаты тайги на дух не переносят красноречивые призывы о помощи из учебников по ораторскому искусству. Не уступающие в простоте сибирскому валенку, они гениальны. Довольно о морозостойких богатырях. Не будем трепать всуе святое для России имя.
Вернёмся к нашим баранам, пристывшим руном к брусчатке. Автор рано причислил их к сибирякам. Такую честь ещё надо заслужить. Чтобы стать полноправными членами сибирского братства, кандидаты были обязаны пролежать на холодной земле, как минимум, до Второго Пришествия. Это испытание могло прерваться только в том случае, если бы жестокие экзаменаторы сами попросили ребят подняться. Но шок от представления, показанного на площади, был настолько сильным, что в продолжение сорока минут к парням никто не осмеливался подойти. Пар — отработанный лёгкими воздух — клубился над головами большинства дежурных, доказывая, что они всё ещё живы. Над некоторыми парнями дымок уже не курился; вероятно, они впадали в зимнюю спячку, как медведи.
Тут и конец первопроходцам гражданского общества, если бы не дивный женский голос, разлившийся по морозной площади весенним ручьём:
— Мальчики, вставайте! Просыпайтесь, мальчики! Как же я без вас?!
Трупы поменяли позы, но не поднялись, дав понять, что одной девушки на всех их не хватит. Тогда добрая фея, одетая в белую шубку, отороченную беличьим мехом, запела:
Слышу голос из прекрасного Далёка,
Он зовёт меня в чудесные края.
Слышу голос — голос спрашивает строго:
«А сегодня что для завтра сделал я?»
Прекрасное Далёко!
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь!
От чистого истока
В прекрасное Далёко,
В прекрасное Далёко
Я начинаю путь!
Так никогда не споют звёзды отечественной эстрады, голосовые связки которых, надрываясь, разгружают вагоны с деньгами. Так могут петь лишь свободные люди, талант которых никогда не попадал в рабство ни к продюсеру, ни к фонограмме, ни к славе, ни к золотому тельцу. Чистый голос девушки, повиновавшийся только бескорыстным порывам её сердца, вкупе с прикосновениями изящных пальцев к бритым головам дежурных по стране совершил невозможное. Парни ожили. Зеваки превратились в народ, который начал скандировать:
— Шан-хай! Шан-хай! Шан-хай!
…6 часов вечера. Возобновляю дневниковые записи. Холодная брусчатка Первомайской площади — это вам не лежбище морских котиков в арктических широтах. Дежурный Валуев, дежурный Коробейников и дежурный Стецович госпитализированы, но нас всё равно сто шестнадцать человек. Без комментариев.
9 часов вечера. Нас триста, как спартанцев у Фермопил.
26 января.2000 год.
Половина первого ночи. Нам нет счёта. Скоро Везувий не сможет вместить всех людей, желающих присоединиться к спартаковцам.
3 часа ночи. К нам присоединились молодые шанхайцы. Мы вручили им красные повязки у всех на глазах. На мой взгляд, тайное общество исчерпало себя, так как явно наметились ростки гражданского.
4 часа утра. Подпалив свои бараки, старые шанхайцы сожгли мосты. Назад пути нет.
10 часов утра. В супермаркетах скуплена вся мороженая виктория, потому что победа. Мы пьём шампанское, едим ягоду и радуемся. Я всегда знал, что две пятиэтажки в четвёртом микрорайоне были построены как раз для шанхайцев. Ради того, что мы сделали, стоит жить. Через сорок лет я буду рассказывать своим внукам о том, как их прапрадед, воевавший в партизанском отряде, избавил людей от верной смерти, а дед, дежуривший на пограничье тысячелетий, — от невыносимой жизни… Нам крупно повезло, потому что новички, как известно, — фартовые ребята. Весь город гудит.
11:45 утра. Страшное время. Боже, мы теперь с Левандовским смерти искать будем. Точи косу, старуха. Мы готовы. Не жизнь это, не жизнь. Хорошо, что Мальчишки не было рядом; он бы не вынес. Только что подходили заплаканные девочки-близняшки и сказали: «Папочка просил передать, что он стоял в очереди на квартиру пятнадцать лет, а теперь её отдают другим». Лёха спросил: «Где папа-то ваш?». Малышки ответили: «Он просил передать, что его уже нет». Будь мы прокляты!!!
Глава 14
26 января 2000-ого года. Город N. Квартира. Шесть дней до времени «Ч».
Бочкарёв лежал на диване и смотрел вечерние новости на местном канале. После того, как кончился блок, в котором на Первомайской площади показывали Левандовского и Магурова, Артём поднялся с дивана и стал наматывать круги по комнате. Бочкарёв совсем не ожидал увидеть своих друзей по телевизору, поэтому он долго не мог справиться с волнением. Убавив громкость, Артём почесал пультом под носом, принял горизонтальное положение и занялся детальным восстановлением репортажа с участием своих друзей.
Благодаря внимательности и отличной памяти, которые по ошибке часто достаются ветреным парням навроде главного героя четырнадцатой главы, Бочкарёв в мельчайших подробностях запомнил показанный сюжет от первого до последнего эпизода. Вспомнив клятву, произнесённую дежурными на Первомайской площади, Артём зевнул, так как слова его товарищей по тайному обществу не зажгли его, а вызвали апатию. Бутафорскую баталию, организованную ребятами перед Домом правительства, Бочкарёв окрестил неврастенической войнушкой отмороженных. А красивую девушку, которая исполнила подростковую песню эпохи «совка», он прозвал романтичной дурёхой. Артём обладал хорошим чувством юмора, поэтому его насмешливый ум не мог не отметить, что в некоторых эпизодах ДПСники воевали сатирой с покушением на сарказм. Это понравилось парню, но не более того. Гламурное сердце инфантильного мудреца было способно проникнуть в глубинную суть развернувшегося на площади сражения, но не пожелало этого, так как сытое усыпление предпочитало треволнениям. По большому счёту Бочкарёва интересовали вопросы, имеющие косвенное отношение к делу. Почему люди, находившихся перед Домом правительства, одеты в нестильные шапки, куртки и шубы? Где работает цирюльник, убедивший Левандовского в том, что лысая голова — это последний писк моды? Каким одеколоном брызгался Магуров перед выходом на площадь? По какой причине не было музычки? Почему пацанскую тусовку не разбавили реальными тёлками? Для чего надо было так испачкаться в сражении, ведь это негигиенично?
Бог наделил Бочкарёва таким количеством талантов, которых бы хватило на добрую сотню человек. И что с того? Часть способностей парень зарыл в землю, а другой частью пользовался не по прямому назначению. Младенец, увидевший свет на стыке исторических плит, должен был стать генератором новых идей, но выродился в потребителя, усевшегося на шею богатой матери. В свои семнадцать лет этот бездельник с философским складом ума даже не подозревал о том, что его менее одарённые друзья продвинулись в постижении мира гораздо дальше, чем он, так как познали радость труда. Магуров, конечно, тоже за всю свою жизнь не ударил палец о палец, но он хотя бы завидовал Молотобойцеву, Женечкину, Волоколамову и Левандовскому, когда они с гордостью рассказывали о своих рабочих успехах. Да, Яша хотя бы завидовал, а Артём не понимал, совсем не понимал, почему при воспоминаниях о самостоятельном труде в глазах его друзей зажигаются светлячки.
Например, Вася при случае обязательно хвалился тем, что солонина и компоты, которыми он потчует гостей, помнят его руки с тех самых пор, как были ещё семенами и саженцами, когда он с деловым видом прохаживался по собственноручно вскопанному огороду в поисках удобного места для яблоньки или грядки под огурцы, словно мичуринец. «А сбор картофельного урожая, — делился с друзьями Молотобойцев, — я ни на что не променяю, потому что вся моя большая семья с шутками и прибаутками копается в земле рядом со мной. Мы с моими родителями и родственниками роем лунки, как дети, как прозревшие кроты, и счастливая улыбка не сходит с наших лиц, потому что наконец-то нам удалось собраться всем вместе. Великий осенний день, который кормит год, сплачивает нас не через пьяную болтовню праздничных застолий, а с помощью коллективного труда на земле, из которой мы вышли и в которую уйдём»… Леонид хвастал тем, как он четырнадцатилетним мальчишкой устроился на работу в строительную артель и за два месяца так напрактиковался в плотницком деле, что мог забивать гвоздь «сотку» с двух ударов… Алексей гордился тем, что в пятнадцатилетнем возрасте он несколько раз разгружал вагоны с солью, не уступая работавшим на его отца мужикам ни в силе, ни в выносливости… А Вовка нисколько не стеснялся признаться в том, что до поступления в институт он на протяжении двух лет помогал дворнику убирать территорию в родном посёлке, так как искренне считал, что чистота окружающей среды благотворно влияет на ауру человека.
Разве Бочкарёв мог понять своих друзей? Всю юность трутень с телом Аполлона занимался только тем, что спаривался с матками городского улья. Беспорядочные половые связи не довели его до добра. Артём пресытился. Любовные утехи истощили молодой организм, и после ночных оргий он стал болеть, как с похмелья. Апатия опочила на его лице. Глаза, в которые когда-то как в зеркало любила смотреться целомудренная красота Вселенной, ввалились. Кожа Бочкарёва приобрела жёлтый оттенок. Его мышцы одрябли.
На диване лежал изношенный трутень с лоснившейся от жира душой. Праздность, возведённая в абсолют, постепенно разъедала Бочкарёва. Он представлял собой страшный тип человека, который заполонил страну в самый неподходящий момент. Это был один из наших многочисленных Тарзанов, вырванных из джунглей и приставленных к позорным шестам увеселительных заведений для удовлетворения животного воображения похотливых дам. Женоподобный трутень, — он был начисто лишён жала, которое есть у всякой рабочей пчелы, добывающей свой хлеб в поте лица и охраняющей семью от посягательств недругов. Красную повязку дежурного получил человек, который в свои семнадцать лет не умел ни любить, ни ненавидеть.
Кто бы мог подумать, что Бочкарёву предстояло нанести сокрушительный удар по гнилой системе координат с перепутанными осями-хромосомами X и Y. Никто. Никто, кроме России, благословившей на страшный подвиг именно Артёма, потому что он являлся самым типичным героем нашего времени.
— Так, значит… Ага… Понятно… Ясненько… Куда уж нам до вас? — мысленно анализировал Артём телевизионный репортаж. — В боях с немецко-фашистскими захватчиками Лёха потерял безымянный палец на левой руке. Замечательно. Теперь ему точно не грозит армия; он покажет ей fuck you соседним средним пальцем. А Магуров, если я правильно понял, подарил часть своей полноты шанхайской худобе. Нормалёк. На вскидку с него слетело килограммов, эдак, пятнадцать. У обоих, как я смотрю, всё получилось. Великолепно. Да, просто отлично, если не брать во внимание тот факт, что пацаны нарушили договор. Левандовский не имел права помогать Магурову на его участке. Когда все дежурные соберутся в стенах общежития «Надежда», чтобы обсудить итоги проведённой работы, я буду настаивать на том, что Яха и Лёха дискредитировали алую повязку. Мы проведём открытое голосование. Даю голову на отсечение, что решением большинства членов тайного общества проштрафившиеся пацаны будут изгнаны из наших рядов. Вдобавок Магуров рассекретил нашу деятельность, прилюдно озвучив название подпольной организации. У меня есть неоспоримое доказательство, которое зафиксировала плёнка. Он крикнул на площади: «На колени, Лёха!.. Все дежурные по стране — на колени!». Благодаря Магурову, мы перестали быть тайными агентами миллениума. Яша сдал нас, хотя должен был молчать, как партизан. Теперь он не достоин своего деда, погибшего в лесах Белоруссии. Магуров слил информацию. Он подставил нас всех под удар. Можно подумать, что Яша не знает о том, что «нет пророка в своём Отечестве», что власть, прессу и толпу интересуют только наши ошибки, которые мы по молодости и горячности обязательно допустим. Знает, прекрасно знает. Если у нас всё будет складываться удачно, то город не крикнет «браво», не вызовет нас на бис, а ограничится жидкими аплодисментами. Но стоит нам оступиться, как начнётся такая травля, развернётся такая кампания против дежурных, что ни у кого не останется никаких сомнений в том, что мы продали свои души чёрту. «Пособники дьявола», «Прислужники сатаны», «Посланцы ада», «Перевёртыши из преисподней» — вот приблизительные заголовки, под которыми члены тайного общества будут фигурировать в прессе. О, я даже нисколько не удивлюсь, если заведётся «дело дежурных», как когда-то «дело врачей». Россия любит пожирать и проклятых негодников, и святых угодников, чтобы постоянно расти и ширится на разнообразной пище. Всё путём. Громадной стране — богатое меню. Не может же государство поглощать одних только ползучих гадов; они питательные, но противные. Чтобы перебить неприятный вкус во рту, Россия привыкла заказывать на десерт воздушные пирожные из числа своих лучших людей, которым лакомка обещает посмертную славу после того, как её желудок перестанет бурлить от голода. Ну, погоди, проглотка. Я тебе так легко не дамся. Не по зубам тебе Бочкарёв, провалявшийся на обломовском диване двадцать шесть дней, отведённых ему на то, чтобы из порядочных сук сделать порядочных женщин. Я не состою в родстве ни с гениями, ни со злодеями, которыми ты так любишь закусывать. Такого блюда, как я, нет в твоём рационе. Я даже не обыватель. Я лучше. Я — Никто.
Злорадный смех наполнил комнату. Бочкарёв закричал:
— Никто! Ха-ха-ха! И зовут меня Никак! Ха-ха-ха! У меня нет тени! Ха-ха-ха! Мой голос не отзовётся эхом в лесу! Ха-ха-ха! Меня нельзя любить, потому что я не сделал ничего хорошего! Ха-ха-ха! Меня невозможно ненавидеть, потому что я не сделал ничего плохого! Ха-ха-ха! Я вообще ничего не сделал! Ха-ха-ха! Я прозрачен, как невидимка! Ха-ха-ха! Никто из вас не знает, на что способен Никто! В три дня уложусь! Один сработаю!
Бочкарёв скатился с дивана. Упав на пол, Артём лежал без движения до той поры, пока стали невыносимы мысли о том, что в школьные годы из-за надуманных недугов он лишил себя такого поистине здорового счастья, как уроки физкультуры. Прокляв врачебную справку, которая в школьном обиходе зовётся освобождением, Бочкарёв принял упор лёжа. Без видимых усилий Артём отжался сто раз. Не удовлетворившись отличным результатом, он продолжил силовое упражнение, пока не довёл цифру отжиманий до ста пятидесяти.
Сверхчеловек, поднявшийся с пола, подозвал кота, взял его на руки и произнёс:
— Дымок, тебе придётся меня выслушать. Твоя задача — мурлыкать от удовольствия, потому что мой рассказ того стоит. Ты, наверное, сейчас думаешь, что слова человека обязательно должны подкрепляться делом? Дым, ты действительно учёный кот. Обещаю, что натру на ладони мозоль, гладя твою спину во время рассказа, который имеет прямое отношение к моей миссии.
— Мур-р-р, — завёлся кот от руки, опустившейся ему на голову.
— Я рад тому, что ты являешься молчаливой тварью, не владеющей инструментом под названием язык. Люди любят выдавать чужие тайны, а ты любишь сметану. Люби сметану, Дым. Она полезна для здоровья. Несмотря на то, что кошачий лексикон ограничивается двумя словами, на эти «мур» и «мяу» я полагаюсь всё же больше, нежели на богатый словарный запас некоторых знакомых мне болтунов. Дымок, ты не сдашь своего хозяина даже в том случае, если тебя будут пытать на дыбе. Я прав?
— Мур-р-р, — немедля согласился кот, чтобы хозяину не пришло в голову прервать поглаживания.
— Знаешь, меня всегда раздражал тупой героизм Степана Разина, который не проронил ни звука, когда его жгли калёным железом. Зачем это? Типа, он не чувствовал боли. Чувствовал, Дым, ещё как чувствовал. Люди относятся к слабым существам; стоит человеку слегка пораниться, как он сразу меняется в лице. А тут пытка, Дымок. Стенька должен был орать благим матом, визжать, если хочешь. В этом нет ничего зазорного, если, конечно, твои крики не пересыпаны именами, паролями и явками. Так нет же. Разин молчал, как тургеневский Герасим. Чего он добился? А добился он того, что своим презрением к боли ещё больше озлобил своих истязателей. Издеваясь над организмом Степана, палачи наверняка думали, что они-то бы точно орали, если бы их так пытали. В общем, казак хотел показать катам, что он сильнее их и духом, и телом. Ошибочная позиция. Кто он такой, чтобы считать себя выше других людей? Пусть и озверевших убийц, но людей. Кем он себя возомнил? Если что, он сам — убийца. Кто его просил бросать княжну в реку? Герой, блин. Да, я согласен с тем, что все бабы — б…и, но это не даёт нам право убивать их или даже просто бить. Согласен?
— Мур-р-р, — не стал спорить кот, так как слова хозяина продолжали подкрепляться приятными поглаживаниями.
— Дымок, скажу тебе по секрету, что Родина — это не картинка в твоём букваре, не хорошие и верные товарищи, живущие в соседнем дворе, не песня, которую пела нам мать, — а проститутка Маша из соседнего подъезда. Да, проклятый кот. Шалава Маша — это тоже моя Родина. Если кто-нибудь спросит меня, люблю ли я Россию, то я отвечу: «Что за вопрос?! Я люблю её и сверху, и снизу, и спереди, и сзади, и лёжа на кровати, и сидя в кресле, и стоя на полу. Я даже плачу ей деньги за то, что люблю её. Вот такой я патриот». Дымок, почти все мужики обожают свою страну. Их магнитом тянет к ней, так как на кону — честь России. В прямом смысле, в самом прямом смысле. Чтобы называться настоящим мужчиной, надо обязательно иметь Родину. Чем чаще ты её имеешь, тем лучше. Дым, у твоего хозяина попёрли грязные мысли. А ты как хотел? Хочешь, чтобы дежурных по стране называли ажурными по стране? Хочешь, чтобы над нами смеялись? Хочешь, чтобы нас за лохов держали? Нет, не выйдет. Мы не мальчики для битья. Теперь я не успокоюсь, пока окончательно не вымажу свои соображения в саже. Так вот, если при встрече с другими мартовскими котами ты начнёшь хвастать тем, что любил Родину в уютной постели при мягком свете ночника, то тебя осмеют и правильно сделают. Согласись, что так всякий патриот сможет. Другое дело, если ты любил её на фрезеровочном станке под несмолкающий шум механизмов в сверхурочное время, если ты имел её в ржаном поле под палящими лучами солнца во время жатвы, если твои стоны о её погибающей чести слышали сточные канавы, тёмные подворотни и зловонные подвалы. Вот этим можно хвастать перед опытными мужиками. А в мягкой постели на чистых простынях и дурак сумеет. Запомни это, Дым. На этом присказка заканчивается, и начинается сказка, семейное предание, на которое я буду опираться, когда пойду в народ. Приготовься слушать.
— Мур-р-р, мур-р-р, мур-р-р, — произнёс кот, что на его языке означало примерно следующее: «бомби, хозяин, только больше не надо утюжить меня против шерсти, как это случилось в ту проклятую секунду, когда ты уподобил свою человечью страну блудливой кисоньке из соседнего подъезда».
— В 1943-ем году мой дед стал дезертиром. Точь-в-точь, как у поэта: «Иную явил он отвагу. Был первый в стране дезертир». Он пересёк линию фронта предателем, а вернулся назад героем Советского Союза. Как тебе?
— Мур-р-р, — мурлыкнул кот, потому что слова хозяина не расходились с делом.
— Товарищи по полку заклеймили деда позором, но это ещё полбеды, потому что человек не может угодить всем. Для кого-то ты — хороший, для кого-то — плохой. Из-за предательства деда пострадала бабушка, её сослали в Соловецкие лагеря. Такое было время. Люди и за меньшие проступки от Сталина по рогам получали, а иногда вообще ни за что, ни про что четверть века за колючей проволокой проводили. Мы с тобой по сравнению с нашими стариками сейчас как сыр в масле катаемся, а ещё ноем, на жизнь жалуемся. А Коба замурован в аду, это я тебе со всей ответственностью заявляю. Если хочешь, то я назову тебе срок отсидки диктатора в котлах с кипящей смолой. Двадцать пять миллионов лет без права переписки. К слову, если бы все современные госслужбы работали с такой же самоотдачей, как НКВДшники в эпоху Сталина, то Россия быстро поднялась бы с колен; даже у этих злыдней есть чему поучиться. Как думаешь?
— Мур-р-р, — поддакнул кот.
— Дымок, а вообще надо ли России подниматься с колен? Между прочим, эта самая лучшая в мире поза. Колени преклоняют перед Богом в минуты молитвы. Кот, мы с тобой живём в такой стране, в которой ни в коем случае нельзя стоять, гордо выпрямившись, потому что сразу возникают большие проблемы. Величавая осанка — это не для нас; чем больше распрямляется позвоночник, тем больше нация слабеет. А на коленях с согбённой спиной мы непобедимы. Ты солидарен со мной?
— Мур-р-р, — с привычной интонацией отозвался кот, но хозяин перевёл ответ своего питомца как «не совсем».
— Что, что? Не совсем? Дым, ты что: пьяный в дым что ли? Как это не совсем согласен? Интересно, что я, по-твоему, мог упустить? Нет, не надо мне твоих подсказок. Дай-ка я сам догадаюсь… Может быть, горох?
— Мур-р-р, — сказал кот, что означало: «шаришь, кабан».
— Что ж ты раньше молчал, провидец бессловесный? Знаешь, кто ты после этого? Шерстяное чучело, мартовский прелюбодей, пожиратель сметаны — вот ты кто. Конечно, из-под колен надо убрать горох, стоять на нём не очень-то приятно. Да, единственное, что сейчас надо сделать, — это убрать горох и подстелить под колени бархатную подушечку навроде той, какая имеется у тебя на каждой лапе. Но ни в коем случае не вставать, иначе опять всё испортим.
— Мур-р-р, — крутилась старая пластинка.
— Как там у Магурова: «На колени, Лёха!.. Все дежурные по стране — на колени!». Яша даже сам не понял, в какую глубину он проник. Если Магуров увидел только дерево с красивой кроной, то мы с тобой узрели корни, находящиеся под землёй. Они не такие пригожие, как листочки, зато питают ствол. Всё их стояние на ногах перед Домом правительства закончилось бы плачевно, если бы они не уменьшились в росте во время клятвы. Яша воздействовал на подсознание людей, и это привело к тому, что дежурных, в конце концов, поддержали. Ведь так?
— Мур-р-р.
— Да, мы с пацанами составляем неплохую команду. Нет, просто отличную, Дымок. Прости за наглость, но мы знаем всё. Знаем или интуитивно чувствуем, что, в принципе, одно и то же. Дежурные безошибочно выбрали тропу, по которой надо идти. У нас тяжёлая поступь, но иначе нельзя. Мы избрали гротескный стиль, но по-другому никак. Мы используем шоковую терапию, но не спеши нас осуждать. Без жёсткого вмешательства организм всё равно бы умер, а мы с парнями пытаемся вернуть мёртвые души к жизни с помощью электрического разряда. Это вовсе не значит, что способы воздействия на общественное сознание, к которым прибегали наши предшественники, были хуже наших. Вовсе нет. Просто мы начали разогревать на пионерском костре замороженный помёт, чтобы он завонял, и люди ужаснулись тому, в каком дерьме они живут. Как тебе наше ноу-хау? Знаю, что не очень. А чё делать? Если что, то мы сами задыхаемся от смрада, но противогаз всё равно не надеваем, чтобы находиться со всеми в равных условиях. Ведь в равных же?
— Мур-р-р, — не разочаровал кот.
— Зима… Дотянуть бы хоть до весны, на почки поглазеть охота. А на лето с самого начала не рассчитывал ни один дежурный. Ни один, Дым. Хоть и не рассчитывали, а Мальчишку жаль. Ему-то за что?! За что?! За что, проклятый ты кот?! Зачем мы его-то втянули?! Ладно, что-то меня опять не в ту степь понесло. Я же тебе о дедушке хотел рассказать.
— Мур-р-р, мур-р-р, мур-р-р, — произнёс кот, и его фразу следовало перевести так: «давно пора, только не надо на меня орать; я тебе не какой-нибудь бродячий Васька, а породистый Дым из Сиама; такие бездонно-голубые глаза, как у меня, на свалках не валяются».
— Так вот — героем Советского Союза он стал, когда принёс с вражеской территории важные документы. Вру. Сначала наши пустили его в расход, как предателя и шпиона. Думаю, что во время казни у него было удивлённое лицо. А то! Ты им — документы, а они тебя — к стенке. Так, наверное, с поднятыми бровями и погиб. Это хорошо, что с поднятыми бровями, так как ровно через две недели, когда принесённые дедом сведения подтвердились разведданными, его реабилитировали. Он снова удивился, потому что полагал, что из земли возврата нет, но его откопали, чтобы уже похоронить честь по чести. «Подвиг героя нетленен», — сказал на могиле деда командир полка. Дым, лучше бы бабку сразу освободили, а то она ещё целый год в лагере мучилась.
В дверь позвонили. Бочкарёв открыл дверь. В квартиру зашла красивая женщина лет сорока. Она поставила на пол сумку с продуктами и выдохнула:
— Уф… Ел?
— Да, мама… Только что беседой с Дымком перекусили.
— Тёма, разговорами сыт не будешь. Я вам котлеты на плите оставляла. Надо было разогреть.
— Надо было с детства называть меня не Тёмой, а Артёмом. А разговор, которым мы набили животы, чем-то напоминает творог. Только он не белый, а чёрный, как грязь.
Мать подошла к сыну, потрогала его лоб и спросила:
— Что с тобой? Ты, случаем, не заболел?
— Нет, я как раз выздоровел, — грубо ответил Артём.
— Сынок, что происходит?
— Со страной-то?.. Ничего особенного. Ей — мат. Пат — это ещё куда не шло, но мат — это конец.
— Что ещё за страна? Какой мат?
— Мат, который матриархат. У меня нет слов, мама. Один мат. Мат, который матриархат. Нас положили на лопатки на мат. Мат, который матриархат.
— Успокойся.
— Нет, это ты успокойся. Раздевайся и проходи в зал. Мне с тобой надо очень серьёзно и обстоятельно поговорить.
— О чём?
— Обо всём.
— Сынок, ты меня пугаешь. Что случилось? И что у тебя за повязка?
— Я прозрел… Прости меня, мама.
— Тёма, ты что? Мне не за что тебя прощать. Ты ничего не сделал.
— Вот именно за это и прости. Ты спросила меня о красной повязке. Я одел её, чтобы принять позор за то, что не сделал. Ничего не сделал, мама. Абсолютно ничего за всю свою жизнь. За это тоже надо платить. В ближайшие дни красная материя на моём рукаве станет багровой от крови. От меня все отрекутся. Даже те, кто носит точно такую же повязку. — Бочкарёв внимательно посмотрел в глаза матери. — А ты?
— Нет, я не отрекусь, но я не понимаю, не понимаю, ничего не понимаю, — произнесла мать и заплакала.
Артём взял женщину под руку, проводил её в зал, а сам пошёл на кухню. Вернувшись в комнату, он подал ей стакан воды и сказал:
— Сядь, мама, и постарайся успокоиться. Я в здравом уме. Может быть, всё ещё обойдётся, хотя вряд ли.
— Надеюсь, ты не убьёшь себя? Сынок, я этого не переживу. Ты самое дорогое, что у меня есть.
— Хуже, мама. Скорей всего, мне придётся потерять честь. За народ, для народа, во имя народа.
— Я… ничего… не понимаю, — всхлипывая, сказала мать. — Тёмочка, давай к доктору сходим.
— Зачем куда-то идти? Дежурный врач стоит перед тобой.
— Ты сейчас только не нервничай. Я имею в виду психиатра.
— Он тоже присутствует здесь. Во мне сидят десятки узкоспециальных профессионалов от хирурга до сексопатолога. — Артём снял повязку, пропитал её материнскими слезами и произнёс: «Вот теперь — порядок. Слёзы жён, матерей, сестёр и дочерей — на мне. Завтра начну сложную операцию без наркоза. Если перестанешь плакать, то я объясню тебе причину твоего сумасшествия».
— Моего?
— Ну не моего же.
— Обещаю, что больше не пророню ни слезинки.
— Но будешь рыдать и грызть локти до конца жизни, если не вылечишься от матриархата. Этой болезнью заражены почти все наши женщины. Когда советская власть стёрла различия между полами, мужчины начали понемногу отвыкать от всякой работы, а потом вообще запили.
— Мужики всегда пили.
— Пили и работали. А при советской власти просто пили.
— Что ты хочешь всем этим сказать?
— Что современным женщинам плевать на мужей и детей. Теперь им хочется только тешить собственное эго и ни в чём не уступать мужчинам. Они вдруг возомнили себя независимыми и свободными, стали суверенными государствами в собственных семьях. Женщины занялись планомерным разорением ячейки общества, когда поверили КПСС, заявившей: «Ваше величие заключается в том, чтобы сравняться с мужчинами на их исконных территориях, а не в том, чтобы вытирать носы своим ребятишкам». Какая преступная глупость! Постепенно женщинам стало казаться, что функции, которые они выполняли с древнейших времён, — функции низкие и недостойные; что надо стать не только шеей, но и головой; что недостаточно быть красавицей, а желательно бы ещё и лидером. Получайте за это! Получайте мужей-алкоголиков и детей-отморозков. Рулите нами. Властвуйте над гнилью, а потом мучьтесь и получайте неврозы из-за того, что бьётесь на работах, из кожи вон лезете, а ваши мужья и дети вместо благодарности плюют вам в душу. А чего вы хотели? Не без помощи советской власти, к которой после падения железного занавеса присоединилась западная пропаганда, вы попрали вековые устои, замахнулись на чужие функции, а теперь плачете: «Тёмочка, я ничего не понимаю».
— Артём, пожалуйста, прекрати. Я запрещаю тебе говорить со мной в таком тоне.
— Да, тон мужчины вам претит, ведь вы давно забыли о том, что наша сила — в силе, а ваша — в слабости. Получайте за эмансипацию! Продолжайте кормить инфантильных мужей и ныть оттого, что ваши дети вырастают в алкоголиков, наркоманов, бездельников и проституток. Только не думай, что я оправдываю мужчин. Я просто пытаюсь разобраться в серьёзной проблеме. Согласен, что совокупность причин привела к краху миллионов крохотных государств, но одно у меня не вызывает сомнения: в немалой степени именно вы, российские женщины, виновны в развале ячейки общества.
— Разве только мы?
— Да, потому что карьеру, высокий заработок, независимость начали ставить выше интересов членов семьи, которых вы объединяли в единое целое тысячи лет.
— Кто вам, мужчинам, мешает зарабатывать деньги и делать карьеру?
— Никто.
— Тогда — вперёд.
— Вся фишка в том, что зарабатывать деньги и делать карьеру — некому, потому что от мужчин осталось одна оболочка. Есть алкоголики, наркоманы, инфантильные и безответственные маменькины сынки навроде меня, а стержневых мужчин — нет.
— Меняйтесь.
— Не будем, потому что на вас смотреть тошно.
— Чем мы вам опять не угодили?
— Бабушки — ничем. Несмотря на то, что им сказали о том, что они могут запросто заменить дедушек, — семьи всё ещё продолжали жить старым укладом. Женщины воспитывали детей, поддерживали огонь в очаге, а мужчины вкалывали… Мамы — почти ничем, так как разрывались между семьёй и повышением своего статуса в обществе, как будто он до этого был низким. Хотя бы разрывались, но всё равно мужья и дети, как ты понимаешь, уже не получали добрую половину того, чего должны были получать… А мои сверстницы — уже всем, потому что стали независимы и свободны не только от семьи, но и вообще от всего, от всех старых добрых ценностей, от всякой морали. Ровесницы не говорят о счастье, а болтают о красивой жизни. Чувствуешь разницу? Им не нужен порядочный молодой человек, они хотят отхватить богатого парня. Улавливаешь различия? Непрерывных наслаждений — вот чего они хотят сегодня… С каждым новым поколением роль женщины в обществе усиливалась, но это было мнимое усиление, потому что мужчины деградировали и слабели, а прекрасный пол всё дальше и дальше уходил от своего предназначения. Одна чаша весов планомерно опускалась, другая поднималась. В результате было нарушено равновесие. Женщины надумали себе, что стирать, готовить, воспитывать детей — это мелко плавать, а делать карьеру, самостоятельно зарабатывать деньги, быть независимой — это летать высоко. Один уже взлетел высоко. Его звали Икаром. Все знают, куда он залетел.
— Куда?
— Прямиком на тот свет. Он залетел на тот свет, мама. Это был конкретный залёт, потому что однажды ему пригрезилось, что быть человеком — это не то, а вот птичкой — самое то. Он не стал птичкой и перестал быть человеком.
— Кем же он стал?
— Легендарным трупом, мама. То же самое ожидает всех женщин, которые захотят носить мужские брюки. Впрочем, как и мужчин, которые пожелают примерить на себя женское платье. Утрирую, но смысл, думаю, тебе понятен.
— Ты — жёноненавистник.
— Нет, я — дежурный, который приставлен следить за порядком. Тысячелетним порядком, между прочим.
— Какой ещё дежурный? Консерватор, — бросила мать.
— Промах… Не консерватор, а классик. А классики, как известно, никогда не выходят из моды.
— Зато входят во все её новинки, как ты, сынок. Ни одной тряпки мимо не пропускаешь, часами прихорашиваешься перед зеркалом, как красна девица.
— Не забудь упомянуть о деньгах, которые я с тебя тяну, иначе сбегу из дома.
— Не надо сбегать. Ты действительно — спиногрыз.
— Добей, мама. Скажи, что я веду себя, как голубой, а то я вскрою себе вены кухонным ножом.
— Я не думаю, что у тебя нетрадиционная сексуальная ориентация.
— Так считают все, мама.
— Я носила тебя под сердцем. Я не могу сказать такое про тебя.
— Так мне идти за ножом?
— О, Боже. Что сегодня с тобой?
— Я уже пошёл на кухню.
— Хорошо. Ты — голубой.
— Как майское небо?
— Да. Без единого облачка.
— Как «москвич» дяди Юры?
— Да, как «москвич». Как все голубые «москвичи». Только откуда такие болезненные сравнения?
— Уж какие есть, мама. Я полностью согласен с тем, что мой воспалённый мозг подобрал не самые лучшие сравнения, так как майское небо для меня — слишком чистое, а «москвич» — слишком грязный. Дядя Юра не мыл свою машину лет десять, наверное.
— Ты преувеличиваешь.
— Нисколько. Дядя Юра уже десять лет мерит, а свой старый «москвич» не моет и не перекрашивает. Цвет зелёного лужка пошёл бы его колымаге, — как думаешь?.. Он запустил машину. Он её заездил.
— Дядя Юра — честный землемер. Он мерит, как надо.
— И кому надо.
— По крайней мере, за все годы не нажил себе ничего, кроме горбатого «москвича».
— Ничего? Знаю я их «ничего». Типа, хожу в поношенной кепке, мерю по мере сил, езжу на грязно-голубом «москвиче», а у самого жена — миллионер. Не так что ли?
— Она сама зарабатывает.
— Пользуясь его связями и поддержкой, мама. Мне ли тебе объяснять, что человек, работающий в городском землеустройстве, — это бог и царь. Дядя Юра раздаёт участки, которые дорожают с каждым годом. Он выделяет их людям только в том случае, если они дают слово обслуживаться в парикмахерских салонах его жены. Она стрижёт огромные бабки, покупает недвижимость и записывает всё на себя, чтобы дядя Юра не попал в поле зрения правоохранительных органов.
— Деятельность дяди Юры не противоречит российскому законодательству.
— Да, он ловко воспользовался несовершенством российских законов, но на него всё равно уже заведено уголовное дело.
— Очень сомневаюсь. Даже в том случае, если дело дойдёт до суда, он не сядет за решётку. Ты сам всё прекрасно понимаешь.
— А судьи кто? — процитировал Артём. — А ещё на них давят сверху.
— Вот видишь. Независимый суд — это миф… Я в Геракла больше верю, чем в нашу судебную систему.
— А я — в Одиссея.
— Давили, давят и будут давить своими грязными ногами…
— Как виноград для получения вина, которое мы рано или поздно разопьём на могилах нечистоплотных виноградарей с немытыми ступнями, — продолжил Артём фразу матери.
— Сам-то веришь в то, что сказал? Дяде Юре никакой суд не страшен: ни городской, ни республиканский, ни верховный.
— Я знаю инстанцию повыше. Ходят слухи, что там не берут взяток, не боятся давления сверху, не допускают судебных ошибок и вообще.
— Уж не о Божьем ли суде речь?
— Наконец-то. О нём, о нём.
— А ты уверен, что он существует? — спросила мать.
— Уверен, — твёрдо ответил Артём.
— На сто процентов?
— Да, но я бы отдал глаз, чтобы его не было.
— Почему?
— Потому что за мной числится столько грехов, что меня, как и дядю Юру, упекут в ад. Нам с ним никакой адвокат не поможет. Видишь ли, небесное судопроизводство кардинально отличается от земного. Там прокурор не обвиняет, адвокат не защищает.
— И прений нет? — съязвила мать.
— Никаких прений, — не заметив издёвки, серьёзно ответил Артём. — Там всё по-простому. Со стороны защиты идёт перечисление грехов, со стороны обвинения — хороших поступков.
— А потом, конечно, каждому воздаётся по заслугам. Праведники весёлой колонной шагают в рай, грешники понурой толпой бредут в ад.
— Смеёшься надо мной? Не надо, мама. Пожалуйста.
— Я уже сама не знаю, плакать мне или смеяться.
— Постарайся успокоиться. Прошу тебя.
— Может, и успокоюсь, если ты будешь вести себя, как обычно.
— Как обычно? — с негодованием воскликнул Артём. — Нет, хватит с меня.
— Боже милостивый, — взмолилась мать. — Что сегодня за день?!
— Да, Бог милостив, пока человек находится на земле. У каждого есть шанс исправиться в любой момент. Только встав на путь истинный, не надо грешить, а то у нас как: грешат — замаливают, потом опять грешат — и снова замаливают. Или такой пример. Полагаю, многие из нас не раз говорили себе: «Буду обманывать, красть, а потом на смертном одре покаюсь». Бог и в этом случае обязательно простит, но ведь вот какая штука: мы же не знаем, когда придёт наш последний час. А вдруг завтра или уже сегодня. Можно не успеть покаяться. То-то же. В этом плане я всегда завидовал старикам и смертельно больным людям. У них есть большая привилегия по сравнению с нами, потому что они-то уже достоверно знают, что их скоро не станет.
— Ты болен. Человек, который завидует старикам и смертельно больным, сам нуждается в лечении.
— В том-то и дело, что здоров, как бык. Только я не закончил. Когда мы попадаем на небо, Бог милостивый уступает место Богу справедливому, который говорит нам: «Время для раскаяния вышло».
— Интересно, а как, по-твоему, судят людей, которые и слыхом не слыхивали ни о Христе, ни о Его учении?.. Взять хоть дикие племена.
— Этих Бог особенно любит. Они напоминают Ему младенчество планеты, когда все были, как дети.
— Дети бывают добрыми и злыми. Напомнить о людоедстве, которое до сих пор процветает в некоторых отсталых племенах?
— Не надо, а то я напомню, как некоторые продвинутые людоеды, извратив христианские идеалы, насаждали веру огнём и мечом и от имени Господа творили самые страшные дела на земле.
— И всё же вернёмся к суду над дикарями.
— Мне кажется, что Бог прощает их.
— Это несправедливо по отношению к цивилизованным людям.
— Ты, случайно, не про тех цивилизованных, которые поднимут тебя на смех, если ты им скажешь, что народы Мира могут вполне обойтись без междоусобных войн?
— Дикари тоже воюют с соседями.
— Они делают это, не зная Бога. А вот мы уже знаем и всё равно бесчинствуем.
— Незнание закона не освобождает от ответственности, — сказала мать.
— Кому больше дано — с того больше спрашивается, — парировал Артём.
— У меня от твоего разговора голова раскалывается… Сыночек, меня вот что волнует. Только ты, пожалуйста, не думай, что я… В общем, ты голубой или нет?
— Нет, но отношусь к ним с пониманием. Я не одобряю тех, кто считает их уродами. Они являются исключением из правил. А исключения, как известно, только подтверждают правила. Вспомни русский язык. Уж замуж невтерпёж. Эти три слова стоят особняком. Буква «ж» не претендует на то, чтобы сзади неё пристроился мягкий знак; она подчиняется орфографии. Это вовсе не значит, что эти слова неполноценны; они такие же русские, как и любые другие, но в отличие от геев не трубят на площадях о том, что каждой «ж…» — свободу выражения, не устраивают демонстративных парадов, а живут себе и живут в речи, понимая, что гордиться особо нечем, но и стесняться тоже ничего не следует. И людям, живущим по правилам, и людям, живущим по исключениям из правил, приличествует скромность. А вот неполноценным следует называть человека, который по каким-либо причинам занимает по отношению к другим людям непримиримую позицию.
— Слава Богу… Ты абсолютно нормальный.
— Избегай таких слов, мама. С них начинаются войны. Стоит одному якобы нормальному обозвать другого ненормальным, как оба начинают убивать друг друга, как ненормальные. Помягче в выражениях. Я у тебя — обычный, самый обычный. Что касается Божьего суда, то он есть.
— А доказательства?
— Аксиома не нуждается в доказательствах.
— Ну и наглец.
— Дежурный не ставит под сомнения те вещи, на которые он опирается. У меня и моих друзей самые благие намерения.
— Благими намерениями вымощена дорога в ад. И что опять за дежурный? Почему ты себя так называешь? Если этот самый дежурный осчастливит тысячу человек, а собственную мать сделает несчастной, то грош ему цена.
— Одно «но». Если мать — не эгоистка, считающая, что сын принадлежит только ей, — то она поймёт сына.
— А кому принадлежит её сын, если не секрет?
— России.
— России?
— Российской Федерации.
— А как же я, твоя мать?
— У меня две матери: мать и Родина-мать.
— Зовёт?
— Давно. Плачет и зовёт.
— И что ей, по-твоему, надо?
— Шоколада.
— От кого?
— От сына твоего.
— А разве мой сын сможет в одиночку справиться с её проблемами?
— Нет.
— Боже, я больше не могу всё это слушать! — воскликнула мать. — Тогда зачем?! Зачем всё это?!
— Ты сама знаешь ответ.
— Нет же!
— Скажи, кем ты хотела меня видеть, когда я у тебя появился? Быстрый ответ! Немедленный!
— Хорошим человеком!
— Во-о-о-т, — протянул Артём. — Вот и России этого вполне достаточно, чтобы ощутить себя счастливой матерью. Она прекрасно понимает, что мы не в состоянии улучшить её положение, но дай ей хоть порадоваться нашим попыткам.
— И сколько вас таких? — вздохнув, спросила мать.
— Шесть чело… То есть шестьсот.
— Так шесть или шестьсот?
— Шесть тысяч, если быть точным.
— Ты уверен?
— Шесть миллионов.
— Хватит врать. Остановись уже.
— Даже не подумаю, потому что Артём — это сын Вячеслава, а ещё — внук Андрея, а ещё — правнук Ярослава, праправнук Игоря и так далее до зари времён. Я — макушка генеалогического древа, венец тысяч поколений, предшествующих мне. Мои руки уже знакомы со всеми ремёслами. Мои ноги вдоль и поперёк исходили все континенты. Мои глаза любовались первоженщиной в саду Эдема. Моя кровь проливалась на полях сотен больших и малых сражений. Моё сердце изведало все скорби и радости. Моё подсознание может восстановить хронику событий от сотворения Мира до настоящего дня. Я рождался тысячи раз, а умирал на один меньше. Сильнее меня может стать только мой наследник, который вберёт в себя всё то, что узнал и пережил я. Приложу максимум усилий, чтобы мой ребёнок обогатился ещё до того, как появится на свет, а после того как — тем паче. Пока что мне нечего передать ему, кроме стыда и срама.
— Бред, — вжавшись в кресло, прошептала мать. — Бред сумасшедшего. Эти твои слова…
— Называются исторической памятью… Мама, я вижу, что ты устала.
— Очень. Голова раскалывается.
— Выпей таблетку и ложись спать… Напоследок скажу, что с первого февраля я не буду брать у тебя деньги. Вообще не буду, но сейчас мне нужно пятьдесят тысяч. В долг.
— Сколько???
— Пятьдесят, — повторил Артём.
— Это моя месячная прибыль… Отец… твой отец бы этого не одобрил, если бы был с нами.
— Не говори за него.
— Хорошо, Артём, но это всё же очень большая сумма. Я не могу дать столько.
— А сколько сможешь? Я всё верну. Устроюсь на работу и верну.
— Могу только тридцать. С налогами через неделю рассчитываться. Пожалуйста, войди в положение.
— Не смогу, даже если захочу.
— Мне показалось, что ты изменился.
— За один день? Так не бывает.
— И всё же постарайся войти в положение одинокой матери. Сам подумай, каково мне с двумя детьми на руках.
— Думаю, думаю, думаю. Положение, положение, интересное положение. И вот, что я думаю. Быть в интересном положении — прерогатива женщин. А вы совсем рожать перестали. Вы обезумили.
— Хватит! Не цепляйся к словам. Я не могу это больше слушать.
— Нет, не хватит. У меня замечательная сестрёнка, и ты знаешь, что я очень хорошо к ней отношусь, но я всегда мечтал о том, чтобы детей в нашей семье было в три раза больше. Где ещё две сестры и два брата? Где? Где, мама?
— Сейчас же прекрати! — закричала мать. — Не смей издеваться надо мной! Смеяться над родителями — грех!
А дальше лицо матери покрылось испариной… Артём плакал.
— Мальчик мой, что с тобой?
— Ничего… Ничего хорошего, когда женщина перестаёт рожать. Она не хочет иметь детей, так как полагает, что с такой собачьей жизнью не сможет воспитать ребёнка. Я ставлю её вне закона, потому что черти втемяшили ей в голову, что нормально воспитать ребёнка — это одевать его в стильные тряпки, кормить его отбивными и дать ему такое образование, получив которое чадо скажет: «Умному сыну не нужна старая и глупая мать». И в этом «не нужна» будут виноваты не столько неблагодарные дети, сколько их слабоумные матери, отказывающие себе во всём ради своих отпрысков, чтобы те стали богатыми и успешными, а вовсе не благородными и совестливыми. Мама, твоих сверстниц ожидает незавидная старость.
— Не может быть.
— Увидишь, как в скором будущем дома престарелых начнут устраивать в опустевших детских садах. Страна нерождённых детей и брошенных стариков — вот будущая Россия! Хорошо ещё, что пока редко можно услышать, например, такое заявление от девушек: «Сначала надо пожить для себя, а потом и о ребёнке можно подумать». Можно подумать, что они правы! Будь я проклят, если они правы! Эгоистки! Я ставлю их вне закона!
— Не принимай всё так близко к сердцу.
— Аборты! — закричал Артём. — Матери советуют своим дочерям делать аборты. Страна женщин-убийц. Вот, где следует говорить о благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад. Матери не желают, чтобы их дочери, забеременевшие от негодяев, были матерями-одиночками. Это они так своим распутным дочуркам добра желают. Никогда не думал, что добро — это трупики беззащитных созданий, зарезанных в утробе, а потом выброшенных в мусорки рядом с операционными столами. Страна узаконенного убийства. Вместо того чтобы расплатиться за грех разврата рождением и воспитанием ребёнка, женщины умерщвляют потомство, добавляя новый грех к уже имеющемуся.
— Сынок! — воскликнула мать, подошла к сыну и попыталась его обнять.
— Не прикасайся ко мне, — уклонившись от объятий, произнёс Артем. — Не марай об меня руки. Ты даже представить себе не можешь, скольких девушек я обесчестил. Больше не называй меня сыном. С этой минуты я буду отзываться только на «тварь».
— Артё-о-о-ом! Сыноче-е-е-ек! Не казни себя-а-а! — с рыданиями упала мать на грудь сыну.
— Казнить. Нельзя помиловать. Завтра я взойду на эшафот за всех обесчещенных, обманутых и покинутых русских женщин. Мама, если ты любишь мою бессмертную душу, то не должна препятствовать мне.
Помолчали…
— Прости меня за то, что причиняю тебе боль, — сказал Артём.
— Я люблю тебя.
— Я тоже тебя люблю… Знаешь, мне сейчас легко-легко. Я даже взлететь могу, только не хочу.
— Правда?
— Да… Признав себя подонком, я почувствовал, что с меня спало проклятье. Я теперь боюсь только, что меня покинут угрызения совести. Я их в себе заточу, мама. На семь замков запру, потому что в первый раз за долгое время чувствую, как все женщины без исключения стали мне сёстрами. Я даже влюбиться сейчас могу. Вот возьму — и влюблюсь, как в первом классе.
— Сынок, сынок, — улыбнувшись, сказала мать.
— А рождение детей — это самое, самое, самое великое поприще, которое может выбрать женщина. Мужчины забыли о том, что они способны согнуть подкову, придумать сверсовершенный компьютер, освоить космос, быть первыми во всех областях знаний и умений, но ни один из них не способен произвести на свет дитя. В этой сфере мужчина — полный профан и бездарь, зато почти все женщины могут выносить, родить и воспитать ребёнка, который вырастит в нового космонавта или мать космонавта.
От таких слов мать сомлела и произнесла:
— Налоги подождут. Пятьдесят тысяч — так пятьдесят тысяч.
— Налоги заплатишь. Я не хочу, чтобы из-за меня пострадали пять пенсионеров, четыре учительницы и три пожарника.
— Или один депутат Госдумы.
— Не надо, мама. В парламенте много хороших и компетентных людей, которые не зря едят твой хлеб.
— Плохих и глупых тоже хватает.
— Как и везде, — предложил законопроект Артём.
— Как и везде, — подписала законопроект мать, но всё же внесла небольшую поправку: «Только депутатов всё равно надо выселить на необитаемый остров. Их надо изолировать».
— Шутишь?
— Нисколько, так как они — неприкосновенные. У них на теле — проказа; люди могут заразиться.
— Не путай неприкосновенных с неприкасаемыми. Читала про такую привилегированную касту в древней Индии?
— Да, индийское общество делилось на классы. Кшатрии работали, воины воевали, неприкасаемые брахманы-жрецы жрали.
— Вот и пусть жрут, а выселять их никуда не надо.
— Точно?
— Точнее не бывает. Пусть остаются с нами. Если лишить их депутатской неприкосновенности, то многими из них займётся прокуратура, а это не входит в планы дежурных. Зачем нам весь этот кипиш? Нет, сейчас мы тихо и мирно проведём уборку в низших общественных классах, чтобы завоевать доверие одноклассников, а потом, лет так через десять, тихо и мирно отправим неприкасаемых на заслуженный отдых, а сами займём их место. Я не хочу, чтобы верховные жрецы думали, что мы покушаемся на власть. До наших выборов ещё далеко. Чтобы повести народ за собой, надо сначала за него пострадать, чем мы и занимаемся.
— Значит, обойдёшься тридцатью тысячами?
— А куда я денусь? В случае острой необходимости недостающие двадцать кусков заменю позором. Только никому не говори, что твой сын — дежурный по стране.
— Никому, — поклялась мать, но уже на следующий день доказала, что поговорка «по секрету всему свету» придумана не зря.
Проснувшись ранним утром, Бочкарёв умылся, оделся в чёрный костюм строгого покроя и прошёл в кухню. На столе его ждал завтрак, представленный двумя бутербродами с ветчиной, яйцом и глазированным сырком. Артём потянул носом и улыбнулся; по едва уловимому аромату духов, чувствовавшемуся в кухне, он понял, что мать и сестрёнка-первоклашка ушли недавно. На холодильнике висел листок, на котором печатными каракулями было написано: «Старший брат, веди себя примерно. Я уже умею читать без слогов и пишу хорошо».
— Рад твоим успехам, малышка, — сказал Бочкарёв и поцеловал каракули. — Сделаю всё возможное, чтобы у тебя было счастливое детство.
Позавтракав, Артём подошёл к книжным полкам и начал отыскивать Толстого. Лев Николаевич долго не обнаруживал себя, и Артём занервничал:
— Хватит прятаться. Покажись, мыслитель. Неужели мама поставила тебя в третий ряд за спины этих жалких современных щелкопёров? Где мой потрёпанный Толстой, изорванный Достоевский, зачитанный до дыр Гоголь? — Писательница Иванова полетела на пол. — Извините, госпожа. — Петрову сдуло с полки. — Простите, мадам. — Сидорова последовала за подругами. — Мои соболезнования, синьора. — Перед Сервантесом Бочкарёв встал по стойке «смирно» и согнул в локте сжатую в кулак руку. — Но пассаран. — Свистоплясов попрощался с полкой. — Пшёл вон из первого ряда. — Местный писатель Лесничанский разбился о Петрову. — Алёша, твоё место возле параши. Сначала научись быть человеком, а потом уже по бумаге колеси. — Солженицыну Артём поклонился. — Живу не по лжи со вчерашнего дня. — Распутину была отдана честь. — Живу и помню, товарищ.
Наконец, роман Толстого «Воскресение» был найден. Рукавом пиджака Артём вытер пыль с книги, а потом пролистал её, чтобы удостовериться в том, что продажная девушка — Катюша Маслова — никуда не исчезла. Главная героиня произведения не поменяла прописку. Сначала Артём обрадовался тому, что представительница древнейшей профессии продолжает жить там, где поселил её Лев Николаевич, но вскорости огорчился, так как Катя Маслова была такой же актуальной, как и сто с лишним лет назад.
Читатель, умерший Толстой даже помыслить не мог, что его «Воскресение» 27 января 2000-ого года станет атомной бомбой в руках Бочкарёва. Лев Николаевич не догадывался и о том, что представитель новейшего поколения россиян переложит классическое произведение на современный лад, но при этом не изменит и не выбросит ни одной строчки. Паровоз Толстого, отправившийся в дальний путь в золотом веке, не поменяет направление, а будет переделан в скоростной электровоз в соответствии с требованиями третьего тысячелетия.
Несмотря на то, что Бочкарёв решил использовать произведение классика для работы на своём участке, парень не мог не согласиться с Волоколамовым, который однажды сказал, что эра книг уходит в прошлое. Вывод Леонида не нуждался в доказательствах, и друзья расстроились. Чтобы хоть как-то ободрить ребят, Волоколамов выстроил логическую цепь, которая оставляла надежду на то, что печатное слово не исчезнет с культурной арены:
— Кончилась эра книг. Началась эра телевидения, которое тоже может положительно влиять на людей через качественное кино. А качественное кино — это талантливая режиссура и актёрская игра плюс талантливый сценарий. А талантливый сценарий создаётся на основе талантливых произведений писателей. Итак, потребность в художественных произведениях остаётся, только будущие творцы рассказов, повестей и романов, чтобы быть востребованными, должны научиться убивать сразу двух зайцев: и читателя, и зрителя. «Работая над книгой, вижу снятый по её мотивам фильм» — вот железное правило, которое для своего же блага будут обязаны взять на вооружение писатели двадцать первого века. Слова — это духовные хлеба. Словесные колосья, выросшие на чистых листах бумаги по воле талантливого литератора, радуют глаз. Если потом какой-нибудь талантливый сценарист начнёт собирать урожай со страниц и выпекать из него сценарий для фильма, то слова, безусловно, утратят природную красоту, но приобретут красоту рукотворную. Несжатое слово — золотая пшеница, сжатое — душистый каравай.
Восстановив в памяти монолог Волоколамова, Артём подумал:
— Всё правильно, только мы пойдём другим путём… Книги просто разучились читать вслух при большом стечении народа. В N-ске и во всей стране надо ввести новую, то есть хорошо забытую старую моду. Эта оригинальная идея может сработать как раз в наше время, когда всем уже порядком поднадоели ночные клубы. Культурная тусовка — неплохое словосочетание, хоть и режет слух. Только как затянуть молодёжь в литкружки и литсалоны? Ну, для начала такое времяпровождение должно стать престижным. Утопия? Нет. Если в продолжение целого года главные каналы телевидения будут верещать о том, что состоять в литкружке, где читаются и обсуждаются произведения классиков литературы, — это модно; что Ксюша Собачкина, будь она неладна, является руководителем литсалона почитателей творчества Некрасова; что Децл и интернациональные Иваны после концертов направляются не куда-нибудь, а в литобъединение «В гостях у Астрид Линдгрен», — то молодёжь городов и сёл начнёт копировать поведение своих кумиров. Но оно Ксюше, Децелу и Ваням надо? Нет. А раз нет — значит, государство в интересах национальной безопасности должно поставить их к себе на службу. Как? Тупо купить. Купить с потрохами. Купить за большие деньги всех кумиров сроком на пять лет, как футбольный клуб покупает игроков. Ксюша Собачкина и иже с ней должны играть за команду России, а не против неё.
Шесть часов тренировался Артём. Курсируя по роману «Воскресение» взад-вперёд, он выбирал наиболее сильные отрывки и учился читать их с выражением. Пятнадцать раз обманутая Катя от отчаяния падала в бездну древнейшего порока и двадцать раз воскресала к новой жизни, так как Бочкарёв понимал, что забуксовать на абзаце или диалоге — это то же самое, что зарюхаться в грязь, замарать чистую мысль и сбить с толку слушателей. Чтобы этого не произошло, он сначала подробно исследовал трудные для прочтения участки, а потом в зависимости от состояния дороги включал нужную скорость в черепной коробке передач и ехал дальше, подчиняя сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Артём любил машины. Он бережно относился к своей тойоте, но автомобиль марки «Бочкарёв», изучавший толстовскую трассу «Распятие-Воскресение», — не жалел, потому что сегодня ему надо было с чувством, с толком, с расстановкой доехать в один конец за пять часов. Чуть позже читателю станет ясно, почему парень загнал себя в эти сроки.
Параллельно тренировке шло проникновение в мастерскую Льва Николаевича. Спустя час после начала чтения Артём увидел яснополянские станки, на которых знаменитый граф вытачивал образцы русской словесности. Через два часа ему уже удалось разглядеть самого писателя; классик вертел детали в руках и делал замеры. По прошествии трёх часов между Бочкарёвым и Толстым наладилась телепатическая связь. Они поздоровались, попили чайку, вкратце обсудили крестьянский вопрос и проследовали к станкам. Лев Николаевич, — одетый в простую рубаху, подпоясанную верёвкой, — показал парню, где хранятся заготовки и как шлифуются тексты. У Артёма волосы стали дыбом, когда Толстой заметил ему: «Горы литературной стружки, на которых ты стоишь, остались после работы вот над этим крохотным предложением, состоящим всего-то из четырёх слов. Я корпел над ним три дня и три ночи, а ты проскачешь по нему галопом за три секунды, а то и вовсе пропустишь… Артём, вижу, что ты начал жалеть нашего брата, обрекающего себя на бессонные ночи ради поиска фразы с магической силой. Избавь меня от сочувствующего выражения твоего лица; марать бумагу — не велика наука. Вот тебе напутствие моё: никогда и ни при каких обстоятельствах не жалей писателя и не восхищайся им. Наша профессия ничем не лучше любой другой. Зачастую крестьяне, плотники, кузнецы и кучера, промышляющие свой хлеб в поте лица, сто крат превосходят нас в нравственности. Они незаметны в людской толчее, но это нисколько не умаляет их заслуг перед Отчизной. Хоть садовника моего Терентия возьми. Этот мужик, умеющий ладить с цветами и деревьями как никто другой в целой округе, больше достоин войти в историю, чем я. Было бы совсем недурно, если бы в будущем Россия отмечала день его рождения. Но это всё пустое, пустое. Никто ведь старика и слушать не станет». Бочкарёву понравилось у Толстого. Граф-крестьянин помог ему распутать хитросплетения фраз, и через шесть часов, отведённых на тренировку, Артём в совершенстве овладел искусством выразительного чтения.
В обед Артём поехал в родную школу, нашёл директора, Надежду Степановну Медведеву, которая приходилась ему родной тётей по материнской линии, минут десять поболтал с ней о пустяках, а потом, замявшись, сказал:
— Надежда Степановна, я к Вам с такой просьбой…
— Не к Вам, а к тебе. Артём, ты полгода назад окончил школу. Я твоя тётя, — не забыл?
— Тётя Надя, даже не знаю, как сказать.
— Опять куда-нибудь свою дурную голову засунул? Постой-ка, постой-ка. Как мой вопрос звучит на молодёжном сленге?.. Рыло затопил, кажется.
— Кажется, ещё не затопил, но вот-вот затоплю по самое «не хочу».
— По самое «не хочу»? Ну и выражение. Однако, ты совсем неплохо ботаешь по фене.
— Тётя Надя, моё поколение в совершенстве говорит на всех языках улицы. Тюремный жаргон — не исключение.
— Лучше бы вы общались на языке девятнадцатого века. Разговор на пошлом и примитивном арго постепенно приведёт вас, молодых людей, к морально-нравственному краху. Как следствие…
— Твоя позиция понятна, — перебил Артём, — только не надо так велеречиво изъясняться. Можно было проще сказать: ничего хорошего в жаргонизмах нет, они отупляют и развращают. Только я с тобой не согласен. В этом вопросе моя позиция очень проста: чем больше появляется новых слов и выражений, тем богаче, красочней и образней становится язык. И не имеет абсолютно никакого значения, откуда они экспортируются в речь рядового россиянина. Проблема в другом. Вымирание слов — вот настоящая проблема. Например, прикол совсем не желает быть синонимом шутки, он вытесняет её из нашей речи, и это уже не смешно. Тёть Надя, вместо того чтобы на молодёжь бочку катить, включи-ка лучше телевизор. Послушай, как говорят с экрана люди, которые борются за право называться носителями русской культуры. Безграмотно — раз, непонятно — два, витиевато — три.
— Ладно, — сдалась Надежда Степановна. — Говори, с чем пришёл?
— Мне нужен на ночь тридцать третий кабинет.
— С какой целью?
— Буду читать проституткам Толстого.
— Кому?! — с негодованием воскликнула Надежда Степановна. — Ты с ума сошёл. Это школа, а не панель.
— Это школа, с которой идут на панель, — зло произнёс Артём. — Или у нас на панель с луны сваливаются?.. У тебя, наверное, ко мне много вопросов, — да?
— Миллион, потому что я в полной растерянности от твоей просьбы.
— К сожалению, я ничего не могу тебе объяснить. Это не моя тайна.
— Всё объясняется очень просто. Ты спятил. Я немедленно звоню твоей матери.
Разговор родных сестёр длился около пяти минут. С первых секунд брови директора школы медленно, но верно поползли вверх. Надежда Степановна нервно теребила телефонный провод, изредка с удивлением посматривала на племянника и часто закусывала губу. Бочкарёв пытался догадаться, о чём беседуют женщины, но до самого конца ничего не мог понять, потому что из тёти вырывались одни междометия. В самом начале диалога Надежда Степановна только и успела сказать: «Он хочет провести ночь с проститутками в школе. Как ты на это смотришь?». А дальше лидером разговора стала мать Артёма, и парню оставалось только ждать. Повесив трубку, Надежда Степановна холодно произнесла:
— В десять вечера сторож запустит тебя и этих…
— Запутавшихся женщин, — подсказал Бочкарёв.
— Это я и хотела сказать. Только не вздумай устроить из школы дом терпимости… Кстати, почему тебе нужен именно тридцать третий кабинет? Почему не двадцать первый, не шестнадцатый? Надеюсь, на это я услышу ответ.
— В тридцать третьем я пережил счастливые минуты. Под сводами этого храма русиша и лит-ры так рассказывалось о таком, что, если я своим поганым языком начну говорить тебе «как» и о «каком», то только испорчу воздух и оскорблю дух этого кабинета.
— Помню, помню, как на выпускном вечере вы рукоплескали Цокотовой «стоя».
— Мы многим аплодировали «стоя», но у этих многих были прозвища, а у Цокотовой — никогда. Мы звали её строго по имени-отчеству не только на уроках, но и на перекурах в туалете, несмотря на то, что её любимой оценкой была тройка. Только почему-то её середнячки легко выигрывали все городские и республиканские Олимпиады. Вот так, дорогая тётя.
В девять часов вечера Бочкарёв нанял автобус и начал снимать проституток на улице Пушкина.
— Куда тебе столько? Не справишься, многостаночник, — смеялись сутенёры.
— Завтра женюсь. Кучу пацанов на мальчишник собрал. Оторвёмся по полной программе, — отшучивался Бочкарёв.
Жрицы любви очень удивились, когда их подвезли к школе. Дальше пришёл черёд удивляться сторожу, который открыл Артёму дверь по приказу директора.
— Ё, п, р, с, т, — вырвалось у молодого человека лет двадцати восьми-тридцати. — Парень, поделись, — а? Месяц на голодном пайке сижу. Оставь пару тёлок.
— Могу только одну, — ответил Бочкарёв.
— По хрену, — сглотнув слюну, произнёс сторож. — Хоть одну. Вон ту оставь, — а? — И он показал на миловидную брюнетку.
— Спору нет — хороша краля, — сказал Артём и добавил: «Сеструха моя. Забирай, только завтра как честный человек будешь обязан на ней жениться».
— Эта шлюха твоя сестра?
— Оба-на! Где ты тут шлюху увидел? Сестрёнки, связать его и доставить в тридцать третий кабинет.
Девушки обступили сторожа.
— Сдавайся, красавчик, — произнесла высокая худощавая шатенка.
— Сдаюсь, — ответил растерявшийся блудник и поднял руки вверх. — Вот так подменил напарника. Кому расскажешь — не поверят.
— Все — за мной, — скомандовал Бочкарёв.
В классе дежурный рассадил девушек по партам, поставил сторожа на охрану двери, сел за учительский стол и произнёс:
— Вы мне дорого обошлись, сёстры. За внимание каждой из вас я заплатил тысячу рублей. Наш урок продлится пять часов. Надеюсь, вы хоть что-то из него вынесите. Сидите тихо. Если кому-то надо будет выйти в туалет, поднимите руку и отпроситесь, как вы это делали в школе.
— А как же занятия любовью? — хихикнув, спросила одна из девушек.
— Сегодня я буду любить исключительно ваши души. — Путаны переглянулись. — Считайте меня клиентом-извращенцем. Постараюсь, чтобы наше групповое духовное соитие принесло удовлетворение всем участникам процесса. Только сразу предупреждаю, что я выступаю против контрацепции. Я являюсь поборником опасного секса, ратую за полное слияние душ, так как мне надо, чтобы вы обязательно забеременели от моих мыслей по поводу невероятной силы русской женщины. Вам предстоит понести плод даже и не от моих мыслей; мои ещё не совсем чисты и могут заразить вас болезнями. — В классе — гулкая тишина. — Я буду читать вам «Воскресение» Толстого. Прошу: доверьтесь писателю, без страха отдайтесь музыке его произведения, и вы не пожалеете. Не предохраняйтесь, когда его слова начнут овладевать вашими сердцами. Лев Николаевич несёт доброе семя. Твёрдо верю в то, что, если широкую душу русского мужика умножить на глубокую душу русской женщины, то наша земля преобразится от края до края… Слушайте… Слушайте и не говорите потом, что вы не слышали.
Это была страшная ночь, во время которой Бочкарёв заработал первую седую прядь и порок сердца.
От трения об абзацы глаза Артёма загорелись мистическим огнём, который быстро перекинулся на остальные части тела; и к этому пионерскому костру, распространявшему вокруг себя жертвенное тепло, потянулись девушки и женщины, к которым с отвращением относились люди.
Чтение Бочкарёва было из ряда вон выходящим. Он материализовывал слова, и роман, словно цветок, распускался страница за страницей. Девушек пленил голос Артёма. Они настолько прониклись трагедией, которая разворачивалась перед ними, что приняли живое участие в судьбах персонажей Толстого. Захваченный чтением Артём, сросшийся с произведением на молекулярно-клеточном уровне, не слышал, как в какую-то минуту по кабинету пополз шёпот, который печатными и не совсем печатными словами поднимался в воздух, а потом плавно опускался на раскрытую книгу и становился карандашными заметками на полях. До слуха Бочкарёва не доходили советы, которые проститутки давали героям, чтобы помочь им выбраться из сложных обстоятельств. Девушки, искренне переживавшие за судьбу вымышленных персонажей, сначала негодовали на Бочкарёва за то, что он не замечает их реплик, но вскоре замолчали совсем.
Уже на первых страницах Бочкарёв оставил двадцать первый век, прорвался через пожар двадцатого столетия и оказался в эпохе Толстого. Собрав героев «Воскресения» возле себя, Артём одел их по моде начала третьего тысячелетия, рассказал им, чем живут и дышат его ровесники, и снова вернулся в своё время. Роман зазвучал по-современному, и это притом, что не была изменена ни одна строчка.
Пять часов самозабвенно читал Бочкарёв, потому что у всех девушек, которые сидели в тридцать третьем кабинете, было одно лицо — лицо его сестрёнки-первоклашки, маленькой Анечки, его дорогой девочки. Артёму хотелось плакать, но он сдерживал свои чувства, так как понимал, что лужи в глазах размоют строчки, и он не сможет дочитать роман. Из его грудной клетки просились на свободу рыдания, но титаническим усилием воли Бочкарёв подавлял их. Несколько раз Артём был близок к обмороку, но не упал, потому что дежурный по стране имеет право падать на землю только мёртвым или, — если уж совсем невмоготу, — живым, но при одном условии: его никто не должен видеть.
Занявшись конкретным делом, Бочкарёв перестал искать ответ на вопрос: кто виноват в том, что девушки встали на гибельный путь? Воспитание? Среда? Государство? Теперь это не имело никакого значения, потому что дежурный не должен распылять свои силы на поиск причин, породивших проституцию, так как их ровно столько, сколько самих девушек, занимающихся продажей тела. Задачей ДПСника является практическая работа с живыми людьми, а не с тем, что называется «общим местом».
Закончив чтение, Артём отложил книгу в сторону, невидящим взглядом обвёл класс и, не имея сил сопротивляться навалившейся усталости, опустил голову на стол и уснул.
Бочкарёв проспал до восьми часов утра. Пробудившись, он потянулся, протёр глаза и… изумился тому, что увидел. За партами молча сидели проститутки и с теплом смотрели на него. Лица девушек были обезображены грязными подтёками — высохшими ручьями слёз с застывшей на дне тушью.
— Сестрёнки, вы, наверное, всю ночь не спали, — с жалостью произнёс Бочкарёв.
— Не переживай, брат, — ответила возрастная проститутка и, покраснев от стыда, скрестила на груди руки, чтобы скрыть от глаз парня пышные формы.
— Не стесняйтесь меня, — сказал Артём. — В каждой из вас вижу святую Марию Магдалину, которая, не побоявшись преследований, проводила нашего Спасителя на Голгофу. Она была падшей женщиной, и люди хотели забить её камнями, но Христос не дал. Он загородил её собой, потому что безраздельно верил в её душу. Следовать примеру Господа должен каждый христианин, даже такой никчёмный, как я. Запомните слова, которые я вам сейчас скажу. Развратник со стажем, стоящий сейчас перед вами, соблазнил так много девушек, что не достоин дышать с вами одним воздухом. Меня тиранит стыд, и я надеюсь, что он не покинет меня до конца жизни, потому что с ним мне ничего не страшно. Стыд сделает меня неуязвимым, и я буду в одиночку побеждать там, где все уже смирятся с поражением. Я не одобряю проституцию, но всё же считаю, что девушки, занимающиеся постыдным делом, в десять раз лучше тех мужчин, которые покупают этих самых девушек, заставляют их выполнять невообразимые вещи, а потом имеют наглость считать себя нормальными людьми, а путан — вонючими шалавами.
В это время в тридцать третий кабинет залетел сторож. Роман Толстого потряс его до глубины души. Когда Бочкарёв закончил чтение, сторож тихо покинул класс и пошёл ремонтировать краны в умывальниках. Починив всё, что без спроса бежало и без разрешения текло, он не успокоился и, вооружившись ведром и шваброй, вымыл коридоры на всех этажах. Убедившись в том, что школа сияет чистотой, что не осталось ни одного угла, в который бы он не заглянул с тряпкой, — парень решил принять душ, который располагался в спортзале. Тщательно намылившись, он встал под струю воды, смыл грязь с тела, но это не принесло облегчения, потому что на душе было всё так же гадко и мерзко. Выбежав из кабинки, сторож быстро оделся и бросился в учительскую поливать цветы. Закончив с поливом, он взрыхлил землю в горшках указательным пальцем. Не удовлетворившись и этим, бедолага занялся влажной уборкой листочков; он вытирал с них пыль до восьми часов утра.
— Девушки дорогие, — выпалил запыхавшийся сторож. — Быстрее бегите умываться. Скоро дети в школу пойдут. Вот так подменил напарника. Кому расскажешь — не поверят. — И он пулей вылетел из класса.
На школьном крыльце проститутки столкнулись с вихрастым мальчуганом, учившимся во втором классе. Он снял с плеч новенький ранец, вытряхнул из него книжки и тетрадки прямо на ступеньки и начал хвастать:
— Зырьте, какой портфель мама купила. Шесть отсеков и кармашек для пенала. Клёвый, — да? Главно, что отсеков много. Всё, чё хочешь, вмещается. Чё молчите, девочки? Разве плохой портфель?
Глаза девушек заблестели от слёз. Они с нежностью смотрели на мальчика, и счастливые воспоминания о чудесных школьных годах кружили им головы. Наивное хвастовство второклашки перенесло их в прошлое, и девушки увидели себя маленькими девочками в белых фартучках с букетами георгинов и гладиолусов в руках. Радостные эмоции, переполнившие сердца несчастных красавиц, выплеснулись на мальчика. Девушки обнимали и целовали его, а он, растерявшись, прокручивал в голове вчерашний день, дальше которого не устремлялись его беззаботные мысли, и не находил в нём ничего такого, за что его можно было так любить.
— Девочки, а как вы можете сразу плакать и смеяться? — освободившись из объятий, с интересом спросил второклассник и сам же ответил: «Это потому, что вы — старшаки. Старшаки всё умеют. Вторая смена, — да? После обеда учитесь. Я вам стихи читать буду».
— Стихи?.. Ты будешь читать нам стихи?.. Родненький!
— Ну да. Всем одиннадцатиклассникам читают стихи на последнем звонке. Не знаете что ли?.. Только не плачьте. Папа говорит, что у тех, кто ноет, — неурожайные лица. Еслиф перестанете хныкать, я вам свой портфель просто так подарю, а маме скажу, что потерял. Влетит, конечно, по первое число, но мама у меня вообще-то добрая. Потом простит как всегда. Я её знаю.
— Не надо… Мы тебе лучше книги поможем собрать… Держи шоколадку… Прости нас, мы больше не будем, — посыпались возгласы.
— Вы добрые, — заметил мальчик. — А Митька Протасов говорит, что все старшаки — злые. Врёт он всё. Я ему за вас рожу набью. Врежу так, что мало не покажется. Он из себя Вандама корчит, а мускулов нет. Пусть накачается сначала. — Второклассник посмотрел на волосы девушек, потрогал свои вихры и спросил: «А вам разве не надо косички заплетать? А то наша классная руководительница, Людмила Станиславовна, ругает девочек, если у них волосы распущены. Ленке Свекольниковой за это замечание в дневник написали. Из-за какой-то косы, — представляете? Ленка от обиды расплакалась, а Людмила Станиславовна погладила её, а потом сказала всему классу: «Берегите честь смолоду, а одежду — снову». После уроков я подошёл к классной руководительнице и сказал ей: «Вы, пожалуйста, больше при всех Ленку не ругайте, а то ей стыдно перед ребятами». Людмила Станиславовна похвалила меня и пообещала, что больше такого не будет. Я, наверно, умный, еслиф меня старшие слушают. Только почему тогда тройбасы по матише ставят — даже не знаю».
Девушки доставали из сумочек резинки и заплетали косы.
Второклассник подошёл к стоявшему в сторонке Бочкарёву и поздоровался с ним за руку.
— Видал, — а? Слушают меня, — с гордостью произнёс мальчик.
— Такого орла грех не послушать, — улыбнувшись, ответил Артём.
— А тебя слушают? Ты же всяко-разно из их класса.
— Тебя больше слушают… Спасибо тебе.
— За что?
— За девчонок, а также за то, что ещё много лет будешь носиться по тем же коридорам, по которым когда-то носился я.
— Как понять?
— Не смогу объяснить.
— Ладно, не надо. Как вырасту — сам пойму; взрослые так всегда говорят. Ты сегодня дежурный? — Бочкарёв вздрогнул, и это не ускользнуло от внимания мальчика. — Ты чего? Я только спросил, дежурный ты или нет. Еслиф нет, то повязку не забудь снять, а то оставишь где-нибудь. Санька Прокопчук один раз оставил её где-то, так Людмила Станиславовна сказала ему: «Лучше б ты голову где-нибудь оставил».
— Правильно она сказала, — потрепав мальчика по голове, произнёс Артём. — Мне ещё долго дежурить, поэтому и не снимаю повязку.
— Это несправедливо. Вон — девочкам из своего класса отдай, пусть они подежурят. У нас все по очереди. Сначала — Кастет с Весёлкиной, потом — Димас Загодский с Юлькой, а потом — я с Ленкой. График составьте. Так легче будет.
— Не будет. Мы не только по классу дежурим.
— Скажи ещё, что по всей стране.
— Ух, ты, — удивился Бочкарёв. — В точку попал.
— Гонишь. Так не бывает. Я же просто так ляпнул.
— Хочешь — верь, хочешь — не верь.
— А кто тебя назначил? Президент?
— Он самый.
— Врёшь.
— Чес слово.
— Зуб дай.
— Даю.
— Как президент мог тебя назначить, если он в Москве сидит?
— По телефону позвонил и назначил.
— И деньги платят?
— А тебе разве платят, когда ты по классу дежуришь?
— Нет.
— Вот и мне не платят. Ещё и посадить могут, если слишком хорошо дежурить буду.
— Ты хотел сказать — плохо.
— Нет, я не ошибся.
— Странно, — удивился мальчик. — А зачем тогда дежуришь, еслиф посадить могут.
— Страну люблю.
— Как это?
— Скажи, тебе нравятся девочки, которые сейчас стоят на крыльце и смотрят на нас? — вопросом на вопрос ответил Бочкарёв.
— Да. Только почему они не подходят к нам?
— Им стыдно.
— Двоечницы что ли?
— Вроде того… Знаешь, у них никого нет, кроме меня и тебя.
— Правда?
— Вот с места не сойти, если вру.
— Тогда зовём их, — взволнованно произнёс мальчик. — Девочки, давайте к нам! Спасибо, что книжки собрали! В снежки поиграем, пока урок не начался! Только на команды разделиться надо, а то так неинтересно! Я ещё со старшаками никогда не играл!
Жизнь — сложная штука, и автор погрешил бы против истины, если бы сказал, что после волшебной ночи, проведённой с Бочкарёвым, девушки лёгкого поведения сразу встали на путь исправления. Конечно, этого не случилось, потому что лень или обстоятельства часто бывают сильнее нас, и человек начинает переносить обновление своего внутреннего мира с понедельника на среду. В итоге он начинает новую жизнь после дождичка в четверг.
Поздним вечером Бочкарёв решил прогуляться по улице Пушкина. Артём не удивился, когда ему на пути стали попадаться ночные бабочки, со многими из которых он расстался сегодняшним утром.
Казалось бы, наш герой, — впустую потративший нервы и деньги на то, чтобы вытащить девушек из помойной ямы, — после неудачной попытки имел полное право отойти от дел, прикрывшись избитым выражением: «Я умываю руки». В какой-то момент у парня мелькнула мысль, что можно произнести это древнее изречение и со спокойной душой вернуться домой. Но как только Бочкарёв подумал об этом, он услышал странный звук, похожий на всплеск воды. Артём встряхнул головой, и в его памяти всплыл на поверхность распухший труп некогда великого человека, который на заре нашей эры отдал Истину на растерзание обезумевшей толпе. Распухшее тело утопленника с пустыми глазницами какое-то время мерно раскачивалось на волнах Леты, а потом медленно погрузилось на дно реки забвения. Это был пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.
Бочкарёв молча обошёл все так называемые «пятачки». Остановившись возле краеведческого музея, на котором заканчивалась территория продажной любви, он подозвал пившую коктейль проститутку, и задал ей вопрос:
— Почему все ваши стоят на морозе?
— А чё? — жеманно произнесла девушка.
— Оставь свои штучки… Про школу слышала?
— Так это ты?
— Я… Так почему тусуетесь на холоде?
— Будний день. Клиентов мало, и сутенёры выгнали нас из машин, чтобы показывали товар лицом.
— Зашибись… Короче, так. Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Передай коллегам по цеху, что мне на них плевать, что я знать их не желаю, что они — продажные твари, но я вернусь. I ll be back, — understand?! Не для них, — поняла?! А для их будущих детей, которых они не смогут зачать, если застудят свои щели на таком морозе.
— Жестокие слова. Не ожидала услышать их от тебя.
— А чего ты ждала, детка? Дежурного сочувствия? Жалости дежурной ждала? Иди ты в щель, которой зарабатываешь! Смотри на повязку на моём рукаве. Какого она цвета?
— Симпатичного, — играя голосом, произнесла проститутка.
— Опять за старое? Цвета, спрашиваю, какого?
— Ну, допустим, красного.
— Передай всем, что через час она станет кроваво-чёрной в знак траура по вашим погибшим душам. Всё! Вы для меня мертвы, но это не значит, что я откажу себе в удовольствии постоять у вашего гроба в почётном карауле.
По дороге домой Бочкарёв подумал:
— Рано успокоились, сёстры. Я — не я, если то, что начато Толстым, не закончит его почитатель. Перейдём от цветочков к ягодкам, и будь что будет.
Дома Бочкарёв снял пуховик, накинул на плечи норковую шубку матери и вернулся на улицу Пушкина.
Артём выбрал подходящий придорожный тополь, повернулся к нему спиной, согнул ногу в колене и опёрся ступнёй на ствол. Сутенёр, находившийся в тридцати метрах от Бочкарёва, вылез из машины и крикнул:
— Кто такая?! Это моя территория! Под кем работаешь?!
— Сам по себе!
— Сам?! Ты чё: мужик что ли?!
— И чё мне будет, если мужик?! Конкуренцию твоим девочкам не составляю вроде!
— Ты вне конкуренции! — взорвавшись хохотом, крикнул сутенёр. — Стой там, милая! Наржусь хоть от пуза!
Свист тормозов. Возле проститутки, стоявшей в нескольких метрах от Артёма, остановилась коричневая «шестёрка».
— Какая такса?
— Час — две сотки.
— А за ночь?
— Пятьсот.
— Изврат приемлешь?
— Не вопрос. Сторгуемся.
— А ну заткнулись оба, — вмешался Бочкарёв и бросил водителю: «Вали отсюда».
— Э-э-э, ты чё, козёл? Опупел? — Смешок. — Или как там тебя? Уж не коза ли?
— Ещё слово вякнешь — резьбу на твоём очке дерезой сорву. Узнаешь тогда, какая я коза, — зло произнёс Бочкарёв и приказал девушке: «Иди за мной».
Бочкарёв подошёл к чёрному джипу сутенёра, открыл водительскую дверь и спросил:
— Сколько надо бабок, чтобы снять всех твоих на три часа?
— Принцесса, ты меня сегодня добьёшь. У меня уже колики от смеха начались. Скоро над тобой полгорода ржать будет, а ты всё никак не уймёшься.
— Так сколько?
— Я чё-то не пойму: ты сегодня девочка по вызову или клиент?
— Сколько?
— Четыре тысячи двести рублей за семь девочек… Слышь, чё-то рожа мне твоя знакома. Случайно, не ты вчера снял трёх моих на мальчишник?
— Ты ошибся… Скидку с объёма не дашь? — Услышав просьбу Бочкарёва, сутенёр вновь взорвался хохотом. — Так дашь или нет?
— Ха-ха-ха. Уморил. Ха-ха-ха. Пожалуйста, не говори больше. Ха-ха-ха. Я лопну. Ха-ха-ха. Милиция. Ха-ха-ха. Заберите его.
— Ржёшь, юморист. Твои девчонки болезни от клиентов подхватывают, на «пятачках» мёрзнут, б…ми в народе зовутся, а ты всё ржёшь, жеребец.
— Всё. Ха-ха-ха. Больше не буду. Ха-ха-ха. Скидка-то на кой?
— Хочу на других точках девчонок купить. У меня всего десять косарей после вчерашнего съёма осталось.
— Так это всё-таки был ты?
— Да, я.
— Ха-ха-ха. Ладно. Ха-ха-ха. Косарь уступлю.
Если читатель живёт в провинции, то он понимает, на что пошёл Бочкарёв ради жриц любви. Встав у позорного столба, Артём показывал заблудшим девушкам, что он готов для них на всё. К нему то и дело подходили проститутки и умаляли:
— Уходи. Мы не можем на это смотреть.
— В школе я не смог переубедить вас, значит, мне ничего другого не остаётся, как разделить вашу участь. Ваш позор — мой позор, — твёрдо отвечал он.
Люди, проезжавшие по центральной улице, осыпали Бочкарёва насмешками, забрасывали парня оскорблениями, кляли его на чём свет стоит, потому что город N не прощал мужчин, переставших быть мужчинами. Дежурный по стране не ждал пощады, не обижался на обидные реплики и ни на кого не злился, так как на подсознательном уровне чувствовал, что словесные помои, выливавшиеся на него из окон автомобилей, имели к нему не прямое, а косвенное отношение. Просто через него, парня-шлюху, горожане негодовали на тот образ жизни, который навязывали сибирякам центральные каналы в течение десяти лет. Артём с каждой минутой всё больше убеждался в том, что его малую Родину, расположенную недалеко от центра Азии, к счастью, не затопило во время аморального паводка, начавшегося в начале 90-ых годов. Он бы разочаровался в n-цах, если бы они остались равнодушны к тому, что на панель вышел мужчина.
Липкий пот выступил на лбу дежурного, как только он подумал о том, что завтра ему перестанут подавать руку. Спустя два с половиной часа после того, как Бочкарёв добровольно опустился ниже всех плинтусов, он уже не сомневался в том, что слух о его падении дошёл до родственников, друзей и знакомых; новости в захолустном городишке распространялись быстро.
— Скорей всего, ДПСники уже отреклись от меня, — вспомнил Бочкарёв о товарищах по обществу. — Эх, пацаны, пацаны. Все вы без раздумий отдадите за Россию жизнь, но ни один из вас не согласится потерять ради неё честь, покрыть своё имя несмываемым позором, растоптать свою душу для спасения людей.
И Бочкарёв стоял. Острые стёкла насмешек и увесистые булыжники оскорблений, летевшие в Артёма, изранили его гордость, и она истекала кровью. Это была дурная кровь; парень не останавливал её и просил Бога о том, чтобы колотых и резаных ран становилось как можно больше, и она вытекла вся до последней капли. Когда гордость дежурного по стране погибла под градом издевательств, его душа разбила телесные кандалы и воспарила над городом. Лицо Бочкарёва озарилось. Пророческий свет полился из его глаз.
Он посмотрел на ночное небо и увидел Святую Рать в золотых доспехах. Легионы воинов Армагеддона стояли плечом к плечу в ожидании сигнала к началу последней битвы Добра со Злом. Космическая пехота ударила копьями и мечами о щиты, вселенская кавалерия подняла златогривых коней в дыбы, увидев Илью-пророка, который пересекал небесную твердь на огненной колеснице. Он подъехал к ковшику Большой Медведицы, напоил лошадиную упряжку звёздной водой и, потрясая молнией над седовласой головой, возвестил легионам:
— Он грядёт!
— Слава-А-А…. Богу-У-У!!! — громоподобно крикнули легионы.
— С Ним — Он!
— Сыну-У-У… Его-О-О… слава-А-А!!!
Бочкарёв опустил глаза. Перед ним стоял Мальчишка.
— А я тут эскимо ем, — произнёс Женечкин и протянул Артёму мороженое. — Хочешь?
— Нет, спасибо, — не удивившись появлению друга, ответил Бочкарёв.
— Как хочешь… А небо сегодня удивительное, — согласись?
— Да уж.
— Можно я с тобой останусь? Пожалуйста.
— Нет, Володя. Свой позор я ни с кем делить не собираюсь.
— Жадина. Я тебе эскимо не пожалел, а ты… Отломи хоть половинку.
— Не получишь ни кусочка. Уходи. Это моя война.
— Я теперь уснуть из-за тебя не смогу.
— Жалеешь меня что ли?
— А вот и нет. Завидую. Не белой, совсем не белой, а чёрной завистью завидую.
— Наши-то знают про меня?
— Да, все поцыки по курсу. Город маленький. Сам понимаешь. Они отвернулись от тебя. Все до одного, кроме Васи; он до сих пор в деревне. Если бы не отвернулись, я бы тебе белой завистью завидовал, а так — чёрной. До ужаса хочется разделить твою участь, погибаю прямо. Я теперь за тебя нисколько не боюсь; за себя и то больше страшно.
— И всё равно уходи. Я уже освоился в грязи, как в родном доме. А тебя на моём участке стошнит. Душу вырвет, Володя. Захлебнёшься в блевоте. Дай мне одному пострадать. Пожалуйста.
Мальчишка привстал на колено перед Бочкарёвым, прижал руку к сердцу, склонил голову и сказал:
— Один в поле — воин, если он — дежурный по стране первого созыва, сострадающий людям и безжалостный к себе. Ухожу. Один вопрос.
— Задавай.
— Только не смейся. Если бы после смерти тебя призвали в Небесную Рать, то ты бы в какие войска попросился?
— Вовка, ты в своём репертуаре, — улыбнувшись, произнёс Бочкарёв. — Я и в российской-то армии ещё не служил.
— И всё-таки.
— В пехоту, наверное.
— А я бы — в лучники. Сам же видел, что у них колчаны золотом инкрустированы. На небесах благородным металлом любуются, а здесь, на земле, его держат в кирпичной форме слитка. Только я не из-за колчанов в лучники попрошусь. Просто хочу издалека зло убивать, чтобы не видеть, как оно под натиском Святого Воинства в страшных муках погибать будет. Жалко солдат дьявола. В страшной рубке они падут все до одного.
— Да, зло действительно достойно сожаления. Тебе пора, Мальчишка. Иди.
— Пока, Артём.
И Бочкарёв стоял… Стоял на посту №1 «Б» по стойке «фривольно». А где-то там, в далёкой Москве, за тысячи километров от дежурного, на посту №1 «А» по стойке «смирно» стоял рядовой президентского полка. В N-ске — двенадцать ночи, в столице — восемь вечера. Ребята были близнецами по духу с четырёхчасовой разницей в возрасте. Один смотрел на вечный огонь, горевший на могиле Неизвестного солдата, другой — на дымившийся окурок под ногами. Один охранял прошлое России, другой — её будущее. Один гордился собой, другой себя презирал. И не было во всём свете силы, которая бы заставила молодых людей сойти с места.
Бочкарёва окружили пять парней с красными повязками. Рослый юноша с тонким орлиным носом и хищными глазами, которого звали Вадимом Варфаламеевым, взял Артёма за грудки и харкнул ему в лицо. Пока Бочкарёв вытирал плевок рукавом шубы, парень высморкался на него.
— Что значит — новобранцы, — покачав головой, с горькой усмешкой заметил Бочкарёв. — Ни ума, ни фантазии. Не прошло и месяца, а вторая колонна уже плюёт в первую.
— Пасть завали, шлюха, — бросил Варфаламеев. — Шалавам слова не давали. Пацаны за нас, за весь Шанхай сопли на кулак наматывали, а ты их позоришь тут.
— Выходит, это их героическими соплями ты наградил меня из обеих ноздрей, шанхаец?.. Передай господам, что это огромная честь для дежурного Бочкарёва.
— Передам, если ты скажешь, где сейчас находится твоя честь, а то я чё-то её не вижу. Где она? Отвечай, гад.
— Ой, я её нечаянно потерял. Скорей всего, возле дома выронил. Съезди, поищи.
— Я тебе щас по харе съезжу. Снимай повязку, сука.
— Суке от таких кобелей, как ты, не впервой получать, а повязку не сниму. Когда вы ещё в гнилых бараках жили, даже не подозревая о том, что на свете есть дежурные по стране, она уже на моём рукаве за вашу шанхайскую нищету от стыда краснела. Теперь будет краснеть за вашу тупость и ограниченность. Передай Магурову и Левандовскому, что перед тем, как принять в организацию новых членов, надо семь раз отмерить. Чую, что намучимся ещё с вами. Пока я не наблюдаю среди вас ни одного дежурного… Дружинники, твою мать.
Варфаламеев схватил Бочкарёва за волосы и со всей силы ударил его лицом об тополь. Артём упал на спину, выплюнул с кровью три зуба и произнёс:
— Жарким выдался январь. Если так и дальше пойдёт, то скоро почки распустятся. — Парни нанесли Бочкарёву несколько ударов ногами по почкам, и он, извиваясь от боли, выдавил из себя: «Как же мучительно радостно чувствовать весну в организме. Скоро Ваш скромный слуга пометит свой участок кровью, потому что моча уже никого не отпугивает». — От Варфаламеева последовал удар ногой в пах, и Бочкарёв, скорчившись, взвыл: «У-у-у, какая боль!.. Боже мой, какая боль для болельщика сборной России по футболу из года в год наблюдать за тем, как игроки его любимой команды лупят по его национальному достоинству, а по мячу — мажут. — Бочкарёва начали пинать по голове. — Какие же вы сво…еобразные ребята. Какие же вы су…пер. Как же я вас нена…сытно люблю. Убьёте ведь! Посадят!
Бочкарёв всегда думал, что звёздные нимбы, появляющиеся над головой избиваемого, — это выдумки мультипликаторов. Теперь же Артём вынужден был признать, что мультфильмы не лгут. «Кот Том, мы с тобой чем-то похожи, — пронеслось в голове у Артёма, — Нас все ненавидят, а ведь мы просто выполняем свой долг. Ты — ловец грызунов, а я — человеков».
— Харэ, пацаны, — сказал Варфаламеев. — Кажись, проучили шакала. Теперь долго не встанет. Ничего. Пусть полежит, ему полезно.
— Эй, Бармалей, — тихо отозвался снизу окровавленный сгусток материи. — Неси дежурному одеяло и подушку.
Варфаламеев опустился на корточки, перевернул Бочкарёва на спину и спросил:
— Чё, чё?
— Георгиевская лента через плечо. Дуй, говорю, за спальными принадлежностями. С ночёвкой на панели останусь, а то что-то даже пальцем не могу пошевелить… Пошевеливайся. Это я тебе, а не пальцу.
— Мне?.. По-ра-зительная наглость. Ему мало, пацаны. Надо добавить.
— Вас-то? Ага. Маловато будет. А ну-ка развернулись на сто восемьдесят градусов, познакомились с пушками сестёр, а потом — с ними самими. Ряды пополнил. — И Бочкарёв потерял сознание.
Ночью, 28 января, дежурных по стране стало на двенадцать очаровательных человек больше.
Глава 15
29 января 2000-ого года. Город N. Кафе «Лакомка». Четыре дня до времени «Ч».
За столиком обедали три человека. Они ждали Женечкина.
Иван Бехтерев, студент первого курса, учился в группе 99-8. Волоколамов заметил этого парня на одной студенческой пирушке; Леонид каждый раз с улыбкой вспоминал скандал, учинённый Бехтеревым и Левандовским на этой вечеринке. Дело не стоило выеденного яйца, но было раздуто обоими парнями до невообразимых размеров. Всё началось с того, что Левандовский, одурманенный виноводочными парами, нечаянно вытер стол шапкой Бехтерева. Алексей, не придававший никакого значения таким мелочам, быстро извинился перед Иваном, но в ответ услышал:
— Постираешь её, падло.
На это Левандовский нервно рассмеялся, вытащил из рукава куртки свою шапку, тщательно вытер ею стол, не побрезговав вымазать её в салате, и зло бросил Бехтереву:
— А ты — мою… с порошочком.
Дёрганые бесы ворвались в душу Ивана, и он вперемежку с оскорблениями понёс такую чепуху, над которой желчным дьяволам, вселившимся в Алексея, оставалось только посмеиваться. Чем больше выходил из себя Бехтерев, тем спокойней становился Левандовский. Иван кричал, Алексей зевал. Левандовский мог растоптать противника в любую секунду, но не делал этого, потому что получал мазохистское удовольствие от словесной перебранки; и Волоколамов это заметил. Леонид подумал тогда:
— Лёха, какая же ты сволочь. Ведь ты ничем не лучше его. Абсолютно ничем. Ты просто на порядок сильнее бедняги по всем показателям. Тебе мало того, что в конце перепалки ты расквасишь ему нос. Молотобойцев так бы и поступил с этим Бехтеревым, но только не ты. Сначала тебе нужно у всех на глазах искромсать его душу в капусту, и только потом ты нарвёшься на драку. Благодари Бога, что не я с тобой сцепился. Даю тебе ещё пять минут. Если за это время ты не вызовешь его на кулачный бой, то я, как обычно, двумя-тремя предложениями аккуратно разберу рельсы перед твоим самоуверенным бронепоездом. Посмотрим тогда.
Волоколамову не понадобилось вмешиваться, потому что скандал закончился через минуту.
— Я по понятиям живу, — бросил Бехтерев и схватился за лежавший на столе нож.
— Отлично, — ответил Левандовский. — Тогда бей. Взялся за клинок — бей. Это по понятиям.
Под одобрительные возгласы Бехтерев изрезал на куски обе шапки.
— Инцидент исчерпан, — пробасил Молотобойцев. — С Левандовского — пиво, с Бехтерева — чипсы.
Много воды утекло с того времени. В кафе «Лакомка» сидели уже не те желторотые юнцы, которым в первые месяцы учёбы надо было самоутвердиться в студенческом сообществе. За столиком не было прежнего Бехтерева. Напротив дежурного по стране Волоколамова сидел дежурный по стране Бехтерев, который помог Леониду написать устав тайного общества. Если читатель помнит Лимона, приезжавшего в деревню к Молотобойцеву по поводу покупки машины, то им тоже не пахло в кафе. Челюсти, вгрызавшиеся в резиновую плоть остывшей курицы, принадлежали не кому-нибудь, а дежурному по стране Зубареву. И суровое чело его, и так не сулившее врагам России ничего хорошего, с каждым новым куском становилось ещё более суровым, потому что ножки Буша всякий раз подолгу бестолково топтались у него во рту и вязли в зубах.
— Вано, я согласен с тобой. Завтра мы действительно можем на собственной шкуре убедиться в существовании мест не столь отдалённых, но другого выхода не вижу, — произнёс Волоколамов. — Молодёжный парламент собирается один раз в месяц, а до времени «Ч» осталось четыре дня. Сегодня надо всё успеть. Будем действовать решительно. Я отношусь к либералам, но либеральничать в парламенте — это провал.
— А как у других дежурных? — спросил Лимон.
— Думаю, что нормально, — ответил Волоколамов.
— А как же Бочкарёв? — задал вопрос Бехтерев.
— Ренегат, — последовал холодный ответ.
— Лёня, ты говорил, что надо действовать решительно, — сказал Лимон. — Сдаётся мне, у тебя революционная краснуха, как у товарища Левандовского. Или белая горячка. Или тоска зелёная.
— Брось паясничать, Андрюха, — отрезал Волоколамов. — Резкость Лёхи меня раздражает. В парламенте мы всего лишь сыграем на грани фола, пройдёмся по канату без страховки и…
— Свалимся в пропасть, если парламентарии окажутся самовлюблёнными дураками и карьеристами, — закончил Бехтерев. — Твой план очень и очень…
— Тихо, — перебил Лимон. — Оглядитесь вокруг.
Посмотрев по сторонам, парни увидели, что взгляды людей, присутствовавших в кафе, прикованы к их столику. Посетители «Лакомки», польщённые вниманием ребят, начали улыбаться. Особенно дежурные были удивлены поведению девушек. Женский пол пускал в ход все имевшиеся в его арсенале средства, чтобы понравиться парням.
— Не обольщайтесь, пацаны, — с каменным лицом произнёс Волоколамов. — Девчонки строят глазки не нам, а нашим повязкам. Сейчас мы греемся в лучах славы, заработанной дежурными на Первомайской площади. Общество перестало быть тайным. К лучшему. Всякая конспирация только оскорбляет демократию.
— Действительно, — согласился Бехтерев. — Чай, не при Николае Палкине живём, не при Сталине.
— А вдруг всё-таки при Сталине, — засомневался Лимон.
— Если говоришь «вдруг» — стало быть, пока сомневаешься, — сказал Бехтерев. — Закрыли тему. Не надо раньше времени напраслину на власть возводить. А если новый друг окажется вдруг и не друг, и не враг, а так — Ельциным, то ситуация только усугубится. Я надеюсь, что новый президент наконец-то наведёт порядок и затянет гайки. А если начнёт перетягивать, резьбу на демократических свободах срывать, то получит миллионы озлобленных людей, у которых, благодаря Борису Николаевичу, кроме свободы ничего-то и нет… Пока же мне нравятся первые шаги Владимира Владимировича.
— Он — бывший офицер спецслужб! — закричал Волоколамов. — Получим хунту!
Люди в кафе вздрогнули.
— Звук убавь, дежурный. Народ перепугаешь, — спокойно произнёс Лимон и кивнул головой Бехтереву, чтобы тот продолжил говорить.
Бехтерев поднялся, попросил у посетителей кафе прощение за несдержанность товарища, поманил Волоколамова пальцем и, склонившись над столом, произнёс:
— Дружище, я смотрю, тебе западная кровь в голову ударила. Успокой своё блатное сердце. Путин — русский офицер, а потом уже всё остальное. И не бывший, а настоящий. Заруби себе на носу, что русские офицеры не бывают бывшими, это тебе не сантехники. Через четыре года…
— Восемь, — поправил Лимон и вонзил зубы в окорок Буша.
— Поддерживаю. Два срока на пару с ним отмотаем, — сказал Волоколамов и накрыл хлебом стакан с гранатовым соком.
— Через восемь лет, — продолжил Бехтерев, — Россия станет другой. Она будет такой же нищей, как и сейчас, но ей уже будут гордиться не только дежурные по стране, но и остальные граждане. Путин заставит мировое сообщество считаться с нами, сведёт до минимума войну в Чечне, стабилизирует рубль, увеличит золотовалютный запас, запустит какие-нибудь первые национальные проекты, и двуглавый орёл расправит крылья. Ещё не взмоет в небо, но уже расправит крылья для полёта. А в газету с изображённым на ней российским флагом уже никто не будет заворачивать рыбу. Но это ещё не всё. Люди будут вставать под звуки гимна. Чё притих, Лёня? Ещё раз повторить? Они будут подниматься в рост. Путин вернёт нам достоинство. Это говорю тебе я — дежурный по стране, сторонник сильной власти, Бехтерев Иван Борисович. На мартовских выборах я поставлю галочку напротив его фамилии, чтобы моя маленькая птичка, нарисованная в бюллетене для голосования, помогла ему победить. Лично мне не нужен Владимир Владимирович. Я и без него горжусь своей страной, но будь я проклят, если в нём не нуждаются другие россияне. Путин горячо любит Родину. Правильно или не совсем правильно любит — сейчас не имеет значения. Главное, что любит. Если понадобится, я не то, что голос — жизнь за него отдам.
— И я, — присоединился Лимон. — Пусть смело рассчитывает на мою галочку в 2000-ом. В 2004-ом, пожалуй, тоже. Если мои синие птицы принесут ему политическое счастье, я буду только рад. А отдать жизнь за веру, президента и Отечество — долг каждого из нас. И мой, и твой, Вано, и даже твой, Лёня. Да, от иностранцев часто можно услышать: «У этих русских монархическое сознание, врождённое почтение к главе государства и т. д.». А я им всем вот что скажу: «Идите-ка вы… своей дорогой, господа хорошие. Наша страна. За кого хотим — за того и умираем»… Но…
— Что «но»? — спросил Волоколамов.
— Но если он пойдёт на третий срок, то я опять проголосую за него, но…
— Что ты нокаешь, как ямщик? — с раздражением произнёс Бехтерев. — Выражайся яснее.
— Но вместо птички напротив его фамилии я нарисую жирный крест. Я поставлю на нём крест, — понятно?.. А ты, Лёня, сегодня напьёшься в драбадан.
— Это почему? Я завязал.
— Как завязал, так и развяжешься, — подключился Бехтерев. — Для России — развяжешься, никуда не денешься. В трезвом виде твоя западная натура просто невыносима, а вот в пьяном она становится… несносной, но уже хотя бы оправданно несносной. Холодный ты какой-то, разогреть тебя надо. В парламент пойдёшь под градусом. Это не обсуждается.
— Пацаны, я не могу её пить. Мне нельзя. Я потом в запой уйду.
— Далеко не уйдёшь, — подмигнув Бехтереву, заметил Лимон. — Мы тебя поймаем и на цепь посадим. Для этого ведь и существуют друзья.
Через тридцать минут Волоколамов из европейца превратился в евроазиата. На бледном лице Леонида появилась здоровая желтизна. Его глаза стали раскосыми, но сам он не окосел. Не лишним будет упомянуть и о том, что Волоколамов долго отказывался от первой стопки, но когда Бехтерев провозгласил тост за Россию, Леонид сдался. Да и есть ли в нашей стране хоть один человек, который, находясь в дружеской компании, может устоять перед риторическим вопросом: «Ты меня уважаешь?». Бехтерев лишь незначительно переделал фразу; он попросил уважить не какого-то там «меня», а немного, немало — шестую часть суши. А дальше всё пошло как по маслу. Волоколамов сосредоточился на употреблении огненной воды, а Бехтерев и Лимон насели на фруктовые соки. Они выпили до дна за все русские реки и за Енисей в отдельности. Потом ребята вмазали за наши дремучие леса и за тайгу в отдельности. Далее парни дерябнули за всех российских женщин и за Ольгу Леонидовну из Антона Сигизмундовича в отдельности. В общем, скоро от прежнего Волоколамова не осталось и следа. Посмотрев на Леонида, Бехтерев подумал, что теперь можно без опаски идти в парламент.
К столу подошёл Женечкин. Его лицо было мертвенно бледным. Он молча поздоровался и подсел к ребятам.
— Мальчишка, что случилось? — задал вопрос Лимон.
— Ар-ар-ар, — начал заикаться Женечкин, и на его глазах выступили слёзы.
Волоколамов залпом выпил и бросил:
— Я не желаю о нём слышать.
— Ар-ар-ар, — всхлипывая, заикался Женечкин.
— Артур? Арчибальд? Арканзас? Аргентина? Армавир? Арзамас-16? Арлекин? — решил поиздеваться Волоколамов.
Женечкина затрясло, и он онемел. Волоколамова бросило в жар, когда Мальчишка вытащил отказавший язык и трясущимися руками стал его мять. Бехтерев и Лимон, переглянувшись, подумали приблизительно одно и то же: «Это было бы смешно, если бы не выглядело так страшно».
— Володя, что с ним?! Не молчи! Что с Бочкарёвым?! Он жив?! — вскричал Волоколамов.
Женечкин отрицательно покачал головой и поставил стакан с соком в угол стола, как провинившегося мальчика.
— О, Господи… Мёртв? — спросил Бехтерев и почувствовал, как у него засосало под ложечкой.
Женечкин и тут отрицательно покачал головой. Вздох облегчения вырвался у ребят, но их лица всё ещё оставались вопросительными. Женечкин взял стопку с водкой и поставил её в другой угол стола, словно проштрафившуюся девочку. Потом он взял нож и воткнул его по середине между стаканом и стопкой.
— Между жизнью и смертью, — догадался Лимон. — Артём в реанимации?
Женечкин утвердительно кивнул.
— Не сомневаюсь, что он выкарабкается, но доказать это не смогу, даже не проси, — заглянув Женечкину в глаза, твёрдо произнёс Волоколамов. — Верь мне. Он для долгой жизни родился. Ему до восьмидесяти лет мучиться на этом свете. Он в реанимацию сам попросился. Доказательств опять же не имею. Артём уже многое попробовал, а полумёртвым ещё не был. Экзотический человек. Вчера — девушка лёгкого поведения, сегодня — полутруп, завтра — дирижёр, послезавтра — егерь. А кончит монахом. Володя, у него всё по плану, так что обретай дар речи, а то мы с пацанами на тебя обидимся. Бочарик не лежит в реанимации, он её изучает.
Циничные слова о человеке, находившемся на грани жизни и смерти, покоробили Бехтерева и Лимона. Они хотели напуститься на Волоколамова, но Женечкин с таким упованием смотрел на Леонида, что Бехтерев и Лимон решили промолчать.
— Лёнька, а ведь ты прав, — сказал Женечкин. — Артём будет жить, как миленький. Вот он хитрый, — да? Хотел нас вокруг пальца обвести, а ты его раскусил. Ведь он быстро на поправку пойдёт? — Глаза Вовки умаляли Леонида о том, чтобы он ответил «да». — Ведь быстро же? Скажи.
— Послезавтра, — не задумываясь, ответил Волоколамов. — А может быть, через неделю. Максимум через месяц. Он пробудет в реанимации столько, сколько ему самому захочется. Можешь мне поверить, что скоро ему надоест лежать в коме, и он из неё выйдет. Бочкарёв нигде не задерживается долго, и для комы наш друг не станет делать исключения. Кто она такая? Не рыба, не мясо — вот кто она. Не жизнь и не смерть, вот так.
— Эх, поцыки, поцыки, — сказал Женечкин. — А ведь Артём свою задачу выполнил.
— Гонишь, — не поверил Бехтерев.
— Как придёт время «Ч», сами убедитесь. Я сегодня утром в больнице был, разговаривал с лечащим врачом Артёма. Так он мне сказал, что к нему приходили девушки с красными повязками и предлагали деньги на лекарства для нашего друга. Удивительно получилось. Артём вытащил своих подопечных из комы, реанимировал их, а сам в больницу угодил.
— Ничего удивительного, — произнёс Волоколамов. — По закону сохранения энергии так и должно было случиться. В одном месте прибыло, в другом убыло… Кстати, кто его избил?
— Наши, — ответил Женечкин.
— Наши?! — в голос воскликнули Бехтерев и Лимон.
— Да. Ребята Магурова постарались, но сам Яша ни о чём не знал. Когда я сообщил ему о том, что произошло, он был вне себя от ярости. Сейчас идут разборки. Магуров и Левандовский объясняют пацанам, виновным в избиении Артёма, что так поступать нельзя. Всё будет нормально. Я сказал Яше, чтобы просветительская работа была проведена без фанатизма, но он и сам всё понимает.
— А менты? Они же начнут искать тех, кто избил Бочкарёва, — с волнением сказал Лимон.
— Не начнут, — успокоил Женечкин. — Перед тем, как связаться с Яшей, я разыскал проститутку, которая была с Артёмом в школе, и попросил её, чтобы она и её подруги держали язык за зубами. Менты от девушек ничего не добьются. Сначала, правда, она возмущалась, но потом согласилась с тем, что наказание шанхайцев — внутреннее дело дежурных.
— Откуда ты узнал, что Бочкарёва избили именно шанхайцы? Когда они успели стать дежурными? Про какую школу ты говоришь? Где ты берёшь такую точную информацию? — посыпались вопросы от Бехтерева.
— Наш пострел везде поспел, — скромно ответил Женечкин. — Свои источники я не выдаю. Что касается Артёма, то вы его не поняли. Я считаю его лучшим из нас. Нет, не так выразился. Он первый среди равных. Герой, настоящий герой.
— Никакой он не герой, — бросил Волоколамов. — Дежурный, просто дежурный. Я согласен с тем, что мы сгоряча осудили Артёма и забраковали его метод. Ему было виднее, как надо работать. Раз Мальчишка уже точно знает, что выход на панель дал положительные результаты, то действия нашего друга следует признать правильными, но не более. Ему надо было выполнить задачу любой ценой, и он это сделал. Только мне кажется, то есть я даже почти уверен в том, что Артём провалялся на диване весь месяц, поэтому был вынужден пойти на беспрецедентный шаг, чтобы уложиться в сроки. Ему пришлось накрыть грудью амбразуру дзота, хотя он вполне мог бы штурмовать свой участок несколько недель. На героя России Артём не тянет, и при встрече я ему обязательно об этом скажу. Похвальная грамота за проявленное мужество — вот его награда.
— Грамоту дать и руку пожать, — сказал Бехтерев.
— Никаких грамот. Просто руку пожать, — произнёс Лимон.
— Пожать руку и занести выговор в личное дело за безобразное отношение к своей жизни, — нахмурившись, изрёк Женечкин. — Он по своей глупости здоровье потратил. Всё верно, поцыки. У дежурных должна быть собственная шкала измерения подвига. Я как-то об этом не думал, а сейчас вот подумал. Лёня, спасибо тебе. С какого перепуга Артём решил, что его жизнь принадлежит только ему? Это эгоизм. Мы не можем себе позволить терять людей на каждом шагу. Надо до глубокой старости служить, так больше полезных дел совершим. Чтобы не сгореть до времени, мы должны тщательно просчитывать каждую ситуацию. Настоящий дежурный — это тот же водитель-профессионал, который ещё до выезда на трассу обязан открыть все категории от «А» до «Я». Любитель с одной лишь категорией «В» — это потенциальный преступник, хочет он того или нет. Но умение управлять всеми транспортными средствами — это ещё не всё. Выехав на дорогу, водитель-профессионал должен соблюдать скоростной режим, смотреть на знаки, следить за встречными машинами и пропускать пешеходов.
— Что-то я ничего не понял, — сказал Волоколамов.
— Да я уже привык, — махнул рукой Женечкин. — Расшифровываю. Категории — это убеждения, знания, навыки и умения. Скоростной режим — это осторожность, бдительность и собранность за рулём. Знаки — российские законы. Встречные автомобили — враги государства, на которых нельзя идти в лобовую атаку, иначе — авария, гибель, затор на дороге. Пешеходы — это народ.
— А я вот сегодня в пьяном виде по парламенту прокачусь, — произнёс Волоколамов. — Спасибо Ване и Андрею.
— Нельзя, — запротестовал Женечкин.
— Ему можно. Ему в трезвом виде нельзя, а под шафе — в самый раз, — шутливо заметил Лимон.
— Не волнуйся, Мальчишка, — поддержал Бехтерев. — На катке поедем. Крейсерская скорость — пять километров в час. А соблюдать законы, то есть знаки мы…
— Будем! — подняв стопку, провозгласил Волоколамов и выпил.
Бехтерев с удивлением посмотрел на пьяного друга и продолжил:
— Лёня хотел сказать, что дорожные знаки мы соблюдать…
— Будем! — последовал ёмкий тост, и очередные сто грамм упали в желудок.
Лимон пожал плечами и обратился к Волоколамову:
— Правильно ли я понял, что давить на катке… давить мы никого, то есть ни на кого не, не, не…
— Будем! — заключил Волоколамов и уменьшил мировые запасы водки ещё на пятьдесят грамм. — Хватит, пацаны, а то я наливать не успеваю. Мальчишка, нам уже скоро идти надо. Через час в драмтеатре начнётся праздничное заседание молодёжного парламента. Эти бездельники будут отмечать годовщину со дня основания своей боярской Думки.
— Не годовщину, а годину, — поправил Лимон.
— Не годину, а гадину, — добил Бехтерев.
— Итак, — торжественно произнёс Волоколамов, — делегаты от дежурных поздравят коллег с их гадиной. Вовка, если бы не ты, мы бы толкали олимпийские ядра, а так придётся толкать только речи. Жаль, чёрт возьми. Нам с парнями так хотелось покидать в именинников яйцами, очернить их смолой, обелить мукой и отсидеть за всё это, но, видно, — не судьба.
— Лёня, ты, наверное, забыл, что мы должны набирать людей, а не наказывать их, — заметил Женечкин.
— Грешен, Вовка, — с раскаянием произнёс Волоколамов. — Все мы не без греха. Но ведь ты вроде тоже не увеличил количество членов нашей организации, сам же мне об этом вчера базарил.
— Да, это так. Я к самым маленьким пошёл. В детском доме много талантливых ребятишек. Я столкнулся с очень интересными детьми. Доложу вам, что их некоторые высказывания ставили меня в тупик. «Что строишь?», — спросил я у Вити Балабанова, пятилетнего мальчика, который возился с кубиками. А он мне на полном серьёзе ответил: «Воду в Африку провожу. Тыща труб. По телеку показывали, как они ямки роют, чтобы туда вода набиралась. Надо помочь. У нас в кране воды навалом». Однако потом он разметал своё строительство и занялся рисованием. «Больше не будешь трубы делать?», — спросил я у него. Он посмотрел на меня, как на дурака, и сказал: «Такой большой, а не понимаешь. У них рядом солёный океан, а надо придумать, чтобы его можно было пить. Машину черчу». Мне повезло. В младшей группе нянечка в отпуск ушла, а тут я подвернулся. Так усатым нянем и прозвали. К детдомовцам, которым перевалило за десять лет, я и не совался. Со старшими ребятами всё очень плохо, потому что их детство пришлось на середину 90-ых. Дежурный должен смело смотреть правде в глаза. Многие парни и девчонки, с которыми мне довелось общаться, показались мне живыми трупами. Наркотики, алкоголь, разврат, отсутствие каких бы то ни было моральных норм трансформировали их в зомби. В их бессмысленно-пустых глазах я не увидел ни одного поручня, за который можно было бы ухватиться. Мне нет прощения, поцыки. Я быстро отступился от зомби и переключился на малышей.
— Ты отступился? — вырвалось у Волоколамова. — Счастье-то какое. Мы с пацанами всегда думали, что ты — святой, не от мира сего, а выходит…
— Такой же, как все, — ага? Полегчало, Лёня? Я рад… Я один раз деньги у папы украл, — прикинь?
— Класс, — улыбнулся Волоколамов.
— Это ещё фигня, — задорно сказал Женечкин. — Как-то мама написала своему брату письмо, положила его в конверт, а запечатать забыла. Короче, я письмо вытащил и вложил вместо него инструкцию по искусственному осеменению коров. Мама очень удивилась, когда дядя Коля отбил ей телеграмму: «Спасибо, сестра. Ждём первый приплод. Бычий бунт подавили кастрацией».
— Такой же, как все. Такой же, как мы все. Такой же, как все, — радовался Волоколамов, как ребёнок.
Женечкин солгал парням. Весь январь он трудился над всем детским домом «Золотой ключик», работал со всеми возрастными категориями, и один только Бог знал, что пришлось пережить Мальчишке. Скажем только, что по сравнению с Вовкиными хождениями по мукам страдания его друзей выглядели сущими пустяками. Через четыре дня в общежитие «Надежда» придут детдомовские подростки, и Женечкин скажет Волоколамову: «Лёнька, я тебе чуть-чуть набрехал насчёт того, что отказался работать с зомбированными ребятами. Сам подумай, как я мог это сделать, если я обожаю фильмы ужасов. Честное слово, я люблю их в миллион раз сильнее, чем мелодрамы, боевики и комедии. Мне нравится бояться. А наврал я потому, что за тебя, Лимона и Бехтерева переживал. Вы должны были идти в парламент, веря в победу и не страшась возможного поражения. Если бы у вас ничего не получилось, то ты бы мог сказать: «Не мы одни продули. Мальчишка тоже». В общем-то, я знал, что у вас всё будет по плану, но с правом на проигрыш действовать всегда легче».
— Подолгу беседуя с малышами, — говорил Женечкин, — я выявлял их склонности, а потом формировал группы по интересам. Воспитательницы убеждали меня в том, что в таком нежном возрасте дети ещё не знают, чего хотят. А я уверен в том, что ребятишки-то как раз и знают. Если они говорят тебе, что хотят стать моряками, то так оно и есть. Их не волнует зарплата, престижность профессии, а только море. Через тридцать минут кто-нибудь из них сообщит тебе, что теперь мечтает быть лётчиком, и в этот момент он будет точно знать, что хочет быть только лётчиком и никем, кроме лётчика. Воображение у малыша такое, что за непродолжительный временной интервал он окончит лётные курсы, честно отлетает тридцать лет, выйдет на пенсию и загорится желанием стать пожарным. Почему я должен принимать это за непостоянство? Не бывать такому… Поцыки, в нашем городе живут хорошие люди. Когда я стал приглашать спортивных, естественнонаучных и гуманитарных тренеров на работу с маленькими детьми в детдом, ни один человек мне не отказал. Мои начинания всячески поддерживали воспитатели «Золотого ключика». Теперь в детдоме действуют различные кружки и секции. Пусть ребята пока развиваются, пробуют себя во всём, а там будет видно. Только сразу разочарую вас. Ни в одном ребёнке я не обнаружил зачатков будущего дежурного по стране.
— Жаль, — вздохнул Волоколамов.
— И мне жаль, — упавшим голосом произнёс Женечкин, но его слова никак не вязались с ватагой бесенят, которые дрались и повизгивали от восторга в глазах Мальчишки. — Жаль… Жаль, что мы — последние дежурные по стране, потому что нам на смену идут дежурные по планете. По суше. По морям и океанам. По небу. Представляю, как они будут посмеиваться над нами, но вы не расстраивайтесь. За нас посчитаются дежурные по Солнечной Системе, которые будут потешаться над дежурными по планете. Поцыки, наша историческая миссия — это создание благоприятных условий для новых поколений россиян. Благоприятных, но не тепличных, так как, — Женечкин вздрогнул, — Третьей Мировой Войны не миновать. Господи, опять не мы начнём, но заканчивать снова нам. Земля покроется ядерным пеплом, умоется кислотными дождями, и сиреневое солнце взойдёт над теми, кто переживёт начало конца.
— Интересно, как я буду смотреться на фоне радиации? — задумчиво произнёс Волоколамов и поднялся из-за стола. — Нам пора.
— Уж лучше вонять, чем фонить, — пробурчал Лимон. — Уходим.
— Пацаны, какие сигареты предпочитаете? — обратился к ребятам Бехтерев и, не дожидаясь ответа, сказал: «А я — «Парламент». Накурюсь сегодня до тошноты. Впрок, блин. Бывай, Вовка.
Женечкин с тоской посмотрел вслед уходившим парням. Из разговора с ними ему стало ясно, что они практически ничего не знают о том, как дела у их товарищей.
— С Богом, поцыки. Вы должны пройти то, что должны пройти, — произнёс Мальчишка, налил водку в гранёный стакан, выпил и… снял повязку с рукава.
Драмтеатр был переполнен умными молодыми людьми, озабоченными судьбой народа. Обилие торжественных лиц свидетельствовало о празднике. Великолепие классических костюмов и вечерних платьев полностью соответствовало внутреннему содержанию плечиков-юношей и вешалок-девушек, на которых висела вся эта красота от лучших местных, неместных и даже неуместных кутюрье. Сыны и дочери государственных чиновников, партийных функционеров и преуспевающих бизнесменов, забыв о политических распрях, пришли в драмтеатр, чтобы поздравить друг друга с годовщиной со дня основания молодёжного парламента. Они имели на это право. Долгих двенадцать месяцев молодые люди сочиняли проекты по благоустройству городов и сёл республики и отстаивали их на парламентских чтениях. Сердца политических недорослей изболелись на бумаге, а то, что им не удалось озеленить даже Чапаевский переулок, в котором требовалось посадить несколько пихт, — это не так важно. Важно другое.
— Девять пихт! И переулок переименовать! — кричали «правые» фракции.
— Восемь! — топали ногами «левые». — Девятая пихта, когда вырастит, закроет лапами табличку, на которой выбито имя «красного» командира, героя Гражданской войны, Василия Ивановича Чапаева!
— А кто будет сажать?! — вопили младодемократы всех расцветок от кипенно-белого до белого в синий горошек.
— Вы! — орали в ответ комсомольцы всех окрасов от розового до бордового.
— Никогда! Вы сажали людей в 30-ых, 40-ых и 50-ых, теперь давайте деревья!
— Ни за что! Вы сажали людей на иглу в 90-ых, теперь давайте деревья!
— Пускай народ теперь сам сажает! Отплатит нам за сталинизм!
— Соломоново решение! Как говорится, лопаты им в руки! Отомстит нам за ельциниаду!
— Наше дело — «левое»! Наше дело сторона! Да здравствует вечнозелёный народ!
— Наше дело — «правое»! Наше дело сторона! Слава вечнозелёному народу!
В общем, за весь год золотая молодёжь не ударила палец о палец, зато разрешила главный вопрос: кому сажать деревья? Не будем строго судить парламентариев. Их следует поблагодарить хотя бы за то, что они не шатались по кабакам. Это уже немало.
Парламентский спикер, блестящий молодой человек с гусарскими усами, стоял на сцене и умело держал паузу. Только что он мастерски уколол «левых», и «правые», к его немалому удовольствию, оглушили друг друга бурными аплодисментами, оценив по достоинству остроумный выпад в адрес своих политических оппонентов. Больше он никого занозить не успел, потому что на сцену запрыгнули три человека и попросили предоставить им слово для поздравления. Опустив микрофон, спикер вежливо объяснил парням, что он не может выполнить их просьбу, так как именины идут по заранее утверждённому сценарию, в котором, к его глубочайшему сожалению, ничего не сказано о том, что на торжества заявятся люди в верхней одежде с красными повязками на рукавах и будут прерывать его пламенную речь на самом интересном месте.
— Я Вам сейчас апперкотом жизнь прерву, — произнёс злой следователь по прозвищу Лимон.
— Не надо, Андрюха. Парень вроде толковый, с понятием, — выступил Бехтерев в роли доброго следователя.
Спикер хотел что-то возразить, но Бехтерев и Лимон взяли его под руки, аккуратно донесли говоруна до края сцены и тактично намекнули ему на то, что настоящий десантник не нуждается в стимулирующих пинках сослуживцев, когда надо выпрыгнуть из самолёта.
А театр уже гудел, как растревоженный улей:
— Дежурные… По всему, по всему… Дежурные… По стране, по стране…
Волоколамов прокашлялся, постучал по микрофону на предмет проверки звука и поприветствовал парламентариев:
— Раз, раз. Раз, два, три. Здравствуй, голубая кровь. Раз, раз. Хай, белая кость. — Он в пояс поклонился людям, сидевшим в зале, с изяществом мушкетёра расшаркался перед ними и сказал: «Чё сидим? Кого ждём? НАТО у границ наших, а они сидят. Граждане ждут от них конкретных дел, а они — с моря погоды. — Волоколамов обвёл взглядом зрительный зал. — Где тут «левый» сектор? Я не вижу ваших рук… Впрочем, не утруждайтесь. Вы ещё недостаточно «красные». Вы зелёные и неспелые, а потому — несъедобные. Так и быть — ускорю процесс дозревания. Ближе к делу. Дело — дрянь, потому что среди вас нет ни одного «левого». Я знаком только с двадцатью настоящими социалистами, но не назову вам имён этих людей. Они мертвы, как и их утопические идеи. А товарищ Левандовский, — заявил Волоколамов, как будто в парламенте могли знать его друга, — тот честный идиот и одухотворённый слепец. Он бродит по N-ску, как призрак коммунизма по Европе, и мечтает, чтобы у всех было поровну. Чё «поровну» — он и сам не в курсе. Короче, дурак дураком, но весь ваш парламентский корпус и мизинца его не стоит. — Волоколамов стал отыскивать «правых». — А где наши демократы?.. Сидите и не дёргайтесь, потому что во всех смыслах правый здесь только я, остальные же — кругом виноватые. Но так и быть, либеральные дички, — окультурю вас. Для начала пройдёмся по азам греческого языка. Так вот, демократия в переводе с эллинского — это власть народа, а не просто власть. Вместо того чтобы стать молодыми лидерами профсоюзов на предприятиях республики, волонтёрами Красного Креста, учителями в деревнях и сёлах, вы транжирите молодость в пошлых спорах. Вместо того чтобы заняться основанием приютов, столовых, ночлежных домов для малоимущих и бомжей, употребить на это богоугодное дело финансовые излишки и связи отцов, вы нарабатываете политический опыт. А как же народ? Да хрен с ним, с народом, — правда? Поди, не пропадёт. Да, не пропадёт, но и не выберет ни одного из вас, даже не мечтайте. Дураков уже нэма…
Солнечные лица парламентариев заволокли тучи. На лбах молодых людей, как в окопах, залегли морщины. Элита принимала бой. Волоколамов чувствовал, что ему просто дают выговориться, а потом… А что потом? Потом — контратака. К чёрту недомолвки, читатель! Дежурные будут смяты. Когда три человека бросаются на хорошо подготовленную сотню, результат схватки предсказать нетрудно. Против численного превосходства не помогут ни ум, ни хитрость, ни отвага. Таковы жестокие законы войны.
Лимон выхватил микрофон у Волоколамова и произнёс:
— Поговорим о грейпфрутах. В том смысле, что горько, но полезно… Если сейчас кто-нибудь из вас заикнётся о том, что молодёжный парламент не обладает реальной властью, не имеет достаточной финансовой подпитки, то я скажу, что так вам, амёбам, и надо. Чё вы в своём кукольном парламенте сиденья греете? Валите на улицы и закаляйтесь на морозе, как наши товарищи. Хотите помочь людям — бейтесь за них на практике, а не в теории. Нужны деньги на какой-нибудь проект — дуйте к предпринимателям и просите, просите, просите их помочь городу, республике, стране. Не получается — клянчите. Не выходит — унижайтесь и стелитесь. Обещайте всем, к кому обратитесь за финансовой помощью, что вы будете проводить рекламные акции в поддержку торговых марок, бесплатно разгружать вагоны с товарами и бог ещё знает что. Тогда сильные мира сего поразятся вашей правде, и мы увидим наяву таких меценатов, которые нам и не снились… Над вами ведь даже не смеются. Про вас не знают. Не знают!
Во время речи Лимона Волоколамова развезло и понесло по сцене. Его руки хватались за воздух, а ноги выписывали кренделя. Алкоголь, оседлавший лейкоциты в крови, издевался над Леонидом. Парень начал терять контроль над собой. Парламентарии воспользовались неожиданно открывшимся козырем. В зрительном зале раздался победоносный смех. Пошли выкрики:
— Да он же перекрытый!.. Вызвать милицию!.. Дребезги!.. Пьяный критикан!.. Самим уйти!.. Нализался!.. Всеобщее презрение!.. Хороший дежурный — мёртвый дежурный!
Согнувшись в три погибели и широко расставив руки, Волоколамов кружился по сцене, как заходивший на посадку подбитый истребитель. Всё плыло перед его глазами. Он уже не понимал, где небо, а где земля, но не отчаивался и искал в дыму своих ведомых. Поймав в прицел Бехтерева, Волоколамов уже не выпускал товарища из вида. Собрав волю в кулак, Леонид по спирали стал приближаться к Ивану. Когда силы оставили ведущего, ведомый был уже близко, и Волоколамов, спикировав наобум, упал прямо в объятья Бехтерева и нажал на гашетку. Рвотные массы с регулярной частотой стали выбрасываться на грудь Ивана, но он ни в чём не упрекал Леонида и только крепче прижимал его к себе.
Ведущий: Мессер… Горю… Пиковые тузы… В хвост и в гриву… Падаю…
Ведомый: Бей длинными и осмысленными очередями, командир. Соберись.
Ведущий: Пусть Лимон скажет им, что если они уйдут или вызовут ментов, то пресса поднимет их на смех. Нас всего трое.
Ведомый: Понял. Чё с тобой делать?
Ведущий: Тушить.
Ведомый: Не понял.
Ведущий: Лети за двумя вёдрами холодной воды.
Ведомый: Мороз, Лёня. Ты же простынешь, когда выйдем на улицу.
Ведущий: По барабану. Как понял меня? Приём.
Ведомый: Понял. Не дурак. Пламя собьём. Заодно смою твою блевотину со своей обшивки.
— Нас всего трое, — говорил Лимон. — Кто покинет театр — тот парламентский лох. Кто вызовет ментов — тот думское чмо. Кто не спрятался, я не виноват. Кто на новенького, тот на новенького. Терпение, дамы и господа. Не ёрзайте на сиденьях, пожалейте обивку кресел. Через пять минут Иван принесёт святую водицу, окропит ею нашего поддатого друга, и мы вам покажем кузькину мать. У вас есть время для подготовки контрудара. Настоятельно советую вам собраться с мыслями, иначе мы раздавим вас, как тараканов.
После двух ведер воды от Волоколамова осталось одно мокрое место. Он обтекал, но смешным уже никому не казался. Наоборот — Леонид был страшен, как Гуимплен, который во время обличающего спича в английской палате лордов усилием воли содрал с лица жалкую улыбку урода и расплылся в хищном оскале волка.
Парламентарии вжались в кресла. Слухи о дежурных подтверждались. Про парней с красными повязками поговаривали, что они не ведают боли и страха, как киборги. Испорченный телефон работал исправно. Легенды распространялись с быстротой ветра.
— Это марсианские пришельцы, — собрав вокруг себя толпу, утверждал один горожанин. — Гуманоиды без страха и упрёка. Они отбирают хлеб у богатых и раздают его бедным. Один из них накормил восемь деревень манной небесной.
— С ложечки что ли? — удивлялся другой. — Не может того быть. Послушай-ка лучше мою историю. Я ничего не знаю насчёт халявы с неба, но пули марсиан точно не берут. В одного из них палили из дробовика, а он в это время круто солил палец, а после неудавшегося расстрела слопал его у всех на глазах.
— Фигня, — говорил третий. — Читали в газетах, как один марсианин на Первомайке всё чё-то писал и на Ленина пялился? Казалось бы, вождь-то тут при чём?.. Пролетарии всех планет соединяйтесь — вот при чём. Владимир Ильич — это ихний марсианский резидент. Они уже во всём космосе коммунизм насадили, теперь за Землю взялись.
— А со шлюхами якшаются, потому что хотят у них вынюхать, как мужики могут платить деньги за дырку от бублика, — понизив голос до шёпота, делился своими соображениями четвёртый. — Глядишь, скоро начнут ставить свои марсианские пломбы на все чёрные, озоновые и бабские дыры. Будет космическая интервенция. Помяните моё слово.
Башковитым парламентариям не было никакого дела до безмозглых обывателей. Их не занимали народные байки. Всё, что их интересовало, — это власть, которую они теряли. Безусловно, влияние молодёжного парламента на жизнь республики было несущественным, но всё же оно было. Однако месяц назад у ребят от политики появились серьёзные конкуренты от винта. Какие-то странные и сильные люди, называвшие себя дежурными по стране, вылезли из недр русской земли и начали разбивать её на квадраты. При этом борцов от винта не привлекали чернозёмные участки, на которых можно было бы неплохо заработать и сделать карьеру. Они столбились исключительно в районах рискованного земледелия или в районах Нечерноземья, чтобы победить или умереть. Успехи дежурных ошеломляли. К людям от винта потянулись люди от сохи и станка, от нацистов и проституток.
Парламентарии не сводили глаз с парней, стоявших на сцене.
— Разве это нормально? — задавались вопросом именинники. — День Ивана Купалы — в июле, а они его на январь перенесли. Летний праздник в зимний период — это не есть хорошо. Обливанье, понимаешь, устроили. Жарко им что ли?
Волоколамову стало холодно, но это было привычное состояние его рассудка, поэтому он быстро унял дрожь в теле и ударил:
— Демократический режим в Соединённых Штатах Америки — это образец для подражания.
Зрительный зал взорвался негодованием.
Выкрики из партера:
— Шпион!.. Прихвостень Запада!.. Валера Новодворский!.. Сам же только что говорил, что НАТО у наших границ!
— Кажется, приплыли, — подумал Лимон.
— Блин, зря я его облил, — мелькнуло в голове у Бехтерева.
Волоколамова не задели обидные реплики парламентариев. Он улыбнулся своей обычной холодной улыбкой и парировал:
— НАТО угрожает не государствам, а тоталитарным и авторитарным режимам. Войска Североатлантического альянса несут народам вольность и покой. Да, они вооружены, но пусть вас это не пугает. Добро должно быть с кулаками. Если честно, то я смутно помню, что я подразумевал, когда говорил о том, что от наших границ до воинских подразделений НАТО подать рукой, так как был пьян. Договариваю. Считаю, что мы должны протянуть им руку и затянуть их к себе, так как рука Северного альянса — это дружеская рука помощи. Если они войдут к нам, то мы не протянем ноги, как полагают крикуны из партера, а протянем долго, очень долго протянем как свободная страна с либерально-демократическими ценностями. Надеюсь, что я поставил партер на место. Уважаемые горлопаны, для общего развития довожу до вашего сведения, что в борьбе это называется — поставить в партер.
К сцене подошла красивая девушка. Из её больших и добрых глаз исходило мягкое сияние миротворца. Вся она была какая-то лёгкая и прозрачная. На страдальческом лице девушки выделялись небесно-голубые жилки. Классическим пропорциям её тела могла позавидовать музейная Венера. Она была одета в бирюзовое платье. Серебряный ремень подчёркивал стройность её стана.
— Опустите, пожалуйста, микрофон и наклонитесь ко мне, — обратилась девушка к Волоколамову.
У Бехтерева и Лимона, стоявших позади Волоколамова, началось активное слюноотделение, какое бывает у людей, когда они подумают об уксусной эссенции. Их сердца бешено забились в грудных клетках, как это случается с вольнолюбивыми птицами, которых запирают в золотые клетки. Когда сирена поманила Леонида чарующим голосом, Бехтерев и Лимон уже ревновали её ко всему городу. Эволюционный процесс, который, по мнению Дарвина, сделал из обезьяны человека, лёг на обратный курс. Бехтерев и Лимон глупо улыбались и деградировали на глазах.
Волоколамов спиной почувствовал неладное. Повернувшись к товарищам передом, к думской нимфе — задом, он застал Бехтерева в стадии первобытного охотника за мамонтами. Что касается Лимона, то его выдвинутая челюсть, покатый лоб и ярко выраженные надбровные дуги свидетельствовали о том, что он удрал гораздо дальше Ивана, — в ту доисторическую эпоху, когда мужчин ещё называли самцами. Но Волоколамов недалеко ушёл от своих товарищей. Он стоял рядом и спас их от сетей парламентской музы, бросив:
— Влюбились что ли?
— Вроде ещё не совсем, — ответил первобытный охотник.
— Угу, — выдал питекантроп, и Волоколамову оставалось только догадываться, что Лимон подразумевал под словом «угу».
Волоколамов подошёл к краю сцены, опустился на корточки и спросил девушку:
— Что Вам надо, девушка?
— Скажите, как Вас зовут?
— Дежурный по стране.
— А имя?
— Безымянный, — сухо ответил Волоколамов.
— А меня — Любой.
— Очень неприятно, Люба. То, значит, Вера припрётся, а Надежды и Любви нет. То Надежда нарисуется, а Любви и Веры уж и след простыл. Чё вместе не ходите?
— Я не совсем понимаю, о чём Вы… Товарищи облили Вас. Озябли, наверное?
— А Вам это надо?
— Это — надо, а в НАТО — не надо, молодой человек.
— Надо, надо. В НАТО — надо, дорогая девушка.
— Скользкий Вы тип.
— Да, хоть на коньках катайся, но не советую Вам этого делать.
— И всё же попробую завернуть Вас в тройной тулуп, а то замёрзнете от своих заблуждений. Неужели Вы действительно считаете, что войска НАТО занимаются обеспечением безопасности демократии? Как же Вы можете так преступно ошибаться? Господи, кто угодно, но только не Вы. Вам нельзя.
— Почему это мне нельзя?
— До меня дошли слухи, что дежурные никого и ничего не боятся и готовы без колебаний расстаться с головой за свои идеалы. Таких, как вы, любят и уважают простые люди. Только расстаться с головой — это одно, а потерять голову — это совсем другое. Не спорьте со мной. Я собственными глазами видела, как Ваш товарищ, не задумываясь, окатил Вас ледяной водой только потому, что этого требовало дело, с которым дежурные пришли в театр. Если бы понадобилось, он бы убил Вас.
— Мёртвые срама не имут.
— Остановитесь. Что Вы говорите?
— Что вступление в НАТО — это будущий исторический выбор России.
— Глупенький, — с нежностью сказала девушка и попыталась прикоснуться к парню, но он отпрянул от неё. — Конечная цель НАТО — это наши природные ресурсы и территории. Идёт расширение на Восток. Заметьте, не на Север — к пингвинам, не на Юг — к кенгуру, а на Восток. Распад Варшавского договора ускорил продвижение Североатлантического альянса. Почти все бывшие республики Советского Союза готовы бросать цветы на броню натовских танков. Наши братья ещё не понимают, что они размещают у себя боевые единицы золотого миллиарда. Последний форпост многополярного мира — это Россия.
— Это Ваши домыслы, — свысока произнёс Волоколамов.
Где-то в середине диалога между Любовью и Леонидом в театре упала партийная дисциплина. Парламентское море заволновалось. Лидеры фракций тщетно призывали своих коллег соблюдать тишину и порядок.
Коммунисты и аграрии, сидевшие в левой половине зала, поднялись первыми. Они организованно построились в центральном проходе и под алыми стягами направились к сцене. Ни толчков в спину, ни взаимных упрёков в их рядах замечено не было. Впереди «красного» хода шагали пунцовые от злости попы, держа перед собой портреты вождей мирового пролетариата. Плешивый юноша-аграрий, затянувший фальцетом «Зачем он в наш колхоз приехал?», так и не получил ответ на свой вопрос, потому что грянул «Интернационал», в котором всё было ясно и понятно с первой строчки.
Демократы, выдвинувшиеся из правой половины зрительного зала, побрели к сцене разрозненными и ругавшимися между собой группами, но до драки, слава Богу, дело не дошло. В «правом» лагере давно назрел фурункул разобщённости. Демократы ненавидели друг друга не только за всё плохое, что было в них, но и до кучи за всё хорошее. Последней каплей, переполнившей кубок взаимного неприятия, стал футбольный матч, в котором «правые» продули всем, кому только можно, со счётом 94:6. И только жириновцы опять победили; они снова сделали ставку на игру против всех и не прогадали. Капитан «ЛДПР» забивал голы в свои и чужие ворота, грыз штангу, танцевал перед трибунами джигу, подравнивал ножницами газон, молился на Восток, мочился на Запад, заигрывал с главным арбитром, обвинял боковых судей в том, что они рулят игрой за границей, — в общем, развлекался и других развлекал. Огрызок «Яблока» и распавшийся «Союз Правых Сил» завидовали непотопляемой «Либерально-Демократической Партии России», а в проигрыше обвиняли друг друга, а также болельщиков, которые, оказывается, не так свистели, не за тех переживали и не передрались на трибунах, когда главный арбитр назначал несправедливые пенальти в либеральные ворота.
Парламентские меньшинства, представленные «зелёными», «любителями пива» и прочими малышами, ушли не в закат, а с мест для поцелуев. Они маршировали к сцене по спинкам кресел.
Анархисты мастерили лестницы из галстуков и брюк и спускались с балконов прямо на головы коллег.
Дежурные были окольцованы, оттеснены друг от друга, и дрались в окружении.
— Да знаете ли вы, что такое КВН для России?! — отстреливался Бехтерев, приплюснутый депутатами к театральной ширме. — Это же исповедь молодёжи, которая уже ушла от чёрта, но ещё не пришла к Богу. Я плачу, когда смотрю эту передачу. Мои горючие слёзы размером со слона, индийского белого элефанта. Это вам не юмористы из «АншГУЛАГа», это вам не всякие Петросядзе, опускающие россиян до тупиц, чтобы заработать на массовом примитивизме. КВНщики — это короли юмора. Их остроумные перлы уходят в народ и живут с ним в горе и в радости. Когда людям нечего есть, они включают первый канал во время трансляции КВНа, подставляют пустые стаканы к экрану телевизоров, и молодые команды со всех концов России, ближнего и дальнего зарубежья разливают в тару сметану. КВН — это качественный отечественный продукт, которому нет аналогов в мире. Увидите, как через несколько лет Александр Васильевич Масляков удостоится государственной награды. Ему вручат орден за заслуги перед Отечеством. Россия будет помнить его не за то, что он вытащил подростков из подвалов, не за то, что ему удалось создать ячейки молодой гвардии в школах и институтах и даже не за то, что он сохранил братство народов СССР, несмотря на соглашение в Беловежской пуще. В учебниках по истории шоумену Александру Васильевичу Маслякову отведут всего несколько строчек, за которые генералиссимус Александр Васильевич Суворов с лёгкостью отдал бы переход через Альпы. Про Маслякова напишут: «Мудрец и его ученики накормили великий народ горькой правдой о великом народе, и никто не поперхнулся, но стало радостнее всем, веселей стало всем». А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, говорите мне, что КВНщики шутят, когда плакать надо. Страшно далёк от народа ваш бесчестный парламент, как тот честный декабрист образца 1825-ого года. КВНщики — это лучшие артисты России, лучшие певцы России и о России, клоуны печального образа, шуты, которым, как в древние времена, позволено говорить правду людям и королям. Перед их лирическими отступлениями от юмористического жанра в конце визитных карточек, СТЭМов и домашних заданий отступает ненависть, отходит жестокость, пятится страх за будущее детей и…
— Эта история известна всему городу, — погибал, но не сдавался храбрый Лимон, из которого выжимал последние соки затягивавшийся на его теле парламентский обруч, золотое кольцо золотой молодёжи, людская удавка, сплетённая из взбелененных депутатов. — Только вы не знаете, не хотите знать, чем она закончилась, потому что народ для вас — это быдло, а для нас, дежурных, — это счастье, которое даёт нам силы, и одновременно несчастье, без которого счастье — это тупое животное удовольствие. В поговорке «Не было бы счастья, да несчастье помогло» — все мы. Да, этот мужик, про которого вы мне говорите, эмигрировал в Германию. Да, он воровал там, как воровал здесь. Да, хозяин-немец приказал вывалить возле его дома четыре грузовика досок, чтобы наш больше не крал, чтобы этих досок ему хватило до конца жизни. А дальше?! Что было дальше?! Я спрашиваю вас, что было дальше?! А дальше, депутаты, от русского мужика не осталось камня на камне. На работу в цех ходила мучавшаяся совесть, одетая не в робу, а в жгучий стыд. Эта совесть пахала так, что через полгода хозяин вызвал её и сказал: «Я премного доволен Вами. Не мучьтесь больше. Забудьте тот инцидент». Так говорил немец, ему простительно. Разве он мог понять, что совесть, которую он разбудил грохотом досок о мостовую, не успокоится до тех пор, пока не погибнет на пожаре, спасая имущество предприятия? И немцы будут кричать: «Николаус, назад! Туда никак нельзя, Николаус!» Но Коля сделает вид, что не понимает ни слова. Он решит, что немецкий язык, может, и хорош для жизни, а для смерти в огне годится только русский — язык пламени. Коля сгорит на родном языке, с которого можно переводить, но который никогда, ни за что не переведётся. Ему не будет страшно, потому что он погибнет на том самом, на котором родился, крестился, учился, любил, женился, получил профессию, воровал, каялся и думал. И жадной совести будет мало, что она уже вызволила из огня потерявшего сознание шефа и его визжавшего тойтерьера. Ей всё будет мало. Она сойдёт с ума от алчности и будет таскать каштаны из огня, пока не превратится в обугленную головёшку. После пожара баден-баденские газеты расценят действия россиянина как иррациональные, но все они единодушно сойдутся в том, что таким людям, как он, можно давать немецкое гражданство, и совесть Николая, услышав такое, наконец-то успокоится на небесах. А то, что…
— Я был бы искренне рад согласиться с вами, но не могу, — отбивался от обложившей его своры блокадный Леонид, продрогший и голодный. — Правда по рукам и ногам вяжет. И ведь мелочь, а приятно. Пятьдесят копеек, а счастье. Случай, который перевернул моё отношение к нашему человеку, произошёл в магазине, в котором я покупаю продукты. Мужчина говорил, что продавщица не додала ему пятьдесят копеек. Покупатели разделились на две враждебные команды и скандалили. Большинство людей, стоявших в магазине, совсем не думали, что пятьдесят копеек — это мелочь жизни, потому что в их возмущённых голосах я различил все виды бедности. Тут была оскорблённая, гордая, несчастная, озлобленная, презрительная, добровольная и всякая другая бедность. А подавляющее меньшинство, человека два-три из разряда очень богатых, абсолютно не понимали, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. Я готов присягнуть на чём угодно, что они именно не догоняли, какая причина послужила поводом для конфликта. Мне хотелось ударить в набат, когда ко мне подошёл один из хозяев жизни и сказал: «Обычно служанку за продуктами отправляю, а тут сам решил съездить. Дурдом какой-то. Короче, плачу пятьсот рублей, если заткнёшь им пасть и уступишь мне свою очередь. Накину ещё две сотни, если растолкуешь, почему они блажат… Деньги фальшивые что ли? Или товар просроченный? Докатилась страна». И что я, по-вашему, должен был ответить?! Что причина в пятидесяти копейках?! Что кому-то жрать нечего?! Что у нас три четверти населения еле как концы с концами сводят? Если бы он просто издевался надо мной своими глупыми вопросами, но чётко, чёрт возьми, понимал, что всё только из-за того, что кому-то не додали пятьдесят копеек, то я был бы счастлив. Но в его сытых глазах читалось неподдельное непонимание. Зато я всё прекрасно понял. А эти вершители судеб вещают мне с экрана, что у нас всё хорошо, всё хорошо. Есть проблемы, но в целом всё хорошо. Ладно, это лирика. Магазин стоял на ушах. Книга жалоб и предложений стала повестью, написанной сообща. Признаюсь, я потом пробежался по страничкам. Там было про всё, что хочешь, даже про то, что гаишники должны работать на упреждение, стоять до знака ограничения скорости, зато про пятьдесят копеек в тетради слёз почти не упоминалось. О, мой народ, на тебя столько всего навалилось, что ты впал в прострацию, и я не знаю, с какой стороны за тебя взяться, чтобы помочь, а не навредить. Люди кричали и скандалили, а потом забыли, о чём кричали и по какому поводу скандалили. Но они всё равно продолжали кричать и скандалить уже по инерции. Я тоже забыл, но кричал и скандалил вместе со всеми. А потом вспомнил, что кричу и скандалю от нестерпимой тоски. А потом всё было, как во сне. Продавщица со слезами на глазах вернула мужчине пятьдесят копеек. Мужчина со слезами на глазах вытащил из бумажника последних двадцать рублей и сунул их старушке в очереди. А хозяин жизни сорвал с себя галстук, втоптал его в пол, махнул рукой наотмашь и гаркнул: «Гуляем, братцы! Один раз живём! Я угощаю!»
И вдруг Волоколамову и его товарищам стало легче дышать. Парламентарии оставили дежурных в покое, и расселись на свои места. Она говорила. Любовь говорила. Кто мог бы её ослушаться? Никто. У кого бы хватило сил противостоять её голосу? Ни у кого. Так кто же, кто держал в руках микрофон? Любовь между мужчиной и женщиной? Конечно. Любовь к детям? Безусловно. К родителям? Факт. К природе, к родной земле, к предкам, к Богу? Сто процентов.
Всеобщая Любовь затмила собой восходящее солнце дежурных по стране. Парни выстроились журавлиным клином за её хрупкой спиной.
— Сегодня дежурные сходят со сцены. Мавры сделали своё дело. Мавры должны уйти. Уйти отовсюду и навсегда, — сказала Она, и у депутатов побежали мурашки.
— Нет, нет, нет! — заклинило клин.
— Я ухожу с ними, — не оборачиваясь, продолжила Она. — Ухожу, чтобы предотвратить беду. Они умные, мужественные и деятельные люди, но все без исключения опасны. В их глазах горит напалм, который не оставляет после себя ничего живого.
— Ложь! — лёг на левое крыло Бехтерев.
— Поклёп! — лёг на правое крыло Лимон.
— Любовь зла! — сделал мёртвую петлю Волоколамов.
— Через семь-десять лет, — произнесла Она, — дежурные устанут от ювелирного труда и превратятся в топорных работников, потому что захотят построить Россию здесь и сейчас. Они назовут себя несогласными и развернут подрывную деятельность. Они откажутся от медленных реформ снизу и возьмут курс на насильственный захват власти, чтобы потом изменить Россию сверху. Они будут организовывать тайные ревкомы, специально провоцировать правительство на жестокий разгон митингов и демонстраций, восстанавливать рядовых иностранцев против нашей страны. Семнадцатилетние юноши и девушки, которыми Россия гордилась в начале их пути, вырастут в двадцатипятилетних революционеров-преступников. Из бывших дежурных всего постсоветского пространства западные круги сформируют ударные ячейки для проведения бархатных революций. Молодёжью снова воспользуется отечественные и иностранные враги, чтобы погрузить страну в пучину хаоса. Незначительные успехи, достигнутые нами за долгие годы, будут перечёркнуты. Другой России восхотят несогласные. Зарубежный недруг злорадно потрёт руки, выступит генеральным спонсором перемен и скажет: «Другой — это нашей. Прозападный президент. Прозападная Дума. Прозападный Совет Федерации. Прозападные суды. Зачем завоёвывать Россию? Какая ядерная война? Россия — это не Париж, по ней парадным маршем не пройдёшь. Марш несогласных — вот самый подходящий марш. Договоримся с лидерами другой России, вольёмся в колонны обманутой молодёжи, и сами же недовольные толпы вынесут нас к стенам древнего Кремля. Без нашей финансовой помощи несогласным не обойтись, потому что российские олигархи, на которых могли бы рассчитывать революционные силы, заодно с российской властью. Когда все опомнятся, будет уже поздно. Мы разобьём огромное государство скифов на сотни осколков, и на каждый осколок поставим лояльного нам князя». В рядах несогласных обязательно заведётся какой-нибудь шахматист, который просчитает партию на тысячу ходов вперёд и приведёт восставших к победе. Если современная власть — это шило, то потенциальная власть несогласных — это мыло, к которому останется докупить верёвку и повеситься на осине, как это сделал Иуда. Менять шило на мыло — не самый лучший вариант. Вы плохо кончите, дежурные. От дежурного по стране до предателя осталось лет десять. Так и будет.
— Поживём — увидим! — страшным голосом закричал Бехтерев, и мысль его была обоюдоострой.
— Посмотрим ещё! — подхватил палку о двух концах Лимон.
— На кого Вы напали, Люба?! — забаррикадировался Волоколамов. — На дежурных по стране напали?! Предателей в нас разглядели?! Как Вы могли?!
— Таких ребят, как вы, даже не надо будет покупать, — пророчествовала Она. — Вы — не для продажи. Вожди несогласных нарисуют вам портрет другой России в ярких красках, и вы побредёте за ними, как послушные овцы. Вы пойдёте на заклание бесплатно и будете готовы ко всему: к арестам, к тюрьмам, к смерти. Россия проклянёт вас — своих любимых сыновей и дочерей. Поначалу люди, погрязшие в нищете и пороках, будут встречать несогласных как своих спасителей, но это продлится недолго. Сполохи Гражданской войны высветят ваши тёмные души, которые когда-то, то есть 29 января 2000-ого, ещё были светлыми.
— Не-е-ет! — опустившись на колени, заревел Волоколамов.
— Можешь ли ты поручиться за всех своих товарищей? — спросила Она.
— За всех!
— Будь честен перед собой.
— За шестерых!
— Подумай.
— Только за себя!
— Уверен?
— Не-е-ет! — простонал Волоколамов, подполз на коленях к Любе, схватился за край её платья и прошептал: «Не бросай нас. Не оставляй. Направь. Научи. Меня Лёней зовут. Пусть они смеются, а ты научи. Как жи-и-ить?».
Состояние молодёжного парламента не поддаётся описанию. Автор бессилен выразить на бумаге эмоциональные переживания, отразившиеся на лицах депутатов в гробовой тишине, и не стесняется признаться в этом.
Лимон сидел на сцене в позе «лотоса», отрешённо смотрел на Думу и думал свою думу. Бехтерев лежал, заложив руки под голову; он вычислял, с какой силой надо плюнуть в потолок, чтобы плевок ни на кого не упал, а, преодолев силу притяжения и пробив все преграды, ракетой взмыл в космос, прилип к небосклону, свесился оттуда звездой, и все говорили: «Плевок не искал крайних. Это был смачный харчок неистребимой любви, собранный из славной слюны. Если он нечаянно попал кому-то в душу, то в этом нет ничего страшного. На душе плевка невидно. Высохнет».
Довольный крик спикера:
— Так я и думал! Нет, я знал! Знал! Сообщение на пейджер! Сообщение от пейджинговой компании «Сибирь»! Срочно! Три трупа! На совести дежурных лежит смерть трёх людей! В больни…
Волоколамов, Бехтерев и Лимон оглохли от колокольного звона в ушах. Сердца ребят дали трещины. Их глаза заволокло туманом. Кровь застыла в жилах парней и стала рубиновым льдом.
— Бочкарёв умер. Я — следующий, — принял решение Лимон.
— Я — четвёртый, Артём, — подумал Бехтерев.
— До сегодня, друг, — прошептал Волоколамов.
— …Николай Крестов умер в больнице от воспаления лёгких! — читал сообщение спикер. — Виталий Стёгов покончил жизнь самоубийством! Отец близнецов, Денис Пуришкевич, отравился, оставив после себя записку, в которой обвинялись демонстранты, вышедшие на Первомайскую площадь…
Эпилог
1 февраля 2000-ого года. В большой комнате общежития «Надежда» — девяносто два дежурных по стране. Расформирование тайно-явного общества. Раздача библий. Курс — на учёбу.
Полночь. За круглым столом, накрытым чистой белой скатертью, сидели пять парней. Кроме них в комнате никого не было. Лица ребят были озарены улыбками светлой грусти. Испытания, через которые им пришлось пройти, благотворно повлияли на их мировоззрение; острые углы убеждений приняли круглую форму, открытую для диалога. Они не устали. Устала та, за которую они боролись. Она спала, поэтому ребята разговаривали тихо, чтобы не разбудить её.
Я без стука вошёл в комнату, в которой сидели ребята, и сказал с порога:
— Здорово, пацаны. Меня зовут Лёха Леснянский. Первый курс, группа 99-2.
— А какая группа крови? — приветливо улыбнувшись, осведомился Магуров.
— Первая… Резус — отрицательный, а сам — вроде положительный.
Парни засмеялись и пригласили меня к столу. Они поочерёдно представились, после чего Молотобойцев произнёс:
— Прикинь, положительный Лёха с отрицательным резус-фактором, что мы сегодня никого так не ждали, как тебя. Ты нам нужен.
— Отлично, — обрадовался я. — А вы — мне.
— Нет, ты меня не понял. Одному человеку требуется твоя кровь.
— Да, у меня универсальная кровь, — хвастливо заметил я. — Её можно перелить первой, второй, третьей, четвёртой группам, а вот мне самому может помочь только группа 99-6, то есть вы… Шутки в сторону. Я готов помочь ему или ей. Или даже…
— Ему… Нашему другу Артёму Бочкарёву. Значит, мы можем на тебя рассчитывать?
— Однозначно, Вася. Сегодня. Завтра. Всегда. До последней капли. Я хочу вступить в ваше общество и приносить пользу людям. Делом и… словом… Поприще писателя не даёт мне покоя. Планирую написать о вас книгу.
— Общества больше нет, — пробасил Молотобойцев. — Оно распалось по объективным причинам. Мы понесли невосполнимые потери. Январь прошёл под знаком смерти. Полтора часа назад Артём вышел из комы. В том месте, в котором он побывал, ему сказали: «Возвращайся на землю и передай своим друзьям, что три человека в месяц — это тридцать шесть человек в год, триста шестьдесят — в десятилетие, тридцать шесть тысяч — через тысячу лет. Если дежурные не остановятся, то ответят перед Богом за гибель миллионов людей, так как для Него нет понятия времени, а тенденцию «три+три» вам сохранить не удастся. Скорей всего, количество смертей будет возрастать в геометрической прогрессии». Видишь, как всё сложно? Обрати внимание на то, что мы с тобой вдвоём разговариваем, а пацаны молчат, не вмешиваются в наш диалог. Все учатся слушать и думать. — Молотобойцев посмотрел на часы. — Скоро поедем к Артёму. Перед тем как ему перельют твою кровь, хотелось бы её попортить. Рукописи, надеюсь, принёс?
Я раздал ребятам первые свои рассказы и стал с волнением ждать приговора.
После прочтения Волоколамов скомкал доставшийся ему рассказ и бросил его в Левандовского. Произведение, запущенное твёрдой рукой Леонида, попало борцу с фашизмом не в бровь, а в глаз.
— Гениально, — с искренним восхищением произнёс Волоколамов после попадания в яблочко. — Просто изумительно, но у тебя степь не пахнет, вкус огурца отдаёт пенопластом и вообще всё не так. Хочешь, назову красную цену твоей работы?
— Давай уже, — с унынием произнёс я.
— Сто тысяч.
— Сто тысяч?
— А то… Помимо твоего рассказа людям придётся покупать билеты до тех мест, которые ты так отвратительно описал. А ты как хотел? Они-то думали, что степь — запашистая, а ты где-то разнюхал, что там-то и там-то она без запаха. В твоих строчках нет и намёка на пряный дух шолоховского приволья. Ты, как я понял, совсем краёв не видишь в уничтожении нашей гордости — бескрайней русской степи. Природа у тебя пока ненатуральная. Слава Богу, что Тургенева и Бунина нет с нами. Сначала пошатайся по лесам, полазь по горам, походи по морям, а потом за перо берись. И самое главное. Тайгу не тронь, не потянешь. Для нашей тайги отдельный певец родится, который ничего, кроме неё, описывать не будет. Если на моём веку появится такой писатель, то я перестану бояться вырубки хвойных лесов. Мы их по книге потом восстановим и зверем заселим. Только бы будущий художник про рысь не забыл. Надеюсь, что его кисть рысьи кисточки на ушах обессмертит, чтобы ни у кого не осталось сомнения в том, что без рысьих кисточек тайга — не тайга. Если писатель ничего не упустит, то всё будет нормально. Каждую хвойную иголочку воссоздадим, всякую брусничку по воспоминаниям клонируем. И мох, и мох важен. Как без пуховой перины в тайге? Как без мха-то? А без МХАТа как? Куда ж мы без театра? Всё надо будет восстановить: от малой хаты до великого храма Христа Спасителя.
В руках Магурова горела подозрительная спичка. Он загадочно улыбался и подмигивал мне.
— Яша, что ты хочешь сделать? — спросил я.
— Мы это с тобой сожжём, чтобы никто не узнал о твоём таланте, — радостно произнёс Магуров, а потом заговорил таким голосом, которым посвящают в тайны: «Ты очень, очень, очень одарён, но мир жесток и туп. Он не поймёт твоего вранья, он тебе его не простит. Лёха, Лёшка, брат, — пропадёшь. О твоей судьбе пекусь.
— А ты, оказывается, тот ещё плут, — рассмеялся я. — Критикуй поконкретней.
— А нечего критиковать. Всё очень, очень, очень здорово. Мастерское владение словом, великолепный слог. Лёша, нечего критиковать. — Магуров смотрел не на меня, а на рассказ, догоравший в пепельнице. — Поразительно. Меня потрясла глубина твоих образов. — Рассказ превратился в пепел. — Вот теперь совсем нечего критиковать. На «нет» и суда нет… Брат, если врёшь, то ври до конца, ври безбожно. Тогда получится не враньё, а сказка про белого бычка и красного медведя. Люди любят сказки, а ложь как-то не очень.
Женечкин сделал из моего рассказа четыре бумажных кораблика.
— Большому кораблю — большое плавание, — сказал Мальчишка. — Мне понравилось. Правда. Такой эгоцентричной любви к России я пока не встречал. Вероятно, это твой конёк. Смело катайся на нём и никого не слушай. Пиши.
— Что значит «эгоцентричной любви к России»? — спросил я.
— Как же я приятно устал со всеми вами. Тебе хочется, чтобы все с такой же силой любили Родину, как ты. Ты боишься остаться со своим чувством один. Одному страшно и скучно, — так?
— Да, Вова… Все должны говорить только о ней и любить только её, чтобы мне было хорошо.
— А как же другие темы? А иные объекты любви?
— Не позволю, — улыбнулся я. — В моём присутствии все обязаны говорить только о России и любить только её.
— Точно эгоист. Эгоист из эгоистов. Впрочем, здорово. Предмет твоей любви многогранен и всеобъемлющ. Пиши, эгоист. Вовек не иссякнешь.
Левандовский сделал из доставшегося ему рассказа шесть самолётиков. Они никуда не взлетели, а были расставлены на столе квадратно-гнездовым способом.
— Позже полетят, — заявил Левандовский. — Лет через семь. Заранее оплакиваю их участь, потому что ни один на аэродром не вернётся. Все лётчики — камикадзе.
— Почему? — задал я вопрос.
— «Перл Харбор» смотрел? В этом фильме целью американских пилотов, вылетевших в трубу, была не победа, а поднятие духа нации. Через несколько лет каждый из нас расскажет тебе свою историю. Это будет повесть о том, как все долетели, но ни один не вернулся. Запомни: победа любой ценой. Любой, кроме кровавой. А до этого…
— Окончить институт, тёзка? — перебил я.
— Верно, тёзка. А ещё надо будет…
— Отслужить за тебя в армии? Пальца-то тю-тю. Забракуют.
— А ты мне уже нравишься. Да, отслужишь за себя, за меня и за того парня… Мечта есть?
— Три… Съездить на Олимпийские игры, сходить на концерт ретро-FM и влюбиться.
— Первых две обеспечим, а с третьей как-нибудь сам. Договорились?
— Лады.
Все встали. Надо было ехать к Артёму в больницу. Женечкин подошёл ко мне и сказал:
— Мы были не хорошими и не плохими. Мы были дежурными по стране… Как завершишь книгу, откроешь библию на любой странице и прочтёшь…
…Прошло две тысячи и ещё семь лет…
«Увидев народ, Он взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня…»
Ты всё изначально знал, Мальчишка. А как же я?.. Последняя буква в алфавите, рядом не стоящая с буквой Первозакона, которая пришла в мир давным-давно…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



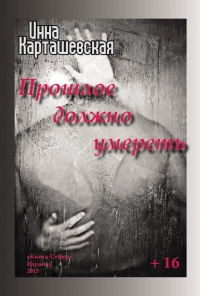
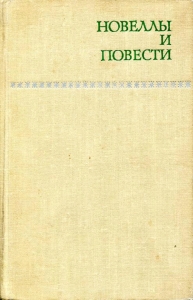




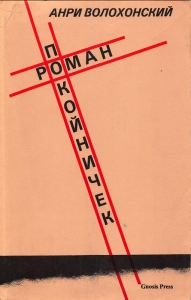

Комментарии к книге «Дежурные по стране», Алексей Васильевич Леснянский
Всего 0 комментариев