Книга рассказов Александра Богатырёва, постоянного автора сайта «Православие.ру», написана ярким, образным языком и с добрым, согревающим сердце юмором. Но здесь проявляется не желание во что бы то ни стало рассмешить читателя, а парадоксальный показ явлений нашей жизни, помогающий задуматься о сути происходящего. Главная мысль книги: там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, приводящую к неизбежному тупику и личным трагедиям. Проза Богатырёва одновременно и документальна, и художественна, и в этом её большое достоинство.
Александр Богатырёв
«ВЕДРО НЕЗАБУДОК» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Содержание
Куда подевались юродивые 1
Грешницы 7
Иван и vanitas 19
Попутчик 30
Митра-укротительница 39
О попе и «мерседесе» 46
Ехал я по Америке 60
Грех малым не бывает 67
Только молитвой и постом 75
Часть 1. Пюхтицы 75
Часть 2. Васкнарва 85
Часть 3. Постскриптум 100
Чудо — дело тихое 102
Ещё раз о чудесах 107
О блаженной Ксении 111
Рождественская история 116
Памяти отца Николая Гурьянова 120
Здесь служил отец Серафим (Тяпочкин) 126
Сорок мучеников 134
Отец Симеон (Нестеренко) 139
Матушки 146
Пляж как место вразумления 150
Иордань 157
Крещенским утром 159
Победитель Каменный 161
Учу вас, учу 164
О русском горе и об отце Егоре 172
Ведро незабудок 175
Святки по-советски 180
Беда. В сенях или при дверях 183
Куда подевались юродивые
Недавно, поднимаясь по лестнице в редакцию сайта «Православие.ру», я увидел висящие на стене фотографии, сделанные в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях в 1980-е годы. На одной из них были запечатлены мои старые знакомцы — юродивые странники Михаил и Николай. Михаил на две головы ниже своего соседа. В ширину — такой же, как и в высоту. В жилетке и с цилиндром на голове. Смотрит на нас хитро и весело. Под длинной поддевкой скрыты ноги, ненормально короткие при нормальном торсе. Николай — со склоненной влево головой, длинными свалявшимися волосами и с взглядом затуманенным и печальным. Тридцать лет назад встретив этот взгляд, я сразу понял: человек, смотрящий на другого человека такими глазами, очень далек от мира сего и не надо пытаться его вернуть в суетную, лукавую реальность.
В сентябре 1980 года мы с женой приехали в Псково-Печерский монастырь и после литургии оказались в храме, где отец Адриан отчитывал бесноватых. В ту пору каждый молодой человек, особенно городского обличил и одетый не в поношенное советское одеяние полувековой давности, переступая порог храма, привлекал к себе внимание не только пожилых богомольцев, но и повсюду бдящих строгих дядей, оберегавших советскую молодежь от религиозного дурмана. Внимание к нашим персонам мы почувствовали еще у монастырских ворот: человек с хорошо поставленным глазом просветил нас насквозь и все про нас понял. Строгие взгляды я постоянно ловил и во время службы, но при отчитке несколько пар глаз смотрело на нас уже не просто строго, а с нескрываемой ненавистью. Были ли это бедолаги бесноватые или бойцы «невидимого фронта» — не знаю, да теперь это и неважно. Скорее всего, некоторые представляли оба «департамента». Я был вольным художником, и мои посещения храмов могли лишь укрепить начальство в уверенности, что я совсем не пригоден к делу построения светлого будущего. А вот жена преподавала в институте и могла лишиться места. Так что мысли мои были далеки от молитвенного настроя.
Мир, в который мы попали, был, мягко говоря, странным для молодых людей, не так давно получивших высшее образование, сильно замешанное на атеизме. На амвоне стоял пожилой священник с всклокоченной бородой и в старых очках с веревками вместо дужек. Он монотонно, запинаясь и шепелявя, читал странные тексты. Я не мог разобрать и сотой доли, но люди, столпившиеся у амвона, видимо, прекрасно их понимали. Время от времени в разных концах храма начинали лаять, кукарекать, рычать, кричать дурными голосами. Некоторые выдавали целые речевки: «У, Адриан-Адрианище, не жги, не жги так сильно. Все нутро прожег. Погоди, я до тебя доберусь!» Звучали страшные угрозы: убить, разорвать, зажарить живьем. Я стал рассматривать лица этих людей. Лица как лица. До определенной поры ничего особенного. Один пожилой мужчина изрядно смахивал на нашего знаменитого профессора — знатока семи европейских языков. Стоял он со спокойным лицом, сосредоточенно вслушиваясь в слова молитвы, и вдруг, услыхав что-то сакраментальное, начинал судорожно дергаться, мотать головой и хныкать, как ребенок от сильной боли. Рядом со мной стояла женщина в фуфайке, в сером пуховом платке, надвинутом до бровей. Она тоже была спокойна до определенного момента. И вдруг, практически одновременно с «профессором», начинала мелко трястись и издавать какие-то странные звуки. Губы ее были плотно сжаты, и булькающие хрипы шли из глубин ее необъятного организма — то ли из груди, то ли из чрева. Звуки становились все громче и глуше, потом словно какая-то сильная пружина лопалась внутри нее — с минуту что-то механически скрежетало, а глаза вспыхивали зеленым недобрым светом. Мне казалось, что я брежу: человеческий организм не может производить ничего подобного. Это ведь не компьютерная графика и я не на сеансе голливудского фильма ужасов.
Но через полчаса пребывания в этой чудной компании мне уже стало казаться, что я окружен нашими милыми советскими гражданами, сбросившими маски, переставшими играть в построение коммунизма и стучать друг на друга. Все происходившее вокруг меня было неожиданно открывшейся моделью нашей жизни с концентрированным выражением болезненного бреда и беснования. Так выглядит народ, воюющий со своим Создателем. Но люди, пришедшие в этот храм, кричавшие и корчившиеся во время чтения Евангелия и заклинательных молитв, отличались от тех, кто остался за стенами храма, лишь тем, что перестали притворяться, осознали свое окаянство и обратились за помощью к Богу.
Когда отчитка закончилась, мне захотелось поскорее выбраться из монастыря, добраться до какой-нибудь столовой, поесть и отправиться в обратный путь. Но случилось иначе. К нам подошел Николка. Я заприметил его еще на службе. Был он одет в тяжеленное драповое пальто до пят, хотя было не менее 15° тепла.
— Пойдем, помолимся, — тихо проговорил он, глядя куда-то вбок.
— Так уж помолились, — пробормотал я, не совсем уверенный в том, что он обращался ко мне.
— Надо еще тебе помолиться. И жене твоей. Тут часовенка рядом. Пойдем.
Он говорил так жалобно, будто от моего согласия или несогласия зависела его жизнь. Я посмотрел на жену. Она тоже устала и еле держалась на ногах. Николка посмотрел ей в глаза и снова тихо промолвил:
— Пойдем, помолимся.
Уверенный в том, что мы последуем за ним, он повернулся и медленно пошел в гору по брусчатке, казавшейся отполированной после ночного дождя. Почти всю дорогу мы шли молча. Я узнал, что его зовут Николаем. Нам же не пришлось представляться. Он слыхал, как мы обращались друг к другу, и несколько раз назвал нас по имени.
Шли довольно долго. Обогнули справа монастырские стены, спустились в овраг, миновали целую улицу небольших домиков с палисадниками и огородами, зашли в сосновую рощу, где и оказалась часовенка. Николка достал из кармана несколько свечей, молитвослов и акафистник. Затеплив свечи, он стал втыкать их в небольшой выступ в стене. Тихим жалобным голосом запел «Царю Небесный». Мы стояли молча, поскольку кроме «Отче наш», «Богородицы» и «Верую» никаких молитв не знали. Николка же постоянно оглядывался и кивками головы приглашал нас подпевать. Поняв, что от нас песенного толку не добьешься, он продолжил свое жалобное пение, тихонько покачиваясь всем телом из стороны в сторону. Голова его, казалось, при этом качалась автономно от тела. Он склонял ее к правому плечу, замысловато поводя подбородком влево и вверх. Замерев на несколько секунд, он отправлял голову в обратном направлении. Волосы на этой голове были не просто нечесаными. Вместо них был огромный колтун, свалявшийся до состояния рыжего валенка. (Впоследствии я узнал о том, что у милиционеров, постоянно задерживавших Николку за бродяжничество, всегда были большие проблемы с его прической. Его колтун даже кровельные ножницы не брали. Приходилось его отрубать с помощью топора, а потом кое-как соскребать оставшееся и брить наголо.) Разглядывая Николкину фигуру, я никак не мог сосредоточиться на словах молитвы. Хотелось спать, есть. Ноги затекли. Я злился на себя за то, что согласился пойти с ним. Но уж очень не хотелось обижать блаженного. И потом, мне казалось, что встреча эта не случайна. Я вспоминал житийные истории о том, как Сам Господь являлся под видом убогого страдальца, чтобы испытать веру человека и его готовность послужить ближнему. Жена моя переминалась с ноги на ногу, но, насколько я мог понять, старалась молиться вместе с нашим новым знакомцем. Начал он с Покаянного канона. Когда стал молиться о своих близких, назвал наши имена и спросил, как зовут нашего сына, родителей и всех, кто нам дорог и о ком мы обычно молимся. Потом он попросил мою жену написать все эти имена для его синодика. Она написала их на вырванном из моего блокнота листе. Я облегченно вздохнул, полагая, что моление закончилось. Но не тут-то было. Николка взял листок с именами наших близких и тихо, протяжно затянул: «Господу помолимся!» Потом последовал акафист Иисусу Сладчайшему, затем Богородице, потом Николаю Угоднику. После этого он достал из нагрудного кармана пальто толстенную книгу с именами тех, о ком постоянно молился. Листок с нашими именами он вложил в этот фолиант, прочитав его в первую очередь. Закончив моление, он сделал три земных поклона, медленно и торжественно осеняя себя крестным знамением. Несколько минут стоял неподвижно, перестав раскачиваться, что-то тихонько шепча, потом повернулся к нам и, глядя поверх наших голов на собиравшиеся мрачные тучи, стал говорить. Говорил он медленно и как бы стесняясь своего недостоинства, дерзнувшего говорить о Боге. Но речь его была правильной и вполне разумной. Суть его проповеди сводилась к тому, чтобы мы поскорее расстались с привычными радостями и заблуждениями, полюбили бы Церковь и поняли, что Церковь — это место, где происходит настоящая жизнь, где присутствует живой Бог, с Которым любой советский недотепа может общаться непосредственно и постоянно. А еще чтобы мы перестали думать о деньгах и проблемах. Господь дает все необходимое для жизни бесплатно. Нужно только просить с верой и быть за все благодарными. А чтобы получить исцеление для болящих близких, нужно изрядно потрудиться и никогда не оставлять молитвы.
Закончив, он посмотрел нам прямо в глаза: сначала моей жене, а потом мне. Это был удивительный взгляд, пронизывающий насквозь. Я понял, что он все видит. В своей короткой проповеди он помянул все наши проблемы и в рассуждении на так называемые «общие темы» дал нам совершенно конкретные советы — именно те, которые были нам нужны. Взгляд его говорил: «Ну что, вразумил я вас? Все поняли? Похоже, не все».
Больше я никогда не встречал его прямого взгляда. А встречал я Николку потом часто: и в Троице-Сергиевой лавре, и в Тбилиси, и в Киеве, и в Москве, и на Новом Афоне, и в питерских храмах на престольных праздниках. Я всегда подходил к нему, здоровался и давал денежку. Он брал, кивал без слов и никогда не смотрел в глаза. Я не был уверен, что он помнит меня. Но это не так. Михаил, с которым он постоянно странствовал, узнавал меня и, завидев издалека, кричал, махал головой и руками, приглашая подойти. Он знал, что я работаю в документальном кино, но общался со мной, как со своим братом-странником. Возможно, принимал меня за бродягу-хипаря, заглядывающего в храмы. Таких хипарей было немало, особенно на юге. Он всегда радостно спрашивал, куда я направляюсь, рассказывал о своих перемещениях по православному пространству, сообщал о престольных праздниках в окрестных храмах, на которых побывал и на которые еще только собирался. Если мы встречались в Сочи или на Новом Афоне, то рассказывал о маршруте обратного пути на север. Пока мы обменивались впечатлениями и рассказывали о том, что произошло со дня нашей последней встречи, Николка стоял склонив голову набок, глядя куда-то вдаль или, запрокинув голову, устремлял взор в небо. Он, в отличие от Михаила, никогда меня ни о чем не спрашивал и в наших беседах не принимал участия. На мои вопросы отвечал односложно и, как правило, непонятно. Мне казалось, что он обижен на меня за то, что я плохо исполняю его заветы, данные им в день нашего знакомства. Он столько времени уделил нам, выбрал нас из толпы, сделал соучастниками его молитвенного подвига, понял, что нам необходимо вразумление, надеялся, что мы вразумимся и начнем жить праведной жизнью, оставив светскую суету. А тут такая теплохладность. И о чем говорить с тем, кто не оправдал его надежд?! Когда я однажды спросил его, молится ли он о нас и вписал ли нас в свой синодик, он промяукал что-то в ответ и, запрокинув голову, уставился в небо.
Он никогда не выказывал нетерпения. К Михаилу всегда после службы подбегала целая толпа богомолок и подолгу атаковала просьбами помолиться о них и дать духовный совет. Его называли отцом Михаилом, просили благословения, и он благословлял, осеняя просивших крестным знамением, яко подобает священнику. Поговаривали, что он тайный архимандрит, но поверить в это было сложно. Ходил он опираясь на толстую суковатую палку, которая расщеплялась пополам и превращалась в складной стульчик. На этом стульчике он сидел во время службы и принимая народ Божий в ограде храмов. Я заметил, что священники, глядя на толпу, окружавшую его и Николку, досадовали. Иногда их выпроваживали за ограду, но иногда приглашали на трапезу.
Во время бесед отца Михаила с народом Николке подавали милостыню. Принимая бумажную денежку, он медленно кивал головой и равнодушно раскачивался; получая же копеечку, истово крестился, запрокинув голову вверх, а потом падал лицом на землю и что-то долго шептал, выпрашивая у Господа сугубой милости для одарившей его «вдовицы за ее две лепты».
В Петербурге их забирала к себе на ночлег одна экзальтированная женщина. Она ходила в черном одеянии, но монахиней не была. Говорят, что она сейчас постриглась и живет за границей. Мне очень хотелось как-нибудь попасть к ней в гости и пообщаться с отцом Михаилом и Пиколкой поосновательнее. Все наши беседы были недолгими, и ни о чем, кроме паломнических маршрутов и каких-то малозначимых событий, мы не говорили. Но напроситься к даме, приватизировавшей Михаила и Николку, я так и не решился. Она очень бурно отбивала их от почитательниц, громко объявляла, что «ждет машина, и отец Михаил устал». Услыхав про машину, отец Михаил бодро устремлялся, переваливаясь с боку на бок, за своей спасительницей, энергично помогая себе своим складным стульчиком. Вдогонку ему неслось со всех сторон: «Отец Михаил, помолитесь обо мне!» — «Ладно, помолюсь. О всех молюсь. Будьте здоровы и мое почтение», — отвечал он, нахлобучивая на голову высокий цилиндр. Не знаю, где он раздобыл это картонное изделие: либо у какого-нибудь театрального бутафора, или же сделал сам.
Картина прохода Михаила с Николкой под предводительством энергичной дамы сквозь строй богомолок была довольно комичной. Представьте: Николка со своим колтуном, в пальто до пят и карлик в жилетке, с цилиндром на голове, окруженные морем «белых платочков». Бабульки семенят, обгоняя друг друга. Вся эта огромная масса, колыхаясь и разбиваясь на несколько потоков, движется на фоне Троицкого собора, церквей и высоких лаврских стен по мосту через Монастырку, оттесняя и расталкивая опешивших иностранных туристов. Те, очевидно, полагали, что происходят съемки фильма-фантасмагории, в котором герои из XVIII века оказались в центре современного европейского города.
Самая замечательная встреча с отцом Михаилом произошла в 1990 году. На Успение я пошел в Никольский храм и увидел его в левом приделе. Он сидел на своем неизменном стульчике. Николки с ним не было.
— Александр, чего я тебя этим летом нигде не встретил? — спросил он, глядя на меня снизу вверх хитро и задорно.
— Да я нынче сподобился в Париже побывать.
— В Париже? Да чего ты там забыл? Там что, православные церкви есть?
— Есть. И немало. Даже монастыри есть. И русские, и греческие.
— Да ну!.. И чего, тебе наших мало?
— Да я не по монастырям ездил, а взял интервью у великого князя.
— Какого такого князя?
— Владимира Кирилловича, сына Кирилла Владимировича — Российского императора в изгнании.
— Ух ты. Не слыхал про таких. И чего они там императорствуют?
Я стал объяснять ему тонкости закона о престолонаследовании и попросил его молиться о восстановлении в России монархии. И вдруг Михаил ударил себя по коленкам обеими руками и закатился громким смехом. Я никогда не видел его смеющимся. Смеялся он, что называется, навзрыд, всхлипывая и вытирая глаза тыльной стороной ладоней.
Я был смущен и даже напуган:
— Что с вами? Что смешного в том, чтобы в России был царь?
— Ну, ты даешь. Царь. Ишь ты. Ну, насмешил. Царь! — продолжал он смеяться, сокрушенно качая головой.
— Да что ж в этом смешного?
— Да над кем царствовать?! У нас же одни бандиты да осколки бандитов. И этого убьют.
* * *
Недавно я рассказал моему приятелю о том, что хочу написать о знакомых юродивых. Я описал ему Михаила и Николку.
— Да я их помню, — сказал он. — Они у нас несколько раз были. Ночевали при церкви.
Его отец был священником. Сам он ничего толком рассказать о них не мог, но обещал отвезти к своему отцу. К сожалению, и отец его не смог вспомнить какие-нибудь интересные детали.
— Да, бывали они в нашем храме. Но тогда много юродивых было. Сейчас что-то перевелись.
Любовь русских людей к юродивым понятна. Ко многим сторонам нашей жизни нельзя относиться без юродства. Вот только юродство Христа ради теперь большая редкость. Таких, как Николка и отец Михаил, нынче не встретишь. Многое изменилось в наших храмах. Прежнее большинство бедно одетых людей стало меньшинством. В столичных церквях появились сытые дяди в дорогих костюмах с супругами в собольих шубах. Вчерашние насельники коммунальных квартир вместе с некогда счастливыми обладателями номенклатурных спецпайков выходят из церкви, приветствуют «своих», перекидываются с ними несколькими фразами и гордо вышагивают к «мерседесам» последних моделей, чтобы укатить в свои многоэтажные загородные виллы…
Я не завидую разбогатевшим людям и желаю им дальнейшего процветания и спасения. Многие из них, вероятно, прекрасные люди и добрые христиане. Вот только когда я сталкиваюсь на паперти с чьими-то холодными стеклянными глазами, почему-то вспоминаю Николку с его кротким, застенчивым взглядом, словно просящим прощения за то, что он есть такой на белом свете, и за то, что ему очень за нас всех стыдно.
Где ты, Николка? Жив ли?
Грешницы
Олег Протасов окончил филологический факультет и довольно долго преподавал западную литературу в педагогическом институте одного из губернских городов. Он даже диссертацию написал по Стендалю и Золя. Защитился он с трудом: слишком критичны были его суждения о невысоком даровании Стендаля и о безнравственности, авантюризме и карьеризме его персонажей. Золя — напротив, был оценен им высоко как талантливый и глубокий писатель. Его статья о том, как Достоевский учился у Золя ведению фабулы, в свое время была замечена и широко обсуждалась в литературоведческих кругах. Некоторое время он серьезно занимался Достоевским. Эти занятия завершились тем, что в конце девяностых годов он оставил педагогическую карьеру и вместе с женой и двумя детьми перебрался в деревню. Ему стало тяжело часами рассказывать молодым людям о том, как легковесные похотливые шалопаи с берегов Сены соблазняли молоденьких девиц, умыкали чужих жен и с помощью обманутых мужей делали карьеру, предаваясь любовным утехам на фоне исторических катаклизмов.
Ему захотелось спокойной жизни в каком-нибудь провинциальном городке, где много храмов и домов с мезонинами, окруженных яблоневыми садами на тихих улочках, по которым ходят Алеши Карамазовы и тургеневские девушки. Сначала он поселился в Тамбовской губернии, потом в Рязанской — поближе к столице, где оставались его пожилые родители и теща с тестем. Яблоневые сады еще кое-где были, а вот с Алешами и Лизами Калитиными было сложнее. Провинциальная жизнь была бедной, унылой и такой же по сути, что и городская. И здесь без передыху трудился господин телевизор, выдавая рецепты пошлой и бессмысленной жизни. Чем беднее была весь, тем сильнее в ней был культ денег. Особенно в молодежной среде. Все уезжали в города, а оставшихся считали неудачниками.
Но для Олега были великим утешением жизнь при церкви и семейные радости. То ли оттого, что не с кем было полнокровно общаться, то ли оттого, что открылось в нем какое-то новое зрение, Олег по новой влюбился в свою жену. И это была не молодежная страсть, а полное ощущение того, что его Анастасия и он являют собой единую плоть. И единство это было таким, что он реально ощущал боль, когда ей было больно. Когда на него наваливалась грусть, он знал, что эта грусть перелилась из души его жены. И радовались они одновременно. Он любил свою Анастасию давно. И поженились они на втором курсе. И жили, что называется, «душа в душу». Но только здесь, в рязанском селе, Анастасия действительно стала его «второй половиной».
Они по совету друзей объехали несколько живописных мест и поселились в самом красивом, рядом с храмом семнадцатого века. Он устроился чтецом.
Она регентом. Анастасия окончила Гнесинское училище. У нее был замечательный грудной голос. Пела она спокойно, без всяческих вокальных «находок», постепенно вводя в обиход элементы знаменного распева. Поскольку оба батюшки храмов, в которых им пришлось служить, были большими любителями партеса, это было непросто. Из первого храма их за это уволили. Во втором Анастасия вела себя намного осторожнее. Здесь они задержались на целых два года. Пели они вдвоем с Олегом, так как клиросные бабушки ничего кроме обихода в собственной редакции не признавали.
За эти два года Олег заочно окончил семинарию и был рукоположен во священника. Послали его на дальний бедный приход. Но он не роптал. Московские друзья иногда устраивали ему требы. Он приезжал в Москву среди недели и несколько дней крестил на дому, причащал и соборовал больных. И жена не роптала. Ее родители были состоятельными людьми и не оставляли внуков «без куска хлеба». А когда подошла пора отдавать старшего в школу, забрали его в Москву. Так же поступили и со вторым и третьим. На четвертом остановились. И силы уже были не те, да и дети не те, что прежде. Хоть и поповская отрасль, а шалуны были первостатейные. Дед с бабушкой с ними справлялись с трудом. Матушка Анастасия вынуждена была сновать челноком между мужем и детьми. Роптать она не роптала, но через десять лет такой жизни надломилась. И хворать стала часто, и, чего с ней никогда прежде не было, унывать. Грустить иногда грустила, но унынию не предавалась. Прежде казалось все романтичным: красивые пейзажи, преодоление трудностей, ремонт храма, занятия с деревенскими ребятишками в воскресной школе.
Она даже обучила десяток девочек игре на пианино. Но ее вдруг сразило ощущение пребывания в пустоте. Не было подруг. Не было интеллигентных людей, культурной среды. С высшим образованием люди были, но с ними, оказалось, еще труднее, чем с простыми церковными бабушками. Все-то они недоговаривали и подозревали, что у попадьи совсем не то на уме, что им кажется. Не с кем было поговорить по душам. На двух приходах, где они прослужили, находились любители эпистолярного творчества: доносы архиерею писали с поразительной частотой. Ее обвиняли в «неправославии и тайном исповедовании католической веры». А все оттого, что из священнического дома по вечерам доносились звуки фисгармонии — чуждой для местного уха музыкальной штуковины.
Однажды приехал с инспекцией секретарь епархии — игумен Мардарий. Послушал, как замечательно исполняет матушка опусы Баха, и, потрясенный, даже всплакнул. Не мог удержаться. Слеза невольно прошибла, когда горница наполнилась трагическими низкими звуками. Потом Мардарий отведал матушкиной стряпни, испил три рюмки вишневой наливки батюшкиного изготовления и, получив на дорожку огромную кулебяку, покинул обитель инспектируемого служителя алтаря. Кулебяку он растянул на целую неделю — уж очень была вкусна. А архиерею доложил: «Приход копеечный, а живут широко. Книг от пола до потолка. А две книги, про французских писателей, сам батька написал. Шибко культурные для деревни. Католики не католики, а все же с душком. С чего бы ей Баха на фисгармонии играть? Да еще Петровским постом! Перепортят они своей фисгармонией православных».
— Надо подумать, — произнес уставший от доносов архиерей и решил, что таким культурным людям надо жить в культурном месте. Но поскольку ни в губернском граде, ни в районных центрах не нашлось свободного места, о «шибко культурной» чете на время забыли.
Вспомнили, когда церковь, в которой служил отец Олег, ограбили и подожгли. С огнем справились, а вот три большие храмовые иконы восемнадцатого века пропали. Иконостас уцелел. Грабили, конечно, по наводке. Знающие люди. Взяли самое ценное. Скандал был немалый. А кто виноват? Кто недоглядел? Настоятель. Надо не на фисгармониях играть, а сигнализацию провести! А убрать его за штат за такое нерадение!
И убрали.
А матушка тем временем пятого родила. Приехали они в Москву. Анастасия к своим родителям, он — к своим. Как дальше жить? Просить нового места пока нельзя. Прещение нешуточное. И вину за собой чувствовал. Обратно в педагоги? Нет! Священнику Бога Живаго обратного пути нет. Да и какой там Стендаль после псалмов Давидовых! Какие там лекции с разбором фабул французских романов! Какие там словеса и описание страстей мятущихся молодых душ, жаждущих богатства и славы, после того, как он произносил у престола слова Евхаристического канона!
Душа его изнывала от невозможности служить. Он готов был снова в деревню. Самую глухую. Даже о жене он стал думать как-то вскользь. И это после стольких лет благодатного единения. Он ругал себя за невольное охлаждение к жене. Но и она испытывала нечто подобное. Значит, они по-прежнему едина плоть. Вот только души наполнились не любовным чувством, а пугающим беспокойством. Ожиданием чего-то плохого. Душа отца Олега была в смятении. Она жаждала одного — служить! Служить! Литургисать! Петь Богу дондеже жив!
Его университетские друзья, узнав о его положении, снова устроили ему требы. Все решили освятить свои жилища. У многих оказались больные родственники, которые не могли сами добраться до церкви. Он ездил из конца в конец Москвы. Но все же это было не то.
И вдруг он встретил отца Михаила. С этим священником они будучи заочниками сдавали экзамены в одном потоке. Тому удалось найти место третьего священника в Подмосковье. А храм, где он служил, остался без батюшки. Он сам предложил похлопотать за отца Олега, и уже через три недели отец Олег был настоятелем Преображенского храма в селе Сосногорском. Шел Великий пост. Крестопоклонная неделя. Первый же день в новой должности начался с искушения. Село было некогда большим. Даже водопровод был и канализация для нескольких каменных домов, стоявших в центре. В общественных зданиях теперь приезжие с югов граждане открыли магазины. Перед одним из таких магазинов отец Олег и споткнулся о пламенное выражение народного благочестия. Две рабы Божии истово крестились и падали, ударяясь лбами о кресты, украшавшие чугунные люки местной канализации.
Отец Олег увидел в окне смеющихся хозяев торговой точки и подошел к женщинам. Он взял их под руки и тихо шепнул: «Я ваш новый священник. Хочу вас благословить». Те подставили ему под благословение ладошки и стали радостно выражать благодарность за «милость Божию».
— Вот мы вас, батюшка, и вымолили. С Рождества, батюшка, храм на замке. Какое счастье! Да Великим постом!
Радость их была искренняя. Отец Олег улыбнулся.
— Вот как мне повезло. Вы — первые жительницы Сосногорского, с которыми я знакомлюсь. Я отец Олег. А вас как величать?
— Я Антонина, а это Агриппина Степановна. Она наша староста. Бухгалтер на пенсии, — отрапортовала та, что была помоложе, и тут же буркнула соседке: — А ты еще не хотела идти крестам кланяться!
— Замечательно. Первая, с кем познакомился, — староста храма. Видно, Господь вас послал.
— Никто, как Господь, — продолжала Антонина. — И нам особая милость. Первыми батюшку встретили.
Отец Олег снова улыбнулся:
— Так это оттого, что храм закрыт, вы у канализационного люка молитесь?
Молитвенницы посмотрели на него с ужасом.
— Как же вы, батюшка, так шутите! Мы честному кресту поклоняемся, — со страхом произнесла староста. Антонина сердито насупилась и стала смотреть на отца Олега с подозрением.
— Да какой же честный крест на канализационном люке. Какому православному человеку придет в голову изображать святой крест на нечистом месте?!
— Ой, батюшка, мы не о нечистом месте думаем, а видим орудие страданий Господа нашего.
— Ну ладно. Пойдемте отсюда. Я вижу, вы большие богословы. Поговорим в другом месте. Видите, над вами смеются.
Женщины посмотрели на окно витрины.
— Нехристи. Оттого и смеются, — пробурчала Антонина.
Агриппина Степановна предложила проводить батюшку до церковного дома. Ключ у нее был с собой, и они зашагали в сторону церкви.
По дороге отец Олег долго извинялся. Он постарался как можно проще объяснить, что не нужно во всех скрещениях двух линий видеть орудие Господних страданий. А даже если увидите то, что напоминает вам о кресте, перекреститесь, скажите про себя «Господи, помилуй» и продолжайте путь, не падая и не делая ни земных поклонов, ни поясных. А если очень хочется в такой момент помолиться — идите в церковь. Или домой. Как сказано: «Войди в комнату твою, затвори дверь и помолись втайне». Не надо молитву выставлять напоказ. Не будьте как фарисеи, которые любят себя показывать молящимися.
Женщины были смущены. Несколько минут они шли молча.
Потом Агриппина Степановна вздохнула: «Батюшка, это мы не сами придумали. Это была у нас старица, Царство ей Небесное, так это она говорила, что на Крестопоклонной нужно перед всяким крестом падать». — «Ну вот и выяснилось. Это ведь вы не из Евангелия узнали, не священник вас этому научил. Будем считать, что это частное мнение очень хорошей христианки. Возможно, она и вправду ни о чем земном не думала. И все 24 часа в сутки помышляла только о небесном. И во всем видела призыв к молитве. А вам, пока вы не достигли меры ее святости, лучше этого не делать».
Агриппина Степановна хихикнула: «Простите нас». Антонина посмотрела на нее сердито.
— Бог простит.
Следующее искушение было посерьезнее. Пока Анастасия собиралась к мужу, на службах пели четыре прихожанки. Одна из них — Валентина, крепкая старушка со следами былой красоты, — читала Шестопсалмие и Апостол. А вместе с Агриппиной Степановной и каноны, и паремии.
Голоса у певчих были слабые. Пока просто говорили — ничего. А как начинали петь — беда. Начиналось такое жалобное дребезжание, что казалось, еще минута — и всех четверых придется отпевать. С появлением Анастасии все решительно изменилось. Она стала петь одна. Или с отцом Олегом.
Отец Олег служил вдохновенно. У него был поставленный баритон. И когда он произносил ектеньи, чуткому сердцу казалось, что после очередного прошения Сам Господь ответит ему и исполнит просимое. А когда пели вместе с матушкой, то, по словам Агриппины Степановны, душа улетала прямо на небо. Но не все были в восторге от красивого пения. Валентина вместе с одной из уволенных певчих затаили нешуточную обиду. Особенно на матушку. Они стали писать письма в епархию. Одно из этих писем каким-то образом не было отправлено. Оно оказалось в одной стопке вместе с поминальными записками. Отец Олег стал читать его и загрустил. Та же история. И служат-то они не по-православному, а, как было написано, «кукарекают вдвоем, а хор изгнали из храма». Он вернул письмо свечнице и решил писательниц публично не обличать. Стал ждать гостей из епархиального управления.
А тем временем слух о необыкновенном пении батюшки и матушки привлек целую дюжину новых прихожан. Среди них было несколько энергичных мужчин среднего возраста (оба прошли через «горячие точки»), С их помощью начала налаживаться приходская и хозяйственная жизнь. И село незаметно преобразилось. Появилось несколько фермеров. Они привели в церковь своих детей. После службы начались занятия в воскресной школе. В одно из воскресений батюшка обвенчал сразу три пары. Это были мужья и жены, прожившие в светском браке много лет. У одних уже и внуки были. За ними потянулись и молодые. Матушка привезла на лето всех детей. До этого они жили с двумя младшими. Установились неплохие отношения с поселковым начальством. Отцу Олегу по многочадию выделили две двухкомнатные квартиры в доме в расформированном военном городке. Теперь они жили не в избе с тонкой перегородкой от печки до окна, а в четырех комнатах с двумя ванными и двумя кухнями.
Жизнь, как говорится, налаживалась. Но какого-то просвета в духовном состоянии большинства своих пасомых отец Олег не видел. Старушки были неискренни. Они ластились к нему, воевали друг с другом за право быть самыми приближенными. Ябедничали, норовили рассказать друг о дружке всякое непотребство. Он это решительно пресекал, а доносчицы за это на него обижались. Рассказывать о чужих неприглядных делах народ любил, а о своих — никоим образом. И исповеди были, как правило, не раскаянием в собственных грехах, а жалобами на соседок. За всю свою священническую практику отец Олег ни разу не был свидетелем искреннего покаяния. Было что угодно: истерический плач, но не о грехах, а от очередной обиды, формальное перечисление соделанного, заявления о том, что «грешна во всем» или «да какие у меня, батюшка, по моему возрасту грехи?» Иногда признавались и в страшных грехах, но с холодным сердцем и без признаков сердечного сокрушения.
Он не знал, как растопить сердца, что нужно сделать, чтобы они открылись, ужаснулись, увидев свою жизнь с бесконечными изменами, пьянством, драками, абортами, воровством и тотальной ложью. Как и чем протереть замутненные глаза души, чтобы увидеть свои грехи и содрогнуться от понимания, в какой грязи прожита жизнь.
На одной из проповедей он слезно молил не утаивать своих грехов. Говорил о безмерной любви Божией: «Бог всех простит. Только покайтесь. Искренно покайтесь. Ничего не утаивая. Господь наглядно показал нам, до какой степени безмерно Его милосердие. Кто населяет рай? Раскаявшийся разбойник, распятый вместе с Господом. Бывшая блудница. Она даже не знала, куда плывет корабль. Только увидела, что на нем много мужчин, и прыгнула в него. Но потом каково было ее раскаяние! Семнадцать лет в пустыне без еды, без одежды, в холоде и невыносимом зное. И Господь простил ее. А апостол Петр, трижды предавший Его! А Павел — лютый зверь, гнавший христиан! А теперь он вместе с Петром — первоверховные апостолы. А царь Давид! Убийца и прелюбодей. Послал на смерть Урию Хеттеянина и завладел его женой. Но Господь не только простил его. Он не постеснялся Себя назвать Сыном Давидовым. А почему? А потому, что Давид не просто шепнул первосвященнику: “Грешен в убийстве и прелюбодеянии”, а каялся и плакал всю свою жизнь. И никто в мире за несколько тысяч лет не написал таких покаянных слов, как он в своих псалмах. Нет такого греха, который Господь не простил бы за искреннее покаяние. Не стесняйтесь. Не бойтесь».
Через несколько дней после этой проповеди к отцу Олегу приехал благочинный — архимандрит Афанасий.
— Вот, заехал к тебе познакомиться.
Он расспросил, как тот устроился. Осмотрел храм, побывал у него дома. Матушку и на сей раз не застали врасплох. И обед у нее был замечательный, и несколько произнесенных ею фраз перед тем, как оставить священников наедине, расположили к ней благочинного. Они остались с отцом Олегом в гостиной. Благочинный достал несколько конвертов, надел очки, молча просмотрел несколько листов.
— Вот сколько о твоих художествах написано. Ты действительно говорил, что рай придуман для воров и проституток? — спросил он тихо, не поднимая глаз.
Отец Олег слово в слово пересказал свою проповедь. Благочинный вздохнул и продолжил перебирать листы.
— А что это ты про самоубийц говорил? Почему они испытывают удовольствие?
— Да это я говорил о необходимости соблюдения заповедей. И то, что Господь не наказывает сразу, лишь свидетельство Его долготерпения и любви. Господь один раз не наказал за наше преступление, другой. Нам кажется, что так всегда и будет.
Нет, не будет. Все равно закончится наказанием. Если не в этой жизни, то в будущей. И привел метафору: прыгнул человек в пропасть (а ему говорили: не прыгай, разобьешься). А он летит и даже удовольствие получает от ощущения свободы в этом полете. И думает: вот оно, как сладостно. А меня отговаривали.
Отец Афанасий покачал головой и снова вздохнул.
— А про несправедливость Бога?
— Я сказал, что Бог — это любовь. Если бы Бог был справедлив, то нас давно бы не было на этом свете с такими грехами…
— Ты вот что. Говори проще. Без метафор. Без притч. А то нас толкованием твоих притч завалят по горло.
Отец Олег пообещал. Они поговорили о том, как трудно привести в чувство оторванный от духовных корней народ. Целое столетие продержать в богоборческом помрачении… А теперь слово с амвона скажешь — и нет уверенности, что поймут, не извратят и не напишут «телегу» начальству.
Очень трудно расшевелить народ.
— Не каются они, ваше высокопреподобие. Одно формальное перечисление грехов. Я перечислю грехи, а они за мной и повторят.
— Да знаю, что не каются. Меня этим не удивишь. Сорок лет служу.
— А что же делать?
— Терпи и служи. И разберись, кто это у тебя доносами занимается, и сделай так, чтобы она не досаждала архиерею. Одной рукой написано. А то я с нее для начала возьму две тысячи за такси. Будет знать.
— Хорошая идея. Давайте пригласим ее.
— Нет, ты уж сам давай. Я никаких разбирательств устраивать не стану. Вижу тебя. И верю, что ты иерей правильный.
Он немного помолчал, а потом, прищурившись, спросил:
— А с тех мест за что тебя шуганули? Про пожар и кражу знаю, а с первого прихода за что тебя из чтецов, а матушку из регентов?
— Да мы стали знаменный распев вводить.
— Чудак. Это в селе? Хоть бы обиход нормально пели… Да и в городах мало кто знаменный-то уважает. Я знаменное пение люблю, но его по современной жизни не привить. У людей души на иной лад настроены. Отовсюду грохот да скрежет адский. Да уголовные песенки либо что-нибудь про любовь, да понеприличнее и пострастнее… Нет. Как сказал один питерский старец, чтобы знаменно петь, нужно знаменно жить.
Благочинный немного помолчал, рассматривая библиотеку.
— А фисгармония твоя знаменитая где?
— Вы и про фисгармонию знаете!
Отец архимандрит усмехнулся.
— Так, показывай. Может, матушка и сыграет для гостя.
— Да мы ее еще не перевезли.
— Так перевози поскорей. Я тебе и «газельку» грузовую дам. Я фисгармонию люблю. Да не сподобился достать. Играю на пианино. Так что вези и зови в гости. Мы с твоей матушкой в четыре руки поиграем.
Отец Олег удивился и был рад такому повороту. Благочинный смотрел на него весело.
— А больше никаких преступлений не совершил?
— Нет. Это все. Правда, может быть, мы кому-то не нравимся как люди.
— Это ладно. Мне вы как люди понравились. А насчет того, чтобы народ каялся, — погоди. Ты тут без году неделя. Если не сбежишь в Москву, то, даст Бог, со временем и растопишь лед. А я тебе на прощание на твою метафору свою расскажу.
— Расскажите.
— Солнце к закату склонилось и разволновалось: кто же без него светить во мраке будет? Спрашивает, а все молчат. Долго спрашивало солнце. Все молчат, и только маленькая лампадка под иконой тихо ответила: «Постараюсь, как смогу». Вот и ты старайся. Свети помаленьку. Только не угасай. И не скорби попусту. И не возносись. Ты ведь не солнце. Вот и свети в меру лампадки. И помни, что народ у тебя простой. Так что давай без метафор. Будь проще.
Визит благочинного не только успокоил отца Олега, а даже окрылил. Он решил вообще не обличать Валентину, а подождать, когда она сама поймет, что доносы — не лучшее дело. Они с матушкой обидели ее тем, что распустили хор. Надо бы ей какой-нибудь чин придумать. Какое-нибудь заметное дело. А пока ничего не придумал, то на ближайшей литургии объявил о том, что назначает Валентину заместителем старосты. Удивлению Валентины не было предела. После службы староста пыталась выяснить, в чем будут заключаться обязанности ее заместительницы. Батюшка ответил неопределенно и без особых раздумий сказал, что дел на приходе скоро будет много, а первое, что он поручает Валентине, — организовать паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Вернее, записать желающих. О деталях обещал поговорить с ней на неделе. Он вышел из храма, а староста с Валентиной и Антониной остались в храме на уборку.
Батюшка уже подъезжал на своем «жигуленке» к магазину, где его ждала матушка, ушедшая из храма раньше его, и вдруг вспомнил, что забыл в алтаре телефон. Вот незадача! Пришлось вернуться.
Валентина с Антониной стояли перегнувшись через барьер, за которым сидела Агриппина Степановна, и с жаром что-то обсуждали. Отца Олега они не заметили, и он тихонько вошел в алтарь через дьяконские двери. Телефон лежал на подоконнике. Батюшка взял его и повернулся, чтобы выйти, но неожиданно услышал нечто, что заставило его задержаться. Антонина гневно выговаривала Валентине: «Ты думаешь, люди тебе спасибо скажут за твои письма?!»
— Да ладно тебе, — огрызнулась та. — Чего удумала. Какие письма?
— А такие. Верка-то все сказывала. Как ты митрополиту жалобы на нашего батюшку пишешь. И ее пристегнула сочинять.
— А что, не правда? Я правду пишу. Он тут всяко мелет. Его и понять нельзя. Отец Михаил молебен отслужит — и домой. А этот разводит тут турусы. И к чему призывает, не понять.
— А чего понимать. Он говорит, каяться надо. А мы не каемся. Клуб себе придумали. Ходят кому не лень. Может, и в Бога не веруют, а ходят.
— Да откуда ты знаешь, кто верует, а кто нет. Сама-то ты в кого веруешь?
— Я-то в Господа нашего верую. А Господь сказал, надо каяться. Вот ты, Валь, и покайся батюшке, что кляузы пишешь.
— Вот еще. Чего удумала.
— Так зачем ты тогда в церковь ходишь! Батюшке гадишь и каяться не хочешь.
— То мое дело.
— Да не твое, а наше. Мы, как батюшка говорит, одно тело. Мы один организм духовный. И если ты в этот организм дерьма наклала, то мы его и вытряхнем. Если не покаешься.
— Ты погоди грозить. А то я тебе такого устрою! Сама-то больно каешься?
— Я-то каюсь. А у меня и таких заслуг перед бесом нет, как у тебя. Ты мужиков-то полрайона пропустила.
— А твое какое дело? Я в том покаялась.
— А как каялась? Поди, сказала: «Грешна по блудной части» — и все.
— А тебе-то что?..
— Так какое с того покаяние.
— Да такое…
— А ты пальцы загибала?
— Какие пальцы? — А вот с тем-то да тем-то… Главного агронома бы помянула.
— Да молчи ты…
— Да у ней пальцов-то не хватит ни на руках, ни на ногах, — засмеялась староста.
— Вы сами-то хороши. У тебя, Степановна, тоже Кузьмич был после смерти мужа.
— А я молчу. Да и созналась в том.
— Чо созналась. Антонина вон с батюшкой слезу требуют. Ты поплакала-то?
— А чего плакать. Кузьмич мужик-то справный был. Непьющий. Не обидел ни разу. Я его тоже.
— А все ж блуд, — вздохнула Антонина.
— Блуд-то, он разный, — оправдывалась Степановна. — Сошлась с хорошим человеком. Он вдовец. Я вдова. С ним жила честно. Я, по правде, и не знаю, как тут каяться. Свадьбу что ль надо было с гармошкой аль под венец! Нам же уж по шестьдесят было. Я долго отказывалась. Перед внуками срам. А он: одиноко мне, хоть в петлю лезь. Так что тут как поглядеть. Один скажет: душу погубила в грехе, другой: человека от петли спасла.
— Ну, уж от петли.
— Форменно от петли. Тоскливо жил. Хотел удавиться. Так что не знаю, какое покаяние мне батюшке принести. Рассказать все — так он сам говорит: мне не истории нужны, а сердца ваши. А сердце мое теперь по двум моим мужикам тоскует. И молюсь я за них. А что не венчано прожила, так то Господь разберет. А и где венчаться-то было? В клубе, что ль? Может, соберусь да слезно и покаюсь. Рюмочку для слезы и для храбрости пропущу — и на исповедь.
С минуту помолчали. Отец Олег хотел выйти, но тут Валентина сердито набросилась на Антонину:
— А что ты вообще понимаешь?! Каяться. Тебе хорошо. У тебя ни кожи, ни рожи. И смолоду страшная была. А меня парни чуть не с пеленок зазывали. На тебя бы столько внимания, так еще бы поглядели, какая ты святоша. Мужики к тебе не лезли — на тебе и греха нет. А ко мне лезли. Думаешь, легко по молодости удержаться? Так я и слова такого не знала — «грех».
Жила, как все жили. А кто у нас себя грешницами считал? Кто? Хоть одну бабу назови.
— Моя мать, — тихо вздохнула Антонина.
— Она-то что? Она и не у нас в селе жила. Мы о ней ничего не знаем.
— Она, покойница. Царство ей Небесное… До самой смерти чемодан с кирпичами носила.
— Какой еще чемодан?
Антонина всхлипнула, утерла нос передником.
— За грех убийства. Братик у меня был Яшенька. Кроткий, славный. Божие дите. А мальчишки все дразнили и колотили его за то, что он в их проказах не участвовал. Трусом обзывали. Они, как яблоки поспевать начнут, чисто грачи на деревьях сидят.
— Понятное дело. Я и сама по чужим садам лазала, — перебила ее Валентина. — И стекла в школе били, и сарай подожгли вредной Акулине, и белье могли с веревок сорвать да в грязь. Корову у Коркина хвостом к хвосту лошади привязали. Да чего там… проказа на проказе. Хулиганье сплошное. А Яшенька все с мамкой сидел. Вот они его однажды поймали и говорят: «Иди у Кисляковой огурцы сорви». Мешок дали. «А не нарвешь — мы тебе уши оборвем да накостыляем. Иди, не трусь». Яшенька и пополз по огороду, чтобы не быть трусом. А Петровна-то Кислякова у окна сидит. Видит Яшеньку-то. Он только огурец сорвал, а она уже бежит с кочергой. Ну, он деру. А она орет на всю деревню: «Ворюга проклятый!» А он-то, бедный… Ему и огурцы-то даром не нужны. Своих полно. Он-то битья мальчишек испугался. Во двор забег, а мамка-то наша выскочила из избы. Что за гром с соседского огорода? А Петровна ей и орет: «Тихоня-то твой вор поносный. Огурцы мои скрал». А маменька-то, Царство ей Небесное, схватила лучину от дранки. Изба-то дранкой крыта. Шиферов-то не было. Да этой лучиной и шлепнула его по голове. А в лучине-то гвоздь ржавый. Да как раз в ямочку, что в голове. В темечко. Яшенька упал, ножками задрыгал и затих.
— И что,убила?
Антонина опять всхлипнула и кивнула.
— Насмерть убила?
— Убила мать сыночка. Братика моего кроткого… За огурец. Свою надежу. Нас-то девок пятеро и один брат. Что там было… И суд был. Говорят, вот времена суровые были. Суровые. И жили впроголодь. Никаких «дошираков» в лавках не продавали, чтоб за три минуты суп был. Жидким щам рады были до смерти. Траву для коровушки по канавам серпом резали. Я режу, а Валюшка четырех годов на страже стоит. Чтоб никто не увидел. А поймают — отберут. И позор. И посадят. А все равно резали. Куда денешься. Корова — не наш брат, чтоб уговорить не есть вовсе… Да вы помните.
— Чего не помнить. У меня самой мать на три года посадили за траву — колхозное добро, — поддакнула Валентина. — Ну, дальше-то что? Не тяни.
— Так вот, со всем своим суровством, судья мать-то отпустил, да еще и тайно ей потом денег сунул на похороны. А мальчишек-то, что подбили Яшеньку, наказал. Самых заводил главных в колонию для малолеток. А маменька… Суд человеческий одно. А она сама себя крепко осудила. Ела потом по куску хлеба в день да водицы кружечку. И так целый год. В чем только душа держалась. Работы-то с пятерыми! Мы, конечно, помогали. А все одно — только поворачивайся. И в колхозе, и дома. А потом свалилась она. Язва пошла — чуть не померла. Истощение — довела себя. Определили ей инвалидность. Так вот тогда она и придумала себе чемодан. Нагрузила камнями и повсюду с ним. Это с язвой-то. А еще придумала себе тайные подвиги: по ночам общественные работы делала. Мосту нас провалился. Так она и починила. Откуда силы! Да как она бревна-то достала. Явно из леса. Ведь и посадить могли. Это потом мы узнали: ей Сашка-дурачок помогал. У него силища была аховая. Когда электричество тянули, мужики столбы носили. Один столб вшестером. А Сашка взваливал на плечо столб да версту без передыху один нес. Он и помогал. Она и вдовам втайне помочь творила. Иной раз по неделе дома не было — все чего-то людям делала. Еще спала в поле. Прямо на земле. А дома — не знаю, спала ли. Всю ночь лампада горела да головой об пол бухалась. Да плач слышен: «Господи, прости окаянную!»
Так она по Яшеньке убивалась. А потом успокоилась маленько. Мы уже подросли, по дому все сами делали, а Людмила — старшая — уже и работать пошла.
Задумала маменька до Киева дойти. Ногами своими. Попрощалась с нами…
— Это с кирпичами?
— Нет, чемодан на сей раз оставила. Попрощалась с нами, благословила и ушла. Целый год мы ее не видели. Вернулась. Говорит, видела Яшеньку в светлых одеждах. Сидит у ног Матери Божией и веночек из цветов плетет. А цветы эти красоты — не рассказать. А простил ли меня Господь, не знаю. А Яшеньку принял в Свои светлые обители. Это ей киевские угодники показали. Там в пещерах у нее видение было. Месяц за бродяжничество в тюрьме отсидела. Били несколько раз крепко… Может, и простил ее Господь. Про свое богомолье нам не сказывала. Да мы бы и не поняли. Мы-то, дурехи, думали, что маменька наша с горя-то с ума сошла. И народ-то ей хоть и сочувствовал, но все чокнутой прозывали. Мы чемодан ейный в печке сожгли. А кирпичи на дворе горкой сложили. Так она другой себе из фанерок сотворила. Наложила кирпичей и снова с ним заходила. Так с ним в руках и рухнула. Язва открылась. До больницы двадцать верст. Пока довезли, она и померла. Царство ей Небесное!
Все перекрестились и затихли. Долго стояла тишина. Потом староста Агриппина Степановна подошла и поцеловала Антонину в щеку. Прижала к себе и всплакнула:
— Какая жизнь… Как мы, бабоньки, жили. А матушка твоя… Мы и не знали.
— Дак она тогда не в нашем районе жила, — стала опять перечить Валентина.
— Надо бы нам, сестры, подумать. Каяться не умеем, так что-то хорошее надо делать, — продолжала староста. — Вон у Марины Берестовой дети оборванцы. Неужто не найдем, чем им срам прикрыть.
— Дак Маринка пьяница, — фыркнула Валентина.
— А дети-то при чем? Я вот пойду, соберу одежду для них.
— Да мало ли народа бедствует. Давайте и к Ольге Дувахиной заходить. Ведь болеет давно.
— Дак она ж ведьма. И не скрывает. К ней пойдешь — она такого тебе нацепляет, — опять возмутилась Валентина.
— Нет, бабоньки, чтоб церковь наша действительно была не клубом, а Домом Божиим, давайте делать добрые дела, — сказала Антонина.
— А у нас денег — дай Бог до пенсии дотянуть, — опять огрызнулась Валентина.
— Да чего ты-то нудишь. Много ли нам, старухам, надо. Овощ свой. Одну-другую консерву купила — и хватит, — отмахнулась Степановна.
— А мясца купить? — не успокаивалась Валентина.
— По нашим годам уже давно пора от мяса отказаться.
— А хотца порой.
— Хотца — перехотца. Вот и сотвори малый подвиг. Перетерпи. А денюжку на бедных. Да и не полезно мясо-то.
— Да что вы про мясо-то, — перебила их Антонина. — У нас батюшка копейки получает. А у него пятеро. В Москву ездит на требы. А шутка ли мотаться. Без семьи и дорога денег стоит. Давайте ему больше помогать.
— Дак помогаем. Я вон всегда на канун то картошки, то моркошки.
— Моркошки. Надо чего-то посущественней. Давайте думать. Вон у Романовны сын в Питере большой начальник по строительству. Надо уговорить ее настроить сына, чтоб он десятину на наш храм да на батюшку высылал.
— Дак десятина-то, поди, миллионом запахнет.
— Да хоть триллионом. Он, стервец, первым хулиганом был. А родина ему бесплатно образование дала. Выучился на народные деньги. Пусть совесть имеет, — выпалила Валентина.
Тут уж отец Олег не выдержал и вышел из алтаря. Все ахнули.
— Батюшка, вы ведь ушодцы. Когда ж вы вернулись?
— Ушодцы, да пришодцы, — улыбнулся отец Олег. — Вы так склонились над Агриппиной Степановной и увлеклись, что не заметили меня. А я вдоль стеночки да в алтарь.
— Так вы все слышали?
— Каюсь, слышал.
— Стыд-то какой. Мы ведь про блуд наш сказывали.
— Про это мимо ушей пролетело. А вот про мать да чемодан с кирпичами слушал затаив дыхание. Очень меня эта история тронула. А насчет ведьмы — не спешите судить. Может, это наговоры.
— Да какие, батюшка, наговоры. К ней вся губерния ездит. Заговоры-приговоры. Колдует она. И помереть не может. Ей уж давно за 80.
— Какие 80. Ей уж 90.
— И все-таки… Где она живет? Надо зайти. Может, покается.
Степановна принялась объяснять, как найти избу Дувахиной. А Валентина с Антониной стали шептаться: «Вот срам-то. Слыхал все!»
— Да не слыхал. Сам же сказал. Да и неинтересно про блуд устаревших бабок слушать.
Повздыхали. Отец Олег повернулся к Антонине: «Как звали вашу матушку?»
— Феклой.
— Редкое нынче имя. Будем молиться о Фекле. И вашем братце Яшеньке.
Антонина ухватила батюшкину руку и крепко поцеловала ее.
— Спаси вас Господи, батюшка.
Отец Олег помолчал немного.
— Да, рассказали вы историю. У Стендаля и Золя такое не найдешь.
Он попрощался. Благословил своих прихожанок. Сегодня он делал это с большим чувством: медленно, задерживая на несколько секунд пальцы у лбов, покорно склонившихся перед ним. И как никогда прежде почувствовал сильное сострадание и любовь к этим бедным женщинам. Какая великая милость дарована ему Господом. Утешать эти переполненные горем души, наполнять их надеждой на прощение.
Он остановился на площадке перед храмом, недавно застеленной бетонными плитами — остатками стен разоренной птицефермы. Справа под древними соснами виднелись могилы с пирамидками, наверху которых торчали серые, некогда красные звезды. Были и могилы с крестами: деревянными и металлическими, сваренными из водопроводных труб. Перед центральной аллеей еще недавно возвышался памятник герою Отечественной войны, уроженцу села Сосногорского. Теперь он словно уменьшился в размерах и был загорожен махиной из черного мрамора — плитой с изображенным во всю ее высоту конем. Конь словно выбежал из черных дымчатых далей и замер под портретом известного на всю округу цыганского барона.
Отец Олег перекрестился на храм и пошел по тропинке к своим стареньким «жигулям».
А в храме три подруги говорили о том, что с батюшкой им все же повезло. Какой он умный и сердечный. И теперь они будут ему усердно помогать.
Валентина сделала земной поклон перед распятием, выпрямилась и вдруг грузно упала, рыдая в голос. Утешали ее долго. А потом и сами разревелись. Валентина успокоилась первой.
Она сняла платок, утерла им слезы.
— Ну, Тонька, собака не кусаная. Довела!
Потом громко шмыгнула носом и удивленно произнесла:
— А чего это он в конце сказал про золу? Где он ее увидел? Все в храме чисто. Да и печку уж два месяца не топили.
Иван и vanitas
В последнее время я часто вспоминаю о нем. Мы познакомились в Тбилиси у нашего общего друга-художника в конце семидесятых и довольно часто общались лет пятнадцать. Он приезжал ко мне в Петербург, я навещал его в Москве. О себе он рассказывал немного. Большую часть сведений о его жизни я получил от его матери. Особенно впечатлила меня история его ухода из института. Об этом он рассказал сам. Он учился в Тбилиси на художественном факультете и собирался стать профессиональным художником. Но в начале пятидесятых будущих Брюлловых и Шишкиных заставляли писать портреты сталеваров Руставского металлургического завода и лучших работниц чайной фабрики из города Самтредиа. Студентов посылали и в другие места, но Рустави и Самтредиа стали для моего друга нарицательными именами. О том, что потрясло его в этих богоспасаемых городах, нетрудно догадаться. После их посещения ему пришла в голову странная идея. Он бросил институт, перебрался в Москву и устроился в металлургический цех огромного завода. Идея заключалась в том, чтобы, проработав на вредном производстве, рано уйти на пенсию и посвятить остаток жизни свободному творчеству. Его учитель — замечательный художник Василий Шухаев — просил оставить эту идею. Он видел в нем талант и говорил, что идеология и лживый пафос, которые не мог переносить мой друг, не помеха для настоящего живописца. Всегда можно написать два портрета одного и того же персонажа: один — парадный, идеологически выверенный, а другой — неподцензурный, отображающий истинный внутренний мир. Но мой друг был непреклонен. Странная затея для двадцатилетнего молодого человека: четверть века стиснув зубы толкать в чаду вагонетки с шихтой, чтобы потом ни от кого не зависеть и бродить с этюдником где пожелает душа. Он был честен, принципиален и невероятно упрям. Этой идее он остался верен и проработал на одном месте до вожделенной пенсии в пятьдесят лет.
Это был могучий, без трех сантиметров двухметровый человек с детскими печальными глазами. Его звали… Как его только не называли! Мать — Овиком, соседские дети — Вовиком, в институте с легкой руки одного приятеля — Вольдемаром, жена — Ваником. Мне он представился Иваном. Так я к нему и обращался. Он и по паспорту был Иваном. Но в свидетельстве о рождении записан Ованесом. Так его назвали в честь деда матери. А отец матери был русским офицером.
Мать Ивана — Сусанна Петровна — жила с ним в Москве. Он перевез ее к себе после того, как она перенесла инсульт. Она много рассказывала мне о своей невеселой жизни: о гибели родителей при попытке выбраться из Грузии, когда в нее вошли красные; об убийстве деда, о посадке ее мужа на «10 лет без права переписки» (что означало расстрел), о детстве Ивана. Ему, отпрыску репрессированных «врагов народа», крепко доставалось от сверстников. Но он был сильным и мог за себя постоять. За силу и смелость его уважали. И к двенадцати годам у него был непререкаемый авторитет даже среди парней намного его старше. Но он никогда не атаманствовал. Старался избегать дворовых драк и шумных игр. После школьных уроков брал этюдник и шел писать городские пейзажи или уезжал за город. Он с детства знал, что станет художником. И его уход из института и переезд в Москву для Сусанны Петровны были настоящей трагедией. Она так и не поняла, почему он это сделал.
Она была рада, что он перевез ее к себе. В Тбилиси никого из родных не осталось. Но в семье Ивана ей было невесело. Сын был добр и предупредителен, но разговаривал с ней редко. Невестка холодно здоровалась. На том их общение и заканчивалось. Внука она видела только когда кормила его. У него была своя, непонятная ей жизнь. Он в 15 лет мог прийти домой за полночь, а то и утром. Ни отец, ни мать из этого трагедии не делали. Несколько попыток поговорить сначала с внуком, а потом с сыном о ненормальности гулянок до утра были пресечены. Ей оставалось сидеть в своей светелке и готовить на всю семью. От ее вкусной стряпни никто не отказывался. Я был, пожалуй, единственным, кто мог часами слушать истории из ее жизни. Однажды она попросила меня рассказать о том, как мы познакомились с Иваном.
Она удивлялась тому, что у сына появился друг. Иван с детства был замкнут. Ни с кем не откровенничал, всегда держал дистанцию. Лишь один человек, тоже сын репрессированного, называл его своим другом. У него мы и познакомились.
Сусанна Петровна видела, как мы подолгу беседовали, как горячо Иван спорил со мной, словно его прорвало за полвека скрытной, молчаливой жизни. Она пыталась узнать у меня, как мне это удалось и чем я его так расположил. Но я и сам не мог этого понять.
Возможно, дело в том, что наше знакомство произошло в Тбилиси — городе его детства. И хотя он говорил, что ничего хорошего в его детстве и юности не было, я видел, как он был рад, что приехал на родину. Он менялся на глазах и через неделю из грустного молчаливого человека превратился чуть ли не в весельчака, свободно чувствовавшего себя в любой компании. Его радовали встречи с постаревшими однокурсниками, прогулки по улочкам, где он помнил каждый дом и кто в нем жил, споры об искусстве и политике, знакомство с работами молодых художников. Ничего подобного не было с ним за четверть века московской однообразной многотрудной жизни. Наверно, встречи со мной будили в нем воспоминания о тех тбилисских каникулах, когда он за день получал больше впечатлений, чем за все время своего столичного прозябания. Иначе трудно объяснить причину нашей дружбы. Он впервые раскрылся и мог со мной не залезать в свою скорлупу. Он получил опыт «вылезания из подполья». И время от времени вновь хотел его испытать. Мои приезды к нему давали эту возможность.
А мне он был интересен по многим причинам. Я никогда прежде не встречал людей такой твердости, силы и неколебимой принципиальности при мягкости и даже застенчивости. В нем сочетались полярные качества: щедрость с другими и предельная экономность с самим собой, умение твердо стоять на своем в принципиальных вещах и поразительная уступчивость в том, что он принципиальным не считал.
Кроме ухода из института на тяжелейшую работу, он еще не раз удивлял и огорчал мать. Когда можно было получить изрядную компенсацию за отца, он твердо сказал, что «не возьмет у этих негодяев ни копейки». И матери он не позволил этого сделать.
В Тбилиси Иван приехал вскоре после того, как перевез мать в Москву. Ему нужно было оформить обмен ее квартиры на комнату в столице.
Две недели он ходил по всяким конторам. Вечерами был свободен и навещал в мастерских своих бывших однокурсников. Далеко не все стали профессиональными художниками. Мы познакомились у профессионала. Ему не очень нравилось то, что он делал официально. Работы для души были намного интереснее. Он нам посоветовал посмотреть картины нескольких самоучек-авангардистов. Они в ту пору были в фаворе.
Во второй половине семидесятых атмосфера в Тбилиси была очень своеобразная. Все дышало жаждой плохо представляемой свободы. В мастерских и на квартирах художников собиралась самая разная публика. Помимо мастеров кисти за чашкой кофе или стаканом вина рядом с вами могли оказаться начинающие поэты, знаменитые актеры, антропософы, гадалки, племянник вора в законе, державшего под контролем полгорода, католический миссионер из братской Польши, подруги целительницы Джуны, утверждавшие, что превзошли ее по части нетрадиционного врачевания. Посидев у одного маэстро, половина публики перемещалась к другому, по пути зайдя к гадалке, варившей самый вкусный в городе кофе. Потом кто-нибудь из гостей мог шепнуть на ухо: «Приглашаю вас к Сержику». Сержик — это режиссер Параджанов. Приглашение к нему считалось дорогим угощением для заезжего служителя муз.
Ивану это угощение по вкусу не пришлось. Весь вечер Параджанов был возбужден. Распекал при гостях своего племянника. Показал малоприличные рисунки, сделанные в заключении, рассказал несколько лагерных историй, дал мне навынос два своих сценария. Узнав о том, что я интересуюсь древними обителями, рассказал о съемках фильма «Цвет граната» в монастырях Ахпат и Санаин и об одной Пасхе во время его отсидки в лагере на Западной Украине. Лагерь находился в бывшем монастыре. Утром после литургии народ крестным ходом подошел к высоким стенам монастыря и стал перекидывать через них яйца, куличи, паляницы и даже кур.
— Когда-нибудь сниму этот эпизод: летящие по небу яйца и вохровцы, отгоняющие зэков от падающих к их ногам пасхальных угощений.
Неожиданно Параджанов предложил мне в подарок серый фрак:
— Вот купил у соседки шкаф за 20 рублей, а в нем целый гардероб дореволюционных нарядов.
От фрака я отказался. Тогда Параджанов вытащил толстенную пачку купюр, ходивших во времена короткого периода независимости Грузии после развала Российской империи:
— Возьми сколько хочешь. Это тоже было в том шкафу.
Я не коллекционер, но одну веселенькую бумажку достоинством в 25 тысяч взял. Иван все время молчал и от сувениров отказался.
В тот же вечер мы оказались в гостях у чиновного друга одного художника. Пир был очень богатый. Икра трех сортов, жареный поросенок, огромный осетр, лежавший посреди стола, отменные вина домашнего изготовления…
Иван был представлен художником из Москвы, а я — литератором из Питера. Справа от меня сидел хмурый человек. Ел он молча и пил не дожидаясь тостов. Довольно скоро достиг меры, перестал хмуриться и стал поглядывать на гостей с презрительным интересом.
— Так какую «Войну и мир» вы написали? — спросил он, иронически оглядев меня от живота до бровей. Выпад был неожиданный. Нужно было как-то отшутиться.
— Вы знаете, эту книгу написал мой коллега, а я заканчиваю рассказ под названием «Му-му».
— И о чем рассказ?
— Это интересная история об одном гордом человеке, который всех презирал и не замечал. И только когда напивался, начинал сначала произносить что-то вроде «му-му», а потом язвить собеседника.
Сосед неожиданно громко расхохотался и больно ударил меня по плечу:
— Слушай, Автандил, мне нравится этот пацан, — закричал он, обращаясь к хозяину, сидевшему в конце стола. — У них, у русских, принято давать 20 копеек за хорошую шутку. Даю рубль.
Он вытащил толстенный бумажник, долго ковырялся, перебирая сотенные бумажки, наконец вытащил новый хрустящий рубль и толстым пальцем засунул его в мой наружный нагрудный карман.
— Это тебе за хорошую шутку.
Гости с любопытством наблюдали за происходившим. Несколько человек засмеялись. Я наклонился к его уху и тихо попросил:
— Не называйте меня, пожалуйста, пацаном.
А потом, чтобы было слышно всем, добавил:
— Простите, а этот жест с рублем тоже шутка?
Сосед засмеялся:
— Конечно!
Тогда я достал из кармана измятую трешку:
— А это за вашу шутку, — и проделал с ней то же, что он с рублем.
Тот еще громче засмеялся. Смеялся он долго. Потом ленивым жестом достал бумажник, вытащил из него 25-рублевую купюру, посмотрел испытующе мне в глаза и, очертив рукой большую дугу, с театральным поклоном отправил купюру вслед за рублем.
— Простите, — обратился я к участникам ужина, — что нужно в таком случае делать?
Несколько голосов ответили мне хором со смехом:
— Нужно дать больше.
Послышался шепот, хихиканье.
— Откуда у русских деньги! — довольно громко произнесла красивая пожилая дама в черном строгом платье с плотными кружевами до самого горла.
Я немного помолчал и обратился к ней:
— А если у гостя действительно нет денег, нужно покинуть застолье?
Она опустила глаза и ничего не ответила. Гости шумно заговорили по-грузински. Хозяин встал и, широко улыбаясь, сказал:
— Пошутили, и будет. Это же не покер. Не надо повышать ставки. Предлагаю выпить за здоровье наших столичных гостей. Гаумарджос!
Я встал вслед за хозяином, поблагодарил его, выпил и обратился к соседу:
— Покер не покер, а все же шутку нужно закончить иначе.
Сосед с удивлением посмотрел на меня. Тогда я достал подаренную Параджановым купюру в 25 тысяч и положил ее перед ним.
— Что это? — проговорил он. Голос его стал вдруг хриплым. Глаза округлились, как у комедийного персонажа, пораженного неожиданной вестью. Он не до конца понял, что оказалось рядом с его тарелкой, но созерцание трех нулей поразило его. Скрыть этого он был не в силах.
— Деньги, ваше степенство. Деньги. Настоящие. Грузинские. Это не Москва, это грузинский лидер Ной Жордания напечатал.
— Нет, — проговорил сосед и энергично махнул рукой. — Нет!
— Что нет? Не верите, что это грузинские деньги?
И тут раздался громкий хохот. Купюру стали передавать по рукам. Ее разглядывали и смеялись. Она обошла стол и вернулась к соседу.
Он тоже смеялся, но в глазах его было столько ненависти, что я решил избавить его от моего соседства. Я поднялся и перешел к Ивану, сидевшему рядом с однокурсником.
— Говорят, у вас тут интересная беседа об искусстве, — объяснил я свой переход.
— Это Арчил, — представил мне своего приятеля Иван.
Арчил наполнил мой бокал и тихо произнес:
— Простите его. Это не нашего круга человек. Это дальний родственник хозяина.
Смех не смолкал долго. Все перешли на грузинский. Через некоторое время пожилой седовласый мужчина в сюртуке невиданного покроя, обличавшего в нем художника, спросил, повернувшись ко мне:
— Простите, а вы не потомок Левандовского? Он, говорят, топил печку грузинскими деньгами. Может, оставил кое-что родственникам.
Понятно, что он хотел помочь своему земляку не остаться в дураках, но это было чересчур. Если история с купюрой могла сойти за шутку, то этот человек хотел оскорбить не только меня, но и всех русских. Левандовский командовал большевистской армией, покончившей с самостийностью Грузии. Нужно было что-то ответить.
— Нет, Левандовский мне не родственник. Но мой близкий знакомый — не могу назвать его приятелем, поскольку он очень пожилой человек, — оказался в Грузии несколько раньше армии Левандовского. И он рассказал мне, как их казачья сотня, уходившая от большевиков, была остановлена в Дарьяльском ущелье. Грузинские братья, так ненавидевшие красных, и белых не жаловали. Они разоружили их. И пропустили в Грузию далеко не всех.
Должен сказать, что это был единственный случай проявления русофобии, происшедший со мной. Две недели, проведенные в Тбилиси, были сплошным праздником и демонстрацией гостеприимства. Даже небогатые художники радушно принимали нас с Иваном, устраивая во время просмотра их картин угощение. В некоторых мастерских пришлось поучаствовать в искусствоведческих спорах. Я старался быть благодарным гостем и никого не критиковать. И все же общие критические соображения о современной живописи пришлось высказать. Главная беда была в том, что в стараниях уйти от реализма и быть оригинальными многие художники были ужасно похожи друг на друга. Даже национальный колорит не очень помогал избежать этой беды. И все при этом твердили, что настоящий художник должен искать новые формы. В этом поиске утрачивалось элементарное желание научиться ремеслу и стать хорошим художником в традиционном смысле. И то, что выдавалось за новые формы, было повтором поиска, шедшего с начала XX века. А просто хорошего рисунка или оригинального колорита мы видели не много. Но об этом мы откровенно говорили с Иваном вне мастерских, гуляя по живописным улочкам старого города. В одной мастерской были выставлены фарфоровые тарелки, расписанные ереванским художником Багратом. Фамилию его я не помню. На них были изображены коровы и люди с рогами. Симпатичные улыбающиеся мордашки девушек и молодых людей — и все без исключения с рогами.
Я спросил Баграта, почему он наградил своих героев этим странным украшением. Значит ли это, что все друг другу изменяют, или он видит в людях демоническое начало? Неужто все превратились в бесов?
— Нет, — ответил художник. — Просто мне так хочется. Я не видел ни у кого таких персонажей. Это оригинально. Это мое новаторство.
— Но тогда можно изображать людей на трех ногах с семью ушами. Это тоже будет новаторством?
— Конечно.
— А как быть со смыслом?
— Каждый открывает смысл сам. Так мы приглашаем зрителя к сотворчеству.
Ну что тут скажешь… Вот такие были, с позволения сказать, «искусствоведческие» беседы.
Однажды Иван показал мне дом, где жил до переезда в Москву. Улица, на которой стоял его дом, называлась Бесики. Было это накануне воскресного дня, и, договариваясь о встрече на следующий день, я сказал, что пойду на литургию в собор Сиони. Иван обещал подойти к концу службы. Он пришел за несколько минут до чтения Апостола. Оглядел молящихся в храме, кивнул мне и сделал несколько шагов к амвону. В это время диакон стал кадить. Я видел, как широкая спина Ивана вздрогнула. Он громко чихнул и быстро направился к двери.
В храм он до конца службы не вернулся. После «Отче наш» многие стали выходить. Я тоже вышел и увидел Ивана. Я направился к нему, а он нагнулся и заговорщицки тихо произнес:
— Оглянись и посмотри на человека, стоящего справа от двери.
Я оглянулся и увидел высокого мужчину в элегантном пальто. Он раскланивался с выходившими из храма.
Одних удостаивал кивком головы, другим улыбался во весь рот, с третьими троекратно лобызался.
— Это Звиад, — сказал Иван.
— Какой Звиад?
— Гамсахурдия.
Я стал внимательно разглядывать его. Мало что говорило о том, что этот суетливый человек станет президентом Грузии. Я помнил его покаянное выступление по Центральному телевидению, когда он клялся больше не диссидентствовать. Мне казалось, что после этого ему остается только отсиживаться в глухой провинции.
— Откуда ты его знаешь? — спросил я Ивана.
— Мы учились в одной школе. Только я уже заканчивал, когда он появился. Но о его подвигах рассказывали соседские ребята. Все знали историю о том, как его отец — известный писатель Константин Гамсахурдия — встречался в тайной пещере Эльбруса с Гитлером. Звиад утверждал, что его отец обладал тайными знаниями и им очень интересовались оккультисты Третьего рейха. А сам он собирался организовать восстание против коммунистической власти еще будучи школьником. В седьмом или восьмом классе он подбил одного талантливого отличника — знатока химии — сделать бомбу. И тот сделал и взорвал ее на пустыре. На этом терроризм и закончился. Их допрашивали в КГБ. По молодости наказывать не стали, но обещали посадить, если те продолжат свои опыты или будут высказывать что-нибудь против советской власти.
С химиком Иван меня познакомил. Мы провели несколько вечеров в интереснейших беседах. Он подтвердил историю выполнения заказа Гамсахурдии. Сам же он угомонился. Стал ученым. Против советской власти не агитировал, но иметь с нею дело не хотел. Он даже защищаться не собирался в знак протеста. Но написал несколько докторских диссертаций для своих начальников. Один из них стал академиком. А он защитил собственную кандидатскую лишь за год до пенсии. Но об этом я узнал гораздо позже.
Сусанна Петровна очень разволновалась во время рассказа об изготовлении бомбы.
— Какой мой Иван неосторожный. Я и не догадывалась о том, что у него такие знакомые. Участь отца его ничему не научила.
Мне пришлось долго объяснять ей, что Иван не имел к этой истории никакого отношения. Он узнал о ней из рассказов знакомых мальчишек. Но ее трудно было успокоить. Я насилу упросил ее не выяснять отношений с сыном. После стольких лет поздно волноваться. Вряд ли Иван мне простит мою болтливость и то, что я рассказал о происшествии, которое он всю жизнь скрывал от нее. Но самым убедительным оказался довод, что если он со мной поссорится, то я больше не смогу ее навещать. Сусанна Петровна обещала молчать.
Однажды она встретила меня в крайнем возбуждении: схватила за руку, усадила рядом с собой:
— Вы знаете, какое чудо произошло со мной вчера вечером? Ведь у меня такая скверная память, я плохо помню, что случилось несколько дней назад. А тут я вспомнила песню. Ее пела мне моя няня. Значит, мне было меньше пяти лет. Вот послушайте.
И она жалобным, дрожащим голосом тихо запела:
Был у Христа-Младенца сад,
И много роз взрастил Он в нем.
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок Себе потом.
Когда же розы расцвели,
Детей еврейских созвал Он.
Они сорвали по цветку,
И сад был весь опустошен.
«Как Ты сплетешь теперь венок?
В Твоем саду нет больше роз?»
«Вы позабыли, что шипы
Остались Мне», — сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венок колючий для Него.
И капли крови вместо роз
Чело украсили Его.
— Я никогда в жизни не вспоминала эту песню. Может быть, когда-то и вспоминала, но совершенно об этом не помню. К чему бы это?
— Не знаю, право. Возможно, теперь вы больше живете душой, чем телом. И из глубины души выплыли слова этой песни. Память таинственна. Где-то в закромах она хранила эти слова. Очевидно, для чего-то важного.
— Вот-вот. Наверно, я скоро умру. Не иначе.
— Совсем не обязательно.
— Нет, наверно, именно в этом дело.
Успокаивать и переубеждать восьмидесятилетнюю женщину было глупо.
— Но если вы так в этом уверены, то тогда нужно поспешить подготовиться.
— Что вы имеете в виду?
— Причаститься, пособороваться.
— Но ведь я никогда этого не делала. И в церковь никогда не ходила.
— Но вы верите в Бога?
— Конечно, — горячо проговорила она. — Только по-своему. Я не знаю ничего из того, чему учит Церковь, но чувствую, что Бог всегда рядом со мной.
— Это прекрасно. Далеко не все из тех, кто ходит в церковь, могут этим похвастать.
В тот же день я принес ей Евангелие и молитвослов. Мы договорились, что она прочтет хотя бы одно из четырех Евангелий и несколько дней будет читать утренние и вечерние молитвенные правила.
Сусанна Петровна очень боялась, что Иван будет против прихода священника в их дом. Поэтому мы придумали небольшую военную операцию. Я сказал Ивану, что у меня есть заказчик на пейзаж с Троице-Сергиевой лаврой. Нужно написать его как можно скорее. Иван обрадовался и отправился в Сергиев Посад. Жена была на работе, сын в школе. Я пригласил знакомого священника, и он пособоровал и причастил Сусанну Петровну.
Нужно было видеть, что произошло с ее лицом. Оно на глазах помолодело и покрылось сияющим румянцем. Глаза стали молодыми и ясными, и в них была такая радость, что даже видавший виды священник сказал: в его практике подобного не случалось. Казалось, что еще секунда — и ее ликующая душа покинет тело. Но она вдруг закрыла глаза и затихла. Мы подумали, что это конец, но она дышала. Дышала спокойно и ровно.
В тот же вечер я уехал в Петербург, оставив записку для Ивана: «Деньги за картину скоро привезу». Через три дня Сусанна Петровна скончалась. Умерла она во сне. Никто не слышал ни стонов, ни призываний на помощь. Иван догадался о моей хитрости. По словам Елены, в комнате ее свекрови несколько дней «пахло, как на небесах». Она долго сожалела о своем отношении к ней.
Иван не пригласил меня на похороны. Он был зол на меня. Пейзаж с лаврой он сжег во дворе своего дома, рядом с помойкой. Елена утверждала, что это была его лучшая картина.
Я позвонил через неделю, спросил о самочувствии Сусанны Петровны. Иван сказал, что ее два дня назад похоронили, и гневно стал выговаривать мне за мои «шашни с его матерью». Я попытался объяснить ему, что эти «шашни» были самым главным событием в ее земной жизни. Иван швырнул трубку.
Я заказал заочное отпевание и три ночи подряд видел ее во сне и ясно слышал, как она поет: «Был у Христа-Младенца сад…»
Отношение Ивана к Церкви меня поражало. У него были все альбомы с иконами, выпущенные в России и странах соцлагеря. Он ездил на этюды в Коломенское, Серпухов, Суздаль, Новгород, Псков, на Соловки. Посетил практически все места, где сохранились красивые древние храмы. Но в самих храмах не мог простоять и получаса. Он не терпел священнослужителей и партесное пение. Собирал записи пения по крюкам и хвалил старообрядцев. Я предложил ему как-то съездить на Рогожское кладбище к старообрядцам, но он решительно отказался. В его душе постоянно происходила борьба, и я старался не лезть к нему в душу. Но однажды не выдержал и, рассматривая его работы, сказал, что у него очень мрачный колорит, говорящий о том, что с его душой не все благополучно. Он сильно разобиделся и, быстро раскладывая передо мной последние работы, сердито повторял:
— Где тут мрачный колорит?
— Везде. Ты пишешь залитый солнцем день, а у тебя выходят мрачные сумерки.
— Ты просто ничего не смыслишь в живописи, — горячился Иван. — Погляди, какое сочетание тонов. Как один переходит в другой.
— Очень мрачное сочетание, — не щадил я его.
— Тебе нужен Петров-Водкин с перекрашенным красным и пересиненным синим. Тебе нужна вульгарная яркость, а я вижу тревогу во всем. Тревогу, грозящую прекрасному гибелью.
— Это слова. На картинах этого нет. Есть мрак, свидетельствующий о том, что для тебя закрыто Небо и ты отвергаешь Бога.
— Я отвергаю Бога?! — заревел вдруг Иван. — Я попов отвергаю и лицемеров вроде тебя. Я не верю, что у тебя есть потребность три часа выстаивать на всенощных службах. Вы все притворяетесь.
— Неправда. И ты знаешь, что это неправда. Перед кем лицемерить? Перед коммунистами, которые прогоняют верующих людей с работы?
— Я отвергаю Бога? Да я избу купил рядом с монастырем.
— Зачем ты это сделал, если не ходишь на службы?
— Я люблю красоту. Я могу часами смотреть на фрески Дионисия. И мне совершенно не нужно, чтобы меня отвлекал дьякон звяканьем кадила.
— А-а-а, вот ты и проговорился. Кадило тебе мешает. И запах ладана. А кто его боится?
Конечно, это я зря сказал. Ивана даже перекосило от ярости. Он схватил новый холст, натянутый на подрамник, и с треском насадил его на мольберт.
Это была наша первая ссора. Из-за соборования мы поссорились во второй раз. Но через две недели он сам позвонил мне и пригласил навестить его в деревенской тиши. Избу он купил за 600 рублей. Это была покосившаяся развалина на живописнейшем высоком берегу Шексны.
Иван поддомкратил избу, поменял два нижних венца и пристроил светелку с окном во всю стену. Получилась прекрасная мастерская с видом на Шексну. Я приехал к нему в конце мая. Стояли белые ночи. Уложил он меня в этой мастерской. Я не мог до утра сомкнуть глаз, глядя на широкую излучину реки, по которой часто шли грузовые суда с длинной палубой и невысокой надстройкой у самой кормы. Солнце село за горизонт, но долго посылало пылающие лучи в едва померкнувшую синь неба, расцвечивало высокие перистые облака и закрашивало светло-желтым бока низко плывущих плотных беломраморных завихрений.
Заснул я часов в шесть, а в десять Иван разбудил меня. Он взял этюдник, и мы пошли вдоль берега реки.
Несколько раз он останавливался у невысоких холмов, всходил на них, оглядывая красоты, потом спускался и мы шли в поисках более красивого пейзажа. Через час мы поднялись на гору Мауру, и Иван показал мне, откуда Кирилл Белозерский высмотрел себе место для спасения души.
— Вон там Кирилло-Белозерский монастырь, — показал Иван на восток.
Но увидеть монастырь из-за высоких елей не удалось. Мы спустились с горы и пошли в сторону Горицкого монастыря. Монастырь был в страшном запустении: полуразвалившаяся церковь и несколько строений — некогда монашеских келлий. Пьяненький мужичок подошел к нам и стал клянчить на водку:
— Друг мой повесился. Я теперь на всю деревню один мужик остался.
— А баб сколько в деревне? — спросил я, чтобы как-то поддержать разговор.
Мужичок не ответил, крякнул и отчаянно махнул рукой. Я дал ему красненькую десятку с профилем вождя всех времен и народов.
Иван хотел было порисовать в монастыре, но передумал, и мы отправились обратно. По дороге он рассказал мне, что и в его деревне за минувшую зиму повесились два мужика.
Так это было нелепо: красивая река, луга с сочными зелеными травами и ярким разноцветьем полевых цветов, необъятное бездонное небо, а под ним — тоскующий народ, не замечающий этой красоты, потерявший смысл жизни и само желание ее продолжать. Что должно происходить с душой, чтобы она толкнула своего хозяина в петлю!? И что произошло с народом? Предки этих самоубийц — вологодские-тотемские мужики — с одним топором и без всякой техники освоили Сибирь и дошли до Америки. А у этих нынче и горя особого нет: бери земли сколько хочешь, трудись и радуйся возможности питаться от трудов своих… Почти целый век мучили русского крестьянина, пока не убили в нем волю к жизни.
Мы обменялись с Иваном несколькими невеселыми фразами и остаток пути шли молча. За полверсты до деревни Иван остановился и сказал, что «нашел точку». Он снял с плеча этюдник, а я, чтобы не мешать ему, пошел к дому готовить обед.
Иван вернулся часа через три и, не заходя в дом, пошел к реке. Я побрел вслед за ним и увидел, как он отмывает от грязи человеческий череп. Тонкой палкой он выгребал из глазниц землю и опускал череп в воду, вымывая из него остатки грязи.
Я остановился в двух шагах и стоял молча. Иван, не оглядываясь на меня, произнес:
— Только не говори, что Православие не разрешает художникам писать натюрморты с черепами.
— Где ты его взял? — спросил я и подошел ближе.
— Валялся рядом с кладбищем. Там еще один лежит.
— Где именно?
Иван усмехнулся.
— От того места, где я остался, по тропе до начала кладбища. А отсюда если пойдешь, то за деревней от развилки вправо до первых могил. Увидишь. Там только один уцелевший крест. Рядом с ним и ищи.
Я поднялся к дому, взял лопату и пошел к кладбищу. Найти единственный крест было просто. Под ним действительно лежал череп. Я положил его под крестом в яму полуметровой глубины. Копать до гроба и проверять, на месте ли череп у похороненного в этой могиле, не стал.
Когда я вернулся, Иван сидел у мольберта в светелке. Посредине небольшого стола на красной драпировке лежал череп. Рядом с ним — глиняный кувшин с широким горлом, красное яблоко, привезенное мной, и две сушеные рыбины. Иван уже набросал подмалевок и орудовал кистью в вытянутой руке. Он откинул голову назад и, прищурившись, поглядывал то на изображаемые предметы, то на холст. На мой приход он никак не отреагировал, и я вышел. Спустился к реке и забрался в лодку. Эту лодку Иван купил прошлым летом у соседа — того самого, что самовольно отправил себя к праотцам. Лодка была большая, хорошо просмоленная. И лежала она на берегу очень живописно. Вот бы какой пейзаж написать! Я начал заочный разговор с Иваном. Получилось складно. Я бы послушался и побежал захоранивать череп. Но как убедить Ивана?! При его-то упрямстве!
Я долго смотрел на медленно текущую воду, на сновавших возле мостков жуков-водомерок, на русалочьи волосы водорослей. Они плавно колыхались, словно невидимый гребень течения расчесывал их. Закатное солнце пустило по воде огненную дорожку.
«И вместо того, чтобы сидеть сейчас здесь и писать эту красоту, бедняга мазюкает символ смерти!» — скорбела моя душа.
Я побежал в избу и закричал с порога:
— Посмотри, какой закат! Отвлекись!
Иван не взглянул на меня и ничего не ответил. Я взял табурет и сел напротив него.
— Ты меня прости, но я должен тебе это сказать. Ты не артефакт в земле нашел, не рыцарский шлем, а человеческие останки. У тебя на столе лежит часть покойника. А она должна покоиться в земле до Второго Пришествия. Покоиться, а не лежать в соседстве с сушеными лещами.
Иван холодно посмотрел на меня:
— Для меня это часть натюрморта. Я художник и имею право, вслед за великими мастерами, писать натюрморты с чем угодно: фруктами, сушеными рыбами, ослиными или человеческими черепами.
— У тебя нет такого права. Покойник должен быть упокоен.
— Да что ты зарядил свою бодягу! Какой покойник? У меня нет покойника. Это череп. Часть натюрморта, имеющего искусствоведческое определение «ванитас». «Ванитас» — это натюрморт с черепом в качестве центральной детали композиции. И это не простой натюрморт. Это символ. В нем глубокая философия, выраженная в библейском изречении Экклезиаста. «Ванитас ванитатум эт омниа ванитас!» Суета сует и все суета! Это сказал Экклезиаст, а не я и не искусствовед Жучкин. Да, мне нравится этот символ. Символ скоротечности жизни и бессмысленной суеты. И если ты не ценишь великих художников, написавших шедевры, в центре которых были черепа, то нам не о чем говорить. Поль Сезанн, Босх, Пикассо, Ван Гог… А Дюрер с Караваджо, написавшие святого Иеронима с черепом! Продолжать? Ладно, тебе не нравится моя живопись. Ты говоришь: она мрачна. Я просто передаю суть явлений. Я их вижу, а ты нет. В этом все дело.
— Череп с зажженной сигаретой работы Ван Гога — это, конечно, замечательно. А как ты думаешь, почему Поленов, Нестеров, Куинджи и другие русские художники обходились без черепов? Почему они воспевали красоту жизни, а не ее бессмысленность и ужас?
— Вот их и спрашивай. Художник волен делать все, что подскажет ему вдохновение.
— Ну как тебя расшевелить, как сделать, чтобы ты увидел суть не в смерти, а в вечной жизни. Смерти нет. Ее победил Христос. Суть не во мраке. Как можно человеку с чуткой душой не видеть этого? Отвергать Фаворский свет и Христа — Солнце жизни и предпочесть этому мрак.
— Я Христа не отвергаю. Я отвергаю тех, кто Его учение одевает в бетонные одежды. Я законничество ненавижу. И законников, которых, кстати, Христос изгонял из храма.
— Да ведь ты храм отвергаешь. Отрицаешь необходимость Таинств. Но Таинства установлены Самим Христом. Значит, ты отвергаешь Бога и то, что Он даровал нам в качестве орудия спасения.
Иван положил кисть, придвинулся ко мне и тихо сказал:
— Прекрати эту высокопарную болтовню. Я благодарю Бога за то, что Он даровал мне свободу. Жажда свободы мучила меня с детства. Теперь я ее обрел. И не отнимай ее у меня. И еще: в своем доме я буду делать все, что хочу. Если ты попробуешь украсть череп и закопать его — пеняй на себя.
Продолжать этот разговор было бессмысленно. Я впервые услыхал из уст моего друга угрозу. И он не шутил. Я вышел из светелки, взял свой рюкзак и выбрался на улицу.
Белая ночь сделала речной пейзаж еще таинственнее и прекраснее, чем он был час тому назад. Река тускло серебрилась. Вздыбленная горка света на месте закатившегося солнца была тревожно-багровой у горизонта, но чем выше, тем светлее и радостнее. Я шел по берегу Шексны, пытаясь успокоиться и понять, прав ли я, покидая моего гордого друга, или нужно вернуться. Я приехал, чтобы залатать разрыв из-за соборования его матери, и вместо примирения — еще горший разрыв. Пятнадцать лет я надеялся, что смогу помочь ему. Столько лет я не предпринимал лобовых атак, не старался переспорить его. Если и заводил разговор о вере, то старался сделать это неназойливо. Я был уверен, что при его твердости и мужестве из него получится истинный воин Христов. И он утрет нам всем, теплохладным, носы, совершив какой-нибудь замечательный подвиг. И даже после этой истории с черепом я не терял надежды.
Обычно он возвращался из деревни в конце октября. Я позвонил ему в ноябре. Он вежливо, но сухо отвечал на мои вопросы. Когда я спросил, похоронил ли он череп, в трубке раздались короткие гудки.
С тех пор я не звонил ему. А недавно встретил в метро его сына. Он обрадовался встрече и спросил, почему я пропал: не звоню и не приезжаю к ним. Конечно, Иван ничего не рассказал ему.
— Как папа, как мама? — спросил я.
— А вы не знаете? Папа умер в начале лета. Дурацкая смерть. Мама ругала его за то, что он ходил на эти «марши несогласных». Они постоянно спорили из-за политики и ссорились из-за этого. После одной из ссор папу разбил паралич. Через неделю он умер. Последние дни он едва шевелил языком. Понять что-нибудь было очень трудно. Потом начался бред. Кстати, он вас все время вспоминал. Просил, чтобы вам передали, что он похоронил. А кого похоронил? Может, бабушку имел в виду. Но скорее всего бредил.
Попутчик
Каких только у меня не было попутчиков, но этот оставил неизгладимую память о себе. Мы ехали в поезде Санкт-Петербург–Адлер вдвоем в купе, хотя в кассах говорили, что билетов нет. В последний момент компьютер выбросил один купейный билет. Кассир сказала, что мне крупно повезло. Но в нашем вагоне почти во всех купе ехали по одному — по два пассажира. Мы думали, что будут большие посадки по дороге. Но нет! Несколько человек в Москве да в Туле и одна дама в Ельце. А потом лишь в Воронеже и в Ростове набралось народу, и то не на весь вагон. И это в середине июня, в сезон отпусков. Хорош капитализм, однако! Люди не могут купить билеты, а поезд едет на юг полупустой. Конечно, хорошо, что с тобой в купе один сосед, а не три, но за державу обидно.
Мой попутчик пришел за минуту до отправления. Поздоровался и больше не проронил ни слова до самого утра. А утром я достал дорожную снедь, разложил ее и предложил соседу разделить со мной трапезу. Он рассмеялся и выложил точно такой же джентльменский набор: вареные яйца, бутерброды с сыром и колбасой и пачку печенья.
— А курицу вам положили? — смеясь спросил он.
— Положили.
— А бомж-пакет?
— Это что такое?
— «Доширак» или что-нибудь наподобие. Лапшу или пюре в пластиковой коробке.
— Кажется, положили.
Сосед мой наклонился, отыскивая что-то в сумке, а я быстренько перекрестился и приступил к завтраку. Сосед выпрямился и, лукаво глядя на меня, медленно перекрестился широким крестом:
— Чай, не в Эмиратах и не в Пакистане. По родной земле едем, слава Богу! Чего таиться! Имеем право и перекреститься, и помолиться. Вы не в паломничество направились? Не в Задонский монастырь?
— Нет. Еду в Сочи.
— Отдыхать? В санаторий, поди?
— Нет. Мать моя болеет. Нужно поухаживать за ней.
— Это дело хорошее. Богоугодное. А сколько матери?
— Восемьдесят пять.
— Немало. Богом данный срок превзошла. «Аще в силах, осемьдесят. И множае труд и болезнь»… А если больше восьмидесяти, как вы думаете, зачем и кому дает Господь лишние годы? Сверх им же установленного предела?
— Не знаю. Наверно, для покаяния.
— Ия так думаю. Если человек грешил и понял, что оскорблял своими грехами Господа, то ему дается возможность болезнями и страданиями выжечь остаток мерзости в душе. Это когда Господу и в яд посылать человека жалко, но и в рай — никак. Вот и полежи, родимый, пострадай, сокрушаясь о своем нечестии. А когда попалится горячим раскаянием вся нечистота, вот тогда Господь к Себе и позовет.
Судя по тому, как мой сосед появился в купе и как вел себя вечером, я никак не ожидал, что он окажется верующим, да еще склонным к духовным рассуждениям. Начал он сразу, без разбега. Не поговорив о чем-нибудь нейтральном, не представившись и не спросив моего имени-отчества… Да и вид у него был больно пижонистый. Эдакий молодящийся старичок. Без бороды. Лицо довольно молодое, но как будто после пластической операции. На лбу глубокая горизонтальная складка, словно заглаженная утюгом. От нее между бровей две вертикальные морщины. Этот рисунок из трех морщин очень походил на орла с горизонтально распростертыми крыльями — чистая кокарда немецкого солдата Второй мировой войны. Такое ощущение, будто пилотку снял, а кокарда на лбу осталась.
Одет он был как модный молодой человек. Даже сумка из толстенной кожи, как чересседельник у американских ковбоев, с массивными бронзовыми застежками. Я таких сумок в жизни не видел. И коричневые мокасины с белой подошвой совсем не походили на обувку паломника. Да еще шелковый шейный платок, который он повязал, как только вернулся после умывания. Богословствовать с этим господином почему-то не хотелось. Но по всему было видно, что он настроился на долгий разговор. Я решил повернуть нашу беседу в более-менее светское русло.
— Вы знаете, у меня был один знакомый — Михаил Иванович Вальберг — последний уцелевший при большевиках паж. Он учился в Пажеском корпусе до самого его закрытия. В гражданской войне он не участвовал. Но в тридцатых годах его посадили. Его отец — генерал Вальберг — при царе был начальником Павловского пехотного училища. За это и за пажескую юность и посадили Михаила Ивановича. И отбыл он в Колымских лагерях шестнадцать лет.
А прожил 96. Ровно шестнадцать сверх определенных человеку восьмидесяти.
— Очень интересно.
— Знал я еще одного замечательного человека — Александра Сергеевича Некрасова. Он тоже долго сидел. И тоже, кажется, шестнадцать лет. И тоже скончался в возрасте 96 лет.
— Слушайте, об этом нужно подумать. Конечно, нет никакой статистики о том, кто сколько прожил после тюрем и лагерей, но, очевидно, для Своих верных чад Господь сделал подарки. Большевики отняли у них шестнадцать лет, а Господь ровно столько подарил.
Со светским руслом не очень получалось. Тогда я решил возразить самому себе:
— Многие лагерники после освобождения умирали довольно скоро. Отец моего друга не дотянул и до шестидесяти. Да и Варлам Шаламов тоже умер довольно рано.
— Вы знаете, дело не в числах как таковых и не в нумерологии. Рассуждать об этом можно бесконечно. А в том дело, что мне послезавтра исполняется семьдесят. И я не уверен, что Господь даст мне еще десять лет, несмотря на то что я «в силах». Я на всякий случай решил встретить свой невеселый юбилей в Задонском монастыре.
Собеседник мой как-то быстро погрустнел. Трудно было поверить, что ему семьдесят.
— Все-таки дело в цифрах, — возразил я. — Вы едете в монастырь не по какой-то иной причине, а потому что вам семьдесят. А вы говорите: не в цифрах дело. Вас именно цифра напугала.
— Пожалуй. Мне нужно избавиться от кое-каких долгов. И я испугался, что не успею. Дело именно в грехах. А число напомнило мне, что нужно поторопиться.
— А почему вы так далеко отправились? Могли бы и к Александру Свирскому поехать или в Печоры. Все ближе. Слава Богу, сейчас питерцам не нужно далеко ехать в поисках монастырей.
— Нет, мне нужно именно к Митрофану Воронежскому. У меня должок. Я у Митрофана должник.
— Воронежского?
— Нет, псковского. Не святого. Простого мужика.
Он немного помолчал и добавил:
— А может, и святого. Скорее всего.
И без просьб с моей стороны начал рассказ. Но пока дошел до истории с Митрофаном, поведал мне обо всей своей жизни. Если бы у нас были попутчики, то ничего бы этого я не услышал.
— Я из очень обеспеченной по советским меркам семьи. Достаточно сказать, что мы жили втроем в четырехкомнатной квартире. У меня была своя комната. А в нашем классе только еще у двоих мальчишек были свои комнаты. Ну, и я делал в этой комнате что хотел. Рано познал все прелести. Начал взрослую жизнь в восьмом классе. Отец мой был большим начальником и баловал меня страшно. Деньги давал. Из загранпоездок привозил джинсы и всякое модное шмотье. А тогда придешь на танцы в джинсах, рубахе баттен-даун — и все девки твои. Я не хочу сказать, что все девушки были распутными, но те, кто с боями прорывались на «скачки» (так называли танцы), были готовы на все. И я не понимаю наших сверстников, когда они ругают молодежь и говорят, что не знают, откуда она такая развратная получилась. Да оттуда она и вышла. Все эти девушки, круто веселившиеся в шестидесятых-семидесятых, нарожали себе подобных. А их отрасль пошла дальше, чего и следовало ожидать.
У нас было все. У отца служебная «волга», личная «волга», дача в Репино. У матери соболья и норковая шубы, платья от Кардена. Были у нее и камешки. Она бриллиантам предпочитала изумруды и сапфиры. У нас толклись маклаки (маклеры, посредники. — Прим. ред.), которые ей поставляли всякие цацки. Она покупала только дореволюционные, хороших мастеров. Современные — только необычной огранки и не в изделиях. Я рано научился отличать старинную ювелирку от современной.
Как-то я встретил на Невском одного из ее маклаков. Он пригласил меня к себе в гости. И я буквально обалдел, когда увидел его коллекцию икон. Он собирал только древние, как он говорил, «доски». Моложе XVII века не брал. Были у него только две венчальные иконы Спаса и Богородицы начала XX века. И то взял он их из-за окладов. Оклады были толстенные, кованого серебра, с разноцветными эмалями. Иконы красоты невероятной! Палехского письма. Яркие. Не совсем в каноне. Как говорят, «словно живые и даже живее всех живых». Большой мастер их писал. Я долго не мог от них оторвать глаз. С тех пор и началась моя болезнь. Я полюбил иконы и стал их собирать. Каждую неделю ходил в Русский музей и часами стоял у икон в залах древнерусской живописи. Для такой страсти нужны были деньги. И большие. Начал я фарцевать. Валюта, шмотки фирменные, ну и, конечно, «доски». Продавал что попроще и покупал старинные для коллекции. Мир, в котором я оказался, лучше бы не знать. Поскольку у всех были клички, то они и Спасителя и всех святых называли по кличкам.
Вспоминаю об этом с ужасом. Кстати, и в этом нужно покаяться. В основном это были не клички, а уменьшительные имена. Фарцовщикам казалось, что в этом панибратстве нет ничего страшного. Были там и такие артисты: утверждали, что своей деятельностью борются с советской властью. Считали себя романтиками и героями. Это было какое-то «Зазеркалье» со своей вымороченной моралью и представлениями о чести. Все были повязаны: свои люди и в таможне, и в ментуре, и дипломаты. Любую доску до Штатов доставляли с гарантией в две недели.
Я был студентом, когда умер отец. С матерью у меня отношения были неважные. Я по сути и не знал, что такое материнская любовь. Она никогда меня не ласкала. Я даже не помню, брала ли она меня на колени, когда я был маленьким. Сначала у меня была Маша, потом Даша — няньки. Здоровенные деревенские тетки из-под Боровичей. Маша была добрая. Славная. Симпатичная. Меня любила. Я на ее молоке вырос. Она меня до четырех лет грудью кормила. У нее была дочка. Но я ее не помню. То ли ее в деревню вскоре отправили, то ли померла. Маша любила со мной гулять в Таврическом саду. И даже втайне от родителей иногда водила в Спас-Преображенский собор. Она долго не молилась. Заходила минут на десять. Ставила всегда по три свечки. Одну на канун и по одной Нерукотворному Спасу — чудотворной иконе — и Богоматери «Всех скорбящих Радость». У Богородицы она всегда шмыгала носом и утирала слезы. О чем она плакала, я догадался позже. Мать прогнала ее со страшным скандалом за год до моей школы. У Маши был роман с моим отцом. Говорят, где-то по новгородским просторам гуляет мой брат.
Ну, а Даша мною, как и мать, не занималась. Готовила, стирала. А гулять я уже бегал сам. Это неинтересно. А интересно, как все в этом мире закручено. Матери дали за отца пенсию. Хорошую по тем временам. Но ей не хватало. Привыкла жить на широкую ногу. Теперь ей было не до камешков. И камешки пришлось время от времени продавать. Из тех, что врассыпку хранились в шкатулке. Броши, колье, серьги она не трогала. Она меня приставила к этому. Я имел дело только с тем маклаком — коллекционером икон. Засвечиваться с камнями было опасно. Сначала он ей камешки продавал. Теперь она ему. Мы с ним даже подружились. То есть выпивали после сделок. И я видел, что он меня старался не обманывать. Насколько это ему удавалось. А он просто знал, что с моей мамашей ему дел предстоит надолго, и не хотел терять клиентку.
Однажды я залетел в больницу и там познакомился с молодым человеком. Его дед жил в Тутаеве — бывший Романов-Борисоглебск. И в этом Тутаеве было немерено икон. Сразу после больницы он мне продал несколько и пригласил с собой. Мы поехали. Городишко — чистая деревня. Несколько каменных купеческих домов, остальное все — деревянное. Но храмы! На одной стороне Волги полдюжины, на другой — один, но какой! На высоком подклете, пятикупольный. Век семнадцатый, если не шестнадцатый. Я его изображение видел в немецкой энциклопедии. А на другой стороне — церковь с шатровой колокольней, как с картины «Грачи прилетели». Красота! И вот в этой красоте я наладил свое дело.
Несколько лет жил безбедно. Берешь икону за 50 рублей. Продаешь за 500 долларов. А мой тутаевский агент поначалу покупал по деревням. Потом собрал молодняк, и стали они иконы красть. Нескольких человек поймали. Я затихорился. Перестал туда ездить. Но тут с маманей вышла история. Мне позарез нужны были деньги, и я взял из ее шкатулки один камешек. Самый неприметный — в два карата. Ну и продал его маклаку. Оказалось, он был какой-то немыслимой огранки. Маклак сразу его продал и наварил кучу денег. Маман туда-сюда, а камешка следа не найти. В ювелирном мире его знали. Его то ли француз, то ли итальянец знаменитый огранил. И, конечно, он ушел с концами. Маманя моя без тормозов меня в ментуру. И началось. И Тутаев на повороте выплыл, и другие мои подвиги… В общем, дали мне семеру — семь лет строгача. Валютные операции и прочие замечательные действия.
Маманя через некоторое время остыла, но поезд ушел. Пошла нажимать на все педали. Она меня выкупила. Посадила за один камешек, а жене замминистра пришлось брошку Фаберже отдать. «Павлиний хвост» называется. Там этих камешков несколько десятков да три сапфира. Цены ей нет. Но полтораху я оттянул — отсидел полтора года. И слава Тебе, Господи! Если бы тогда нить моей жизни, простите за высокий штиль, не прервалась, я бы погиб. Когда пришел Андропов, несколько моих дружков за «в особо крупном размере» присели надолго, а одного отправили туда, где деньгами не пользуются, — к праотцам.
Но главное в другом. Со мной сидел один старичок. Он занимался самиздатом. На плохонькой бумаге печатал религиозную литературу. И пишущей машинкой не брезговал. Сам печатал и народу раздавал.
Вот как коммунисты боялись слова Божьего: посадили бедного вместе с убийцами, ворами и валютчиками. Вот он-то мне и мозги, и душу поставил на место: «Как же ты мог торговать святыми иконами и не почувствовать, с чем и с кем имел дело?! Неужели у тебя душа ни разу не дрогнула?» — спрашивал он меня. А у меня не то что не дрогнула, а такое в ней, родимой, творилось… Лучше не вспоминать. Я это дрожание по-своему усмирял: после каждой удачной сделки пускался во все тяжкие. А когда этот мой сокамерник, раб Божий Феодор, стал обо мне, окаянном, молиться со слезами… Да что со слезами! Рыдал после того, как я ему и о половине своих подвигов не рассказал. Однажды ночью просыпаюсь, а он Бога молит простить мои преступления. И, поверите, то ли спросонья, то ли ночь была какая-то особенная: я лежу под одеялом и слушаю его шепот — такой горячий, с такой энергией он произносил мое имя и слова молитвы… Я вдруг разревелся и не мог целый час успокоиться. А я вам доложу, что я вообще никогда не плакал. Ни в детстве, а потом и подавно. Откинул я одеяло и реву. И Федор в голос плачет. Сокамерники проснулись — и… только один матюгнулся и замолк. Все лежат и пошевелиться не могут. Потом братва рассказывала: ужас всех объял, а через некоторое время отошло, и сердцу легко стало и радостно. И не с одним это произошло. Нас было 12 архаровцев, как апостолов у Господа. Правда, иуд оказалось поболе. Корявый — мутный был мужик — замутил братву. Сказал, что это мы с Федором коллективный гипноз напустили. А Федор ответил: «Это нас, братцы, Ангел посетил». И стали мы после этой ночи молиться. Кому скажи, что полхаты на молитву Федор поставил, — не поверят. А Корявый с двумя орлами бесноваться стали. Драки устраивали, визжали. Слава Богу, у тех, кто молился, был крутой заступник — любого заваливал. Да еще два мокрушника-убийцы — с ними тоже не связывались. Так у них от молитвы не морды, а лица сделались — как у детей. Федор наизусть знал и утреннее, и вечернее правила, Покаянный канон. Изобразительны по воскресеньям читал и пел. Тропари всем праздникам. Но война шла конкретная. Федора по воскресеньям отлавливали — и в карцер. За худшие дела так не наказывали, как за молитву. Это потом не только разрешали молиться, но и церковь открыли. А до этого — просто труба…
Я потом, после отсидки, встретил кума — опера. Он говорит: о нашей камере, трижды Краснознаменной, до сих пор легенды ходят. Говорят, Богородица нам явилась. Не знаю, может, Федору и явилась…
Я потом братву, которая уверовала, на Святую Землю возил. Правда, на Геннисаретском озере бесяра на нас напал крепко. Я даже думаю, не тот ли это был легион, которого Господь изгнал из гадаринского товарища. Так нас всех скрутило. Готовы были разорвать друг друга. Но это грустная история. Главное, мы помирились и теперь братва стали братьями. Помогаем друг другу во всем.
А вот Федор, Царство ему Небесное, не сподобился волю увидеть. Но другой мой друган — я от него подобного не ожидал — как только вышел, все монастыри объездил, у всех старцев побывал. Стал алтарником, потом чтецом в храме. Говорит мне: «Поехали к отцу Павлу Груздеву. Он нашего брата понимает. Может и совет нужный дать, и отмолить. Сам оттянул на сталинских курортах чуть ли не двадцать лет». Я говорю: «Поехали». Прихожу на вокзал: «Куда едем?» — «До Ярославля, а там до Тутаева». Ну, я чуть не помер. «Как до Тутаева?» — «Да так. Он там рядом, в деревне служит».
Вот ведь как Господь ведет. Где грешил — туда и каяться поезжай. Приехали мы. Народу у батюшки полно. Мы стоим во дворе, ждем. Друган мой сидел за то, что превысил самооборону. Не виноват был. Защищался. Но скорбел крепко — ведь душу человеческую погубил. Стоит и переживает: «А вдруг батя со мной и говорить не станет!» Выходит батюшка. Оглядел бабулек — и к нам. Обнимает моего другана, а на меня чуть не по матушке: «Пошел вон, пес смердящий! Чего приехал?! Поболтать?! Болтай у себя, а ко мне каяться приезжай». Увел он моего другана и больше двух часов с ним говорил. А я стою как оплеванный пенек и не знаю, то ли бежать, то ли попытаться снова подойти к отцу Павлу. Бабульки на меня как на врага смотрят. Раз батюшку прогневил, то надо показать и им свое отношение. А мне так обидно.
Думал: исповедуюсь, поговорю, спрошу, как жить дальше. А он меня при всех шуганул. Тут подходит ко мне одна бабуля — я ее и не заметил сразу. Смотрит на меня по-доброму. Говорит: «Ты, сынок, наверно, не готов принести покаяние. Надо ведь не просто перечислить грехи, а душу наизнанку вывернуть, показать свой грех и вырвать его и выбросить вон, как вырезанный аппендицит. Погляди в свою душу и не обижайся на батюшку. Он не любит теплохладных». Я ее слушаю. Понимаю, что она права, но от обиды все во мне горит. Тоже мне, старец. От великой любви он меня при всех приложил. Стоило ехать, чтобы получить такое.
Пошел я к Волге. Сижу рядом с храмом. Там раньше лодочная станция была. Смотрю на воду. Думаю: «Вот так житие мое и течет. И все впустую. Сколько его, этого жития, осталось? Гонялся за удовольствиями, а чтобы их получить, все заповеди нарушал. А награду себе придумал — грех смертный. В блуде отраду находил». Чувствую, стыд меня стал припекать. Душа размягчаться стала. И вдруг мысль: «Сейчас тебя кто-нибудь узнает. Отволокут в ментовку. Давай беги, и нечего тут тебе делать». Так я и не вернулся к батюшке. Поехал домой. А друган мой несколько дней был при нем. Вернулся другим. Вера в нем с той поры — алмаз твердейший. А я поехал в Печоры. Принял меня отец Иоанн Крестьянкин. Вот у кого любовь! Обласкал. Посоветовал Питер на время оставить и все окружение. Дал мне адрес одного бати. Говорит: поезжай к нему. Поживи при храме. Потрудись, помолись. Через полгода приезжай ко мне. Поглядим, как дела пойдут и что дальше делать. Я и поехал. А когда говорил с отцом Иоанном, понял, что отец Павел был трижды прав. Не шугани он меня тогда, я бы так и был туристом. Ездил бы по святым местам без толку. Я ведь никак не мог молиться. Клапан какой-то во мне сидел. Читаю слова молитвы — и как о стенку горох. Не трогают. В тюрьме трогали. Там мог молиться. А прожил три года на воле — и закрылся клапан. Я ведь ничего не делал. Устроился формально в одну контору и зарплату отдавал мужику, который меня оформил. А сам матушкины камешки проживал. Она вскоре после моего освобождения умерла. Я поначалу молился, а потом клапан захлопнулся, и чувствую лапу мохнатую, сжимающую горло. Не могу в церкви вместе со всеми «Отче наш» петь. Не могу вслух молитвы прочесть. А поговорил с отцом Иоанном — и клапан приоткрылся. И уже не так меня крепко душить стало.
Я в селе, куда меня отец Иоанн отослал, чего только не делал. Вся работа по храму была на мне. Я и дрова доставал и колол, и храм сторожил, и убирал, и алтарничал, и читал, и с бабульками пел. Храм только отдали, а там и ремонт, и печку сразу же пришлось сложить. Одним словом, крутился как никогда в жизни. А я же работы никакой не знал. До сорока с лишним лет балда-балдой прожил. Да еще и с батюшкой не просто было. Он мою подноготную знал. Уважать не мог. В душе, конечно, презирал. Но видел мое старание. Иногда приглашал к себе. Давал книги всякие читать. По «Добротолюбию» потом беседы устраивал. Некоторые мои суждения называл оригинальными. Не знаю, что он имел в виду. Наверно, я ересь порол. И у меня было такое чувство, что он делает это через силу. Он без семьи — монашествовал. Но хоть и монах, все же по слабости человеческой и собеседник иногда нужен. Я старался быть ему хорошим помощником.
Особенно его ценил за молитву. Служил он красиво и усердно. Молился по ночам. И подолгу. Нестяжательный был. Я ему денежку привезу, а он либо старикам, либо детям раздаст. А нужд по ремонту было много. Я потом понял, что он мои деньги не хочет на храм пускать. Грязные деньги. Я на это обижался, а потом он и говорит: «Ты не обижайся. Потрудись несколько годков. Дурь и все, что накопил, из тебя выйдет. И тебе, и мне будет легко. Я в тебе поначалу разбойника видел, а теперь вижу заявку на разбойника благоразумного. Так что стяжай благоразумие, и войдешь в радость Господа нашего». И я старался. Но эти несколько годков меня пугали. Отец Иоанн говорил про полгода.
Я себе избушку у старушки прикупил. Хорошую, просторную. Иконушки в избушке простенькие. Решил я всю свою коллекцию храму подарить. Думал оставить себе две-три для молитвы, остальное — храму. Приезжаю в Питер, а квартирка моя — того. Нараспашку. Ни икон, ни маминых цацек. Ну что ж. Бог дал, Бог взял. Только взял, конечно, маклак. Не сам. Навел. Но я с ним разбираться не стал. Продал отцовскую библиотеку. «Волжанку» его старенькую пригнал и бате подарил. Кстати пришлась. Разъездов много, а ездить не на чем.
Приехали мы как-то к одному старику. Митрофаном звать. Причастили. Он немощный. До села нашего шесть верст. А до храма — семь. А он еле на двор выходит. Гляжу: стоит у него на столе, прислоненная к стенке, икона Ильи Пророка. Как увидел я ее — все во мне взыграло. И прежняя моя страсть проснулась. Письма она странного. Лик выписан идеально, а остальное небрежно. Но видели бы вы огненный вихрь, в котором возносилась колесница с пророком Божиим на небо. Так закручено, такие огненные кони… А пророк Елисей, ловящий милоть своего учителя, в такой немыслимой позе — дескать, трудно поймать ее, но поймаю и получу двойную благодать от Бога Живаго. А сам пророк Илья во весь рост, а житие его в неотделенных друг от друга клеймах. По кругу снизу вверх до самой колесницы. И такая она вся вихревая и огненная. Такой взгляд у пророка Ильи пронзительный и грозный. В общем, не икона — а предстояние перед Господом Богом.
С той поры я зачастил к Митрофану. Он сразу понял, что мне нужно. Посмеивался надо мной. Деньги ему никакие не нужны. Говорил, будет Илья моим после его смерти. А один раз сказал: «Пустое ты, парень, затеял. Ты ее и в дом свой не внесешь». Но я уже не могу отступиться. Чувствую, что не могу без этой иконы жить. Прихожу, приношу ему еду всякую — он леденцы простые любил, — чаю попьем, а я все гляжу на икону да молюсь, как могу. И прошу пророка Илью ко мне перебраться. А Митрофан все посмеивается.
Однажды прихожу к нему, а он лежит на полу. Я встал на колени, щупаю пульс — нет пульса. А рука еще теплая. Видно, помер прямо перед моим приходом. Что делать? Телефонов нет. Больница и менты в районе. А до района тридцать верст. А мне только ментов не хватало. Еще и покойника на меня повесят. Ну, думаю, пойду к бате. Пусть он решает. А икона… Видно, Господь услыхал мои молитвы. Заберу икону, а завтра с батей приедем. Он его отпоет и в район позвонит. Перекрестился я, попросил у Бога и пророка Ильи прощения и взял икону. А она — метр двадцать. И весу в ней килограммов 15, если не больше. Взял я мешок, положил ее в него. Слава Богу, захватил полиэтилену на случай дождя. Митрофан, пока в силах был, теплицы делал. Отмерил я метра три и сунул в мешок. Выхожу — а на дворе темно. В той деревне только еще в двух домах дачники жили. Никого я по дороге не встретил. Никто меня не видел. Иду с тяжеленной поклажей. Нести неудобно. Надо было веревку как-нибудь приторочить да нести через плечо. А я только конец мешка перевязал. То на спину мешок закину, то перед собой несу на двух руках. Прошел с километр, и вот тут Илья и показал себя во всей красе и мощи.
Как бабахнет над самой головой, я чуть не рухнул. Молнии я не видел. Может, глаза от страху закрыл.
Прошло несколько минут, и гром заурчал — будто вдаль ушел. Так перекатывается, как пустыми бочками по потолку. А потом снова — и над самой головой. Да как загремел канонадой, да с молниями. А я уж лес-то прошел да в поле вышел. А тут как полилось! Достал я полиэтилен, обернул икону, поднял мешок над головой и иду себе, как бобренок Чука. И вдруг снова как ударит. И куда моя затычка, тот клапан, что не давал молиться, делся. Молюсь и кричу во все горло: «Господи, помилуй. Пророче Божий, не погуби. Не убей меня молнией. Я ведь тебя не на продажу несу. Буду тебе молиться и оставлю всякий грех. Только пощади. Не убивай неготового. Дай время на покаяние». Иду — ноги разъезжаются. У нас там все больше песок. А тут на глинистый участок попал. Как добрел до села нашего — не помню. Подхожу — и вижу зарево во весь горизонт. А это моя изба горит. Пощадил меня пророк Илья, а в избу все же стрельнул. Народ сбежался. А чего народ? Старики да бабки. Все меня утешают, а сделать ничего не могут. Сгорела моя избушка. И дождь не помог. Он, видно, как в избу молния попала, тут же и перестал. Так что сбылось пророчество деда Митрофана: не пришлось мне его икону в мою избу заносить. Отнес я ее в храм. Рассказал батюшке о моем приключении. Он все, как полагается, сделал. Успели мы до приезда фельдшера и обмыть Митрофана, и отпеть. Участковый приехал. Не задержался. Составил бумагу, мы расписались как свидетели. Фельдшер зафиксировала смерть. «Можете хоронить, — сказала, и долой со двора. — Повезло старику, что вы его нашли. А то бы завонялся». Мы бедного Митрофана и похоронили. А у меня на душе тяжесть, будто я его в могилу свел.
Вот теперь еду к Митрофану Воронежскому. Помолюсь. Я ведь на исповедях даже от отца Иоанна многое утаил. И через полгода не поехал к нему. А когда собрался, он уже был плох. Не пускали к нему никого.
Рассказчик мой отвернулся. Мне показалось, что он утер слезу. Поезд притормаживал. Громко застучали колеса на стыках. Мы переезжали широкую реку. За окном на холме высился огромный храм. Еще несколько церквей красовались на левой стороне реки. Я вышел в коридор. Сосед мой обогнал меня и подошел к расписанию:
— Надо же, Елец. И стоим целых двадцать минут. Красивый город. Сколько церквей уцелело. Никогда его не видел. Раньше ездили на юг через Харьков.
Пожилая дама, стоявшая у окна, вздохнула:
— Здесь и монастырь есть. Недавно вновь открыли.
Сосед оторвался от расписания:
— А далеко ли отсюда до Задонского монастыря?
Дама пожала плечами:
— Точно не знаю. Но немного. Не больше ста километров.
Сосед задумчиво поглядел в окно и двинулся в сторону нашего купе. Я остался в коридоре, а он бросил несколько предметов в сумку и, кивнув мне, пошел к выходу. Я последовал за ним. Он молодецки спрыгнул на платформу и повернулся ко мне:
— Прощайте. Простите за болтливость. Боюсь, не всякий монах станет выслушивать подробности моего окаянного жития. А вас я загрузил по полной. Будем считать, что это я перед исповедью порепетировал. Если чем обидел, простите.
Он перекинул через плечо сумку и быстро зашагал по платформе. Я долго смотрел ему вслед. Его внезапное решение расстроило мои планы расспросить его о «другане». Хотелось бы найти его и поговорить с ним об отце Павле Груздеве.
Он так и не назвал ни своего имени, ни имени «другана», ни священника, к которому его послал отец Иоанн.
Когда я вернулся в купе, первое, что увидел, был шейный платок. Он висел на крюке возле двери. Я и не заметил, как он его снял.
Митра-укротительница
В те незабвенные времена, когда епархии были большими, а Новосибирская простерлась на пол-Сибири, включая в себя, помимо Новосибирской области, еще и Красноярскую, Томскую, Новокузнецкую и Кемеровскую, а также Алтай, Хакасию и Туву… (Если что-то упустил, прошу простить). Так вот, в этой Новосибирской епархии, возглавляемой владыкой Гедеоном, служил отец Лев. (Имя владыки подлинное, а имя нашего героя пришлось изменить.) Но он и вправду чем-то походил на льва: коренастый, широкоплечий, с густыми волосами до плеч, но главное — удивительно сильный. Этот батюшка славился своим взрывным характером (при быстрой отходчивости) и неправдоподобной добротой. Воистину мог просящему рубашку отдать и исподнее. Был он к тому же хорошо образован, поскольку окончил два советских вуза и в прежней, доцерковной, жизни занимал большой пост по энергетической части. Жил он тогда в закрытом номенклатурном поселке в отдельном двухэтажном коттедже на берегу широкой сибирской реки. И зарплата его была аж целых 350 рублей (не считая регулярных премий). Тогда это были большие деньги. И вдруг, в один не очень хороший для его сослуживцев и начальства день, Лев Алексеевич (это его мирское имя) оставляет работу с окладом в 350 рублей, двухэтажный коттедж и перебирается на колокольню ремонтируемого храма за триста верст от родного дома. Определили его сторожем и рабочим по всяким нуждам с окладом в 80 рублей.
Этому непонятному для семьи и коллег поступку предшествовало небывалое событие. Оно могло быть оставленным без должного внимания и прещения со стороны начальства. Но произошло все скандально, конфузно и даже, по общему определению руководства партийной организации, «до неприличия преступно». А преступил Лев Алексеевич вот что. Ему было поручено подготовить доклад о последнем съезде Коммунистической партии и о том, как в свете его решений советская энергетика достигла заоблачных вершин. С этим докладом нужно было выступить сначала в областном центре, а потом и в Москве на всесоюзной конференции. Лев Алексеевич отказался. Стали его спрашивать о причине отказа. Сначала он не хотел ничего объяснять, но когда ему пообещали объявить выговор по партийной части, он вспылил и заявил, что устал врать. Если ему позволят сделать объективный доклад и освободят от необходимости цитировать Ленина и петь здравицу Брежневу, то он выполнит приказание, а если нет, то доклад готовить не станет. Тогда ему напомнили о партийной дисциплине и недопустимости подобных речей. За это его могут и из партии выгнать. На это он отреагировал бурно и заявил, что нет нужды его изгонять. Он и сам уйдет. Время было строгое. Подобных демаршей не допускали. Выгнали его не только из партии, но и с работы. Куда бы он потом ни пытался поступить, повсюду получал отказ. Устроился простым электриком на завод — через неделю его вызвали в отдел кадров и вернули ему трудовую книжку без всяких объяснений. Он уже дошел до того, что готов был идти в грузчики. И пошел. И снова через несколько дней получил трудовую книжку. И снова работники отдела кадров не стали объяснять ему причину увольнения.
Однажды он, новоявленный безработный, проходил мимо церкви Николая Угодника и увидел, как за оградой две согбенные старушки разгружали машину. Пожилой шофер подавал им какие-то коробки, и они перетаскивали их в храм. Они с великим трудом преодолевали шесть ступеней довольно высокого крыльца.
Лев Алексеевич зашел в открытую калитку и, ни слова не говоря, взял сразу четыре коробки и понес их в храм. Одна из старушек принялась его благодарить, а вторая, глядя на него с недоверием и беспокойством, стала объяснять, что ему ничего не заплатят. Тогда первая, перебивая напарницу, проговорила: «Вы ведь решили потрудиться во славу Божию?»
— В Петю, — проворчал Лев Алексеевич.
— Какого Петю?
— А какого Славу?
Старушки опешили.
— Вот сразу видно, что вы не церковный человек. Во славу Божию, значит без денег.
— А вы, церковные, уже и не верите, что человек может бескорыстно захотеть помочь пожилым женщинам. При чем здесь слава Божия? Я, может быть, бомж. И о Боге вообще не думаю. И какая слава для Бога от того, что я занесу в храм коробки?
— А вот такая. Всякое доброе движение сердца говорит о том, что Бог в вас живет. Это его Ангел подвинул вас на доброе дело. А мера делания разная. Одни за Бога душу кладут — идут на мучения и смерть. Другие делают незаметные добрые дела. Но они в очах Божиих дорогого стоят.
Старушка посмотрела на Льва Алексеевича ласково. Он хотел было продолжить рассуждения о ненужности высокопарного слога, когда речь идет о простых вещах, но, поглядев на доброе лицо старушки, расхотел ей перечить. Он улыбнулся и сказал: «Вас бы, бабуля, на наше партийное собрание, поговорить о добрых делах».
— На собрание ваше я не пойду, а вот вам надо бы с нашим батюшкой поговорить.
— Собрание уже не наше. Выгнали меня из партии, а с батюшкой говорить мне не о чем.
В этот момент старушки как-то разом охнули и семеня поспешили ко входу. Навстречу им шел пожилой священник. Старушки одна за другой сделали земной поклон и сложили ладошки лодочкой одна на другую. Батюшка перекрестил их, кладя руку в сложенные ладошки. Старушки поцеловали благословляющую руку и повернулись в сторону Льва Алексеевича, делая ему малопонятные знаки. Он подошел к священнику, поздоровался и замер, не зная, что делать.
— А благословение почему не берете? — спросил священник, хитро посмотрев на незнакомца. — Звать-то как?
Лев Алексеевич представился. Батюшка взял левой рукой обе его руки и медленно перекрестил, проговорив: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!» Сначала он коснулся лба, потом живота и поочередно правого и левого плеча. Потом он положил правую руку на голову Льва Алексеевича и, слегка сдавив ее, произнес: «Вразуми, Господи, раба Твоего Льва, помози ему и спаси его!»
Лев Алексеевич хотел было пошутить насчет удержания его рук: дескать, нет нужды меня так крепко держать, не сбегу. Но вдруг почувствовал какую-то тяжесть в языке. Язык, что называется, не ворочался, словно отказывался проговорить возникшую в уме шутку. И тело как-то обмякло, да и в голове как-то затуманилось, будто стал проваливаться в сон.
Старушки что-то щебетали про его добровольную помощь. Подошла еще одна женщина из церковной лавки с какими-то бумагами. Батюшка что-то отвечал ей, не выпуская правой руки гостя из своей левой, а правой подписывал принесенные ему бумаги. А потом повел его, держа за руку, как маленького, через церковный двор. Они долго пили чай и беседовали. Лев Алексеевич рассказал ему о своей жизни, о том, что произошло после его демарша, о том, что его даже в грузчики теперь не берут, о проблемах с женой. Ей пришлось написать в обком заявление о том, что она не разделяет политические взгляды мужа, — иначе бы их выселили из коттеджа. Он не может простить ей ее невольного предательства, а она горюет из-за того, что он «из-за своего длинного языка и психованного характера» потерял работу. Теперь старые друзья обходят их стороной. А он в семье не находит понимания и поддержки. Батюшка слушал его внимательно, иногда задавая вопросы. Потом предложил ему уехать хотя бы на время из города. Предложил поработать у своего брата-священника на восстановлении храма.
Ему, как энергетику, работы много: и проект составить, и в качестве электрика может потрудиться, да еще и сторожем, чтобы постоянно при храме быть. А поживет в церковной ограде, походит на службы, потрудится на Господа, и Тот все устроит. И смысл жизни ему откроется, и истинная иерархия ценностей, и как жить дальше.
Лев Алексеевич согласился сразу же, будто всю жизнь мечтал о подобном предложении. Батюшка оказался прав, но не совсем. Еще до переезда в другой город после нескольких бесед со священником Лев Алексеевич обрел веру в Бога. Да такую твердую, что ему самому казалось, что никакого атеистического прошлого у него вовсе не было. «Ведь все так просто. Как же я до сих пор не видел этого?! И мои коллеги не видят очевидной работы Божией во всем. А еще инженеры! Есть машина — значит, есть тот, кто ее придумал, кто запустил ее в производство. А насколько мир совершеннее всех механизмов. Один человеческий организм — это же чудо! Миллиарды клеток, система пищеварения, обмена. А глаз человеческий! А печень, а почки! Искусственная почка — агрегат с целую комнату. А Господь в такой маленькой человеческой уложил всяких протоков и сосудов — сотни километров. Поди, сделай. Без капитального ремонта по сто лет служит. А весь человек! Робота за миллионы долларов делают, чтобы он совершал несколько функций. А тут безо всяких миллионов — с женой пообнимался, и такой совершенный механизм выходит. Он же еще и чувствует, и страдает, и музыку и стихи пишет. Нет, велик Господь, создавший нас! И никакая космическая пыль после всяких первовзрывов за миллиарды лет сама по себе ни во что кроме пыли не превратится. Это все равно, что вытряхнуть пыль из пылесоса и путем изменения температур ждать миллиард лет, когда из нее образуется все то, что создано на земле. Экие чудаки! Это же вера у них такая. Верят в НИЧТО! Ничто само собой организуется в прекрасный мир, наполненный красотой и сложнейшими организмами. Как можно верить в то, что есть создание без Создателя. Абсурд! И все как загипнотизированные верят в этот абсурд». Так рассуждал новообращенный. Пытался он об этом говорить с бывшими сослуживцами, но они шарахались от него, как от зачумленного. С ними теперь не то что о Боге, о рыбалке было невозможно поговорить. Никто его никуда не приглашал. Звонки прекратились. С ним теперь даже не всегда здоровались. А ведь без малого двадцать лет он был душой компании, в которую входило большинство товарищей по работе.
И вот он исчез из коттеджного поселка. Исчезновение его заметили. Почему-то решили, что он поехал в Москву жаловаться. Начальство, чтобы его упредить, отослало в министерство такую «телегу», что она могла бы раздавить кого угодно. Из этой кляузы следовало, что во всем свете не было более опасного врага советской власти. Случись это раньше, не при Брежневе, а при его предшественнике Хрущеве, Льву Алексеевичу не миновать бы посадки. Но из министерства никакого грома не прогремело, а пришла стандартная отписка, рекомендовавшая начальству поступать с преступником по своему — местному усмотрению. Вскоре узнали, что Лев Алексеевич подался в церковные сторожа. Все дружно решили, что он просто сошел с ума, и постарались поскорее о нем забыть. Но одно всесильное ведомство сделало оргвыводы. И на всех предприятиях области было велено усилить атеистическую работу. Это ни к чему не привело. А вот жены бывших сослуживцев Льва Алексеевича почему-то стали частенько захаживать к жене опального коллеги. Она довольно скоро успокоилась, перестала осуждать мужа и под воздействием бесед с батюшкой, устроившим судьбу ее благоверного, стала потихоньку ходить в храм.
У нее появились Евангелие, учебники по катехизации, молитвословы, церковные календари. Она дарила их своим соседкам. И, что самое удивительное, никто на нее не донес. Жены оказались намного порядочнее и мужественнее своих мужей. А потом и горбачевская вольница наступила. О Церкви заговорили с интересом и уважением. И те, кто несколько лет шарахались от Льва Алексеевича, старались залучить его в гости, как только он приезжал домой. Он не помнил обиды и рассказывал «как инженер инженерам» о том, как премудро Господь устроил мир. Говорил он просто, доходчиво и «со властию»: энергично, тоном, не допускавшим возражений. Да и возражений особых не было. То, что его сослуживцы восприняли как сумасшествие, теперь виделось мужественным жертвенным поступком, свидетельствующим о его правоте.
Но в карьере священника у отца Льва проблемы были серьезные. Его постоянно переводили с прихода на приход. Только он начнет ремонт церкви — его тут же за двести верст, в глухой угол. Начнет на новом месте наводить порядок, собирать приход — опять перевод. Это было делом уполномоченного. Священники были бесправны. Особенно, если органы произвели их в неблагонадежные. Они по всякому поводу, да и без повода, могли лишить священника так называемой регистрации — справки о разрешении совершать священнодействия. А без такой справки иерею делать нечего.
С приходом к власти Горбачева жизнь Церкви стала полегче. Но и не всякий архиерей, не говоря о рядовом священстве, верил в то, что дарованные послабления искренние и что их не отменят в любое время.
Отца Льва к этому времени перевели в большое село и позволили ему строить церковь. Это был первый в области вновь созидаемый храм. До этого только ломали. Сам батюшка никак не мог поверить в то, что ему позволят довершить дело. Он торопился и совершал немыслимые подвиги. Приехав домой, он собрал бывших сослуживцев.
— Ну что, иуды, будем каяться? — начал он шутливо, но грозно. — У вас появился шанс загладить вину предательства. Жертвуйте деньги на строительство храма.
И пожертвовали. После первого сбора кто-то предложил каждый месяц отдавать «десятину» — десятую часть зарплаты. Жене отца Льва удалось подвигнуть женскую половину поселка на мораторий на новые наряды и траты на развлечения, пока отец Лев не закончит стройку.
Конечно, далеко не все были в восторге от этой затеи. Некоторые отказались давать деньги. И с десятиной не очень-то получилось. Но жизнь в небольшом закрытом поселке зачастую обязывает делать то, чего не хочешь. Тут даже отъявленным скупердяям трудно было маскировать жадность под «принципиальный атеизм». Особенно, когда жены постоянно твердят: «А что люди скажут?!»
Церковь отцу Льву удалось построить невероятно быстро. Через два года оставались штукатурные работы и небольшие доделки в электропроводке. Батюшка собирался закончить один из трех престолов и на Пасху служить в новом храме. А до Пасхи оставалось три недели. Пригласил на первую службу жертвователей. Несмотря на дальнее расстояние, многие собрались приехать.
Но тут случилась незадача. Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно было представить комиссии выполненные работы. Все были довольны, но районный специалист по электрике — дама, очевидно иной веры, наотрез отказалась подписывать акт приемки. Формально она была права. Электропроводка в нескольких местах была не закончена. Доделка заняла бы день-другой. Но она с такой ненавистью смотрела на отца Льва и на церковные стены, что было ясно: ее принципиальность объясняется далеко не производственными резонами. Напрасно отец Лев объяснял ей, что он ее коллега с тридцатилетним стажем работы. Он сам готов за ночь все доделать. Ведь если она не подпишет акт приемки, то следующую комиссию можно будет собрать очень не скоро. А через три недели Пасха, на которую он уже пригласил сотню гостей. Будет сорвана пасхальная служба.
— Ну и прекрасно! — засмеялась ему в лицо электроначальница.
Отец Лев почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Он задрожал и еле сдержался — так ему захотелось плюнуть в этот смеющийся рот. Не над ним смеялась эта дамочка, а над Господом. Он не мог этого вынести и гневно пообещал «сатанистке и христоненавистнице» страшную кару.
Дамочка перестала смеяться, долго с ненавистью смотрела на отца Льва:
— Не знаю, кто меня покарает, а вот ты, поп, получишь.
На следующее утро возле стройки остановилась черная «волга». Из нее вышел двухметровый товарищ в дорогом костюме.
— Где тут ваш поп? — обратился он к рабочим, вышедшим из вагончика-бытовки.
— Да вон, на крыльце.
Отца Льва можно было узнать только по бороде. Он был в заляпанном бетоном халате и пилотке, сделанной из газеты. Гость быстро подошел к отцу Льву и схватил его обеими руками «за грудки». Он сжал халат у самого горла и закричал на всю стройплощадку:
— Ты как с моей женой разговаривал, толоконный лоб?
Отец Лев прокашлялся и тихо проговорил: «Отпустите. Со священником так себя не ведут».
— Ишь ты. Какие нежности. Забыл, как вас пачками к стенке ставили и в нужниках топили!? Забыл? Так я тебе сейчас напомню.
— Рабочие смотрят. Не унижайте себя, — еще тише проговорил отец Лев.
— Я щас тебя унижу. И не только перед рабочими, — прошипел незваный гость.
Он был выше отца Льва на целую голову. Еще секунда, и здоровенный кулак сломал бы священнику нос. Отец Лев не помнил, как уклонился от удара и вырвался из крепкой хватки. Через какое-то мгновение обидчик оказался в пяти метрах от него в ванне с остатками раствора. Рабочие одобрительно кивали головами и показывали батюшке большой палец. Никто не поспешил помочь гостю выбраться из ванны. Отец Лев постоял немного, глядя на то, как дорогие туфли выписывают в воздухе над ванной замысловатые кульбиты, усмехнулся и, взяв незадачливого мстителя за шиворот, сильным рывком вырвал его из грязевого плена. Нужно было видеть, как его без особого успеха отмывали из шланга. Чтобы не испачкать машину, гостя облачили в какую-то рваную спецовку. Дорогой костюм он все же приказал шоферу завернуть в полиэтилен и положить в багажник.
Извергая Ниагару брани и угроз, он укатил, а через день за отцом Львом прислали машину из епархии.
На епархиальном собрании тон задавал уполномоченный. Владыка был печален. Таким его еще не видели. Он грустно объявил о причине внеочередного собрания и попросил отца Льва рассказать о том, что произошло. «Мститель за жену» оказался большим начальником. Отец Лев поднялся и кратко рассказал о том, как вела себя жена этого товарища, о том, что он обещал ей кару Господню за богохульство. Ну и подробно историю того, как ее муж приехал наказать его.
Отцы слушали молча. Многие сидели опустив головы. Когда отец Лев закончил, секретарь епархии принялся витиевато рассуждать о христианской любви и о том, что всегда можно найти способ полюбовно решить любую проблему. А вот этого-то дара у провинившегося батюшки и не наблюдается. И в то время, когда государство перестало враждовать с Церковью, он своей несдержанностью сотворил двух ее врагов. Это ли должен делать пастырь?!
Уполномоченный торжествовал. Появилась возможность без особого труда покончить с неугодным иереем. Он, не скрывая радости, заявил о необходимости строго соблюдать постановления Вселенских Соборов и даже назвал правило, по которому священник извергается из сана за рукоприкладство. Все были поражены. Раньше он подобных знаний не демонстрировал. Однако все знали, кто его консультировал и стучал на отцов.
Наступило долгое молчание. Неожиданно духовник епархии восьмидесятилетний отец Димитрий поднялся и обратился к уполномоченному: «А вы, часом, не помните, что писал Иоанн Златоуст о мирянах, поднявших руку на священника?»
Уполномоченный обалдело смотрел на старца, не находя, что ответить. Духовник сел, а батюшки загудели, спрашивая друг друга, что такое изрек Златоустый Иоанн.
Уполномоченный строго оглядел зал: «Меня партия поставила на эту должность не для того, чтобы я вел с вами богословские разговоры. Мне нужно следить за тем, чтобы вы не нарушали социалистическую законность. Это в первую очередь…» Он запнулся, не находя подходящих слов. Да и непросто было их найти, когда первый секретарь партии Горбачев выдавал с высоких трибун тирады, противоречившие внутренним установкам его организации. Уполномоченный и сам не мог толком понять, что он нынче должен делать, а чего делать на всякий случай не стоит. Но он твердо знал, что самый ненавистный во всей епархии поп должен быть уничтожен. И непременно сегодня. Он снова грозно оглядел присутствовавших.
— Я, конечно, должен лишить за такое безобразие Льва Алексеевича регистрации, а если пострадавший подаст в суд, то дам соответствующую характеристику. (Уполномоченные никогда не называли священников «отцами», а только мирскими именами. Особенно это было нелепо, когда они обращались к монахам и архиереям. Скажем, вместо «отец Мелхиседек» — Кузьма Степанович.)
Уполномоченный снова замолчал, победоносно глядя на отца Льва. Тот медленно поднялся и, обратившись к владыке, громко сказал: «Вины моей нет. Я этого артиста не бил, а только увернулся от его удара». Потом он повернулся к уполномоченному: «А что касается регистрации, то я так скажу: пройдет несколько лет — и духу вашего не будет. Будете у себя на даче колорадских жуков регистрировать. А когда помрете, то я вас отпевать не стану. Даже если ваша жена будет слезно просить».
Сказал и сел. В зале поднялась немыслимая кутерьма. Все заговорили сразу. Но громче всех был слышен бас соборного протоиерея Кузьмы: «Да как же ты, отец Лев, откажешься отпевать? Ну, ты даешь».
— Да он ведь некрещеный, наверное, — раздался чей-то голос из задних рядов. — Надо спросить, крещеный он или нет, пока он тут.
Уполномоченный от такого поворота словно окаменел. Пока священники обсуждали проблему того, что с ним делать после его неминуемой кончины, он сидел, тяжело дыша, и вдруг срывающимся голосом закричал: «Прекратите этот поповский базар!» Он хотел добавить что-нибудь оскорбительное, но внезапный кашель не позволил ему. Он просто зашелся в кашле. Собрание умолкло. В наступившей тишине хриплый кашель стал походить на собачий лай. Уполномоченный вскочил и, семеня заплетающимися ногами, не переставая кашлять, бросился вон из зала.
— Эк его бесяра скрутил, — сказал кто-то в заднем ряду.
Владыка поднялся с места. Все затихли.
— Давайте, пока уполномоченный не вернулся, решать, что делать с отцом Львом. Либо запрет, либо за штат… Уполномоченный настаивает на лишении сана.
Снова поднялся шум. Владыка поднял руку, стараясь успокоить отцов.
— Вы, отец Лев, в который раз ставите меня в подобное положение. Сколько лет уже в сане. Пора бы научиться сдержанности.
— Какая сдержанность с врагами Церкви, — проворчал отец Лев.
— Ну вот. Вижу, что ничего не поняли. Это из партии можно было уйти хлопнув дверью. А ведь вы иерей Бога Живаго. От Бога не уйдешь.
— А я и не собираюсь. И вас прошу не лишать меня сана. Я, ваше преосвященство, тогда погибну.
Он помолчал немного и, упрямо тряхнув головой, произнес:
— Да не слушайте вы клеветников. Они вынудили меня…
— Опять они. Да скажи хоть что-нибудь о своей вине.
— Виноват в том, что доставил вам неприятности, а в том, что не уступил врагам Господа нашего, вины не нахожу, — отец Лев оглядел притихших отцов. — Простите, ваше высокопреосвященство. И вы, отцы, простите. Я, наверно, что-то не понимаю. Не достиг меры мудрости вашей. Не разумею политеса и всякой политики. Простите.
Владыка едва заметно улыбнулся и сел.
— Так что же нам, отцы, делать?
С минуту стояла тишина. Духовник епархии отец Димитрий громко скрипел стулом. Он тяжело поднялся и вздохнул.
— Благословите, владыка! Вы все знаете о моем преступном прошлом. Десять лет лагерей и семь лет ссылки. Старый лагерник. А кто меня туда упек? Да такой же товарищ, как и тот, что повелел собрать нас здесь. Вон он в сенях кашляет. Сажать они нас могут. А вот решать, кому быть в сане, а кому нет — позволять им нельзя. Да и кого он приказывает лишить священства! Отца Льва! Простите отцы за правду, но он, может быть, более всех нас достоин сана. Вспомните, как он пришел в Церковь. На какие жертвы пошел. А как он исполняет свои обязанности! Сколько храмов отремонтировал! Церковь новую построил! Сколько безбожников к Богу привел! А как он к нам на престольные праздники приезжает. Никого не забудет: ни матушек, ни детушек. Всех по именам помнит, всех одарит. Для всякого слово доброе найдет. А что несдержан… Так я ему даже завидую. Не всякий из нас имеет дерзновение с врагами Церкви воевать. Мы ведь боимся. Начальства, место потерять, регистрации лишиться. А он не боится. Молодец! Достойный пастырь. Его не сана лишать, а за великие его труды предлагаю наградить митрой.
Архиерей даже крякнул от неожиданности.
— Как наградить?! Мы должны решить вопрос о наказании отца Льва…
— Митра, владыка, его смирит. Попомните мое слово. Вы же его после моей смерти еще и духовником епархии назначите.
Пока владыка нервно перебирал какие-то бумаги, несколько раз открывал и закрывал кожаную папку, священники дали волю эмоциям. Кто-то смеялся, кто-то недовольно гудел. Несколько человек наперебой рассказывали о том, как отец Лев помог им. Отец Димитрий повернулся к виновнику собрания и громко стал давать совет, что делать, когда гнев начнет обуревать его:
— Ты, отче, что б тебе ни говорили, молчи и читай Иисусову молитву, а потом и скажи про себя: «Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене». Так говори всегда, когда начнешь гневаться. Постепенно в уме и сердце созреет понимание, что гнев тебе не по чину. Не имеешь на него права. Я так от гневливости излечился. Даст Бог — и тебе поможет.
Видя, что отцы все больше воодушевляются и все громче галдят, епископ закрыл собрание. Уполномоченный так и не вернулся.
Через три недели отец Лев служил пасхальную службу в приделе Святого Георгия Победоносца. Он не стал дожидаться позволения, сам закончил проводку и отштукатурил стены. Народу было — полный храм. Бывшие сослуживцы приехали на двух автобусах. На Антипасху отец Лев был награжден митрой. Через три года был назначен духовником епархии. Он действительно стал удивительно кротким. Говорил немного, взвешенно и мудро. Прежде чем дать ответ, минуту-другую молчал. Скончался он прямо на амвоне от разрыва сердца, давая после службы прихожанам крест.
В суд тогда на отца Льва любящий муж не подал. Его подруга неожиданно для него воспользовалась горбачевской свободой и уехала из России. Уполномоченный после того епархиального собрания потерял прыть. Долго болел. В дела правящего архиерея перестал вмешиваться. На приходах вообще не появлялся. А через год умер. Он оказался крещеным, и вдова отпела его. Правда, заочно и вдали от областного центра.
О попе и «мерседесе»
У отца Виктора Нечаева были печальные глаза. Все, кто смотрели в них, чувствовали либо жалость и симпатию к нему, либо неловкость — словно были виновниками чего-то такого, что сильно его огорчило. Да и во всей его сутулой фигуре было что-то печальное. Может быть, поэтому он проходил в дьяконах пятнадцать лет.
— Ну какой ты священник, когда ты все время унываешь! — говорил ему секретарь епархии, объясняя очередной отказ рукоположить его во пресвитера.
— Я не унываю. Я печалюсь, — тихо отвечал дьякон.
— Печалишься. А ты не печалься. Смотри орлом. Владыка не любит мямлей. Печалюсь… Тоже мне, «рыцарь печального образа». Ты можешь себе представить Дон Кихота с кадилом?!
Конечно, причина отказа в священстве была не только в печальном зраке дьякона Виктора. А печалиться ему было отчего. Сколько он себя помнил, поводов для радости в его жизни было немного. Он был внуком репрессированного профессора. Дед его озеленял южные степи лесополосами и угодил на просторы ГУЛАГа по доносу одного из своих коллег. Его обвинили в отравлении колхозного стада. Навет был нелепым, но это не помешало грозным дядям осудить его на 10 лет за «вредительство». Слава Богу, он выжил, вернулся домой и даже был восстановлен на родной кафедре. Но его любимый ученик, женившийся на его дочери, бросил ее вместе с полугодовалым сыном, как только узнал об аресте тестя. Так что Виктору не удалось испытать отцовской любви. Мать его — Вера Сергеевна — так и не вышла во второй раз замуж. В их профессорской квартире (прадед и прапрадед тоже были профессорами) семье Нечаевых оставили две комнаты, а в отобранные три вселили три семьи. Новые сожители в количестве шестнадцати человек пламенно возненавидели бывших хозяев. Чего только не натерпелись мать и бабушка Виктора, став «жиличками» коммунальной квартиры. Бабушка скончалась еще до войны. Она с великим трудом переносила унижения и издевательства властей и соседей. Виктора соседские дети нещадно били. Как только он оказывался в коридоре, все двери мгновенно распахивались и трое мальчишек с двумя девчонками выскакивали, как бесенята из коробки, и начинали лупцевать его, приговаривая: «Советская власть вас не добила, так мы добьем. Ишь, буржуи! Две комнаты на двоих»… Конечно, это не дети придумали…
Вере Сергеевне редко удавалось прийти на помощь сыну. Она работала на полторы ставки в районной поликлинике. Витя после школы шел прямо домой, если не нужно было заходить в библиотеку сдавать прочитанные книги. Он читал в своей комнате, но время от времени нужно было все же выходить в коридор. Чуть ли не каждый вечер Вера Сергеевна, открывая входную дверь, видела одну и ту же картину: сын, прижатый к стене, закрывает лицо руками, а трое или пятеро отроков с отроковицами, расталкивая друг друга, пинают и бьют его кулаками. Она бросалась на выручку. Зверята со смехом и визгами разбегались по своим логовам, выкрикивая угрозы и обещая продолжить прерванную экзекуцию. Это, однако, не мешало матерям этих детей обращаться к Витиной матери, когда их жестокие сорванцы подхватывали какую-нибудь болезнь. Вера Сергеевна безо всяких упреков принималась лечить заболевших, хотя очень часто ей хотелось своими руками задушить этих злобных созданий.
— Мама, не лечи их, — просил Витя.
— Не могу. Я врач, — отвечала Вера Сергеевна, прижимая его к сердцу, целуя и стараясь утешить. — Терпи, Витенька. Господь терпел, и нам надо терпеть. Они исправятся. Им же самим от их злобы одно мучение.
— Ну да, мучение! Они хохочут и радуются.
— Это не радость, а болезнь души. Рано или поздно они поймут это.
— Поймут… Когда добьют меня.
— Терпи, мальчик. Господь сказал: «В мире скорбны будете».
Но терпеть было очень трудно. Особенно когда под глазом появлялся багровый синяк и одноклассники предлагали такой же поставить под другим глазом «для красоты и симметрии».
Ситуация изменилась, когда из лагеря вернулся дед. Долгое пребывание в среде урок кое-чему научило «гнилого интеллигента». Увидев, что вытворяют соседские дети с его внуком, он вызвал на разговор их родителей и сумел сделать так, что Витю оставили в покое. Но если коридорные избиения прекратились, то во дворе и в школе его время от времени все же бивали.
А бивали за то, что он учился на одни пятерки, не играл вместе со всеми ни в войнушку, ни в футбол, не курил и не сквернословил. Все свободное время проводил за книгой. В четырнадцать лет свободно читал в подлиннике Гете и Шиллера. Но главное — по воскресеньям с матерью ходил в церковь. А уж за это сама партия требовала строгого наказания.
В университет Виктор поступил без блата. Дед его скончался, и замолвить слово за него было некому. Да и не было особой нужды. В то время еще принимали за знание, а не за мзду. Сокурсники Виктора уважали. У него появились друзья. Университет он окончил с красным дипломом, поступил в аспирантуру и через три года защитил кандидатскую диссертацию. Его труды по лесным биоценозам публиковались в зарубежных ботанических журналах. А в перестроечные годы ему даже удалось выступить на нескольких международных конференциях за пределами России.
Научная карьера удалась. Мизерное жалование его не очень огорчало. Уезжать из России он не собирался, хотя получил приглашения из нескольких немецких университетов. Мать его была хорошей хозяйкой и умела довольствоваться немногим. Ее собственной пенсии и денег сына и в самые трудные годы хватало для сносной жизни. Она даже выкраивала средства для помощи родственникам, бедовавшим в провинции.
Беда была в другом. Виктор никак не мог жениться. Он был застенчив и робок, а с девушками терялся до такой степени, что лишался дара речи и краснел, как, если верить поговоркам, краснели некогда девицы.
Ему было тридцать, когда из Саратова приехала приемная дочь племянницы Веры Сергеевны Мария. Она поселилась у них и стала прекрасной помощницей во всех хозяйственных делах. В медицинский институт она не попала, но поступила в медицинское училище. Вера Сергеевна, выйдя на пенсию, продолжала врачебную практику. Но только, в отличие от своих коллег, открывавших платные клиники и консультации, лечила людей бесплатно. От клиентов не было отбоя. Их поставлял духовник Веры Сергеевны. Некоторые лекарства она готовила вместе с Машей, Использовала травы и минералы. Рецепты этих лекарств хранили в их семье более двух веков. Денег даже за лекарства Вера Сергеевна не брала. Таково было ее послушание. Лишь тортики и конфеты позволялось оставлять в благодарность за труды. Да иногда исцеленные пациенты дарили Вере Сергеевне цветы, духи или бутылочку кагора. Так что в семье Нечаевых началась «сладкая жизнь». К тому времени их коммуналку расселили. Остался лишь спившийся ровесник Виктора. Вера Сергеевна его подкармливала и даже стирала его рубашки. Этот сосед был самым жестоким в детстве.
В последние годы Вера Сергеевна почти каждое утро стала ходить в церковь. Для этого нужно было лишь перейти дорогу и пройти через небольшой сквер. Маша часто сопровождала ее. Перед сном они втроем читали вечернее правило.
Как Виктор с Марией стали мужем и женой, они через двадцать лет не могли точно припомнить. Полтора года они жили под одной крышей. Маша считала его своим троюродным братом и относилась к нему по-братски. Но в один прекрасный вечер знакомая инокиня, часто навещавшая Веру Сергеевну, завела разговор о том, что Виктору давно пора жениться. Десять лет, на которые он был старше Марии, — великое благо: муж должен быть старше жены. А коли нет кровного родства, то надо срочно пожениться. И они послушались. Расписались по-тихому — в комнате ЗАГСа, где выписывают свидетельства о браке без депутата и марша Мендельсона. Это им устроила та самая инокиня. Зато венчание было торжественным и даже богатым. Венчал их духовник Веры Сергеевны. А один из ее клиентов организовал в собственном ресторане такую свадебную трапезу, что приглашенные гости сразу заподозрили Веру Сергеевну в том, что деньги она все-таки с «богатеньких» брала. Брак оказался не по-современному плодотворным. Через семь лет у них было пятеро детей. Прокормить такую команду было непросто. Слава Богу, в их приходе наладили передачу детских вещей и колясок от выраставших детей народившимся. С прокормом было сложнее. Виктор по выходным дням стал алтарничать и читать Шестопсалмие и Апостол в соседнем храме. Ему доставалось кое-что с кануна да настоятель — духовник Веры Сергеевны подбрасывал небольшие суммы. Голодать не пришлось. Через год пребывания в чтецах настоятель предложил ему рукополагаться. Для начала в дьяконский чин, а через некоторое время и во священство. И Вера Сергеевна, и Маша были очень рады такой перспективе. Мать давно мечтала о том, чтобы Виктор стал священником. Сам он об этом подумывал, но как-то не конкретно.
— Хорошо бы, да уж больно недостоин. Да и людей плохо понимаю. Сейчас с такими проблемами обращаются к священникам, что и опытным старцам трудно в них разобраться, — объяснял он настоятелю свою нерешительность. На что тот отвечал:
— Ты этого не бойся. Думаешь, я вникаю во всю географию греха, в которую меня каждый день погружают. Главное, понимать, что греховно, а что нет. А детали лучше не знать. Я не позволяю мне рассказывать подробности всяких гадостей. Прерываю, а то с ума можно сойти. Нужно не потворствовать греху, но и не налагать на грешников бремена неудобоносимые. А то ведь не поможешь им, а вконец добьешь. Народ у нас больной. Его жалеть нужно. Целый век во мраке без Бога ходим. Душа у тебя чуткая, добрая. А это главное. И молишься ты усердно. Будешь молиться — Господь откроет тебе духовное зрение. Все будешь видеть. И все понимать. Ты не лентяй. Трудись — и Господь все устроит.
Дьяконом Виктор стал без особых трудностей. А вот дальнейшее движение застопорилось. Дьяконов в городе было много. Но в некоторых храмах старались обходиться без них. В штат какой-нибудь церкви попасть было сложно. И Виктор кочевал меж трех храмов, где ему позволяли служить. Но происходило это нерегулярно. То подменит уходящих в отпуск, то заболевших. У его благодетеля штат был переполнен. Но он все равно позволял ему служить. Все знали о его многочадстве и жалели его. Неожиданно скончался настоятель. Его рекомендации много значили, и секретарь епархии обещал не тянуть с рукоположением Виктора. Но случилась незадача. На трапезе в кафедральном соборе по случаю престольного праздника правящий архиерей был необычайно весел. Он похвалил соборных священнослужителей за прекрасную службу и замечательную трапезу и со смехом рассказал о своем последнем архиерейском разъезде. В одном из храмов, в каких-то пятидесяти километрах от города, у настоятеля нет ватерклозета.
Это же дикость в двадцать первом веке! Нужно не только шагать в ногу с современностью, но и обгонять во всем светских людей…
— На «мерседесах»? — проговорил дьякон Виктор. Произнес он это тихо, но владыка услыхал и замолчал. Секретарь «сделал страшные глаза».
— Ну вот, — обратился архиерей к секретарю, — наверно, он хочет, чтобы я ездил на «запорожце».
— Простите, владыка, — испуганно забормотал Виктор. — Я совсем не вас имел в виду. Вчера прочитал статью про «попов на мерседесах»… Он запнулся.
Владыка пристально глядел ему в глаза.
— И что же?
Виктор почувствовал, что сейчас расплачется. Действительно, и что же? Он не понимал, как сорвалась у него эта дурацкая реплика и что он имел в виду. Кто его дернул за язык? Он, такой стеснительный, съязвил архиерею. Как это могло произойти? Он ведь никогда никому не говорил дерзостей. И при чем тут «мерседесы», когда владыка говорил о сортирах и необходимости быть современными? Нет, тут не обошлось без нечистой силы. Но как это объяснить, когда сам не понимаешь, что произошло? И вдруг он вспомнил, что в епархии был лишь один «мерседес» — у владыки. Все понимали, что остальным езда на «мерседесах» не по чину. Состоятельные протоиереи ездили на БМВ и на японских машинах. Виктор хотел сказать, что упомянутая им статья была дерзкая и несправедливая. Писалась она по заказу врагов Церкви. Но начал он не с того. А закончить вразумительно не сумел.
— Я подумал, что нам нельзя давать поводов для критики. Ведь не нас критикуют, а Церковь, — пробормотал он и понял, что говорит совсем не то. Лучше бы и вовсе не оправдывался. — Простите, владыка.
В голове у него гудело. Сердце билось часто, словно он пробежал несколько верст без передышки.
Владыка продолжал молча пристально смотреть на него. Секретарь поднялся из-за стола и, ухмыльнувшись, произнес:
— Вот мы и не будем давать поводов критиковать Церковь. Мы подождем с твоим рукоположением.
А то глядя на тебя народ подумает, что у нас все такие умники.
Всю ночь Виктор беседовал сам с собой, пытаясь сочинить внятное объяснение происшедшего конфуза. Но ничего путного так и не придумал. Бес попутал, да и только. Но валить все на бесов было никак нельзя. Владыка очень не любил, когда поминали рогатых товарищей и пытались собственные проделки объяснить их кознями. Надо же было такому случиться! Ведь его участь практически была решена. Оставалось только ждать назначения даты рукоположения. Владыка любил образованных людей. И Виктор ему в первую встречу понравился: ученый, из хорошей семьи. С корнями. Секретарь ему тоже мирволил. Это он пригласил его на эту трапезу и даже просил сказать тост. Да такой, чтобы все увидели, что в его лице епархия обретет ценного иерея. И вдруг такое…
На следующий день он позвонил секретарю, но тот, услыхав его голос, швырнул трубку. Что делать? Виктор написал секретарю и архиерею письмо, но прочитав его, понял, что извинения его глупы и неубедительны. О том, что произошло на архиерейском обеде, он не стал рассказывать ни жене, ни матери. А через неделю пришло уведомление о том, что штат лаборатории, в которой он продолжал работать, сокращен. И это сокращение касается его лично. Директор института — большой либерал и, по его признанию, гностик — открыто поносил Православие и нелицеприятно говорил о высоком начальстве, зачастившем в храмы Божии. Узнав о том, что его сотрудник стал дьяконом, он прилюдно заявил, что не позволит превращать научное заведение в «поповский притон». Так и сказал. Но повода уволить Виктора долго не находил, пока не пришел приказ о сокращении штатов. Виктор мог бы воспользоваться своим многочадием (у него уже было шестеро детей) и восстановиться на работе по суду. Но он не стал этого делать. Знакомые помогли ему устроиться сразу в две школы, где он стал преподавать биологию. Делал он это очень хорошо. Сам составил лекции. Ученики с большим интересом посещали его уроки. Удивительно, поскольку другие предметы они не жаловали. Это были не элитные школы. Обыкновенные районные. Со всеми прелестями реформенного безобразия: с сокращением уроков истории и литературы, зато с введением секспросвета под видом невиданной доселе валеологии.
Директор с завучем одной из этих двух школ никак не могли понять причины внезапной популярности биологической науки, пока не пришел донос: «Учитель Нечаев (он же дьякон Виктор) на своих занятиях критикует теорию Дарвина и рассказывает сказки о сотворении мира Богом. Для доказательства приводит мнения ученых, таких, как Паскаль, Ньютон и прочих, веровавших в Бога и бывших богословами. Он также знакомит учеников с трудами современных деятелей науки — академика Раушенбаха и профессора Тростникова, доказывающих бытие Божие, и в занимательной форме ведет религиозную пропаганду».
Побывав на уроках отца Виктора, директор одной из школ пришел в восторг и пригласил замечательного педагога заниматься индивидуально с его внуком. Лекции же попросил откорректировать. «Ты обезьяну не трогай. Это для них святое. Теорию эволюции не громи, а рассказывай о разных взглядах на происхождение человека», — попросил он.
Несколько активно неправославных родителей пообещали пожаловаться в городской отдел образования, если директор не «наведет порядок». На общем родительском собрании, где отца дьякона обвинили в том, что он в явочном порядке без разрешения ввел в школе религиозную дисциплину, отец Виктор напомнил, как в их школе уже опробовали «пилотные проекты» по развращению детей и оболваниванию их американскими сектантами. Тогда никто из родителей не протестовал и доносов не писал.
После этого собрания на отца Виктора написали донос в епархию и из одной из школ его уволили. Владыка разбираться с ним не стал, а секретарь по телефону приказал дьякону вести себя так, чтобы у архиерея впредь не было нужды знакомиться с его очередными подвигами.
После этой отповеди Виктору стало понятно, что о священническом сане не может быть и речи. Жилось его семейству непросто. Вырастали дети, росли и потребности. Но Господь и на этот раз призрел на бедного дьякона. Его пригласил служить по выходным, без включения в штат, замечательный батюшка. Храм его находился на кладбище. А такие храмы не знают кризисов. В те годы смерть разила своей косой с особым усердием. Кладбищенским священникам и дьякону Виктору отдыхать не приходилось. Его и в будние дни приглашали служить. Наступившее относительное благополучие смущало Виктора. Старший сын постоянно подтрунивал над ним: «На жмуриках поднялись». В переводе с жаргона музыкантов, игравших на похоронах, это означало: «На покойниках богатеем». Богатства отец Виктор не нажил, да и длилось это благополучие недолго. И этот настоятель вскоре ушел в мир иной, а новый объявил отцу Виктору, что ни на одном кладбище с дьяконами покойников не отпевают.
Снова начались для семейства Нечаевых трудные дни. Умерла Вера Сергеевна. Сладкая жизнь закончилась. Тортики и конфеты исчезли. Отца Виктора приглашали служить все реже и реже. Школьные заработки были скудны. Но тут старший сын Владимир, став студентом финансового института, неожиданно был принят бухгалтером в престижную фирму. Жалование ему положили изрядное. Он перевелся на вечернее отделение и стал кормильцем многочисленного семейства. К тому же Мария кроме работы в больнице начала по просьбе клиентов Веры Сергеевны готовить «фирменные Нечаевские» мази и травяные сборы — эффективные средства от многих недугов. Но, в отличие от покойной свекрови, подвига нестяжания она на себя брать не стала. Скромную плату все же назначала. Благодарные клиенты зачастую давали и больше просимого.
Скончался и правящий архиерей. Секретарь куда-то исчез. Но и при новом владыке Виктора рукополагать не спешили. Он «не глядел орлом», да к тому же еще конфуз на том злосчастном архиерейском обеде оброс небылицами. Новому владыке отец Виктор был представлен как «критикан, не уважающий начальство». Одним словом — крамольник и чуть ли не протестант. Однажды при прежнем владыке отец Виктор случайно обнаружил знание немецкого языка. Из Германии приехала делегация протестантских епископов, а приставленный к ним переводчик не знал церковной лексики. Отец Виктор спас положение. Целую неделю он сопровождал немецких гостей и переводил их беседы на различных встречах со священнослужителями и церковной общественностью.
Владыка остался им очень доволен. Вот бы когда поспешить с рукоположением. Но отец Виктор наивно полагал, что теперь архиерей сам решит, что ему пора стать священником. Но о нем забыли. Зато вспомнили о его знании немецкого после того самого обеда. Говоришь по-немецки — значит, уже наполовину протестант. «Хендэ хох!», да и только.
И все же дьякон Виктор стал иереем! Семерых детей даже в священнических семьях не часто встретишь. Каждое лето возникала проблема: где проводить каникулы. Дачи у Нечаевых не было. И вдруг позвонили из клуба православных родителей и предложили отправить пятерых младших в лагерь, расположенный на берегу большого озера. Этот лагерь находился в соседней епархии, и опекал его местный архиерей. В первую очередь принимали детей из многодетных семей и семей священников.
Отец Виктор обрадовался. Приглашение получили также его матушка и он сам. Матушка — на должность фельдшера, а он — педагога-воспитателя. А через некоторое время к ним присоединилась и старшая дочь Люба. Она накануне окончила регентские курсы. Вместе с матушкой они быстро собрали из детей священников хор, и когда на открытие лагеря приехал архиерей, встретили его таким замечательным пением, что владыка в шутку предложил им по окончании сезона идти к нему петь в кафедральном соборе. Владыке понравился не только хор, но и все, что приготовили к его приезду. На этой архиерейской трапезе судьба отца Виктора сложилась не в пример удачнее, нежели на предыдущей. Духовник лагеря попросил его сказать тост. Сильно волнуясь, Виктор произнес дежурное приветствие. Он помнил, что ему лучше при архиереях держать язык за зубами.
Но владыка этого ему не позволил. Узнав о том, что отец Виктор кандидат наук и школьный преподаватель, он стал расспрашивать его о том, как можно организовать учебный процесс в православной гимназии. Ответы отца Виктора владыке понравились.
— А почему вы дьякон? — спросил он. — Наверно, голос уникальный?
— Да нет, голос у меня посредственный. — И Виктор рассказал о том, как оконфузился и прослыл «начальствоненавистником и протестантом». Рассказал он это смешно, и владыка долго смеялся. А через неделю в лагерь прикатил архиерейский автомобиль, но без хозяина. Шофер сообщил, что машина прислана за отцом Виктором.
На следующий день во время воскресной литургии дьякон Виктор наконец-то был рукоположен во пресвитера и еще через день отправлен в монастырь, где ему предстояло отслужить сорок литургий. Наставлял его восьмидесятилетний игумен Корнилий, прослуживший Господу Богу более полувека. Он проявил поистине отцовскую любовь к молодому иерею. За полтора месяца пребывания в монастыре на Виктора было пролито столько любви, что она с лихвой покрыла недостаток того, что он мог получить от родного отца. В первую неделю отец игумен подолгу говорил с молодым священником обо всем: как нужно относиться к политике, ко греху, к человеческим слабостям. Он провел генеральную исповедь. Отец Виктор вспоминал все, начиная с раннего детства, что порой всплывало в его памяти и мучило совесть. Рассказал он и о том, как его били дети. Но это была скорее жалоба, а не исповедь. Отец Корнилий неожиданно надолго остановился на этих болезненных для Виктора эпизодах и стал подробно о них расспрашивать.
— А ты-то сам как относился к этим детям?
— Что вы имеете в виду? Как можно относиться к тем, кто тебя регулярно избивает?
— По-разному. Можно возненавидеть их, а можно попытаться понять, за что тебя бьют.
Виктор задумался:
— Как-то было не до раздумий. Поводов я не давал. Я не дразнил их, не придумывал обидных кличек. Просто не общался с ними и не обращал на них внимания.
— Так, может быть, в этом дело. Ты испытывал к ним ненависть?
— Да. Очень сильную.
— И никогда не пытался установить с ними контакт? Пригласил бы к себе в комнату, предложил бы какую-нибудь игру…
— Нет, батюшка. Мне и в голову такое не приходило. Я старался прошмыгнуть поскорее мимо, если мне удавалось.
— От деда с матерью ты, наверно, слыхал о том, что гегемон отнял у вас три комнаты и пользуется вашим добром?
— При мне они, насколько помню, об этом не говорили. Но я знал это. Комнаты им отдали со всем нашим имуществом. Мама даже не могла получить бабушкину шубу и одежду, потому что она осталась в шкафу, который соседи не отдавали. Не вернули нам ни картин, ни мебели. Особенно было жалко книг. Соседи их не читали, а продавали в «Букинист».
— Значит, ты с пеленок знал, что живешь во вражеском окружении, и относился к соседям, как к врагам?
— Пожалуй.
— Но ведь дети остро переживают, когда их не любят и презирают.
Об этом Виктор никогда не думал. Однажды Вера Сергеевна хотела пригласить маленьких соседей на его день рождения, но он устроил истерику и сказал, что убежит из дома, если она это сделает. Он действительно ненавидел их и мечтал о каком-нибудь взрослом заступнике, который бы регулярно делал с ними то, что они проделывали с ним. Вот и получается, что он был таким же злым мальчиком, только у него не получалось проливать эту злость, как у них. Отец игумен показал Виктору то, что он носил в душе всю жизнь, и даже не догадывался о том, что в этом нужно покаяться. Да, он был зол и мстителен в душе, желал обидчикам зла.
— А ты не пробовал молиться о них? Нам Господь заповедовал молиться о врагах наших.
— Ну, это, батюшка, высший пилотаж. Редкие взрослые на такое способны, а дети…
— Я знал и детей, которые молились о тех, кто арестовывал их родителей. Конечно, это, как ты выразился, высший пилотаж. Но христианство — это и есть самое высокое, что даровано человеку Господом. Нам нельзя «парить нызэнько». Саможаление и вражда на образ Божий делают бесполезной молитву. Мы ведь перед причастием слышим: «Прежде примирись с обижающими тебя». Господь молился за распинавших Его.
Все это Виктор знал с детства. Но лишь во время этой беседы почувствовал, что слова Евангелия обращены к нему лично. Отец Корнилий так просто объяснил ему причину его постоянного угнетенного состояния: непрощение обид и нереализованное желание отомстить. А также жалость к самому себе и презрение к ближним. Отсутствие любви, настоящей христианской любви — великая беда. И Виктору придется поработать над своей душой. Без любви из него не получится настоящий священник. А что такое любовь? Любил ли он кого-нибудь? Мать, конечно, любил. Но это был скорее инстинкт, а не высокое чувство. Он даже не был уверен, что любит свою жену. Они как-то обошлись без всего того, что так мучает в молодости. Не было никаких приступов страсти, не было ни томления, ни ожидания чего-то неведомого и прекрасного. Есть ли в нем готовность пожертвовать ради нее жизнью или чем-то очень дорогим?
Отец Корнилий долго сидел молча, словно давая возможность Виктору поговорить с самим собой и увидеть то, мимо чего всю жизнь проскальзывало его внутреннее зрение.
— Проси Бога, чтобы Он «дух прав обновил во утробе твоей» и чистоты сердца проси, но и сам себя блюди.
В тот же вечер отец игумен дал ему молитвенное правило. Монастырскому люду было приказано не замечать его: монахиням не обращаться ни с какими разговорами и ни с какими просьбами. Он не позволил ему исповедовать их. Это был очень ценный запрет. Виктору было необходимо побыть в тишине и мире. Это был первый опыт тихого, безмолвного жития. И он дал плоды.
Прошло несколько дней, и вдруг во время литургии Виктор почувствовал никогда ранее не испытываемый восторг. Такой же восторг он испытал во время следующего служения. Сердце его трепетало от радости. Оно наполнилось любовью. Конечно, это была любовь. Он сразу узнал ее. Это о ней говорил ему отец игумен. Наверно, по его молитвам Господь дал ему почувствовать, что это такое. В его душе тихо разгорался сладкий огонь. В этом пламени сгорели обиды, недовольства, страхи, недоуменные вопрошания к близким и самой жизни. Он любил всех. И если бы к нему подошли его обидчики из детства, он бы расцеловал их, как самых дорогих и близких людей. Несколько дней он проходил в этом радостном состоянии, боясь, что оно вот-вот прекратится. Но оно продолжалось почти до самого окончания его монастырской стажировки. Иногда чувство восторга было так сильно, что он начинал бояться, как бы душа его не покинула тело и не улетела к Тому, перед Чьим престолом он дерзнул предстать. Он даже дышать стал с осторожностью: ему казалось, что не воздухом наполняются его легкие, а Духом Святым. Он чувствовал приятный жар в ноздрях и легкое головокружение. Об этих ощущениях он боялся рассказать своему наставнику: а вдруг скажет, что это прелесть, и прикажет не обращать на них внимания.
Да еще подскажет, как от них избавиться. А ему так не хотелось от них избавляться. Но эти ощущения очень скоро прекратились. Восторг же он продолжал испытывать за каждой службой. В теле его появилась необыкновенная легкость. Он буквально порхал вокруг престола и по амвону. Он и внешне изменился: перестал сутулиться. В глазах исчезла не покидавшая его всю жизнь печаль. Он с удивлением рассматривал в зеркале свое лицо и не мог поверить в то, что такое возможно.
— Пожалуй, скоро орлом начну глядеть, — усмехался он, вспоминая науку секретаря теперь уже соседней епархии.
Игумен видел его состояние и радовался за него. Но восторг покинул отца Виктора, как только он оказался на месте назначения. Это был военный городок, переставший быть таковым. Воинскую часть расформировали. Большая часть уволенных военных разъехалась, а оставшиеся, вместе с потерявшим работу обслуживающим персоналом и гражданскими пенсионерами, пребывали в унынии и хроническом безделии. Летом и осенью жили лесом: грибы да ягоды и круглый год — рыбалкой. Рыбачили не все, но пьянствовало не только мужское население, но и большая часть женского. Несколько жительниц этого городка написали в епархию письмо. Это был крик коллективной души. Писали о том, что народ погибает от пьянства и невозможности найти работу. Смысл жизни и сама воля к жизни у многих утеряна. Нужно срочно прислать грамотного священника для просвещения народа. Владыка уже присылал в этот городок троих кандидатов, но те, увидев, что церкви нет, да и с паствой негусто, отказывались выполнять волю владыки. Лишь один служитель алтаря продержался здесь три месяца, а потом сбежал, затерявшись где-то на просторах Малороссии.
Отец Виктор отказаться не посмел. О строительстве храма речи не шло. Под церковь отдали здание бывшего клуба. Большевики храмы либо взрывали, либо устраивали в них склады и клубы. Здесь же получилось наоборот. Да к тому же храм был назван в честь Новомучеников Российских. Их отец Виктор почитал сугубо. Один из его дедов был расстрелян, другой провел в лагере десять лет.
Под храм была приспособлена половина клуба. В другой отцу Виктору предстояло организовать себе жилье. Между двумя частями клуба просторное фойе с закутком для книжной лавки и отгороженным помещением для воскресной школы и трапезной. Места для начала предостаточно. Только заполнять его было некем. На службы приходили даже не все активистки, составившие прошение об открытии церкви. На воскресной службе не всегда можно было насчитать десяток благочестивых старушек. Престол уже был освящен при предыдущем священнике. Хлипкая фанерная перегородка, отделявшая алтарную часть, всякий раз при открытии царских врат и дьяконских дверей ходила ходуном, норовя завалиться на престол. Нужно было срочно укреплять ее. Пришлось отцу Виктору освоить премудрость столярного дела. Все попытки его прихожанок упросить кого-нибудь из мужчин поработать в храме оказались безуспешными. За короткое время отец Виктор познакомился с родным народом, вернее, с той его частью, для которой Церковь оставалась прежней карикатурой, нарисованной большевиками: сборищем обманщиков и эксплуататоров, сидящих на шее у трудового народа. Отца Виктора трудно было заподозрить в эксплуататорских замашках. Весь городок знал, как он добывает пиломатериалы для церкви, как сам строгает и пилит, стучит молотком и красит вместе с детьми облупленные стены бывшего клуба. А потом с женой и потомством идет в лес, запасаться на зиму грибами. Слава Богу, год выдался урожайным. Они успели собрать бруснику и клюкву, насушили около четырех килограммов грибов. Тех рублишек, которые вносили в церковный корван прихожанки, едва хватало на хлеб. Правда, на кануне — поминальном столике — иногда появлялись целлофановые мешочки с картошкой и прочими дарами огородов. Но не скудный паек огорчал отца Виктора. Трудно было пробудить в народе веру и понимание того, что Церковь необходима человеку для спасения. Здесь, к его удивлению, успели поработать еретики. Странно было слушать отставного подполковника советской армии, повторявшего душегубительные выдумки «свидетелей Иеговы» и злобные тирады в адрес Православия. На единственном собрании бывших военных отец Виктор произнес проникновенную проповедь. Он напомнил отставникам, что в их дивизии было семь кавалеров ордена Александра Невского. Рассказал им коротко житие этого великого святого и молитвенника за землю Русскую. Убедительным оказался пассаж о том, что настоящие воины российские по сути своей являются воинами Христовыми, поскольку защищают землю, обильно политую кровью славных православных воинов и новомучеников. Офицеры слушали по-разному. Одни даже аплодировали ему, когда он закончил речь. Другие уходили не дослушав ее окончания. Но даже те, кто слушал его со вниманием, в храм не спешили. Урожай оказался скудным.
Лишь два очень пожилых офицера время от времени стали приходить на службы.
В школу отца Виктора поначалу не пустили. Там заправляли жены офицеров. Но ему удалось привлечь в союзницы двух учительниц. Они стали добиваться разрешения начать преподавание основ православной культуры. Им позволили, но только со следующего года. Районный отдел образования приказал не только составить курс и прислать его для экспертной оценки, но и расписать каждый урок буквально по фразам.
Проблем на новом месте оказалось много. Дети отца Виктора, начавшие ходить в местную школу, упросили вернуть их обратно в город. Над поповичами и поповнами издевались все, кому не лень. Отец Виктор не забыл своего счастливого советского детства и, несмотря на несогласие матушки Марии, отправил их домой под надзор старшего сына. В городе верующими детьми уже никого не удивишь. С собой он оставил двух младших и стал заниматься с ними сам. Добиться разрешения на такую дерзость было непросто, но в районе решили, что лучше «оставить поповичей с попом, чем подвергать современных детей воздействию в их среде религиозной пропаганды». Матушка все же решила, что оставлять детей одних в городе нельзя, и отправилась вслед за ними. Приезжала она на выходные к службе. Они с дочерью были единственными певчими и чтицами. Эти еженедельные поездки на автобусе (сто восемьдесят километров в одну сторону) были и утомительны и дороги. И снова Господь помог. Во время одной из поездок матушка познакомилась с женой хозяина автобусов, совершавших междугородные рейсы.
Узнав о том, в каком положении оказалась семья отца Виктора, эта сердобольная женщина упросила мужа перевозить их бесплатно. На новом месте это было первое свидетельство людской доброты. А потом до самого Нового года пошла полоса испытаний. Сначала отца Виктора избил внук самой активной прихожанки бабы Пани — Вовка по кличке Шалый. Он был наркоманом и пьяницей и отбирал у нее пенсию, пока в поселке не появилась церковь и священник. Баба Паня перевела пенсию на счет храма за вычетом коммунальных услуг. Она устроилась к отцу Виктору стряпухой и кормилась вместе с ним и теми, кто оставался после службы на трапезу. Трат у нее никаких не было. Она была рада, что избавилась от «презренного металла». Но ее внук был не рад. Поздним вечером, когда отец Виктор возвращался после соборования умиравшей прихожанки, Вовка подстерег его у храма и бросился на него с бранью, выкрикивая, что тот «обманом выудил у его бабки пенсию». Он несколько раз ударил отца Виктора в лицо и пообещал убить его, если он не вернет ему бабкины деньги. Баба Паня сама заявила в милицию на своего внука. Он ей рассказал, как обошелся со священником. Но отец Виктор на предложение следователя написать заявление на хулигана ответил отказом: Бог ему судья.
А вскоре подожгли храм. Слава Богу, в ту ночь отец Виктор никак не мог уснуть — все думал, как же ему пробудить народ. Он сидел у окна при выключенном свете и вдруг увидел яркую вспышку. Одновременно послышался звон разбиваемого стекла. Он вскочил и через несколько секунд оказался в храме. По полу растекалась горящая лужа. Запах бензина ударил в нос. Отец Виктор замешкался лишь на мгновение. Он бросился к сваленной в углу груде старых пальто и костюмов. Их привезла какая-то женщина для раздачи неимущим. Желающих получить ношеную одежду оказалось немного, зато в эту критическую минуту они пригодились. Отец Виктор схватил несколько тяжелых драповых пальто. Одно бросил на огонь, другим стал сбивать пламя, а другими накрывать растекающиеся огненные струйки. Он прыгал по расстеленным пальто, затаптывая огонь, и вскоре все было кончено. Лишь смрадный дым ходил клубами, гонимый сквозняком из разбитого окна. Виктор включил свет. Проводка оказалась целой. Да и площадь пола, поврежденного огнем, была невелика. Не бодрствуй он в эту ночь — может быть, не только церковь бы сгорела, но и они с матушкой и дочкой.
Отец Виктор подошел к разбитому окну, выглянул наружу и чуть ли не нос к носу столкнулся с искаженной от злобы физиономией Вовки Шалого.
— Ну, поп, ты и в огне не горишь… Придется тебя мочить…
Он плюнул на снег и, громко матерясь, быстро зашагал прочь.
Через час приехали пожарные, за ними два следователя. Отец Виктор больше устал от объяснений, чем от тушения пожара. Следователям он сказал, что никого не видел и никого не подозревает. Те собрали осколки бутылки, в которой был «коктейль Молотова», но, как потом выяснилось, отпечатков пальцев получить не удалось. Отцу Виктору не пришлось поспать ни ночью, ни днем. Весь день в бывший клуб заходил народ. Бурно обсуждали происшедшее. Догадок о том, кто это устроил, было немного. Грешили на молодых сатанистов, их в городке было полтора десятка, все — дети офицеров. Подозревали нескольких бомжевавших товарищей, но почти все были уверены в виновности Вовки Шалого. Он по пьяной лавочке рассыпал угрозы в адрес «попа» повсюду. Ни одна бутылка не была выпита этим разбойником без того, чтобы не помянуть отца Виктора. Поджог церкви, к удивлению многих, взволновал население городка и сделал отца Виктора героем дня. Бывший клуб наполнился шумной публикой, как когда-то при советской власти при подготовке к голосованию или в преддверии новогоднего концерта. Несколько человек — из них половина была мужского пола — занялись уборкой. Два офицера, иногда появлявшихся на службе, быстро вставили стекло в пострадавшее окно. Откуда-то появились ковры и ковровые дорожки. Ими застелили не только прожженные участки пола. Их хватило на добрую половину храма. Кто-то принес занавески. (До этого служили с незашторенными окнами.) Даже горшки с геранью появились на подоконниках. Былой советский энтузиазм охватил многих. Человек тридцать даже остались на службу. Но, правда, хватило их на полчаса. Отец Виктор с грустью наблюдал, как народ один за другим исчезает за дверьми, пока в церкви не остались верные старушки с двумя ветеранами.
Жена с дочкой в ту ночь даже испугаться не успели по причине крепкого сна. Вечером они вместе с отцом Виктором пели и читали на всенощной. Когда Люба начала читать Шестопсалмие, за окном раздался странный звук, похожий на сирену. Он то усиливался, то ослабевал. Отец Виктор снял фелонь и епитрахиль и в одном подряснике вышел на крыльцо. Снаружи никаких сомнений по поводу того, что это был за звук, не осталось. Это был волчий вой. Волк был где-то недалеко, метрах в трехстах. Отец Виктор, еще в студенческие годы бывая на практике, нередко слышал, как воют волки. Но у этого была какая-то необычная палитра. Слышалась тоска и одновременно угроза покарать кого-то неведомого за эту тоску. Отец Виктор поднял голову и посмотрел на луну. Говорят ведь, что волки воют на луну. Было полнолуние. Серебряный диск с несколькими темными пятнами походил на кричащее от ужаса женское лицо. Отец Виктор долго не мог оторвать глаз от лунного диска, пока не услышал, как дочь громко прочитала: «Слава Тебе, Боже!» Это означало, что чтение Шестопсалмия завершилось.
Он поспешил вернуться. Надо же, недавно, говоря по телефону с приятелем, на вопрос «как жизнь?» он ответил, что иногда хочется волком взвыть.
Пока отец Виктор стоял на крыльце, глядя на луну, с озера возвращалась компания рыбаков. Они, как и положено в зимнюю пору рыбакам, для сугреву приняли некоторое количество самогонной водки. Подходя к бывшему клубу, они увидели батюшку, стоявшего на крыльце с задранной к небу головой и издающего жуткий вой. Батюшка их не заметил и очень скоро ушел. По странному совпадению в тот же миг волк перестал выть. Рыбаки (а это были местные отставники со своими городскими друзьями) опешили: «Это надо же! До чего батьку довели! Он уже волком воет». Дойдя до дома одного из рыбаков, жившего без семьи в трехкомнатной квартире, они принялись разделывать рыбу и стали обзванивать друзей, приглашая их на уху. Было принесено немалое количество согревающих напитков, и под уху и под очень серьезные тосты господа отставные офицеры решили, что «так обращаться с человеком, хоть он и поп, негоже».
— Что мы, не русские люди?!
— Русские! У нас даже шесть кавалеров ордена Александра Невского в полку.
— Семь. И не в полку, а в дивизии.
Некоторое время поспорили, а потом, как и положено серьезным людям, «вынесли решение» и даже выбрали ответственного за его исполнение. Решили батюшке помогать. Для этого надавить всей оставшейся мощью на районные власти и добиться разрешения на строительство настоящего храма. Одному батальонному командиру, чей сын разбогател на торговле лесом, постановили заставить наследника раскошелиться и дать денег на проект храма и на начало строительных работ. И другому (тоже батальонному) командиру было поручено выявить всех разбогатевших детей их коллег и обязать их скинуться на храмовые нужды. В тот же вечер участники этого «схода за ухой» набросали в шапку кто сколько мог. С этой шапкой они всей компанией не поленились добрести сквозь начавшуюся пургу до бывшего клуба и вручили сбор опешившему от неожиданности отцу Виктору.
А потом началась настоящая священническая жизнь. Как говорится, только поворачивайся. Суток на все дела катастрофически не хватало. Эта, казалось бы, несерьезная сходка перевернула всю жизнь поселка. Дети офицеров послушались отцов. Был открыт особый счет, и довольно скоро набралась сумма, с которой можно было начать работу. Землю под храм не просто выделили, а дали самый замечательный участок: на берегу озера, в сосновом бору за пределами городка. На него претендовали и большие начальники, и крутые братки. То, что участок отдали под церковь, было явным проявлением милости Божией.
После Пасхи решили начать рыть фундамент. Трудностей с бумагами было немало, но в какой-то момент нашелся нужный человек — военный юрист, взявший на себя все труды с документами. Он согласился стать старостой и выполнять роль ходока на законном основании. Народ решил: строить так строить, да так, чтобы всю округу украсить. Проект храма достался бесплатно от благодетеля — родственника одного из жителей городка — замечательного архитектора. Храм был задуман в древнерусском стиле. Он напоминал Ильинский храм в Ярославле. С шатровой колокольней, но без изобилия декоративных деталей. По неведомой причине этот проект не понравился заказчику. А отец Виктор был от него в восторге.
Все эти хлопоты совпали с началом Великого поста. К радости отца Виктора, в храме появились новые лица. Но именно Великим постом прокуратора постоянно мурыжила отца Виктора по поводу поджога.
Вовка Шалый по пьянке похвастал кому-то, что это он поджег церковь. От отца Виктора требовали, чтобы он рассказал лишь о том, что Вовка избил его и грозился убить. Этого было достаточно для долгой посадки. Но отец Виктор не стал давать никаких показаний. Он письменно заверил, что никаких претензий к Вовке не имеет.
На Благовещение произошла история, крепко озадачившая отца Виктора. После службы к нему подошла под благословение дама в короткой норковой шубке. В ней без труда угадывалась жена нувориша. На обеих руках поблескивали в золотых перстнях бриллианты и сапфиры. Она как-то уж больно долго не поднимала головы, целуя благословившую ее руку, а потом тихо попросила исповедать ее. Отец Виктор стал просить ее прийти в другой раз. Праздник. Народ ждет трапезы. Но она вдруг разрыдалась: «Нет, батюшка, сейчас. Иначе я, может, не приду».
Отец Виктор благословил трапезу и приказал начинать без него. Гостью он тоже пригласил отобедать с народом, но она отказалась:
— Я долго вас не задержу.
Они подошли к аналою. Отец Виктор хотел набросить ей на голову епитрахиль, но она попросила подождать. С большим усилием она сняла с правой руки перстень с большим бриллиантом и положила его рядом с крестом и Евангелием.
— Простите, батюшка, мою мать Валентину. Она украла этот перстень у Веры Сергеевны — вашей мамы. И меня за все простите.
Она подняла заплаканные глаза и долго жалобно смотрела в глаза изумленному отцу Виктору. Он узнал ее. На густом слое тонального крема остались бороздки от слез, а под ними видны были кракелюры глубоких морщин. Это была Лена — нежданная гостья из его безрадостного детства. Одна из девчонок.
— Я вас, батюшка, била, потому что любила. Любила, можно сказать, с пеленок. А вы не обращали на меня внимания. Проходили, как мимо вешалки из резного дуба, что стояла в прихожей. Помните эту огромную вешалку для пальто с вырезанными мордами и разными фруктами? Мне казалось, что она из какой-то страшной сказки. Это была вешалка, на которую вешали пальто еще ваши деды и прабабушки. Вы с вашей мамой казались мне тоже людьми из той самой сказки: страшной, таинственной, ужасно интересной. И мне так хотелось, чтобы вы эту сказку мне рассказали. Но меня для вас не существовало. Я была пустым местом… Вот за это я вас била. Простите.
Она опустилась на колени и громко стукнулась лбом об пол. Отец Виктор наклонился, чтобы поднять ее, но вместо этого тоже встал на колени и поклонился ей.
— Прости меня, Лена, — сказал он и почувствовал, что еще мгновение — и он не сможет сдержать слез. Он поднялся и быстро пошел в алтарь.
— Ты в первый раз назвал меня по имени, — услыхал он.
Когда он вернулся, Елены в церкви не было. На аналое рядом с перстнем лежал толстый конверт с жирной надписью красным фломастером «на храм».
А в день празднования Входа Господня в Иерусалим у крыльца бывшего клуба кто-то оставил белый «мерседес». Это было так некстати: автомобиль мешал выходу из храма. Отец Виктор спросил прихожан, не знают ли они, кто хозяин. В храме хозяина не оказалось. «Мерседес» оставался у крыльца до самого вечера. Отец Виктор долго ходил вокруг него: «Вот папуасы! Полное неуважение к храму!» Он в сердцах пнул ногой колесо. Раздался громкий вой противоугонного устройства. Прошло немало времени. Машина гудела и истошно то выла, то пронзительно вякала, но хозяин не объявлялся. Отец Виктор дернул дверную ручку и увидел, что в нее вставлен ключ. Он отпер дверь. На сиденье лежал пакет. На нем красным фломастером было написано: «Отец Виктор, это вам». В пакете оказались документы на автомобиль и доверенность на его имя.
Слава Богу, «мерседес» был не новый. По документам ему было девять лет.
Ехал я по Америке
Если кто-нибудь скажет, что американцы безбожники, — не верьте. И вот почему…
Я проехал Америку от Тихого океана до Атлантического на автобусе компании «Грэй Хаунд», что означает «Серая Гончая». Автобус был и вправду сероват, но с серебристым отливом. А двигатель урчал очень солидно, давая понять, что мощи в нем предостаточно. Особенно убедительно он звучал на подъемах в Кордильерских горах. Ехал я из Сан-Франциско в Нью-Йорк с заездом в Джорданвилль — православное сердце Америки. Здесь и храмы, и семинария, и могилы известных русских православных деятелей. Не так давно на местном кладбище упокоился Иосиф Муньос — хранитель мироточивой Иверской иконы. С ней он объездил всю православную ойкумену. Мне посчастливилось пообщаться с ним в Париже. Я спросил его, не собирается ли он посетить вместе с иконой Россию. Он сказал, что это его заветная мечта и он ее осуществит, как только установится евхаристическое общение между Зарубежной Церковью и Московским Патриархатом. К сожалению, он не дожил до этого великого события.
В то время, когда автобус вместе со мной проезжал по окраинам Сан-Франциско, Иосиф Муньос был жив и даже находился где-то неподалеку — в Калифорнии. А мне еще предстояло проехать более двух суток на этой «серой собачке» до вожделенного Джорданвилля. Я смотрел в окно на скромные дома и шикарные виллы калифорнийских обитателей и радовался тому, что в автобусе всего лишь семь человек. Я выбрал место посреди левого ряда и попытался принять подобие горизонтального положения. Но не тут-то было. Человеколюбивые американские конструкторы сработали автобусные кресла так, что совершенно невозможно принять удобное положение. Они ужасно низкие: ниже уровня плеч. Голову нельзя положить поверх спинки, а ноги нельзя вытянуть. До впереди стоящего кресла зазор сантиметров 15-20.
Пока я менял позиции, пытаясь найти наиболее удобное положение, автобус прибыл в столицу штата — славный град Сакраменто. Не успел автобус затормозить, как в открывшиеся двери с громкими криками вломилась толпа чернокожих американцев. Рядом со мной рухнул в кресло черный мальчишка лет десяти. Автобус тронулся, мой сосед уронил мне на плечо голову и оглушительно захрапел. Я подумал, что он дурачится. Нельзя же мгновенно заснуть. Храпеть он начал даже до того, как достиг моего плеча. Я осторожно отодвинул его голову, но он снова уронил ее и захрапел еще громче. Я еще раз попытался отодвинуть голову храпуна. Мне самому хотелось спать: несколько ночей перед отъездом провел без сна. Что делать?! Если бы мальчишка не храпел, можно было бы потерпеть, но громоподобные раскаты у самого уха лишали меня всякой надежды на встречу с Морфеем. Я снова отодвинул его голову. Эффект тот же. И вдруг меня обдало какой-то энергетической волной — словно вдвинули в поле мощного трансформатора. Я повернул голову: на меня с ненавистью смотрела черная женщина, до этого громко говорившая со своей соседкой. Встретив мой взгляд, она с силой шлепнула сумкой по голове мальчишку. Он вздрогнул и проснулся.
— Садись на мое место.
Тот послушно пересел, а она оказалась рядом со мной. Лучше бы я терпел своего соседа. Как она втиснулась в кресло, непонятно. Эта жертва фаст фуда (по-нашему — быстрого перекусона) заполнила собой три четверти моего сиденья. Я оказался вжатым в автобусную стену и окно. Да еще и развернутым почти на 90°. Ее левое плечо вдавилось мне в грудь так, что я с трудом вздохнул.
— Эй, парень, ты до меня дотронулся, — вдруг завизжала она и повернула ко мне лицо нос к носу, обдав меня неведомым русскому обонянию одором.
Я криво улыбнулся:
— Не мудрено.
Хотел для выразительности пожать плечами, но у меня не получилось: только слегка пошевелил правой рукою. Это привело ее в сильное раздражение:
— Ты снова до меня дотронулся.
— Вы шутите?
Попытка высвободить руки, очевидно, была истолкована по-своему. В Америке опасно даже просто учтиво смотреть в глаза женщине: может подать в суд за сексуальное домогательство. С некоторых пор боссы разговаривают со своими подчиненными противоположного пола глядя себе под ноги и нарочито строго. Но некоторые дамочки, особенно секретарши, и такое поведение воспринимают за особую форму флирта.
— Эй ты, если еще раз до нее дотронешься, я тебя…
Дальше следовало неласковое обещание наподобие тех, что мы часто слышим в родимых пределах. С тою лишь разницей, что все это было мне обещано по-английски. Автор матерной тирады сидел за моей спиной. Это был пьяный потомок тех, кого насильно лишили возможности любоваться африканскими красотами.
Сказать по правде, возмутился я чрезвычайно. Я и не знал, что могу так сильно гневаться. Гнев воистину не самое лучшее чувство. Сильный жар ударил мне в грудь и голову. Я почувствовал, что не то что краснею — обугливаюсь и чернею. Еще минута — и мои обидчики примут меня за соплеменника.
— Встаньте и позвольте мне выйти, — прохрипел я в лицо соседке.
Видно, я и впрямь сильно изменился. Она оторопело посмотрела на меня и стала выделывать на сиденье подобие вращательных движений. С огромным трудом она выдвинула в проход то, на чем сидят, и, сделав несколько телодвижений в согбенной позе, постепенно стала отодвигать свое лицо от моего. Я выпрыгнул в проход и оглядел салон. Сзади все было заполнено людьми, похожими на мою соседку. Впереди, в третьем ряду, пустовало единственное место. На мой вопрос, свободно ли оно, симпатичный, пожилой белый американец ответил: «Да. Хотите сесть?»
— Очень хочу.
Я вернулся за сумкой. Вытащить ее из-под бывшего моего сиденья оказалось делом непростым.
Просить соседку о помощи или поднять ее снова было делом немыслимым. Я молча постоял, не глядя на ту, которую решил покинуть, и тихо сказал: «Моя сумка».
Не стану описывать ее реакцию и то, как комментировал происходившее любитель крепкого американского слова. Нужно быть не только мастером описания батальных сцен, но и большим юмористом. Трудно смотреть без смеха на разъяренную (безо всяких на то причин) фурию, пытающуюся жестикулировать руками, у которых от локтя до плеча плоти вполовину моего веса. А если добавить, что части тела, предназначенные для кормления младенцев, не вмещаются в межкресельное пространство, то даже при плохом воображении картина получится впечатляющая.
Мой новый сосед оказался зело говорливым. Первым делом он достал из нагрудного кармана бумажник и вытащил из него заламинированные фотографии жены, двух сыновей, трех дочерей и коллективную фотографию всего семейства с дюжиной внуков. Потом он извлек из портфеля альбом с фотографиями тех же героев, но внуки уже были представлены не в массе, а по отдельности и с родителями. Далее пошли сцены семейных торжеств и фотографии на фоне мировых достопримечательностей.
— Это мы с женой в Париже.
Париж по причине присутствия в качестве фона Эйфелевой башни узнать было несложно. Сложнее было отличить Мальдивы от Гаити и Тайланд от Филиппин, поскольку и море и пальмы были одинаковыми. На последних страницах была фотография автомобиля, очень похожего на нашу «победу». Этим фотографиям сосед уделил особое внимание.
Он назвал марку машины. Я тут же ее забыл. Но запомнил год производства — 1932. За этой машиной и ехал мой новый знакомый. Представился он кратко: Джек. Он отставной оператор, проработавший на атомной станции двадцать лет. Выйдя на пенсию, он сумел за два года утолить страсть жены к путешествиям и теперь (с разрешения жены) может предаться собственной страсти — машинам. Их у него много. О той, за которой едет, мечтал всю жизнь. Недавно нашел объявление о ее продаже и тут же списался с хозяином. Он долго рассказывал о ее достоинствах и о том, что все в ней родное. Отремонтирует он все сам. Я старался быть внимательным, но все же меня довольно скоро сморило и я задремал. Проснулся я от громкого голоса из динамика. Шофер делал какое-то объявление. Я прислушался.
— Еще раз прошу кого-нибудь уступить место женщине с двумя детьми. Всего на четыре часа. У нее только что погиб в автокатастрофе муж. Проявите милосердие. Дети не могут стоять. Ну, кто-нибудь.
Мертвая тишина была ответом. Я поглядел на соседей справа. Все молодые, кроме пожилой филиппинки, сидевшей через проход в одном со мной ряду.
— Ну неужели во всем автобусе нет ни одного человека с добрым сердцем?
Спать хотелось невыносимо. Я все же встал и побрел к водителю.
— Ну вот. На весь автобус единственный джентльмен, — объявил водитель.
— Ах, ты еще и джентльмен, — услыхал я знакомый хриплый голос моего обидчика. — Я тебя, трамтарарам, — далее шло название населенного пункта, где он собирается мне это устроить. Тирада была долгой. А еще говорят о том, что только русские могут заплетать крутые долгие матерные косы. Нет, господа-товарищи. Некоторые американские граждане делают это не хуже нашего брата.
У дверей автобуса стояла на тротуаре заплаканная женщина с годовалым малышом на руках. Девочка лет трех пыталась ухватить маму за платье, но получались лишь безрезультатные щипки: мать была в узких джинсах. Я выпрыгнул из автобуса, помог женщине подняться, подал ей и перепуганную девочку. Она засеменила за матерью, направившейся к моему креслу.
Шофер оказался женщиной. Облачена она была в коричневую форменную робу. На голове нахлобучен картуз нелепого пошива со множеством заостренных складок. Что-то вроде уменьшенных в размере лучей-рогов на голове статуи Свободы. Она улыбнулась, что называется, «от уха до уха» во всю ширь веснушчатого лица: «Привет, джентльмен. Стой здесь. Держись за поручень».
Я послушно встал на вторую ступеньку. Она была узка для двух ног. Попробовал опуститься на ступеньку ниже. Так же неудобно. Через некоторое время встал, перекособочившись, левой ногой на второй, а правой — на третьей ступеньке. Перспектива четырехчасового стояния в таком положении не радовала, но эти четыре часа пролетели незаметно. Водитель болтала без умолку. Узнав, что я из России, она сделала страшные глаза: «Ты мафиози?»
— Почему мафиози? Похож?
— Не очень. У нас по телевизору постоянные передачи о страшной русской мафии. В России все ужасно. Голод, грабежи, война всех против вся, перестрелки на улицах. А еще русская мафия переселилась в Америку. Ее члены безжалостны и очень богаты.
— Если богаты, то уж на автобусах через всю страну не тащатся.
Она засмеялась:
— И то верно.
Я популярно рассказал ей о том, как разваливали (не без помощи ее земляков) Советский Союз, о наших проблемах. Посоветовал не бояться уличных боев, если она соберется посетить Россию. Потом она стала рассказывать о себе, о своей несчастной «бабьей доле». Мужчины на ней почему-то не женятся. Поживут у нее недельку-месяцок и убегают.
— Может, ты на мне женишься? — она повернула ко мне печальное лицо. — Нет, правда. Чего тебе там, в России, делать? У вас все плохо. У нас — прекрасно. Можешь не работать сколько хочешь. У меня зарплата большая. Проживем. Отдохни, оглядись. Мой брат собирается открыть магазин запчастей. Будешь ему помогать. А? Давай. Хорошая идея.
Я даже не удивился. Обалдел. Иное слово будет неточным. Сначала история с необъятной соседкой.
Теперь предложение жениться на женщине, рядом с которой простоял сорок минут.
— Я, конечно, польщен и обрадован, — промямлил я, придумывая, как не обидеть даму. — Но у нас в России до сих пор люди женятся в основном по любви, а не ради перспективы стать подсобным рабочим в магазине запчастей. Вы даже не сказали для чего запчасти.
— А, — повеселела мадемуазель водитель. Видно, решила, что сообщение о запчастях меня заинтересовало. — Это автомобильные запчасти. А что до любви, ты абсолютно прав. Я тебя люблю.
— Как любите?
— Очень люблю. У тебя глаза голубые. У меня никогда не было парней голубоглазых.
— И этого довольно для того, чтобы выйти замуж?
— А чего еще? Давай попробуем. Не понравимся друг другу — уедешь обратно в свою Польшу.
— Я бы хотел все же в Россию.
— Ну да. Прости. Это у меня Юрек был из Польши. Давай, думай. У нас еще три часа езды. У меня дом. Большой. Три спальни, гостиная, гостевая, кухня-столовая огромная. Чего еще? Две тачки. Одна твоя. Решайся.
— Все это прекрасно. Но я некоторым образом женат.
— Ну и что?! Поможем твоей жене. Будем ей деньги посылать. У вас же сейчас беда. Ни денег, ни еды. Она обрадуется.
— Думаете?
— Конечно. Парень свалил в Америку, деньги присылает. Любая русская обрадуется.
Тут уж я возмутился. До этого я говорил с ней, внутренне умирая от смеха, ожидая, что она поймет, что я отношусь к нашей беседе как к шутке. Но когда о русских женщинах говорят оскорбительные нелепицы, да еще и люди, ничего о России не знающие, мое терпение мгновенно лопается.
Пришлось ее серьезно попросить сменить тему. Она долго еще не могла поверить в то, что я действительно отвергаю свое счастье. На всякий случай протянула мне свою визитку: «Надумаешь — позвони. Я тебе билет оплачу».
Тогда я решил ее немного просветить и рассказать ей о любимых героинях русского народа: о женщинах, чей образ запечатлен в наших душах, как нестираемая матрица. Начал я с Татьяны Лариной. Реакция была уже ожидаемая. Она слушала очень внимательно, но когда я закончил, пожала плечами и сказала: «Вас, русских, не поймешь. И чего было бы плохого, если бы она оставалась женой старого генерала и имела молодого любовника?»
Тогда я снова сменил тему. Стал рассказывать о том, как широка была страна моя родная. Пока ее не обузили. Как много в ней лесов, полей и рек. Как мы другой такой страны не знали, где так вольно дышит человек. А теперь вот открыли границы и многим стало казаться, что есть и другие страны, в которых вольно дышится. Мои аллюзии ей были непонятны, а интереса к нашей географии она не проявила никакого. Тут уж она сменила тему. Спросила меня, какие марки машин я предпочитаю и нравится ли мне «альфа ромео» какого-то там года. Пришлось признаться, что я никудышный знаток автомобилей. Тогда она спросила, как мне понравилась такая-то нашумевшая комедия с такими-то знаменитыми актерами. И опять я оказался не на высоте. Моя несостоявшаяся подруга посмотрела на меня подозрительно. А я обрадовался.
— Я не обладаю и сотой долей ваших замечательных знаний. Вы, наверно, еще много комедий видели.
— Да, я люблю посмеяться в кино.
«Вот и смейся», — сказал я про себя и на некоторое время мы замолчали, пока она не возобновила игру в вопросы-ответы: «Почему Горбачев хотел бросить на нас атомную бомбу? Почему вы такие бедные, если у вас так много нефти? И правда ли, что медведей не разрешают убивать на улицах городов, даже если они нападут на вас».
Я отшучивался как мог, пока мы не въехали в столицу мормонского царства Солт-лэйк-сити. Здесь моя зазноба меня покинула, на прощание назвав меня Юреком. Она была грустна. Протянула мне руку и сильно, по-мужски пожала ее. Я так и не удосужился спросить, как ее зовут. А она сама не представилась. С нею вышла и вдова с малышами. Вышло еще несколько человек. Столько же и вошло. Я вернулся на место. Мой сосед Джек рассказал мне, как он пытался утешить горевавшую женщину — стал рассказывать о своем семейном счастье и показывать альбом с фотографиями жены и детей с внуками.
— Надо же было как-то развлечь ее.
Эта попытка вызвала громкие рыдания. Я их слышал, но не знал, что их спровоцировало. Общаться с соседом мне совсем расхотелось. Он что-то говорил о достоинствах довоенных автомобилей, но у меня произошло что-то с головой. Его слова я воспринимал как механический шум. Очевидно, говоря на неродном языке, в какие-то моменты, особенно когда ты чем-то раздражен, автоматически отключаются центры, заведующие лингвистическим департаментом. Душа не хочет принимать — и голова перестает работать. Но вскоре она снова заработала.
Перед нами сидели новые пассажиры: он и она. Молодые люди лет тридцати. Я подумал, что это молодожены, но оказалось, что они познакомились на автовокзале перед самой посадкой. Сначала они тихо переговаривались, потом молодой человек заговорил громко. Он поднял над головой истрепанную Библию и торжественно произнес: «Эта книга сделала меня свободным. Я тоже ширялся и глотал все подряд. А сейчас завязал».
— Не гони, — огрызнулась его соседка и принялась чесаться. Она громко скребла ногтями по джинсовой жилетке, потом сбросила ее и стала скрести по рубашке.
— Лучше спроси черномазых. У кого-нибудь точно есть.
— Не могу. Я дал Богу клятву, что никогда этой гадости не буду делать ни с собой, ни с другими.
В ответ барышня назвала его «хреновым моралистом» и извергла тираду наподобие той, что я уже слышал от своего прежнего соседа.
Она ловко перешагнула через его ноги и мгновенно очутилась в конце автобуса. Моралист повернул голову в мою сторону и с сочувствием произнес: «Я ее понимаю. Ломка — мучительное дело. Она ждала дружка с дозой, а он не пришел. И оставаться не могла. У нее в Чикаго что-то важное. Я сам был таким, пока не уверовал в Иисуса. Он освободил меня. И теперь я абсолютно свободен. А вы приняли Иисуса в свое сердце?»
Я утвердительно кивнул. Парень посмотрел на моего соседа — любителя автоантиквариата: «А вы приняли Иисуса в свое сердце?»
Тот презрительно поморщился и демонстративно раскрыл книгу с фотографиями довоенных автомобилей.
— Я Майкл, — представился молодой человек. — А как вы изучаете Библию? — Он снова обратился ко мне. Вести беседу с ним мне не хотелось. Он говорил очень громко, явно стараясь быть услышанным не только мною.
— У вас есть наставник? Вы ходите на собрания по изучению Библии?
— Нет, — ответил я в полголоса. — Я не люблю вольных интерпретаций и читаю святых отцов.
— Каких святых отцов? Папу Римского?
— Нет, отцов Церкви: Василия Великого, Иоанна Златоустого, авву Дорофея, время от времени перечитываю «Лествицу», Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова.
Майкл широко раскрыл глаза:
— А зачем читать это старье?
— Чтобы правильно веровать. Это не старье…
— Зачем все это читать? — перебил меня Майкл. — Вот Библия, читай ее — и довольно. Зачем мне мнения людей, живших тысячу лет назад?
— Но ведь вы слушаете наставника. А мои наставники — отцы Церкви. Да и Библия не совсем современная книга.
— Но, так, то Библия. Она от Бога. А вы мне называете каких-то людей, которые ее давным-давно толковали. Я и имен таких не слыхал. Не надо нам никаких авторитетов. Бог все говорит через Библию. Слушай Его. Читай слово Божие — и все. И будешь свободен.
— Вот так и появляются ереси и тоталитарные секты.
— Что такое ересь? Если я сам читаю Библию и мне никто не нужен, чтобы напрямую общаться с Богом, значит я еретик?
— «Ты сам сказал», — я улыбнулся, надеясь, что эта фраза знатоку Священного Писания кое-что напомнит. Нет. Он продолжил в том же духе. В этот момент вернулась его соседка. Она шла медленно, с трудом перевалилась через его колени и на долгое время затихла.
Майкл заговорщицки шепнул мне: «Достала. Хорошо бы, чтобы Иисус сделал ее свободной».
— А что вы называете свободой? — не удержался я.
— Как что? Что хочу, то и делаю. Одно слово — свобода.
— Ну так и она делает что хочет. Значит, и она свободна?
Он задумался.
— А вы что называете свободой?
— Не я, а святые отцы учат, что истинная свобода есть свобода от греха.
Майкл ничего не ответил. Он отвернул голову и с минуту сидел молча. Затем вдруг подпрыгнул на своем кресле и на весь автобус прокричал:
— Иисус! Это круто! Быть свободным значит быть свободным от греха. Так? — Он снова повернул ко мне голову.
— Именно так. Если ты не свободен от греха, то ты его раб.
— Круто! — снова закричал он. — Иисус! Иисус Христос! Я хочу быть свободным от греха. Помоги мне!
— Да заткнись ты, — крикнули сразу несколько человек. Громче всех был голос моего недруга.
— Как я могу заткнуться, когда Сам Бог через этого человека сказал мне то, до чего я десять лет не мог додуматься, — громко произнес Майкл и восторженно посмотрел на меня. — Иисус меня услышит и поможет мне. Помог же Он мне избавиться от наркотиков!
Я спросил Майкла:
— Как это произошло?
— Я молился.
— Где? В монастыре?
— Каком монастыре? Я ходил по берегу океана и говорил: «Иисус, сделай так, чтобы я перестал быть наркоманом. Помоги мне. А я буду всегда славить Твое имя и всем рассказывать о Тебе». И Он помог. Через месяц я не мог не то что колоться, даже смотреть в ту сторону, где продают героин, не хотел.
— Просто ходил, обращался ко Христу и перестал быть наркоманом?
— Да. Но, конечно, были сложности. Несколько раз срывался, но потом каялся: говорил «прости, Иисус» и старался не принимать и не колоться. Я почти ничего не ел. Ходил и говорил с Иисусом. Никто меня не видел на берегу. Я часто плакал, как маленький. А через месяц получил просимое.
Невероятно. Я знаю, как мучительно и долго пытаются наркоманы избавиться от своей зависимости. После многих попаданий в специальные клиники почти все снова срываются. И только в нескольких монастырях удается избавить их от этой пагубы. Похоже, Майкл хорошо усвоил притчу о назойливой вдове, не оставлявшей в покое судью.
Он рассказал, как очутился на океане. Это были Гавайские острова, куда пригласил его друг Джейкоб. Тот был музыкантом. Играл в ресторанах и на дискотеках. Он видел, как погибает Майкл. А знал он его с детства. Они жили в Бостоне в одном доме. Мать Майкла была профессиональной блудницей. Она пила и принимала наркотики. Часто выгоняла маленького сына на улицу. Мать Джейкоба забирала его к себе, иногда на несколько дней. Майкл спал в одной комнате с Джейкобом. Они росли как родные братья. И когда Майкл пристрастился к наркотикам, Джейкоб стал делать все, чтобы спасти его. Было это непросто. Мать перестала пускать Майкла в дом. У нее появился постоянный любовник, который не хотел видеть ее сына. Майкл стал скитаться. Спал где придется. Ему было стыдно показываться на глаза матери Джейкоба. Он уехал в Нью-Йорк. Заработки были случайные. Работал он в основном на стройках, но часто терял работу. Боссы не терпели наркоманов. Удержаться можно было лишь на «демолишине» — сносе домов. На эту тяжелую и грязную работу набирали отпетую публику. Но вскоре он лишился и ее. И тогда он позвонил Джейкобу. Тот перебрался на Гавайи и неплохо зарабатывал. Он пригласил Майкла к себе и сказал: «Тебе поможет только Бог». И Майкл стал просить Бога о помощи. По утрам друзья вместе читали Библию и молились своими словами. По вечерам Джейкоб уходил на свою музыкальную поденщину, а Майкл шел на берег океана и до половины ночи бродил, глядя на серебряную лунную дорожку, убегавшую по темной воде до самого горизонта, и на звезды. Он просил Бога о помощи. И Бог услышал его. И помог…
Вот такую историю рассказал Майкл. Закончив ее, он долго молчал, а потом попросил меня написать имена отцов Церкви, о которых я ему рассказал, и названия их творений. Он вскоре вышел. Ехал он к матери. Она жила теперь не то в пансионате, не то в клинике для людей с психическими расстройствами.
— Я должен что-то сделать для нее. Но только Бог сможет ей помочь.
Это были его последние слова.
После того как Майкл покинул автобус, что-то произошло в салоне. На задних рядах прекратился галдеж и громкий смех. Соседи перестали разговаривать друг с другом. Стало тихо и даже как-то торжественно. Словно все разом успокоились и сосредоточились в ожидании праздника. Почти никто не спал. Прекратился храп. Тишина, правда, установилась, когда Майкл начал рассказывал свою историю. Говорил он громко, стоя на коленях в своем кресле, повернувшись ко мне лицом. Многие его слушали. Филиппинская старушка даже всплакнула.
Мой обидчик не сделал со мной обещанного. Он вышел в том самом городке, где собирался со мной разобраться, и даже, проходя мимо меня, не взглянул в мою сторону. Моя необъятная соседка пробиралась за ним по проходу боком. Спиной ко мне. Задела она всех, но никого не обвинила в том, что «до нее дотронулись».
Приблизительно через полчаса на место Майкла сел долговязый парень в яркой клетчатой рубахе. Он повернулся ко мне и объяснил, что пересел, так как хотел поговорить со мною о Боге. Он слышал нашу беседу и заключил из нее то, что я либо католик, либо православный. А поэтому он должен направить меня на путь истинный. Далее последовал долгий монолог о том, что официальная Церковь — орудие угнетения, что истины в ней нет, и нет в ней возможности развернуться простому человеку для непосредственного общения с Богом. Звучал этот незваный проповедник, как испорченный механизм: скрипучий и бередящий слух и душу. Говорил он с неприятным южным акцентом: гнусаво и очень быстро, словно боялся, что я не стану его слушать и убегу. Мне действительно захотелось убежать от него. После трогательной искренней истории Майкла я был вынужден слушать кощунственные разглагольствования об «иконном идолопоклонстве» и прочие еретические измышления. Меня хватило не надолго. Я попросил его оставить меня в покое и закрыл глаза. Мозг мой опять отказался воспринимать иностранные словеса. Я слышал скрип и бульканье вместо человеческой речи и стал быстро проваливаться в какую-то бездонную пропасть. И вдруг передо мной выросла родная громада Исаакиевского собора. А прогулочный катер, на верхней палубе которого я оказался, с громким скрежетом ударялся бортом о стенку причала… Золотой крест собора ярко сверкнул на грозовом небе…
— Мистер, мистер, посмотрите сюда.
Это был голос филиппинской старушки. Она держала меня за руку и о чем-то жалобно просила.
— Что случилось? — спросил я.
— Вот сюда посмотрите.
Она выставила в проход большую хозяйственную сумку и, расстегнув ее, показала мне содержимое: ярко раскрашенные статуэтки Девы Марии и католических святых. Она подмигнула мне: «Зря вы с ними разговариваете. Они ничего не знают о Церкви. Каждый день появляются новые религии. Ходят, проповедуют, а что проповедуют — сами не понимают. Они Богоматерь не почитают. О чем с ними говорить?»
Она достала фигурку Фатимской Божией Матери, сдула с нее пыль и протянула мне: «Какая красота!» Потом достала еще несколько статуэток.
— А вот эта, — она перешла на шепот, — это чешский святой.
Я не расслышал его имени. В руке у меня оказалась фигурка человека в современном пиджаке и с галстуком, стоящего на коленях. Говорила старушка быстро, тихо и с сильным акцентом. Я почти ничего не понял. Пока говорила громко, было понятно. Она рассказывала житие этого человека. Кажется, он пострадал от коммунистов.
На следующей получасовой остановке я зашел в буфет. Взял чай и булочку с сыром. Ко мне тут же подсел человек лет сорока — из наших пассажиров. Он ничего не взял. Вынул из сумки Библию, раскрыл, перелистал и, показывая пальцем в закрашенный желтым фломастером абзац, произнес:
— Я хотел вас спросить, как вы толкуете вот это место из пророка Аггея. А потом у меня есть еще несколько мест из пророков Наума и Софонии.
— Дорогой вы мой, — застонал я. — Можно я доем булочку? Трапеза моя не обильна. Подождите минуту.
Человек кивнул и стал стучать пальцами обеих рук по столу.
— Вы пианист?
— Нет. А что?
— Это вы играете на воображаемом пианино?
— Нет. Я всегда так делаю.
Я покончил с булочкой и предложил ему выйти.
— Нет-нет. Давайте здесь. Я не хочу говорить в автобусе.
Я вздохнул и начал объяснять ему, что не являюсь знатоком Ветхого Завета. Все пророчества относительно прихода Мессии исполнились. И теперь нужно читать Новый Завет и соблюдать заповеди. Вот и все мое богословие.
Новый знакомец стал запальчиво спорить: «Без Ветхого Завета нет Нового. Пока я не изучу Ветхий, не стану изучать Новый».
— Так вы кого проповедуете?
— Иисуса.
— Ну так и читайте книги о Нем, о воплощении Сына Божьего, Его земном служении. Как можно говорить о Христе не читая Нового Завета?
— Я читаю Евангелия. А книги Ветхого Завета глубоко изучаю и хочу узнать, как вы толкуете некоторые места.
— Тут я вам не помощник. Я не толкую того, чего не знаю.
— И я не знаю.
— Так как же вы проповедуете?
— Бог открывает мне смысл.
— Ну, тогда я вам совсем не нужен. А как вы узнаете, что это Бог говорит с вами, а не враг рода человеческого?
— Очень просто. Бог плохому не научит.
— Но дьявол и святым людям являлся в образе светлого ангела. И как раз только тем и занимался, что учил христиан оставить Новый Завет и изучать Ветхий.
Мой собеседник гневно посмотрел на меня:
— Я вам хотел открыть смысл пророчеств, а вы меня оскорбляете.
— Пророчества древних пророков исполнились, мой друг. Прошу прощения, если я вас обидел.
Я откланялся и побрел к автобусу. Неужели в Америке на каждом рейсе столько бродячих проповедников и толкователей Библии? Или это я такой везунчик?..
Так что не верьте, когда вам скажут, что американцы в Бога не веруют. Еще как веруют! У них даже на долларе написано про Бога. Только вместо простого слова «веруем» написано слово, имеющее несколько значений. Одно из которых означает финансовую операцию. Не столько веруем, сколько вкладываем. Как в банк.
Весь остаток пути я думал о Майкле. Некоторые православные могут сказать, что чудо исцеления наркомана с огромным стажем ложное. Это мог быть и вражий замысел: помочь, чтобы потом еще сильнее посрамить. Он опять сорвется, если будет вне истинной Церкви. А я им тогда скажу, что Майкл много страдал и, возможно, скоро придет к истине. Ведь не зря же он вспомнил об отцах Церкви и попросил меня написать названия их трудов.
Грех малым не бывает
Вечер на Николу Летнего выдался теплым и тихим. По случаю именин отца Николая прихожане его храма устроили во дворе церковного дома праздничную трапезу. Был еще один именинник — молоденький монах, приехавший со своим игуменом Мефодием погостить к отцу Николаю. Собственно, они приехали, чтобы помолиться в тишине в горах и собрать там лечебные травы. Отец Мефодий был большим знатоком трав и уже давно занимался лечением братии своего монастыря. К отцу Николаю, построившему церковь в горном поселке, он приехал в третий раз. Они переписывались не по электронной почте, а по старинке: на бумаге. Писем никто из местных жителей не писал и не получал. Единственным занятием почтальона была доставка пенсий старикам. И лишь к отцу Николаю время от времени он заходил с пухлым конвертом. Это были интересные письма. Они обменивались мнениями о происходящих в Церкви событиях, просили друг у друга советов. Отец Николай давно собирался в монастырь. Служить монаху на приходе не просто.
Особенно трудно разбирать семейные и молодежные проблемы. Женщин на приходе много. У каждой свой норов. Обидится одна на другую, и пошло-поехало. Начнет союзниц искать, интриговать, козни строить. Дело выеденного яйца не стоит, а весь приход лихорадит. Какой уж тут дух любви!
Отец Мефодий до ухода в монастырь 15 лет служил на приходе. Его советы были очень ценны. У него был не только большой опыт, но и дар духовного рассуждения. Он иногда делал пространные выписки из святых отцов, чтобы подтвердить тот или иной совет. Несколько раз присылал книги, изданные небольшим тиражом, которые трудно было достать в провинции. Отец Николай в долгу не оставался: посылал своему другу горный мед и сушеные южные фрукты.
В день именин молодой монах Николай вместе с отцом Мефодием спустились с гор. Они принесли Николаю-старшему огромный букет альпийских цветов и целое ведро сморчков и строчков. Пока отец Николай готовил из грибов то, что он называл «соусом», молодой Николай вместе с отцом Мефодием парились в бане. Потом отец Николай открыл банку с айвовым вареньем: нужно было удивить северных гостей экзотическим пирогом. Пирогов с айвой здесь никто не пек. Отчего же не попробовать?! Чем айва хуже яблок?
Когда раскрасневшиеся после бани гости появились у него на кухне, для них уже был готов послебанный чай с мелиссой и душистыми горными травами, собранными отцом Мефодием. Монахи пили чай долго и с удовольствием. Молодой Николай сушил распущенные по плечам волосы. Обычно он заплетал их в косичку. Волосы у него были пышные, золотистые. Лицо словно с портрета старых мастеров. Он время от времени поглядывал на свои руки: «Слава Богу, теперь хоть на мужские похожи. А то все одно послушание — у раки преподобного. Совсем белоручкой стал». И он с гордостью показывал свежие мозоли и царапины. Отец Мефодий улыбался: «Спасибо тебе, отец Николай. И за меня и за Николку. Он в горах кашлять перестал. Великое дело — горный воздух!»
Именины удались на славу. Прихожанки постарались: огурчики, помидорчики домашнего соления, пирожки со всякой всячиной, салатики, грибочки соленые и маринованные, баклажаны. Один принес домашнее вино, другой пойманную накануне в горной реке форель. Тут же на костре сварили именинную уху. Отцу Николаю подарили Апостол семнадцатого века в кожаном переплете с бронзовыми застежками. Второму имениннику вручили трехлитровую банку каштанового меда. После каждого тоста пели «многая лета». Регент Елена прочла отцу Николаю оду собственного сочинения с перечислением всех его достоинств и пастырских трудов во спасение пасомых. Закончила она признанием в любви к «дорогому пастырю» и пожеланием ему за его «неусыпные заботы Царствия Небесного».
Отец Николай засмеялся: «Так у меня именины или похороны?» Елена смутилась и стала доказывать очевидную истину о том, что нет для христианина большей награды, чем Царство Небесное.
Ее муж вздохнул: «Вот так всегда. Начнет за здравие, а закончит за упокой». Сказал он тихо, но его все услышали. Елена снова принялась оправдываться. Тогда второй именинник произнес: «О смерти нужно думать. Даже во время пира. Помни последняя — и вовек не согрешишь. Мы ведь все покойники. Только в отпуску. У одних большой отпуск, у других короткая увольнительная». Все затихли. Тишина продолжалась несколько минут. Всем стало неловко. И хотя рассуждения молодого монаха были верны, но прозвучали они совершенно некстати. Радостного настроения как не бывало. Ситуация усугубилась тем, что тишину нарушила до той поры молчавшая Глафира — большая любительница поговорить о конце света и масонском заговоре. Она стала перечислять известные всем признаки кончины мира и с какой-то нездоровой страстностью заговорила о смертных грехах. Особенно негодовала она по поводу повсеместного разврата. Это было уже чересчур. Отец Николай попытался прервать ее, но ему это не удалось. Глафира расходилась все больше и больше. Воодушевившись до зела, она с жаром начала проклинать масонов.
— Ты только на гору не смотри, — посоветовал ей староста Геннадий.
— Это почему же? — Глафира прервала монолог и уставилась на Геннадия.
— Да ты посмотри! Это же не гора, а чистый масонский треугольник.
Раздался смех. Глафира гневно задышала и уже готова была продолжить, но отец Николай встал и решительно произнес: «Всё, Глафира. Сегодня не ты именинница. Давайте послушаем отца Мефодия».
Все повернулись к отцу Мефодию. Тот не заставил себя упрашивать: оглядел застолье, перекрестился и тихо произнес: «Если позволите, я не буду вставать». Все позволили: «Разумеется, батюшка. Не вставайте».
— Как вы думаете, обидчивость большой грех?
— Может, и большой, но не смертный, — кокетливо ответила Елена.
— А вот для меня это был грех очень серьезный. Я с детства был ужасно обидчив. Обижался по поводу и без повода. Услышу что-нибудь обидное — и словно кипятком сердце обдали. Боролся я с этим изъяном всю жизнь. Да так до конца и не одолел его. Поэтому на исповеди я всегда спрашиваю, не таит ли кающийся на кого-нибудь обиду.
— А вы, батюшка, Глафиру поисповедуйте. Вон как она надулась, — засмеялся Геннадий.
— Сам исповедайся, — огрызнулась Глафира.
— Прекращайте, — стал урезонивать их отец Николай. — А то придется разойтись. Продолжайте, батюшка, — обратился он к отцу Мефодию. Отец Мефодий добродушно улыбнулся.
— Это будет не тост. Я расскажу вам историю почти святочную. Вы увидите, как важно исповедовать даже не очень страшные грехи, не то что смертные. И как один раскаянный грех может повлечь за собой целую цепь благих последствий и даже предотвратить действия, которые могли бы привести ко многим жертвам.
В начале девяностых я получил назначение в небольшой сибирский город. Население в нем было пролетарское: работали на шахтах и на химическом комбинате. Отношение к православной вере народ демонстрировал по-коммунистически: либо откровенная вражда, либо полное безразличие. Мне с большим трудом удалось зарегистрировать общину из старушек и нескольких стариков — бывших политических заключенных. Всякими правдами и неправдами приобрели мы деревянный барак — бывший клуб и стали в нем служить.
Поначалу на воскресной литургии было 15-20 очень пожилых людей. Но после трех аварий на шахтах к ним прибавилось пол сотни молодых вдов с детьми, столько же старушек и десяток отставных шахтеров. После первой аварии похороны погибших шахтеров впервые за всю историю города проходили двумя чинами: одно прощание состоялось во Дворце труда с последующим провозом покойников на грузовиках, обитых красным ситцем, под духовой оркестр; другое — в церкви с отпеванием и с литией на кладбище.
Всех хоронили на одном участке. Г робы были поставлены рядом с могилами в три ряда. Перед захоронением, по заведенному ритуалу, должен был состояться траурный митинг. Но хозяева шахты на кладбище не появились. Был чиновник из треста, невысокого ранга начальник из областной управы. Группа тех, кого родственники пожелали похоронить по-советски, прибыла на кладбище на несколько минут раньше. Когда мы привезли покойников из церкви, то пришлось долго ходить с гробами в поисках нужного места. Из-за тесноты пришлось переставлять уже установленные гробы, чтобы втиснуть между ними вновь привезенные. Когда наконец с гробами разобрались, начался митинг. Начальники промямлили что-то о трудовом героизме покойных, пообещали позаботиться о семьях и совсем уж по-советски «подняли вопрос о необходимости крепить трудовую дисциплину». На эти речи родственники погибших отреагировали бурно. Послышались крики, плач, угрозы. Начальники спешно ретировались. Распорядителя не оказалось, и никто не знал, как завершить прощание. Тогда я разжег кадило и медленно пошел с каждением вдоль гробов. Певчих не было. Я пел один. В тот момент, когда я подошел к гробу погибшего ветерана, рядом с которым лежали на красной подушке две медали, и запел «Со святыми упокой», ко мне подскочил пьяный мужик. Он схватил рукой кадильные цепи и заорал: «Я тебя щас самого упокою. Я тя щас урою». Если бы не светловолосый высокий парень, стоявший рядом, я бы был сброшен в яму. Парень подхватил мужика и оттащил его в сторону. Там его стали унимать другие люди. Тот не унимался, грязно бранился и выкрикивал нелепые обвинения всем попам и мне лично. Кончилось тем, что мужика куда-то уволокли, а я, пропев «Вечную память», сказал небольшую проповедь. По милости Божией удалось найти нужные слова утешения, но услышали их немногие — лишь те, кто стояли неподалеку. Остальные приступили к погребению. Снова заголосили женщины. Послышался стук падающей на крышки гробов земли. Парень, спасший меня, стал извиняться и вызвался проводить домой. Это было кстати: пьяный мужик дежурил у выхода, и не будь этого провожатого, неизвестно, чем бы все кончилось. Молодой человек отвез меня на своем «москвиче» до дома. Мы долго беседовали. И результатом этой беседы стало то, что бывший комсорг шахты стал моим самым надежным помощником во всех церковных делах.
Вскоре после этих коллективных похорон к церкви подъехал огромный черный джип. Стою я у окна рядом с иконой Димитрия Солунского и вижу: вылезает из джипа хмурый детина и в сопровождении двух других такого же облика спутников направляется к церковному крыльцу. Слышу: громко хлопнула дверь, он что-то недовольно говорит своим спутникам и вдруг начинает чихать. Чихал он долго и все время правой рукой махал. Так, будто самому себе приказывал перестать. Я с трудом сдержал смех.
Выражение удивления и какой-то детской беспомощности на его лице никак не вязалось с суровым обликом его спутников. Типичные «братки». Закончив чихать, человек с минуту постоял, разглядывая потолок и скромный иконостас, ожидая, не начнется ли новый приступ. Потом решительно зашагал в мою сторону. Я стоял и старался по лицу этого человека понять, что это за персона: «Из тех, кому на все начхать? Этот, пожалуй, ни перед чем не остановится». Но, к моему удивлению, гость довольно вежливо поздоровался и протянул для пожатия руку. Поздоровались. Не стал я его учить подходить под благословение.
— Дмитрий… — гость назвал свою фамилию. Фамилия известная. Один из богатейших людей области. «Владелец заводов и банды уродов» — так говорил о нем народ.
— Моя мать умирает. Просит священника.
Я пошел в алтарь, взял запасные Дары. Меня втиснули в автомобиль между двумя охранниками. За всю дорогу никто не проронил ни слова. Но когда выходили из машины, хозяин сказал: «У нее рак».
Умирающая оказалась женщиной нецерковной. Мне пришлось объяснить ей, что такое исповедь. Но ей нужно было для начала просто поговорить. Она решила рассказать мне о своей жизни и попросила подсказать, в чем ей каяться. Поэтому, не нарушая тайны исповеди и кое-что изменив, перескажу то, о чем она поведала. Была она отставной учительницей. Назовем ее Зинаидой. В храм ходила лишь в детстве. Овдовела она в тридцать лет, но второй раз замуж не пошла. Никаких амуров не заводила. Посвятила себя воспитанию любимого сына Митеньки. Представления о жизни имела обычные для советского человека. Усвоила лозунги. Честно трудилась. На трудовые субботники выходила первой. Никого не подсиживала. Доносов не писала. Работала на полторы ставки и иногда давала частные уроки, чтобы сынок ни в чем не имел нужды. Не сплетничала, никому не завидовала. Не крала, не утаивала чужого, не сквернословила. Абортов не делала. Правда, два раза обращалась к гадалке. Даже не обращалась, а уступила настойчивому предложению подруги погадать. С большим смущением рассказала о том, как в детстве с девчонками смотрела на солдат, купавшихся голышом в реке.
Я стал подсказывать, в чем ей каяться. Перечислил грехи: гнев, раздражительность, сребролюбие, скупость, зависть, мстительность, непрощение обид и прочие. Попросил не торопиться, а хорошенько повспоминать. Она долго молчала, затем сказала, что готова. Я накрыл ее голову епитрахилью и сказал, что теперь она должна рассказать Самому Господу Богу о том, что смущает ее совесть. И что я только свидетель, а исповедь принимает Сам Господь. Что не надо смущаться и бояться. Нельзя ничего скрывать, дабы «не уйти неисцеленной из лечебницы».
Тут раба Божия Зинаида отодвинула епитрахиль и спросила, что я имел в виду под «лечебницей».
Пришлось ей разъяснить, что означают слова священника перед исповедью.
— Погодите, а то, что я обиделась на соседку и не простила ее… Это грех?
— Непрощенные обиды — это грех. И перед причастием нужно примириться с обидчиком.
— А если она виновата?
— Даже если она виновата, вам нужно пойти и помириться.
— Не знаю. История больно глупая. И прошло уже много лет. Соседка попросила у меня цветной телевизор. Тогда показывали сериал «Богатые тоже плачут». Говорит: «У тебя их два. Ты богатая и не плачешь. А мой — не цветной и плохо показывает». Я ей говорю: «Один сломан». А она не верит. Говорит: «Пока бедные были, всем делились. А теперь разбогатела — и жадничаешь». Мне обидно стало. Не верит. «Иди, проверь». А она такого мне наговорила — жуть. Ну и я не стерпела. Тоже всякого обидного ей сказала. Срам. Ничего подобного со мной за всю жизнь не было. А ведь мы с ней дружили. Я на нее сильно обижена.
— Ну, если обижена, я не могу вас причастить. Давайте, миритесь, потом приму у вас исповедь и причащу.
Она чуть не заплакала:
— Да я, может быть, помру через час.
Я подумал немного. Что же делать? А вдруг и вправду помрет. Говорю: «Хорошо, я вас причащу, но вы должны все-таки помириться. Попросите сына сразу же отвезти вас к этой женщине».
Я снова накрыл ей голову епитрахилью. Она много еще чего вспомнила. Каялась она со слезами. Покаяние ее было искренним. Я сам чуть не расплакался.
В общем, причастил и пособоровал больную. Через день приходит ко мне двухметровый Митенька, только уже не хмурый, как в первый раз, а радостный такой и даже веселый. Прямо не узнать. Протягивает толстенный конверт:
— Это вам.
— Что это? — спрашиваю.
— Сто миллионов.
— Каких сто миллионов? Я не могу принять такие деньги.
— Хочу, чтобы вы стали миллионером. Вы мне такой подарок сделали. Я за свою мать могу дать и больше. Делайте с ними что хотите. Дом покупайте, машину…
— Нет, — говорю. — Давайте, через кассу оформляйте на строительство храма.
— Никакой кассы. Я не хочу засвечиваться. Это моя жертва.
— А почему вы, — спрашиваю, — решили пожертвовать так много? Хотя, если убрать три нуля от той суммы — по нынешним временам не такая уж она астрономическая. На строительство храма никак бы не хватило.
И стал он рассказывать. Повез он мать прощения просить. Приехали. Мать не знает, с чего начать. Соседка ее, как увидела, всплеснула руками: «Зиночка!» А мать заплакала: «Маша, прости меня».
— За что, Зиночка? Это ты меня прости.
Целый час они просидели обнявшись и плача, вспоминая былую дружбу. Дома мать все улыбалась и молчала. Попросила только дать ей детские Митины фотографии. Смотрела и улыбалась. На ее желтом, высохшем лице светилось счастье. Дмитрий не мог припомнить, когда бы мать после смерти его отца улыбалась. Она никогда не смотрела развлекательных программ. В гостях, если кто-нибудь рассказывал смешной анекдот и все начинали смеяться, она опускала глаза и тихонько вздыхала. Все были уверены, что у нее отсутствует чувство юмора. Ее даже прозвали «железной леди». До прихода в Англии к власти Маргарет Тэтчер, ее звали «железным комиссаром». Суровость матери всегда раздражала Дмитрия. Это было его болью. Ему мало было достатка в доме, который мать обеспечивала всеми силами. Он хотел ее любви. Но не получил, а усвоил ее сдержанность. А потом сдержанность перешла в суровость. Он стал дерзким, агрессивным. Часто грубил взрослым и дрался с соседскими мальчишками. Он завидовал сверстникам, которых ласкали и целовали, но никогда не подавал виду. Этих «мамкиных лизунчиков» он ненавидел и часто бил. Даже став юношей он хотел, чтобы мать обняла его и приласкала. И вот позавчера наконец исполнилась его мечта. Мать попросила его сесть рядом с ней. Она положила его голову к себе на колени, гладила его волосы, называла «Митенькой», а когда он поднял голову, долго целовала его и просила простить ее: «Я боялась, что без отца ты станешь девчонкой». А утром она умерла. Дмитрий не сразу понял, что она умирает. Она лежала такая счастливая. Улыбалась. «Как хорошо», — шептала она и целовала Митину руку. Ему казалось, что она исцелилась. Ведь говорят, что после соборования часто выздоравливают. Она действительно выздоровела, но только душой, а не телом.
Последними словами ее были: «Какой он белый. Какой светлый. Как тепло и сладко». Дмитрий услышал какой-то хлопок в ее груди. Она глубоко вздохнула (выдох был необыкновенно долгим) и затихла с широко открытыми удивленными глазами. В них помимо удивления была радость. Дмитрий был поражен. Неужели так можно умирать? Спокойно и даже радостно. Эта бездыханная женщина была его матерью. Лицо ее было покойно, будто она узнала и увидела что-то такое, о чем можно только догадываться. Как будто открылась дверь и его мать ушла в другой мир, не умерла, не исчезла, а ушла туда. И вдруг он явно почувствовал реальность того мира, где любовь и покой. Он теперь точно знал, что его мать любила его всегда. Но не только она. Есть еще Кто-то, Кто дает нам любовь. Это было смутное понимание, но он твердо знал, что именно теперь должен сделать для нее очень много. Чтобы ей там было всегда хорошо.
Он попросил меня отпеть ее. Во время отпевания часто крестился, не стесняясь своих дружков. Был тих и спокоен и совсем не походил на того «братка», которого я увидел в первый раз. После похорон матери Дмитрий стал появляться в церкви. Иногда отстаивал всю воскресную литургию. А через полгода попросил исповедовать его и причастить. Я давно хотел поговорить с ним. Нужно было начинать строительство храма, но я никак не мог воспользоваться его деньгами. А вдруг это деньги краденые или еще хуже — полученные разбоем или убийством… Слава Богу, Дмитрий никого не убил. Конечно, в его команде были лихие ребята с веселым прошлым. Но у его конкурентов контингент был намного пострашнее. А деньги он сделал сравнительно честно. Сначала, при Горбачеве, организовал сеть кооперативов, занимался торговлей. Первые миллионы на него буквально свалились с неба. Он дружил с властью и с советскими банкирами. Они помогли ему взять кредит под мизерный процент. На занятые у государства деньги он купил у того же государства целый состав мазута и нефти. В это время государство стали разваливать. Началась страшная девальвация. Дмитрий быстро смекнул, чем для него это может обернуться. Свои цистерны он продержал на запасных путях, платя копейки своему приятелю — начальнику станции. Он ждал. И дождался. То, что он приобрел за два миллиона русских рублей, продал за три миллиона американских долларов. Отдал банку обесцененные рубли и принялся скупать задешево разорившиеся предприятия.
Он оказался первым в области миллионером. Власти и милиция охотно дружили с ним. Он не скупился. Делился с ними щедро. А когда поднялись другие ребята из криминальных команд, ему удалось, поступившись совсем немногим, отстоять свою империю. Силовики вовремя предупреждали его об опасности. Он был подготовлен и все разборки улаживал без стрельбы. Кто-то время от времени стравливал его конкурентов. У них без стрельбы не обошлось. Тогда по всей области на кладбищах появились сотни черных мраморных обелисков с портретами крепких двадцатилетних парней. В его команде никто не погиб.
Я все это выслушал и попросил Дмитрия прийти на следующее утро. Сказал, чтобы он написал на бумаге все свои прегрешения. Все, что мучит совесть.
Дмитрий послушался. Он пришел перед литургией в будний день, когда в церкви не было исповедников, и, заглядывая в свою «шпаргалку», долго рассказывал о своих «подвигах». Было их немало. Я выслушивал его признания с большим трудом, просил не рассказывать подробностей. К причастию я его не допустил — велел три месяца пожить не совершая серьезных грехов. Приближался Великий пост. Дмитрий смирился и повеление мое выполнил. За весь пост сорвался всего лишь раз. После крупной сделки нужно было ублажить всех, кто был вовлечен в длившиеся два года переговоры. Приехало большое столичное начальство, и без солидной гулянки никак было не обойтись.
Потом он надолго исчез. А когда появился, его трудно было узнать. Он как-то почернел, но не от красноморского загара, а от какого-то внутреннего недоброго горения.
— Я, батя, за советом пришел.
Он достал сигареты и, не спрашивая позволения, закурил. Раньше он себе такого не позволял, зная мое отношение к курению. Но я не стал его одергивать. Молчал и ждал, когда он заговорит. Пауза затянулась.
Дмитрий сделал глубокую затяжку, выпустил из себя целое облако дыма и хрипло проговорил: «Может, я зря к тебе пришел… Но без твоего совета не могу. Тут либо он, либо я».
Он снова надолго замолк.
— Кто этот «он» и что случилось? В чем проблема?
— А в том, что его валить надо. Иначе он меня завалит.
— Ну, а теперь, пожалуйста, по сути. И русским понятным языком.
И Дмитрий рассказал о своей беде. Он захотел прибрать к рукам химический комбинат. Проплатил кому следует, чтобы выиграть тендер. И вдруг ему сообщают, что завод отойдет московскому очень богатому человеку. Если ему уступить, то он начнет его разорять по всем статьям. Люди, которых он представлял, «положили глаз» на несколько митиных заводов. Ну, что тут скажешь…
— Так я, стало быть, должен благословить тебя на убийство этого человека?
Дмитрий не ответил: продолжал молча курить.
— Зря я к тебе пришел, — наконец с досадой произнес он и поднялся.
— Нет, не зря, — я попытался его остановить. — На убийство я тебя, конечно, не благословлю, а совет дам.
— Какой совет?
— Уступи. Тебе хватит того, что у тебя есть. Пойди и поговори с ним. Мирно. Постарайся помнить, что ты христианин. Если передел собственности затеяли могущественные люди, тебе их не одолеть.
Дмитрий посмотрел на меня с презрением и сожалением: «Уступи… Это не в моих правилах. Какой же я после этого мужик?
— Хороший мужик. Только в голове у этого мужика много всякой дури. Уступи. И увидишь, как все обернется.
Дмитрий ушел, и неделю о нем ничего не было слышно. Я молился о нем. Сначала боялся беды, а потом успокоился. Я уже знал, что ничего плохого с ним не случится.
Потом он подкатил на своем джипе к моей избушке. Его телохранители внесли в дом несколько больших коробок со всякой снедью. Дмитрий, веселый и изрядно навеселе, бросился с порога обнимать меня: «Дай я тебя в эту светлую голову поцелую».
Я попытался отстраниться:
— Да что случилось?
— А то, что московские взяли меня в свою команду. И теперь я в их совете директоров.
Оказалось, что москвичи, наслышанные о местных нравах, подготовились к настоящей войне. Приход Дмитрия был для них полной неожиданностью. Они долго беседовали, и в конце их главный босс объявил, что ему нужен надежный деловой человек из местных. И таким человеком он видит Дмитрия.
Дальнейшая карьера Дмитрия была удивительной. Через два года его пригласили в Москву. Перед отъездом он помог мне достроить храм и заверил:
— Эти деньги честные.
О своих прежних «подвигах» вспоминает с отвращением и глубоким раскаянием. Я велел ему объясниться со всеми, кого он обидел в лихие годы. И он со всеми помирился и вернул прежние долги. Пока не переехал в Москву, не было ни одного воскресного дня, чтобы он не появлялся за литургией со своей женой и тремя погодками-сыновьями.
Отец Мефодий закончил. В наступившей тишине было слышно, как шумит река, громко звенели цикады. Несколько раз испуганно прокричала какая-то птица. Староста Геннадий мотнул головой: «Слышь, Глафира? Вон оно как. А ведь мог в сырой земле лежать со своими дружками».
— Мог бы, но не лежит, — вздохнул отец Мефодий и улыбнулся.
Только молитвой и постом
Часть 1. Пюхтицы
Ты, когда батюшка будет благословлять, голову не наклоняй.
— Почему? Все ведь кланяются.
— А ты не кланяйся. Не надо кланяться.
— Почему?
— А потому, что ты наклонилась — а благодать сверху и пролетела. Все головы наклоняют, а ты стой прямо. А когда батюшка благословит, закончит крестное знамение изображать, вот тогда и кланяйся.
— Но благодать ведь не пулеметная очередь. Попал — не попал… Как это — сверху прошла?
— А ты не умничай. Сейчас все грамотные, а простых вещей не понимают. Это бес всех подучил. Сама подумай: когда кланяешься в то время, когда священник тебя крестит, ты же крест ломаешь. Вот так. Стой прямо. И не умничай. Поумней тебя люди знают про бесовские хитрости.
За моей спиной послышалось громкое шуршание, затем глухой стук: что-то упало на пол.
Я обернулся вполоборота и увидел сначала спину в синей куртке, а затем голову в тонком голубом платочке.
— Ух, — тихо выдохнула голова и снова исчезла, нырнув вниз, под мое кресло. Я опустил глаза и увидел на полу большое желтое яблоко.
— Вы не яблоко ищете?
— Яблоко, — тихо ответил робкий голосок.
Голова, ответившая мне, все еще пребывала внизу.
Я наклонился и поднял яблоко. Но чтобы отдать его, пришлось встать и сделать шаг в проход. Кресла в сидячем вагоне были плотно придвинуты одно к другому, и развернуться не вставая с места было сложно.
Голова в косынке… скорее — головка симпатичной девушки медленно повернулась в мою сторону. На меня смущенно смотрели большие голубые глаза. Через мгновение девушка опустила их. Ресницы у нее были длинные. И пальцы, которыми она взяла яблоко, были тонкие и длинные.
— Спаси Христос, — сказала она едва слышно.
Эта редкая формула благодарения подсказала мне, с кем я имею дело.
— Вы старообрядцы? — спросил я негромко и посмотрел на соседку юной барышни. Это была пожилая женщина с довольно грубыми чертами и беспокойным взглядом. Она смотрела на меня с тревогой и даже страхом. До перестройки и изменения отношения к Церкви было еще добрых две пятилетки. Так что ее можно было понять. Ведь за хождение в храм была гарантирована суровая немилость у власть предержащих. Да и вопрос мой был довольно дерзким. К «никонианам» старообрядцы относятся известно как. Мое вопрошание смутило бы любого представителя древляго Православия.
Бабуля молчала. Барышня сидела в напряженной позе, по-прежнему не поднимая глаз. Народу в вагоне было немного, и пассажиры, сидевшие через проход от нас, явно услыхали мой вопрос и заинтересованно поглядывали в нашу сторону. Нужно было разрядить обстановку.
Я извинился за бестактность и решил пошутить:
— Один раз из-за яблока уже произошла история, которую до сих пор расхлебываем.
Я улыбнулся, но напрасно. Бабуля стала смотреть на меня с еще большим беспокойством.
— Я имею в виду историю грехопадения наших прародителей, — стал объяснять я и тут же понял, что делаю это напрасно.
Теперь бабуля смотрела на меня сурово и с неприязнью.
— Вы, наверно, живете в Латгалии или на эстонском берегу Чудского озера, — я уже не мог остановиться и продолжал, не зная, как закончить мой безответный монолог. — Я бывал в ваших краях. Вот где старообрядцы сохранили подлинную Россию. Там даже иконы продолжают писать в каноне.
При слове «иконы» бабуля как-то крякнула и покосилась в сторону соседей.
— С чего вы взяли, что мы из Эстонии? Мы ленинградцы. А в Эстонию едем отдыхать. Купаться в озере… Здесь молочные продукты очень хорошие, и все здесь очень хорошо, — чересчур сладко проговорила бабуля и даже слегка кивнула в сторону соседей, говоривших друг с другом по-эстонски.
— Простите. Я просто услыхал, как ваша… — я замялся… — внучка или попутчица сказала: «Спаси Христос!» А так теперь благодарят только старообрядцы.
— Ишь, умник, — проворчала бабуля. — Скажи спасибо, что поблагодарила.
Она двинула соседку локтем в бок. Довольно сильно. Та даже вскрикнула. Но глаз не подняла и осталась сидеть в прежнем положении.
— Другие теперь и спасибо ни за что не скажут, — продолжала ворчать бабуля.
Я еще раз извинился. Моя жена, сидевшая впереди меня, оглянулась и «сделала страшные глаза». Я наклонился к ней.
— Что ты пристал к людям… Сейчас наша остановка.
Я попрощался с неразговорчивыми соседками, еще раз извинился, перекинул сумку через плечо, взял на руки сына и двинулся к выходу. Наверно, они никакие не старообрядцы. Ведь бабуля говорила о том, как не надо кланяться при священническом благословении. В Латгалии и Причудье живут «беспоповцы». Священников у них давно нет.
— Йыхве. Пассажиры, выходим. Йыхве. Стоянка две минуты, — навстречу мне шла по проходу высокая полная проводница. Пришлось вжаться в спинку кресла. Мы с трудом разминулись.
— Йыхве, Йыхве, — громко объявляла она, продолжая следовать в конец вагона.
Йыхве… Удивительно устроена голова и то, что в ней происходит. Я смотрю на табличку, состряпанную моей приятельницей. На сером фоне большими темно-красными буквами написано: «Эх, ты!»
Это адресное обращение к ее мужу. С некоторых пор он перестал выходить из дому. Целыми днями сидит у телевизора, курит и пьет чай с часовым интервалом между чаепитиями. Его невозможно упросить прогуляться с собакой или спуститься в булочную, находящуюся в их же доме, рядом с соседним подъездом. Что-то стряслось с моим другом. Он не может переступить порога своей квартиры. Недавно смог. Его отвезли в больницу. Табличка с надписью «Эх, ты!» криво вставлена между томами Диккенса и Лескова на книжной полке в прихожей…
А мой духовник нередко произносил «эх, вы!», глядя с укоризной на кого-нибудь в толпе исповедников. И многие думали, что батюшка вздыхал о них лично, и спешили вспомнить утаенные во время исповеди грехи. «Эх, вы!»…
«Эх ты!» не очень похоже на Йыхве, но я вспомнил Йыхве и все, что связано с этой топографемой.
Йыхве. Странно звучит для русского уха это эстонское название. Но многим питерцам (бывшим ленинградцам) оно хорошо знакомо. С Балтийского вокзала на таллинском поезде ехали до этой станции православные граждане. От Йыхве до Куремяэ на автобусе. А в Куремяэ… Это нужно было видеть. Русские люди выпрыгивали из автобуса и начинали истово креститься и кланяться на святые каменные ворота с деревянной звонницей, увенчанной крестом. А за звонницей были видны кресты пятиглавого собора, возвышавшегося над высокой каменной оградой.
Пюхтицкий монастырь не похож ни на какой другой православный монастырь. Все в нем построено в русском стиле, но с какой-то европейской прививкой. Какая-то малообъяснимая, но несомненная особенность была во всем: и в самой архитектуре, и в организации пространства, и в высоких подклетах из больших валунов, на которых стояли монастырские постройки. Даже цветочные клумбы (а они были повсюду) были необычными.
В конце семидесятых годов в коренной России было лишь два действующих монастыря: в Троице-Сергиевой лавре и в псковских Печорах. В остальных монастырях были в лучшем случае музеи, а в большинстве — тюрьмы да психиатрические лечебницы. В Эстонии Пюхтицкий монастырь сохранился чудом. В тридцатые годы его миновала участь русских монастырей, поскольку Эстония была независимым государством и там церквей не ломали. А в хрущевские гонения на Церковь тогдашнему архиепископу Таллинскому и Эстонскому Алексию (будущему патриарху Алексию II) удалось сделать немыслимое. Он оповестил мировую церковную и политическую общественность о планах коммунистов закрыть монастырь. Началась бурная протестная кампания, и Пюхтицкий монастырь отстояли.
Мы задержались на остановке. Справа возвышались двухэтажное деревянное здание и деревянная кладбищенская церковь, окруженная ухоженными могилами с одинаковыми крестами. Слева за деревьями просматривалась поляна, обрамленная темной кромкой леса. Перед нами широкая грунтовая дорога коротким извивом вбегала в раскрытые монастырские ворота. А за воротами… Это еще предстояло разглядеть, но храм и море цветов были хорошо видны.
Наши соседки по вагону ехали дальше. У них была особая цель: добраться к отцу Василию в Васкнарву. Прощались они с нами, как с любимыми родственниками. Трудно было узнать в улыбавшейся пожилой женщине ту самую хмурую бабулю, которую я тщетно пытался разговорить в вагоне.
Она вышла с внучкой на той же станции Йыхве. Сначала они старались приотстать от нас, пока мы шли от железнодорожной станции к автобусной. Но как только бабуля разглядела нашего болящего сына, поняла, что совместное путешествие продолжится, и мгновенно переменилась.
— Так вы, наверное, к отцу Василию? — она широко улыбнулась, засвидетельствовав большую нелюбовь к стоматологическому искусству. Сверху у нее сиротливо торчали, как у зайца, два желтых зуба. Снизу зубов было поболе.
— Сначала в монастырь. В Пюхтицы. А потом — к отцу Василию, — я тоже улыбнулся.
— Вам к нему, а не в монастырь нужно, — решительно заявила она, кивнув на нашего сына. — Хотя окунуться в источнике неплохо. Окунитесь — и сразу к отцу Василию — в Васкнарву. Это недалеко. Полчаса езды.
Уже сидя в автобусе она рассказала нам о чудотворце-батюшке, к которому на отчитку приезжают бесноватые со всей страны. Они с внучкой едут к нему в третий раз. Она наклонилась ко мне и заговорщицки прошептала:
— У Оленьки моей испуг.
Признаться, я не понял, что она имела в виду. Но бабуля поспешила разъяснить. Она прочла мне лекцию о хворях, не поддающихся современному врачеванию, потому что дело не в болезни как таковой, а в бесах. Рассуждая о коварстве врага рода человеческого, она рассказала мне историю своей внучки. Заодно представилась: «Я — Марфа Марковна. Нынче таких имен не дают. Так что не спутаешь». Имя действительно достойно персонажа какой-нибудь пьесы Островского. Но я стал пространно рассуждать об именах и о том, как красивы и благозвучны ее имя и отчество. У меня в классе было шесть Саш, восемь Вов, четыре Наташи и ни одной Марфы.
Марфа Марковна осталась довольна моими рассуждениями. А история ее внучки Оленьки такова.
Отец бросил ее с матерью, дочерью Марковны, когда Оленьке не было и двух лет. Мать горевала недолго и завела себе дружка. Тот оказался адептом какого-то восточного учения. Пожила она с ним год-другой и, по слову Марковны, «совсем улетела в глубокую лужу». С матерью вообще перестала разговаривать, сидела часами со стеклянными глазами поджав под себя ноги, читала какую-то «Агню-гу», (очевидно, Агни-йогу), а потом вообще исчезла вместе с внучкой. Лет десять не подавала о себе никаких вестей. Обращалась Марковна и в милицию, и к экстрасенсам. Наконец узнала, что дочь с любовником живет на Алтае. Там несколько питерцев облюбовали себе тихие места и жили «в согласии с природой». С властями как-то ладили. Особых нареканий на них не было, но за ними приглядывали. Попытки увлечь местное население светом их откровения успеха не имели. Самых прытких хотели за тунеядство посадить, так они, оказывается, работали. Дочь в библиотеке устроилась, а хахаль ее — в колхозной конюшне. А он до лошадей сам не свой. В Ленинграде деньги платил большие, чтоб на конях покататься, а там и лошади бесплатные, да еще ему и платили. На письма дочь не отвечала, а два года назад Марковна узнала, что она померла. Письмо пришло от незнакомой женщины. Она сообщила, что дочка Ларисина живет у нее и хочет вернуться к бабушке. Если Марковна захочет, то может ее забрать к себе. В тот же день Марковна полетела в Барнаул, а потом до Бийска и дальше в горы по знаменитому Чуйскому тракту. Нашла она нужный адрес. Село оказалось старообрядческим. Народ крепкий. Но доброта у них какая-то особая. Женщину эту, приютившую ее внучку, бабу Гликерию, даже на год от молитвенного собрания отлучили за то, что никонианское дитя в дом взяла. Да еще от матери-язычницы! Целый год земляки не общались с бабой Гликерией. А потом вдруг словно опомнились, стали всем миром ей помогать. Оленьку полюбили. Она кроткая. Двумя перстами стала молиться. А читает псалмы — чистый ангел. Стала она им на их службах читать. (Вот так объяснилось, почему она мне в поезде сказала: «Спаси Христос!»)
А претерпеть Оленьке пришлось немало. Сожитель ее матери стал к ней приставать. Убежала она от него среди ночи в одной рубашке по снегу. Забежала в избу к бабе Гликерии. Дай ей Бог здоровья! А того аспида так и не поймали. Исчез. А вот у Оленьки испуг начался: по ночам кричит, в обморок падает часто.
Слушая Марковну, я украдкой поглядывал на Олю. Ее время от времени передергивало — сильная судорога пробегала по телу. Она вытягивала вверх подбородок и шумно втягивала в себя воздух, словно кто-то сжимал ей челюсти.
— Вся надежда на отца Василия, — продолжала Марковна. — После его отчиток Оле лучше. На несколько месяцев. Но в городе такого нахватаешься… Батюшка говорит, что ей надо при нем жить с годик. А потом в монастырь, чтоб защита была на всю жизнь.
Признаться, до Марковны я подобных историй не слыхал. Она обвиняла человека, погубившего ее дочь, даже не в том, что он виновен в смерти Ларисы и посягал на ее малолетнюю внучку, а в том, что он «напустил бесов» в Оленьку. В те годы я знавал многих любителей восточных учений. Даже в Извару, в имение Николая Рериха, как-то заехал. Сам я этим делом не увлекся, но и не осуждал рериховцев. Мне и в голову не приходило, что их можно заподозрить в контактах с бесами. Скажи мне тогда об этом — я бы, пожалуй, посмеялся над «суеверием православных, присвоивших себе монополию судить о неизвестных им духовных практиках». К религии я относился тогда скорее как к культурному феномену. Ну и политическому. За веру в Бога можно было пострадать. Организаторов религиозных объединений и распространителей христианской литературы сажали в лагеря. В 1980 году выслали из России Татьяну Боричеву с Татьяной Мамоновой и Юлией Вознесенской. Их отправили в ссылку за создание женского христианского движения и проведение на частных квартирах православных семинаров. Сам я на них не бывал. В церковь захаживал редко: лишь по большим праздникам. Мои друзья вели беседы, далекие от религиозных тем. Рассказывали анекдоты про «Софью Власьевну» (так мы называли советскую власть), ходили по мастерским художников-авангардистов да обсуждали труды Солженицына, Варлама Шаламова и прочих авторов, записанных этой «Софьей Власьевной» во враги.
Так что монолог Марковны был мне в диковинку и прослушал его я с большим интересом. Уже из отходившего автобуса Марковна крикнула, чтобы мы не задерживались в монастыре, а поскорее приезжали в Васкнарву к отцу Василию.
Так и получилось. Из монастыря мы уехали на пятый день. Но четыре дня, проведенные в Пюхтицах, — одно из самых ярких впечатлений моей жизни.
Распрощавшись с попутчицами, мы прошли через святые ворота и оказались, безо всякого преувеличения, в ином мире. Мире поразившей нас красоты и гармонии. Великолепный храм, море цветов, монахини в длинных, до самой земли, одеяниях. Молодые монахини передвигались с какой-то легкостью, будто не касаясь земли. Они не смотрели по сторонам и не разглядывали тех, кто шел им навстречу, а приветствовали встречных низким поклоном. Так же, не поднимая головы, отвечали на приветствия.
К нам подлетела — именно подлетела — девушка в ситцевом платье в мелкий цветочек и легкой белой косынке, ласково улыбнулась и сказала, что нужно прежде всего благословиться у матушки Варвары. Мы последовали за ней к дому настоятельницы.
Матушка настоятельница сидела на скамейке с монахиней в белом апостольнике. (Название это, как и многие другие термины, не имевшие хождения в советской действительности, я узнал позже.) Обе монахини были неправдоподобно белолицыми. Человек в миру либо загорит, либо ходит с лицом, на котором зримо отпечатались следы греха, заморской косметики или долгого пребывания на улицах современного города. Лица же этих женщин свидетельствовали о чистоте. У настоятельницы было доброе, очень простое лицо. Вторая же показалась мне образцом женской красоты. Они сидели словно сошедшие с полотна Нестерова посланницы Святой Руси.
Настоятельница спросила нас, откуда мы и чем занимаемся в миру, внимательно с сочувствием посмотрела на нашего сына. Потом обратилась к девушке, приведшей нас к ней:
— Танечка, отведи их на горку.
Эта Танечка сейчас мать Серафима, настоятельница Иоанновского монастыря, где покоятся мощи Иоанна Кронштадтского, а монахиня, сидевшая рядом с матушкой Варварой, матушка Георгия, — настоятельница Горненского монастыря в Святой Земле.
Я до сих пор не перестаю удивляться тому, что первыми монахинями в моей жизни оказались такие замечательные подвижницы.
Танечка провела нас на горку. Мы прошли мимо храма, могилы князя Шаховского, принявшего большое участие в строительстве монастыря, и вошли в «дом на горке» с тыльной стороны. Нам предложили просторную комнату со сводчатым потолком и десятком кроватей.
Танечка пообещала, что соседей у нас не будет.
Четыре дня мы прожили в этом дивном месте, посещая утром и вечером монастырские службы.
Службы были долгими. Нас поразило монашеское пение. Все было так непривычно: покойно, молитвенно и радостно. В тогдашнем Питере не было ничего подобного. В церквях помимо толчеи чувствовалось сильное напряжение. Можно было столкнуться с соглядатаями. Молодых людей в храмах было немного. И все они, так или иначе, были на заметке у органов безопасности. Однажды на Пасху в Спасо-Преображенском соборе к моей жене подошел ее студент, комсомольский активист, и заявил, что если она не поставит ему на экзамене хорошую отметку, то он донесет на нее декану.
В Успенском соборе Пюхтицкого монастыря можно было почувствовать свободу. Подлинную свободу во Христе и свободу в обычном, житейском смысле. Не было никакой нужды суетиться. Все, что нас окружало, свидетельствовало о высоком и прекрасном: повсюду были знаки горнего мира, а дольний прикровенно показывал, что Святая Русь никуда не подевалась. Я заметил двуглавых имперских орлов на хоругвях. Такое даже представить было невозможно: символы царской власти на 64-м году «Софьи Власьевны»! Казалось, что мы чудесным образом оказались в месте, где человек полностью защищен и где никто тебе не станет «шить политику» за то, что ты веруешь во Христа, а не в «дедушку Ленина».
Но, к сожалению, это было не так. И соглядатаи появлялись в монастыре, и целые бригады «ответственных товарищей» вламывались и в монастырь, и в близлежащие церкви для проверки и отлова «тунеядцев и сомнительных личностей». Этому мы вскоре стали свидетелями. Но в те дни наше монастырское житие было наполнено тихой радостью и сладкой иллюзией пребывания в иной, нежели советская, реальности. Вот оно, истинное, полновесное бытие. Литургия воспринималась не как ежедневная служба с непостижимыми, прекрасными символами, а как подлинное стояние на границе двух миров. Эта граница материи и духа виделась в иконах, а проходила она через сердце, трепетавшее от прикосновения к горнему миру. Прикосновение это было, к сожалению, кратковременным. Во время службы суетные мысли постоянно с небывалой настырностью возвращали на землю. И не просто на землю, а в какое-то смрадное хранилище дурных воспоминаний и непристойных мечтаний.
Но все же это был, хотя и очень несовершенный, опыт молитвы. Паломников в монастыре было немного. В храме стояли в основном монахини. Несколько очень пожилых монахинь в схимнических облачениях, расшитых белыми крестами, ангельскими головками, обрамленными крыльями и трудноразличимыми славянскими письменами, сидели на скамьях у западной стены. Мне так и не удалось увидеть их лиц. Они сидели с низко опущенными головами и перебирали узелки четок. Справа, у солеи, под иконой Успения Божией Матери молились разновозрастные дети.
Было несколько девочек от 3 до 10 лет и три отрока лет 10-12. Один из них время от времени одергивал девочек, начинавших перешептываться и шалить. Иногда он выводил из храма устававших стоять неподвижно самых маленьких — «немного проветриться». Происходило это тихо. И взрослых эти передвижения хотя и отвлекали от молитвы, но, очевидно, не очень сильно. Во всяком случае никто детям замечаний не делал. Нам с женой пришлось присутствовать в храме по очереди. Одному нужно было гулять с сыном. Стоять или даже сидеть на одном месте он долго не мог. Мы заходили с ним в храм, когда начиналось причастие.
Одна из девочек после первой же литургии подошла к нам, взяла нашего сына за руку и объявила, что проводит нас к источнику. Она рассказала, что зовут ее Аней, что мама ее иконописец и что они приехали из Москвы.
— Пойдем, Петя, — обратилась она к нашему сыну.
— Откуда ты знаешь его имя? — удивился я. Мы называли его по имени только при Танечке.
— Здесь все всё знают, — очень серьезно ответила Аня и кивком головы пригласила нас следовать за ней.
Мы обошли монастырь и спустились к рощице. Тропинка, петляя между сосен, вела вверх. Впереди шла пожилая женщина, тихо напевая «Богородице Дево, радуйся!» Неожиданно она упала на колени и, сделав земной поклон, стала целовать корень сосны. Потом быстро поднялась и продолжила путь.
— Это она стопочку Богородицы поцеловала, — объяснила Аня.
Мы остановились возле сосны. От ее ствола во все стороны по поверхности земли разбегались толстые корни. На одном из них было утолщение, очень похожее на небольшую женскую или детскую стопу. Оно было идеальной формы, ровно очерченное каким-то изящным орнаментом в виде кружочков, оплетенных тонкой жилкой.
Аня наблюдала за нашей реакцией.
— Ну как?
Я не знал, что ответить. На всякий случай произнес:
— Красиво.
— Папа с мамой не верят, что это след стопы Богородицы. Скорее всего игра природы. А вот явление чудотворной иконы здесь было на самом деле, — убежденно заключила Аня. — Но если народ верит, что это стопа Богородицы, пусть верит. Это никому не мешает. Просто народ любит поклоняться каким-то реальным вещам.
Слышать подобные суждения от десятилетней девочки было странно. Я понимал, что этот выросший в церковной семье ребенок знает много такого, о чем я и не догадывался. У нее было чему поучиться. И главное, с ней можно было говорить как с абсолютно взрослым человеком. Другое дело — было стыдно за собственное невежество и незнание того, что этой девочке ведомо с пеленок.
Мы перешли по мостику ручей. На полянке, с трех сторон окруженной деревьями, находилась небольшая часовня с Пюхтицкой иконой Божией Матери и деревянный сруб купальни. Возле него стояло несколько женщин и один старичок. Мы подошли к ним. В этот момент Петя стал вырываться и проявлять беспокойство. Нам предложили окунуться без очереди.
— Ишь как благодать чувствует, — проговорил старичок и перекрестился широким крестом.
— Ну, я побегу, — объявила Аня. — Надеюсь, дорогу найдете.
Мы поблагодарили ее, и она резво припустила обратно к монастырю.
Женщина, шедшая по тропинке впереди нас, стала объяснять, как нужно окунаться в святом источнике:
— Минимум три раза — в честь Пресвятой Троицы. А сможешь, так двенадцать — в честь двенадцати апостолов. Перекрестись, сына перекрести и говори: «Во имя Отца! Аминь! И Сына! Аминь! И Святаго Духа! Аминь!» И обязательно с головой.
— А ты лучше сейчас перед окунанием обойди три раза часовню и прочитай Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!» — негромко посоветовала мне старушка, державшая под руку очень полную женщину с землистым лицом, туго перевязанным под подбородком косынкой.
— «Грешнаго» не надо говорить, — строго заметил старичок. — Господь и так знает, что грешный. «Помилуй мя!» — и все. Довольно.
— Ну не скажите, — стала перечить ему первая просветительница. — Господь-то все знает. Главное — себя грешником осознавать.
— Эт само собой. Осознавай. А к молитве ничего не добавляй. Ее так великие подвижники читали. И старцы…
Конца спора я не дослушал. Из купальни вышли четыре женщины. Я обернулся к жене:
— Полотенца-то мы не взяли…
— Какое полотенце! — сразу воскликнули несколько женщин.
— Вытираться нельзя ни в коем случае. Надевай одежду. Сразу высохнешь. Тело как в огне горит. Тут даже зимой не вытираются, — разъяснил премудрость купального делания старичок.
Вода оказалась ледяной. Первую молитву я прочитал не спеша и, прижав к себе Петю, присел, погрузившись в воду с головой. Петя громко закричал и стал вырываться.
— Исцели его, Господи! Верую, Господи. Помози моему неверию.
Я быстро окунулся еще два раза. Вместо крика раздался сильный кашель. Петя наглотался воды и, с ужасом глядя на меня, зашелся в кашле. Я быстро поднялся по скользким ступеням и надел на него рубашку. Он перестал кашлять, но начал дрожать всем телом, постанывая и издавая незнакомые звуки. Дело в том, что он с самого рождения не говорил и не смотрел в глаза, словно говоря нам: «На вас и глядеть не хочется».
В роддоме нам ничего не сказали о родовой травме, и мы упустили драгоценное время, когда можно было многое исправить. Отставание в развитии стало очевидным только через пол года. Врачи говорили, что так бывает, и уговаривали не беспокоиться. Петя был симпатичным ребенком. Когда был спокоен, то никаких следов болезни на его лице не было заметно. Но это были редкие минуты. Он все время куда-то рвался, убегал и, если не остановить, мог бежать, покуда хватало сил.
Я поблагодарил народ за то, что нас пустили без очереди, и повел притихшего Петю в поле. Жена взяла его за другую руку, и мы пошли, прислушиваясь к Петиному бормотанью.
— Ты что сказал? — спросил я его в сильном волнении.
Он что-то снова пробормотал. Мне показалось, что это был осмысленный ответ, что произошло чудо и Петя получил исцеление в святом источнике. Он все понимает и скоро начнет нормально говорить. Я сел в траву и посмотрел ему в глаза. Он не стал отводить взгляда. Это было действительно чудо. Впервые за четыре года сын смотрел осмысленно и прямо в глаза.
«Ежели бы на горящие угли его посадил, он бы еще и не так смотрел. Он бы все, что о тебе думает, сказал», — это был ничем не заглушаемый голос сомнения. Что бы хорошее ни происходило в моей жизни, сразу же включался внутренний собеседник, ехидно высмеивавший то, что меня порадовало. Мне бы возблагодарить Бога да помолиться усердно, а я, сомневающийся и смущенный, вдруг вспомнил, что мы еще не завтракали, и почувствовал такой приступ голода, что чуть не потерял сознание.
Жена все же настояла, чтобы мы не торопились, а вернулись кружным путем. Впереди, на склоне холма, виднелись две цепочки жниц: девушки в легких длиннополых платьях косили траву. Это были молодые монахини и послушницы. Я лишь однажды видел косцов на лугу. Это было в Вологодской области. Отец с двумя сыновьями обкашивал высокий пологий берег Шексны. Они шли друг за дружкой, одновременно с разворотом посылая косу широким полукружьем.
Звук косьбы — стали, срезающей траву, — походил на пение какой-то огромной птицы. Даже не пение, а стон от полученной раны.
Я стоял у воды, а косари, голые по пояс, мускулистые и широкоплечие, медленно двигались по склону, оставляя за собой холмики скошенной травы. Первым шел отец. Оба сына были на фоне зеленого склона, а торс отца, казалось, плыл по голубому небу. Над его головой завис жаворонок — да простят меня орнитологи, если это была другая птаха. Она часто трепыхала крылышками и, когда старший косарь уходил на несколько метров вперед, срывалась с места и каким-то нырком оказывалась вновь над его головой. Впереди Шексна широкой дугой уходила влево, скрываясь за кромкой противоположного берега. На нашем берегу чернели три избы. Весь этот пейзаж с рекой, ярким небом, косарями и жаворонком над ними являл собой такую радостную гармонию жизни, что хотелось запеть во всю мощь какую-нибудь раздольную песню и побежать, широко раскинув руки, пытаясь обнять эту необъятную красоту…
Приближаясь к девушкам, я невольно вспомнил эту картину. Мы услыхали пение кос. Платья из веселенького ситца какого-то старорежимного кроя ярко горели на фоне зеленого поля. На всех были белые косынки. Девушки легко в такт взмахивали косами. И хотя была пройдена добрая половина огромного поля, в их движениях не было заметно усталости. Эта неженская работа, предполагающая молодецкую удаль и силу, исполнялась с какой-то необъяснимой красотой и изяществом. Косарь не имеет женского рода. Косами всегда косили мужики. А женщины жали серпами и назывались жницами. Наши барышни-косари не были могучими бабами, в коих легко было представить сильных работниц. Напротив. Все они были худенькими, изящными. Оттого-то и была удивительной легкость, с которой они исполняли работу косарей. Эх, красота! Еще бы белую лошадь для полноты этой венециановской картины.
И только я подумал о белой лошади, как она, родимая, медленно вышла из-за кустов…
Трапезы в монастыре были скромными. Во всяком случае те, что проходили на горке. Широкий стол едоков на двадцать стоял под открытым небом. Кто-то приносил из кухни кашу или щи. Иногда появлялась картошка в мундире. Ржаной хлеб был собственной, монастырской, выпечки и казался невероятно вкусным. Ели молча. Богомольцы были пожилыми людьми. Лишь одна дама, в ком, без сомнения, угадывалась интеллигентная столичная штучка, была нашего возраста. Мы «поиграли в общих знакомых» и сразу же подружились. Это была замечательная писательница и поэтесса Олеся Николаева. Я горевал, что мы не обменялись координатами: через день ее уже не было. Но той же осенью мы снова встретились. Уже не в Пюхтицах, а в Печорах, куда она приехала со своим мужем — Владимиром Вигилянским. И встретились мы как старые знакомые, знавшие друг друга целую вечность. Но это было намного позже…
В Пюхтицах в это время находился приятель и соавтор моего однокурсника — известный литературовед Николай Котрелев. Эта встреча была особенно радостной. Я не знал о том, что Николай — церковный человек. Вольномыслие и безразличие моего однокурсника и его соавтора к «христианской проблематике» были настолько сильны, что было трудно представить верующего человека в числе его друзей. Хотя он по-своему человек замечательный и талантливый (из нашей университетской компании стал единственным полновесным академиком).
Николай жил в одном доме с нашей юной первознакомкой Аней. Ее мать, иконописец Ксения Покровская, и отец, физик Лев Покровский, открыто исповедовали Православие и в то время, когда интеллигенция перестала размножаться, не желая «плодить солдат коммунистам», подарили Родине пятерых граждан. (Кстати, у Николая Котрелева к сегодняшнему дню около 20 детей и внуков.)
С Николаем и Покровскими мы имели возможность общаться днем и после вечерней службы. Я почерпнул много полезного из этих бесед. Они были в Пюхтицах старожилами. Ксения писала для монастыря иконы, а Николай, если мне не изменяет память, работал с какими-то документами в монастырском архиве.
В Пюхтицах останавливались на денек-другой те, кто направлялись в Васкнарву к отцу Василию. Мы решили покинуть гостеприимную обитель и ехать с ними. Но Танечка уговорила нас остаться: ждали таллинского владыку Алексия. Она почему-то решила, что мне нужно непременно попасть к нему на беседу, и обещала меня представить ему. Остаться-то мы остались. И на службе архиерейской помолились, но после службы уехали на дневном автобусе в Васкнарву. Мне, конечно, хотелось пообщаться с владыкой. Да и архиерейский обед предполагал кое-что отличное от картошки в мундире. Но понимание своего недостоинства все же пересилило.
Часть 2. Васкнарва
Об отце Василии (митрофорный протоиерей Василий Борин; 1917-1994. — Прим. ред.) из Васкнарвы я узнал от Саши Литовского. Настоящей фамилии Саши я не знаю. Литовский — кличка по месту его проживания на Литовском проспекте. Саша был мужичком небольшого роста, лет сорока, с длинной нечесаной бородой. Ходил он, как ему казалось, в «православном прикиде»: зимой в дубленом зипуне, а летом в широких штанах и льняной рубахе навыпуск. Свой старенький зипун Саша очень любил и говорил о нем с великим почтением: «Этот наряд государя императора помнит». Это походило на правду. Уж больно был старый зипун.
В его маленькой каморке в коммунальной квартире можно было встретить самых неожиданных гостей. С ним знались и священники, и господа ученые, и семинаристы, и соседняя гопота, которую он иногда угощал «белым винцом». Дело в том, что у Саши можно было приобрести все, что имело отношение к православной вере, вплоть до древних рукописей, старинных икон и нательных крестов домонгольского периода. Помимо древностей у него водились современные книги по богословию, издаваемые русскими эмигрантскими издательствами в Америке и Западной Европе. Можно было даже приобрести энтээсовскую периодику. У него оставляли товар скупщики, приезжавшие к нему с Севера, Новгородчины и Псковщины.
Продавал он принесенное с небольшой наценкой: ценные вещи предлагались за гораздо более скромную сумму, нежели в антикварных магазинах. Пока он был жив, не было проблем с подарками для верующих людей. Когда его отпевали в Князь-Владимирском соборе, храм был полон. Люди, не знавшие покойного, говорили: «Священника отпевают. Не иначе!»
Саша был ценен еще и тем, что знал всех священников Северо-Запада. Часто ездил на богомолье в монастыри. Хотя он и называл свой бизнес «нужным делом», но все же время от времени каялся в том, что торговал святынями. Больших денег у него никогда не было. Его можно даже назвать «минималистом». В комнате был лишь старый узенький диванчик, низкий стол для непременного чае- или винопития, два табурета да вешалка, прибитая к внутренней стороне двери. Иконы и книги он держал в угловом шкафу. Некоторые иконы для скорейшей реализации развешивал по стенам.
Он с легкостью судил о «благодатиости» и особых дарах знакомых ему батюшек и настоятельно рекомендовал к ним съездить, объясняя, как к ним добраться. Некоторые служили на глухих приходах, и попасть к ним без подсказки было непросто.
Он настоял на том, чтобы я с сыном непременно съездил в Васкнарву к отцу Василию.
— Можешь и в Печоры к отцу Адриану съездить. Но там стремно. И стукачей навалом, и наместник свирепый. А в Васкнарве потише. Все же Эстония. И живут там приезжие скопом. Всех не шуганешь. Сам увидишь.
А увидели мы развалины церкви да толпу странных людей. Крошечная главка с крестом на месте отсутствовавшего купола должна была свидетельствовать о том, что четыре стены с зияющими дырами не просто полуразрушенный дом, а храм Божий. Он был построен в начале XIX века в честь пророка Илии. Я приобрел у Саши для отца Василия высокий фарфоровый стакан для напольного подсвечника с изображением вознесения пророка Илии на небо в огненной колеснице.
Отец Василий подарку обрадовался. Пригласил в свой домик и стал потчевать чаем с сушками. В комнату, где мы чаевничали, постоянно заглядывала помощница батюшки Галина, девица лет двадцати пяти, и сообщала какие-то новости и чьи-то просьбы. Батюшка на каждую реагировал бурно. Он как-то вскидывался и быстро-быстро что-то проговаривал. Я не мог ничего разобрать, но помощница кивала головой в знак согласия, время от времени отпуская короткие комментарии.
Я с любопытством разглядывал батюшку. Был он лыс, с абсолютно белой бородой и редкими тонкими седыми прядями, спускавшимися от лысины до плеч. Голубые глаза лучились и казались смеющимися даже тогда, когда он начинал кипятиться и выражать неудовольствие. Его моложавое лицо постоянно меняло выражение: то он чему-то радостно улыбался, обнажая беззубые десны, то сердился и хмурился, тряся бородой и призывая меня в свидетели.
— Аты вот что, молись постоянно и не надейся на чудо. Тебе чудо повредит. Терпи, а надо будет — Господь и чудо сотворит, и даст все, что потребно.
Этим напутствием завершилась наша беседа. На сей раз он говорил не так быстро и я все понял. К его скороговорению было несложно привыкнуть.
Батюшка вызвал Галину и приказал устроить нас.
Во дворе нас поджидала Марковна. Она бросилась к нам, троекратно облобызала и заявила Галине, что места для нас уже забронированы. Галина возмутилась:
— Тут батюшка на все благословляет. А вам нужно сидеть тихо и не командовать.
Марковна извинилась, ухмыльнулась и подмигнула мне:
— Давай, Галюнь, пойди найди.
Это оказалось делом непростым. Батюшкино хозяйство представляло собой нечто вроде монастырька, окруженного стенами из крупных камней. Стены эти были наполовину разрушены, и часть народа была занята на их восстановлении. Помимо храма в ограде разместились четыре небольших домика из силикатного кирпича и маленькая часовня. Но это была не часовня, а старая церковь — крошечная комнатка в одно оконце, но с настоящим престолом. В ней несколько раз в году служили литургию. Дома стояли вплотную. В них было по две жилые комнаты, а на просторных чердаках настилались в два ряда матрацы. Здесь спали батюшкины пасомые. Утром матрацы убирались на случай проверок. Народ расходился на послушания. Дел было много: строительные работы в храме, восстановление стен, несколько женщин работали на кухне, девицы ходили по ягоды: собирали чернику. Мужчины с ведрами и тачками ходили вдоль реки и озера в поисках камней для стройки. Кто-то постоянно дежурил у ворот. В случае тревоги народ врассыпную устремлялся в лес или к озеру изображать дачников-купалыциков. Местные власти нередко устраивали рейды и схваченных нарушителей паспортного режима отвозили в районный отдел милиции, а оттуда «депортировали»: отправляли на все четыре стороны. Но для страдальцев, приехавших к отцу Василию, этих четырех сторон не было. Была лишь одна сторона. Все захваченные нарушители снова оказывались в Васкнарве. По закону каждый гражданин Советского Союза был обязан встать на учет по прибытии в любое место, где он не был прописан. Если его гостевание превышало трое суток, нужно было оформлять временную прописку. Дело это муторное и долгое. Но главное — такой прописки власти попросту не давали. Во всяком случае для паломников и людей, трудившихся для Церкви. Церковь была для коммунистов объектом приложения слабеющих сил. С классовыми врагами покончили, но бороться с Богом не переставали вплоть до крушения системы. Позволить священнику разместить при храме несколько десятков человек было просто немыслимо. Даже рабочие, трудившиеся на восстановлении храма, считались нелегалами. Сейчас даже трудно представить, какой подвиг взял на себя отец Василий. Его постоянно штрафовали, отвозили в милицию для составления протоколов, грозились изгнать из Васкнарвы. Но Господь берег его. Батюшка бесстрашно заявлял властям: «Изгоняйте. А бесноватых лечите сами. Размещайте в своих квартирах, кормите, ухаживайте за ними, слушайте их вопли. А если они вас растерзают, то никто не будет виноват. Чего с них взять, с бесноватых». От таких речей красные товарищи сами начинали бесноваться, но, пообещав разобраться с отцом Василием по всем строгостям советского закона, на какое-то время оставляли его в покое. Но потом снова устраивали облаву: нужно ведь отчитываться перед вышестоящими начальниками. Батюшка искренне жалел своих гонителей. Улов их был всегда невелик, а сил и бензина они тратили много. Об одной такой облаве я расскажу позже.
Итак, мы с Марковной и Галиной отправились искать себе пристанище. Марковна придержала два места для моей жены и сына в женском домике и одно для меня — в мужском. Но такой расклад был невозможен. Жена моя не могла справиться с Петей без моей помощи. Да и с таким количеством соседок он бы вовек не уснул. Нужно было найти место, где бы мы могли разместиться втроем. Единственным незанятым оказался закуток в кочегарке без окон и электричества. Но с несомненным достоинством — отсутствием соседей. Мы выгребли несколько ведер мусора и устроили рядом с котлом лежбище из трех матрацев. В нашем жилище было пыльно и душно, но это еще не самое большое испытание.
На следующий день, в воскресенье, после литургии проводилась отчитка. Впервые в жизни я оказался в компании мнимых и настоящих бесноватых. Во время службы то в одном, то в другом углу храма раздавались лай, хрюканье, громкие вопли, рычание, целые тирады. Пожилой мужчина, не по сезону одетый в ватную фуфайку, через каждые четверть часа начинал мотать головой и выдавать громкие текстовки: «У Василища — Божия силища. И откуда ты взялся на нашу голову?!» Потом он долго кашлял, а перестав, снова выдавал какой-нибудь текст. Комплименты насчет великой духовной силы отца Василия сменялись угрозами: «Погоди, мы до тебя доберемся. Повесим тебя за бороду и язык вырвем, чтобы не произносил таких страшных слов. Совсем замучил своими молитвами».
Человек этот явно блажил и переигрывал. Все произносимое им походило на декламацию. Он исподтишка поглядывал на меня, стараясь определить, какое впечатление произвел на новенького. А после службы подошел ко мне и громко сказал на ухо: «Во мне легион. А в этих… — он презрительно кивнул в сторону товарищей по несчастью. — Это так, вшивота. Шелупонь. Неча делать».
Но делать было что. Настоящих бесноватых в храме собралось предостаточно. Одному молодому человеку, приехавшему на день раньше нас и еще не бывавшему на отчитках, мать дала святой воды — запить таблетку. Нужно было видеть, как его выворачивало и как он выл от боли. А когда после службы батюшка вынес крест, то у соседки Марковны неожиданно начала вращаться голова, будто сломанный пропеллер. Потребовалась помощь двух молодцов. Они с трудом удерживали ее голову, чтобы она смогла приложиться. Батюшка протянул ей крест, и как только ее губы его коснулись, она издала такой вопль, что все невольно заткнули уши.
Между литургией и отчиткой был часовой перерыв. Батюшка отправился отдохнуть. Народ потянулся в трапезную. Но трапезничали не все. Многие в день отчитки не ели до самого вечера: постились, чтобы легче было «сокрушить врага».
Трапезная — дощатый сарай с длинным столом. Приходилось кормить болящих в две, три, а то и четыре смены. Еда была самая простейшая: зеленые щи да каша пшенная или рисовая. Иногда варили суп из сныти. Некоторые женщины делали из сныти салат. Предлагали всем, приговаривая: «Сниткой батюшка Серафим Саровский питался. Сныть — самая ценная в мире трава. Голод начнется — со сниткой не пропадем». Но охотников питаться ценной травкой находилось не много. Несколько раз в течение месяца, который мы провели в Васкнарве, местные рыбаки приносили рыбу. Однажды принесли щуку длиной около двух метров. Мужики с трудом поднимали ее на палке, продетой между жабр. Хвост щуки лежал на земле, а голова — вровень с головами рыбаков.
На первую отчитку мы пошли позавтракав. Нам, любителям хорошего чая, было трудно избавиться от этой слабости. Если до полудня не выпьешь крепкого чая, то на весь день гарантирована головная боль.
Здесь пили настой из трав. Мы кипятили воду походным кипятильником в стеклянной литровой банке и украдкой заваривали нормальный чай. Украдкой, потому что местный люд объявил нас «чифирщиками» и даже кто-то сообщил народу, что пристрастие к чаю я приобрел в зоне. И жену свою приучил. Марковне потребовалась целая неделя на то, чтобы развеять слухи о моем уголовном прошлом. А одной шибко активной «рабе» она даже дала пощечину за то, что та говорила, будто Петина болезнь — следствие моего разбойного жития.
В тот день, выпив чаю с куском черного хлеба, мы отправились на отчитку. Белый хлеб здесь считался роскошеством и был объявлен «не постным».
Народу на отчитке собралось много. Помимо «стационарных» — поселившихся надолго — на один воскресный день подъехал народ на своих машинах из Питера, Таллина, Нарвы и прочих городов и весей. Марковна пристроила Оленьку на табурете у левой стены и очертила вокруг себя «мертвую зону», ожидая нас. Для Пети она припасла еще один табурет. Оленька чувствовала себя скверно. В тот день она дважды падала в обморок.
Марковна этому обстоятельству только радовалась: «Бес батюшку почуял. После отчитки станет получше». И действительно. Вечером Оля читала в храме вечернее правило. Все молитвы она знала наизусть и читала по памяти. Читала замечательно. Ее тихий голосок был отчетливо слышен во всем храме. А в казавшемся монотонным чтении на одной ноте чувствовалась большая духовная сила и молитвенная энергия.
Отчитку батюшка начал с небольшой проповеди. Он встал на амвон, держа обеими руками крест, оглядел народ, несколько раз подмигнул старым знакомым.
Все притихли. Общее напряжение, казалось, уплотнило воздух. Кто-то всхлипывал. Батюшка задорно вскинул голову:
— Кто там нюни распустил? А ну прекрати. Ничего не бойтесь. Пусть бес боится. Стойте, молитесь. Он ведь хулиган. А с хулиганами как надо? По ушам — и в кутузку. Вот мы его сейчас и отхлестаем. И не думайте, что он сразу выйдет. Вы даже не просите Бога об этом. Если из вас бес выйдет без всякого вашего старания, то вы погибли. Сразу на танцы побежите да на блуд. Бес же — это ваш помощник. Вроде советского милиционера. Он вас от зла удерживает. Вот это премудрость Божия. Господь попустил бесу войти, чтобы этот злодей удерживал вас от большего зла. Так что не бойтесь. Пусть он трепещет.
К сожалению, я не помню многих деталей чина отчитки. Помню лишь, как батюшка читал отрывки из Евангелия и обильно кропил святой водой болящих. Вой стоял ужасный. В разных углах бесноватые кричали на все лады. Поначалу я подозревал многих в симулянтстве, но вскоре мне стало жутковато. Оленька время от времени хватала меня за руку и шептала, что ей страшно. Я поглаживал ее руку и старался, как мог, успокоить. К великому удивлению, Петя вел себя довольно спокойно. Когда раздавался особенно громкий вопль, он усмехался и одобрительно кивал головой. Похоже, происходившее ему нравилось. Наблюдая за публикой, я старался отличить настоящих бесноватых от тех, кто в бесноватого играл. Мнимые фальшивили и переигрывали. Было видно, что настоящие действительно испытывали сильные страдания от прикосновения к святыне. Рядом с батюшкой стояла худенькая, как тростинка, барышня ростом не более полутора метров, с тонкими ручками и острым личиком, заточенным, как топорик, с глазками, сведенными к переносице. Ее ласково называли по имени: Любушкой. Когда батюшка стал читать первое Евангелие, глаза ее побелели и, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Во время второго Евангелия она закашлялась. Кашель ее был хриплым и грубым, как у пропойного мужика. После третьего Евангелия она начала биться и завалила четырех здоровенных парней, державших ее за руки и под руки. Батюшка поднес к ее губам крест, и лицо ее в одно мгновение покрылось крупными каплями пота. Любушка завизжала, заплакала, стала умолять отпустить ее и не жечь раскаленным крестом. А когда с батюшкиного кропила на лицо ее упали капли святой воды, из недр ее хрупкого тельца вырвался такой громкий хриплый рык, что стоявшие рядом с ней невольно отшатнулись, заваливая стоявших за ними. Непонятно, как и чем это маленькое существо издавало такой нечеловеческий звук.
Вот тебе, мил друг, и психосоматика…
Поразительно то, что практически все к концу отчитки чувствовали невероятный упадок сил. А отец Василий наоборот. С каждой минутой силы в нем прибавлялись. Лицо его становилось вдохновенным и восторженным. Он был подобен отважному воину, увлеченному битвой с падшими духами.
Он буквально летал между рядами болящих, обильно кропя их святой водой. Некоторых даже хлестал кропилом по лицу. Толпа то подавалась вперед к амвону, то отступала назад. Потом начиналось кружение и движение во все стороны по маршруту передвижений батюшки. В этом кажущемся хаосе, оказывается, был свой порядок. У отца Василия помимо помощников, готовых в любой момент подхватить падавших без сознания страдальцев, присутствовали на каждой отчитке врачи. Они никогда не надевали белых халатов, чтобы не выделяться и не смущать остальных, и делали свое дело проворно и молча. Приводили в чувство, успокаивали, в случае нужды делали уколы.
Мнимых бесноватых я научился отличать довольно скоро. Многие сами подходили и рассказывали свои истории. В основном это были люди с поврежденной психикой. У одних повреждение серьезное, у других едва заметное. Они верили в то, что в них сидит бес. И переубедить их было невозможно. Многие редко покидали психиатрические больницы. Несколько человек из мнимых частенько устраивали другим проверки. Дадут святой воды вновь прибывшему и смотрят за реакцией. Если прошло без последствий, это мнимый бесноватый. Просто такой же, как они, чокнутый сачок. А если от святой воды человеку становилось плохо, то тут дело ясное: бес в нем взаправдашний. Проверяльщики тут же бегут доносить батюшке на сачков. Очевидно, доносчики полагали, что таким образом можно убедить батюшку в том, что они-то подлинно одержимые. Но он и так чувствовал настоящих клиентов и не нуждался ни в каких проверках. Этих активистов, как и прочих самозванцев, отец Василий не прогонял. Вернее — терпел, но не бесконечно. Он знал, что имел дело с душевнобольными людьми, и не хотел их обижать. Некоторых в шутку даже обещал поощрить: «Давай-давай, Маруся, старайся. Выявляй врагов народа. Я тебе за это особый колпак велю сшить. Чтоб за версту видать ударницу». Маруся была довольна и всерьез ждала обещанного.
По вечерам после общего прочтения вечернего правила всем храмом пели: «Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется…» Эту же молитву пели и во время отчитки. А батюшка приговаривал:
— Во-во! Пусть трясется и трепещет. А нам нечего бояться. С нами крестная сила и Сам Господь!
Завершал общую вечернюю молитву батюшка проповедью. Вернее, беседою. Если был в духе, то мог несколько часов говорить. Тут было все: и серьезные богословские рассуждения, и назидания в виде притч и историй из его жизни, и «разборы полетов», после чего он мог устроить крепкий разнос провинившимся и даже изгнать особо дерзких или ленивых, не желавших вместе со всеми работать. Лентяев он особенно не любил. А тех, кто особенно старался на храмовых работах, отличал и поминал громко на ектениях. О себе он говорил: «Попишка я так себе. А вот строитель ого-го!»
Почти каждый вечер батюшка просил народ не считать его чудотворцем и не отчаиваться оттого, что бес не оставляет их:
— Нынче в мире не найти таких сильных мужей, как прежде. Чтобы им бесы повиновались. Я же только молюсь, чтобы облегчить ваши страдания. И вы молитесь. Не валите все на меня. Я ведь старый и слабый. Помогайте мне. Старикам даже пионеры-безбожники помогают. А вы не хотите мне помогать. Молитесь крепко вместе со мной. Не ленитесь. Господь дает по стараниям, по трудам, по подвигам, а не по пустым просьбам. Он знает, что нужно для нашего спасения. Ты думаешь: ай как быстро я долечу куда надо. А самолет — бултых, и разбился. Тебе надо было пешочком или на лошадке. Нет, ты модный, современный. Тебе самолет подавай. Ты ведь спешишь… Никуда не спешите, дорогие мои. Все само придет.
Я вот никуда не спешил. Ко мне сами, кому надо, приходили: и немцы пришли в войну, хоть я их не звал. И красноармейцы. И милиционеры опять скоро придут — их я тоже не очень жду. Так что сидите на месте, молитесь, кайтесь в грехах своих и молитесь за родителей ваших: они наломали дров — на пять веков топить хватит. Молитва — главное дело для православного человека… А вы говорите: чем заняться, как спастись? В Евангелии все сказано. Соблюдай заповеди! И не надо ничего выдумывать…
Тех, кто выдумывал, батюшка изгонял. Одного молодого человека — питерского Володьку, собравшего вокруг себя целую секту, — изгонял при мне. Этот новоявленный ересиарх утверждал, что все в Церкви плохо, что все архиереи продались большевикам и даже отец Василий молится неправильно:
— В Евангелии Господь говорит: «Аминь-аминь, — глаголю вам…» А потом говорит притчей. А кто из попов говорит «аминь-аминь»? В этом вся беда. Как два раза скажешь «аминь», так сила в два раза и прибавляется. А попы даже после проповеди не то что дважды, и один раз «аминь» не скажут. Потому столько болезней и беснований…
Этому открывателю причин беснования батюшка устроил прилюдную взбучку. Диспут был краток. Вовка на грозное батюшкино требование объяснить суть его «учения» промяукал что-то про двойное «аминь».
Батюшка покраснел от гнева:
— Что ж ты суешься куда не смыслишь?! Два «аминя» ему подавай. А я тебе три даю: «Аминь-аминь, — глаголю тебе. Пшел вон отсюда. Аминь!»
Вовка исчез не сразу. Время было теплое. Ночевал он где-то на чужом сеновале.
Днем купался в озере, собирал ягоды. Уезжать ему не хотелось. Место райское. Храм стоит на берегу широченной реки Наровы. Она вытекает из Чудского озера в ста метрах от храма. Широкий песчаный пляж. Вода теплая. Лес полон ягод. Начинается лес от пляжа и тянется на десятки километров вширь и вглубь. Чего еще желать!
В монастырьке нашем оставалось несколько сторонников Вовкиного «учения». Они тайком носили ему еду. По вечерам в отдалении жгли на берегу озера костер. И Вовка, пламенея от вдохновения, вещал, озаренный пляшущими языками пламени, о скорых бедах и страшных наказаниях за то, что православные изменили «двойному аминю». Один раз я набрел на эту живописную группу. Говорилось там о многом. Вовка рассказывал всякие небылицы о батюшке. Но главное — Вовка готовил бунт.
Бунт не удался. В дело вступил мордвин Сережа. А Сережа этот был из тех, о ком Лесков говорил: «Увидеть его означало испугаться». Вовка испугался. Стоило Сереге взять его за руку, как тот присел до земли от боли. Тут же все понял и побежал вприпрыжку к автобусу, оглядываясь и отмахивая рукой, испытавшей дружеское Серегино рукопожатие.
Другое изгнание обошлось без Сереги. Изгонялась странница Пелагея с «ученицей» Натальей. Изгонялась по-тихому. Два дня она собирала народ и рассказывала басни о своих дарах исцеления и чудотворения. Она обошла пол-России и будто бы исцелила несколько сотен людей. С бесами она тоже лихо управлялась. Батюшке она заявила, что готова помогать своей сверхмощной молитвой. Отец Василий посмеялся:
— Не надо мне, мать, твоей помощи. Как бы тебя самое бесы не потрепали. Помолись и ступай себе с Богом!
Вечером она подсела к нам в трапезной и предложила помолиться с нами. Говорила, что благодать на нас изольется преизобильно и мы забудем о наших бедах. Обижать ее не хотелось. Я пригласил ее в нашу «келлию». Мы к тому времени протащили к себе шнур со стоваттной лампочкой и могли читать и не набивать себе шишек в темноте.
Пелагея пришла без ученицы. На ней был черный подрясник и черная шапочка — чистая монахиня. Петя наш спал. Пелагея окрестила все углы, опустила в пузырек с широким горлом конец четок с крестом и стала энергично окроплять водой из пузырька все вокруг. Затем она упала на колени, прочла «Царю Небесный», «Трисвятое», «Отче наш» и начала читать принесенную с собою затертую Псалтирь, всю утыканную записочками.
— Читать будем до утра, — объявила она. — Нужно все двадцать кафизм прочесть.
Мы с женой обменялись жалобными взглядами, но по велению Пелагеи опустились рядом с ней на колени. Жена зажгла свечу перед бумажными иконами Владимирской Божией Матери и мученика Трифона.
Я пытался вслушаться в слова псалмов. Читала Пелагея как-то заполошно, проглатывая слова и чересчур торжественно произнося «славу». «Аллилуйю» она проговаривала с каким-то взвизгиванием, долго протягивая концовку: «й-й-й-й-я-я-я». На второй «славе» это «й-й-й-я-я-я» меня сильно смутило. Словно железом по стеклу. Я почувствовал, что долго не выдержу. Но, памятуя о кознях вражиих, решил терпеть. В конце третьей «славы» Пелагея стала неровно дышать. Прочитав молитву после первой кафизмы, она вдруг широко раскрыла рот и с громким стоном зевнула. За первым зевком последовал второй, затем третий. Каждый раз Пелагея быстро крестила рот, приговаривая: «Вот искушение!» Вдруг она легла на спину и тихо залепетала: «Простите, спину ломит. Не могу терпеть. Вот вражина дает. Как тут молиться?»
Мне стало жалко старушку. Я предложил перенести ночное бдение до следующего раза. Она радостно согласилась и чересчур бодро вскочила, не взяв протянутой ей руки. От моей помощи она отказалась и провожать себя не позволила.
На следующий день батюшка служил литургию и отчитывал. Пелагея на отчитку не осталась, а на литургии перед Чашей что-то стала выговаривать отцу Василию. Батюшка рассердился и на весь храм грозно приказал:
— Чтобы духу твоего здесь не было.
Оказалось, что она пеняла батюшке за то, что во лжице для нее было мало причастия. А перед службой она прилюдно просила его причастить ее как-то особенно, потому что бесы на нее ополчились с невероятной силой. Причастившись, она громко объявила, что отец Василий не захотел ей помочь, потому что она великая молитвенница и он ей завидует. Уехала она со своей ученицей на попутной машине, на прощание выкрикивая в адрес отца Василия страшные угрозы.
Эту Пелагею вместе с Натальей я встретил лет через пять возле Знаменской церкви в Москве. Они раздавали богомольцам какие-то брошюрки. Я поздоровался с ними. Они сделали вид, что меня не знают. А еще через несколько лет я попытался унять братьев из «Богородичного центра», проповедовавших в плацкартном вагоне поезда Петербург–Москва. Они дерзко говорили о безблагодатности Православной Церкви и о том, что в их среде живут настоящие святые и чудотворцы. Фотографию одной недавно скончавшейся «святой» они стали раздавать желающим. Я поглядел на художественное фото, сделанное под икону. На меня лукаво смотрела старая знакомица. На этой фотографии Пелагея была в схимническом одеянии. Взгляд ее говорил о великой победе: «При жизни вас дурачила и с того света буду баламутить».
Самое тихое изгнание было в начале нашего васкнарвского жития. Батюшка приказал своей самой страстной поклоннице ехать домой к детям. Звали ее Надеждой. Она уже в пятый раз обрушилась на батюшку. Не давала ему прохода. Пела ему здравицы, объяснялась в любви и с утра до вечера рассказывала каждому встречному о том, каким великим старцем является отец Василий. Надоела она ему чрезвычайно. Он собрал всех в церкви и сказал:
— Вот мать двоих детей. Бросила своих чад и валяет дурака. Я, понятное дело, дурак. Но больше валяться не хочу. Нечего тебе тут делать. Тебя дети ждут. У тебя перед ними и перед Богом обязанности.
Надежда разрыдалась:
— Никуда я, батя, от тебя не поеду. Не нужны мне ни дети, ни муж окаянный. Только ты.
— Ах, так, — рассердился батюшка. — Дети тебе не нужны? Так и мне такая дурная мать не нужна. Детей бросить — нет страшней преступления.
— Это бес меня к тебе, батя, гонит.
— Нет в тебе никакого беса. И совести в тебе нет. И любви нет. Одна дурь. Глаза бы мои такую противную бабу не видели.
Тут Надежда взвыла и бросилась из храма. Где-то пробродила всю ночь, а утром, притихшая и зареванная, пришла просить у батюшки прощения. Батюшка ее простил, но выпроводил.
Были и другие изгнания. Особенно лютовали при депортации мнимые бесноватые. Некоторые повторяли коммунистические наговоры на батюшку и злобно угрожали ему.
Говорить дурно о батюшке могли лишь очень больные люди либо большие негодяи. Ильинский — это уже третий храм, который отец Василий восстанавливал из руин. При большевиках такое было немыслимо. Как ему это удавалось — одному Господу Богу известно. Да, пожалуй, ближайшим друзьям. Как он получал разрешения на строительство в то время, когда по всей стране храмы закрывали, рушили или превращали в склады и клубы? Богатых спонсоров тогда не было. В церковь ходили в основном люди простые и далеко не богатые. Питерские батюшкины друзья жертвовали из своих скромных окладов да привозили то, что удавалось собрать у таких же небогатых знакомых. Дело потихоньку продвигалось еще и благодаря тому, что находились трудники, готовые работать во славу Божию. Несколько каменщиков и плотников приезжали на весь отпуск. Один из них, питерский Ваня, с радостью говорил, что такой отпуск лучше всякого черноморского санатория:
— Я утром искупаюсь, и в обед, и вечером. Загорать не люблю. Без дела не могу валяться на солнце. Проплыл — и за работу. Кормежка на столе. Воздух свежий. Красота!
Стол у них был получше, чем у болящих. Они не постились. Работа была тяжелая. Один раз в неделю выходили в ночное — на рыбалку. По желанию могли и чаще, но совесть не позволяла. Работали не менее десяти часов. Но, как правило, больше. Смеркалось поздно. Иногда стук молотка был слышен и в темноте.
Ваня знал отца Василия много лет. Приезжал к нему и на бывшие приходы. От него я узнал некоторые сведения об отце Василии. У него была жена и двое детей. Но они давно махнули на него рукой. Кому нужен неугомонный старик, предпочитавший бесноватых родной семье! Семья жила в Эстонии. Название городка я забыл. Батюшка навещал их редко. Такое беспокойное хозяйство не оставишь. Отчитывать он начал давно. Из-за этого с властями всегда проблем хватало. Составляли целые комиссии с начальниками и психиатрами. Какие бесы, когда их нет?! Что это за чудачество и шарлатанство? В стране борьба с религиозными предрассудками, а тут деревенский батёк дурачит строителей коммунизма.
Когда начались хрущевские гонения, отца Василия арестовали. «Должно быть, хотите меня как последнего попа показать по телевизору», — шутил батька.
Даже в больницу клали на принудительное лечение. Однажды зимой повезли его арестованного в рейсовом автобусе. Он попросил шофера остановиться на минуту. Тот остановился. Батюшка выпрыгнул и побежал по полю. А снега было по пояс. Милиционеры поглядели на глубокий снег, да и полезли обратно в теплый автобус.
А вообще-то отца Василия защищал владыка Алексий. Тот был большим дипломатом и знал, как вести себя с властями. Он батюшку любил и ценил. За отцом Василием числилось еще два прихода. Священников не найти, а этот и по-русски, и по-эстонски служил. Русских священников, знающих местный язык, — по пальцам перечесть. Эстонские начальники уважали русских, говоривших на их языке. В конце концов они решили, что отца Василия нужно считать большим чудаком и местной достопримечательностью. Во всех смыслах ценный кадр. Но проверять его и отчитываться о проделанной работе все равно надо. А вдруг к нему забредут опасные элементы — враги советской власти?..
В одно, как говорят, прекрасное утро монастырек наш загудел-зашумел. К нам в котельную забежала Марковна:
— Быстро собирайтесь. Комиссия едет. Все в сумки — и живо в лес.
По двору бегали встревоженные постояльцы. Что-то откуда-то вытаскивали и прятали в сарае. Я отнес наши матрацы в общее потайное место, и мы, что называется, с вещами побрели через песчаное поле к озеру. Оля с Марковной вскоре догнали нас. Справа, недалеко от дороги, за небольшим болотцем, росли камыши. В них спряталась дюжина наших бабулек. Они составили первый эшелон обороны: молились, читали Псалтирь. На песчаном холмике лежали глядя на дорогу дозорные. Они должны были оповестить народ, когда появится проверка.
Мы добрались до озера, где, пугая дачников, устраивалась наша братия. Представьте: люди в шезлонгах, в купальниках и солнечных очках намазываются кремом для загара — и вдруг появляется толпа женщин в черных платках и черных до пят юбках, распевающих: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!» Часть этой толпы небольшими группами по нескольку человек устремляется в лес, но основные силы остаются на пляже. Молодые барышни разоблачаются до купальников, а пожилые залезают в воду в платьях и ночных сорочках. В тени устраиваются дежурные молитвенницы и начинают громко, чтобы заглушить музыку из транзисторов дачников, читать Давидовы псалмы. Картина в советской действительности редкая. Даже для вольнолюбивой Эстонии.
В этот день мы вдоволь накупались и собрали трехлитровое ведерко черники. Я даже поймал руками небольшого сомика. Он метался по мелководью, и я, подогнав его к самому берегу, как-то сумел его схватить. Никогда ни до, ни после мне не удавалась подобная рыбалка.
В 5 часов дали отбой. Народ потянулся обратно к храму. Свидетелей облавы оказалось немало. Несколько дней только о ней и говорили. Галя, имевшая право сопровождать батюшку как помощница, рассказала, что ожидание было долгим. Ждали с утра, а они только после обеда приехали. Оставшийся на хозяйстве народ истомился, уже и дозорный спустился с крыши, как вдруг возле храма остановились две «волги». Главный начальник, не проверявший батюшку более двух лет, опешил, увидев новые дома на территории храма.
— Чего это ты, гражданин Борин, понастроил? — обратился он к отцу Василию.
— Как чего? Все, что нужно в хозяйстве.
— Какое у тебя хозяйство? Тебе разрешили дом для проживания построить, а ты целых четыре отгрохал.
— Никак нет. Один, а не четыре.
— Какой же один! А это что?
— Это гараж.
— Зачем тебе гараж? У тебя и машины нет.
— Зато у вас есть. Вот щас поставим, и никто не угонит.
— Не надо никуда ставить. И так не угонят.
Проверяющие подошли ко второму дому.
— А это что за дом?
— Это, граждане начальники, не дом, а техническое сооружение — водокачка.
— Какая еще водокачка, когда жилой дом?!
— Это только кажется. Мы водокачку так оборудовали, чтоб, к примеру, вам отдохнуть где было. Вот зайдете, мы вам чайку подадим. Попьете и отдохнете, как люди.
— Ты нам зубы не заговаривай. Мы не отдыхать приехали.
— А это что такое? — начальники подошли к третьему дому.
— А это, дорогие мои, морг.
— Какой еще морг?
— Натуральный. Мертвецкая, значит. К примеру, помрете вы. Не дай Бог, конечно. Куда же я вас дену? А тут — пожалуйста. Красота. Лежи — не хочу. Я вас и отпою. На то я и поп. На то она и церковь. Всякий человек покойником бывает. Начальником не всякий. А покойником — извините, товарищи…
После этой тирады начальники, плюясь и чертыхаясь, завалились в храм. Оглядели обшарпанные стены, залатанные на скорую руку проломы в стенах и крыше и, не испытав никакого удовольствия от увиденного, пошли за ограду. Отец Василий напрасно приглашал их чайку попить. На его счастье матушка Варвара накормила их великолепным обедом в монастыре, куда они заехали по пути в Васкнарву. Пить чай у отца Василия они отказались. Главный потребовал документы на новострой.
— Это вы, дорогой Валентин Степанович, у старосты требуйте. Я в этом ничего не понимаю.
Главный начальник в сопровождении самого въедливого чиновника, который все время что-то нашептывал ему на ухо, тронулся через песчаное поле к дому старосты. Остальные члены комиссии остались у машин курить.
Отец Василий забрался на каменную ограду и, крестя им спины напрестольным крестом, стал в голос молиться:
— Господи, уйми Ты этих врагов Твоих. Не дай им порушить дело рук рабов Твоих. Нашли на них неразумие, чтоб они сами не поняли, чего ради сюда приехали.
Галина стояла рядом с батюшкой и рассказывала, как проверяющие взошли на крыльцо. Открылась дверь, и вышел староста. Он о чем-то с ними говорил. А те минут через десять развернулись и побрели по песку в сторону леса. Из машины, на которой они приехали, выскочил шофер и побежал в их сторону, что-то крича и размахивая руками. Проверяющие остановились, развернулись и пошли в его сторону. Так и уехали.
Вечером отец Василий рассказал после молитвы об этом происшествии. Он стоял на амвоне с крестом и смешно показывал, как крестил начальство и молился об умягчении их сердец и затуманивании их мозгов. Народ покатывался со смеху. После отца Василия слово держал староста. Он рассказал о том, что произошло на крыльце его дома.
— Слышу стук в дверь. Громко стучат. Требовательно. Открываю. Вижу знакомые физиономии. Я поздоровался, спрашиваю, чем могу помочь. А они стоят и молчат, как пришибленные. Я спрашиваю: может, что случилось? Главный лоб наморщил — пытается что-то вспомнить. А второй стоит, молчит и на босса со страхом поглядывает. А тот вдруг как матюгнется. Развернулся да и пошел в лес. Я кричу: «Храм в другой стороне!» А они бредут, как во сне. Может, выпили лишнего.
— Это сила батюшкиной молитвы, — заговорили со всех сторон.
Батюшка махнул рукой:
— Подхалимов не люблю. Не кто, как Господь, на сей раз отвел.
Публика в Васкнарве была настолько разная, что даже представить трудно. В основном это были люди простого, неумственного труда. Интеллигенты не задерживались. На кухне с неделю подвизалась одна дама из южного города. Она была в своем городе большой начальницей. Но старалась это скрыть. Скрыть не удалось — уж больно характерные у нее были повадки. Готовить она то ли не умела, то ли злоба ее постоянно душила. Есть ее стряпню никто не мог. Это было удивительно. Из тех же круп и картошки ее сменщица готовила очень вкусные каши и супы.
У этой начальницы погиб в автокатастрофе сын. Она рассказывала, что жил он распутно, на широкую ногу. Эту ногу обеспечивала ему она. Отец Василий сказал ей: «Забаловала до смерти, теперь отмаливай!» Не знаю, как уж она отмаливала, только хватило ее ровно на неделю. Уезжала она очень недовольной оттого, что «потратила много времени на придурков».
Батюшка после ее бегства часто говорил:
— Вот вам и игольное ушко. Даже на храм денег жалко. А на пьянки сынка да на его грязную жизнь давала щедро.
Другая дама из «непростых» ходила вся в черном, в старорежимной шляпке с вуалью. Она следила за собой. Ей можно было дать и сорок, и все семьдесят. Однажды она подошла ко мне и на ухо прошептала:
— Зря они его так все не любят. Он ведь хороший. Вдохновение нам дает.
Нетрудно догадаться, кого она имела в виду. Эта дамочка тоже не задержалась. Жить со всеми в спартанских условиях она не могла — снимала комнату в поселке. Приходила днем и по вечерам. Поприсутствовала на одной отчитке. Но не до конца. Пришлось для нее отпирать двери. Батюшка обычно запирал храм. Ходила эта дама задумчивая, томно поглядывая на молодых мужчин. Особенно ей понравился двухметровый мордвин Серега. Ему она назначила романтическое свидание на берегу реки. Она сидела в чужой лодке, привязанной к мосткам, Серега пристроился на мостках. При свете луны она читала ему стихи. Романтик из Сереги получился неважный. Поэзию он попросту не понимал, но когда услыхал зарифмованные строки, в которых дамочка благодарила денницу за то, что он избрал ее для «счастья и вдохновения», кое-что все же понял. Что с ним случилось, он и сам не мог объяснить. Только дамочка оказалась в воде, а он, оглашая окрестности громкими стонами, помчался к батюшке исповедоваться. Наутро «завуалированная» романтическая особа исчезла. По ее поводу батюшка тоже много чего сказал. Такие персоны вынюхивают, что делают те, кто борется с их кумиром.
Самому врагу нечего вынюхивать, он и так все знает. А вот его адептам для чего-то надо появляться там, где его пытаются изгнать.
Была в нашем монастырьке настоящая монахиня. Очень мрачная. Она пыталась удерживать язык: болтливость была главной страстью, с которой она боролась. Но почему-то все знали ее тайну. Ее по ночам посещал вражина. Когда она рассказывала об этом, создавалось впечатление, что она этим хвастает.
Обо всех вспоминать нет нужды. Многие серенькими мышками пробежали через батюшкино владенье. Даже без особого писка. Другие сотрясали округу и оставляли после себя надолго недобрую память. Однажды появились два друга: один — однорукий, на деревянной ноге, другой — при всех членах, но с большими потерями по психической части. Они проявляли такую свирепость, что даже мордвин Серега терялся и норовил куда-нибудь спрятаться. Как-то после трапезы безногий так отходил своего товарища деревянной ногой, что пришлось вызывать «скорую помощь». Заодно вызвали и милицию.
Событий за месяц нашего пребывания в Васкнарве произошло немало. На их фоне даже празднование престольного праздника Илии пророка с приездом владыки Алексия прошло скромно. Безо всякой помпы. Владыка вел себя совсем не владычно. Со всеми поговорил, обошел батюшкины владения (даже на крышу хотел по шатким мосткам подняться, но его отговорили). Отслужил литургию, благословил всех. Детишек, да и кое-кого из взрослых, склонившихся под благословение, погладил по голове. Всячески старался обласкать болящих. После службы в краткой проповеди просил народ поберечь батюшку:
— Он ведь не только пастырь добрый и молитвенник о вашем здравии, но еще и храмостроитель. Он у нас один такой на всю епархию.
Точно не помню, но, кажется, отец Василий учился в Питерской семинарии год или два одновременно со своим будущим архиереем и патриархом.
Об отце Василии говорили, что за ним постоянно приглядывали стукачи. Он пытался молиться по ночам, но ему запретили под страхом изгнания из семинарии. Часто он пропускал трапезы, чтобы остаться наедине и помолиться Богу.
Так он начинал свое служение. Подвиг, который он взял на себя в зрелые годы, был под силу лишь большим подвижникам. Ему пришлось воевать не только с духами злобы поднебесными, но и с бесами во плоти. И от начальства доставалось отцу Василию, и от бесноватых. Кое-кто даже бивал батюшку. Но он не отчаивался. Все терпел. Часто юродствовал, понимая, что только так можно отбить атаки коммунистов. И сам говорил об этом: «Пусть лучше они думают, что дурачок с дурачками тешится. А если всерьез, то не жди пощады. Разгромят всерьез».
Я благодарен батюшке за многое. Я увидел настоящего бескорыстного и бесстрашного воина Христова. В свои семьдесят лет он без сна и отдыха занимался людьми, от которых отказались и родные, и общество. Он утешал и заботился о совершенно отверженных людях. Никому до них не было дела, кроме него. Это было особое проявление мужественной любви. Без внешней демонстрации. Без сюсюканья и желания понравиться, без старания получить что-нибудь для себя. Власти распускали о нем слухи, будто бы забота о бесноватых приносит ему приличный доход.
Доход выражался в посылках с крупами, сухофруктами и сахаром. Их присылали для прокорма больных такие же больные. С продуктами тогда были проблемы, и уезжавшие от батюшки присылали что могли. Когда я впервые попал в кладовку, где хранились припасы, меня поразила всеохватная география адресов. На посылках были адреса отправителей из Сибири, Владивостока, Камчатки, Кубани, городов Центральной России и северных областей. Почему-то особенно много было посылок с Украины, особенно из Донбасса. К батюшке приезжали с Кавказа. Он всем был рад, со всеми находил общий язык, со всеми вел себя ровно, никого не производя в любимчики. У него, конечно, были духовные чада. Им он уделял немало времени.
Приезжавшим просто отдохнуть он, по апостольскому правилу, позволял три дня побездельничать и покупаться. Но потом посылал на послушания. Если кто-то неоднократно нарушал заведенный порядок, изгонял, несмотря ни на какие проклятия и угрозы.
В Васкнарве я получил первый серьезный урок практического богословия. Убедился в том, что Бог есть, что Он рядом и всегда готов помочь. Стоит лишь сделать шаг навстречу Ему, как Он сделает десять шагов навстречу тебе и, как любящий Отец, все простит, утешит и исцелит. До Васкнарвы я получал другие уроки: ходил в семинарский храм и слушал по средам замечательные проповеди ректора епископа Кирилла (нынешнего патриарха).
В Васкнарве я узнал, что есть и другая проповедь. Жизнь отца Василия сама действенная проповедь христианского служения.
А его ежевечерние беседы и рассказы тоже были своеобразной проповедью — бесхитростной и мудрой. Он просто рассказывал о том, что видел, чему был свидетелем, на какую мысль его навел тот или иной случай. Он учил народ приглядываться ко всем проявлениям жизни:
— Смотрите вокруг внимательно и читайте книгу, написанную Самим Господом Богом. Только внимательно читайте. У меня вот нет времени смотреть по сторонам. Только ваши физиономии вижу. Но и от вас многому учусь. А вчера наблюдал за мальчишкой с удочкой. Сидит и на поплавок смотрит. А что такое поплавок? Это же мне подсказка, что поп должен быть ловок. Ловким. Господь первыми призвал рыбарей. И многие чудеса у Него были связаны с рыбной ловлей. И статир из рыбы достали. И сто пятьдесят и три больших рыбины, по глаголу Его, вытащили апостолы. А ведь без Него трудились впустую. И рыба, «ихтиос», была тайным знаком христиан. Вот и каждый священник тоже рыбак: из моря греха вылавливает погибающие души и должен вести их ко спасению. Так что мне, попу, на роду написано сидеть у Божией реки и следить за поплавком.
Отец Василий показал, что духовный мир реален. И главное — что вера и любовь живы в нашем безлюбом, катящемся в пропасть мире. И только эта вера удерживает нас от окончательной гибели.
Я был у отца Василия пять раз. Дважды гостил у него по месяцу. Один раз привозил к нему двух священников из Омской епархии — с ними я познакомился во время съемок фильма о Сибири. В последний раз навестил его с одной знакомой. Она хотела привезти к нему больного сына. Мы сидели в его каморке. Нам подавала чай молоденькая девушка с очень приятным кротким лицом.
Когда она вышла, батюшка спросил меня:
— Не узнал?
— Кого?
— Любушку.
— Какую Любушку?
— Ту самую, которая десять мужиков заваливала.
— Десять — не видел, а четверых точно валила, как малых деток. А где она? Что с ней?
— Да вот же она.
В комнату снова вошла миловидная барышня. Она улыбнулась:
— Не помните меня? А я вас помню. И за Петю вашего молюсь.
— Ну, конечно, помню, — сказал я не раздумывая.
Но поверить в то, что это та самая Любушка, с лицом топориком и глазами, сведенными к переносице, никак не мог. У этой девушки и лицо было как лицо: худенькое, но не остренькое. И глаза на месте. Даже довольно широко расставлены.
— Вот, — сказал торжествующе отец Василий. — Пожила со мной годик, помолилась — и гляди: враг оставил. Причащается спокойно. Никаких приступов. Красавица! Я ей и женихов подыскал. Не хочет. Говорит: Христова невеста.
Оленька тоже выздоровела. Подвизается в одном из монастырей. Марковна вскоре умерла. Перед смертью позвонила мне, сказала, что просит прощения и скоро «уйдет домой». Я жалею, что почти с ней не общался. Иногда встречал ее в питерских храмах на престольных праздниках. Время от времени вижу батюшкиных пасомых. Ведут они себя в храмах тихо.
Когда Эстония отделилась от России, несколько раз собирался навестить батюшку. Да так и не собрался. Один раз с Гдовской стороны Чудского озера долго смотрел на крест восстановленного отцом Василием Ильинского храма. Хотел подъехать поближе к берегу, но не пустили пограничники: запретная зона. Граница. Грустно.
Часть 3. Постскриптум
Об отце Василии Борине и о том, как жилось в его неординарной обители, я хотел давно написать. Хотел, но побаивался. Духовник Пюхтицкого монастыря архимандрит Гермоген вообще не советовал без нужды появляться в Васкнарве. Для людей без серьезного духовного опыта общение с батюшкиными постояльцами чревато большими опасностями.
Портрет священника всегда будет не полон, если не почувствуешь его сердца, не поживешь под его водительством. Я не уверен, что несколько теплых бесед с батюшкой и сравнительно долгое наблюдение за ним позволило мне описать его абсолютно точно. Да простит меня отец Василий (Царство ему Небесное!) и те, кто был ближе меня к нему, если я согрешил против истины. Мои реконструкции его речей, конечно, не расшифровка диктофонных записей. Воспроизвел, как запомнил. Я старался передать атмосферу и запомнившиеся факты. Многого не стал описывать. Да и нельзя это поверять ни бумаге, ни компьютеру.
По неофитской прыти мне хотелось скорейшего выздоровления сына. Но этого не произошло. Батюшка с самого начала предупреждал меня, чтобы я умерил свои желания и не досаждал Господу преждевременными просьбами.
С Петей все же произошло определенное чудо. Он был неконтактен. Весь в себе. Никто ему не был интересен. Теперь — наоборот. Он всех любит. С ним очень трудно гулять: со всеми встречными здоровается и подает руку. Некоторых норовит поцеловать. Был мрачен и угрюм. Теперь всегда улыбается. Его трудно было причащать. После Пюхтиц и Васкнарвы его трудно удержать: расталкивает народ, чтобы первым подойти к Чаше.
«Дух прав обновился в утробе его». Я благодарен Богу за это. У Пети своя миссия. Он показывает, как нужно радоваться при встрече с людьми тем, кто и с соседями не здоровается.
Мне позвонили несколько человек, кто в разное время побывал в Пюхтицах и Васкнарве. Я просил их поделиться воспоминаниями об отце Василии. К моему удивлению, все опрошенные помнили лишь атмосферу и общую картину. Благодарили за то, что мне удалось их передать. Один архимандрит рассказал о беседе с отцом Василием. Тот приказал ему (тогда молодому иеромонаху) никогда не заниматься отчиткой. И еще он сказал, что не надеется, по своей немощи, изгнать из человека мучителей-бесов, а лишь просит Бога облегчить страдания бесноватым. Ну а если удается помочь кому-нибудь полностью избавиться от «квартиранта», то никогда успех не приписывает себе. Никто, как Господь. Не дай Бог почувствовать себя великим праведником.
Моя приятельница, однажды посетившая Васкнарву, рассказала следующее.
Как только батюшка запер двери, со всех сторон стали раздаваться стоны, крики, жуткие звуки и, как она выразилась, «звукоподражания котам, петухам, собакам и прочим тварям». Батюшка громко приказал:
— А ну тихо! Кто тут у вас главный бес?
И вдруг субтильная дама, стоявшая рядом с ней, громоподобным басом проревела:
— Ленин.
Это было и смешно, и страшно. В конце семидесятых годов так не шутили. А если и шутили, назвав Ленина бесом, то прямехонько попадали в мордовские лагеря для политических.
Батюшка иногда рассказывал о войне, но мне не пришлось услышать эти рассказы. Знаю только, что его, как и всех более-менее здоровых молодых людей, живших в Эстонии, немцы призвали в армию. Но служил он в каких-то вспомогательных частях и в боях не участвовал.
Расспрашивать о войне эстонских жителей было небезопасно. Одну часть успела забрить в солдаты отступавшая Красная армия, другая часть попала в немецкие войска. Некоторые даже служили в СС.
Несколькими годами раньше приезда в Васкнарву я проехал по старообрядческим деревням с моим другом — сотрудником древлехранилища Пушкинского Дома Глебом Маркеловым. Он надеялся найти старообрядческие рукописные книги. Улов оказался скромным. В одной из деревень мы встретили поэта Евгения Рейна, сопровождавшего своего приятеля — собирателя икон и живописи. Рейн смешно рассказал о постигшей его спутника неудаче. Тот накануне их поездки в Эстонию приобрел две картины Куинджи. Оказалось, что этот «Куинджи» живет в городе Изюме Харьковской области и выдает в день по нескольку шедевров. С этим коллекционером и Рейном мы провели вечер в каюте стоявшего на приколе катера. Они пытались разузнать у хозяина плавсредства, у кого есть ценные древности. Достали водку. Вскоре подошел еще один потенциальный информатор из местных русских. Насколько я понял, ничего путного узнать от них не удалось. Зато после третьей выпитой честной компанией бутылки мы стали свидетелями старой «разборки».
Один из потомков блюстителей чистоты веры неожиданно обратился к своему земляку:
— А помнишь, как мы вломили вам под Великими Луками?!
— Зато мы вам… — далее шло название неизвестного мне местечка.
Оказалось, что один из них служил в Красной армии, а другой — в войсках вермахта. Им было что вспомнить.
Так что о войне я отца Василия не расспрашивал. Зато был свидетелем одной беседы с молодым человеком, приехавшим к отцу Василию за советом. Этот 19-летний товарищ надумал жениться на 30-летней женщине с двумя детьми. Они уже год как живут вместе, а муж при этом не дает жене развод.
Батюшка выслушал рассказ влюбленного юноши и говорит:
— А что ты от меня хочешь? Благословения на прелюбодеяние?
— Да нет. Духовного совета.
— Так беги от нее без оглядки. Вот тебе мой совет.
— Но мы любим друг друга. Я без нее жить не могу. И она без меня.
— Да она ж без тебя уже двоих родила от законного мужа. Значит, может и без тебя жить. Сейчас тебя любит. Завтра другого полюбит.
— Нет. У нас это — на всю жизнь.
— А чего ты ко мне тогда приехал, если знаешь, что у тебя будет на всю жизнь? Это мне тогда надо у тебя советов просить, если ты такой прозорливый.
Юноша смутился и замолчал.
— Беги от нее. И телефон ее забудь. Она тебя через три года съест — и только перья от тебя останутся.
Через три года я встретил этого молодого человека на Невском проспекте. Он и вправду был съеденным — не съеденным, но каким-то обглоданным. За три года он страшно постарел и в 22 года выглядел на все 35. Вместо кудрявого блондина передо мной стоял человек с плешью до середины головы. Как говорил батюшка, «только перья останутся». Прическа его действительно походила на остатки оперения. Он производил впечатление не только обглоданности, но и общипанности. Пророчество батюшкино сбылось.
А тогда он переправился с помощью местного «харона» со своей дамой сердца на другую сторону Наровы и отправился по местному «золотому кольцу» в поисках старца, который бы благословил его на вожделенный брак. Он собирался добраться в село Каменный Конец к отцу Василию Швецу, а если тот не благословит, то в Печоры, к отцу Иоанну (Крестьянкину).
Тщетно я пытался убедить его послушать отца Василия и не искать по миру старца, который исполнил бы не Божию, а его волю. Боюсь, что он все же нашел и уканючил какого-то батюшку…
А маршрут он избрал прекрасный. Отец Василий рекомендовал своим «неодержимым» гостям после трехдневного пребывания в Васкнарве отправляться на богомолье в Печоры, по дороге заходя в то, что осталось от нескольких обителей. Прежде всего — в Спасо-Елеазаровский монастырь, где родилась столь любезная сердцам нашим формула «Москва — третий Рим». По пути можно посетить Кобылье Городище — древний погост неподалеку от места Ледового побоища. Потом храмы и монастыри Пскова, Изборска, дивную церковь в Малах. Такое паломничество для новоначальных было великим пособием для постижения тайны и сути Православия. Так что батюшка Василий был еще и просветителем, и благодатным «турагентом».
Удивительно то, что в коммунистическую эпоху именно на Чудском озере были явлены три старца: отец Василий Борин — на северном его берегу, отец Иоанн Крестьянкин — на южном, а отец Николай Гурьянов — прямо посередине. Для любителей чудес подарочек: чудо Чудского озера! Правда, южная часть называется Псковским озером, но водоем один.
Похоронен отец Василий у алтаря восстановленного им храма Илии Пророка. Я узнал о его кончине только через месяц после его похорон. А храм вместе с постройками превращен стараниями матушки Варвары и пюхтицких сестер в скит Пюхтицкого монастыря. Батюшка говорил матушке Варваре: «Для тебя скит выстроил».
Мало кто из сестер верил в это. От России их отрезали. Кому еще скит понадобится?! Но понадобился. Стоит. Говорят, очень красивый. И это батюшкино пророчество исполнилось.
Чудо — дело тихое
О праведнике писать непросто. С отцом Симеоном (Нестеренко.) я общался немного. Приходится собирать свидетельства тех, кто знал его хорошо, тех, кто провел рядом с ним многие годы.
О том, что меня благословили написать об отце Симеоне книгу, узнали очень быстро. Посыпались звонки. Мне передали несколько тетрадей с воспоминаниями. Выслушал я десятки рассказов. Вот только непонятно, что со всем этим делать. Понятно, что пересказывать исповеди о том, как батюшка «передал свой дар молитвы» и теперь обладательница этого дара сама кого угодно «отмолит», мы не станем. Случаев исцелений — сотни. Можно составить солидный фолиант с перечислением всевозможных болезней, которые отступили от страждущих по молитвам отца Симеона. В другой фолиант можно поместить случаи избавления от бед, устройства на работу, когда кругом сплошная безработица и нет никаких шансов ее получить; рассказать о мужьях, вернувшихся к брошенным ими женам, о молодых людях, оставивших пагубные страсти… Что только не происходило с людьми, обратившимися к отцу Симеону! Всем помогал, и все получали утешение. Но напиши об этом — многие вздохнут: «Ну какие тут чудеса?! Совпадения. Просто врачи вылечили. Мужик сам одумался и вернулся. В жизни и не такое бывает. При чем тут чудеса…»
А разве не чудо то, что на сороковой день помянуть отца Симеона пришли тысячи людей?! И это в будний день! Не знаменитого народного артиста, не эстрадного певца, чей голос с утра до ночи будоражит эфир, а больного старца, много лет прикованного к постели, старавшегося жить тихо и незаметно. На сороковой день прилетел из Запорожья архиепископ Лука — бывший наместник Глинской пустыни. Той самой, где начинал свой монашеский путь отец Симеон. Прилетел и нынешний ее наместник архимандрит Антоний. Если бы не Архиерейский Собор в Москве, то был бы на сороковинах и правящий архиерей, и еще не один владыка. Отца Симеона знали и почитали многие. Литургию отслужили в Михаило-Архангельском соборе и в храме Георгия Победоносца, за алтарем которого похоронен батюшка. А после панихиды на могилке весь день служили литии священники из дальних весей, не сумевшие быть на литургии. Как и после похорон, матушки пустыньки отца Симеона вместе с его духовными чадами устроили трапезу. И снова были утешены сотни людей, пришедших помянуть любимого старца.
А разве не чудо, что с ним единой семьей более полувека жили монахини?! Они приехали из разных уголков России молодыми девушками. Убедившись в том, что встретили настоящего пастыря и мудрого духовника, остались с ним на всю жизнь. И это сейчас, когда не могут ужиться родственники, когда дети при первой возможности уходят от родителей, когда разваливается половина семей, когда люди, клянущиеся перед алтарем в вечной любви, через пол года начинают ненавидеть своих избранников!
В нынешнем обезбоженном, холодном и жестоком мире любовь Христова — это больше, чем чудо. Эта любовь не только нарушает естества чин, когда неоперабельные больные вдруг встают и, «взяв постель свою, уходят здоровыми», но главное — она растапливает хлад сердечный у закоренелых грешников, делающих жизнь невыносимой для окружающих и для самих себя.
Я давно собирался написать книгу о людях, с которыми привелось общаться. Судьба каждого человека по-своему интересна и драматична. Но у одних больше радостей (до поры до времени), у других больше трагизма. И всегда интересно увидеть в людских судьбах Промысл Божий. Напишу-ка я о людях, которым посчастливилось повстречаться с отцом Симеоном. Судьбы многих тесно переплелись. Общаясь с батюшкой и друг с другом, они воочию увидели, как ткется единое полотно человеческих судеб вокруг прочной основы. Этой основой был схиархимандрит Симеон.
Буду собирать истории людей, которых он окормлял, тех, кто прибегал к его молитвенной помощи. Это будет своеобразное собрание «историй болезни» из духовной лечебницы, в которой отец Симеон проработал без малого 70 лет. Через эти истории, даст Бог, станет понятен образ отца Симеона и его подвиг.
Одной из первых моих собеседниц была Галина Владимировна Бахмет. Она врач. Ей отец Симеон несколько раз позволил себя осмотреть. Делал он это редко. Только в крайнем случае.
Я рассказал Галине Владимировне историю, услышанную от старосты храма Георгия Победоносца. А ей об этом поведала мать исцеленной девушки. У этой девушки обнаружили рак. Назначили операцию. Накануне операции она пришла на могилку батюшки и долго слезно молилась: «Батюшка, помоги. Пожалей меня. Не хочу умирать в 17 лет». И когда перед операцией взяли последние анализы, то ни метастазов, ни опухоли не нашли.
— И что вас смущает? — удивилась Галина Владимировна.
— Надо бы проверить. Узнать в онкологическом отделении, действительно ли все так и было. А вдруг врачебная ошибка при постановке диагноза?
— Ну что вы! Я нисколько не сомневаюсь. То, что неестественно в мирском плане, у батюшки было нормой. Я в этом неоднократно убеждалась. В 1997 году ему было очень плохо. Я осмотрела его — и к ужасу поняла, что он может умереть в любой момент. Ему оставалось жить максимум несколько недель. А он еще 13 лет прожил! Я только недавно перестала удивляться, когда видела, как «нарушается естества чин» по молитвам старца. Могу рассказать историю, имеющую прямое отношение к моей семье. Она меня просто потрясла. Моя дочь попала в секту. Никакие собеседования с мудрыми священниками не могли убедить ее в том, что она совершила опасную ошибку. Наконец я уговорила ее поехать к отцу Симеону. Он говорил с ней недолго. Спросил: «Что это за люди, с которыми тебе так хорошо?» «Это прекрасные, добрые, отзывчивые люди. Они готовы в любой момент прийти на помощь», — горячась ответила дочь. «Ну, конечно, они хорошие люди, — вздохнул батюшка. — Но ведь они Божию Матерь не любят и не признают». И батюшка заплакал. Даже не заплакал, а зарыдал. Моя Ирина была потрясена. Не понадобились никакие богословские доводы. Слезы батюшки растопили ее сердце. Ей стало понятным то, чего она до той поры не видела и не понимала.
Меня тоже потрясла эта история. И вот почему. Мы с протоиереем Алексием Касатиковым — духовным чадом отца Симеона, приехавшим из Краснодара послужить в сороковой день, — были приглашены к одной благочестивой прихожанке. Ее сын и невестка оказались у «харизматиков». Они тоже симпатичные, улыбчивые, деликатные молодые люди и готовы в любой момент прийти на помощь, не спрашивая, какой деноминации человек. Добрых четыре часа мы отвечали на их вопросы, комментировали цитируемые ими тексты (в основном ветхозаветные), опровергали несправедливые обвинения в адрес Церкви, выслушивали общие для всех протестантов идеи о ненужности Церкви для личного спасения и общения с Богом. Оспорить их было нетрудно. Но они нас не слышали. Очевидные вещи их не убеждали. Помочь нашим собеседникам увидеть их заблуждения нам так и не удалось. Нас поблагодарили за беседу и обещали подумать. Отец Алексий не поленился — написал и прислал им обстоятельное письмо: все заданные в тот вечер вопросы прокомментировал ссылками на труды отцов Церкви. И что же? До сих пор думают. А отцу Симеону было достаточно трех минут, чтобы показать правоту Православия. Да еще таким удивительным образом. То, что произошло с дочерью Галины Владимировны, доказывает, что человек многое постигает не столько умом, сколько сердцем. А сколько людей получали ответы на неразрешимые вопросы, просто побыв рядом с батюшкой, когда он уже не в силах был говорить. Люди заходили в его келью в полном отчаянии и через некоторое время уходили успокоенные, с пониманием того, как им жить дальше. Все, кто общался с батюшкой, чувствовали его отеческую любовь. Он встречал незнакомых людей так, будто это были самые дорогие и близкие ему люди. Будто он истомился в ожидании их и теперь, когда они (как правило, незваные) появились в его доме, несказанно обрадовался от того, что может проявить свою любовь. Любовь и простота — главные качества, притягивавшие к нему людей. Конечно же, бескорыстная отеческая любовь ко всем без различия чинов и личных качеств — одно из самых поразительных чудес в нынешнем веке. Как говорится, чудо — это не когда сводят огонь с неба, а когда злодей становится хорошим человеком. Таких примеров исправления закоренелых грешников немало. Самый яркий — это когда в селении Лыхны один из главных клеветников и зачинщиков гонений на батюшку покаялся и стал первым его защитником и помощником во всех делах. Сегодня не осталось ни одного из тех, кто клеветал на батюшку и вредил ему. Либо они раскаялись, либо ушли в мир иной.
Я очень скоро почувствовал, что не стоит удивляться случаям исцеления по молитвам отца Симеона. А вот истории вроде той, что произошла с мужем одной из батюшкиных чад, достойны удивления.
Валентина была альпинисткой. Любила горы, красоту Божиего мира. Она, как все советские люди, имела смутное представление о вере. Но в горах что-то происходило с ее душой. Она приходила в восторг, и душа переполнялась благодарностью за красоту и сама начинала славить эту красоту и ее Создателя. Когда она стала понемногу воцерковляться, поняла, что это была самая настоящая молитва. Но когда она читала молитвы по молитвослову, ее редко посещало вдохновение, подобное тому, которое она испытывала в горах. Ее муж Андрей относился к ее хождению в церковь как к чудачеству, но не препятствовал ее «новому увлечению». Когда возникла серьезная проблема, требовавшая мудрого совета, Валентина уговорила мужа обратиться к отцу Симеону. Приехали они в неурочный день. Они не знали, что батюшка плохо себя чувствовал и никого не принимал. Он обедал с матушками, и когда незваные гости появились на пороге, нисколько не удивился: пригласил их к столу и радостно стал расспрашивать о жизни. Мужу Валентины он пододвигал самые вкусные блюда и общался с ним, как с дорогим и желанным гостем. В конце обеда он дал ему несколько советов. Эти советы помогли разрешиться ситуации, казавшейся неразрешимой.
Это так потрясло Андрея, что он несколько дней ходил, размышляя, чем бы отблагодарить батюшку.
— Поймай ему вот такую рыбу, — пошутила Валентина и показала какую — чуть ли не метровую. Дело в том, что Андрей очень любил рыбачить. Но никогда больше десятка маленьких ставридок и карасиков не приносил. Доставался улов кошке. А тут он, на следующее утро отправившись рыбачить, вытащил огромного пеленгаса. Точно такой величины, как заказала жена. Никогда ни до того, ни после ничего подобного с ним не случалось. Валентина в тот же вечер прочитала ему в Евангелии место о чудесной ловле рыб. И когда он в очередной раз отправлялся на море, крестила его и на ухо шептала «пароль»: «Сто пятьдесят и три».
На сороковинах я познакомился с одним молодым человеком и его матерью. Они пригласили меня в гости и обещали рассказать о своем общении с батюшкой. Их рассказ тоже можно было бы оценить как цепь удачных совпадений. Только звенья этой разорванной на множество фрагментов цепи могли связаться воедино лишь по воле свыше. Они переехали в Сочи из другого города. И сразу столкнулись с невероятным клубком проблем: мать семейства покинул муж, не было жилья, нужно было найти приличную работу, чтобы прокормить двоих детей, а врачей в Сочи было более чем достаточно. У воцерковленных детей начались проблемы с одноклассниками. Школа попалась им знаменитая: хулиган на хулигане. Где было одинокой матери искать помощи? Ее привели к отцу Симеону. Она стала его духовной дочерью и ни одного серьезного шага не предпринимала без его благословения. И вскоре проблемы отступили, а потом рассеялись, «яко не бывшие»: и жилье обрела семья, и на работу хорошую мать устроилась. Сын и дочь окончили школу с золотыми медалями, безо всякого «блата» поступили в институт на бюджетное отделение. Блестяще окончили его, поступили в аспирантуру. Дочь вышла замуж за прекрасного молодого человека, а сын защитил диссертацию и стал самым молодым доцентом за всю историю института. Они радостно, с удивительно легким веселием поведали мне свою историю. И столько было в них благодарности и любви к батюшке, что я невольно почувствовал его присутствие в этом замечательном доме. В нем все дышало молитвой и любовью. Я даже подумал, что оказался на «подворье батюшкиной пустыньки».
Это одни из первых знакомств с батюшкиными чадами. В ближайшее время собираюсь навестить осиротевших матушек. Беседа с ними будет, пожалуй, самым важным этапом в сборе материалов об отце Симеоне. А этот рассказ закончу беседой с одним человеком, поведавшим мне о своей встрече с батюшкой.
Его привела к отцу Симеону соседка. Он перебрался в Сочи из столицы. Купил дом с садом. Думал на пенсии заняться здоровьем, внуками. Но тут на него навалилась невыносимая тоска. Внуков даже летом к нему не привозили. Дети предпочли отдых в Турции. Купили дом в Испании и сказали, что в Сочи ни за какие деньги не приедут. Будто бы им «плохо от сочинского хамства». И море здесь грязное, и пробки немыслимые, и дороговизна запредельная.
Так что непонятно было моему собеседнику, для чего он оставил столицу: там у него и дети с внуками, и друзья, и сослуживцы… Хоть каждый день ходи в гости. А здесь ему и общаться было не с кем.
— А ты кто? — спросил его батюшка.
— Я полковник.
— И что, полком командуешь? — Да нет. Я в отставке. Пенсионер.
— А чем занимаешься?
— И сказать трудно. Жене помогаю. На рынок съезжу, в саду поработаю…
— Ну, тогда ты не полковник, а для борща половник. А должен быть в саду райском садовник.
— Как это? — опешил полковник.
— А так. Трудись во славу Божию. Ходи в храм почаще. Читай Евангелие. Молись. Жертвуй на храм. Помогай Церкви. Ты грамотный. Иди в алтарники. Да хоть сторожем. И тоску твою как рукой снимет. И будешь уже на земле, как в раю.
Полковник последовал батюшкиному совету.
— И действительно тоски больше нет, — говорил он мне. — Некогда тосковать. Разгоняю ее словом Божиим. До рая еще далеко. Но из ада уже выбрался.
Ещё раз о чудесах
Народ наш чудеса любит. Фильмы и книги о мироточивых иконах и необыкновенных исцелениях нарасхват. Чуть ли не в каждой церкви можно найти рекламные листочки с приглашениями в паломничество к чудотворным иконам и источникам. Выпущены брошюры с рассказами о том, от каких болезней помогают те или иные святые. Один — большой мастер по части онкологии, другой — по хирургической, третий — по стоматологии, четвертая — первостатейный офтальмолог… И так далее… И висят такие листочки, как список специалистов в районной поликлинике.
Но не только в болезнях обращаются за помощью к святым. Какому-то мученику приписывают исключительную силу в семейных делах, кому-то постоянную готовность придти на помощь при жилищных проблемах. Некоторые святые помогают найти пропавшую вещь, а иной святой может и мужа пропавшего возвратить прямо к порогу покинутого им дома. Одним словом, все святые разобраны по различным департаментам.
Некоторые священники и публицисты уверяют, что за сонмом святых, к которым народ обращается в разных случаях, уже и Христа не видно. И будто подобный подход есть чистое потребительство, и это уже и не христианство вовсе, а настоящее язычество.
Я не раз слыхал, как батюшки в проповедях призывают народ не гоняться за чудесами, а перестать грешить, покаяться, исполнять заповеди и творить добрые дела. Совершенно справедливый призыв. Признаться, я и сам не раз посмеивался над чудоманией моих знакомых и напоминал им эпизод из известной итальянской комедии, в котором старушка просит святого Януария устроить ей выигрыш в лотерею стиральной машины.
Смутили меня участившиеся случаи мироточения. Видел я их немало. И в церквях, и в домах моих знакомых. Даже сподобился в Париже приложиться к Иверской иконе Богоматери и побеседовать с Хосе Муньосом, возившим ее по храмам Русской Зарубежной Церкви. Случай с Иверской иконой — особенный. Невозможно отрицать его или усомниться в истинности действия Духа Святого. Но обильное мироточение в частных домах зачастую приводит к гордыне тех, у кого оно происходит. Я знаю случаи трагического исхода и духовного повреждения таких людей. Определенно высказываться на этот счет не отважился даже отец Иоанн (Крестьянкин). Он говорил, что мироточения не нужно ни отрицать, ни придавать ему чрезмерного значения.
Жажда чудес, особенно у новоначальных христиан, понятна. Жизнь порою невероятно сложна, а у многих трагична. Так хочется, чтобы беды и испытания закончились сразу же и никогда больше не обрушивались. И многие, видя творящееся вокруг беззаконие, думают, что неправда мира не переступает порог Церкви. Здесь-то и закончатся все беды. Попрошу — и чудесным образом все преобразится!
Несколько поколений русских людей были оторваны от Церкви и народных традиций. Большинство заполняющих храмы людей веруют, как и неведомые им предки, сердцем. Эта мистико-сердечная вера не очень дружит с рацио. Она людям «конкретным» кажется глупой, корыстной и даже дискредитирующей христианство.
Порой с этим нельзя не согласиться. Все-то они чего-то клянчут: «Подай да подай!» Нет, чтобы самим взяться за дело и сделать. Что-то можно сделать, конечно, и самому. А вот мира мирови самому не добиться. И благостояния святых Божиих церквей… Да и здравия приходится просить. Даже жилья у чиновника бедному человеку не выпросить. А вот у Господа и святых Его можно получить. Так что нашему брату без просьб не обойтись.
Простому человеку зачастую неловко напрямую беспокоить Господа Бога. Гораздо легче обратиться к святому. Ведь они же наши земные нужды знают. На собственном прижизненном опыте все постигли. И к кому еще обращаться, как не к Николе Угоднику, готовому помочь в любой беде…
К кому, как не к слепенькой Матроне, когда катаракта или глаукома застилает глаза. Она-то, родимая, знает, каково жить незрячей.
И к Вонифатию бежит жена запойного мужа. А Вонифатий помогает! (Только уж больно много у него просителей на Руси.) И к мученику Антипе при зубной боли…
Я вот сам лет десять назад ничем не мог среди ночи унять зубную боль. А прочел акафист Антипе да молитовку тут же сочинил: «Мученик Антипа, исцели от гриппа, от муки зубовной да страсти греховной». И что же? Не заметил, как уснул. И наутро никакой боли.
К блаженной Ксении бегут к ее часовенке на Смоленском кладбище по всякой нужде. Она, потерявшая любимого мужа, знает, как помочь в выборе жениха. При жизни ей голову негде было приклонить (правда, это было добровольное бездомное житие: свой дом она отдала вдове Антоновой), а теперь нет лучшей помощницы в квартирном вопросе. Разве что Спиридон Тримифунтский может с ней потягаться.
Я сам получил после пожара невероятный подарок от Ксеньюшки. Молился ей и просил квартиру в центре, там же, где проживал до пожара. Шансов не было никаких. Народ из коммуналок при расселении отправляют в новые районы. Я узнал имена всех членов жилищной комиссии и подал записку с этими именами на сорокоуст в часовню блаженной Ксении. Когда решался мой вопрос, все члены комиссии непонятно почему безо всякого обсуждения подписали протокол, и я стал обладателем 90-метровой отдельной квартиры в центре Петербурга вместо 44 метров в коммуналке.
Человек, выдававший мне ордер, был уверен, что у меня какой-то немыслимый блат в самых верхних эшелонах власти.
Святые слышат нас и помогают, если только наши просьбы нам не во вред. Особенно везет новоначальным. Я несколько раз убеждался в том, что тем, кто даже без особой веры впервые в жизни обращается за помощью к святому, помощь приходит очень скоро.
С художником Валерием Б. произошла такая история. У него пропала любимая собака. Долгие поиски остались безрезультатными. Он и в газетах давал объявления, и по телевизору бегущей строкой пробегал его вопль о помощи, и бумажками с просьбой помочь отыскать собаку оклеил все столбы и стены своего района.
Наконец соседская бабуля посоветовала ему пойти в церковь и помолиться Флору и Лавру. Их обычно изображают с лошадьми. Но бабуля решила, что коль скоро никаких святых нет на иконах с собаками, а даже наоборот, хвостатых тварей гонят с церковных дворов и не позволяют держать в домах, то святые Флор и Лавр будут самыми подходящими помощниками. Где лошади, там и собаки.
Валера послушался от безысходности. Человек он был не церковный. Но все средства испробованы, что же делать… Только на чудо уповать.
Без особой веры в успех пришел он в Останкинскую церковь. Стал спрашивать, где икона Флора и Лавра. Свечница объяснила ему, что такой иконы в их храме нет, да и по всей Москве вряд ли отыщешь. Сюжет редкий. Разве что в музее поискать.
В музей Валерий идти не захотел. Тогда свечница посоветовала ему помолиться у иконы всех святых. Купил Валерий две толстые свечки, поставил у иконы всех святых и стал просить Флора и Лавра помочь ему найти собаку.
Через день-другой звонят ему из какого-то пригорода. Кажется, это был Ногинск, и предлагают ему выгодный заказ. Он садится в электричку и едет за сто верст за своим коммерческим счастьем. Как только он оказался на привокзальной площади, из торговых рядов мохнатой стрелой вылетела собака. С оглушительным визгом она бросилась на Валерия, стала высоко прыгать и лизать ему лицо. Несколько торговок подошли к ошеломленному Валерию. Не было никакой нужды спрашивать, его ли это собака. Торговки казались еще более пораженными, чем он. Одна из них сказала, что собака тосковала и выла сутками напролет. Они не могли ее ничем успокоить.
Она не шла ни к кому в дом, сидела на одном месте и смотрела на подъезжающие электрички.
— А мы тут всем торговым коллективом молились Флору и Лавру, чтобы они отыскали ее хозяина. Вот эти кирпичи, где лавки стоят, это же стены разрушенной церкви Флора и Лавра. Им и молились.
Когда счастливый Валерий подходил в сопровождении найденного друга к своему дому, его остановил милиционер.
— Откуда у вас эта собака? — спросил он подозрительно.
Валерию очень не хотелось вступать ни в какие беседы, тем более с милиционером. Пришлось все же сказать, что это его собака, что он не украл ее, а она пропала и он долго искал ее. А теперь ведет домой, чтобы накормить и вымыть поскорее.
— Так ведь она же в Ногинске, — заявил страж порядка.
Валерий не поверил своим ушам.
— А вы откуда знаете про Ногинск?
— Как откуда, когда я сам ее туда отвез. Она у нас в отделении два дня просидела. Сама извелась и всех нас извела. Ничего не ест и только воет. Ну я и решил отвезти ее к теще на природу…
Так что не знаю, как и быть русскому человеку без чудес. У нас ведь все — сплошные чудеса. Еще каких-нибудь 10-15 лет назад казалось, что погибла Россия. Ан, нет — живем. Крадут миллиардами, а страна все равно крепнет. Ну, не чудо?!
Триста лет татаро-монгольского ига. На европейских картах никакой Руси не было. Ан, глядь — уже и Казань с Астраханским ханством — часть России. Поляки в Смутное время в Кремле сидят. Четыре Лжедмитрия! А через полтора века Польша — глубокая провинция России. И Вторая мировая война — Отечественная разве не чудо?! Победить мощного врага, разгромившего всю Европу. Да еще и после того, как большевики уничтожили цвет нации…
Нет, не уговорить русского человека перестать крепко верить в чудеса. Но главное чудо впереди. Это когда все мы, благословясь, засучим рукава и примемся за дело. А дел у нас на Руси — о-го-го!!!
О блаженной Ксении
Несколько лет назад я был свидетелем такой сценки. В сквере на углу Большой Пушкарской и Кронверкской улиц трое мужчин и шесть женщин пели акафист. Они стояли лицами на восток у стенда с фотографиями храма Святого апостола Матфея, некогда стоявшего на этом месте. Перед ними был столик с Евангелием, иконами и крестом. Мимо них проходили мамы с колясками, пожилой человек с бамбуковой палкой, пробежали смеясь девицы трудно определяемого возраста. Прохожие смотрели на молящихся с недоумением. Никто не перекрестился. Никто не присоединился к ним. Пьяненький бомжик с всклокоченной головой сел на скамейку и во все глаза наблюдал за непонятным действом.
Когда пение акафиста закончилось и стали расходиться, бомжик подошел к мужчинам, собиравшимся уносить стол.
— Ты что, музыкант? — обратился он к одному из них.
— Это Ростропович музыкант, а я — старший музыкант.
— Это как так? — удивленно спросил бомжик.
— В армейском оркестре я был не простым, а старшим музыкантом, — мужчина улыбнулся, кивнул своему приятелю, и они, бережно уложив иконы и Евангелие в толстый старорежимный портфель, подхватили стол и побрели в сторону Большой Пушкарской.
Бомжик пожал плечами и двинулся было за ними, но через несколько шагов остановился, да так и остался стоять.
С этим «старшим музыкантом» я вскоре познакомился, и мы подружились. Владимир Синкевич оказался не только отставным музыкантом, но и кандидатом философских наук, специалистом по акустике, церковному пению, математике, знатоком церковной и светской истории и прочая, и прочая, и прочая. А вследствие перечисленного — бессребреником и чудаком. Одним словом, это тот самый не до конца выведенный большевиками и перестройщиками тип русского чудака, в ком можно узнать героев Лескова. Трудно найти сферу человеческих знаний, в которой бы он не чувствовал себя, как рыба в воде. Но главным делом жизни Владимир считает служение Ксении блаженной. Его можно без преувеличения назвать ее верным «служкой».
Он входит в двадцатку храма Апостола Матфея. Храма, которого нет. Но о его восстановлении они молятся и поют акафисты каждую среду на протяжении четырех лет. Вместе с ними молятся прихожане другого храма — в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Этого храма тоже нет и, по всей вероятности, не будет на том месте, где ему надлежит быть. Место это — пустырь, на котором некогда стоял дом, принадлежавший мужу блаженной Ксении, где она прожила несколько лет своего недолгого замужества. Место это бойкое и продано оно под строительство торгового центра.
Подпись высокого начальства под документом, удостоверяющим законность передачи этого участка, поставлена именно в день памяти блаженной Ксении — 6 февраля.
При «двадцатке» существует центр по сбору документов и свидетельств о жизни Ксении Петербургской. Владимир Синкевич со своими приятелями ведет вполне научный поиск. Беда лишь в том, что теперь работа в архивах связана с изрядными денежными расходами. А денег у боголюбивых чудаков, как известно, немного.
И все же им удалось узнать немало нового. Узнали они о том, что раба Божия Петрова — так звали блаженную Ксению — была прихожанкой церкви Апостола Матфея.
Именно поэтому соединились прихожане двух несуществующих храмов для великого дела храмостроительства, проповеди слова Божьего и прославления святых, подвигших их на это делание.
Уже готов сборник документов о Ксении Петербургской и о храме Апостола Матфея с комментариями. Я с большим нетерпением дожидался возможности ознакомиться с электронным вариантом этого сборника, поскольку для меня воцерковление было связано со знакомством с петербургскими святыми, и в первую очередь с блаженной Ксенией. Мой приятель несколько раз брал меня с собой на ночные бдения около ее часовни. Часовня тогда была огорожена высоким забором, а по кладбищу рыскали милиционеры и всех почитателей блаженной попросту арестовывали. Однажды ночью мы пропели акафист на изрядном морозе. Видно, из-за мороза никто нам не помешал.
Мой приятель приходил к часовне в любую погоду еженощно. Жил он в Купчино, и до Смоленского кладбища было около восемнадцати километров. Туда и обратно он ходил пешком более трех лет и вымолил, по тогдашним, далеким до перестройки брежневским временам, немыслимое. Ему удалось зарегистрировать брак с любимой девушкой — гражданкой Франции — и уехать с ней во Францию, где он вскоре стал священником.
Мне, тогдашнему неофиту, было странно видеть интеллигентного человека, беседовавшего на кладбище, как с живой, с похороненной двести лет назад женщиной. Тогда еще Ксения не была прославлена в России. Акафисты и иконки с ее изображением привозили «зарубежники». Я не знаю православного дома, в котором бы не было в начале восьмидесятых годов ее иконы. Тогда я относился к блаженной Ксении больше как к литературному персонажу.
Меня поразило то, как она эпатировала елизаветинский и екатерининский бомонд, старательно усваивавший правила европейских дворов. Многие из моих приятелей в ту пору совершали отчаянные поступки. Нам казалось, что мы тоже, на свой лад, «безумием мнимым безумие мира посрамляем».
Я никак не мог избавиться от мысли, что эпизоды ее жизни и истории помощи тем, кто к ней обращался, кажутся мне «городским фольклором», некими темами, которые мне предстояло когда-нибудь сделать основой будущих новелл.
Я ходил к Ксении, молился как мог, но ничего у нее не просил. Наблюдал за народом. За тем, с какой горячей верой обращаются к ней и старушки, и молодушки, и досадовал на то, что у меня нет такой веры. Мне не очень верилось. Но вскоре я почувствовал, что мысленное обращение к блаженной имеет какой-то смутный отклик в душе, словно кто-то поселился во мне непонятный, а вместе с ним появилось желание рассеять эту непонятность и познакомиться с ним поближе. Я уже, подобно евангельскому отцу больного отрока, готов был сказать: «Верую, Господи, помоги моему неверию!»
Сейчас уже трудно вспомнить и определить, когда эти смущения прекратились. Я уверен, что произошло это не без помощи самой блаженной Ксении.
Однажды, когда уже была открыта ее часовня, я молился снаружи у восточной стены, где возжигают свечи. Подошла какая-то старушка. Над ней кружились голуби. Она держала руки ладонями вверх, и голуби опускались ей на руки и склевывали крошки, лежавшие на ее ладонях. Старушка двигалась медленно, стараясь не спугнуть птиц. Лицо ее было напряжено и торжественно. Она поглядывала на людей с каким-то вызовом: «Вот, мол, как у меня здорово получается, и птицы меня не боятся». И мне вдруг захотелось оказаться в глуши. И чтобы вокруг не было ни души, никого, кроме птиц. Слушать пение и кормить их крошками, никому не показывая таланта дрессировщика и укротителя. Во мне сама собой проговорилась какая-то просьба, обращенная к Ксении. Я толком даже не понял, о чем просил. Хотелось просто покоя. И я его почувствовал. На короткое мгновение. Что-то тихое, ласковое, как воспоминание о материнском объятии. Я думал о Ксении, но не о той, которая ходила в лохмотьях мужнина костюма, а о той, чья душа легко воспаряла над посрамляемым ею миром и соединялась с Богом.
Я думал о ней, молившейся в поле, где никто не отвлекал ее от главного ее подвига, ради которого она претерпевала невероятные лишения. И вдруг стало понятно, отчего разговор с Богом не может происходить по законам изящной элоквенции (красноречия. — Прим. ред.), а может быть лишь таким, как в разговоре блаженных, когда «словеса мутны». Да и что скажешь, когда душа приходит в умиление или преисполнена покаянным чувством.
Сказать хочешь много, но не можешь ничего произнести, кроме «Господи, помилуй!» Говоришь невнятицу и чувствуешь, что становишься тем самым юродивым, кому уже ничего не нужно — только бы не потерять этого благодатного присутствия в душе…
Я почувствовал, что хочу стать иным, но не просто измениться, а избавиться от того, что заставляет по колено быть в земле: в хлопотах, суете и тревогах… Но тут же понял, что не смогу. Никогда. Никогда не сбросить этого ярма собственной самости и кабальной привязанности к миру. Никогда не сделать того, что смогла сделать Ксения.
Подвиг юродства всегда ценился на Руси выше всякого иного подвига. Юродивых почитали и цари, и простые люди. В безбоязненном обличении пороков и сильных мира сего, в пренебрежении установленными нормами и правилами поведения юродивые демонстрировали иную, высшую правду, не знающую земных условностей и ограничений.
Размышляя о блаженной Ксении, я пришел к невеселым заключениям. Современным людям, выросшим в отрыве от православных традиций исторической России, трудно понять сущность ее подвига. Даже те, кто постоянно обращаются к ней в молитвах, вряд ли толком понимают, чем она заслужила великую милость у Бога. А если бы нам пришлось столкнуться с ней, с такой, какой она была при жизни, кто из ее нынешних почитателей не прошел бы мимо безо всякого желания пообщаться с ней? Многие ли нынешние домохозяйки пустили бы бродяжку в рваном мужском одеянии на ночлег?
Если торговцы и извозчики наперебой зазывали ее к себе взять чего-нибудь в лавке или проехать хоть до ближайшего дома, а матери старались подвести к ней детей, чтобы она погладила их по головке, то современные хозяева магазинов вряд ли бы пустили ее на порог. А уж если бы она прикоснулась к новорусскому чаду, наверняка не обошлось бы без вызова полиции.
Боюсь, что многие из нас отнеслись бы к ней как к одной из бродяжек, с некоторых пор появившихся в немалом количестве в наших городах. А ведь не исключено, что и среди этих несчастных под лохмотьями скрываются святые души и наши внуки будут испрашивать у них молитвенной помощи, недоумевая — как это наши православные деды-бабки не смогли разглядеть в них святых…
Одной из главных побед безбожия явилось всеобщее двоемыслие. У нас как-то все пошло «параллельным курсом». Молитва, хождение в церковь, чтение духовной литературы — сами по себе. Дела милосердия — это уже другое дело, а исполнение заповедей и исправление жизни так, чтобы быть «светом миру», — это уже «высший пилотаж», к которому и приступать страшно. «Это нам не по силам, а коли так, то и стараться нечего». Подвиги нужно брать по силам. А поскольку сил нет, то какие тут подвиги? Ну какой, право слово, из меня подвижник…
Живем потихоньку, не заносимся, подвигов на себя не берем. Но у той, которая превозмогла собственную немощь и понесла подвиг, редчайший даже для святых, постоянно просим помощи. И помощь эту получаем. Ксения Петербургская — это проверенная скорая помощница. Каких только чудес не совершалось по молитвам к ней! Бесчисленные исцеления неизлечимых болезней, исправления заблудших, утешение отчаявшихся, возвращение плененных… Даже я, грешный, несколько раз был облагодетельствован Ксеньюшкой. Именно Ксеньюшкой. Так ее называют почти все обращающиеся за помощью.
Когда ее полуразвалившаяся часовня была обнесена дощатым забором и было установлено постоянное дежурство, чтобы не допускать к ней никого, а за хождение в церковь выгоняли с работы и из институтов, народ постоянно приходил к Ксеньюшке и оставлял ей записки с изложением своих бед и просьб. Записки эти перебрасывали через забор, втыкали в щели между досок, а все доски забора были испещрены словами мольбы и благодарности за оказанную помощь.
Помимо просьб об «улучшении жилищных условий» (народ уверен, что по этой части ей нет равных, разве что Спиридон Тримифунтский), можно было прочесть самые невероятные прошения. Я запомнил некоторые из них: «Ксеньюшка, сделай так, чтобы мой пьяница уехал к тетке в Улан-Удэ» или «Ксеньюшка, помоги сдать экзамен по научному атеизму». «Ксеньюшка, сделай так, чтобы Сережка бросил Ленку и вернулся ко мне». К Спиридону Тримифунтскому с подобными просьбами, пожалуй, не обращаются.
Самое удивительное — это то, что с просьбами к Ксении блаженной зачастую приходили совершенно не церковные люди. Мне не раз приходилось объяснять, как пишутся записки и для чего они пишутся. Чем отличается молебен от панихиды и почему в часовне не причащают. Часто к Ксении приходят по чьему-то совету или просто узнав, что есть такая святая, которая помогает всем, не спрашивая — православный ты человек или не очень. За ней крепко утвердилась слава всенародной заступницы. Приходят изнемогающие от жизненных тягот и болезней, в ситуациях, когда неоткуда ждать помощи.
Приходят поблагодарить за исполнение просьб, приходят из любви к блаженной просто помолиться. Говорят, что иногда ее видят в толпе молящихся или читающей написанные ей записки.
Приезжают чудаки, с трудом понимающие, для чего приехали. Один шахтер из Макеевки так объяснил цель своего приезда: «У Ленина семь раз был, а у Ксении ни разу. Да тут еще теща просила помолиться. Целую свитку написала».
У Ксеньюшки все просто. И помогает она не совсем так, как другие святые. Иногда происходят ситуации совершенно немыслимые. Ее попросили помочь получить новую квартиру, а вместо квартиры происходит пожар. И лишь через некоторое время, получив-таки квартиру, погорелец понимает, что только таким способом в его положении можно было обрести новое жилье.
Кого только не увидишь возле часовни! И православных греков, и сербов, и потомков белых офицеров из Парижа и Америки. Потеряешь чей-нибудь телефон и не знаешь, как найти человека, приходишь к часовенке, а он, родимый, тут как тут. Стоит в уголке, молится.
Помимо записок, по-прежнему оставляемых у часовни, приходят еще и письма со всех концов света с удивительным адресом: «Петербург, Ксении блаженной». Эти письма работники почты передают настоятелю храма Смоленской иконы Божией Матери.
При советской власти часовню блаженной несколько раз собирались уничтожить. Но святая, не имевшая дома при жизни, не позволила лишить ее посмертного жилища, ставшего для миллионов людей более, чем родным домом.
В России после XX века, обездомившего и осиротившего миллионы наших соплеменников, тема дома, сиротства, временности и краткости земного нашего бытования имеет особенно острое звучание. Для Владимира Синкевича эта тема стала доминантной. Возможно, поэтому он прежде всего нашел место, где находился дом, в котором Ксения проживала в замужестве. Затем он стал искать адреса домов, где происходили описанные в ее житии чудотворения. И нашел их.
Местонахождение дома блаженной было установлено с точностью до одной сажени. «Если встать спиной к Большому проспекту и пойти по левой стороне Лахтинской улицы, через 14 саженей начнется участок протяженностью в 26 саженей, принадлежавший мужу блаженной Ксении Андрею Федоровичу». И Лахтинская улица в ту пору называлась улицей Андрея Петрова по имени мужа блаженной.
Дом, стоявший на нем, после смерти мужа достался Ксении, но она отдала его Параскеве Антоновой с условием «даром пускать жить бедных». Этой бездетной Параскеве она подарила еще и сына. Эпизод этот отмечен в ее житии. Ксения сказала Параскеве: «Ты тут сидишь и не знаешь, что Бог тебе сыночка послал». Этот усыновленный ребенок впоследствии стал действительным статским советником, а стало быть, потомственным дворянином. Он трогательно заботился о Параскеве Антоновой до конца ее дней. Удивительным образом он оказался похороненным неподалеку от часовни блаженной Ксении, — той, кто не дала ему испытать горечь сиротства.
Сам же дом блаженной Ксении Промыслом Божиим сделался местом особого притяжения сердобольных душ, желавших помочь беднякам. За два века, прошедших после смерти блаженной Ксении, вокруг него образовалось более двадцати приютов. Сама Ксения, добровольно принявшая тяготы бездомного жития, дала приют сотням сирот, вдовиц и одиноких стариков. И хотя в обычном понимании она не явилась начинательницей благотворительных дел в Петербурге, она вне всякого сомнения является небесной покровительницей всех, кто занимается делами призрения и помощи обездоленным.
Она бывала в своем бывшем доме у Антоновой, у благочестивых прихожанок Матфеевского храма Беляевой и Голубевой. Но в основном проводила ночи под открытым небом. Ее видели на паперти Матфеевского храма. Она часто уходила за городскую черту и проводила ночи в молитвенных бдениях на пустыре, который находился там, где сейчас проходит Чкаловский проспект.
Архивные документы хранят показания городовых, которые свидетельствуют о том, что «Андрей Федорович выходила в поле молиться Богу, утверждая, что присутствие Божие в чистом поле явственнее, и молилась по нескольку часов, кланяясь в землю на все четыре стороны».
В результате многолетнего за ней наблюдения было установлено еще одно очень любопытное обстоятельство — она «очень редко и неохотно произносила свои пророческие слова». Это объясняет в некоторой степени то, что в ее житии отмечено всего лишь несколько эпизодов и всего-навсего двенадцать кратких пророческих фраз. Из них пять вошли в «Житие святой блаженной Ксении», остальные считаются апокрифическими. Современники свидетельствуют о том, что блаженная Ксения говорила крайне редко короткими малопонятными фразами. В основном она хранила молчание. Но благодатное воздействие на людей происходило и при полном ее молчании.
Я спросил Владимира Антоновича, почему он занялся этими поисками. Так ли важно знать, какой священник отпевал блаженную и почему отпели ее в Матфеевском храме, а похоронили на Смоленском кладбище? И на что повлияют собранные им факты? Ведь святая уже прославлена.
Владимир Синкевич ответил мне словами Феофана Затворника, утверждавшего, что для верующего, почитающего какого-нибудь святого, необходимо знать как можно больше о его жизни. Подражание святому и знание его земных подвигов есть свидетельство нашей любви к нему.
Рождественская история
Мой друг Николай заболел. Чем заболел — никто из врачей не мог определить. Каждый день высокая температура, отеки ног, странные блуждающие по всему телу боли — то суставы ломит, то грудь, то вообще все заболит, да так, что ни рукой, ни ногой не пошевелить. Положили его в больницу. Перво-наперво кровь проверили. Нашли, что кровь плохая, что идет воспалительный процесс (это и так очевидно), но в чем причина, сказать не смогли. Перевели его в другую больницу. Там ему томограммы да узи всякие сделали. И опять ни диагноза, ни внятной стратегии лечения. Отправили его на сей раз не в больницу, а в научный институт к великим специалистам. Стали его каждый день антибиотиками потчевать. У Николая разболелась печень, и ходить он стал с большим трудом. Здесь обнаружили у него непорядки с позвоночником и приказали лежать на спине не вставая.
В Рождество я позвонил его жене: поздравил с праздником, спросил, когда можно навестить Николая.
— Когда угодно: с Нового года ни врачей, ни квалифицированных медсестер ни разу не видела.
Разговор наш она закончила фразой: «Не знаю, на кого надеяться». Я не стал напоминать ей о том, что в Рождество «Надежда ненадежных» принесла в мир самую Великую Надежду и Упование. Пробормотал что-то утешительное, не поминая Господа Бога. Но и всесильную современную медицину тоже не стал поминать.
Только я положил трубку, как раздался звонок. Звонила из Италии русская женщина. Я познакомился с ней на конференции в монастыре Бозе. В 1990 году она, будучи медицинской сестрой, делала уколы ликвидатору чернобыльской аварии, получившему сильнейшую дозу облучения. Ее поразило терпение, с которым он переносил боль. От его друзей она узнала, что он действовал с поразительным мужеством в самых критических ситуациях. Шел туда, куда другие идти отказывались. Воспитана она была в патриотическом духе — чтила героев и сама мечтала о подвигах. Поэтому, когда через три месяца регулярных визитов к больному он попросил ее выйти за него замуж, она без колебания согласилась, полагая, что ему нужна не жена, а сиделка. О любви она не думала. Это был жертвенный акт. Он пожертвовал своим здоровьем ради людей, а она своей жертвой хоть как-то хотела облегчить его страдания…
Через несколько месяцев она поняла, что станет матерью. Врачи стали настаивать на аборте, поскольку было ясно, что ребенок от такого отца не может родиться здоровым. Аборт она делать не стала. Уповала на милость Божию. Но чуда не произошло. Мальчик был болен. Злокачественная опухоль появилась в ротовой полости. Он не мог принимать пищу, задыхался. Ей пришлось оставить работу и быть при нем постоянно. Было сделано несколько операций, а потом он по программе «Дети Чернобыля» был отвезен в Италию. Там он прошел усиленный курс терапии и почувствовал себя намного лучше. Но по возвращении из Италии они вскоре снова были вынуждены лечь в ту же самую клинику. Условия там были ужасные. Сиделок не было, и матери месяцами оставались со своими детьми. Спали где придется — в коридорах, кладовках.
Вместе с несколькими женщинами она стала добиваться позволения открыть в клинике домовую церковь. Им позволили. Начались регулярные службы.
С появлением священника многое изменилось. Дети видели, как один за другим уходят из жизни их сверстники, но после бесед с батюшкой и посещения церковных служб стали намного спокойнее относиться к смерти.
Настал час, когда лечащий врач сказал, что ей надо быть готовой к скорому прощанию с сыном. Мальчик тоже чувствовал, что скоро умрет. Неожиданно он попросил ее исполнить последнюю просьбу — свозить его в Италию. Она пообещала. Понимая, что это невозможно, все же отправила по электронной почте письмо людям, которые их принимали. Пришел ответ — итальянские друзья обещали исполнить последнее желание ее сына.
Она поблагодарила, но была уверена, что это просто вежливая отписка. Однако поездка устроилась. Они снова оказались в Италии. Там она узнала, что человек, принявший деятельное участие в судьбе ее сына, заплатил двенадцать тысяч евро «гробовых». Зная диагноз и состояние мальчика, итальянские власти потребовали заранее оплатить перевозку трупа.
Но мальчик не умер. В Италии он стал быстро поправляться и вскоре уже играл в футбол с соседскими мальчишками.
Прошло пять лет. Мальчик практически здоров. Ему предстоят лишь пластические операции, поскольку он быстро растет, а пересаженная на лице кожа расти не может.
Я провел в компании этого мальчика и его благодетеля целый вечер. Мы поехали в горный монастырь, в котором находится «черная Мадонна». Эта икона, по преданию, написана апостолом Лукой. Каждую субботу жители окрестных городов и деревень идут крестными ходами на поклонение этой святыне.
Когда мы прощались, мальчик сунул мне небольшую коробочку и попросил не открывать ее, пока я не вернусь домой. Я открыл ее в Петербурге и обнаружил маленькую «черную Мадонну», очень искусно исполненную в металле. Тут же собрался в деталях описать эту историю, но не смог. Совершилось явное чудо: исцелился ребенок, которому, по мнению врачей, оставалось жить не больше месяца. И сами врачи, и итальянские и наши, подтвердили, что на выздоровление не было никаких надежд. Но как рассказать об этом чуде просто и без фальши… Что-то смущало меня в этой истории. Чего-то не хватало. Как ни поворачивай сюжет, а получался рассказ о том, как плоха наша медицина и наши люди и как хороша итальянская медицина и как добры итальянцы.
Человек, приютивший больного русского мальчика и заплативший за его приезд немалые деньги, был совсем не церковным. Просто добрый человек. Но и простая доброта — дар Божий.
Мы знаем множество примеров, когда Бог и святые помогали иноверцам и даже злостным безбожникам, после чего те становились верными христианами, а некоторые собственной кровью запечатлевали верность Богу…
Так я рассуждал долго, но все эти рассуждения не очень помогли. Что-то не складывалось…
И вдруг в Рождество звонок из Италии. Я был удивлен и обрадован, поскольку несколько раз звонил в Италию и благодарил автоответчик за гостеприимство. Прошло четыре месяца, и вот я слышу знакомый голос:
«Хочу поздравить вас с Рождеством и рассказать вам то, что в прошлый раз упустила. Не знаю почему, но второй день хожу и думаю, что нужно непременно вам об этом рассказать… Мне кажется, я не сказала главного. Когда мы ждали визу в Италию, нас выписали умирать домой. Мой сын попросил его причастить. Я вызвала такси и повезла его в больничную церковь к нашему батюшке. Это была страшная мука. Любое прикосновение доставляло сыну сильную боль. Он уже ни сидеть, ни лежать не мог. Это был просто скелетик, обтянутый кожей. Еле довезла. Батюшка его причастил, и мы поехали обратно. Ему сразу стало легче. Через неделю он снова попросил его причастить. На этот раз мы поехали на маршрутном такси. После второго причастия он стал гораздо энергичнее — стал ходить и даже на глазах начал поправляться. На третье причастие мы приехали к началу службы, и он отстоял два часа ни разу не присев. Я не верила своим глазам.
А накануне в нашем храме стала обновляться икона. Это была абсолютно черная доска. Ее принесла в храм одна нянечка. Мы даже не знали, что за святой на ней изображен. И вдруг видим лик Николая Угодника и благословляющую десницу.
Батюшка сказал сыну: «Это святой Николай тебя благословляет. Молись ему».
Когда мы вернулись домой, нас ждало сообщение о том, что нам дали визу. Но самое непонятное случилось по пути в Милан. Наш самолет почему-то приземлился в Бари. Милан — это самый север Италии, а Бари — самый юг. Если бы это была аварийная посадка, то самолет приземлился бы либо в Венеции, либо, в крайнем случае, в Риме. Но лететь через всю Италию и постоять полчаса на аэродроме в Бари — все равно что по пути из Петербурга в Москву сделать вынужденную посадку в Сочи.
Никто не мог понять, почему мы приземлились. Самолет был в исправности, и даже дозаправки горючего не потребовалось. Никого не высадили, никого не посадили. Через полчаса полетели дальше. Стюардессы говорили что-то невнятное об итальянских путаниках-авиадиспетчерах. Но я-то знала, что это Николай Угодник устроил так, чтобы мы немного помолились в городе, где находятся его мощи. Позже мы смогли приехать в Бари и поблагодарить святителя Николая за его чудесную помощь.
Не знаю почему, но мне вдруг очень захотелось позвонить и рассказать вам об этом. В прошлый раз я не дошла до самого главного, потому что мы поехали в монастырь и мне всю дорогу пришлось быть переводчицей».
Я поблагодарил ее и рассказал о болезни моего друга Николая и о том, как за минуту до ее звонка его жена сокрушалась о том, что не знает, на кого надеяться.
— Будем надеяться, что теперь узнает.
Я обещал позвонить в Крещение и рассказал, что поминаю ее с сыном постоянно, поскольку «черная Мадонна» находится на самом видном месте, рядом с моими иконами.
Когда я рассказал жене об услышанном, она улыбнулась и сказала: «Расскажу и я тебе кое-что». Она протянула мне флакон с миро, который я привез из Бари. «Три года он простоял за иконой Николая Угодника. Я только сейчас нашла его».
С этим флаконом на следующий день я отправился к своему другу. Я боялся предстоящего разговора. Мой друг, как и многие ученые, несмотря на то что верит в Бога, к рассказам о чудесах относится осторожно. Но мой рассказ он выслушал очень внимательно и миро принял с благодарностью.
Памяти отца Николая Гурьянова
Накануне тысячелетия крещения Руси на экраны вышли два поразивших советских людей фильма: «Под благодатным покровом» московского кинорежиссера Бориса Карпова и «Храм» (тогда ленинградского) режиссера Владимира Дьяконова.
В этих фильмах впервые за 70 лет советской власти нашим гражданам поведали о том, что Православная Церковь — это не «сборище мракобесов, морочащих головы необразованным людям», а «богочеловеческий организм — Небо на Земле, хранилище духовных и нравственных ориентиров. Жизнь наша напрямую зависит от молитв ее членов. Да и сама Россия возникла вместе с появлением на нашей земле Православной Церкви. Разрозненные славянские племена вышли из крещенской купели единым русским народом».
Такая трактовка в атеистической стране, где за открытое исповедание христианской веры в то время давали сроки (и немалые), произвела ошеломительный эффект. В новосибирском Академгородке во время демонстрации фильма «Храм» научные сотрудники стояли в проходах и вдоль стен. А режиссера не отпускали несколько часов, задавая ему самые невероятные вопросы, свидетельствовавшие о том, что даже в среде интеллектуалов представление о вере наших предков было весьма туманное.
В этом фильме был эпизод об отце Николае Гурьянове, служившем на маленьком островке Псковского озера. Я тогда изрядно расстроился из-за того, что автор не смог вывести батюшку на интересный вразумительный разговор и не показал старца яко подобает. Ну что это такое: отец Николай показан крупным планом, пьющим чай. Поднимает стакан в подстаканнике и говорит, обращаясь то ли к съемочной группе, то ли ко всему советскому народу: «Попейте чайку. Сейчас, слава Богу, все хорошо. Есть и чай. Есть и сахар с хлебушком». Мне тогда показались эти фразы крайне неудачными. Невелика премудрость. Да к тому же тогда это вызвало смех в зале. Именно с сахаром в то время были проблемы. Но батюшка, несомненно, юродствовал. Что скажешь советским киношникам — верным слугам безбожного режима? Да еще и перед стрекочущей камерой… Но теперь этот совет воспринимается совершенно иначе, как мудрейший. И он будет восприниматься именно так еще очень долго. Отец Николай иносказательно вразумлял нас: «Будьте за все благодарны. Не бунтуйте, не суетитесь. Умейте радоваться жизни…»
Помимо произнесенных батюшкой слов, тот фильм дал возможность увидеть его лицо, его глаза. Нужно ли говорить о том, что тогдашний, а особенно сегодняшний экран вынуждает нас смотреть на совершенно иные лица. Инаковость человека в подряснике была поразительной. Трудно даже определить, в чем дело. Не в подряснике, не в абсолютно седой голове и бороде — мало ли седобородых людей на свете… а в каком-то неуловимом качестве: это просто был другой человек, нежели сидевшие в зале. Он смотрел на нас, и многие почувствовали, что сама вечность смотрит на обезбоженный русский люд, жалея, скорбя и пытаясь затормозить наш суетный бессмысленный бег.
Мне захотелось сразу же отправиться к отцу Николаю на Талабский остров, переименованный в честь местного коммуниста в остров Залит. Но путь оказался долгим. Попал я на этот остров лишь через 10 лет. Зато вскоре главный редактор киностудии документальных фильмов Анатолий Никифоров попросил меня помочь режиссеру Дьяконову в работе над фильмом о старообрядцах. Мне было интересно потрудиться с создателем фильма «Храм». Общаться с исповедниками древляго Православия очень не просто. Но у меня уже был некоторый опыт работы в фольклорных экспедициях на Русском Севере и на Алтае. Экспедиция в Белые Криницы, где вместе со своими архиереями собрались многие сотни старообрядцев, оказалась невероятно сложной. Давать режиссеру советы по ходу съемок не удалось. Он был поглощен работой и ничего не слышал. Но это отдельная история. Главное — мы встретили носителей высокой духовности и словно побывали в допетровской Руси. А некоторые пожилые люди своей колоритной наружностью очень напомнили мне отца Николая Гурьянова.
В первый раз я поехал к отцу Николаю лет двадцать назад. По дороге завернул к одному молодому священнику, намереваясь упросить его составить мне компанию. У него было много проблем, и он нуждался в духовном совете. Поездка к отцу Николаю могла, по моему разумению, ему помочь. Несколько раз я приезжал к этому священнику на место его нового служения. Его часто переводили на разные приходы. Он писал стихи и песни, а я, как мог, поначалу распространял их в среде моих друзей и знакомых. Но в тот приезд, выслушав новые стихи, я неосторожно покритиковал некоторые места. Стилистические огрехи были очевидны, но, к моему удивлению, автор со мной не соглашался. Он очень огорчился и весь вечер пребывал в мрачном настроении. Наутро он был, как и накануне, угрюм. Я даже не стал ему говорить о задуманной поездке к старцу и, принеся массу извинений, отправился обратно в Петербург.
Второй раз к отцу Николаю я отправился с другим священником — отцом Михаилом Женочиным, служившим в Гдове. Отец Михаил постоянно прибегал к советам старца. Он считал, что обязан ему тем, что удалось построить храм, в котором он и настоятельствовал. До этого много лет отец Михаил служил в избе, перестроенной под церковь. Он тщетно пытался собрать деньги на постройку храма, который должен был стоять на своем прежнем историческом месте — в крепости. Церковь взорвали большевики, и даже фундамент было трудно найти. Раскопки вели в нескольких местах. Старожилы не могли толком показать нужное место. Говорили лишь, что на месте храма теперь танцплощадка. Площадка, к счастью, оказалась в стороне. Так что гдовичи не впрямую плясали на костях своих предков. А костей выкопал отец Михаил очень много: десяток гробов заполнил черепами и костями. Большевики устроили в подвалах церкви расстрельную камеру. Там же и закапывали трупы.
Народ во Гдове жил бедно. Спонсоры столичные объезжали этот городок стороной. Надежд на то, что появится благодетель, не было никаких. Правда, был один священник, с гордостью говоривший, что нужно уметь копить деньги. Служил он давно и не скрывал, что сумел накопить изрядную сумму. Но с отцом Михаилом он дружбы не водил. Так что тот и не смел попросить у него помощи. И вот отправился отец Михаил к отцу Николаю, стал сетовать на то, что никак не удается раздобыть денег. Фундамент храма найден. Проект, благодаря бескорыстной работе профессора Кирпичникова, готов, а к строительству приступить никак не удается. Отец Николай выслушал, помолчал с минуту и спрашивает: «А нет ли у тебя на примете какого-нибудь состоятельного человека?»
— Да есть один денежный мешок. Но он ничего не даст.
Тогда отец Николай вытащил из кошелька тысячерублевую купюру, перекрестил ее и говорит: «Ну, мешок, давай, раскрывайся».
Эту купюру он передал отцу Михаилу со словами: «Будешь строить. И построишь». А купить в ту пору на тысячу рублей можно было разве что несколько порций мороженого.
Вечером отец Михаил вернулся домой. Только он переступил порог, как раздался телефонный звонок. В трубке послышался знакомый голос: «Ну что, Миша, храм не строишь? Может, тебе денег дать?»
Это был тот самый «мешок». Развязался он сразу же по молитве отца Николая. А вскоре появился еще один человек, приславший несколько вагонов кирпича. И стройка пошла быстрыми темпами, так что вскоре можно было служить в одном из боковых приделов. Потом и столичные спонсоры объявились. Храм получился краше взорванного. Отец Михаил изучил лучшие образцы псковского храмостроительства и оговаривал с профессором Кирпичниковым малейшие детали строившегося храма, внося по ходу работ возможные усовершенствования проекта. У знаменитых псковских кузнецов Смирновых он заказал купольный крест и ряд напольных подсвечников. Лучшие иконописцы писали для него иконы. Каждую добытую копейку он вкладывал в храм. И теперь гдовский храм украшает еще недавно безликий провинциальный городок. А ведь когда-то Гдов славился своими мужественными защитниками и боголюбцами.
С этим отцом Михаилом мы отправились к отцу Николаю. Во Пскове заехали к кузнецу Смирнову. Он при нас заканчивал работу над подсвечником. Потом еще в несколько мест — храмовые нужды многого требуют. И на берегу озера оказались довольно поздно. У мостков, служивших причалом для моторных лодок, отправлявшихся на Залит, стояла одна лодка. Но нанять ее не удалось. Хозяин ждал гостей. Вскоре они объявились. Мы долго упрашивали хозяина лодки вернуться за нами, но он, сославшись на то, что в семейный праздник должен пировать с гостями, отказал нам, но обещал попытаться прислать кого-нибудь с острова. Ждали мы больше двух часов. Никто так и не приплыл за нами. Пришлось уехать во Гдов.
Вторая неудачная попытка надолго охладила мой пыл. Нужно было крепко подумать, отчего так произошло. То ли не было особой нужды беспокоить батюшку, то ли враг пугал, то ли недостоин был. Я знал, что к отцу Николаю часто попадают необъяснимыми путями. Один мой приятель стал его духовным чадом без преувеличения чудесным образом. Он был музыкантом и певцом. Когда началась перестройка, оставил жену и подался на Запад — счастья и денег искать. Познакомился с какой-то девицей и стал бродить с ней по европейским городам и весям. Уличными концертами зарабатывали на жизнь. Иной раз неплохо. И вот бредет он как-то по Мюнхену. И вдруг из окна небольшого домика его окликает кто-то по имени. Приятель мой удивился. Видит в окне седобородого старца. Тот улыбается и приглашает зайти. Зашел. Видит русского человека, сидящего под иконами. Напоил он его чаем со всякими немецкими плюшками и говорит: «Что ж ты, мил друг, со своей и чужой жизнью делаешь? Жену бросил, шляешься с блудницей по свету. Бесовские песни поешь. Бросай ты это дело и возвращайся к жене скорее. А то она помрет от тоски и на тебе грех будет великий». И рассказал этот старец моему приятелю про всю его жизнь и про все его срамные подвиги. А напоследок сказал, чтобы тот вернулся домой, стал петь в церковном хоре, а коли на гастроли потянет, то пусть поет народные песни и пишет духовные стихи. На удивленную реплику о том, что тот ничего о Церкви не знает и написать ничего духовного не сможет, старец сказал, что Господь поможет и чтобы он отправился во Псков, а оттуда на остров к отцу Николаю. Тот станет ему духовным отцом и поведет его по спасительному пути.
Мой приятель послушался совета и вернулся домой. Жена его простила. И отца Николая он без труда нашел. Господь открыл ему и глаза, и сердце и даровал талант. Песни духовные он теперь пишет замечательные и исполняет их с большим успехом.
У другого моего приятеля поездка к отцу Николаю получилась очень странною. Он был полковником и мог стать генералом. Но для этого нужно было кое-что сделать, что могло повредить его сослуживцам в аналогичном звании. Это его смутило. Просить совета было не у кого. С коллегами он по многим причинам говорить не мог. И сам долго не мог решить, что ему делать. Был он совершенно не церковным человеком, но узнал о «некоем чудотворце, к которому церковные люди приезжают для разрешения неразрешимых проблем». Добрые люди подсказали ему, как добраться до места на берегу, от которого начиналась переправа. Была зима. Лед еще стоял без промоин, так что одной опасностью — угодить под лед — было меньше. Но началась метель, и вскоре замело следы от автомобилей, по которым он шел. И вот тогда-то вспомнил полковник о Боге и стал, как мог, просить Господа помочь добраться к Его угоднику. Проплутав с полчаса, он наткнулся на берег вожделенного острова. Внезапно прекратилась метель. Он пошел в горку и, никого не спрашивая, добрел до батюшкиной избушки. Еще издали он увидел кружащих над одной крышей голубей. Туда и пошел. Но в избушку его не пустили. Строгая женщина хмуро посмотрела на него и заявила, что батюшка плохо себя чувствует и никого не принимает. Полковник попытался объяснить, что он издалека, из Петербурга, на что женщина хмыкнула: «Да к батюшке с Дальнего Востока приезжают. Тоже мне даль — Питер». От такого приема полковник смутился и отошел в сторону, не зная, что предпринять. Вскоре к нему подошла пожилая женщина из местных и пригласила зайти обогреться и попить чайку. Друг мой обрадовался приглашению. Он с легким сердцем оставил доброй женщине гостинцы, предназначавшиеся старцу, и, отогревшись, собрался в обратный путь. Он даже обрадовался оттого, что не пришлось рассказывать постороннему человеку о том, что нужно было предпринять для продвижения по службе. Подойдя к берегу, он увидел, как черный «мерседес» на приличной скорости угодил передними колесами в широкую щель, образовавшуюся между берегом и льдом. Из машины выскочили двое молодых людей в подрясниках. Один поглядел под днище и вернулся за руль, другой, подобрав подол подрясника, стал пытаться вытолкнуть автомобиль из ловушки. Мой полковник поспешил им на помощь. Но все было тщетно. Машина лежала на днище, и колеса проворачивались вхолостую.
— Господи, помоги! — взмолился тот, что был снаружи. — У нас так мало времени.
Потом он попросил полковника поискать трактор, обещая щедро отблагодарить. Тот побрел обратно к домам, а молодые люди, обогнав его, помчались к домику отца Николая. Трактора мой приятель не нашел, но вскоре наткнулся на хозяина армейского автобуса. Тот за умеренную плату вытащил «мерседес», и полковник с новыми знакомцами доехал благополучно до дома. Его попутчиками оказались семинаристы. Им удалось прорваться к отцу Николаю, и они сожалели о том, что не смогли помочь полковнику. Всю дорогу они отвечали на его вопросы. Дорога была неблизкая, и за без малого шесть часов мой приятель прошел первую в жизни катехизацию. О своей проблеме он не стал рассказывать молодым людям, но, задавая вопросы, получал ответы, косвенно имевшие отношение к его нравственным терзаниям.
Из армии мой приятель ушел, хотя начальство определилось насчет производства его в генералы. Даже без необходимости подсиживать коллег. Теперь он дьякон. Дочь его замужем за священником. А молодой человек, с которым они пытались вытолкнуть из ямы «мерседес», не так давно стал епископом.
Я как-то прочитал у одного современного философа парадоксальные рассуждения о том, что настоящей встрече должны предшествовать трагические обстоятельства. А «невстреча» может быть гораздо полезнее, чем встреча. В случае с моим полковником «невстреча» с отцом Николаем повлекла за собой ряд событий и обстоятельств, приведших его (в чем он абсолютно уверен) к единственно верному выходу из тогдашнего положения и для определения его дальнейшей судьбы. К отцу Николаю он отправился советским военным, а вернулся воином Христовым с четким пониманием нравственных законов и готовностью служить не за мирские блага, чины и звания, а во славу Божию.
Мои же «невстречи» с отцом Николаем я объяснял собственным окаянством и недостоинством. Правда, прибавился очень серьезный резон — я обрел замечательного духовника — отца Василия Ермакова, и нужда в поисках духовного совета отпала. Отец Василий удерживал своих чад от «духовного туризма». Если кто-то собирался в паломничество, то непременно спрашивал его благословения. Если отец Василий видел, что есть нужда в посещении той или иной обители, то благословение давал. Иным не давал, а вместо поездки в дальние края предлагал ходить к нему каждый день на литургию.
И все же к отцу Николаю я попал. Все с тем же отцом Михаилом. У него накопилось много вопросов. Неподалеку от его храма антропософы затеяли постройку целой деревни. И даже своего ставленника для пустовавшей церкви через каких-то людей порекомендовали архиерею. Отец Михаил очень переживал: своим мужикам нет дела до земли. Живут пребедно. А ведь до революции вдоль Чудского озера стояли богатейшие деревни. Просто беда: своим земля не нужна, а столичным еретикам сгодилась.
Были у отца Михаила еще вопросы к старцу. Меня он пригласил за компанию. У меня в тот момент особо важных проблем не было, а житейские я обсуждал с духовником.
В середине марта лед на озере некрепок. Нам пришлось внимательно разглядывать потемневшие участки. Ехали на всякий случай с открытыми дверями. Но добрались без происшествий. Подошли к батюшкиной избушке, потревожив полдюжины котов, сидевших на крылечке. Да голуби вспорхнули со штакетин забора. На входной двери висел большой амбарный замок. Но отец Михаил сказал, что это ничего не значит: «Батюшка дома». Мы долго стучали в дверь и прислушивались к звукам внутри домика. Было слышно негромкое шарканье. Отец Михаил приник головой к щели между дверью и притолокой и громко крикнул: «Батюшка, это я, священник Михаил из Гдова». Прошла минута, и слева от двери открылась форточка. В ней показалась седая голова батюшки. Он долго молча смотрел на нас. По щекам его текли слезы.
— Вот, Мишенька, запирают меня. А с кем это ты?
Отец Михаил представил меня. Я попросил батюшкиных молитв, извинился и отошел подальше, чтобы дать им возможность поговорить без посторонних ушей. Говорили они минут пятнадцать. Затем отец Михаил подозвал меня. Я ступил на крылечко, отец Михаил отошел вправо и шепнул мне: «Подойди, батюшка тебя помажет». Из форточки показалась кисточка, я приблизил лоб и почувствовал, как капелька масла потекла по переносице. Потом мы еще немного постояли с отцом Михаилом, глядя на удивительно доброе и скорбное лицо старца. По глубоким морщинам его щек текли слезы. Мы просили его молитв и кланялись, а он, благословляя, высунул дрожащую руку в форточку и перекрестил нас: «Помолитесь и вы обо мне».
Батюшкин лик стоит у меня перед глазами. Я не слышал от него мудрых советов. Мне не пришлось вести с ним долгих бесед, но та единственная встреча с ним, когда я видел его лицо и печальный, исполненный любви взгляд, запомнилась на всю жизнь. Как тут не вспомнить слова молитвы, обращенные ко Господу: «зрящих Твоего лица доброту неизреченную». Радость видеть Бога обещана нам в раю. Здесь же, на земле, нам дарована возможность видеть отблеск Божественной красоты на лицах Божиих угодников. Некоторых из них мне посчастливилось увидеть.
Здесь служил отец Серафим (Тяпочкин)
Как-то летом возвращался я из Краснодара в Петербург. Мой друг Виктор М. предложил заехать к нему в гости в Тулу, а заодно посетить Оптину пустынь. Я с радостью согласился. Спешить было некуда, и мы отправились по намеченному маршруту на его новом джипе. Миновали Ростов. И тут жена моего друга завела разговор о том, что давно не была у матери и не худо бы было сделать небольшой крюк и заехать к ней в Ракитное. Друг мой стал решительно возражать: крюк был немалый — верст 300-400. Стали спорить. Достали карту. Начали отсчитывать километры. У жены оказалось 200, у мужа — под 500. Видно было, что перспектива оказаться в объятиях тещи не очень его радовала:
— Ну ты, Зоя, даешь… Почему у тебя в два раза меньше, чем у меня, получилось?
— А почему у тебя в два раза больше?
Виктор задумался, подготавливая сокрушительный аргумент, но тут я вмешался в супружескую перепалку:
— Простите, а о каком Ракитном идет речь? Уж не о том ли, где служил отец Серафим (Тяпочкин)?
— То самое, — кивнула Зоя. — А ты о нем откуда знаешь?
Трудно не знать. Особенно после того, как ему приписали участие в истории с «Зоиным стоянием»: будто бы отец Серафим был тем самым священником, которому удалось взять из рук окаменевшей девушки икону Николая Угодника. Поговорили с Зоей о Зое, а потом я рассказал о том, как 30 лет назад мои московские друзья подарили мне фотографию отца Серафима. С тех пор она стоит на книжной полке над моим письменным столом и я постоянно ощущаю на себе его взгляд. Это удивительный взгляд. В нем поразительно сочетаются любовь и строгость. Посмотрев в глаза отца Серафима, понимаешь, что он знает, что происходит в твоей душе. Он словно говорит: «Мне известны все твои грехи и беды. Не отчаивайся, я помогу тебе».
Кто бы ни приходил ко мне, все сразу же обращали внимание на фотографию отца Серафима и спрашивали: «Кто этот человек?» Один мой знакомый шутник очень серьезно сказал: «Это чемпион мира по человеческому лицу. В нем страдание, сострадание, любовь и мудрость».
Друзья, сделавшие мне этот бесценный подарок, стали известными людьми. У тех, кто бывал в их доме и рассказывал об отце Серафиме, тоже удивительная судьба. Отец Зинон — замечательный иконописец, иеродиакон Димитрий теперь архиепископ, ныне покойный Геннадий Снегирев — один из лучших детских писателей.
К сожалению, я не помню всех рассказов об отце Серафиме. Запомнил лишь некоторые. Самый интересный я услыхал от жены Снегирева — Татьяны.
Отец Серафим после заключения и ссылки был направлен в один из самых глухих приходов Белгородчины. Храм был в страшном состоянии, но батюшка сразу же приступил к службе. Первое время на литургии не было ни одного человека. Но он не только не сокращал службы, но еще и проповеди говорил после литургии. Об этом рассказал односельчанам случайно забредший в храм человек. Земляки решили посмотреть на чудака-священника. А посмотрев, многие уже не покидали храма и образовали дружный приход. Вскоре в Ракитное потянулись духовные чада батюшки из Днепропетровской епархии, где он служил до ареста и недолгое время после возвращения из лагеря и ссылки. А через несколько лет весь русский православный мир знал об этом благодатном старце. К нему приезжали и из столицы, и с Камчатки, Кавказа и Средней Азии… Отца Серафима не раз навещал архимандрит Кирилл (Павлов), многие архиереи.
У меня был шанс увидеть его. Я мог напроситься к друзьям, отправлявшимся к батюшке. Но что-то помешало. Даже не помню что. Была возможность приехать на его похороны. Но я не решился, поскольку не собрался навестить его при жизни.
И все же меня почему-то не покидает чувство, что я видел его и говорил с ним. Каждое утро я встречаюсь с ним взглядом, здороваюсь и прошу благословить на день грядущий. Теперь он смотрит на меня не один. Рядом с ним фотографии моего покойного духовного отца Василия Ермакова и схиархимандрита Илия. Ему должно быть хорошо в этой компании.
Я замолчал и прильнул к окну. Мы обгоняли колонну комбайнов. На них были не наши номера и полумесяц на красном фоне.
— Это турки, — пояснил Виктор. — Едут с юга на север и убирают пшеницу. Мы их уже видели, когда ехали в Краснодар. Бригадир у них из бывших наших. Месхетинец. Комбайны американские. Убирают без потерь. И пьяниц нет. Так что турок предпочитают нашим.
Слушать такое было больно. Я повернулся к Виктору:
— Давай заедем в Ракитное и помолимся отцу Серафиму, чтобы русские крестьяне опомнились и стали работать так, чтобы никому не приходило в голову нанимать турок.
— И чтобы технику свою мы выпускали не хуже американской, чтобы начальники обратили внимание на свой народ и помогли возродить сельское хозяйство и чтобы деловые люди устроили хотя бы одну такую же подвижную бригаду из наших мужиков, — добавил Виктор.
Пока он говорил, о чем будет просить отца Серафима, Зоя уже звонила в Ракитное и радостно сообщала сестре, что мы вечером будем у них.
Мы свернули с трассы Москва-Ростов и поехали в направлении Белгорода. Дорога сразу же дала понять, что расслабляться за рулем не стоит. Я ожидал, что чем дальше мы удалимся от центральной трассы, тем дорога станет хуже. Но все вышло наоборот. Через два часа тряски по колдобинам мы покатили по ровному асфальту.
— Можно не смотреть на указатели, — сказал Виктор. — Сразу понятно, что мы в Белгородской области. Здесь не только дороги — здесь все устроено по-хозяйски.
И действительно. Вскоре я смог убедиться, что асфальтовые дороги проложены к каждой деревне и к каждому дому проведен магистральный газ. Все стволы деревьев вдоль дороги были побелены. Повсюду — и в самом Белгороде, и в небольших поселках — удивительная чистота. После Сочи, объявленного южной столицей, где чуть ли не под каждой пальмой набросаны горы мусора, меня особенно потрясли дорожные знаки: «До ближайшей помойки 200 метров». Мусорные баки там не только стоят у дороги, но из них еще и регулярно изымают содержимое.
Я представлял себе Ракитное совершенно иначе. Думал, увижу беленые хатки посреди степи, а оказалось, что там не только каменные добротные дома с садами и беседками, увитыми виноградом, но еще и сохранившийся дом князей Юсуповых, несколько красивых двухэтажных купеческих домов XIX века и в живописной ложбине между двумя холмами пруд с тремя фонтанами. Много современных зданий приличной архитектуры. Особенно выделяются Дворец молодежи и спортивный комплекс с бассейном. Далеко не во всяком городе у молодежи есть такие возможности для досуга и занятий спортом. На въезде в поселок стоит огромный ажурный кованый крест. Никольский храм, в котором служил с 1961 по 1982 год отец Серафим, отреставрирован. Двор засажен цветами. Батюшкина могилка — рядом с алтарной апсидой — вся в цветах. На могиле крест с домовиной. Прихожане и паломники первым делом прикладываются к нему, а потом уже идут в храм. Рядом с могилой на стене мемориальная доска в виде широкого креста из черного мрамора. А на ней батюшкин лик. Кажется, что он выплывает из черноты мрамора, свидетельствуя о том, что мрак не в силах поглотить свет. Это перевод на мрамор той самой фотографии отца Серафима, что стоит у меня на книжной полке.
В храме новый иконостас с иконами, написанными в каноне. На стенах большие иконы Богородицы и Николая Угодника хорошего письма. К сожалению, в тот приезд мы не застали настоятеля храма отца Николая. Но зато в следующий раз общение с ним было настоящим праздником. Я снова оказался в Ракитном благодаря Виктору. Он решил перебраться сюда. Благо дело, есть и дело и делатели. В Ракитном жизнь, что называется, кипит. Поля в округе засеяны, построены перерабатывающие комплексы, работает завод, планируются новые производственные затеи. Но я не стал вникать в их суть, поскольку был очевиден принцип. Есть у всей хозяйственной жизни голова, а она разумно взаимодействует со всеми членами. Белгородской губернии повезло с губернатором. А он, уже на районном уровне, подобрал деятельных, умных руководителей. И жизнь наладилась. Причем как наладилась! Я был в соседних губерниях — Орловской и Курской. Видел брошенные черноземные поля, зарастающие березами, фермы с проломленными крышами, разоренные деревни, в которых выходцев с Кавказа больше, чем коренных жителей. А здесь чистота, порядок и повсеместное созидание. Меня поразило общение со студентами. Вежливые, внимательные. За два часа лекции никакой болтовни с соседями, шушуканий, хруста попкорна и чипсов, опробования новой косметики под руководством опытной модницы — всего того, что сейчас повсеместно происходит в столичных студенческих аудиториях.
В Белгородской области и школьники вежливы. Выступая перед ними, я видел, с каким вниманием они слушают беседы на духовные темы. Здесь давно преподаются основы православной культуры, и результаты не замедлили проявиться. В области резко сократилось количество преступлений. Особенно в молодежной среде. Это я знал со времен первой поездки на Белгородчину.
В Ракитном я убедился в верности первых впечатлений. Здесь гораздо лучше, чем в других российских весях, но все же немало и проблем. Безбожное прошлое дает о себе знать. Мне рассказали о том, как во время переклички перед уроком основ православной культуры на вопрос учителя «кого нет?» один ученик — из главных заводил в классе — ответил: «Бога». Я видел этого молодого человека через полгода в храме. Он стоял на молебне по случаю открытия очередных «Серафимовских чтений» и молился вместе со всеми. А потом подошел к могиле отца Серафима и очень внимательно слушал отца Николая. Надеюсь, что больше он так шутить не будет.
Серафимовские чтения устроил отец Николай. С благословения белгородского владыки Иоанна они проводятся ежегодно. Во второе посещение Ракитного я получил приглашение принять в них участие.
Отец Николай подарил изданную им книгу об отце Серафиме (Тяпочкине). В ней собраны воспоминания его духовных чад. Собрав воедино некоторые свидетельства, можно составить целостную картину жизни отца Серафима.
До принятия монашества его звали Димитрием. Он родился в семье царского полковника, а глаза ему закрыл полковник советский — Герой Советского Союза Митрофан Дмитриевич Гребенкин. Но это был не лагерный начальник, а верное духовное чадо. Он сидел у изголовья своего умирающего духовного отца, два месяца не отходя от него ни на шаг. «Неусыпаемый ты мой», — называл его ласково отец Серафим.
Жизнь отца Серафима, ставшего священником при большевиках, объявивших войну Церкви, похожа на жизнь тысяч священнослужителей: сталинские гонения, смерть жены, детей, арест, долгий срок заключения в ГУЛАГе, мытарства по выходе на свободу, потом хрущевские гонения. И все же это особенная жизнь.
Еще в детстве на богослужении в духовном училище, куда взял его с собой отец, маленький Димитрий увидел икону преподобного Серафима Саровского. Он долго завороженно смотрел на лик святого, а потом сказал отцу: «Хочу быть таким». Люди, знавшие отца Серафима, говорят, что у него получилось. И имя Серафим, данное ему в монашеском постриге, далеко не случайно. С первых лет священнического служения он взял на себя подвиг добровольной бедности. Он никогда не брал денег за требы. Жил с женой и детьми в маленькой хатке с земляными полами. Когда его изгнали из храма, служил в домах. Служил и говорил проповеди вдохновенно, со слезами на глазах. Этот слезный дар никогда его не покидал. Говорили, что глубокие морщины на его лице — это русла слезных рек, пролитых им за болящих и грешников. Никто никогда не слыхал от него грубого слова, не видел его раздраженным. Даже провинившихся нерадивых работников он увещевал ровным голосом, без гнева. О лагерной жизни говорил мало, никогда не ругал своих истязателей. Когда закончился срок заключения, его спросили, чем он собирается заниматься на свободе». Он не раздумывая ответил: «Служить Богу». — «Ну, тогда посиди еще», — сказал начальник и добавил пять лет ссылки.
Отец Серафим никогда никого не осуждал. И другим не позволял. Властям очень не нравилось, что в Ракитное съезжается множество людей. Они «надавили» на правящего архиерея. Тот приехал с инспекцией и с амвона обратился к народу: «Что вы сюда ездите? Какую вы тут святыню нашли? Святыни есть повсюду». Духовные чада были очень огорчены. И когда во время трапезы Митрофан Гребенкин хотел сказать о том, что возмущен речью архиерея, отец Серафим опередил его: «Какой у нас хороший архиерей». Выждав некоторое время, Митрофан Дмитриевич снова хотел сказать об этом, но и на этот раз отец Серафим прервал его той же фразой. И так повторилось несколько раз. А вскоре архиерей, узнав батюшку поближе, подружился с ним и часто приезжал к нему. У него же он и исповедовался.
Батюшке была открыта дата его смерти. Он предупредил о ней некоторых чад. Одному близкому человеку, уезжавшему домой, он сказал, что тот через неделю вернется. Так и получилось. По молитвам батюшки исцелялись бесноватые. Есть множество задокументированных случаев исцеления от онкологических и прочих тяжелых болезней.
Для людей, хорошо знавших отца Серафима, его святость очевидна. Но в комиссии по канонизации нет единодушного мнения. Некоторых ее членов смущает то, что не сохранилось следственное дело отца Серафима. Но оно и не могло сохраниться. Днепропетровские областные архивы были вывезены немцами и частично уничтожены. Но коли нет дела, то могут оставаться сомнения: «А не отрекся ли он от Бога во время пыток? А вдруг кого оговорил?» Ведь всякое в застенках ЧК случалось. Там и маршалы рыдали, как дети.
Говорить о презумпции невиновности в данном случае не приходится. И все же и лагерная жизнь отца Серафима известна, и каждый день и час его жизни после освобождения прошел на виду. У него даже своей отдельной кельи не было. В его комнатку мог в любой момент войти алтарник или неожиданно приехавшие духовные чада.
Поразительно то, что ненависть днепропетровских большевиков к отцу Серафиму была больше, чем ненависть к фашистам. Война шла уже два месяца. Немец приближался к Днепропетровску, а власти затеяли над ним суд… А ведь было чем заняться убегавшим в глубокий тыл начальникам…
Что же касается трусости или отречения от Бога, то я боюсь, что ни Петр, ни прочие апостолы при таком подходе не имели бы никаких шансов быть прославленными. Фактов того, что отец Серафим отрекался от Бога, нет, а вот отречение Петра и трусость апостолов засвидетельствованы Евангелием. Мы поминаем царя Давида и всю кротость его, но не забываем о том, как он поступил с Вирсавией и ее мужем. Но главное все же — его раскаяние. В мировой поэзии нет более высокого и прекрасного стиха о сердце сокрушенном, содрогающемся от осознания глубины своего греховного падения, чем 50-й псалом. И мы знаем, что «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».
Да, никто не видел следственного дела отца Серафима (Тяпочкина), но тысячи людей видели его слезы. Эти слезы он каждый день проливал за свои и наши грехи.
В третий раз я приехал в Ракитное 18 сентября 2010 года. Приехал поздно, и меня положили в гостиной семейного дома, в котором живут пятеро детей, усыновленных нынешним настоятелем Никольского храма отцом Николаем. На следующее утро было назначено открытие «Серафимовских чтений», посвященных проблеме сохранения традиций.
Я проснулся рано и вышел из дома. Моросил мелкий дождь. Было сыро и холодно. Я хотел подойти к могилке отца Серафима, но остался на крыльце. У могилки на коленях стояла молодая девушка. Она о чем-то слезно молила батюшку Серафима, часто крестилась и отбивала земные поклоны. Чтобы не смущать ее, я вернулся в дом. Выглянув в кухонное окно через четверть часа, я увидел ее в том же положении.
Дождь между тем усилился. Через некоторое время к могилке подошли трое молодых людей. Девушка встала, перекрестилась и быстро пошла к калитке, а трое молодых людей открыли зонт, достали книжку и стали молиться — очевидно, это был акафист. Вскоре появились другие люди: и пожилые, и молодые. К кресту подходили группами и поодиночке. Молодые люди чуть отошли в сторонку. Я с полчаса наблюдал за непрерывным потоком паломников, пока помощник отца Николая не позвал меня, сказав, что батюшка приглашает выпить чаю.
За воротами стояло с десяток автомобилей. На одном из них были немецкие номера. Я спросил отца Николая, всегда ли бывает столько паломников.
— Иногда бывает и больше, — улыбнулся он.
К моменту приезда архиерея храм был полон. Большая толпа стояла во дворе. После молебна все переместились во Дворец молодежи, где и проходили чтения.
Первым выступил владыка Иоанн. Я тезисно записал основную часть его доклада. Он сказал, что в основе народных традиций лежат традиции духовные, церковные. Главная черта христианина — это любовь к Богу, ближнему, Отечеству и всему Божьему творению. Эта ставшая для нашего народа традицией любовь методично и постоянно попирается средствами массовой информации. Удивительное качество русской души — терпение. Эта христианская добродетель недобросовестно эксплуатируется. Но мы продолжаем терпеть. В эпоху перемен, когда разрушаются привычные устои, Церковь остается островом стабильности и надежды. В деле спасения души Церковь выработала определенные формы, от которых никоим образом нельзя отказываться. Церковные традиции помогают людям обрести истинные ориентиры, распознать, где благо, а где зло, рядящееся в красивые одежды. Православные люди — это соль земли. А соль сохраняет от тления, придает вкус. Традиции — это образ мысли и жизни. Они помогают людям устоять от соблазнов, избавиться от скверны. Это некий генетический код, имеющий христианскую основу. Без этой основы легко сбиться на кликушество, политиканство и большевизм. Нужно научиться понимать, что есть воля Божия о человеке, о стране и мире. Иначе мы не сможем выполнить возложенную на нас миссию. Без христианской любви мы ничто. Медь звенящая. Обретая опыт богообщения и любви, мы должны помнить, что нам предстоит передать его грядущим поколениям.
В последующих докладах было много интересного. По официальным данным, в Белгородской области в 1989 году православными себя назвали 30% населения. В 2010 — 64%, а покрестили в 2009 году 14300 младенцев из 14536 родившихся, то есть 98%.
Руководитель по делам молодежи рассказала о работе отдела духовно-нравственного воспитания. В области проводится множество фестивалей. Есть и фестиваль православных молодых семей. Празднуют дни любви и верности. Устраивают различные экологические акции, конкурсы и соревнования. Возобновлена работа молодежных стройотрядов, в которые не так просто попасть: желающих потрудиться на многочисленных стройках и на сельхозработах в студенческой среде немало. Один студент сказал мне, что у них не найти лозунга «Бери от жизни всё!» Мы знаем, что блаженнее давать, нежели брать.
Знает об этом и школьница Анна Будянская (в этот день были ее именины — память Иоакима и Анны). Она рассказала о своем понимании традиций. Она из потомственных крестьян и гордится тем, что ее предки много веков кормили и продолжают кормить русский народ. В их семье даже при коммунистах главными праздниками были Пасха, Рождество и Троица. А она в свои 15 лет готова сопротивляться духу времени и делать все для того, чтобы стать полезным для общества человеком и хорошей матерью. Она собирается нарожать столько детей, сколько Бог даст. А традиции нужны еще и потому, что без них мы не сможем наследовать жизнь вечную.
Я слушал эту девочку и думал о том, как ее рассуждения о крестьянском труде не похожи на то, что Россия слышит целый век. При советской власти рассказывали о безликих трудягах, намолотивших несметное количество злаков, и что-то такое о зяби и озимых, о закромах Родины, в которые вваливали дары земли и откуда они почему-то не хотели выходить на свет Божий на горе тем, кто хотел их употребить. Потом, в перестроечные годы, — об «агрогулаге», который нужно непременно развалить. Что и сделали. А теперь — о деньгах и инвестициях (очень похоже на инквизицию). Эта девочка говорила о человеке. О его месте на земле под Богом и рядом с Богом. Она говорила о радости простого труда как о высокой поэзии, а не как о постылой принудиловке. И я поверил ей. И порадовался за нее. Эта девочка любит свою землю и не бросит ее. Она станет хорошим агрономом и продолжит вековые традиции своих предков. И детей ей пошлет Господь. Здоровых, честных и работящих…
После нее выступил мудрый человек, рассказавший о том, как должно строиться гражданское общество в русских городах и весях. Особенно интересно в весях, где все знают друг друга. Повсюду, даже в самой маленькой деревеньке, нужно организовать общинное сообщество, руководимое уважаемыми людьми, с целью обустройства общественной и хозяйственной жизни. Сейчас не на кого опереться для проведения добрых дел. Разбойники объединены в преступные организации. Добропорядочные же граждане не имеют своих объединений. Общинные сообщества можно назвать «советами», где главным лозунгом будет «совет да любовь». Христианские принципы могут помочь преодолеть атомизацию общества. Эти советы будут действовать на всех уровнях — и на районном, и на областном. Через них можно будет оказывать ту самую крестьянскую «помочь», благодаря которой жила веками русская деревня. И от стихийных бедствий спасались, и реки чистили, и дома молодоженам всем миром ставили, и за вдовами и сиротами догляд осуществляли.
Главное в общественной жизни — побуждение к добрым делам. В основе русской цивилизации лежит Православие. Поэтому общественная жизнь должна организовываться вокруг Церкви. Приходской жизни нужно стать более активной и быть примером и действенным сегментом жизни таких советов. Местная власть будет иметь реальную силу, на которую всегда сможет опереться.
Идей на этих чтениях было высказано немало. И главное — они все были жизненными и вполне осуществимыми. Некоторые положения уже воплощаются в жизнь. Мне пришлось бывать на многих конференциях, и всякий раз меня не покидала мысль: замечательно поговорили, тем дело и кончится. Но в Ракитном я видел, что за словом последует дело. Эти чтения были не «мероприятием какого-то отдела с целью отчитаться перед начальством за отчетный период», а реальным духовно-общественным действом. И молебен перед его началом, и сама атмосфера, и глубина тем, и очевидный настрой на созидательную работу говорили о том, что это действо не пройдет втуне. Отец Николай уже во время этих чтений стал договариваться о конкретных делах. Его не устраивают «протоколы о намерениях». Он сразу же «подписывает договоры» и приступает к делу.
Я сидел в зале, слушал докладчиков и искренно радовался за жителей Ракитного. Немного найдется в современной России сельских клубов, где проводятся такие замечательные и так необходимые разговоры о путях налаживания жизни, основанной на национальных духовных традициях. В президиуме сидел взволнованный и радостный отец Николай, а над его головой ласково и загадочно смотрел на нас отец Серафим (Тяпочкин). Это была та же самая, но только во много раз увеличенная фотография, которую мне подарили тридцать лет назад.
Сорок мучеников
А вот этот ангелочек у нас был самым любимым, — матушка Лидия остановилась у памятника.
Мраморный младенец лежал на высоком постаменте, укрытый толстым снеговым покрывалом.
— Летом мы веночки плели и клали ему на головку. Я из желтых одуванчиков плела. Надо же, сохранился.
Матушка вздохнула, улыбнулась и пошла вдоль могил по направлению к Воскресенскому храму.
Не доходя до него она остановилась возле гранитного валуна и стала сметать рукавицей снег. Обнажились зарубки, как на стиральной доске.
— Вот по этой лесенке мы лазали. Вот они, ступенечки. Какими мы были маленькими, а ведь ходили по ним. До самого крестика. Это называлось лесенкой на небо. Взойдешь — и спасешься.
Ступеньки и вправду были маленькими — сантиметра два в высоту и не больше десяти в ширину. Да и сам камень был невелик — не более полуметра в высоту. Крест на нем был явно из современного легкого сплава. Прежний, разумеется, был сбит.
Матушка часто крестилась, вытирала слезы и вполголоса произносила молитвы об упокоении «зде лежащих и повсюду…» Кто лежит под этим камнем, она не знала. Возможно, имя и сохранилось, высеченное где-нибудь сбоку от лесенки, но под снегом его не разглядеть.
— А вот могилы Сабуровой — актрисы — нет. А она была самая добрая. Всегда с конфетами приходила. Мы, бывало, бежим за ней, а она нас конфетами и пряниками угощает. Очень мы ее любили. Жаль, что могилки ее нет. Вот здесь она была. И еще несколько богатых памятников рядом с ней было из мрамора. Все порушили…
Мы стояли у забора, отделявшего Воскресенский храм от кладбища. Где-то здесь, под нашими ногами, находились останки тех, кто освещал светом любви тяжелое детство нашей попутчицы. Странно было слушать ее рассказы о детских играх на кладбище, о любимых могилах, тропках между могил, по которым она в детстве бегала к часовням блаженных Анны и Ирины, о радостях встреч с щедрыми родственниками усопших, совавших голодным детям сласти и денежку, об играх в прятки и об укромных уголках — склепах и заросших кустами забытых могилах. Ей и ее сверстникам не было дела до царских сановников, знаменитых писателей, путешественников и ученых, покоившихся здесь. У них были свои «любимые герои», своя летопись, своя кладбищенская география.
Вслед за взрослыми дети пересказывали друг другу истории о блаженной Ксении и о чудесах, совершавшихся по молитвам к ней, о несчастной любви с «летальным исходом», об убиенных ревнивыми мужьями женах, о богатом вдовце, решившем поставить такой памятник на могиле своей супруги, чтобы никто не прошел мимо не перекрестившись и не помянув ее…
Но была одна история, которую матушка Лидия хранила всю жизнь, как великую тайну…
Она родилась и до самой войны жила в служебной квартире над кладбищенскими воротами. Ее отец был могильщиком. Он умер в тридцать пять лет и оставил вдову с пятью детьми. Как они выжили — одному Богу ведомо. Помогал им настоятель Смоленской церкви отец Михаил Гундяев — отец митрополита Кирилла (нынешнего патриарха. — Прим. ред.). Мать денно и нощно молилась у часовни блаженной Ксении. Ей подавали милостыню, и она, сгорая от стыда, принимала ее. Младший брат Лидии — единственный не знавший голода — всегда был при могильщиках, и его постоянно угощали поминальной кутьей. Старшие братья помогали мастерам изготовлять кресты и надгробия…
Однажды ночью Лиду разбудили громкие рыданья. Это была соседка — кладбищенский сторож. Она стояла у порога и, пересиливая рыданья, говорила матери: «Страх-то какой! Привезли целый воронок монахов и батюшек и побросали живых в яму. Земля там ходуном ходит».
Наутро Лида видела множество милиционеров. Они стояли слева от центральной аллеи, окружив огромный участок кладбища, и никого не пускали. А именно там находилась Каштановая дорожка, по которой каждое утро она бегала к часовне блаженной Анны. Накануне она видела, как могильщики копали огромную яму. Это была не просто яма, а целый котлован.
Оцепление сняли только через несколько дней. Соседи говорили, что милиция ушла лишь после того, как земля перестала шевелиться.
На этом месте сделали большой холм из дерна. Но могильщикам было приказано его убрать. Они выполнили приказание, но холм появился снова. Так продолжалось долго. Народ ходил на место злодейской казни, по обычаю, укоренившемуся в православном народе, набирал земельку с могилы мучеников.
О сорока мучениках знал весь православный Петербург. Власти делали все для того, чтобы о них поскорее забыли, и приказали положить на это место бетонные плиты.
В сороковом году семью Лидии переселили в другую квартиру, и она перестала бывать на кладбище.
Потом война, после войны замужество… Связь с бывшими соседями прервалась. Кого убили, кто умер в блокаду.
Само кладбище подверглось разорению. С левой стороны дважды захватывал территорию завод. Некоторые захоронения перенесли на новое место, но большую часть могил попросту уничтожили. Сбивали с памятников православные кресты, многие дорогие памятники бесследно исчезли. На месте часовни блаженной Анны вырос огромный заводской корпус, а на месте захоронения сорока мучеников разбили площадку для техники. Невдалеке от часовни блаженной Ксении Петербургской появилась могила с крестом и надписью о том, что там погребены останки сорока мучеников. У этой могилы служат панихиды, возжигают свечи. На нее кладут цветы.
Память об этих мучениках жива. Но совершенно очевидно, что на участке в два квадратных метра, плотно окруженном старыми могилами, похоронить сорок человек невозможно. Да и не могли власти позволить переносить останки тех, кого убивали под покровом ночи как злейших врагов большевистской власти.
Матушка Лидия приходила сюда и вместе со всеми молилась об упокоении мучеников. Воспринимала этот крест как памятный знак. О настоящем месте их захоронения никому не рассказывала. Но однажды ее знакомая (назовем ее матушкой Татьяной, поскольку она просила не называть своего настоящего имени) рассказала ей о тайне, которую поведал ей перед смертью прихожанин церкви иконы Смоленской Божией матери Сергей Ефимович Сухарев. Он служил в НКВД и доподлинно знал, где заживо погребены священники и монахи. Знал он, что власти делали все, чтобы об этом месте поскорее забыли.
Нужно было как-то его отметить. Сухарев воспользовался «похоронкой» своего друга — Григория Копылова, погибшего в 1943 году, и поставил ему на месте погребения сорока мучеников памятник — крест и плиту с выбитыми на ней фамилией, именем и датой гибели. Матушку Татьяну он попросил рассказать правду только тому, кто будет готов потрудиться прославить страдальцев за Христа.
Несколько лет она присматривалась к прихожанам своего храма, пока наконец не увидела Александра С. Она и сама не поняла, почему решила рассказать именно ему о месте погребения сорока мучеников.
«Видно, так Богу угодно», — сказала она Александру, когда он спросил ее об этом.
— Ну, ежели Богу угодно, придется потрудиться.
Они нашли имитацию могилы Григория Копылова, Александр заказал большой кованый крест и поставил его вместо старого. Никакой надписи на нем нет, ибо имена страдальцев лишь Господь ведает.
А чтобы удостовериться в том, что это действительно то самое место, Александр решил устроить «следственный эксперимент» — попросил матушку Лидию показать ему место, где были захоронены мученики. Она не была уверена, что найдет его: «Там ведь завод стоит и все разорено». Но Александр упросил ее попытаться найти. Меня он попросил снять этот эксперимент на видеокамеру.
Мы встретились у ворот Смоленского кладбища. Матушка показала нам два окна их бывшей квартиры, потом мы вошли в дверь, находящуюся справа под аркой. Поднялись на второй этаж. Прошли через крошечную каморку в комнату не более шестнадцати квадратных метров.
— Вот тут мы все и жили. С отцом всемером. Мальчишки спали на кухне. — Она кивнула в сторону каморки. — Так и жили, а что поделаешь…
Мы спустились, прошли под мемориальной доской с барельефом Пушкинской няни, повернули налево.
— Вот здесь была тропинка. Сторожку снесли. А здесь держали собак.
Матушка показала рукой в сторону времянок, стоящих вдоль центральной аллеи.
— Кладбище охраняли строго. На ночь запирали и пускали собак. Безобразий на кладбище не было… Не то что сейчас… И могильщики Бога боялись.
Сочувствовали родственникам покойных. Не вымогали денег. Пить, конечно, пили. Вернее, выпивали, но не очень. У меня крестный был могильщик. Добрый, ласковый. Всегда угощал. Я его никогда пьяным не видела. Слова худого никогда от могильщиков не слыхала. Брани матерной на кладбище не было никакой. Греха боялись…
Александр медленно шел следом, я брел по параллельной тропинке шагах в пяти, снимая матушку и слушая ее свидетельства о былых временах, когда все было гораздо лучше, чем сейчас. Рассуждая о том, что раньше не было нынешних безобразий, матушка напряженно всматривалась в уцелевшие памятники, стараясь определить место, где произошло такое безобразие, о каком без содрогания нельзя и подумать.
Она остановилась, оглянулась по сторонам.
— Все верно. Вот эти деревья. Как раньше стоят. И эти склепы… Вот эти два. Все на месте. Теперь вот туда, к блаженной Анне.
Она сделала еще несколько шагов и замерла, растерянно посмотрела на площадку с тракторами и прицепами, потом посмотрела на бетонный забор, за которым возвышалась громада заводского корпуса. Оглянулась на Смоленскую церковь, постояла с минуту в раздумье.
— Да вот, пожалуй, здесь была яма.
Она подошла к кресту, установленному Александром.
— Точно, здесь. Вот там была часовенка блаженной Анны, — она махнула рукой в сторону завода. — Церковь за спиной справа… Точно. Здесь.
Мы молча перекрестились и приложились ко кресту. Матушка запела «Со святыми упокой», потом вздохнула и тихо сказала: «Если Господь поможет и откроет нам их имена, будем молиться им, как святым угодникам Божиим. Хотя я и так им молюсь, не зная их имен. Ведь они мученики. За Христа пострадали».
Пока мы стояли у креста, тяжелые тучи, несколько недель низко висевшие над городом, бесследно исчезли. Показалось солнце. Но пока мы шли к часовне Ксении блаженной, серые облака снова затянули небо. Матушка показала глазами на небо и по-детски улыбнулась…
Отец Симеон (Нестеренко)
25 декабря, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, в сочинских храмах после литургии отслужили панихиды по схиархимандриту Симеону (Нестеренко; 1920-2010). А в Михаило-Архангельском соборе и церкви Великомученика и Победоносца Георгия сестры организованной отцом Симеоном общины устроили поминальную трапезу. Один из приглашенных священников удивился:
— Почему вы раньше времени сороковины отмечаете?
— Это не сороковины, а двадцать дней — половина сороковин, — ответила одна из матушек.
— Кто это вас надоумил?
— Любовь, — улыбнулась матушка.
— Никогда не слыхал, чтобы двадцатый день отмечали, как девятый и сороковой. Нигде это не принято.
— А в Глинской пустыни принято.
Отец Симеон был воспитанником этой знаменитой обители. Он пришел в нее совсем молодым и до самой кончины бережно хранил усвоенные на всю жизнь уроки. Он окормлялся опытными старцами, такими, как прославленные в лике святых схиархимандриты Андроник, Зиновий, Серафим (Романцов), и обрел главную христианскую добродетель — любовь. Любовь к Богу и ближним. Именно этим объясняется ответная, поистине всенародная любовь, которой отец Симеон был окружен в последние десятилетия своей жизни. К нему приезжали за духовным советом люди из ближних и дальних весей России. Приезжали православные и из других стран. Как сказал один из духовных чад батюшки, «в его маленькой келье перебывало больше народу, чем во Дворце съездов».
Даже в последние годы — а отец Симеон прожил 90 лет, — когда из-за тяжелейшей болезни и нескольких перенесенных инсультов он не мог, как прежде, беседовать с посетителями, люди приезжали к нему, чтобы просто побыть рядом, рассказать ему, немощному, о своих немощах и бедах и уйти умиротворенными и успокоенными. До последнего вздоха он молился о своих духовных чадах и гибнущем в грехах и пороках мире. Сестры его общины, проведшие подле него полвека, знали о его постоянном подвиге, о непрерывающейся ни на миг молитве. Тем, кто мало знал батюшку, трудно было поверить в то, что прикованный к постели старец, не всегда узнававший приходивших к нему людей, пребывал в постоянном богообщении.
Я, грешным делом, тоже сомневался, пока за два месяца до его кончины не получил удивительный опыт общения без слов. Я простоял у изголовья батюшки на коленях минут десять. Он держал мою руку в своей руке, и я почувствовал, как его тепло проникает в мое сердце. Я не мог сдержать слез. Это безмолвное пребывание подле него было моим покаянием и его благословением. Происходило исполнение просимого у Господа очищения сердца. Я физически ощутил силу его молитвы и что «дух прав» по его молитве «обновляется во утробе моей».
Отец Симеон скончался 6 декабря, но до этого он умирал неоднократно. Всякий раз Господь возвращал его по молитвам Церкви и его бесчисленных духовных детей. Батюшка рассказал об одном таком умирании.
Однажды после тяжелейшего приступа он почувствовал, что душа его покинула тело. Он увидел огромный вокзал, из которого постоянно отбывали люди. Его охватило беспокойство оттого, что у него не было билета. Вдруг он увидел монаха, с которым в молодости сильно повздорил, а потом всю жизнь об этом горько сожалел. Батюшка стал просить у него прощения, а тот повел его по длинной улице и стал показывать дома, в которых пребывали ушедшие из жизни монахи Глинской пустыни.
— А это твой, — сказал он, остановившись у недостроенного дома. Там было лишь три стены без крыши.
— Да как же я в нем жить буду? — спросил отец Симеон.
— Пока никак. А вот достроим — тогда позовем, — ответил монах. — А пока возвращайся.
В тот же миг батюшка почувствовал, как душа возвращается в тело, и снова испытал сильнейшую боль.
А болел он с юности. И трудиться ему пришлось с ранних лет. У него было четыре брата и три сестры. Отец бросил их, когда младшие дети были совсем маленькими. Пришлось Симеону «идти в люди», чтобы прокормить братьев и сестер, оставшихся без кормильца. Он пас коров и овец у зажиточных соседей.
Однажды он босой угнал стадо далеко в поле. Неожиданно ударил мороз. Пока добрался до дома хозяев, отморозил ноги. С этих пор начались его муки. Симеон переносил их с поразительным терпением. Ноги почернели и опухли. Из гноящихся ран выходили осколки костей. Ему доставляли мучения даже малейшие колебания пола, когда кто-то проходил рядом. Но он утешал себя воспоминаниями о Христовых страданиях и терпении многострадального Иова. Три года он пролежал в больнице. Его подлечили, но болезнь постоянно давала о себе знать частыми обострениями.
Жил он в селе Береза в 14 километрах от Глинской пустыни. Как только ее открыли, поспешил вступить в число братии. Несколько лет выполнял разные послушания: пел на клиросе, работал на кухне, ухаживал за слепым старцем Никодимом. В 1951 году на Иоанна Богослова Симеон был рукоположен во диакона, а 27 октября 1952 года его постригли в мантию с сохранением имени Симеон. Обитель была бедной. Причиной бедности были огромные налоги, которые на монастырь налагала советская власть. Монахи Глинской пустыни голодали, но, уповая на Царицу Небесную, за все благодарили Бога и безропотно несли свой крест. Отец Симеон часто болел. После принятия священнического сана ему приходилось вести долгие монастырские службы. Больные ноги не выдерживали нагрузок. Воспалялись они и при частых простудах. С каждым годом ему становилось все труднее служить и передвигаться. При хрущевских гонениях на Церковь его сначала отправили на сельский приход, а потом, после недолгого возвращения, изгнали из Глинской пустыни. Пока он служил на приходе, снова разболелись ноги. Чтобы успеть на утреннюю службу, он с вечера полз на животе от хатки, в которой его разместили, до церкви. Но как только он оказывался в церкви, Господь давал ему силы, он вставал и служил литургию. Прихожане и не знали, чего ему это стоило. Некоторые, видя его ползущим по земле, смеялись: «Вот до чего напился! Уже и на ногах не стоит».
Изгнали отца Симеона из Глинской пустыни за сугубое усердие. С первых лет пребывания в обители у него обнаружились многие духовные дарования. К молодому иеромонаху приходило такое же множество людей, как и к умудренным старцам. Это не могло не вызвать ярости светских властей. Несмотря на то что патриарх Алексий приказал вернуть отца Симеона в пустынь, уполномоченный по делам религии не допустил его возвращения. Глинские старцы посоветовали ему уехать на Кавказ.
Отец Симеон получил назначение от Сухумского архиепископа Леонида в селение Лыхны. Там он начал служить в полуразрушенном храме Покрова Пресвятой Богородицы Х-Х1 веков. Местные жители были поражены тем, что отец Симеон не брал денег за требы. Они видели его бескорыстные труды и очень скоро полюбили своего нового пастыря. К нему стали приезжать духовные чада с Украины, из Москвы и других городов и весей. Они помогли обзавестись необходимой утварью, постепенно восстановили храм.
Его полюбил Грузинский патриарх Илия. Он неоднократно навещал его в Лыхнах и Гудауте, где отцу Симеону удалось приобрести половину дома. Здесь образовалась монашеская община из сестер, прислуживавших в храме. Несколько монахинь этой общины никогда не покидали отца Симеона и оставались при нем до последних его дней.
Несмотря на постоянные хвори, отец Симеон добрался до горного селения Псху, в котором обосновалось много монахов, и некоторое время жил с ними. Отсюда он поднимался в труднодоступные места, где скрывались отшельники, чтобы причастить старых монахов — тех, кто по немощи уже не мог спуститься с гор, и тех, кто навсегда удалился из мира и никогда не покидал своих келлий. Проходя узкими тропами над пропастями, он трижды чудом избежал гибели.
Батюшка полюбил этот край — удел Божией Матери, но жить здесь было непросто. Власти постоянно следили за ним, подсылали соглядатаев. Однажды его подвергли ночному допросу, выясняя его отношение к власти. Убедившись в том, что политика отца Симеона совсем не интересует и что он, по слову апостола, не только не борется с властью, но еще и молится о ней, просили его не оставлять молитв. Особенно трудно пришлось, когда стали разжигать вражду между грузинами и абхазами, перешедшую в настоящую войну. Батюшку угрозами принуждали встать на одну из сторон. Он отказался и молился об установлении мира. Но не мир нужен был тем, кто разжигал эту войну. Батюшке пришлось покинуть Гудауту и перебраться в Сочи.
Здесь скоро о нем узнал весь город, а затем и весь Краснодарский край. К нему стал наведываться Кубанский митрополит Исидор, знавший отца Симеона еще в Глинской пустыни. Посещали его и многие другие архиереи.
Нуждающихся в духовном окормлении становилось все больше. Когда к почаевскому старцу Кукше приезжали паломники с Кубани, тот говорил им: «Зачем вы ко мне приехали, когда у вас есть свой старец Симеон?» С 1975 года он уже не мог самостоятельно ходить. Пришлось передвигаться на инвалидной коляске. Он постоянно претерпевал сильные боли, но никогда не говорил о своих страданиях. Иногда шутил: «Я-то что… Я барин. Лежу себе на мягких постелях. За мной ухаживают, а вот монах Иов в Глинской пустыни ходил с полными сапогами гноя. Вот у кого ноги болели. Но он никогда не лечился, и никто за ним не ухаживал».
Сам батюшка тоже прибегал к врачебной помощи лишь в крайних случаях. Таблетки принимал при врачах, чтобы их не обидеть, а потом велел лекарства выбрасывать. Страдания он воспринимал как посланное Богом испытание. И старался выдержать его без ропота, проявляя удивительное смирение и терпение. Он часто повторял слова Антония Великого: «Скорбями обретаем Бога». Имя Симеон, данное ему в крещении в честь Симеона Столпника, было сохранено при постриге, но уже в честь Симеона Верхотурского. Однако он никогда не оставлял своего «столпничества» и никогда не просил у Господа позволения оставить этот подвиг.
Современному человеку при нынешнем культе здорового тела, когда со всех сторон видишь рекламу новейших лекарств и способов сохранить активность и бодрость до глубокой старости, трудно понять подвиг отца Симеона. Он отказывался принимать обезболивающие лекарства и добровольно переносил страдания во искупление грехов, как своих, так и духовных чад, о которых непрестанно молился.
Когда видишь брошенных стариков и инвалидов и то, с каким трудом больницы находят санитарок для ухода за болящими, становится очевидным, что людей, готовых ухаживать за обезноженным отцом Симеоном, посылал не кто иной, как Сам Господь. В общину приходили новые сестры, появились помощники и из братьев. Двое тогда еще довольно молодых людей стали добровольно возить батюшку в церковь. Один из них был отставным морским офицером, другой — инженером-строителем. В приобретенном микроавтобусе они провезли батюшку по вновь открытым обителям. Посетили родину отца Симеона и родную Глинскую пустынь. Побывали в Москве у блаженной Матронушки, у преподобного Сергия Радонежского, в Дивееве у преподобного Серафима Саровского, в других знаменитых монастырях, добрались до екатеринбургских пределов, где подвизался небесный покровитель батюшки Симеон Верхотурский. Эти поездки были очень утомительны для батюшки, но это было не просто паломничество по святым местам. Отец Симеон приезжал поклониться великим русским святым, а его духовные чада и люди, с которыми он встречался во время этих поездок, имели возможность общения с живым праведником и продолжателем великих православных традиций.
Батюшка был очень прост в общении. Принимал всех ласково, кормил и наставлял сестер всегда проявлять милость и никогда не быть грубыми с посетителями: «Доброе слово лечит лучше всяких лекарств». Когда к нему приходили люди в надежде увидеть мудрого златоуста, он сразу прозревал их желание и говорил: «За умными беседами идите к академикам. А ко мне, пожалуйста, только с простыми вопросами».
Он не любил пустого смехотворства, сам же обладал хорошим чувством юмора и часто шутками и прибаутками скрывал свою прозорливость и уходил от бестактных вопросов. Он очень удачно отшучивался, когда нецерковные люди хотели поставить его в неловкое положение. Не любил он и чрезмерного проявления почитания.
Вот один из диалогов с назойливыми посетителями.
Ему умильно говорят:
— Батюшка, как нам с вами хорошо!
А он отвечает:
— А чего ж вы не скачете от радости?!
— Батюшка, родненький…
— Родненький,да голодненький.
— А вы поешьте.
— А у меня рот уснул.
— Надо кушать, а то ноги протянете.
— А я и так протянул. Меня на коляске возят.
Однажды пришла к батюшке девица и стала ему перечить. Он ей одно, а она другое. Батюшке надоело это дело, поглядел он на нее и говорит:
— У тебя золото есть?
— Есть.
— Покажи.
— Вот сережки и колечко.
— И все?
— Все.
— Это мало. Вот когда у тебя будет мешок золота, тогда приходи, и поговорим. А до тех пор не появляйся.
Привели как-то к отцу Симеону молодого милиционера. Батюшка посмотрел на него и спрашивает:
— У тебя пистолет есть?
— Есть.
— Убивал из него людей?
— Нет.
— И кандалы есть?
— Кандалов нет. Есть наручники.
— И красная книжка есть?
— Есть.
— А для чего живешь, знаешь?
Милиционер опешил:
— Расскажи, батюшка.
И батюшка рассказал. Долго беседовали они. А когда милиционер ушел, отец Симеон сказал матушкам: «Попом будет». Так и произошло. Сейчас этот милиционер священник и служит в одном из сочинских храмов.
Батюшка никогда не боялся свидетельствовать о Христе. Даже в самый разгар антирелигиозной борьбы он всегда ходил в подряснике. Ему часто приходилось выслушивать злобные хульные тирады. Особенно непросто приходилось в поездах, когда некуда деться от попутчиков.
Однажды он оказался в купе с двумя женщинами. Одна из них стала громко говорить о том, что «попы жулики и бездельники и ничего не знают».
Батюшка посмотрел на нее с сожалением, вздохнул и говорит:
— Кое-что все-таки знаем. А скажите, сколько у вас детей?
— Двое.
— Двое — это те, что уцелели. А пятерых вы в утробе зарезали.
Женщина в ужасе выскочила из купе. Ее собеседница последовала за ней.
Один раз полковник-политрук стал «просвещать» батюшку, приводя цитаты из атеистических брошюрок. Начал он с расхожей фразы: «Наука доказала, что Бога нет».
— Во, здорово. А коммунисты есть.
— Конечно, есть. Я вот коммунист.
— И, наверное, в санаторий едете?
— В санаторий.
— И в море будете купаться?
— Конечно.
— А еще что будете делать?
— В рестораны буду ходить. С женщинами гулять.
— Значит, денег на все это хватит. Партийным, значит, хорошо платят?
— Не жалуюсь.
— А скажите, что вам ваша партия после смерти обещает?
Политрук замолчал и недобро поглядел на отца Симеона.
— А мне мой Бог обещает вечную жизнь. Своим воскресением Он доказал, что смерти нет. А про то, что наука доказала, я не знаю. И спорить с ученым человеком не стану. Если хотите, давайте после смерти продолжим этот разговор.
Полковник тяжело задышал, поднялся и вышел из купе. Через полчаса он вернулся с двумя стаканами чая и пакетом пряников и плюшек.
— А теперь, батюшка, давай расскажи мне о своем Боге.
Беседовали они до утра, а утром политрук слезно благодарил отца Симеона и просил прощения за дерзкие словеса.
Батюшка не избегал разговоров о Боге, но учил своих чад: «О Боге говорите спокойно. Со страхом Божиим. Никогда не спорьте. Если видите, что собеседник раздражен, прекращайте разговор. Проку не будет. Не мечите бисер».
Батюшка очень любил людей, но обрушившаяся на него «популярность» тяготила его. Ведь его немощи и хвори усиливались прямо пропорционально росту его известности. Особенно было тяжело, когда приходили люди не для того, чтобы получить духовный совет, а в его лице заполучить арбитра в семейных ссорах. В таких случаях батюшка просил не вываливать на него грязь семейных неурядиц и советовал супругам вспомнить, за что они полюбили друг друга, и забыть, «яко небывшее», все, что убивало их любовь.
Батюшка всегда был скромен и очень часто скрывал свой дар прозорливости. Иногда юродствовал. Как-то пришел к нему молодой человек, увлекшийся язычеством. Он прочел о том, что мать-земля — это живое божество, и хотел спросить, можно ли на землю плевать. Батюшка, не дожидаясь вопроса, плюнул ему под ноги: «Понял?» Пораженный посетитель ничего не сказал. Тогда батюшка плюнул второй раз и пошел в дом.
О молитвенной помощи отца Симеона существует множество свидетельств. Предстоит большая работа по сбору и их проверке. Народ любит чудеса. И любит о них рассказывать. Придется тщательно отделять истинные истории от «фольклора». Но уже сейчас очевидно, что чудес, происшедших по молитвам батюшки, не смогут отрицать самые упертые скептики. Но главные чудеса — это тысячи людей, приведенных отцом Симеоном к Богу, тысячи исцеленных душ, обретших смысл и верные жизненные ориентиры. А разве не чудо то, что восемь сестер батюшкиной общины на поминальных трапезах умудряются накормить чуть ли не полгорода?
Когда я спросил матушку Макрину, как им это удается, она улыбнулась: «По молитвам батюшки. К тому же мое самое любимое место в Евангелии — это когда Господь пятью хлебами накормил пять тысяч».
Матушки
Схимонахиня Елисавета была старшей в общине отца Симеона (Нестеренко). И то, что она первой ушла вслед за батюшкой, никого не удивило. 90 лет — возраст немалый. Умирала она не один раз. Последний — в день батюшкиной кончины. Тогда матушка Варвара приказала ей повременить: «Погоди. Батюшку проводим, тогда и помирай». Елисавета послушалась. Сильно постаралась и умерла ровно через два месяца после кончины своего духовного отца: он — 6 декабря, она — 6 февраля. И сподобилась упокоиться рядом с любимым старцем. А ведь если бы раньше померла, лежала бы на дальнем кладбище…
Матушка Елисавета с юности знала о своем монашеском призвании. В Перми, откуда она была родом, подвизался схиигумен Алексий. Она приехала к нему вместе со своей сестрой. Алексий внимательно посмотрел на девушек и приказал принести ему двух кукол. Он нарядил этих кукол в монашеское одеяние и сказал: «Имена поменяете и будете петь, как ангелы, до самой смерти». Так и произошло. Они стали монахинями и пели Богу своему до последнего вздоха. Сестра Елисаветы Евдокия ушла из жизни намного раньше и упокоилась в Гуд аутах, где они жили до переезда в Сочи. То, что отца Симеона и матушку Елисавету погребли рядом с храмом Победоносца Георгия, — великая милость Божия. Немногие знают, чего это стоило верным батюшкиным чадам. Ведь в Сочи не было еще ни одного такого погребения. Да и храмов никаких до недавнего времени не было, кроме Михаило-Архангельского. Настоятели новых церквей, слава Богу, живы. И вдруг умирает старец, никогда сочинским клириком не бывший. Как было доказать светским властям, что его нужно похоронить рядом с храмом? И все же удалось. Дай Бог здоровья мэру и всем, кто об этом хлопотал!
Это были удивительные похороны. Проводить матушку Елисавету собралось немало народу — батюшкины чада, любившие своего духовного отца и тех, кто много лет ухаживал за ним. Все чувствовали не только печаль расставания с любимым человеком, но и радость оттого, что ей первой Господь судил встретиться с батюшкой. Когда закончилась панихида и установили крест над могилой — всего лишь в двух метрах от батюшкиного креста, — люди медленно двинулись меж двух могильных холмов, полностью засыпанных цветами, кланялись в пояс и целовали кресты: батюшкин и новопреставленной Елисаветы. И было в этом крестном целовании нечто от клятвы на верность Богу и обещание «вечной памяти» об усопших. Как это было не похоже на то, что происходило совсем рядом. По дороге к храму я прошел мимо людей, стоявших у свежей могилы. Мужчины курили и пили водку из пластиковых стаканов. Женщины тоже курили. О чем говорили они, я не слышал. Но это определенно были не слова молитвы.
Еще совсем недавно сочинское кладбище начиналось с братской могилы воинов, погибших в Отечественную войну. Она сохранилась, и гипсовый солдат, покрашенный серебрянкой, все так же скорбно склоняет голову. Но это скромное захоронение перестало быть главным. Неподалеку от братской могилы вырос целый город могил «братков». Могил не братских — индивидуальных. Очень дорогих и помпезных. Тут тебе стилизация и под христианские часовни, и под греческие пантеоны с портиками и дорическими колоннами, а перед ними — скульптурные изображения их хозяев. Одни стоят, другие сидят в креслах в вальяжных позах. И эпитафии теперь иные. Вместо «Вечной славы героям!» призыв «не стрелять в спину, поскольку песня еще не допета» или: «Жизнь пронеслась, как сверкающий бал, но только я на него не попал».
Огромные монументы из черного и белого мрамора стоят вдоль дороги. Их не обойти, не объехать. Глаз невольно цепляется за выбитые на камне инскрипции. Некоторые по-своему весьма поучительны. Усопший обладатель огромной беломраморной площадки с пантеоном изрекает с того света: «Кто знал тоску, поймет мою печаль». Стало быть — не в деньгах счастье. А неправедно нажитое богатство — причина вечной тоски: и на земле, и за гробом. И такая тоска берет от вида этой ярмарки загробного тщеславия, что ноги сами несут к православному храму — к тихому пристанищу, к светлому маяку в удручающем, добровольно и богато увековеченном мраке.
Да, православное отпевание и панихида на кладбище — это воистину знак победы над смертью. Вот стоят невесты Христовы и поют, провожая в последний путь свою старшенькую. Черные апостольники, черные ряски из-под черных пальтишек, серый день — а так светло. То ли от сотен горящих свечей… Да нет, тут, пожалуй, иная причина… Я смотрел на их лица: кто-то утирал слезу, кто-то часто печально вздыхал: «Не я ли следующая?» Печаль — естественное состояние души при прощании с тем, кто приобщился вечности. Но это светлая печаль, скрашенная утешением, дарованным Господом, и надеждой встречи с любимыми в Царствии Того, Кого любили всем сердцем и Кому посвятили свои жизни. И поэтому мы поем. И в песнях наших погребальных помимо скорби — упование на милость Божию и надежда на упокоение со святыми. В этой дерзкой надежде тайна нашего усыновления и уподобления Творцу. Не может милосердный Господь отвергнуть создание Свое. Ведь оно возлюбило Его, отвергло мирские радости и усердно старалось соблюсти Его заповеди.
Я смотрел на молящихся матушек и почему-то подумал, что в этот момент они молятся не только о матушке Елисавете и отце Симеоне. Кто знает, может, по их молитвам Господь призрит и на тех, кого в этот момент хоронят мирским чином с папироской и водкой.
— Какой была матушка Елисавета?
— Тихой, кроткой, никогда ни на что не жаловалась, ничего для себя не просила. Была всем довольна. За все благодарила Бога. А еще она была светлой. Можно сказать, солнечной.
Так говорили о ней люди, знавшие ее много лет. Никаких особых историй матушки даже на поминках не вспомнили. Главное — Бога любила. Греха боялась. Молилась усердно. Что еще нужно говорить о монахине?.. Батюшка ей сказал, что в один день с ним помрет. Вот и померли 6 числа.
Ярких эпизодов в жизни тех, кто принял монашеский постриг, искать не приходится. Но все же они были. Только это не те сцены успеха и счастья, которые показывает народу телевизор, а гонения и притеснения от властей и недругов, холодная и голодная юность, поиск духовного отца и обретение его, абхазо-грузинская война с бомбами, падающими рядом с домом, с вооруженными озлобленными мужчинами, от которых не приходилось ждать ничего хорошего. Но самое главное — постоянная духовная радость от общения с отцом Симеоном. С ним они были воистину как за каменной стеной: ни одного дня не голодали и были уверены, что пока он с ними, помощь и защита гарантированы. Их всех объединяет то, что они с ранних лет думали о спасении души. Не так много было в советской России девиц, мечтавших не о летчиках и танкистах, а о Небесном Женихе и о духовном руководителе, который бы указал им спасительный путь.
Они познакомились с отцом Симеоном, когда были совсем молоденькими. Матушка Екатерина, тогда она была девицей Тамарой, приехала в Глинскую пустынь с подругой. Отец Симеон позвал ее стать его духовной дочерью, а подруге сказал, что она «не его». А потом, когда после изгнания из Глинской пустыни батюшка оказался в Абхазии и позвал Тамару к себе, она не раздумывая приехала. Ее удивило то, что он сам обратил на нее внимание и предложил стать ее духовным отцом. У нее было другое желание — стать духовным чадом схииеромонаха Николая. Но тот сказал ей, что скоро умрет и что в Глинской пустыни Матерь Божия укажет ей духовника. В монастыре она испытывала сильное смущение: «Настоящая ли я христианка?» Дело в том, что ее крестил дьячок. Миропомазал ее батюшка Симеон. Но это произошло позже, когда она оказалась в Абхазии.
Матушка Варвара (в девичестве Нина) попала в Абхазию после долгих странствий. Она с детства знала, что жизнь верующих в СССР полна скорбей и опасностей. И все же мечтала о монастыре. Она помнила, как арестовали священника в ее родном селе. Тот знал о своей участи и накануне ареста ночью покрестил 200 человек. В монастыре в Прилуках, куда позвала Нину настоятельница, уполномоченный не разрешил ее прописать. Она уехала в Грузию. В Ольгинском монастыре в Мцхета ей позволили прожить лишь полгода. По приказу Хрущева тогда из монастырей изгоняли всех молодых людей. В Овруче трех знакомых ей монахинь обвинили в антисоветской деятельности за то, что они отказались участвовать в выборах. Нину ни в чем не обвинили, но приказали покинуть монастырь. Она отправилась в Сухуми. Здесь ее и привели к отцу Симеону.
Матушка Макрина тоже стала духовным чадом батюшки в юные годы. Звали ее Надеждой. Она приехала в Глинскую пустынь и получила послушание писать благодарственные письма тем, кто присылал в монастырь посылки. Отец Симеон давал ей книги духовного содержания. Она полюбила жизнь в монастыре и не хотела уезжать домой.
— А в монашки хочешь? — спросил ее отец Симеон.
— Хочу.
Он отправил ее в Киев. Но в монастырь ее не приняли. Тогда она уехала в Москву. Помогала восстанавливать в Измайлове храм, шила облачения и украшала митру патриарха Пимена. Потом батюшка послал ее в Ольгинский монастырь в Мцхета. После того как стали из монастырей изгонять молодых, перебралась в Армению. Там в это время жил отец Андроник, у которого отец Симеон окормлялся в Глинской пустыни. Надежда писала иконы. Но и здесь не удалось задержаться надолго. Она уехала в Сухуми. По дороге в храм увидела отца Симеона.
— Я за тобой, — сказал он ей.
С той поры она с ним не расставалась. Приняла постриг в рясофор с именем Мелания, но батюшка звал ее все время Макриной. Так что при постриге в мантию проблемы с выбором имени не было.
У остальных матушек, проживших в общине отца Симеона более полувека, путь к монашеству был сходен. Все они по скромности говорят, что им и вспоминать нечего. Были в послушании у батюшки: куда он — туда и они. Молились, как могли, старались спасти свои души. Они стали друг для друга сестрами. Не по принятому в православной среде названию, а по сути. Их сроднили совместно пережитые опасности и беды. Ведь община образовалась в трудное время. Они открыто исповедовали Христа, когда за это не только сажали в тюрьмы и психиатрические больницы, но и убивали. Неисповедимыми путями оказались они в Абхазии, подле батюшки Симеона. Отец Симеон стал для них «кормчим ковчега спасения». Но у этого ковчега поначалу не было даже днища: сестры спали на земле, подложив под голову камень. За бортом их ковчега неистово бушевали бури. Власти не раз собирались изгнать пришельцев. Но, по милости Божией, так и не изгнали. Пережили они и клевету, и угрозы. Терпели и от врагов, и от своих лжебратий. Все претерпели. И община, вопреки «пророчествам», не развалилась. Многие «доброжелатели» говорили: «Вот умрет старец, перемрут старушки — и все кончится». Ан нет. В общине появились молодые сестры. Удивительна история инокини Агнии. На сельском приходе, где служил ее отец, жил 90-летний юродивый старец. К нему обращались со многими вопросами. Но он никогда не отвечал на них прямо: говорил притчами, зачастую совершенно непонятными. 10-летней Агнии он сказал, что она умрет в 12 лет. А потом добавил, что жить будет у чужих людей и неродной дедушка будет ей дороже родного. Девочка испугалась скорой смерти и стала к ней готовиться: читала Псалтырь. Каждый день по три кафизмы. Накануне 12-летия она поехала со своим отцом к его духовнику — отцу Симеону. Ей очень понравилось у батюшки, но нужно было возвращаться домой. Ее отец спросил, нельзя ли оставить дочку на некоторое время.
— Оставляй навсегда, — сказал отец Симеон.
Так исполнилось предсказание юродивого. Она умерла для мира и обрела духовного отца, ставшего для нее дороже родного.
Современный человек плохо представляет суть монашества. Когда он видит пожилых людей в черных монашеских одеждах, то думает: «Ну что ж, видно, пожили бурно и весело, а теперь замаливают грехи». Такое ему понятно. Но молоденькая девушка, ушедшая из мира, — это вне всякого понимания. А ведь к отцу Симеону все приходили молодыми. Он, как опытный ловец, выхватывал их из кипящего страстями моря житейского и навсегда оставлял на спасительном островке. Они жили при нем, старели плотью, но не духом. А духа они были одного — и пожилые монахини, и молодые сестры. Всех их роднит, помимо веры в Бога и преданной любви к отцу Симеону, редкое по нынешним временам качество — детскость. Великое дело — сохранить детскость до седых волос. «Будьте как дети. Ибо их есть Царствие Небесное», — сказал Господь. Матушкам это удалось.
Пляж как место вразумления
Вразумление и повод для духовных размышлений можно получить где угодно, даже на пляже. Стыдно признаться, но мне очень нравились мои шорты. Из плотного белого хлопка. Безо всякой синтетики, а стояли колом. Сейчас непросто купить шорты хорошего кроя и без излишеств: чтобы не было на них дюжины карманов, штрипочек, сборочек, наклеек и всяческих бессмысленных надписей на языке великого Шекспира. А тут и сидят хорошо, и вид приличный. А человеку с пузцом на юге выглядеть прилично далеко не просто. Правда, это мало кого волнует. Свобода! Полная расслабуха. Теперь и по центральным улицам в трусах ходят. Но большинство наших сограждан (из тех, что с пузцом) ходят в штанах, которым и названия, по-моему, нет. Есть такое слово «бриджи». Но как-то язык не поворачивается назвать этим английским словом то, о чем я веду речь.
Это не шорты, не бермуды, а такие порты из грязновато-серой холстины ниже колен, но повыше щиколотки. Взрослый мужчина выглядит в них переростком.
И не потому, что вырос из штанов и они ему стали неприлично коротки, а потому, что вырасти-то он вырос, а разумения того, что выглядит охламоном, еще не достиг.
Глядя на этих товарищей на фоне пальм, бананов, магнолий и прочих экзотов, я с досадой думал: взять бы да издать закон о заключении этих бедолаг под стражу за оскорбление эстетических чувств.
И вот за эти мои нетоварищеские мысли и пожелание ближним сидеть в кутузке, пока народ загорает и плещется в море, получил я серьезное вразумление…
Пригласил меня мой кум на именины своей супруги. Вооружившись подарками и захватив ноутбук, я прыгнул в электричку и через полчаса был в замечательном местечке с черкесским названием Лоо. День был очень жаркий. Поэтому, вручив жене кума подарки, а куму ноутбук для устранения неполадок (у него это замечательно получается), я побежал к морю. Народу на пляже оказалось больше, чем в Сочи. Попетляв по лежбищу загоравших граждан, я увидел огороженный металлической сеткой участок. Народу там не было по причине того, что велись строительные работы по сооружению причала. Законопослушные граждане туда не совались, а я сунулся. И вовсе не из-за того, что люблю перечить всяким законам и предписаниям. А уж больно неловко себя чувствую среди практически голых людей. Сложил я под бетонным столбом одежду: свои замечательные шорты вместе с новой рубашкой и кожаными сандалиями — и прыгнул в море. Заплыл я подальше, чтобы не мозолить глаза работавшим над моим гардеробом строителям, и вдруг вижу столб огня как раз там, где оставил одежду.
Когда я доплыл до берега и добежал до угасавшего костра, тушить уже было нечего. От шортов ничего не осталось, от рубашки — половина ворота, а от панамы треугольный обгорелыш с надписью «Петра». Из кучи пепла торчал оплавленный корпус мобильного телефона и наполовину сгоревшие сандалии.
На пожар прибежал какой-то господин. Посочувствовал кряхтением и короткой матерной тирадой. Я так и не понял, кого он осуждал: меня или того, кто сжег мою одежду.
Порассуждали о том, как это могло произойти. Решили, что кто-то из рабочих бросил окурок. Но уж больно быстро все сгорело.
Слава Богу, в телефоне сохранилась сим-карта. Господин предложил проверить, цела ли она. Мы подошли к месту его возлежания и под сочувственное хором-говорение его друзей вставили мою сим-карту в его телефон. На другом телефоне набрали мой номер. Зазвонил! Значит, цела. Значит, можно позвонить куму и позвать его на выручку. Да вот беда, ни одного номера не помню. Что делать!? А мой выручатель шепчет мне на ухо, что у меня купальные трусы сзади порваны. Обернули меня полотенцем, и я, пообещав вскорости вернуть его, побрел к куму. Иду и думаю: «Ведь он высок и худ и одежда его вряд ли мне подойдет». И вдруг вспоминаю, что в соседнем квартале церковь, в которой служит добрейшей батюшка, отец Олег. Короткими перебежками добежал до храма и заглянул в церковный домик. Свобода свободой, но голые граждане, обернутые полотенцами, на церковном дворе появляются нечасто. Поэтому пожилая женщина, готовившая что-то в домике, удивилась, но возмутиться не успела.
Я заверил ее в том, что не разбойник, представился, сказал, что отец Олег меня знает, и кратко поведал о том, что со мной случилось. Она без лишних слов поспешила в кладовку, где хранились вещи для раздачи нуждавшимся. А поскольку в моей нужде никаких сомнений не было, то она приступила к поиску штанов. Рубашек было немало, а вот со штанами не густо. Все оказались на субтильных подростков, а одни на какого-то гиганта с необъятной талией. Но все же в последнем мешке нашлись белые джинсы. Втиснулся я в них с великим трудом. И только облачился во все белое, как в дверях возник батюшка. Я поспешил его заверить, что не посягал беспричинно на гуманитарную помощь, а оказался персонажем, нуждавшимся в ней. Батюшка удивился: ничего подобного на обозримом пляжном пространстве до сих пор не происходило. Поскольку из обуви в его коллекции были лишь длинноносые туфли маленьких размеров, он повел меня в ближайшую лавку и купил шлепанцы на два пальца. В них я и пошлепал к своему куму, про себя молясь о моем благодетеле. По дороге спохватился и побежал возвращать полотенце сопляжникам.
Именины прошли замечательно, только именинником оказалась не именинница, а я, окаянный. Гости наперебой спрашивали, что я сам-то об этом думаю. На пляже воруют, но чтобы поджигать одежду — о таком не слыхали. Сошлись на том, что это не злой умысел. Возобладала версия брошенного окурка.
Одна более прочих воцерковленная гостья стала рассуждать о том, что ничего случайного не бывает, а такая экстраординарная ситуация могла произойти исключительно для моего вразумления. Я согласился и тут же покаялся в своей слабости: любви к красивой одежде.
— Ну, это не грех. Главное не доводить эту слабость до страсти. Не уподобиться западному обывателю и не убивать время в «шопингах», рыская по магазинам в поисках вожделенной вещи. А коль не вожделеешь и не рыщешь, то беды большой нет.
Кум предположил, что вожделение все-таки было. Только объектами его были не шорты, а барышни на пляже. А то, что я постарался подальше от них уйти, — чистое лицемерие и самообман. Гости согласились, что в этом есть здравое зерно, но углубиться в эту тему не позволила именинница. Произнесли тост в ее честь, но тут же вернулись к теме огня. Был ли тот огонь поядающий очищающим меня от явных и тщательно скрываемых страстей или же дан мне в прообраз грядущих адских мучений. И то, и другое обсудили с жаром. Было, правда, еще одно предположение: это враг мстит мне за какие-то добрые дела. Я это предположение отмел. Добрых дел, сильно досадивших упомянутому товарищу, я за собой не припоминаю.
А когда вспомнили о том, что одеждой и сандалиями я обязан отцу Олегу, то тут все разом согласились, что лишь в Церкви есть спасение. И даже то, что случилось со мной, убедительно это доказывает. За таким застольным богословствованием и проходили именины. Все воодушевились, обнаружили дар рассуждения, но я решил, что пора менять тему, пока наше вольное богословствование не оказалось на грани фола. Так ведь под винцо что-нибудь ляпнешь — греха не оберешься. Как говорил Зощенко, с пьяных глаз можно обнять классового врага. А уж врага рода человеческого потешить — раз плюнуть.
И решил я поведать еще об одной истории, произошедшей со мной накануне именин. Она тоже дает повод для размышлений.
Позвонил мне один московский богатей — хозяин гостиницы, ресторана, нескольких магазинов и прочего. Предложил снять фильм об Иверских святынях. Он уже в Краснодаре и едет с оператором в Сочи. Неделю собирается провести в Абхазии. У оператора есть все, даже возможность быстро все смонтировать. Я согласился. Об условиях спрашивать не стал. Мне представили его потенциальным спонсором, который начал воцерковляться. О деньгах мне всегда было трудно говорить. Даже капитализм не очень меня исправил. Если человек заказывает фильм, значит имеет представление о расходах и расценках. Видел я этого господина (назовем его Кузьмич) один раз. Меня как-то пригласили активисты его прихода. Я показал свой фильм «Патмос», прочел один рассказ, после чего до позднего вечера мы беседовали на всевозможные темы. После этого вечера Кузьмич отвез меня к себе домой. За ужином хозяин обнаружил основательную привязанность к Бахусу и полночи рассказывал о своих рыбацких подвигах. Время от времени он предлагал тост за мое здоровье и говорил, что ничего вообще не читает, кроме моих статей. Они ему очень нравятся. А мой фильм «Патмос» вообще является лучшим русским фильмом после «Семнадцати мгновений весны». Поэтому он решил заказать мне картину. А какую — скоро придумает. И когда он позвонил и сказал, что едет с оператором, я без раздумий согласился. Вот и спонсор. Хороший человек. Знает, что я давно без работы, и решил помочь.
Границу мы миновали без труда, доехали до Гагр и первую остановку сделали возле крепости Абаата. Здесь находится древний храм преподобного Ипатия. Начали его строить еще в шестом веке.
Приступили к съемке. Снимаем снаружи — спонсор не спеша входит в кадр. Какой ракурс ни выберем — он тут как тут. Стали снимать внутри, спонсор принялся лобызать иконы. Куда камера, там и он. Мы с оператором переглядываемся: что делать? Ни одного плана без Кузьмича. Видно, так надо. Заказчику не прикажешь: не лезь в кадр! Поехали на Пицунду — древний Питиунт. Здесь находилась древнейшая на всем Кавказе кафедра. Епископ Питиунтский Стратофил был участником Первого Вселенского Собора в Никее. На Пицунде сохранились развалины крепости и кафедральный собор. Первоначально он был назван в честь апостола Андрея Первозванного. В XIX веке после восстановления был переименован в Успенский. Сейчас собор превращен в органный зал. Противники возвращения его Церкви утверждают, что отдыхающие на органных концертах получают «духовную пищу». И будто такого рода духовность важнее: ведь в храмы ходят немногие, а на концерты — отбоя от народа нет. Поди поспорь!
Подъехали мы к этой великой христианской святыне. Вылезает оператор из машины — и камера вываливается из его сумки. Слава Богу, упала не объективом на камни. Но батарея треснула. Все попытки включить ее оказались тщетными. Оператор горюет, спонсор гневно ворчит, я пытаюсь придумать выход из положения. Второй батареи нет. Одной хватает на пять часов. До сих пор нужды в запасной не было.
Дело к вечеру. Надо о ночлеге подумать. Спонсор заявляет, что у него есть спальный мешок. У меня такого мешка нет и спать в мешке не очень хочется. Гостиницы и частный сектор на Пицунде имеются, но спонсор о них не вспоминает. Выясняется, что у оператора на Пицунде живет родственник. Поехали к нему. Родственник-то родственник, да вот только не оператора, а женщины, на которой он много лет отказывается жениться. Поэтому прием был соответственный.
Что было на уме у этого человека, когда он заявился, да не один, а с двумя чудаками, к отцу отвергнутой женщины?!
Я предложил не тратить время, а отправиться к писательнице Наталье Сухининой. У нее на Пицунде дом, и она принимает монахов, священников и знакомый православный люд. Поскольку мы с ней давно знакомы и даже дружны, то меня с сопровождающими лицами в дом пустили. Спонсор стал выяснять, где можно купить хорошее вино. Нам назвали адрес. Мы поехали. Отдегустировали четыре сорта. Спонсор выбрал два. Да еще и коньяку заказал литрушку. Когда услыхал цену, начал торговаться, и не без успеха. Я, надо признаться, удивился такой скаредности. Винодел робко говорил о том, что вино чистейшее, неразбавленное. Наливали из бочки при нас. И цена — соответственна качеству. Но спонсор решительно мотнул головой и отсчитал купюры сообразно своим соображениям. Хозяин пожал плечами, развел руками, но бутылки отнимать не стал и деньги принял. Вернулись к Сухининой. Нас ждал ужин. Спонсор выставил полуторалитровую бутылку красного вина. На десять человек — не густо. Я шепнул, что надо бы еще белого поставить: не все любят красное. Спонсор раздраженно сказал: «Хватит». Тогда я вынул из сумки равновеликую бутылку белого вина и, шепнув спонсору: «Завтра верну», поставил ее на стол.
Наша драматургия не осталась незамеченной. Хозяйкины гости потихоньку покинули трапезную, и мы остались вчетвером. Хозяйка была любезна. Я не очень. Но через некоторое время все же преодолел конфуз и постарался придать нашей трапезе подобие заведенной в этом доме атмосферы ненатужного веселия и взаимной любви. Тем для бесед у нас с Натальей немало. Давно не виделись. Проговорили до двух ночи. Кузьмич с оператором лишь полчаса терпели наше воркование и побрели спать. Утром спонсор первым делом забрал недопитое вино и отнес его в машину.
Вот тут-то бы мне и послать его подальше. Ан нет. Уж больно жалко было смотреть на оператора. Надо было помочь ему найти новую батарею. Вариантов было немного. Ехать в Сухуми и искать специализированный магазин или ремонтную мастерскую. Я извинился перед гостеприимной хозяйкой за внезапное вторжение и исчезновение недопитого вина. Спонсор торжественно вручил ей визитную карточку: «Будете в наших краях, заходите…» Оператор тоже извинился. Мы хором поблагодарили ее и отправились в столицу богоспасаемой Абхазии. Батарею нам удалось починить, но дальнейшие разъезды превратились в череду нескончаемого конфуза. В Драндском монастыре, о котором писал отец Валентин Свенцицкий в своей замечательной книге «Граждане неба», спонсор оживился. В братском корпусе, отгороженном от храма высокой стеной, находится тюрьма. Кузьмич с интересом разглядывал сторожей на вышках, торчавшие из нескольких окон зады кондиционеров — знак того, что в них обитают привилегированные зэки, потом приказал оператору приступить к делу и начал дефилировать на фоне то храма, то узилища. Потом повторилась известная сцена в храме с бесконечным лобызанием икон. Облобызав очередную икону, Кузьмич бросал короткий взгляд: снимает ли его оператор.
Что делать в такой ситуации режиссеру? Я вышел в притвор и поговорил со свечницей. Узнал, что настоятель, отец Андрей, в больнице. Паломников они принимают. Только у них полторы комнаты на шесть персон. Если мы захотим переночевать, то нужно обратиться к труднику Валерию. Договорились, что если решим остаться в монастыре, то вернуться нужно не позднее десяти вечера.
О своих успехах я доложил спонсору. Тот очень обрадовался и стал торопить нас поскорее ехать дальше, чтобы вернуться к назначенному времени.
Когда мы обсуждали маршрут, я имел глупость уговорить Кузьмича не заказывать проводника из абхазов. Места эти я знаю. Пообещал показать дорогу и в Лыхны — древнюю столицу Абхазии с храмом VIII века, и в Команы, где скончался Иоанн Златоуст и находится место третьего обретения честной главы Иоанна Крестителя. В монастыре хранится каменный гроб, в котором находилось тело Иоанна Златоуста перед перенесением его в Константинополь. Там же источник мученика Василиска. Святынь на территории современной Абхазии великое множество. Здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит, Матфей, Варфоломей, Иуда и Фаддей. Снять фильм об этом крае, связанном с апостолами и многими святыми, — великое дело. Можно и потерпеть причуды заказчика.
Следующим местом, куда мы отправились, были Команы. Первым делом нанесли визит настоятелю. Попросили благословения остаться на службу, а если позволит, то и переночевать. Настоятель позволил. И даже машину разрешил подогнать поближе к храму. Благодарный спонсор сунул какие-то деньги провожавшему нас в нашу келлию монаху. Пока оператор с Кузьмичом подгоняли машину, я пошел писать записки. Вдруг слышу в алтаре гневный голос настоятеля: «Это что, за парковку? Отдай им их деньги. Я сейчас выйду и дам им вспоможение». Через несколько секунд ко мне подходит смущенный монах и сует мне в руку полученные от спонсора деньги. Я пересчитал их и положил в церковную кружку. Не дожидаясь возвращения своих спутников, я побежал вниз и остановил машину.
— Разворачивай!
— Почему? — удивился спонсор.
— Мы изгнаны.
— За что?
— За двести рублей, пожертвованных вами за ночлег трех человек.
— Там было больше. Не двести.
— Двести десять. По семьдесят с носа. В вашей гостинице такие же расценки? — не удержался я.
Спонсор надулся и всю обратную дорогу до Сухуми молчал. В Сухуми он купил нам по пакету кефира и булочке, и мы, сидя в машине под проливным дождем, после десятичасового путешествия вкусили наконец-то от его щедрот. Пока мы пили кефир, Кузьмич названивал своему абхазскому знакомому, расспрашивая, где можно найти дешевую гостиницу. Назвали адрес, где за тысячу рублей нам дадут комнату. Мы тронулись, но пока петляли по центру, зазвонил телефон. По разъяренному виду Кузьмича и по тому, как резко он прекратил разговор, стало понятно, что новость была не из приятных. Предложенная сначала комната уже сдана, а нам предлагают другую, лучшую, но в два раза дороже.
Минуты три Кузьмич хмуро молчал. Потом приказал оператору: «Гони в эту… Как ее… там, где тюрьма». Оператор что-то жалобно промямлил про тридцать верст, про скользкую дорогу… Но Кузьмич был неумолим.
На некоторое время я потерял дар речи. Минут через пять устне мои отверзлись и я хрипло вопросил: «Могу ли я узнать, что происходит и зачем их степенству господину спонсору понадобился режиссер?»
Кузьмич удивленно повернул голову:
— А чего тебе? Едем и снимаем. Он это любит (Кузьмич кивнул на оператора), ты тоже.
— Так это прогулка с камерой или работа? Кроме съемок еще и монтаж, не говоря о прочем, потребуется.
— Ты чего меня разводишь? — рассердился Кузьмич.
— С кем развожу? — не понял я.
— На бабки ставишь?
Тут уж я понял. Речь шла о деньгах. Я хотел было напомнить о том, как я очутился в их чудной компании, о междугородных звонках с предложением не прокатиться по Абхазии, а снять фильм — то есть поработать. Но делать этого не стал. Кузьмич искренне полагал, что эта поездка будет мне в радость. А обрадуюсь я от того, что она мне ни во что не обойдется. Денег не нужно платить — вот в чем радость!
В Драндский монастырь нас пустили. Пока Кузьмич пил коньяк, мы поговорили с оператором о том, во что вляпались. Он тоже полагал, что кое-что заработает. Но, в отличие от меня, не очень огорчен, поскольку материал ему пригодится.
Утром я сбежал.
Вот такая история. Слушатели — участники именинного застолья во все время моего рассказа ни разу меня не перебили. Только время от времени слышались вздохи и ахи-охи изумления.
Я извинился за то, что надолго привлек к себе внимание и отвлек народ от общения с именинницей. Но народ меня простил. Именинница была даже рада. За время моего многоглаголания она успела усыпить детей.
Все решили, что и эта история случилась для моего вразумления. Скупость отвратительна. Особенно, когда ты в состоянии не проявлять ее. По этой части мне есть о чем подумать. Я как-то привык к тому, что меня радушно принимают, делают подарки, а один мой московский друг вообще не позволяет мне ни за что платить, когда я оказываюсь в его компании. Правда, я стараюсь помогать людям, но все же, как нынче говорят, иногда «жаба меня душит», когда ей этого не следовало бы делать.
Кто-то отметил, что у меня есть шанс пополнить галерею литературных героев. Мой Кузьмич может стать в ряд прославленных скупердяев вместе с Шейлоком и Скупым рыцарем.
И вдруг все развеселились. Стали произносить тосты с сюжетами, подтекстом и внутренними цитатами из классиков и популярных псевдокавказских застольных речей.
Мне казалось, что мои истории не очень располагали к веселию. Все-таки пожар, двое суток в плену у скупца. Ан нет. Гости были веселы, словно нас собрало какое-то несказанно радостное событие. Об имениннице вспомнили лишь тогда, когда кто-то сказал, что через полчаса последняя электричка. Подняли прощальный тост за хозяйку и небольшой, но шумной компанией поспешили на станцию. И в электричке не могли успокоиться — так было всем хорошо.
А мне вдруг безумно стало жаль Кузьмича. Экую муку он носит в сердце. Как бы ему помочь?!
Иордань
Накануне празднования тысячелетия Крещения Руси (1988 г. — Прим. ред.) в одной из епархий правящий архиерей решил впервые за семьдесят лет отслужить водосвятный молебен на реке. Но для этого нужно было получить разрешение уполномоченного по делам религии. Тот решительно отказал. Все разговоры о «возвращении традиций», о призыве генсека «знать и уважать отечественную историю» не возымели действия.
Тогда кто-то из местных краеведов отправил несколько телеграмм в Москву с просьбой позволить в их епархии «вернуться к корням». Неожиданно столица повелела позволить. Кто точно повелел — неизвестно, но поговаривали, что благодетельницей была Раиса Максимовна Горбачева.
Архиерей был вызван для «прокладки маршрута крестного хода». Начальство не желало никаких «религиозных демонстраций». От собора до реки нужно было идти по центральной улице.
Было приказано служить в кладбищенской церкви на окраине и пройти к реке кратчайшим путем.
Но и тут возникло затруднение. Церковь стояла на высоком обрывистом берегу. Чтобы спуститься к реке, нужно было обойти километровый «Шанхай» сараев с лодками и территорию молочного комбината, раскинувшегося еще на километр. Как ни прикидывали, а миновать две людные улицы не представлялось возможным.
Маршрут утвердили, но приказано было идти тихо, без песен, нигде не останавливаться и служить «резво и кратко». Проповедь было приказано сказать в храме.
Епископ на все условия согласился. Власти по своим каналам сделали все, чтобы в крестном ходе не было молодежи, и придумали каверзу, которая должна была изрядно «испортить попам песню».
Крестный ход прошел весь путь, как и было приказано, молча. Когда спустились к реке, то увидели вместо небольшой иордани, вырубленной накануне церковными сторожами, огромную дымящуюся полынью, в которую с гиканьем и оханьями ныряли местные «моржи».
На берегу стоял вагончик, куда моржи забегали «для сугреву». Там разливали чай и водку невиданных сортов — из обкомовских буфетов. Рядом с вагончиком гудела изрядная толпа активистов и местных пьянчужек, уже получивших казенное угощение.
Архиерей и священники были смущены видом большого количества ундин (русалок. — Прим. ред.) в весьма откровенных купальниках. Хоругвеносцы в нерешительности остановились.
Купальщики и толпа подвыпивших граждан сгруппировались вокруг человека в смушковой папахе, руководившего ими. Участники крестного хода стали вокруг духовенства. Со стороны казалось, что сейчас пойдут «стенка на стенку». Но епископ вдруг громко произнес: «Идем дальше. Вырубим новую иордань».
И тут громкий женский голос запел: «Спаси, Господи, люди Твоя!»
«И благослови достояние Твое», — подхватили сотни голосов.
«Победы на сопротивныя даруяй», — вступил епископ, и крестный ход двинулся сквозь строй растерявшихся «моржей».
Человек в смушковой папахе вскрикнул фальцетом: «Прекратить пение! Вам не разрешали». Но тут же закашлялся. Его отодвинули в сторону.
«И Твое сохраняя крестом Твоим жительство», — неслось над рекой.
Епископ осенял сконфуженных купальщиков крестным знамением. Мужчины в плавках и женщины в купальниках стали прикрываться полотенцами, смущенно поглядывая на своего начальника. А епископ шел и благословлял их — то самое «Господнее достояние», заблудшее и обманутое, но все же не потерявшее способности испытывать стыд.
Крещенским утром
Избу в Тверской губернии я купил давно. Пока дети были маленькими, жили мы в ней с мая по ноябрь. А в девяностом году пришлось даже зазимовать. На Новый год сосед привез за бутылку пушистую трехметровую елку. От прежнего хозяина осталось много елочных игрушек. Особенно хороши были потрепанные дореволюционные игрушки из ваты, бумаги и папье-маше.
Новый год мы встретили тихо, по-домашнему. Ждали Рождества. Я был уверен, что на Святках будут колядовать. В рождественскую ночь я несколько раз выходил из дома. В редких домах горел свет. Стояла тишина. Что-то потрескивало на морозе.
Наутро я прошелся по деревне. Соседи здоровались друг с другом, поздравляли с праздником.
— Что ж никто не колядует? — спросил я у соседки, бабы Пани.
— Да кому колядовать-то? Разве что нам с Манькой. — Восьмидесятилетняя баба Маня захохотала и громко выругалась.
Зато на Крещение моя этнографическая жажда была утолена. Утром я пошел за водой. У колодца стояла чудесная парочка — соседка Татьяна в ватнике и ее муж Володька в одних сатиновых трусах. Татьяна пыталась вырвать из рук мужа ведро. Тот угрюмо матерился и пинал спутницу жизни голой ногой. Вода плескалась на ватник, отчего Татьяна разъярилась и пнула мужа валенком с галошей. Тот увернулся. Татьяна упала навзничь. Володька быстро опрокинул на себя воду, вздрогнул всем телом, охнул и побежал к избе, оставляя на снегу отпечатки босых ступней. Татьяне тоже досталось. Она сплюнула попавшую в рот воду и попыталась подняться. Я помог ей. Она стряхнула с ватника крупные капли и всхлипнула.
— Вот ведь, козел, всю осень проболел, и туда же.
— Куда туда же? — не понял я.
— Обливаться. Хотел на реку идти. Витька Митрофанов сгоношил всех. Вот пьянь негодная. Говорит, для здоровья — первое дело в Крещенье в воду прыгнуть. Бог воду освящает по всей земле. И все грехи в ней остаются… Утопила бы сама своими руками эту пьянь… Еще и Бога поминает. Век бы его не видеть.
Я предложил ей зайти к нам, и она неожиданно согласилась. Пока моя жена готовила чай, Татьяна разглядывала комнату с елкой.
— Давно я тут не была. Покойница Анна Семеновна нас, детей, всегда в Рождество приглашала. Конфетами, пряниками угощала. Мы ведь бедно жили. Не до конфет…
На эту фразу жена отреагировала незамедлительно — поставила огромную коробку немецкого шоколада, которую прислали нам друзья.
Татьяна даже ахнула от удивления. Некоторое время она для приличия отказывалась: «Что я маленькая, что ли. Детям оставьте». Но потом, оставив борьбу с искушением, стала угощаться.
Я налил ей стаканчик белого вина. Она снова для приличия поотнекивалась, но недолго. Обхватив стакан тремя пальцами и оттопырив мизинец, она ловко, одним глотком, опорожнила его.
Я вспомнил, как она только что проклинала мужа-пьяницу. Она меж тем предалась воспоминаниям. Хвалила мою прежнюю хозяйку, ругала ее покойного мужа. И было за что. Тот донес на монахиню, которой его жена позволила жить в старой бане. Монахиню арестовали. Хотели арестовать и хозяйку, но дело как-то уладилось.
Действующих церквей не было во всей округе. Во время войны в районном городке открыли маленькую кладбищенскую часовню. Но добраться туда можно было только пешком.
«Вот народ и ходил к монашке. Звали ее Макриной, а мы дразнили ее Крынкой. Мать моя часто к ней хаживала. А однажды, на Крещенье, пришла домой и рыдает в голос. Кропит стены крещенской водой, мелом кресты повсюду наставила, сосновую смолу задымила вместо ладана. Ходит и плачет. И нам ничего не говорит. Потом мы узнали, что Макрина ее сильно отругала за то, что она гадала на Святках. А гадала про то, жив отец или убили его на войне…»
Татьяна вздохнула и кивнула на графинчик.
— Давай мать мою помянем.
Помянули мать, потом всех сродников…
— А что, Татьяна, может быть, сделаем что-нибудь, чтобы церковь нашу открыли, — предложил я.
— А что мы сделаем? — удивилась она.
— Напишем письмо епископу, властям, соберем подписи. Ты подпишешься?
— Я-то подпишусь, да другие станут ли… Уж больно народ не любит бумаги подписывать. Одни как-то ходили, а потом налог вышел…
Я объяснил, что от архиерея налога не будет. Тут же мы составили бумагу и пошли по поселку. К вечеру все было сделано. Только бывший партийный секретарь совхоза да два ветерана отказались поставить подписи. Даже отставной участковый расписался и буркнул: «Давно пора».
Победитель Каменный
Удивительная выдалась нынче зима в Сочи. К Рождеству расцвели подснежники, цикламены, незабудки, анютины глазки, анемоны, нарциссы. К Крещению на теплых склонах распушились желтые бусинки мимозы. Появились цветы и на нескольких уцелевших кустах камелии. Ирисы цвели с декабря, а розы вообще не переставали цвести.
Красота! Порою стыдно становится: дети и друзья то от морозов не знают куда деваться, то в оттепели с мокрыми ногами по Питеру бегают, лавируя между падающими с крыш сосульками. А ты тут на солнышке при 18° в тени. Но фенологические радости омрачены реальными скорбями. Главная — от того, что пространства, на котором могут расцветать цветы, становится все меньше. Некогда зеленые склоны сереют бетоном новопостроенных коттеджей и высоток. Там, где еще недавно можно было погулять под пальмами и магнолиями, металлические заборы, над которыми возвышаются бетонные короба строящихся гостиниц. Гостей не видно. Громады высоток уже несколько лет стоят с неосвещенными окнами. Никаких признаков жизни.
Другая скорбь — пробки на дорогах. Можно и час простоять на одном месте… Но иногда и пробка может порадовать. 12 февраля пробка подарила мне замечательный сюжет. Простояв 20 минут в районе стадиона, я решил покинуть маршрутку и, невзирая на дождь, прогуляться вдоль многокилометровой вереницы неподвижных средств передвижения. Выходя из маршрутки, я чуть не столкнулся с человеком в подряснике. Он медленно шел по проезжей части с рюкзаком за плечами, с промокшей скуфьей на голове, в легких башмаках, не рассчитанных на долгие прогулки под дождем. Ни зонта, ни накидки, лишь демисезонная куртка. Но он и не собирался скрываться от непогоды под крышей автобуса. Время от времени доставал из-под полы куртки большой восьмиконечный крест на массивной серебряной цепи и осенял все четыре стороны. Я прошел за ним минут пять, а когда он повернулся с крестом в руке в мою сторону, попросил его благословить меня. Он пристально посмотрел мне в глаза и перекрестил, громко и четко проговорив: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа!»
Я сразу понял, что это не священник, но на всякий случай спросил: «Вы иеромонах?»
— Нет. Я пророк Иисуса Христа.
— Вот как… А как же вас, отец пророк, величать? — я еле сдержал улыбку. Но после его ответа впору было рассмеяться.
— Я — Всероссийский пророк Иисуса Христа Победитель Каменный.
— Интересное имя. А как вас величать покороче?
— А никак. Так и зови.
— А матушка вас в детстве как звала?
— Витей. Потому и Победитель. Виктор — значит Победитель.
— А «каменный», наверно, от Петроса? Виктор Петрович?
Пророк удивленно посмотрел на меня и с минуту помолчал: «Сам догадался?»
Я в ответ улыбнулся: «Нетрудно догадаться».
— Нет, трудно. Это тебе Дух Святой открыл.
Возражать я не стал. Спросил: «Не от старцев ли он идет, что подвизаются в горах Абхазии?» Оказывается, он ничего о них не знает, а дошел лишь до границы и, как он выразился, «освятив и окрестив» ее, бредет обратно. Путь он держит на Москву, а потом направится домой — на Дальний Восток. На поездах он не ездит: либо на своих двоих, либо с дальнобойщиками на больших фурах.
— Вот, хожу, крещу и освящаю Россию-Матушку.
— Так ведь великий князь Владимир это уже сделал.
— Он крестил в воде, как Иоанн Креститель, а я крестом осеняю. Говорю о конце света и Страшном Суде, о том, что времени осталось мало и нужно спешить с покаянием. Бесов прогоняю и собираю грехи.
— Ну и как, получается?
— Хорошо получается. Думаешь, чего это так быстро олимпийские объекты строятся? Это я несколько лет назад подумал: зачем из России за границу отдыхать люди ездят, когда у нас Сочи есть. Нужно большие деньги сюда привлечь. Деньги — это грех. А у нас грешных людей полно. Где будет много денег, туда народ и повалит. Вот все и получилось. Я прошел сейчас, посмотрел — все делается как надо. Вот еще Сочи пройду, соберу грехи людские и понесу их в Москву.
— Зачем же вы грехи отсюда в Москву понесете? Сами же сказали, что чем больше грехов, тем больше народу приедет.
— Это правильно. Но тут уже столько денег, что и так все слетятся. А если я не уберу грехи тех, кто здесь живет, может, и не доживет никто до Олимпиады. Задохнутся от грехов.
— И что же вы с грехами делаете?
— К Кремлю складываю.
— Зачем к Кремлю?
— Как зачем? Нами Кремль управляет. Туда и приношу. А куда еще?
— А в какое место? К мавзолею?
— Нет. Туда не пускают. Я встаю у храма Василия Блаженного и сбрасываю их к порогу. Так такой столб черный к небу поднимается — ужас!
— А потом?
— Потом бегу из Москвы. До кольцевой дороги. И на восток. Крещу все по пути: «Сгинь, нечистая сила!» Собираю грехи в других местах. Особенно страшно возле кладбищ, которые вдоль дороги. Столько грешников похоронено! Я там и не собираю. Мне не по силам. И они уже ушли из нашего мира.
— Значит, вы очищаете от нечистой силы грешную землю.
-Да.
— А кто вас благословил? Как вы почувствовали, что имеете такой великий дар?
— Кто может благословить? Только Господь Иисус Христос. Он всегда со мной. Я слышу Его голос постоянно. Он мне говорит: «Иди, зови народ к покаянию. Ходи, крести, изгоняй бесов». А видел бы ты, как смешно бесы лопаются. Как мыльные пузыри. Я их перекрещу, прочту молитву — и они хлоп, и нет их.
— А куда они деваются?
— В небытие. В ад или куда еще — не знаю. Я туда заглянуть не могу. Но в нашем мире их уже нет.
— Неужели Сам Господь призвал?
— Сам. Не знаю, почему Он меня выбрал. Я до того жил во грехе. Сына от меня одна женщина прижила. А познакомился с одним монахом — и все. Перестал грешить. Он вот так, как я сейчас, по Руси ходил. Говорит: «Тебе 30 лет, а ты еще Богу не служишь. Бросай все — и ходи изгоняй нечисть. Я бросил работу. Приезжаю в Хабаровск, в церковь Святителя Иннокентия, стою, молюсь. Вдруг слышу голос: «Иди, борись с нечистой силою. Теперь ты Мой пророк».
— Я говорю: «Господи, а как меня теперь звать? Аврааму ты одну букву «а» добавил, а мне-то что добавишь?»
— А ты, — говорит Иисус, — теперь пророк всея Руси Победитель Каменный. Ну я и оставил все. Вот 12 лет хожу. К покаянию призываю. Оставить грехи. Жить по заповедям. Как положено по Евангелию.
— А кем вы работали?
— Взрывником на угольном карьере.
— Здорово. Раньше уголек взрывали, а теперь на бесов переключились.
— Точно так.
— По специальности. Взрываете нечистую силу.
-Нуда.
Мы остановились у фонтанов возле гостиницы «Каскад». Победитель Каменный достал из кармана пустую бутылку, наполнил ее водой и быстро выпил. Затем наполнил снова и положил бутылку в карман.
— Хорошая водица. Я со вчерашнего дня не пил.
— А останавливаетесь где?
— Три ночи на пляже ночевал. Погода теплая. Иногда и в гостинице. В кабинах дальнобойщиков. А больше — у ментов.
— Сажают за бродяжничество?
— Нет. Ни разу. Никто меня не сажает. Они меня в свои будки пускают. ГАИшники. Еще и денег дают. Я им про покаяние говорю. Вот их стыд и берет. Они ведь с шоферами, сам знаешь… А вообще, как их только в полицейские переименовали, стали лучше. Никогда не обидят.
— А вы деньги у них просите или сами предлагают?
— Я никогда не прошу. Иначе наказывать придется. Если откажут. А я этого не люблю. Зачем людей обижать. Я, как только на кого осержусь, тому плохо бывает…
В это время дождь припустил не на шутку. Я предложил ему проехать несколько остановок на автобусе, но он замотал головой.
— Ты что? А кто за меня будет дома и людей крестить!
— Так можно из окна.
— Нет. Надо с толком. С молитвой. Ты уж езжай. А мне трудиться надо.
Я сунул ему в карман сотню, но он вытащил ее и строго посмотрел на меня. Я подумал, что мало дал и обидел его. А обидчики его, как выяснилось, без наказания не остаются. Но у него была другая режиссура. Он развернул мою ладонь, вложил в нее купюру и, глядя мне в глаза, громко произнес: «Сгинь, нечистая сила. Оставь раба Божия и больше не мучай его». Потом он положил мою денежку в свой карман и молча перекрестил меня своим крестом.
Я прыгнул в подошедшую маршрутку и через заднее стекло смотрел, как он волоча ноги медленно идет в пелене дождя, осеняя крестом дома, проезжающие машины и людей, торопливо идущих под зонтами. На него оглядываются и не знают, что о нем думать: монах-подвижник, взявший на себя подвиг молитвы за весь род людской, или бездельник-бродяга, переодевшийся в монашеское одеяние. Надоело уголек взрывать и теперь шляется по белу свету, смущая людей. Он, пожалуй, и Евангелия толком не знает. И с головой у него явно не все в порядке. Победитель Каменный. Надо же!
Да, не может русский человек жить просто, как европеец. Ходи на работу — взрывай себе то, что по службе положено. Так нет — за бесов взялся. Втемяшилась ему идея великого служения — собирания грехов людских и избавления России от нечистой силы. Бредет «пророк всея Руси» под проливным дождем и шагу не ускоряет. А потому как нельзя. Он на службе. Никто не должен видеть его слабости. Вон, все бегут под дождем, а он даже ход замедлил. Не страшны ему ни дождь, ни ветер. Через несколько дней окажется под снегом — и будет так же идти медленно и с молитвой осенять крестом всех движущихся мимо него в теплых автомобилях грешных соплеменников.
В России всегда любили юродивых и странников. Но меня в этой истории поразило то, что этого болящего бродяжку слушают полицейские и даже делятся своим уловом. Ни предыдущего министра, ни журналистов, разоблачавших их подвиги, не боялись, а вот Виктора Петровича — Победителя Каменного устыдились. Значит, есть люди, которым полезен и такой способ напоминания о воздаянии за грехи. А что, если его на расхитителей казны и взяточников напустить. Может, Победитель Каменный и непобедимую коррупцию победит. Не зря же «победителем» зовется.
Учу вас, учу
Об отце Василии Ермакове мне писать сложно. Так много пережито такого, о чем не расскажешь посторонним. Да и за каждое слово придется отвечать. Я смотрю на его ласковое лицо, глядящее на меня с фотографии над моим письменным столом, и читаю укор в его взгляде. Эх, несоделанное мое… А ведь так много можно было сделать под его окормлением. Я узнал об отце Василии от своих коллег — режиссера научно-популярной киностудии Дмитрия Дслова и оператора Сергея Левашова. Они к тому времени уже несколько лет ходили в Серафимовский храм. Я же, когда возникала нужда в духовном совете, ездил в Псково-Печерский монастырь к отцам Адриану и Иоанну (Крестьянкину). Но в большинстве случаев поступал по своей воле.
«Зачем ты ездишь в Печоры, когда сам отец Иоанн благословил всех питерцев ходить к отцу Василию на Серафимовское!» — упрекали меня друзья-семинаристы и «академики». (Я тогда в основном ходил в лавру и семинарский храм).
Через некоторое время Инна Сергеева, работавшая на кухне при Серафимовском храме, сказала, что отец Василий ждет меня. Я принял это за шутку. Прошло года два, и Инна снова напомнила мне об этом.
— Да как он может ждать меня, когда я его никогда не видел. Нешто я Нафанаил под смоковницей?
— Вот иди — и узнаешь.
После некоторого колебания я все же отправился на Серафимовское. Было любопытно узнать, отчего меня ждет батюшка, но была еще одна причина. Я подружился с ныне покойным отцом Михаилом Женочиным, и он звал меня к себе в Гдов, где он строил храм. Звал он и молодых людей, объявивших себя казаками: там и граница, где они могли быть полезными, и земли вдоволь — можно отстроиться и создать казачью станицу, которая могла бы стать центром возрождения казачества с летним лагерем и духовно-просветительским центром. Местные люди к вере были равнодушны, и отец Михаил хотел создать из земляков ядро, вокруг которого можно бы было организовать приход и интересную приходскую жизнь. Но желающих уехать из Петербурга в провинцию не нашлось. Я же очень хотел поддержать отца Михаила и даже избу купил по соседству с ним.
Места там замечательные и мне знакомые. Рядом церковь — единственное, что осталось от имения Кярова, принадлежавшего графу Коновницыну — герою войны 1812 года. В ней несколько лет служил отец Роман Матюшин. Я навещал его и слушал только что написанные им песни. За рекой — развалины имения князей Дондуковых-Корсаковых. В пяти верстах Чудское озеро. Грибной и ягодный лес начинался сразу за деревней. Я действительно собрался перебраться туда. Моя жена сказала, что нужно на такое серьезное дело взять благословение у опытного священника, и мы отправились к отцу Василию. Встретил он нас так, будто действительно ждал несколько лет. О Гдове велел забыть: «Чего тебе там? Ходи ко мне. И тут дел навалом».
Так мы стали «серафимовскими». Жили мы в Купчино. Дорога до Серафимовского храма была дальняя. Езда с двумя пересадками. Дети маленькие. Приходилось брать с собой еду, запасную одежду и все, что может понадобиться малышам. Я роптал: «Зачем детей мучить? В храме давка — не протолкнешься. Появятся вопросы — съезжу за советом». Но жена была непреклонна. Уверяла меня, что к отцу Василию нужно ездить на службу. И мы ездили. Наши новые знакомые в один голос говорили, что у тех, кто ходит к отцу Василию, жизнь непременно налаживается. По его молитвам люди исцеляются и избавляются от всяких бед. К нашей подруге вернулся муж, бросивший ее с двумя детьми. Она несколько лет практически не покидала храм. Батюшка говорил ей: «Ходи-молись. Вернется твой разбойник».
У батюшки был особый дар проявлять любовь так, что человек не только чувствовал эту любовь, но еще и был уверен в том, что его-то батюшка любит больше, чем прочих. Мне тоже так казалось. Когда я появлялся в храме, батюшка подмигивал мне и на всю исповедальню объявлял: «Богатырев явился. Вот он — богатырь земли русской». Я всякий раз конфузился. Господь силушкой меня не наградил, и фамилии своей я не соответствую. Тем более что в детстве и юношестве нередко находились любители испробовать на деле, каков я богатырь. Драться я не любил. Никогда не мог ударить человека в лицо. И богатырство мое нередко бывало посрамлено. А после такого батюшкиного приветствия я чувствовал себя самозванцем и испытывал неловкость. Люди, пришедшие к батюшке намного раньше меня, не скрывали своего раздражения, видя во мне выскочку, ничем не заслужившего сугубого батюшкиного внимания.
Между тем я был введен в «ближний круг» — приглашен в алтарь и к участию в чаепитии и трапезе. По этому поводу я испытывал сложные чувства. Стыдно, но это льстило моему самолюбию, но еще больший стыд я испытывал от того, что многое из заведенного на кухне меня раздражало. Женщины, стоявшие на кухне, при открытых в алтарь дверях могли во время службы засунуть в алтарь голову и что-то довольно громко сказать батюшке. И батюшка их за это не ругал, не налагал епитимий. Раздражало меня и то, что этот «ближний круг» занимал много батюшкиного времени пустыми разговорами в то время как во дворе стояли толпы людей с реальными бедами и проблемами. Некоторые приезжали из других городов. Вопросы у «приближенных» зачастую бывали совершенно пустые. Однажды пожилая женщина, знавшая отца Василия еще со времени его служения в Никольском соборе, перебив всех, громко вопросила: «Батюшка, на каком трамвае благословишь домой ехать?» — «Поезжай на сороковом».
Вопрошательница вдруг громко зарыдала. Видно, по сердцу был другой номер.
Позже я понял, что батюшке после службы нужно было просто отдохнуть с давними знакомцами. С ними он мог расслабиться. Серьезные беседы требовали большого расхода душевных и физических сил. А сил оставалось все меньше. Иногда он садился на диван в пономарке и сразу же начинал похрапывать.
Но проходило несколько минут, и громкий голос кого-нибудь из алтарников или дьяконов будил его. Меня всегда огорчало то, что окружавшие батюшку люди не берегли его сон. Он же после прерванного краткого сна вставал и устремлялся по своим делам, никого не упрекая и не ругая. Нередко он появлялся в храме в шесть утра и уходил поздно вечером. В перерыве между службами общался с народом.
Часто можно было услышать с сокрушением произносимую фразу: «Учу вас, учу, а всё без толку». Многие не понимали: чему он нас учит? А суть его учения заключалась не в том, как готовиться к причастию и сколько канонов прочесть, а в привитии человеку понимания того, что Церковь — это Мать. И без Нее нет спасения в этом мире. Он прививал живое чувство веры. К одним он был строг. Иногда до чрезвычайности. К другим же проявлял снисхождение, понимая, что бремена непосильные могут отвратить их от спасительного пути.
Батюшка часто давал советы в шутливой форме. Новоначальной прихожанке, хотевшей каждый день прочитывать Псалтирь, он дал такое благословение: «Ты, мать, запомни: утром — утреннее правило, а вечером — вечернее. И смотри — не перепутай».
Если он видел в человеке гордеца и чувствовал, что тот не станет выполнять его советов, на заданные вопросы батюшка мог довольно резко ответить: «А я почем знаю? Ты человек ученый, а я мужик деревенский. Чего у меня спрашивать. Ты сам все знаешь».
Муж сестры Тамары Глобы (бывшей не Глобой, а Трескуновой — ассистенткой на картине, снятой по моему сценарию) жаловался мне на отца Василия. Тот на его разглагольствования махнул рукой и послал его вон. Времени у батюшки на интеллигентскую болтовню, целью которой было утвердиться в безбожии или какой-нибудь гуманистической благоглупости, не было. Он с большим удовольствием шутил по поводу гордыни и непробиваемости «ученых мужей». И очень ценил хорошую шутку. Но только если она не была пошлой. «Ад достоин всяческого посмеяния». Поэтому батюшка радовался, как ребенок, когда удавалось уязвить врагов Церкви. Он сам часто подтрунивал над занудами и людьми, полагавшими, что он будет за них молиться, а им уже ничего не надо делать для собственного исправления.
Мне постоянно говорили, что я обязан снять фильм о батюшке, и я для начала снял несколько его служб. Но когда я пытался снимать отца Василия в непринужденной обстановке, он всегда либо махал руками и приказывал прекратить съемку, либо становился неестественно важным. Батюшку нельзя было заставлять «петь не своим голосом». Не нужно было просить его рассуждать на богословские темы. Батюшка же сам о себе говорил, что он «практик». Феномен его служения заключался в молитве о вверенных ему чадах. Нужно было не организовывать съемку — он терялся и терял естественность при нацеленной на него камере, а подсматривать, как он общается с людьми. Но этого он в ту пору не позволял. Камеры в храме появились гораздо позже. В последние годы иногда батюшку снимало несколько десятков наших прихожан и «не наших», приехавших к нему за советом. Все же мне удалось побывать с ним на его родине и снять его в естественной обстановке.
Мы встретились не договариваясь в Оптиной пустыни. Он приехал туда из Волхова с орловскими родственниками. Рядом с монастырем поселилась наша общая знакомая — монахиня из Москвы. Она пригласила нас на чай после воскресной литургии. В числе приглашенных был некто Мыкола, приехавший в Оптину из Полтавы. Он прошел сквозь огонь, воду и все известные музыкальные инструменты. По природе очень деловой человек, он с легкостью придумывал и совершал авантюрные дела, а результат довольно скоро пропивал и прогуливал. Такая жизнь опустошила его. Потеряв к ней интерес, он по чьему-то совету приехал в Оптину пустынь. Но понять, для чего взрослые люди часами стоят, слушая монашеское пение, он долго не мог. Прошло немало времени, прежде чем он в первый раз исповедался. Но и это не помогло. Он сидел с нами за столом, с удивлением прислушивался к нашему разговору.
— Что, Мыкола, молчишь? — спросил его отец Василий.
— Да я слушаю. И думаю, — ответил он.
— Может, спросить чего хочешь? — продолжал батюшка. — Я вижу, у тебя много вопросов.
— Да на мои вопросы до утра отвечать будете, — усмехнулся Мыкола.
— Ну и давай поговорим до утра. Поехали со мной ко мне на родину, — неожиданно предложил батюшка. — Ты тут все равно ничего не делаешь.
Мыкола помолчал несколько минут, потом решительно мотнул головой: «Поехали».
— Ну и ты, Сашка, дуй с нами, — неожиданно обратился отец Василий ко мне.
Меня уговаривать не пришлось. Мы вышли с Мыколой из избы.
— Что это за батек? — спросил он меня.
Я сказал ему, что Господь призрел на него и послал ему именно того, кто вразумит его и изменит его жизнь. Мыкола недоверчиво пожал плечами и рассказал о неудовольствии батюшкой многих монахов. Дело в том, что отец Василий сказал после службы проповедь, в которой обличил некоторых монахов-младостарцев, возомнивших себя опытными духовниками. Батюшка знал много случаев, когда от чрезмерной строгости таких монахов люди приходили в отчаяние и переставали вообще ходить в Церковь. Досталось от батюшки и тем, кто вел яростную борьбу с ИНН. Я пообещал по дороге прокомментировать эту историю.
Мы выехали на двух машинах. Родственники отца Василия — на одной. Мы с отцом Василием и Мыколой — на мыколиной «шкоде». У ворот нас поджидала целая толпа питерцев, оказавшихся в этот день в Оптиной. Некоторые стали проситься с нами. Всем хотелось попасть с батюшкой на его родину.
— Еще увидите мою родину, — пообещал батюшка.
Так и произошло. Через несколько лет духовные чада отца Василия стали приезжать в Волхов целыми автобусами.
Мы сидели в машине, как батюшка вдруг приказал остановиться. Он вышел и направился к группе военных, шедших в сторону монастыря. Я поспешил за ним. Батюшка решительно встал у них на пути и, радостно улыбаясь, произнес длинную тираду, от которой военные буквально опешили. Это были генералы и полковники медицинской службы. В отце Василии трудно было признать священника: борода короткая, стрижка, в отличие от снующих повсюду монахов, тоже короткая. Одет в куцый плащик пятидесятых годов. На голове неказистая шляпа той же поры. Стоптанные грубые ботинки фабрики «Скороход». Что за человек?! Местный козельский дедушка, да и только. А дедушка этот радостно говорит им: «Верной дорогой идете, товарищи. Комиссары ее от вас долго загораживали. А вы — молодцы! Идите по ней всегда. Будьте настоящими воинами Христовыми. Тогда никакой враг вас не одолеет. Вы моложе меня. Не знаете войны. А я знаю. И знаю, что без Бога — не видать бы нам победы. Как только открыли коммунисты храмы, так и отступать перестали. И вы никогда не отступайте. Уповайте на Бога! Уж Он-то никогда не подведет!»
Военные медики слушали отца Василия, переминаясь с ноги на ногу. Были они ужасно похожи друг на друга: низкорослые, с одинаковыми пузцами и все как один совершенно без шей. Возможно, шеи и были, но они втянули их от испуга. В начале девяностых с военными еще так не разговаривали. Отец Василий широким крестом благословил их и попрощался за руку с каждым. Те послушно протягивали ему руки, но было видно, что смущение их еще больше усилилось. Генералы обычно подают руку первыми. Если вообще подают…
Сначала мы заехали в Шамордино. Монахини узнали батюшку, и буквально через минуту навстречу нам шла радостная настоятельница. Она провела нас в храм, рассказала о трудностях, с которыми постоянно приходится сталкиваться при восстановлении обители. Мы сходили на монастырское кладбище. Нам показали могилу сестры Льва Толстого. Батюшка спел «Со святыми упокой». Мы, как могли, подтягивали вместе с монахинями. Спустились к источнику. Потом батюшку на целый час увели от нас насельницы. Желающих получить духовный совет оказалось немало. Мы с Мыколой прошли назад по дороге, выбрали точку, и я поснимал прекрасные виды. Дорога к Шамордино лежит на вершине высокого холма, с которого открываются бескрайние дали. Сам холм широкой дугой опоясывает просторную долину. Внизу серебряной змейкой вьется речка с ракитами по берегам. За ней до самого горизонта луг с аккуратными стогами. Монастырь с островерхим храмом венчал правый край открывшейся перед нами картины, и казалось, что весь этот пейзаж придуман исключительно для того, чтобы подчеркнуть его величие и красоту.
Потом мы долго ехали вдоль пологих холмов, покрытых березовыми перелесками. Белые стволы казались прозрачными на фоне голубого неба. Подъехали к Белеву — родине поэта Жуковского. Грустная картина. Обшарпанные серые дома, давно позабывшие о существовании маляров и штукатуров. Разгромленные церкви. Огромные ямы посреди центральной улицы. Асфальт давно кончился, а за Белевом и грунтовая дорога практически прекратилась. Мыкола стонал и мычал, когда его новая «шкода» билась днищем о колдобины: «Долго еще так ехать?» — жалобно спрашивал он у отца Василия.
— Терпи, Коля, — смеялся батюшка. — Вот и немцы во время войны на своих «мерседесах» и «хорьхах» очень этим делом интересовались.
Пока дорога была еще проезжабельной, Мыкола задавал отцу Василию разные вопросы, из чего стало ясно, что он не имеет никакого представления ни о Церкви, ни о духовной жизни. Батюшка очень скоро утомился и, услышав очередной нелепый вопрос, кивал мне: «Ну-ка, скажи ему».
Я старался отшучиваться. Но если уместно было поговорить о чем-нибудь серьезно, то отвечал серьезно. Катехизация получилась забавной и продолжалась она без перерыва десять дней, поскольку после Волхова я пригласил Мыколу к себе в Петербург.
В одном месте батюшка попросил остановиться. Мы вышли и спустились в яблоневый сад. Я никогда прежде не видел такого изобилия. Ветки яблонь низко наклонились от тяжести огромных плодов. Вся земля была усеяна яблоками. Батюшка поднял несколько особенно крупных яблок и стал их по очереди надкусывать. Я последовал его примеру. Сладкие, сочные. Батюшка тяжело вздохнул: «Где же хозяин? Уже из Голландии и Израиля яблоки возим, а свои пропадают»…
В Волхов мы приехали поздно. Выпили чаю с бутербродами и стали устраиваться на ночлег. Нам с Мыколой определили по отдельному месту. Сам же батюшка лег с мужем своей племянницы на малоудобную полуторную кровать с панцирной сеткой. Все мои уговоры позволить мне лечь на полу закончились строгим батюшкиным приказом «лечь куда велено и не перечить». В первую ночь я так и не смог уснуть. Было ужасно неловко. Бедный батюшка! Такое неудобное ложе, да еще и на двоих. Но батюшка довольно быстро уснул. И сосед его тоже был горазд спать в спартанских условиях.
Утром мы пошли на кладбище поклониться батюшкиным родителям. Служить литию он не стал, тихо помолился и повел нас вверх по улице, ведущей к местной «поклонной горе». Там, на площадке с огромными бетонными буквами, сложенными в название города «Волхов», мы долго разглядывали лежавший под нами город. Я насчитал семь церквей вместе с развалинами Троицкого Оптина монастыря, стоявшего вне города на высоком холме. Но, кажется, были и другие церкви. Просто их не видно с той точки, где мы находились. Отец Василий стал показывать место, куда немцы гоняли его вместе с другими болховчанами на рытье окопов. Рассказал о том, как отступали наши войска.
Затем мы вернулись в город, перешли речку по подвесному мосту и пошли в сторону Троицкого Оптина монастыря. Проходя по улицам, по которым он ходил в школу и в церковь, показал места, где стояли соседские хулиганы, издевавшиеся над ним. Его дразнили «попом». Похоже, дело не заканчивалось одними оскорблениями. Но подробностей он нам не поведал. За речкой шла череда холмов, разделенных оврагами. Мы поднялись на ближайший, откуда открывался замечательный вид на ту часть Волхова, откуда мы пришли, где стоял родительский дом отца Василия.
Батюшка долго стоял, предаваясь воспоминаниям. Рассказывал о соседях, показывая, кто где жил и чем ему запомнился. Время было тяжелое. К его отцу часто приходили за советом соседи, попавшие в беду. В доме всегда было многолюдно. С той поры батюшка привык слушать «глас народа», вдаваться в детали и суть проблем. Он с детства узнал о нужде, людском горе. О репрессиях и зверствах безбожной власти ему было известно не понаслышке. Арестовывали священников, активных прихожан. Много людей исчезло безо всяких объяснений причин. Показывая, где стояла мельница, где были лавки на улице, спускавшейся к реке от соборной площади, батюшка покачнулся и чуть не наступил на свернувшегося клубком ежа. Более получаса он смеялся, рассматривал укутанного в желтые листья ежа, осторожно поддевал его носком ботинка, чтобы тот развернулся и побежал. Но тот только фыркал и оставался в прежнем положении. У меня что-то случилось с камерой, и я не смог заснять эту удивительную сцену. Жаль! Ах, как жаль! Батюшка был такой веселый, стал рассказывать что-то о детстве, чего я, к сожалению, не запомнил. Помолодел на глазах. И если до этого шагал с трудом (я боялся, что он не дойдет до монастыря), то после этой встречи с ежом он шел бодро, чуть ли не вприпрыжку.
У развалин монастырского собора настроение батюшки изменилось. Он погрустнел. Да и было от чего. Внутри собора зияли ямы — это комсомольцы искали сокровища. Стены были ободраны и испещрены непристойными надписями. Кресты сбиты. Заросли лопуха подошли вплотную к стенам. Воистину мерзость запустения.
Батюшка долго ходил, вздыхал: «Ничего у них не выйдет с их перестройкой, пока не покаются и не восстановят разрушенные храмы. Бог поругаем не бывает!»
Теперь, глядя на восстановленный монастырь, трудно представить, в каком положении он был двадцать лет назад.
Вечером мы с Мыколой помогали батюшке собирать яблоки в саду. Набралось два мешка. Как их доставить в Петербург? Я предложил Мыколе поехать ко мне в гости, заодно завезти яблоки батюшке. Обещал показать ему город, отвезти к Ксении Блаженной и к отцу Иоанну Кронштадтскому, а главное — чтобы он побывал на батюшкиной службе и познакомился с общиной Серафимовского храма. К удивлению, Мыкола сразу же согласился. Он сказал, что несколько раз уже беседовал с отцом Илием, а теперь неплохо бы сравнить двух старцев. Резоны его были малопонятны. Он решительно не понимал, как ему отказаться от мирских удовольствий, и полагал, что найдет духовника, который позволит ему и с барышнями веселиться, и кое-что для Церкви делать. Что именно — он представлял с трудом.
В Волхове мы пробыли три с половиной дня. Побывали на службе в двух действовавших тогда храмах. В храме Рождества Христова на всенощной. В этой церкви служил до войны отец Василий Веревкин. Этот священник сыграл очень важную роль в жизни батюшки. Под его водительством он делал первые шаги в Церкви. С ним молодой Вася Ермаков был угнан немцами в Эстонию, где обрел второго учителя — фактически спасшего ему жизнь. Это был отец Михаил Ридигер. С его сыном — будущим патриархом Алексием II отец Василий сохранил дружбу на всю жизнь. Но это особая история.
А в Волхове мы отстояли литургию во Введенской церкви. Батюшка сослужил настоятелю — молодому многочадному отцу Петру. Эта церковь запомнилась тем, что в ней хранилась деревянная статуя Николая Угодника, перенесенная из собора, да еще хором из четырех древних старушек. Они пели такими жалостными, дребезжащими голосами, что казалось: вот-вот испустят дух. И распев у них был особый — отдаленно похожий на обиход: неведомый девятый болховский глас для не столько поющих, сколько жалобно вопиющих.
После службы певчие вместе с другими старушками долго одолевали батюшку. Он рад был видеть знакомые с детства лица. Потом мы отправились на воскресную ярмарку. По дороге батюшка говорил о том, как он любит Волхов — город церквей. Сокрушался о том, что нынешний народ растерял веру и не испытывает нужды в храмах, которые воздвигли их предки. Я спросил его, не хочет ли он последние годы жизни провести на Родине. Он тяжело вздохнул: «Да как оставишь моих питерских чад»…
На ярмарке отцу Василию ничего не было нужно. Он просто хотел посмотреть на земляков. Он заговаривал с торговцами съестного и хозяйственного товара, делал вид, что приценивается, но ничего не покупал. Он довольно долго ходил по рядам. Мыкола томился, с тоской поглядывал на пивной ларек. Но мы условились, что ничего спиртного в Волхове пить не будем.
Собирались мы поехать в Спас-Чекряк, где служил причисленный к лику святых отец Георгий Коссов, но этим планам не суждено было сбыться. Появились какие-то люди, прознавшие о приезде батюшки.
На следующий день мы освящали дом вернувшихся с севера болховчан. Потом крестили на дому полугодовалую девочку. Я читал Апостол, подпевал батюшке. «Все, вернемся, я из тебя дьякона сделаю», — объявил мне свою волю отец Василий.
Но о поездке в Спас-Чекряк пришлось забыть. Племянница рассказала отцу Василию о каких-то семейных делах, требовавших скорейшего возвращения в Орел.
Батюшка с племянницей и ее мужем поехали в Орел, а мы с Мыколой на его груженной болховскими яблоками «шкоде» — в Петербург с заездом в тверскую деревеньку, где жила с дочерьми моя жена. Почти всю дорогу Мыкола рассуждал о рачительности «хохлов», их умении жить и о никчемности «москалей». Показывая на покосившиеся избушки, стоявшие вдоль дороги, он говорил: «Во москали, зробылы соби халабудок та и живуть потихесеньку. А шо це за життя!» Но когда халабуды сменились петербургскими дворцами, он поутих. Но тут уж я дал волю рассуждениям о дружбе народов, о преступлении политиков, о трагическом разрыве единого организма, о готовности лечь под наших врагов и об умении «грести до сэбэ», куда и Крым с Новороссией попали под сурдинку. Говорил я все это в шутливой форме, но мой гость «надувся».
В Петербурге ему понравилось. Батюшка встретил его, как старинного друга, обласкал и прилюдно заявил, что «у раба Божьего Николая все будет очень хорошо». Это обещание исполнилось. Мыкола теперь уважаемый человек — Николай Емельянович — хозяин гостиницы при Оптиной пустыни. Живет барином в огромном доме. Выстроил целую деревню, куда съехались прекрасные работники — родственники и полтавские знакомцы. У него тучное стадо дойных коров и бычков, десятки гектаров черноземов. Но главное — его стараниями восстановлен храм Ильи Пророка, куда на престольный праздник приезжают служить оптинские священники с несколькими автобусами паломников. Внизу под храмом Емельяныч расчистил источник и построил купальню. Говорят, вода в нем святая и уже отмечены случаи исцелений.
А вот со мной вышла незадача. Дьяконом я не стал. Конечно, по своим грехам. Да и слабаком я оказался. По приезде из Волхова батюшка установил череду, когда мне надлежало читать Часы и Апостол. Я встретил неожиданное противодействие. Чтецы всячески показывали недовольство появлением конкурента, а один священник преподал мне такой урок «христианской любви», что я долго не появлялся в Серафимовском храме. Когда же я снова появился и рассказал отцу Василию о причине моего исчезновения, тот горько вздохнул: «Эх, ты… Не мог потерпеть. Что, думал, тебя конфетами с букетами встретят? А как меня гоняли! От одного Кузьмича можно было в Антарктиду сбежать». (Кузьмич был стукачом из спецслужб в ранге старосты).
Он махнул рукой: «Давай, изживай гордыню. Кто тебе сказал, что тебя все будут любить и по головке гладить? Царство Небесное нудится. А ты думаешь, что жизнь — это ЦПКиО с каруселями и качелями…»
Больше речи о дьяконстве он не заводил. Фильм о себе велел пока не делать: «А то будет нам и от братии и от лжебратии».
Некоторое время он никому, кроме Людмилы Никитиной, не позволял себя снимать, но через несколько лет бороться с видеокамерами уже стало невозможно. И батюшка перестал обращать на них внимание. Мне он приказал собирать материал: «Потом поглядим, что с ним делать».
Дьяконом я не стал, но жизнь моя и вправду наладилась. Как-то незаметно выбрались из безденежья. Однажды батюшка в алтаре читал записки. В одной из них было 500 рублей. При свирепствовавшей тогда девальвации — копейки. Батюшка протянул мне эту купюру, подмигнул и сказал: «Копи деньги!» С тех пор худо-бедно, но ни одного дня не голодали. Хватало на все. Я уверен, что по батюшкиным молитвам мы и квартиру в центре города получили в номенклатурном доме. Шансов не было никаких, ан получили. Была еще одна беда, которой удалось избежать. Меня оклеветали и могли посадить на четыре года за то, что я организовал протест против увольнения с работы замечательного человека. На его место метила любовница очень большого начальника. И я попал в ситуацию: завертелась карательная машина, и остановить ее могло только чудо. И чудо совершилось.
Моя благодарность и любовь к батюшке велики, но и безмерно раскаяние оттого, что я много раз огорчал его. Ему нравились мои опусы, и он постоянно говорил: «Так держать! Громи фашистского бродягу! Пиши больше!» Но писал я мало. И молитвенник из меня не вышел. Разве что в оставшееся отпущенное мне время стану трудиться больше.
Прости меня, батюшка, окаянного.
О русском горе и об отце Егоре
В Орловской области, в двадцати верстах от Волхова, находится село Спас-Чекряк, вернее, то, что от него осталось. А осталось немного. Это тот самый Спас-Чекряк, «самый бедный приход Орловской губернии», из которого некогда собрался бежать ныне причисленный к лику святых протоиерей Георгий Коссов. Мы знаем в пересказе С.А.Нилуса, как Оптинский старец Амвросий вызвал его из толпы богомольцев и велел немедленно вернуться. Никогда не видев его прежде (да и был отец Георгий в штатской одежде), старец грозно напомнил ему о Том, Кто ставит пастырей на служение, и во всеуслышание произнес заготовленные отцом Георгием жалобы на то, что потолок в церкви обваливается, да крыша течет, да детей кормить нечем. «А ты новый храм строй, каменный, да полы теплые, деревянные. Народ будешь лечить».
Отец Георгий вернулся домой в великом расстройстве и недоумении. «Вот так утешил старец!» Хотел получить благословение на смену прихода, а тут такой наказ! Доходов никаких. Кругом нищета. Как тут каменный храм строить?! А главное даже не нищета, а непрекращавшиеся бесовские нападки и страхования. Порою пол в храме ходуном ходил и раздавались жуткие вопли…
Но велика сила благословения старца! Через несколько лет был построен не только большой каменный Спасо-Преображенский храм, но и трехэтажный приют для девочек-сироток, в котором в некоторые годы проживало до ста пятидесяти воспитанниц. Помимо этого отец Егор (так с любовью называл его простой люд), построил семь церковно-приходских школ.
За послушание и великие труды Господь наградил его даром прозорливости и целительства. Вот тут-то и пригодились теплые деревянные полы. Народ приезжал к нему за исцелением не только из ближайших сел, но и из дальних городов и весей. По его молитвам исцелялись больные и бесноватые.
К нему посылали страждущих Иоанн Кронштадтский и Оптинские старцы. А когда начались гонения на Церковь и Оптина пустынь была закрыта, тысячи богомольцев устремились к отцу Георгию. Так глухой деревенский приход стал всероссийской духовной лечебницей.
Большевики недолго это терпели. Церковь и здание приюта были уничтожены, отец Георгий арестован. В 1928 году он скончался, а семью его изгнали из дома и репрессировали.
От былого духовного центра остался лишь источник, освященный отцом Георгием. И в самые лютые годы гонений сюда не переставали приходить люди. Часты были случаи исцеления. Недавно заново обустроили колодец, построили купальню.
Протоиерей Василий Ермаков очень почитал отца Георгия и передал эту любовь своим духовным чадам.
Они организовали Паломнический центр и стали по нескольку раз в течение летнего сезона приезжать в Спас-Чекряк большими группами. В Волхове «питерцы» выстроили гостиницу для паломников. Когда отец Василий оказывался в родном городе, то сопровождал своих чад, рассказывая о прежней жизни Волхова. Он непременно посещал с ними местный Оптин монастырь и Спас-Чекряк.
А в последний свой приезд он несколько раз повторил: «Надо Спас-Чекряк возрождать. И церковь надо вновь строить». Тогда никто не понял, что это было его завещанием. Говорил он, как всегда, не приказывая, как бы рассуждая о том, что желательно сделать. И пожелание это воспринялось как одно из звеньев в долгой череде предстоящих дел. У некоторых спутников отца Василия тогда возникло тревожное ощущение того, что с родиной отец Василий прощается навсегда. Но подобные чувства и мысли всегда стараешься отогнать.
Вскоре мечту о восстановлении храма в Спас-Чекряке отец Василий закрепил благословением взяться за дело без промедления. Будущих строителей благословил и архиепископ Орловский Паисий. Но как не растеряться и не усомниться в необходимости строительства каменного храма в пустынном месте, куда и добраться-то можно только в сухую погоду. Разбитый асфальт заканчивается за две версты до Спас-Чекряка, а дальше начинается укатанная земля с рытвинами и колеями, по которой в дождливую пору можно проехать только на тракторе.
И для кого строить? В местной школе пятнадцать учеников и семь учителей, не уличенных в религиозной жажде. В полуразвалившемся казенном бараке доживают несколько пенсионеров в сообществе коз, десятка кур и изрядного количества разномастных котов и кошек.
В километре-другом, за оврагом, где когда-то воспитанницами был вырыт пруд, видны крыши домов, в которых поселились выходцы с Кавказа. Нетрудно догадаться, что радетели о демографической безопасности России обеспечили заселение быстро вымирающих орловских деревень «лицами неправославного вероисповедания», которым вряд ли понравится идея постройки по соседству православного храма.
Мы были в деревнях, где еще пятнадцать лет назад было полторы сотни жителей. Теперь там четыре избы с двенадцатью обитателями. Заехали мы в самую глушь, где поля, отрапортованные в недавних сводках как вспаханные и засеянные, густо покрыты метровым березовым подростом. Особенно запомнилась деревня с чудным названием Кремль. В Кремле еще сохранился один из нескольких скотных дворов. Увидели мы и живого человека. Он ехал в мотоцикле с коляской, груженной всякими железяками. Сбор железа в брошенных домах, помимо грибов и ягод, — один из немногих отхожих промыслов.
Мы спросили «кремлевского мечтателя» о его заветной мечте. Нетрудно догадаться, что наш диалог мало походил на разговор товарища Ульянова-Ленина с Гербертом Уэллсом. Мечта орловского кремлевца была скромна и понятна каждому гражданину, сумевшему без особых потерь скоротать время до тихих апрельских сумерек. Увы, даже если в этот вечер ему удалось бы разжиться вожделенным напитком, она не воспарила бы до масштабов нового ГОЭЛРО, хотя электрический провод в его коляске поблескивал.
Так для кого же строить храм?
Отец Василий, приезжая в Волхов, сокрушался о том, что его земляки так равнодушны к вере. Целые автобусы питерских и московских паломников время от времени заполняют болховские храмы. А местных среди богомольцев — по пальцам перечесть.
А какие в Волхове храмы! Трудно представить, что до революции их было 28. Даже при семи оставшихся Волхов кажется городом сплошных церквей. В последние годы прекрасно отреставрировали ансамбль Спасо-Преображенского собора и Георгиевский храм, в котором, кстати, служил сын отца Георгия — Николай. Неплохо сохранился и центр города с домами дореволюционной постройки. Многие дома отремонтированы и покрашены.
Горят на солнце кресты и купола Спасо-Преображенского собора. Сверкает луковка колокольни Георгиевского храма. Пятнадцать лет назад, во время моего первого приезда в Волхов, колокольня была обезглавлена и весь город казался вымершим и лишенным души. Теперь же город преобразился. Вдали, за оврагами, покрытыми березовыми перелесками, на высоком холме виден пятиглавый собор местного Оптина монастыря. Он органично и торжественно завершает панораму города — словно нужный и точный мазок на великолепной картине. А ведь и этот монастырь еще недавно серел печальными руинами.
Болховчане говорят: «Это все молитвами отца Василия». И тут же поминают губернатора Строева, выделившего средства на реставрацию храмов.
Красив древний Волхов! Удивительно хороши его храмы. Жаль, молящихся в них маловато. Поэтому и говорили нам местные люди: «Чего удумали!
В Спас-Чекряке церковь строить! Что вам, болховских церквей мало?!»… Вот и заколебалась нетвердая в своих путях душа. А может, и вправду не стоит это затевать?
Может, мечте отца Василия не суждено воплотиться в жизнь… И сил особых нет. И денег потребуется немало… И от Питера не близкие концы. Надо бы народ привлечь не только питерский. Отец Егор для всей России был великим молитвенником и утешителем.
Чтобы развеять сомнения и привлечь к этому делу народ, мы решили снять фильм. Перво-наперво заехали в Оптину пустынь — туда, где началось возрождение Спас-Чекряка. Здесь наши сомнения сразу же стали рассеиваться. Нас принял и благословил отец Илий. Он тоже, как и отец Василий Ермаков, уроженец Орловской земли. Удивительно, что уроженцем Орла был и отец Иоанн (Крестьянкин).
Если отец Василий сокрушался о том, что если в его детстве и юности — в самый разгар безбожного лихолетья — в Волхове никто не вспоминал об отце Георгии, то отцу Иоанну посчастливилось десятилетним отроком побывать в Спас-Чекряке и даже прислуживать отцу Георгию. Несколько дней он — самый молодой — жил вместе с самой старой монахиней в его доме. Воспоминания об этом паломничестве он сохранил на всю жизнь и считал отца Георгия своим духовным отцом.
Понятно, что благословение таких замечательных старцев, как отцы Василий, Иоанн и Илий, да к тому же еще и земляков отца Георгия, не может быть простой случайностью. И не исполнить его нельзя. Они при жизни с большой любовью относились друг к другу. Отец Иоанн часто говорил приезжавшим к нему петербуржцам: «Зачем вы ко мне приехали? У вас отец Василий есть».
И отец Илий нередко отсылал питерцев к отцу Василию. Так они, по великой скромности, отсылали друг к другу людей, приезжавших за духовным и житейским советом. Каждый из них не считал себя истинным старцем, видя в своем собрате гораздо большие дарования.
Совершенно очевидно, что существует духовная связь между ними, отцом Георгием Коссовым и Оптинскими старцами. И наши сомнения, вызванные современным состоянием: безлюдьем, запустением, бедностью, отсутствием не только верующих, но и просто хороших работников, — по человеческому разумению не разрешимы. Но и во времена отца Егора трудно было представить, что в этом наибеднейшем крае начнется интенсивная духовная и хозяйственная жизнь. Крестьяне долго не могли поверить в то, что больной, кашлявший кровью священник осилит затеянное дело. Но по прошествии нескольких лет немало образованных господ стали приезжать подивиться его трудам. Правда, их поражала не столько церковная сторона жизни Спас-Чекряка, сколько невиданный педагогический опыт.
Княжна Оболенская — дочь известного декабриста — пожелала остаться здесь в качестве учителя и воспитателя навсегда.
Воспитанницы отца Георгия не только получали приличное образование, но и выходили в люди прекрасными работницами, умевшими и в поле работать, и ткать, и шить, и стряпать — все, что нужно и в крестьянском, и в городском быту. Но главное — они обретали духовный опыт и стойкость, которые так пригодились им, когда рухнули вековые устои русской жизни и всем им пришлось пройти через невероятные испытания.
Отец Георгий готовил их к самостоятельной жизни, как родной отец. Собирал им приданое, пожелавших вести иноческую жизнь устраивал в монастыри. Некоторые не хотели покидать приют и оставались в нем трудиться в качестве воспитателей и хозяйственных работниц.
О чудесах и подвигах отца Георгия Коссова уже написано несколько книг, но самое большое его чудо — это его воспитанницы. Им он передал свою любовь и воспитал их настоящими христианками. Многие из них прожили, безо всякого преувеличения, свято и, надеемся, встретились со своим духовным отцом и учителем в светлых обителях Царства Небесного.
Так для чего же нужно восстанавливать храм в глухом месте, где он, как всем кажется, никому не нужен? А для того, чтобы возродить жизнь. Нет храма, нет молитвы, нет молитвенников — и прекращается жизнь.
Один местный священник рассказал нам о селе, где жила всеми почитаемая старушка. Там не было церкви. И люди со всей округи приходили к ней с просьбами помолиться об усопших, спрашивали, что надо делать в тех или иных случаях. Ей приходилось мирским чином отпевать умерших, а многих и крестить на смертном одре.
Но вот умерла она — и в несколько лет от села ничего не осталось, поскольку с древних времен известно: не стоит село без праведника. Именно там, где сгущается мрак, нужно зажечь светильник. Огонек слабой свечи или единственной лампадки рассеивает мрак. Это уже не кромешная тьма. Затеплился свет — и на него рано или поздно пойдут заблудившиеся во мраке люди.
Ведро незабудок
Всякий раз, когда я направлялся через парк к дому моего друга, я встречал ее. И почти всегда она шла мне навстречу. Лишь один раз я оказался позади нее и долго медленно шел, не решаясь ее обогнать. Она неожиданно обернулась и посмотрела на меня, как на старого знакомого. Я поклонился и поздоровался. Она радостно ответила и замерла, глядя сквозь толстые стекла очков, всем видом показывая, что ждет не только приветствия. Но я смутился и, не решившись заговорить, поспешил дальше.
Она всегда гуляла с коляской. Медленно катила ее перед собой и тихо напевала какую-то знакомую, но неузнаваемую мелодию. Она всегда улыбалась. Улыбка ее была странная, словно она совершила что-то запретное и вот-вот попросит прощения. Поравнявшись со мной, она всегда останавливалась, здоровалась и склонялась над коляской, приговаривая: «Ну что ты, Семушка! Все хорошо».
Сначала коляска была крытая для младенцев, потом сидячая. В сидячей я и увидел ее Семушку: безжизненное тонкое тельце и запрокинутую, склоненную вправо голову с полузакрытыми голубыми глазками. Казалось, что они подернуты пленкой, как у умирающей птицы.
Она стояла глядя мне в глаза и с неизменной улыбкой тихо произнесла:
— У него ДЦП. Церебральный паралич.
— Я вижу, — сказал я, не находя других слов.
— Значит, вы знаете, что это такое?
Я утвердительно кивнул.
Некоторое время мы постояли молча.
— Ну, вам ведь туда, — сказала она, показав головой направление моего постоянного маршрута.
И опять я не нашел что сказать. Извинился и побрел, отчаянно ругая себя. Когда не надо — балагур, а тут женщина явно нуждается в общении и теплом слове. Но что скажешь? С чего ни начнешь — одна неловкость. Начать расспросы о болезни ребенка? Произносить легковесные слова утешения? Как построить беседу, чтобы не ранить ее?..
Стыдно признаться, но меня смутило еще одно обстоятельство: она была красива. Не в современном понимании, совсем не то, что смотрит на тебя из каждого ларька с глянцевых журнальных обложек, а той благородной красотой, являвшей до недавнего времени женский идеал. Она была стройна, с копной светлых волос, забранных вверх в старорежимную прическу. Продолговатое лицо, немного длинноватый нос. Большие роговые очки совсем не портили ее. Наоборот — придавали некое качество: то, что у мужчин называется солидностью. Но в ней не было никакой солидности из-за постоянной улыбки. Очки, прямая спина, высокая прическа — она могла бы сойти за директрису института благородных девиц, если бы не эта улыбка. Она улыбалась, словно просила прощения у всех встречных за то, что у нее такой ребенок. Если внимательно рассмотреть ее черты по отдельности, а потом попробовать собрать их воедино, то должно было получиться очень строгое лицо. Либо что-то вроде лика античной богини. Но получилось нечто нежное, робкое и даже детское.
Возраст ее определить было трудно. Ей могло быть и сорок пять, и пятьдесят пять. Но больше всего поражали ее глаза. За стеклами очков они казались бездонными — словно два синих озера, рассматриваемые в окуляры бинокля.
Я боялся беседы с ней. И, завидев ее издали, стал обходить ее стороной. Не знаю, как далеко она видела в очках. И замечала ли мои обходные маневры. Иногда, когда она поворачивала лицо в мою сторону, мне казалось, что она видит меня. И я опускал глаза, притворяясь, что внимательно смотрю под ноги. Иногда, стараясь остаться незамеченным, наблюдал за ней. В какой-то момент она стала снимать своего Семушку с коляски и, поддерживая его за обе руки, помогала ему делать первые шаги.
Через год они гуляли без коляски: медленно проходили небольшие расстояния от одной скамейки до другой. Семушка с трудом передвигал ноги, подрагивая всем телом. Добравшись до очередной скамьи, они садились и подолгу отдыхали. Она что-то рассказывала ему, прижимая его к себе. Во время одной такой прогулки я буквально столкнулся с ними. Шел о чем-то размышляя, пока не оказался в двух шагах от них.
Она взглянула на меня все с той же улыбкой и, как будто продолжая только что прерванную беседу, радостно сказала: «Какое счастье, что в нашем парке есть скамейки».
— Да, действительно, — поддакнул я и неожиданно для самого себя сел рядом с ними. — Не возражаете, если я посижу с вами?
— Ну что вы. Я рада. И Семушка рад. Правда, Семушка? — Она наклонилась над мальчиком и поцеловала его в висок. Тот сидел, безучастно глядя перед собой.
— Какая красота, — вздохнула она и посмотрела мне в глаза.
Я отвел взгляд и поддакнул. В ее бездонных глазах было что-то завораживающее. Мне было неловко, словно я обманывал ее.
— А как хорошо, что рядом Нева. Я не смогла бы жить в другом районе. Скоро листья станут золотыми. Вы любите осень? — неожиданно спросила она.
— Наверно, нужно ответить: «Да, очень люблю». И тут же добавить: Пушкин не зря любил «пышное природы умиранье».
— А, вы, наверно, поэт. Я так и думала.
— Нет, сударыня, прозаик. Страшно прозаическая личность.
— Неправда, вы себя не знаете. Либо кокетничаете.
— Нет, правда. Я люблю лето. Люблю купаться в море. Что может быть прозаичнее! Теперь еще и для многих наших земляков эта проза стала недосягаемой.
— У лета своя поэзия. Только современные передельщики мира сделали ее слишком буржуазной. Из детской радости поплескаться в воде сотворили идола. Солнце и море превратили в какие-то культы Ярилы и Посейдона.
— Хорошо сказано. Вы, наверно, поэтесса, коли чувствуете собратьев по цеху.
— Нет. Я простая школьная учительница литературы. Сама писала стихи лишь в ранней юности. Но я чувствую людей. И знаю, почему вы целых три года не решаетесь заговорить со мной. Я даже знаю, что вас зовут Александром.
При этих словах мне стало не по себе. Я посмотрел на нее и не успел открыть рта, как она, звонко засмеявшись, добавила:
— Я это точно знаю.
— Понятно, — промямлил я. — Литературу вы преподавали в школе. Но не в простой школе, а школе КГБ.
Она еще звонче рассмеялась.
— Я видела вас в лавре. 12 сентября и 6 декабря. В дни памяти Александра Невского. А коль скоро в другие воскресные дни вы в лавру не ходите, стало быть, вы именинник и Александр — ваш святой. Так что никакой вы не Эдуард.
— Почему Эдуард?
— Сама не знаю. Первое пришедшее на ум имя, которое никак вам не идет. Так что, Александр, позвольте представиться: я Ольга.
— Могли и не представляться. Вас никак иначе и не назовешь.
Я почему-то был уверен, что ее зовут именно Ольгой. Хотя она могла быть и Александрой и Елизаветой. В профиль она немного походила на императрицу Александру Федоровну.
— И вы регулярно ходите в лавру?
— Да. Но на престольные праздники хожу и в другие церкви. Если удается упросить Лену посидеть с Семушкой.
— А кто эта Лена?
— Его мать. Моя дочь.
И Ольга все с той же улыбкой стала рассказывать о себе и своих близких. Первые минуты нашей беседы я чувствовал неловкость. Это было так похоже на забытую со времен молодости предамурную игру. Соседство красивой женщины волновало меня. Но по мере ее рассказа чувства мои менялись, и мне вдруг стало невыносимо жалко эту женщину. До рождения Семушки в их семье было двое мужчин. Когда узнали, что Семушка болен, первым сбежал муж дочери. А ее муж в несколько месяцев превратился в злобного алкоголика. Он и раньше не упускал возможности кутнуть с коллегами по работе. Но это случалось нечасто. А тут — каждый вечер. И самое ужасное, он стал бить ее и ее старенькую мать. Побои сопровождались диким ревом, угрозами убить и страшными проклятиями. Он обвинял Ольгу в том, что она сломала ему жизнь, что она перестала обращать на него внимание. Последний упрек, казавшийся ему главным, отчасти имел основание. Всю свою любовь и нежность она переключила на больного внука. Она вскидывалась по ночам, прислушиваясь к тому, как он дышит. Ей казалось, что он может с минуты на минуту умереть. Она сама не понимала, почему это маленькое слабое тельце заполнило ее сердце. Ни дочь, ни мать ей уже не были так дороги, как прежде. А муж, требовавший от нее супружеской нежности, стал просто невыносимым. Она видела в нем бесчувственное животное, понимая, что ему нужна прежняя жена, но быть ею уже не могла. Попытки объясниться с ним ни к чему не привели. Он требовал, чтобы дочь забрала своего «урода» и оставила их с матерью в покое. Но Лена не могла этого сделать. Она не могла оставить работу. Но главное — она хотела выйти замуж. Она была уверена, что не найдет мужчину, который мог бы ее взять в жены с больным ребенком. Ольга вынуждена была уйти с работы и целый день проводила с внуком. И чем больше проходило времени, тем дороже он ей становился. Когда он смотрел на нее своими поблекшими глазками, полными любви и страдания, ей казалось, что Сам Христос смотрит на нее. И ее сердце замирало. Ничего подобного она не испытывала, общаясь с дочерью, когда та была в младенческом возрасте. Она почувствовала присутствие Божие в ее жизни. В молитвенном чувстве, почти никогда не оставлявшем ее, она получила великое утешение и радость. С тех пор улыбка не сходила с ее лица. Люди принимали ее за чокнутую (она не раз слышала: так ее называли соседи), за блаженную. А она и впрямь ощущала себя блаженной от переполнявшего все ее существо блаженства. Никто не говорил ей о Боге. Он Сам позвал ее, и она услышала Его зов. Помимо молитвы — простой, своими словами — она стала ходить в храм. Потом она узнала об Иисусовой молитве и нашла еще большее утешение в этом коротком прошении: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Семушку (его назвали Симеоном в честь Симеона Богоприимца) она водила в храм в будние дни, когда было мало народу. Причащала его часто и надеялась на чудо: на то, что Господь исцелит его. Но помимо этой надежды, был еще и страх. А вдруг он, исцеленный, станет таким, как все. Вернее, как многие: грубым, как его дед и отец, как многие соседские парни. И она в страшной растерянности не знала, о чем просить Бога. «Господи, Ты Сам знаешь, что лучше для его спасения. И моего. Сделай так, чтобы после моей смерти ничего плохого с ним не случилось». И она стала мечтать о том, чтобы умереть с Семушкой в один день.
— Вы первый, кому я это рассказываю, — она неожиданно прервала рассказ.
Я не знал, как реагировать на это признание. Молча поцеловал ей руку. Несколько минут мы сидели молча.
— Неужели ваш муж не почувствовал того, что происходило в вашей душе?
— Почувствовал, — вздохнула она. — Беснования его усилились. Он несколько раз чуть не убил меня. Мне пришлось развестись с ним. Он иногда звонит и просит позволения вернуться. Но я не могу его видеть.
Мы снова помолчали.
— Не думайте, — вдруг встрепенулась она. — Он не был чудовищем. Мы не так уж плохо жили с ним. Он талантливый конструктор. Его ценили на работе. Просто он не выдержал испытания. Мало кто из мужчин остается в семье с больным ребенком. Мой зять, уходя от Лены, говорил, что мечтает о здоровом наследнике. А с Леной может повториться та же беда… Он даже извинялся и иногда приносит деньги для Семушки.
— А алиментов не платит?
— Нет. Лена заявила, что ничего от него не нужно. Он и успокоился. А редкие жертвы он приносит мне.
В это время мимо нас пробежали два мальчугана. Они захлебывались от смеха и толкали друг дружку локтями. Я посмотрел им вслед и перехватил взгляд Семушки. Он смотрел на меня настороженно и с тревогой. Это был его первый опыт терпения: бабушка так долго общается с незнакомым мужчиной. Не с ним, а с посторонним человеком. Но от этого человека не исходит опасность. Это он чувствовал и не знал, что с этим делать. Ольга заметила наши «гляделки» и крепче прижала внука к себе: «Все хорошо, Семушка». Но Семушка ей не поверил. Он стал постанывать, а потом захныкал.
— Да что с тобой! Видно, ревнует. Ну-ну-ну.
Ольга посадила внука к себе на колени, прижала к себе и стала убаюкивать, как маленького: «Успокойся. Дядя хороший. Он не обидит». Но Семушка стал вырываться, и хныканье превратилось в какой-то прерывистый гул со всхлипами. «Ну, хорошо. Пойдем домой», — успокоила она внука.
Мы поднялись. Несколько шагов она проделала держа мальчика на руках. Потом опустила: «Тяжеленький. Нет уж у бабушки силушки…»
Она опустила внука на землю и тихо повела его за руку. Он затих и сосредоточил все внимание и силы на ходьбе: посапывая, с усилием передвигал ногами. Я протянул руку, но он отдернул свою и отвернулся.
— Ревнует, — улыбнулась Ольга.
И я вдруг вспомнил, что, рассказывая о своей жизни, она перестала улыбаться. Я впервые увидел ее серьезное лицо. Оно было очень красивым и одухотворенным. А теперь она снова робко улыбалась. Казалось, что она жалеет о своей откровенности и попросит у меня прощения. Она вдруг вскинула голову и, повернувшись ко мне, быстро проговорила:
— А мой муж мог быть и рыцарем. Он бывал галантным. Однажды принес мне целое ведро незабудок. Купил у бабушки возле метро. Я была очень тронута.
— Простите, незабудки — это такие маленькие, голубенькие?.. — растерянно спросил я.
— Да-да, — весело подтвердила она.
Господи, да такой тонкой, красивой женщине нужно розы носить огромными букетами… Незабудки… Целое ведро.
— Простите, а какие еще цветы приносил вам муж?
Ольга задумалась.
— Не помню. Вообще-то он меня не баловал…
Я проводил ее до самого дома. Семушку пришлось взять на руки и отнести на второй этаж. Он не сопротивлялся. Лежал безжизненно, отвернув от меня голову.
— Вообще-то он сам поднимается, — виновато улыбалась Ольга.
Распрощавшись, я побежал к метро. Дюжина пожилых женщин выставили прямо на асфальте плоды своих дачных трудов. Народ спешно проходил мимо, не задерживаясь и не глядя на выставленный товар. Я пробежал глазами по кучкам грибов, стеклянным банкам с домашними солениями, пучкам зелени и связанным веткам калины. Одна старушка стала уговаривать купить у нее огромную тыкву. В конце ряда я наконец увидел двух женщин с цветами. У обеих были хризантемы. Одинаковые, не очень пышные, в отличие от огромных голландских. Простые, осенние — те, что сажают почти у каждой дачи. У одной женщины оставалось два небольших букета по семь цветов. У другой хризантемы стояли в синем пластмассовом ведре. Обе наперебой стали предлагать мне цветы, расхваливая их достоинства. Я прервал их хвалебные оды и сказал, что куплю все и даже ведро. Хозяйка ведра опешила и стала что-то говорить о невозможности возвращения домой без ведра.
— Да что ты, Зин, — перебила ее соседка. — Выручай человека. Куда ж ему без ведра! Вон хозяйственный. Щас купишь новое, — она махнула рукой в сторону магазина.
— А за ведро заплатите? — недоверчиво спросила Зина.
Я молча протянул деньги.
Ольгин подъезд оказался запертым, а я не посмотрел, какой у нее номер квартиры. Пришлось поджидать кого-нибудь из жильцов. Я вырвал из блокнота лист и написал на нем: «Простите, Ольга, незабудок не было». Лист вложил в цветы.
Буквально через минуту к подъезду подошла девушка. Она с удивлением посмотрела на мое ведро и вдруг спросила: «Продаете?»
Я засмеялся и отсчитал ей семь хризантем. Она стала отказываться. И вдруг настороженно спросила: «А вы к кому?»
Я вздохнул:
— Не бойтесь. Я не маньяк. Маньяки ходят с букетами, а у меня ведро. Эти цветы прислали мальчику Семушке со второго этажа. Знаете такого?
Девушка радостно закивала.
— Вот ему и передайте.
— А что сказать? От кого?
— Скажите, что Андерсен просил передать.
— Андерсен?
— Да, Андерсен. Христиан.
— Хорошо, скажу, — сказала она совершенно серьезно.
— Имя у вас редкое. Христиан. Я запомню. А может, вы сами передадите?
— Да нет. Подарки должны приносить феи.
— Или Дед Мороз.
Она открыла дверь, я вручил ей ведро. Семь хризантем протянул ей: «Это вам».
— А не подумает ли его мама, что я сама взяла себе эти цветы?
— Не подумает. Она хорошо знает Андерсена.
Девушка кокетливо улыбнулась: «Пока-пока!»
А я зашагал к метро.
— Да, Дед Мороз. Именно дед. Дед — и никакой лирики.
Святки по-советски
Это было в те незабвенные времена, когда русские люди не знали таких страшных слов, как «менеджер», «дилер», «провайдер», «девелопер», «реализатор» и прочих. А если и знали, то не употребляли их в обыденной жизни. То, что теперь называют «презентациями», у той части пишущей братии, кто не имел шансов пройти сквозь цензурные рогатки, проходило на чердаках, в мастерских непризнанных художников, или в подпольях газовых котельных. Кто-то из поэтов был дежурным оператором той самой котельной, где читали гениальные вирши. А выступавшие и слушатели были либо их коллегами, либо дворниками, либо ночными сторожами каких-нибудь невоенных объектов. Были среди слушателей и вполне благополучные люди, сумевшие встроиться в официальные творческие структуры, были и законченные протестанты — протестовавшие против любых разрешенных властями форм жизни. И в первую очередь против брака и работы в приличных официальных заведениях. Были и соглядатаи. Но это никого не волновало. Главное было — прочесть. А степень таланта оценивалась степенью красоты девушки, соблазненной услышанными шедеврами.
После окончания университета я два зимних сезона проработал во вневедомственной охране. Устроил меня туда мой приятель — бригадир сторожей и кандидат филологических наук. Я стал сразу бригадиром, минуя чин простого сторожа. В мои обязанности входило: составление графиков дежурств, обеспечение выхода на объекты сторожей и периодические проверки того, как они несут службу. Я должен был появляться в конторе с докладами и всяческими профессиональными разговорами, чего я практически не делал. Это вызывало справедливое недовольство начальства. Но я ухитрялся не выходя из дому обеспечивать надежную охрану социалистической собственности. Я звонил своей братии и устраивал все по телефону. В случае, если кто-то заболевал, нужно было срочно организовать замену. Дело оказалось хлопотным и не всегда исполнимым. Осенью и зимой в Петербурге народ болеет часто. Приходилось несколько раз самому замещать захворавших. И я решил разжаловаться в рядовые сторожа. Сделать это оказалось непросто, но помог случай.
В Рождественский сочельник начальство собрало бригадиров на инструктаж и стало нагонять страху. Оказывается, в православные праздники нужно быть особенно бдительными. То ли они Гоголя начитались и боялись вылазок нечистой силы, то ли по опыту знали, что в любые праздники народ теряет бдительность, а враг, будучи хитрым и коварным, именно в такое время и совершает самые гнусные преступления. Забегая вперед, скажу, что в этом была сермяжная правда.
Убедившись в том, что на дежурство вышло все мое сторожевое воинство, я отправился на вечернюю службу в Князь-Владимирский собор. Но оказалось, что никакой службы вечером не было. Тогда я помчался в Спас-Преображенский собор. Но и там служить собирались лишь утром 7 января. Ни о каких ночных службах и речи не могло быть. Храмов в Петербурге было мало, да и самого Петербурга еще не было. В городе имени Ленина в Рождественский сочельник вечерних служб не проводили. Может быть, в кладбищенских церквях и служили, но в двух центральных, куда я сумел добраться, двери были наглухо заперты.
Участок мой находился на Петроградской стороне. Вспомнив о призыве начальства быть особо бдительными в ночь перед Рождеством, я вернулся во вверенные мне владения. В эту ночь дежурила одна милейшая старушка с громкой дворянской фамилией. Я решил начать обход с института, в котором она числилась стражем. Добрался до «объекта» и позвонил в звонок, прибитый к обшарпанной филенке старинной дубовой двери. Ждать практически не пришлось, из чего нужно было заключить, что «страж не дремлет и дело свое блюдет изрядно». Я поздоровался.
— С Рождеством вас, Нина Георгиевна!
— Вы знаете мое имя! — вспыхнула радостно бдительная дама. — И вас с Рождеством!
— Как не знать?! Дело нехитрое — в списке работников есть и фамилии, и имена-отчества.
— Да, но нас всех называют по фамилии с добавлением слова «товарищ».
— Если позволите, я этого делать не стану.
Объект проверки радостно засмеялась: «О, как я буду вам признательна. Позвольте вам по случаю праздника предложить чаю».
Я поблагодарил ее и с радостью согласился. Ее рабочим местом было просторное фойе, по которому гулял сквозной ветер. По этой причине Нина Георгиевна была в меховой безрукавке. Никакого диванчика. Лишь стол и стул. Я придвинул к столу табурет, стоявший у противоположной стены. Нина Георгиевна сидела за обшарпанным столом, накрытым оконным стеклом, под которым виднелись распоряжения, графики, таблицы с номерами телефонов и фамилиями, а над ней нависла кариатида, выкрашенная в синий казарменный цвет. Несколько раз на стол упали чешуйки старой краски.
Она поставила на стол стеклянную литровую банку из-под маринованных огурцов, налила в нее воду и сунула кипятильник. Электрочайников тогда не было. Вернее были, но не у всех и совсем не такие, как нынешние. А банки с кипятильниками ходили широко, особенно у командированных.
— Вам с нами в служебное время общаться вот так, с чаями-сахарами, не положено, — улыбнулась Нина Георгиевна.
Чувствовать себя начальником было очень смешно. Мы рассказали друг дружке, чем занимались до того, как попали на эту замечательную службу. Нина Георгиевна всю жизнь проработала в библиотеке, а на пенсии подрабатывала, чтобы поддержать правнучку-студентку. Я же не мог толком объяснить, почему молодой человек с университетским дипломом гуляет по широким проспектам северной столицы, мешая пожилым людям маленько вздремнуть. Я отшутился и сказал, что собираю материал для сценария об одиноком человеке в большом городе. Это будет что-то вроде советского Чарли Чаплина в «Огнях большого города».
Нина Георгиевна понимающе кивнула и вынула из сумки плоскую коробку.
— Как интересно… У нас и тортик есть шоколадный. Давайте праздновать.
— А что если мы тропарь Рождественский споем? — предложил я.
— Вы его знаете? — обрадовалась она. И мы запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш…» — Удивительно, — улыбалась Нина Георгиевна. — Не ожидала я, что мне в рождественскую ночь такую радость доставят. Очень вам благодарна. Может, еще кто-нибудь к нам с колядками заглянет…
Мы выпили с ней по три стакана, а потом я попросил ее рассказать какую-нибудь святочную историю из ее жизни. Нина Георгиевна задумалась.
— Вы знаете, что-то не могу припомнить святочных историй. Жизнь моя была непроста.
— Может быть, в детстве с вами случилось что-нибудь необыкновенное?
Она оживилась: «Детство у меня было замечательное. Отец служил офицером на Черноморском флоте, и мы жили в Севастополе. Прекрасное время!» Она немного помолчала.
— Ну, коль скоро вы знаете тропарь Рождества, а стало быть, человек церковный, я могу рассказать вам одну историю. Но только она не святочная — случилась она летом.
— Хорошо. Можно и летнюю историю.
— К нам в гимназию приезжала государыня императрица Александра Федоровна с девочками. С дочерьми. По дороге в Ливадию императорская семья всегда посещала Севастополь. Государь с наследником-цесаревичем бывали на кораблях, а Александра Федоровна — в нашей гимназии. Она даже взяла над ней официальное шефство. И вот выстроили нас, девочек, в каре вдоль всего коридора. А я была самая маленькая. У меня были кудрявые, совершенно белые волосы. И голубые глаза.
Нина Георгиевна смущенно опустила взгляд. У нее и сейчас были совершенно белые волосы и голубые глаза.
— Наверно, потому, что я была самая маленькая, меня директриса назначила приветствовать государыню. Я страшно испугалась, долго отказывалась, но меня все равно поставили на красную ковровую дорожку, и я под иконой Смоленской Божией Матери должна была сказать очень торжественные и высокопарные слова. Я их долго учила, но, как только увидела идущую прямо на меня государыню, все во мне оборвалось. Я забыла эти слова. И когда Александра Федоровна подошла ко мне, я только и смогла сказать: «Матушка-государыня, как я рада Вас видеть!» А все шепчут, подсказывают мне настоящие слова приветствия. Директриса что-то недовольное шепчет злым шепотом. А я ничего не слышу. Ноги мои подкашиваются. Я смотрю на царицу снизу вверх. Она такая большая, такая красивая, такая добрая. Смотрит на меня ласково и ждет: может, я еще что-нибудь скажу. Я и сказала: «Простите, матушка, не только я рада, все рады, что Вы к нам приехали. И счастливы». Тут я заплакала. А государыня наклонилась ко мне и поцеловала меня в лоб. Потом меня оттеснили. Я видела, как мимо меня проходят великие княжны. Такие красивые. А я еле на ногах держусь. Думаю, как строго меня накажут за то, что я все забыла. Даже боялась, что меня побьют. Вижу, девочки бегут ко мне. Ну, думаю, сейчас начнут бить. А они подбежали и стали меня в то место, куда государыня меня поцеловала, целовать. Вся гимназия меня целовала, и не только в тот день, но и потом еще долго…
Нина Георгиевна замолчала. Потом спохватилась и даже испугалась:
— Наверно, вы хотели что-нибудь другое услышать? Это ведь не святочная история.
— Я бы сказал, пасхальная.
Потом мы долго сидели и она рассказывала мне о своей жизни. Эти истории были далеко не святочными. Расстрел родителей, мужа, с которым она тайно обвенчалась, но не успела зарегистрироваться по советскому чину. О собственном путешествии по сибирским просторам ГУЛАГа. Ушел я от нее под утро.
Больше я никого не проверял. Я шел пешком по ночному зимнему городу. Прошел по Троицкому мосту (он еще назывался Кировским). Петропавловскую крепость тогда не подсвечивали. Но она была так великолепна, так таинственно темнела колокольня собора с высоченным шпилем на фоне мрачного неба с низкими тучами. И казалось, что это призрак Великой Империи грозно напоминает о своем былом величии и поражается тому, что град святого Петра забыл о радостном празднике. А между тем и Петропавловская крепость, и широкое заснеженное поле Невы с дворцами вдоль набережной и огромным зданием биржи, обрамленным с двух сторон ростральными колоннами, — этот неповторимый потрясающий пейзаж казался замершей декорацией для какой-то другой жизни. Не иначе, как в честь Своего Дня Рождения Господь прикрыл снегом красные полотнища с коммунистическими лозунгами, торчавшие почти на каждой крыше.
Все в спящем городе говорило о том, что его обитатели уже отгуляли свое. Новый Год прошел: бутылки из-под шампанского, бумажные трубки хлопушек, разноцветные крапинки конфетти, рассыпанные по снегу, — а до Рождества никому дела нет. На огромной елке у Гостиного двора горели цветные лампочки. Но большая красная пятиконечная звезда вместо Вифлеемской напоминала о том, что это новогодняя, а не рождественская елка. Всю дорогу я представлял маленькую Нину с кудряшками. Как ее целуют радостные гимназистки.
Ну, что ж. У меня тоже была подобная история. Только без целований. В отрочестве я был суворовцем. Однажды в нашу роту зашел начальник училища генерал Лазарев. Он прошел перед строем, поздоровался с нами, задал несколько дежурных вопросов командиру роты, а проходя мимо, погладил меня по голове. Как только он ушел и распустили строй, человек десять подскочили ко мне и стали давать подзатыльники, приговаривая: «Тебя генерал по голове погладил. А теперь мы тебя погладим».
…Не успел я прийти домой, как раздался звонок.
— Ты почему дома?! — кричали в трубке. — Немедленно к начальнику!
Как я был не прав! Оказалось, что в Петербурге не все забыли о Рождестве. В зоопарке украли гуся. Гусь был какой-то редкой породы и стоил немыслимой суммы в долларах. А зоопарк был моим объектом. Слава Богу, помимо старушки-«божьего одуванчика» зоопарк охраняли еще и профессионалы-милиционеры. Кого наказали помимо меня — не знаю. Но я был уволен из бригадиров и низведен в ранг рядового сторожа, о чем пламенно мечтал. Но главное — местом моего дежурства стал уютный особнячок на островах. В нем помещалось строительное управление. Я получил то, о чем и мечтать не смел. Жили мы тогда втроем в одной комнате, где некуда было поставить письменный стол. А тут — кабинет с пишущей машинкой, казенной бумагой, диваном и телефоном, по которому я мог звонить своим многочисленным иногородним друзьям. Ну, чем не святочная история?!
Беда. В сенях или при дверях
Мой друг решил убежать от антихриста. Решил — и убежал. Продал трехкомнатную квартиру в Москве и купил большой каменный дом неподалеку от знаменитого монастыря, чтобы быть поближе к своему духовному отцу. Правда, с Москвой он полностью не порвал. На оставшиеся от покупки дома деньги он купил однокомнатную квартиру и стал ее сдавать. Поступил он мудро, поскольку никаких заработков на новом месте он найти не смог. За преподавание в местной школе ему предложили 300 рублей, но потом почему-то и в них отказали.
Да, по правде, ему было не до заработков. Дом оказался холодным. Целый год он пытался его утеплить, постигая великую премудрость общения с народом, который норовил взять втридорога, а работу исполнить «втридешево». Материал, который ему доставали шабашники, оказывался никуда не годным. Печи, сложенные «печниками», отчаянно дымили, поглощали уйму дров и при этом едва нагревались.
В первую зиму все жизненные силы уходили на поддержание этих самых сил. Ко второй зиме печи были переложены. В доме стало теплее. Выращенные на собственном огороде огурцы и помидоры были закручены в банки. Из смородины и слив наварено варенье, и мой друг решил, что пора звать столичных гостей.
Я приехал в субботу. До всенощной оставалось полтора часа. Встретили меня радушно. С порога усадили за стол, налили огромную миску борща, и не успел я проглотить первую ложку, как хозяйка спросила: «Ты паспорт менять будешь?»
— Очень вкусно, — похвалил я борщ и чуть не поперхнулся.
Две пары хозяйских глаз смотрели на меня настороженно и тревожно. Я машинально провел рукой по бороде — капусты в ней не было, и я зачерпнул вторую ложку.
— Что, уже поменял? — испуганно спросила хозяйка.
Я понимал, к чему она клонила.
— Новый паспорт нельзя брать, — хозяйка почему-то перешла на заговорщицкий шепот.
— Почему? — я тоже понизил голос.
— Потому, что в нем есть графа ИНН.
Я понял, что с обедом будут проблемы. Второго мне уже не подадут. Не по жадности, а просто, заговорив об ИНН, через минуту они обо всем забудут — и об овощном рагу, и о крепеньких соленых огурчиках, и о всякой прочей снеди, готовить которую хозяйка была большой мастерицей. Поэтому, доедая борщ, я приналег на хлеб, слушая, как мои друзья рассказывали мне о трех шестерках и кознях министра Букаева, который обманул патриарха и убедил его в том, что в налоговом номере никаких шестерок нет.
— Но их там действительно нет, — возразил я.
— Может быть, и нет. А где гарантия, что их нет на другом конце при подключении к мировому компьютеру?
Я пожал плечами и облизал ложку. Борщ был действительно хорош.
Друга моего зовут Алексеем, а его жену — Екатериной. Когда она знакомится с новыми людьми, то, назвав свое имя, добавляет «великомученица». При этом она загадочно косится в сторону своего благоверного, давая понять, что велии муки ей приходится терпеть от него. Но все же, представляя его новым знакомым, не преминет назвать его «человеком Божиим», что — сущая правда. Уверовал он в Господа нашего десять лет назад, но так крепко, что мне иногда бывает страшновато. Человек он не книжный — из отставных военных. Любит во всем определенность. И когда говорят: «отец Феодосий благословил», то это значит, что хоть землетрясение, хоть цунами — благословение будет исполнено. А если отец Феодосий не благословил, то хоть ты его режь или по горло засыпь зелеными американскими деньгами, ни за что не нарушит этого неблагословения. И когда он сказал, что отец Феодосий не благословил брать новые паспорта, мне стало грустно.
Молчать было неприлично. Мы давно не виделись. Я попытался отшутиться.
— Хороши друзья! Нет чтобы расспросить о детях, о жене. Сразу про «краснокожую паспортину». Неужели паспорт с двуглавым орлом и Георгием Победоносцем хуже «серпастого и молоткастого»?
— Это все лукавство. Графы национальности в новом паспорте нет, зато есть графа ИНН.
— Далась вам эта национальность. Вы что, перестанете быть русскими оттого, что вам справки об этом не выдадут. Вон сатанистов поймали, которые кресты на кладбищах разбивали. Все как один русские…
— А кто их надоумил?
Я не знал, кто их надоумил, но знал наверняка, что в таком роде говорить можно до бесконечности. Я вспомнил, как в 1988 году вел подобный разговор о советском паспорте на Алтае со старообрядкой, которую почитали за пророчицу. Эта «дщерь Аввакумова» взяла мой паспорт, ткнула в печать и объявила, что это и есть та самая настоящая печать антихриста. А посему все, у кого есть паспорт, — его слуги. И гореть нам в адском пламени, невзирая на нашу любовь ко Господу и стремление жить «во всяком благочестии и чистоте». Я попытался возразить ей, и, надо сказать, вышло это у меня неплохо. Рассуждения о Божьем милосердии, которого не в состоянии одолеть никакие козни «товарищей», произвело впечатление на многих участников молитвенного собрания. Но моя оппонентка на слова о любви к ближнему разгневалась так, что глаза ее буквально загорелись, словно карманные фонарики. Я видел такое у бесноватых в Печорах.
Она задыхалась от гнева и по-бычьи ревела: «Какая любовь к никонианам, да еще и с паспортами?!»
Мой паспорт полетел мне в лицо. Слава Богу, что она не разорвала его. А то бы мне по сей день пришлось бродить по Алтайским горам. Потом она мигнула своим пасомым, и через минуту два дюжих ревнителя древляго благочестия потащили меня вон из избы. Бить они меня не стали, но о «никонианской» Церкви наговорили такого, чего христианам говорить никак не следует. Они не только проклинали священноначалие, но хулили святые Таинства. И все из-за того, что в кармане моем оказался документ, выданный «власть предержащими», которым каждый христианин обязан подчиняться.
Никакие цитаты из Евангелия не были услышаны. А про то, что кесарю надлежит отдавать кесарево, а Богу — богово, вызвало ярость не только у пророчицы, но и у всех собравшихся в избе. Да где ты кесаря видел? Они же его убили. Царя убили, да еще и в паспорта антихристову печать ставят!
Я рассказал эту историю моим друзьям. Алексей упрямо качнул головой:
— Здесь другое дело. Тогда хоть власть и была безбожной, но все же своя. А теперь нас подключают ко всемирному компьютеру, имя которому «зверь», и тут уж настоящая печать, потому что три шестерки на ней. Сказано, что число зверя — 666.
— Да нет там никаких шестерок. Это просто хулиганство. Кому-то очень хочется нас попугать.
— Пугать, не пугать, а теперь за каждым можно следить по компьютеру не выходя из кабинета.
— Да чего за тобой следить? Как ты картошку пропалываешь или «жигуленок» свой чинишь?
— Дело не во мне. Следить будут за всеми.
— Ну, пусть все и волнуются. Но ведь не волнуются. Волнуешься ты. Вон как Катю свою, великомученицу, разволновал.
Катю я помянул зря. Она вступила в разговор энергичнее мужа.
— Сказано, что никто не сможет ни покупать, ни продавать. Вот так и будет. Деньги отменят. Будут карточки электронные, а затем чипы будут вживлять под кожу. И каждый шаг будут контролировать.
— Но ведь бесы и так каждый шаг контролируют. Чего тебе бояться? И Ангелы все видят. И Господь все видит. Люби ближнего, молись и ничего не бойся.
Ну, хотят они подсматривать. И что мы можем с этими пакостниками поделать? Сейчас вот передачу придумали «За стеклом». Вся страна подсматривает в замочную скважину, и никто это за грех не считает. Народ подготавливают к тотальной слежке.
— А мы не хотим, чтобы за нами следили, — рассердилась Катя.
— И я не хочу.
— Так нужно протестовать.
— Вы зачем из Москвы уехали? Чтобы протестовать или спасаться?
— Вот мы и спасаемся, — теперь уже рассердился Алексей. — Отец Феодосий не благословил брать ИНН и новые паспорта.
— А патриарх благословил прекратить баламутить народ и прекратить священникам благословлять или не благословлять православных на принятие ИНН.
— А если его обманули? Министр Букаев говорит ему одно, а потом приказы рассылает — без ИНН даже пенсии не давать. На работу уже не принимают. Скоро вообще ничего нельзя будет делать. Даже за квартиру не заплатишь без этой ИНН.
— Так, может быть, не упрямиться и получить налоговый номер?
— Печать антихриста? — вскрикнула Катя.
— Послушай, если патриарх говорит, что это еще не печать антихриста, то не надо уподобляться старообрядцам, о которых я только что рассказал. Они в тех паспортах увидели печать, а вы в ИНН, а бес хохочет, ему только этого и нужно — посеять смуту, ненависть и страх. Ты посмотри, что делается! Старухи с транспарантами охотятся за патриархом. Отец Иоанн (Крестьянкин) написал: не бойтесь вы этих дурацких цифр. Бога бойтесь! Греха бойтесь!
— Отцу Иоанну легко. Ему жить-то сколько осталось? ! А что делать нашим детям? — вздохнула Екатерина и посмотрела на мужа.
— Мы ничего плохого не можем сказать про отца Иоанна, но и святые ошибались, — вздохнул Алексей.
В это время открылась дверь и вошла сухонькая старушка в черном пуховом платке. В руке у нее была огромная суковатая палка. Она молча перекрестилась на иконы и строго посмотрела на меня. Я почему-то подумал, что она подслушивала наш разговор и вошла, чтобы прервать его.
— Сейчас, матушка, поедем, — засуетился Алексей. — Друг наш приехал. Это матушка Феодора. А это Андрей.
Я поздоровался, старушка молча кивнула и посмотрела на меня еще строже. По дороге Алексей подобрал дочь Настю и еще двух старушек. Вместе с Екатериной нас оказалось пятеро на заднем сиденье. Настя села ко мне на колени и стала расспрашивать о моих дочерях. Но матушка не дала нам поговорить. Она громко стала рассказывать о какой-то рабе Божией, которая ослушалась батюшку Феодосия и приняла ИНН, а теперь приехала и плачет, так как нет ей никакой жизни. Благодать от нее отошла, и она страшно мается и тоскует.
Моя соседка с какой-то ожесточенной радостью подхватила тему:
— В Москве говорят, все, кто принял ИНН, бесноватыми становятся.
— А вот к отцу Игнатию пришла одна раба Божия и рассказала, что ей явился бес и сказал, что это он когтями полосы царапает и три шестерки ставит на всех продуктах.
Матушка повернулась вполоборота и, грозно косясь на меня, прорекла:
— А все оттого Господь это попустил, что архиереи не хотели царя-мученика прославить и соборного покаяния до сих пор нет. А коли так, чего ждать?
Она продолжала на меня коситься, ожидая моей реакции, но я решил молчать. Но тут за меня взялась соседка.
— А у вас чего говорят про ИНН?
— Не знаю, матушка, я нигде не бываю.
— Да он, видно, принял ИНН, — буркнула матушка и испугалась собственной догадке.
С минуту продолжалась тягостная пауза, потом моя соседка стала елозить острым локотком, то ли стараясь от меня отодвинуться, то ли уязвить побольнее, как отступника и еретика.
— Правда, что принял? — со свистом выдохнула она.
— Нет, не принял, — нехотя ответил я.
— Не принял, так примет, — сурово процедила матушка. Она смотрела не мигая на дорогу, на круговерть снежинок в ярком свете фар. Лицо ее было строго и торжественно. Она прозревала ближайшее будущее, полное скорбей и лишений, в котором ей уготовано место для подвига и где таким маловерам, как я, нечего делать. Я пытался вспомнить, кого она мне напоминала, и никак не мог. Было неловко оттого, что попал в компанию единомышленников, в которой решительно не знал, как себя вести. Я чувствовал, что и Катя, и Алексей недовольны мной. Я был соглядатаем, который мешал им и которого нужно было бояться.
Мои попутчики не просто молчали. Это было молчание против меня. Они молчали, ожидая моих разъяснений. В этот момент матушка слегка повернула лицо в сторону Алексея, и я вдруг понял, кого она мне напомнила. Это было лицо боярыни Морозовой с полотна Сурикова. Да, она пойдет на смерть за то, что кажется ей истиной. И за собой поведет…
«Господи, дай мне нужные слова и сделай так, чтобы меня услышали», — взмолился я про себя.
— Матушки, вы меня простите, — начал я неуверенно. — Я не смею подрывать авторитет вашего духовника. Он вас благословил на борьбу с ИНН. Мой духовник благословил меня и всех своих чад быть послушными патриарху, который сказал, что в принятии ИНН нет греха. Если вас это смущает, не принимайте. Но не надо записывать в слуги антихристовы тех, кто принял. Нам дают налоговый номер и не только не просят отречься от Христа, но еще и по телевидению объясняют, что к антихристу это не имеет никакого отношения. Настоящий антихрист будет вести себя совершенно иначе. Он потребует отречения от Христа и поклонения себе, как Богу. И будет действовать не втихаря, а воочию и громогласно. Приход его будет сопровождаться ложными чудесами и знамениями. Сейчас ничего этого нет. Значит, и бояться нечего. И печать ставить будет сам антихрист, а не районный налоговый инспектор. Не сбылись еще пророчества и храм Соломонов не восстановлен, где антихрист воссядет «во славе» и потребует поклонения. Все это произойдет. И, возможно, очень скоро, по пока это еще не то.
Меня не прерывали. Старушки, видимо, не ожидали от меня такого длинного монолога.
— Как не то? — матушка повернула голову и посмотрела на меня, как на неразумного. — Чего еще ждать? Храм в одну ночь соберут. Мировое правительство действует. Оно и приказало всех номерами, а не христианскими именами называть. А если мы примем номера, — а в них число зверя, — он и выйдет из своих потайных комнат, в которых пока еще прячется. А если не примем, то у него не будет еще сил. Ему наша помощь нужна. Наше согласие на послушание ему. А мы не хотим ему помогать. А примем номера, значит, поклонимся. Значит, продадим ему душу. Значит, гореть нам в огне вечном.
Соседка моя со стоном высвободила руку, перекрестилась и запричитала:
— Не дай Господи! Спаси и сохрани! Укрепи и не дай смущаться от всяких разговоров. Только расслабляют.
Она покосилась в мою сторону.
— Ну простите, — сказал я и решил больше не перечить моим спутницам. У площадки перед монастырскими воротами стояло три автобуса с московскими номерами и с пол сотни автомобилей. Мужичок в тулупе и валенках с галошами бегал от автобуса к автобусу и раздавал выходящим из него людям листовки. Завидев нас, он сбросил с плеч холщовую котомку и низко поклонился. Алексей подошел к нему. Они троекратно облобызались. Мужичок протянул Алексею толстую пачку листовок.
— Это новое. Отец Феодосий благословил.
Алексей положил бумаги в машину, а мужичка подхватили под руки матушки и, что-то горячо обсуждая, пошли к воротам. Я подождал, пока Алексей закрывал машину. Мимо прошли молодые люди, по виду студенты, на ходу пытаясь прочесть только что полученные листовки.
— Да бросьте вы эту фигню читать, — громко сказал высокий юноша в яркой оранжевой пуховой куртке.
— А что это? — спросила его девушка в длинном пальто и в платке, повязанном «яко подобает паломницам».
— Рекламная кампания: не пейте пепси-колу, потому что она растворяет в животе гвозди.
— Нет, серьезно.
— Да это чудаки специально портят настроение московским паломникам. Пугают тех, кто налоговые номера ИНН получил.
— А у нас у всех есть.
— Что, что, что вы говорите? — подбежала еще одна барышня.
— Чепуха это все. Не о чем говорить. Если хотите, на обратном пути объясню. Лучше смотрите, в какую красоту мы приехали.
Молодой человек стал вырывать у девушек листовки, и они смеясь побежали к воротам. Алексей покачал головой.
— Бедные. Скоро нам всем не до смеха будет. Видел человека?
— Мужичка с мешком?
— Это настоящий праведник. Все продал и теперь ходит по России — проповедует. Ему Господь многое открывает. Пока такие люди живут в России, живет и Россия.
Служба уже началась. Я пробрался в правый придел, поближе к хору.
В монастырском пении есть нечто, чего не услышишь в городских храмах. Дело даже не в уставной строгости без партесных оперных залетов. Теперь во многих московских церквях можно услышать знаменный распев. И голоса красивые, и усердие изрядное, но все же нет той духовной глубины и силы, которая достигается только теми, кто порывает с миром и полностью посвящает себя служению Богу. Во время монастырской службы с душой происходит что-то необъяснимое. Как бы ни была она запачкана грехами, расстроена суетой и многими попечениями, с каждой минутой ощущаешь, как из нее выходит гнетущая тяжесть, словно мягким ершиком прочищает тебя изнутри невидимая ласковая рука.
После елеопомазания я поздоровался со знакомым монахом и получил благословение остановиться в гостинице. Несколько иеромонахов приступили к исповеди. Мои друзья подошли к отцу Феодосию, и я присоединился к ним.
Мужичок, которого Алексей назвал праведником, переходил от одной группы исповедников к другой, доставал из котомки листовки и, прежде чем отдать, долго что-то разъяснял. Подошел он и к нам, кивнул Алексею и протянул несколько листов старушке, стоявшей рядом со мной. Я успел разглядеть название: «Старец Паисий». Что-то об ИНН — то ли пророчества, то ли предупреждения…
Когда подошла моя очередь, я нырнул под епитрахиль, решив начать с грехов, а потом рассказать о главной причине моего приезда. Но батюшка решил иначе.
— ИНН принял? — спросил он строго и крепко прижался виском к моему лбу. Я растерялся.
— Батюшка, можно я покаюсь в грехах?
— Отвечай на вопрос.
Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Я не был его духовным чадом, и мне хотелось просто исповедаться.
— Чего молчишь? Принял — так иди откуда пришел.
— Значит, если принял, то и исповедоваться нельзя?
— А как ты думал? Здесь православный монастырь. Тут нечего делать тем, кто служит антихристу.
Отец Феодосий снял с моей головы епитрахиль и гневно посмотрел мне в глаза.
— Батюшка, я ИНН не принял.
— Так чего же ты голову морочишь.
— Год назад я по вашему совету написал заявление об отказе от ИНН по религиозным соображениям. А теперь у нас на работе налоговые номера присваивают всем без спроса. Мой духовник сказал, чтобы я не смущался, с работы не уходил и никаких протестов больше не посылал.
— Ну и ступай к своему духовнику!
— Но моя жена по вашему благословению не приняла ИНН и лишилась работы. И что теперь делать?
— Пусть ищет работу, где не требуют ИНН.
— Она теперь ходит дежурить ночной сиделкой без оформления, по договору с родственниками.
— Ну и хорошо. Благородное дело ходить за немощными, а то на этих интеллигентских местах совсем от жизни оторвались.
— Но у нее будут проблемы с пенсией.
— До пенсии еще дожить надо. Вон как враг круто заворачивает. С ускорением дело пошло. Думай о дне насущном.
— Но у нас дело доходит до развода: не жизнь, а филиал Думы — сплошные споры и баталии. Я ей читаю письмо отца Иоанна (Крестьянкина) и цитирую патриарха, который говорит, что брать или не брать ИНН — дело совести каждого и что в этом нет греха. А она мне говорит о вашем благословении, об отце Паисии и Афонских старцах, которые против личного кода.
— Она права.
— А жить-то как?
— Это ты сам решай, с кем ты — с Богом и с женой либо с антихристом.
— Батюшка, я не с антихристом. Я Христа не предавал и молю Бога укрепить меня, чтобы быть готовым к настоящим испытаниям, когда потребуют поклонения антихристу.
— А вот они и требуют. Принял число зверя — вот тебе и поклонение. Ты уже сам не свой. Тебя к компьютеру через число подключили, и будешь плясать под дудку антихриста. Это хорошо, что в Греции старцы предупредили да в России нашлись люди с духовным зрением, а то бы уже ходил с чипом и тебе бы команду давали, куда повернуться да с кем в кровать ложиться.
— Простите, батюшка, но ведь от меня никто не требует отречения от Христа. И даже никто не потребовал написать заявления. Просто сказали, что теперь сотрудники будут платить налог по новой системе. Имени никто нас не лишает, антихристу кланяться не заставляют. Да и антихрист еще не воцарился. Так в чем же грех?
— А в том, что не чувствуешь лукавства лукавого. Был бы настоящим православным — почувствовал бы. А то начитаются Кураева и приходят болтать.
— Да не читал я Кураева.
— А мне болтать некогда. Видишь, сколько народа стоит на исповедь?
— Я тоже просил меня исповедать, а не об ИНН говорить.
— А чего тебя исповедовать, если ты ничего не понимаешь. Это сейчас самое главное. Враг народ Божий делит на овец и козлищ, а вы не чувствуете. Се жених грядет в полуночи, а вы спите…
— А если враг по-другому делит: на раскольников и на тех, кто остается верен священноначалию и полагается на полноту церковную, на соборное разумение, а не на мнение отдельных отцов.
— А где она, твоя полнота? Кто нас спрашивает? Народ Божий не хочет номеров, не хочет шестерок, а они гнут свое. Если это просто новый способ сбора налогов, откажись от номеров, потому что народ смущен. Компьютеру все равно что писать — что имя, что цифру. Так они не просто цифры пишут, а число зверя и имя компьютеру «зверь».
— Батюшка, понятно, кто автор глобализации и кто за этим стоит. Но он, этот глобализатор, всегда стоит за всяким злодейством. Господь сказал, что мир во зле лежит. И что времена последние… А уже две тысячи лет прошло. И сколько в каждом веке было этих всплесков острого ощущения воцарения антихриста. Делать-то что? В леса убегать? А что, если это еще не то?
— Если-если. Что мне с тобой в догадки играть… Имя компьютеру «зверь», со всего мира к нему информация. Все под его контролем. Чего еще ждать?
За моей спиной раздался недовольный ропот. Батюшкины чада возмущались тем, что я осмелился спорить с их духовником.
— Простите, батюшка, но что мне моей жене сказать? Ведь она собирается к вам перебираться. Вы готовы ей помочь?
— А кто ее благословлял?
— Она просит вас благословить ее на переезд к вам.
— Пусть пока дома сидит да тебя терпит. Может, образумишься.
Благословляя меня, отец Феодосии даже отвернулся от досады. Алексей и Екатерина с тревогой смотрели на меня. Я извинился и сказал, что останусь ночевать в монастыре. Алексей пытался меня уговорить ехать к ним, но Катя была явно обрадована.
— Ты на раннюю пойдешь или на позднюю? — перебила она мужа. Я пробормотал что-то неопределенное и откланялся.
Я шел по заснеженной дорожке вдоль невысокого заборчика, за которым лежал огромный пушистый сугроб. От тихого покоя не осталось и следа. Я продолжал спор с отцом Феодосием, досадуя на то, что разговор получился таким сумбурным.
Но на этом разговор об ИНН не закончился. Моим соседом оказался старинный знакомый — московский математик Сергей Петрович. Мы много раз встречались с ним в разных монастырях. Познакомились мы в Пюхтицах лет двадцать назад. Тогда паломников было мало и проживание в монастырях грозило изрядными неприятностями.
Сергей Петрович когда-то хотел рукоположиться, но ему не позволили. А теперь он и сам не хотел. Это был интеллигентный, очень говорливый человек из тех, кто все знал об истории Церкви, о канонах, иконописи, церковной архитектуре, но главное — он знал все о московских батюшках и всех архиереях не только Московской Патриархии, но и Зарубежной Церкви. Он мог без запинки назвать дату назначения того или иного владыки на новую кафедру и причины его перевода. Он знал то, что называется «кухней» и щедро делился со мной своими знаниями. По правде сказать, я тут же забывал о том, что он мне рассказывал, и всякий раз, увидев его в толпе молящихся, старался избежать встречи. Но на сей раз бежать было некуда. Я односложно отвечал на его расспросы, и как-то незаметно разговор перешел на эту самую злополучную ИНН-овскую тему. Я рассказал ему о неудавшейся исповеди.
— А что ты хочешь? Не только отец Феодосий начинает исповедь с ИНН. Половина батюшек на общей исповеди делают то же самое. А куда денешься, когда настоятель объявил, что уже в роддомах каждому дают личный код и цепляют этот номер на ногу.
— Но как можно отказаться исповедовать?
— Он и до причастия не допускает.
— А что же это такое?
— А это, батенька, на наших глазах монастырь превращается в штаб революционного восстания. Ты еще не видел отца Евдокима. Матрос с «Авроры», да и только. Глаза горят, мантия развевается по ветру, как знамя, когда он бодрым революционным шагом идет на бой с предателями, принявшими ИНН. Есть у него несколько помощников. Печатают листовки и носятся по стране, разъясняют народу, как бороться с этими номерами.
— А что старец говорит?
— Говорит, что это не монахи, а комсомольцы. Что если дела пойдут так и дальше, то они погубят монастырь. Несколько человек уже ушло из монастыря. Еще несколько уйдут не сегодня-завтра. Старца не слушают. Настоятель поддерживает «иэнэнщиков»…
— Хороши «паламитские» споры.
— Паламитские не паламитские, но монастырь они поломают. С другой стороны, это понятно. Возникла проблема глобализации, и только церковные люди поняли ее духовную суть. Мир объединяют силы, враждебные Православию. На какой основе с ними объединяться? Почему нужно вливаться в мир, объявивший, что наступила постхристианская эпоха? Что в этой эпохе делать людям, которые не хотят изменять Христу? Для нас слово «постхристианский» оскорбительно и кощунственно. Равносильно предательству. Мы не хотим идти в едином строю со всем, так сказать, «цивилизованным» миром по дороге, ведущей в ад. Мы не хотим единой финансовой системы с миром, который отрицает Христа.
Патриарх попросил не принуждать людей принимать ИНН. Правительство не услышало. А почему? Ведь в России 75% населения считают себя православными. Другое дело, что они не церковные люди, но если они хоть как-то себя ассоциируют с Православием, значит, нужно с этим считаться. Эти люди лишь делегировали правительству определенные полномочия. И правительство обязано слышать свой народ. Люди хотят, чтобы власть их защищала, чтобы их детей не растлевали в школах, чтобы по телевидению не показывали похабель и кошмары. И, наконец, народ просит собственное, а не какое-то зарубежное правительство отказаться от сатанинской символики. Совсем немногого просят. Это даже не возвращение украденных денег. Это совсем ничего не стоит. Но людей не слышат. Их игнорируют. И это пугает.
— Но ведь патриарх договорился с министром труда, что людей не будут неволить!
— Но их неволят.
— А что может сделать патриарх, если светские власти его не слышат?
— Обращаться к ним вновь и вновь. По поводу взрывов в Америке он сумел проникновенно сказать. А тут своих бомбят. Нужно оперативно реагировать на все. Сатанисты прорвались на всех фронтах, и Церковь должна об этом постоянно говорить. Они ограбили страну. Народ не взбунтовался. Никто банков не грабит. Но когда убивают духовно, Церковь обязана реагировать. Глобализация в нынешней редакции — это ведь сдача России сатанистам. Они получают доступ к нашему сырью, нашим землям, и командовать нами будут педофилы и извращенцы всех мастей. А всякая попытка сопротивления будет восприниматься как терроризм и будет пресекаться на корню международными силами. Через Думу проходят законы, которые проводят глобалисты. «Думаки» даже не представляют последствий. Хотя некоторые слишком хорошо представляют. А патриарх награждает церковным орденом одного из главных глобализаторов. Понятно, ссориться с правительством и Думой никто не хочет. Но награждать-то зачем?
— Но это уже чистая политика. Я даже думать об этом не хочу. Меня другое беспокоит. Диагноз правильный, а предлагаемые методы — негодны. Отцы пугают народ, а что делать, не говорят. Им-то самим не нужно принимать ИНН. Молились бы себе. Да клали поклоны. Не бунтовать, не листовки печатать надо. У Церкви иные задачи…
— Кто вам сказал? Вспомните, как спорили Иосиф Волоцкий с Нилом Сорским. Иосиф Волоцкий был большим политиком. А Ослябя и Пересвет? Вот настоящий ответ монахов-воинов, когда Родина погибает. А сейчас ведь идет настоящая война — жесточайшая и наилукавейшая. И жертвы считаются не на тысячи, а на миллионы. А когда священноначалие делает вид, что ничего не происходит, то народ показывает на икону Страшного Суда, где в первых рядах тех, кого отправляют в ад, венценосцы и белые клобуки. И вот уже пополз среди народа Божьего слух: «Архиереи нас предали». Архиереи думают, «перетолчется, уляжется». Ничего подобного. Не уляжется.
— Но ведь это раскол.
— Самый настоящий.
— И вы так спокойно говорите об этом?
— Я вообще стараюсь не терять присутствия духа. Что делать, когда народ с расцерковленным сознанием начинает изобретать свое православие? Раньше монастыри создавались вокруг старцев. А теперь восстанавливают стены и заполняют их теми, кто не умеет жить в миру. Не отказывается от мира во имя Христа, а находит место, где тепло и удобно. Некоторые, совершенно не зная жизни, начинают учить жить своих духовных чад. Благословляют на брак людей, совершенно не подходящих друг другу, приказывают делать вещи, которые просто ломают неофитов. И все это — «за послушание»… Сколько эти новоиспеченные «отцы» дров наломали… Требуют послушания себе, а сами старцев в грош не ставят. Если послушник — ослушник, если для него слово старца — пустой звук, то какой тогда это монастырь? А с этим, будь он неладен, ИНН — полное безумие. Монахи боятся друг друга. Тех, кто пытается дать богословское осмысление проблеме, называют масонами, и все богословие на этом заканчивается. Они не слышат доводов и не хотят их слышать. Воевать с кем-то — дело увлекательное и эффектное. Бороться с собственными грехами гораздо сложнее. Но это не вчера родилось. Этот феномен русской души разбирал Достоевский. Нам ведь гораздо проще красиво умереть, чем тянуть лямку повседневности.
— Но такой героизм не для тех, кто уходит в монастырь.
— Да, но тот, кто уходит в монастырь, плохо знает самого себя. После циничного обмана и мерзости современного капитализма молодой человек открывает вдруг красоту Православия, находит корабль спасения в море лжи и порока и всем сердцем начинает служить Богу. Но потом оказывается, что на этом корабле много матросов, которые ему совершенно не нравятся, они грубы и необразованны. Они не понимают его тонкую натуру. Заставляют трудиться и наказывают, когда он вместо работы в коровнике норовит убежать на службу. И вот наш новобранец с ужасом начинает понимать, что любви, которой в нем нет, нет и в его товарищах. А капитан и несколько матросов, у которых она есть, его только раздражают. И начинается бунт на корабле.
— Но они перевернут корабль.
— Определенно. Навыков нет. Любви нет, но есть горение. Есть великое радение не по разуму.
— Так что же делать?
— Я сегодня пытался говорить с настоятелем.
— И что же?
— Сказал, что с такими мыслями мне в монастыре делать нечего. Так что завтра отбываю…
— А он что, не видит раскола?
— Он уверен, что отступать нельзя. Если сейчас сказать «А», то заставят проговорить все оставшиеся буквы алфавита. Он не так глуп. Дело уже не в цифрах. Апокалипсические настроения очень сильны. Телевидение говорит только о кошмарах. Страна разорена.Трус и глад по местам. Войны и военные слухи. Каждый день авиа- и прочие техногенные катастрофы. Чем не последние времена? А события на Ближнем Востоке? Да еще и публикации о том, что храм Соломонов уже готов и только ждет часа установки. Так что ИНН упал в перенасыщенный раствор, и на наших глазах появились кристаллы и сложили долгожданное слов «антихрист». И поэтому установление единого мирового правительства, единой валюты, управляемой из единого центра экономики, воспринимаются как финансовое и экономическое обеспечение воцарения «звереныша во фраке». Вполне естественно, что православных не может радовать то, что все деньги мира будут находиться в руках тех, кто враждебен христианству. И почему бы нам не отгородиться от прочего апостасийного мира? Господь не случайно дал нам все. И земли у нас больше, чем у любой другой страны. И в недрах у нас есть все, что нужно. Это Бельгия не проживет в отрыве от остального мира. А мы так вполне. Разумная автаркия нам пошла бы на пользу.
Рассуждения моего соседа о политике меня не радовали. Вместо того, чтобы подготовиться к причастию, я вынужден был выслушивать то, что не раз говорил сам почти теми же словами.
В девяносто пятом году я сделал фильм «О России с любовью» и включил в него план с горящими на крыше небоскреба тремя шестерками. Помню реакцию зала — все ахнули, и несколько минут со всех сторон был слышен возбужденный шепот «шестьсот шестьдесят шесть». После показа фильма почти все вопросы свелись к этим самым шестеркам. Все эти годы мне приходилось вести разговоры о близком конце света и с экологами, утверждавшими, что степень загрязнения окружающей среды давно превзошла критический уровень, и с общественными деятелями, убежденными в том, что при такой преступности и коррумпированности чиновников у России нет шансов выбраться из бездны, в которую ее бросили горе-реформаторы, и со священниками, узнавшими о грехах, о существовании которых они даже не подозревали.
Моей жене пришлось столкнуться с проблемой внедрения оккультизма и «секспросвета» в школах под видом уроков валеологии и различных новых дисциплин. Более смелые и энергичные педагоги, протестуя против растления детей, дошли до самых высоких этажей власти, где обнаружили покровителей этих чудовищных программ.
Узнав о том, что под видом борьбы со СПИДом правительство финансирует программу планирования семьи (а выражаясь нормальным языком, пропагандой разврата и абортов), эти люди потеряли всякую надежду на власть предержащих. Единственное, что их немного успокоило, это то, что негодяи, занимающиеся этой пакостью, понимают, что творят беззаконие. Им только не хочется, чтобы об этом знали. Втихаря — пожалуйста, а в открытую, да когда тебя еще и подонком могут назвать и еще, чего доброго, к ответу призовут, — это уж нет. Жизнь они за это класть не станут. Стало быть, нужно разоблачать их. Стало быть, нужно бороться.
Наши знакомые провели несколько успешных акций протеста и даже выиграли одно судебное дело. Получилось что-то вроде движения за нравственность.
Но мою жену — женщину безо всяких общественных дарований, принципиально не способную протестовать и скандалить, эта история повергла в уныние. Узнав о том, куда уходят деньги налогоплательщиков и чем занимаются господа чиновники, она решила, что это и есть конец света. Если власть убивает в утробах своих детей, а оставшихся растлевает с малолетства, при этом прикрываясь разговорами о необходимости решения демографической проблемы, чего еще остается ждать законопослушному гражданину, привыкшему видеть во власти защиту не только от внешнего врага, но и от всех, кто посягает на личную безопасность и нравственность.
Разговоры об ИНН только укрепили ее уверенность в наступлении последних времен. А исповедь у отца Феодосия и благословение на то, чтобы не принимать налоговый номер, завершили дело. Вместе с двумя подругами она решила перебираться поближе к монастырю и уже нынешней весной заняться огородничеством.
Мне надлежало заручиться благословением на этот шаг отца Феодосия и поддержкой Андрея и Екатерины. Ни того, ни другого я не выполнил.
Строго говоря, моя жена была не иэнэнщицей в том виде, с каким мне пришлось иметь дело в последний день. Нумерология ее не очень пугала. Просто для нее стало очевидным, что мир перешел в новое качество бытия, при котором антихристианские принципы стали нормой, когда сатанинской символикой стали бравировать, а такие понятия, как «правила приличия» или «честь», просто исчезли. Одно время она пыталась протестовать против реформы образования, цель которой была совершенно очевидной — сделать людей примитивными. Она на собственном опыте убедилась в том, что инновации привели к тому, что ученики разучились излагать свои мысли, перестали читать. Но она столкнулась с таким напором, перед которым не то что женщине, но и маститым профессорам и даже академикам пришлось отступить. Это и было одним из проявлений глобализации по ее департаменту. А то, что происходило по другим, лишь укрепляло ее в мысли о том, что нет принципиальной разницы в том, придет ли антихрист в понедельник или пятницу. Его зловонное дыхание чувствовалось повсюду. И когда ее вместе с другими педагогами, отказавшимися принять ИНН, выгнали с работы, убедить ее в том, что нужно смиряться, молиться и ждать помощи Божией, стало невозможно. Для этого нужно самому быть великим молитвенником. А уж про меня-то она все знала. Собственно, из-за этого я и приехал в монастырь: хотел забыть о городских искушениях, получить совет старца…
— А старец как себя чувствует? — обратился я к соседу.
— Старец, батенька, ушел в затвор. Достали его иэнэнщики. Никого не принимает. Келейник его говорит, что заправилам передал: «Коль молиться не хотят, пусть хоть лопатами от антихриста отбиваются». Пока не прекратят листовки печатать, не выйдет из затвора.
Я, конечно, подустал от этой самодеятельности. Они ведь старца Паисия Афонского цитируют, но умалчивают то, что он завещал прекратить всякую борьбу с ИНН, если это станет угрожать Церкви расколом. И в этом — большое лукавство. Но, с другой стороны, может, дело до раскола и не дойдет. Пусть поволнуется народ. Может, и расшевелятся архиереи… Я грешным делом подумал, что у наместника свой резон во всей этой истории. Архиереи молчат. А почему? Да потому, что старого, советского поставления. А не сменить ли их? Почему бы и нет? Есть ведь пастыри, которым не безразличны проблемы, волнующие православных. А он, пожалуй, чуть ли не самый главный радетель и заступник.
Кафедрой захолустной его не прельстишь, а чем товарищ не шутит, может, и в самые главные выскочит… Ну это я так, в порядке бреда. А вообще-то всех активистов-иэнэнщиков я бы вывел за церковную ограду, пока они не наломали дров. Не могут жить без борьбы — пусть борются где-нибудь в другом месте. Надо организовать для них НИИ ИНН. Пусть ведут постоянный мониторинг — следят за кознями лукавого и тем, как он проводит глобализацию. Определить их в качестве научных сотрудников с правом ношения подрясников. Как вам моя идея? По-моему, прекрасная. И главное — вполне осуществимая. Там, кстати, очень быстро выяснится — кто умышленно раскалывает Церковь, а кто это делает по глупости…
Соседство Сергея Петровича было, конечно, искушением. Вместо того, чтобы прочитать правило и последование ко причастию, я вынужден был участвовать в его разговорах. Но чем дольше он говорил, тем очевиднее становилось для меня, что встреча эта была промыслительной. Я вдруг увидел в нем самого себя. И я неоднократно вел подобные разговоры. Хотя бы с тем же Алексеем. И все для того, чтобы услышать от деревенских бабулек в их редакции мои собственные сентенции пятилетней давности. Мы пытались определить феномен глобализации, собирали научные конференции, а народ отреагировал на все это так, как счел нужным. Так уже было в XVII веке, когда книжную справу провели так, что полстраны убежало в леса и стали сжигать себя в срубах, лишь бы не позволить антихристу заставить служить по «испорченным» книгам…
Не дай Бог повториться расколу. Как научиться нам голубиной кротости и змииной мудрости? Как пройти царским, срединным путем, не шарахаясь в стороны, не ломая созданного с таким трудом? Четыре поколения, выросшие в полном отрыве от настоящей церковности, сделали свое дело. Наше современное «православие по самоучителю» превратило многих из нас в членов очередной партии — партии людей, разделяющих христианские принципы. Но жить по Христовым заповедям мы так и не научились. Мы принесли в Церковь греховную стихию мира с ее страстями и нестроениями. И вместо того, чтобы избавиться от греха, припудриваем его и накладываем на него румяна. Нам, проведшим восемьдесят лет в состоянии гражданской войны, которая лишь меняла форму, но оставалась все той же по сути, люб образ разбойника благоразумного, но ведем мы себя, как его неблагоразумный подельник. Даже благочестивые порывы мы облекаем в неприемлемые формы, которые угрожают бытию и целостности Церкви.
Здесь, в монастыре, где сам воздух иной, нежели в окружающем нас мире, страшно видеть, как земная половина Церкви утрачивает способность слышать свою небесную составляющую.
«Вси труждающиеся и обремененные», услыхавшие кроткий глас Христов и пришедшие к Нему, рискуют попасть к пастырю, которому так и остались неведомыми слова о том, что «бремя Мое легко есть». И он такое наложит бремя, от которого не только спину, но и душу можно сломать.
Я вспомнил моего приятеля-священника, который приехал в один монастырь и хотел послужить. Ему не дали братского целования, не спросили, откуда он. Первым и единственным вопросом было: «ИНН принял?»
ИНН стал символом веры. Он разделил братию на враждующие группировки и для врагов Церкви стал настоящим подарком. Теперь остается лишь найти Большого Гапона, который объединил бы всех многочисленных малых «гапонят» и повел за собой верующих под видом борьбы с антихристом на сокрушение Церкви.
Возможно, именно по такому сценарию действуют те, кто видят в Церкви главную силу, препятствующую разгрому России. Сектанты свое дело сделали. Урожай, как ни прискорбно для инициаторов, невелик. Рассчитывали на большее. Церковь в борьбе с сектами только окрепла. Похоже, теперь решили ударить в самое сердце — по тем, кто готов идти за Христом до конца.
Господи, да где еще найдешь людей, готовых бежать из городов, чтобы спасти душу. Расскажи французу или американцу о том, что у нас происходит, так ведь не поймут. И православные, живущие на Западе, где ИНН и пластиковые карточки давно в ходу, не поймут. Иоанну Шанхайскому они не помешали стать святым…
Так что же делать? Как вернуть монастырям истинное предназначение — школы благочестия и молитвенных подвигов?
Я взглянул на часы. Шел третий час. Сергей Петрович и не думал спать.
— Глупо, ужасно все это глупо. Своими действиями они приведут к тому, чего боятся. Нет ИНН — значит, враг нового мирового порядка. А подать его сюда! И если монастыри окончательно превратятся в ревкомы, то власти со спокойной совестью их закроют. И начнутся те самые гонения, о которых они пророчат… А то, что раскалывают Церковь умышленно, совершенно очевидно. Маргинал-либералы стали в последнее время еще активнее кусаться, а великий интеллектуал Гордон чуть ли не в каждой второй своей передаче так или иначе бодает священноначалие и твердит о необходимости «очистительного раскола». А монахи, вместо того чтобы денно и нощно молиться, подыгрывают провокаторам… Что-то, брат, будет…
Сергей Петрович громко протяжно зевнул и затих. Проснулся я от топота в коридоре. Сосед тихо похрапывал. Я не стал его будить. Оделся не зажигая света и вышел во двор.
Мороз к утру усилился. Снег громко скрипел под ногами. Небо было безлунным, в сплошных росчерках тонких облачков. В просветах между ними неярко мерцали звезды. По дорожке от ворот в сторону храма двигались темные силуэты. Быстро пробежали барышни легкой семенящей пробежкой. Переваливаясь с боку на бок, шли старушки в теплых платках и длиннополых пальто. Быстро, по-военному прошел молодой монах, придерживая рукой мантию. Высокая женщина тащила за руку двух малышей. Кто-то шел из гостиницы, стоявшей неподалеку от монастыря, а кто-то прошел несколько километров из соседних деревень.
Над боковой башней застыл флюгер в виде ангела с трубой. Казалось, он летел по ночному небу, чтобы протрубить о начале Страшного Суда, но увидев толпу богомольцев, спешащих в храм по двадцатиградусному морозу, замер от удивления. Оказывается, есть еще на Руси молитвенники. А пока они не перевелись, можно повременить со страшной вестью и полюбоваться прекрасными церквями, радуясь тому, что в них идет служба.
В храме было уже многолюдно, но света не зажигали. Горела лишь одна лампа у свечного ящика. Я подал записки, купил свечи и стал пробираться к иконе Казанской Божией Матери. Поставив свечу, я стал в ее свете читать правило. Но сосредоточиться на словах молитв никак не мог. За спиной кто-то ходил взад-вперед, звонко цокая подковами. Я оглянулся и увидел молодого монаха в яловых армейских сапогах. Он шушукался с братией, потом взял аналой и понес его на середину храма. Проходя мимо, он взглянул на меня быстрым цепким взглядом.
«Наверно, это один из активистов-иэнэнщиков», — подумал я. Раньше я не замечал в этом монастыре монахов со звонкими подковами. Но, видно, наступили новые времена и воины Христовы уподобились армейским людям, чтобы всем показать и самим не забыть, что идет великая духовная битва. Я заметил еще нескольких бравых молодых людей в подрясниках, а потом невольно залюбовался монахом, читавшим часы. Он был высок, худ, с лицом аскетическим и вдохновенным. Это было лицо нестеровской России — России, сбросившей звероподобный зрак воинствующего безбожника и всеми силами пытающейся не позволить натянуть на себя лукавую личину лавочника и менялы.
Из алтаря вышел иеромонах с Евангелием и крестом. По храму пронесся глухой стон, и огромная толпа богомольцев в несколько секунд переместилась из разных концов храма к амвону. Началась общая исповедь. Батюшка перечислял грехи довольно уныло, но дойдя до сребролюбия, оживился.
— Сказано, не собирайте сокровища на земле. Может, у нас уже и времени нет потратить то, что накопили. Смотрите, что творится в мире. Войны, катастрофы, стихийные бедствия. Сама природа показывает, что все идет к концу. Морозы в теплой Греции, снег в Аравийской пустыне. Землетрясения, страшные лесные пожары, наводнения. И все это происходит повсюду, а не в каких-нибудь местах, опасных для жизни. Когда человек живет рядом с вулканом, он должен быть готов к извержению. На наших глазах извержение началось по всему миру. Конечно, мы не знаем ни дня, ни часа.
И тут он начал говорить об ИНН, о новом паспорте с двумя магнитными полосами, куда будут записаны все данные о каждом человеке… Исповедники только этого и ждали. Задние ряды подались вперед. Несколько человек попадали на солею. Батюшка отступил на пол шага, приказал успокоиться, и на удивление быстро наступила тишина. Люди замерли с напряженными лицами, некоторые вставали на цыпочки. Батюшка прокашлялся и выдал довольно складный пассаж о кознях врага рода человеческого.
Рядом со мной стоял мужчина лет сорока в дорогой дубленке. Он слушал внимательно, как батюшка грозно говорил о том, что люди, принявшие налоговый номер, автоматически теряют благодать и с подключением к компьютеру по имени «зверь» становятся соучастниками творимого в мире беззакония.
— Вот ты, Машенька, — обратился он к соседке в норковой шубе, — Сергея ругаешь за то, что он теософией увлекся. А ведь то, что говорит батюшка, — чистый оккультизм. Как может компьютер победить благодать Божию? Лучше бы этот «златоуст» шел в исихасты.
Соседка прижала палец к губам и что-то тихо ответила. Он усмехнулся и качнул головой.
— Стоило за такой мудростью ехать. Я, пожалуй, пойду покурю.
Он стал пробираться к выходу. Я посмотрел ему вслед и увидел своего старинного приятеля — бывшего Виктора, а ныне иеромонаха Иону. Когда-то мы ездили с ним в фольклорные экспедиции. Он увлекся пением по крюкам и собрал огромную фонотеку, записав поморов, старообрядцев Алтая, Сибири, пермской и вятской земель. Потом он стал неплохим живописцем. Десять лет назад ушел в монастырь и начал писать замечательные иконы. Он благословил меня.
— Ты тоже не допускаешь к причастию тех, кто принял ИНН?
Он болезненно поморщился и ничего не ответил. Иона был кротким, старательным и образованным монахом. У борцов с ИНН, конечно, были основания быть им недовольными. Так и оказалось. Иэнэнисты записали его в масоны, и местный люд теперь обходил его стороной. Исповедников у него не оказалось, и мне удалось не только исповедоваться, но и поговорить, вернее, пошептаться.
— Жену оставь в покое. Пусть приезжает. Поварится в этом котле, быстро поймет, что к чему, и вернется. Уверен, что она поймет, что вся эта борьба — дело душевредное. Чем больше наша братия борется с антихристом, тем меньше вспоминает о Христе. Врагу нужно наше внимание, даже негативное его устраивает. Мы негодуем, душа помрачается. Молиться не хочется, да уже и не можем. А ему только это и надо. Он лишает нас главного оружия. Листовок он не боится. Ему молитва страшна. Крест. Святое причастие. Покойное созерцание красоты Божией. А мы сами себя всего этого лишаем. Нам запрещено заглядывать в глубины сатанинские и изучать их. Какое нам дело до технологии прихода антихриста. Мы предупреждены о том, что он придет, и этого с нас довольно. Наше дело — молиться и надеяться на Господа. Этими страхами и паникой мы только оскорбляем своего Создателя. Нам нужно не пугать людей, а утешать, успокаивать и учить тому, как по-настоящему бороться с врагом. У нас грозное оружие. Сатана боится его. Так пусть он и боится. Он, а не мы.
Мы несколько раз на дню молимся: «Да приидет Царствие Твое!» А оно придет известным способом. Господь сначала попустит приход антихриста. Но мы должны уповать на Бога.
А если мы не верим Господу, Который попустил приход Своего врага, то надо молиться иначе: «Да не приидет Царствие Твое». Потому что мы боимся и не хотим страдать. А хотим жить так, как живем. С советскими «серпастыми и молоткастыми» паспортами хотим заботиться только о хлебе земном, а о небесном и слышать не хотим. Все это кощунственно и очень опасно. Но они не слышат никаких доводов. И это самое страшное. Если бы они уделяли Христу хотя бы половину того времени, которое посвящают антихристу… Я бы уже давно ушел. Но старец велел терпеть. Так что живу, яко во чреве китове, как и подобает Ионе.
Он кивнул на исповедников, стоявших спиной к нему и ждавших очереди к «правильному» батюшке.
— Народ жалко. Заводят народ, призывают бежать в горы, а помочь ничем не хотят. Одна вдова приехала с тремя детьми к своему духовнику, а он ей и пакета крупы не может дать, потому что нужно от начальства получить три печати. И смех и грех. Печатью путают, а без печатей не могут милостыню творить. Толкуют о милосердии и готовы растерзать тех, кто не хочет вместе с ними пугать народ.
Иона вздохнул и перекрестился.
— Осуждаю, ропщу. Не молитва, а сплошной грех. Вместо молитвы думаю о том, что у нас творится и как из этой беды выйти. Тут без чуда Божия не справиться.
Он еще раз благословил меня, взял с аналоя крест и Евангелие и направился к алтарю. У аналоя образовалась пустая ниша, в которую кто-то тут же стал протискиваться. Я оглянулся. Это был мужичок с холщовым мешком. Он крепко держал под руку человека в дубленке — видно, не дал ему покурить. Мужичок убежденно говорил ему вполголоса, явно рассчитывая на то, что его услышит не только тот, к кому он обращался: «Вот и неправильно ты рассуждаешь. Господь пришел в мир, когда проводили перепись. Это правда. Но это не значит, что нам не нужно бояться переписи, паспортов, ИНН и всего, что готовят. Я тебе так скажу: это знак последнего времени. Началось христианство с переписи и закончится с ней. Сейчас перепишут — и всему конец».
Я смотрел на сутулую спину удаляющегося Ионы, на то, как другие спины расступались перед ней и снова смыкались в единое темное кольцо. Сердце мое вдруг сжалось от боли и жалости. Жаль было Иону, жаль всех этих несчастных богомольцев, приехавших из разных краев в поисках защиты, помощи и совета. Жаль было батюшек, которые вместо того, чтобы согреть и ободрить эти измученные горем и исковерканные грехом сердца, повергли их в страх и уныние. Ведь это же и есть тело Христово, объединенное любовью к своему Создателю. Другого нет и, скорее всего, уже и не будет. Как же мучительно тяжело этому телу. Ему должно быть единым, а оно разрывается на враждующие фрагменты.
Господи, Ты призвал нас к Себе и велел нам быть едиными. Так сделай же так, чтобы мы таковыми стали. Не дай врагу разделять нас…
В этот момент кто-то толкнул меня. В нескольких шагах протискивались вперед Алексей с матушкой. Сегодня она еще больше походила на боярыню Морозову. Глядя на ее пылающий взор, на то, как эта хроменькая старушка решительно пробиралась вперед, к амвону, я вдруг понял, что эта странная форма любви к своему Создателю и нежелание поклониться тому, кто хочет отнять Его от нас, есть проявление верности, которое Господь не может не заметить. И пока есть на Руси такие люди, антихрист не пройдет. Они обнаружат его не только в потайных комнатах, но и под землей без всякого чипа учуют. А нам остается только молить Господа, чтобы Он послал нам пастырей добрых и даровал нам истинную любовь. Ту любовь, которая не знает страха.

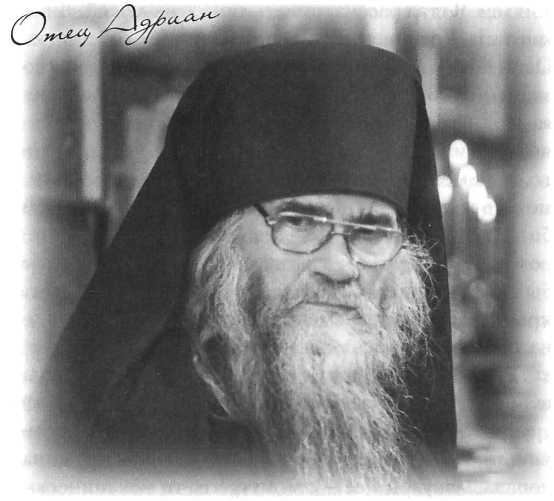





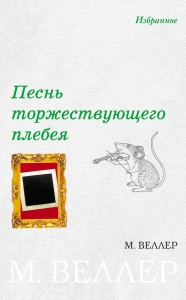




Комментарии к книге «"Ведро незабудок" и другие рассказы», Александр Юрьевич Богатырёв
Всего 0 комментариев