Михаэль Кумпфмюллер
Михаэль Кумпфмюллер — современный немецкий писатель, историк и германист. Автор четырех романов и диссертации о Сталинградской битве. Лауреат премий Вальтера Зернера и Альфреда Дёблина.
Это роман об отношениях Франца Кафки с Дорой Диамант — его последней любовью. Поскольку переписка влюбленных не сохранилась, автор воссоздает эту историю не как биограф, но как художник. Хотя он ни разу не упоминает имя главного героя, читателю очень скоро становится ясно, о ком эта книга, написанная с благоговейной бережностью.
В этом трагично-прекрасном романе о любви Михаэль Кумпфмюллер показывает нам Франца Кафку хотя и узнаваемым, но таким, каким мы его прежде не знали.
«Франкфуртер альгемайне цайтунг»Великолепие жизни (роман)
Вполне допустимо помыслить, что великолепие жизни залегает повсюду и вокруг каждого, уготованное для нас, но незримое, сокрытое где-то глубоко, в неведомых недрах. Однако оно покоится там не враждебное, не строптивое и не глухое к нам. Стоит вызвать его верным словом, окликнуть истинным именем — и оно явится. В этом суть колдовства: оно не творит, а лишь вызывает.
Франц Кафка. Дневники, 1921Часть первая. Прибытие
1
Господин доктор приезжает в пятницу поздним июльским вечером. Последний отрезок пути, от станции в открытой пролетке, был просто нескончаем, все еще стояла жара, он измотан дорогой, но теперь он наконец-то на месте. Элли с детьми встречают его в холле. Он едва успевает поставить багаж, а на нем уже виснут Феликс и Герти, обнимают, что-то наперебой галдят. Они сегодня спозаранок были на море, готовы и сейчас вести его туда, показать, что они там построили, настоящую крепость из песка, огромную, там на пляже полно таких. Да оставьте же его, увещевает Элли с заспанной малюткой Ханной на руках, но они не перестают взахлеб рассказывать о сегодняшних своих подвигах. Элли спрашивает:
— Как доехал? Есть хочешь?
Доктор прикидывает, хочется ли ему есть, но аппетита никакого. Тем не менее он ненадолго поднимается наверх, взглянуть на снятую квартиру, дети, им одиннадцать и двенадцать, спешат показать, где спят они, но находят уйму отговорок, почему им еще рано ложиться. Горничная приготовила для него тарелку с орехами и фруктами, тут же и графин с водой, он пьет, говорит сестре, до чего он ей благодарен, ведь ближайшие три недели он будет здесь столоваться, они будут много времени проводить вместе, вот тогда-то и выяснится, насколько он к такой совместной жизни готов.
Доктор возлагает на этот отдых большие надежды. Последние месяцы стали для него сущей мукой, оставаться у родителей было уже совсем невмочь, тут-то как нельзя кстати и подоспело приглашение отдохнуть на Балтийском взморье. Квартиру сестра нашла по газетному объявлению, которое сулило отличные постели, добротные цены, балконы, веранды, лоджии, и все это прямо у сосновой рощи с восхитительным видом на море.
Его комната расположена в другом конце коридора. Не слишком просторная, но письменный стол есть, матрас жесткий, к тому же в сторону леса обещанием покоя выходит узенький балкон, правда, из близлежащего здания слышны детские голоса. Он распаковывает вещи: пара костюмов, белье, чтение, писчая бумага. Можно прямо сейчас отчитаться Максу о том, как прошли переговоры в новом издательстве, но это не поздно будет сделать и на днях. Было так странно столько лет спустя вновь оказаться в Берлине, а сутки спустя он уже здесь, в Мюрице[1], в пансионе, который имеет самонадеянность именоваться «Удачей». Элли уже отпускала какую-то шутку по этому поводу, она надеется, что здесь, на морском воздухе, доктор прибавит несколько кило, хотя оба они знают, что вероятность не слишком велика. Все повторяется, думает он, все последние годы он проводит лето в отелях или санаториях, а потом долгие зимы в городе, где иной раз неделями с постели не встает. Он рад, что может побыть один, ненадолго выходит посидеть на балкон, где все еще слышны голоса, потом отправляется спать и сразу, без малейших затруднений, погружается в сон.
Пробудившись поутру, он выясняет, что проспал восемь часов с лишним. Он тотчас же вспоминает, где он: на взморье, в этой комнате, далеко ото всего, что знакомо до боли. Детские голоса, под которые он вчера засыпал, уже снова тут как тут, поют что-то, как нетрудно определить, на иврите. Наверно, с востока, думает он, сейчас ведь создают летние лагеря отдыха для таких детей, Пуа, его преподавательница иврита, кажется, говорила, что и в Мюрице такой лагерь есть, а оказывается, вот он, совсем по соседству. Доктор выходит на балкон взглянуть, что там творится. С пением тем временем покончено, теперь все дети сидят перед домом за длинным столом и завтракают, весьма шумно и радостно. Год назад в Плане[2] ему подобный шум очень мешал, а сейчас этот веселый неугомонный галдеж его почти радует. Он справляется у сестры, известно ли той что-нибудь об этих детях, но она не знает ровно ничего и, похоже, удивлена, с какой стати он этим обеспокоен, спрашивает, хорошо ли он спал, доволен ли комнатой, да-да, он доволен и уже радуется предстоящему походу на пляж.
До пляжа идти почти четверть часа, это дольше, чем он предполагал. Герти и Феликс несут сумки с купальными принадлежностями и провиантом, то убегают вперед, то снова возвращаются — он за ними явно не поспевает. Море, серебристое и гладкое, сверкает на солнце, повсюду полно детишек в пестрых купальниках, они с восторгом плещутся на мелководье, некоторые играют в мяч. По счастью, справа от мостков причала Элли арендовала для него персональную пляжную кабинку, нечто вроде плетеного кресла с плетеным же верхом, откуда ему все прекрасно видно. Вокруг, среди таких же пляжных кабинок, во множестве высятся замки и крепости из песка, по колено вышиной, по меньшей мере, каждая вторая цитадель украшена выложенной из ракушек звездой Давида.
Герти и Феликс рвутся в воду и счастливы, что он тоже идет купаться. Возле берега вода теплая, как в домашней ванне, но он заплывает с обоими детьми подальше, где уже попадаются полосы холодных течений. Герти очень хочет, чтобы он научил ее, как изобразить утопленника, да это же проще простого, — и вот уже все трое, лежа на спинах, дрейфуют в искрящейся воде, пока с берега не раздается тревожный окрик Элли. Ему нельзя так усердствовать, увещевает сестра. Или это не у него вчера вечером был легкий жар? Был, соглашается доктор, но сегодня с утра температуры нет. Тем не менее ему приятно просто посидеть в пляжной кабинке, жара стоит несусветная, наверняка далеко за тридцать, на солнце выдержать невозможно. Феликсу и Герти тоже на солнце жариться ни к чему, они сейчас выкладывают из сосновых шишек его инициалы. Он долго сидит и просто смотрит на детей, время от времени до него доносятся обрывки разговоров на идише, строгие голоса воспитателей, все они, пожалуй, не старше двадцати пяти. Герти уже пообщалась с группой девочек и на его вопрос охотно сообщает: да, они все из Берлина, сюда приехали на лето, как и мы, живут в доме отдыха по соседству.
Доктор мог бы сидеть так часами. Элли то и дело спрашивает, как он себя чувствует, — и все время этим озабоченным материнским тоном, который он давно за ней заметил. С Элли никогда не поговоришь так, как можно поговорить с Оттлой, и тем не менее он сам заводит разговор о Бергманах, Хуго и Эльзе, которые зовут его поехать вместе с ними в Палестину, в Тель-Авив, где, кстати, тоже есть пляж, на котором, как и здесь, наверняка резвятся детишки. Элли не считает нужным по этому поводу долго распространяться, доктор и так прекрасно знает, какого мнения она о подобных прожектах, в сущности, он и сам в них не верит. Но дети для него большая радость, он счастлив и благодарен, что может побыть с ними. Среди всей этой кутерьмы ему даже удается соснуть, больше часа, в самый разгар полуденного зноя, пока Герти и Феликс снова не тащат его в воду.
На второй день он начинает узнавать некоторые лица. Глаза уже не скользят по окружающим без разбора, у него появились предпочтения, где-то замечена пара стройных девичьих ног, губы, волосы, щетка, которой по этим волосам проводят, тут и там чей-то взгляд, вон высокая брюнетка, которая уже не в первый раз на него посматривает, а потом поспешно отводит глаза, делая вид, будто он вовсе ее не интересует. Двух-трех девочек он уже различает по голосам, наблюдает, как они там, вдалеке, прыгают в воду, как бродят по горячему песку, взявшись за руки и беспрестанно хихикая. Он затрудняется определить их возраст. То кажется, что им все семнадцать, а то вдруг они совсем еще дети, и именно эта переменчивость впечатлений более всего ему приятна, заставляя интересоваться ими снова и снова.
Более всех ему приглянулась высокая брюнетка. Можно, конечно, спросить у Герти, как ее зовут, ведь Герти уже с ней разговаривала, но обнаруживать свое любопытство подобным образом ему не хочется. Эту темноволосую он бы с удовольствием рассмешил, ведь она, к сожалению, совсем не смеется. Вид у нее слегка строптивый, как будто она давно на что-то обижена или злится. Уже в пансионе он смотрит с балкона, как в саду летнего лагеря она накрывает стол к ужину, а позже, вечером, видит ее в главной женской роли в самодеятельном спектакле. Ему толком не слышно, что она произносит, но видно, как она двигается, с каким упоением играет, судя по всему, роль невесты, которую выдают замуж против ее воли, так, во всяком случае, ему видится разыгрываемый сюжет, он слышит смех детей, аплодисменты, в ответ на которые темноволосая неоднократно выходит на поклоны.
Позже, когда он рассказывает об этом Элли и детям, в голосе его различима грусть. До войны он знавал многих людей театра, неистового Леви, которого так презирал его отец, молоденьких актрис, которые едва справлялись с текстом на идише, но сколько силы, сколько страсти было в их игре и как он тогда во все это верил…
Когда на следующее утро Герти подводит темноволосую к его пляжной кабинке, он впервые видит, как та улыбается. Поначалу девушка робеет, но, когда он говорит ей, что видел вчера ее на сцене, мало-помалу преодолевает скованность. Он узнает, что зовут ее Тиле, делает ей комплименты. Дескать, она выглядела как настоящая актриса, на что она с живостью возражает: хотелось бы надеяться, что выглядела она как настоящая невеста, она же не актрису играла. Доктору ее ответ нравится, оба смеются и явно не прочь познакомиться поближе. Да, подтверждает девушка, она из Берлина, и даже знает, кто такой господин доктор, в книжной лавке, где она работает, всего лишь пару недель назад она выкладывала на витрину одну из его книг. Подробнее она, похоже, рассказывать о себе не склонна, по крайней мере в присутствии стоящей рядом Герти, а раз так, господин доктор предлагает ей прогуляться вместе до мостков причала. Как выясняется, она хочет стать танцовщицей, и именно с этим связано ее подавленное настроение, ведь она в ссоре с родителями, которым вздумалось воспрепятствовать этому ее намерению во что бы то ни стало. Господин доктор не очень знает, как и чем ее утешить, избранная ею профессия столь же прекрасна, сколь и трудна, но если она верит в свое призвание, значит, действительно будет танцевать. Он лично уже сейчас видит ее парящей над сценой, видит грациозный изгиб ее фигуры, благоговейные, легчайшие взлеты ее рук и ног. Она мечтает об этом с восьми лет, чувствует в себе танец всем телом. Доктор долго ничего не отвечает, пока она, полуженщина, полудитя, выжидательно на него смотрит.
Они гуляют вместе и на следующий день, и через день тоже. Девушка долго думала над словами господина доктора, но не уверена, правильно ли его поняла. А доктор задним числом недоволен своим ответом, может, не стоило укреплять девушку в ее мечте, откуда у него такое право? Он рассказывает ей о своей работе в страховом агентстве и о том, что чувствует ночами, когда пишет, — правда, сейчас ему не пишется, да и в агентстве он больше не служит, он уже год как на пенсии, только благодаря этому и сидит сейчас тут, на причале, и беседует с очаровательной берлинкой, которая через несколько лет будет танцовщицей. Вот теперь она снова улыбается и приглашает доктора завтра к ним на ужин, вечером в пятницу у них в летнем лагере всегда бывает небольшой праздник, она уже и у воспитателей получила разрешение его позвать. Он соглашается сразу же, среди прочего и потому, что таким образом в свои сорок лет впервые в жизни будет праздновать канун субботы.
Уже после обеда он со своего балкона может наблюдать за приготовлениями. Он уединился в своей комнате и пишет открытки — о море и о призраках, от которых ему, похоже, пока что удалось бежать. Пишет Роберту[3] и Бергманам[4], подчас одними и теми же фразами, особенно пространно — о детях. От Тиле он узнал, что их летний лагерь называется «Детское счастье», и вот что в связи с этим он пишет: «Чтобы проверить свою транспортабельность, я после стольких лет головных болей и постельного режима сподвигся на небольшое путешествие к Балтийскому морю. В одном мне точно посчастливилось. В пятидесяти шагах от моего балкона расположен летний лагерь берлинского Народного дома для еврейских детей. Сквозь кроны и между стволами деревьев я вижу, как играют дети. Радостные, азартные, полные здоровья. Дети восточных евреев, спасенные западными евреями от берлинского лиха. По полдня и до глубокой ночи дом, лес и пляж наполнены детским пением. Когда я среди них, я не то чтобы счастлив, но на пороге счастья».
У него еще остается время для короткой прогулки, после чего он неспешно начинает готовиться к вечеру, достает из шкафа темный костюм, проверяет перед зеркалом, как повязан галстук. Ему любопытно все, что его ждет: сам распорядок праздника, пение, лица, — но и только, ничего больше он себе в этот вечер не сулит.
2
Дора сидит за кухонным столом и, как назло, потрошит рыбу к ужину. Она уже несколько дней о нем думает, и вдруг, нежданно-негаданно, он тут как тут, и надо же, чтобы именно Тиле его привела, причем одного, без той женщины на пляже. Он стоит в дверях и первым делом смотрит на рыб, потом на ее руки, как ей кажется, с немым укором, но это несомненно он — тот самый мужчина с пляжа. Она настолько растеряна, что толком не слышит, что он ей говорит, а он что-то говорит о ее руках, такие нежные руки, говорит он, и такая кровавая им досталась работа. При этом смотрит на нее с живым интересом, явно удивляясь всякому делу, которым ей, кухарке, положено тут заниматься. К сожалению, он остается совсем недолго. Тиле хочет показать ему весь дом, он лишь на секунду задерживается около стола, и вот его уже и след простыл.
Какое-то время она сидит, словно оглушенная, слышит из-за двери голоса, смех Тиле, удаляющиеся шаги. Что же теперь, спрашивает она себя, представляет, как он уже стоит в комнате Тиле и даже не знает, что это и ее, Доры, комната тоже. Скажет ли ему об этом Тиле? Сдается ей, что скорее нет. Она вспоминает, как впервые заметила его на пляже, с этой женщиной и тремя детьми. На женщину она особо и не смотрела, а вот с него, молодого еще мужчины, почти не сводила глаз, следила, как он плавает, как двигается, как с книжкой в руках сидит в своей пляжной кабинке. Поначалу, из-за смуглого цвета кожи, она вообще решила, что он наполовину индиец. Ведь он женат, сказала она себе, на что ты надеешься, — и, несмотря ни на что, продолжала надеяться. Однажды пошла следом за ним и всем его семейством до поселка, он ей даже снился, впрочем, как и Ханс, но о Хансе сейчас лучше не думать, разве что по обязанности, потому что вроде так положено.
Два часа спустя, за ужином, она видит господина доктора снова. Он сидит далеко, на другом конце стола, рядом с Тиле, которая, кажется, того и гляди лопнет от гордости, потому что если бы не Тиле, он бы не пришел. Вот уже два дня как от нее только и слышно, господин доктор да господин доктор, он писатель, в пятницу вы его увидите, а оказывается, он не кто иной, как тот самый мужчина с пляжа. Тиле только что его всем торжественно представила, теперь произносится благословение, преломляются хлеба, разливается вино. У доктора такой вид, будто все это ему в диковинку, но он снова и снова, в течение всего ужина, посматривает на нее, этим странным взглядом, полным тоски и, как ей кажется, давно ей знакомым. Позже, уже на прощание, он подходит к ней спросить, как ее зовут; его-то имя она уже знает, что ж, она называет себя. Он смотрит на нее своими синими глазами, кивает, раздумывая о ее имени, судя по всему, оно ему нравится.
Она говорит, да нет, почти выпаливает:
— А я вас видела на пляже, с женой, — хотя ведь точно знает, никакая это не жена, не может быть, чтобы жена, иначе отчего у нее стало так легко на сердце, когда он сегодня на кухне около нее остановился?
Доктор со смехом подтверждает ее догадку: это его сестра. И дети — это тоже дети сестры, здесь и вторая его сестра, Валли, с мужем Йозефом, вероятно, и они уже попадались ей на глаза. И тут же спрашивает, можно ли надеяться увидеть ее снова. Мне бы очень хотелось увидеть вас снова, говорит он, или: надеюсь, мы еще увидимся, — и она тотчас же отвечает: да, с удовольствием, потому что она тоже хочет увидеть его снова.
— Завтра? — спрашивает она, а сама так и хочет выкрикнуть: «Как только вы проснетесь! И вообще когда вам угодно!»
Он предлагает увидеться на пляже, после завтрака, хотя ей-то милей всего было бы встретиться с ним наедине у себя на кухне. Но он и Тиле тоже приглашает. Она, Дора, и думать забыла, что Тиле вообще существует на свете, но она тут как тут, к сожалению, и всякому видно, что она в доктора уже по уши влюблена, а ведь ей только семнадцать и с мужчинами у нее наверняка еще ничего не было.
Доре эта девчонка сразу понравилась, наверно, потому, что она и сама немного такая же: что на уме, то и на языке. Не сказать, чтобы Тиле такая уж хорошенькая, но сразу видно, сколько в ней жизни и как она любит свое тело, длинные стройные ноги, и вправду как у танцовщицы. Доре уже случалось видеть, как она танцует — и как плачет, а потом вдруг, в ту же секунду, уже смеется, словно апрельское солнышко, внезапно выглянувшее из-за туч.
Было уже далеко за полночь, а Тиле все еще во всех подробностях пересказывала ей визит господина доктора, слово в слово повторяя, что тот сказал о лагере, о доме, о еде, о праздничном настроении и о том, какие все радостные. Дора помалкивает, у нее свои впечатления, в которые она теперь вслушивается, которым тем или иным образом себя вверяет, словно и этот мужчина, и немногие мгновения, когда он был с ней рядом, и вправду есть нечто, чему ей следует ввериться. Тиле давно уже спит, а в ней только-только начинает вширь и вглубь расти что-то неведомое, то ли звук, то ли аромат, сперва почти неощутимый, а затем все более мощный, завладевающий ею всецело.
Утром на пляже он, здороваясь, протягивает ей руку. Он ее ждал, но у нее утомленный вид. Он как будто безмолвно спрашивает: «Что случилось?» Но поскольку рядом Тиле и его племянница Герти, она только неопределенно ему улыбается, что-то говорит о море, об освещении, о том, как она этот свет ощущает, теперь, после вчерашнего, хотя вчера они и сказали-то друг другу лишь несколько слов — но теперь этим словам, этим взглядам суждено остаться с ней на всю жизнь. Купаться он, судя по всему, не хочет, а вот Тиле рвется в воду, благодаря чему у них теперь есть несколько минут друг для друга. Но его сестра там, вдали, их уже заприметила — и как только Доре могло в голову взбрести, что это жена?
Зато теперь они говорят и сами себя не слышат, ибо едва один скажет слово, оно улетучивается, они сидят на пляже, будто в воздушном колоколе, под которым глохнут все звуки. Доктор задает ей множество вопросов, откуда она, где и как живет, а сам смотрит на ее губы, неотрывно и только на губы, что-то шепчет о ее силуэте, о ее волосах, о том, что он видел, что сейчас видит — и все это беззвучно, без единого слова. А теперь говорит она, об отце, о том, как убежала, сперва в Краков, потом еще дальше, в Бреслау, прочь, все дальше прочь, словно только для того и убегала, чтобы однажды, вот здесь, рядом с этим мужчиной оказаться. Рассказывает о своих первых неделях в Берлине, это она еще сможет вспомнить, и как потом вдруг все оборвалось, потому что Тиле пришла и сзади неожиданно обняла ее мокрыми руками, — тут она вздрогнула и сразу спохватилась, ей же на кухню пора. Доктор тут же поднимается, спрашивает, можно ли ее проводить, к сожалению, и Тиле увязывается с ними, зато, правда, именно Тиле и сегодня приглашает его к ним на ужин.
Рыбы сегодня не будет, сегодня она перебирает в миске фасоль. Она надеялась, что он придет.
— О, как приятно, и так рано, садитесь же, я так рада, — говорит она.
Господин доктор наблюдает, как она работает, довольно долго, потом признается, что ему доставляет удовольствие на нее смотреть, заметила ли она это? На нее наверняка и в Берлине с удовольствием смотрят, на что она, сама не зная почему, отвечает: да, то и дело, на улице, в электричке, в ресторанах, то есть она хотела сказать, смотрят, но не совсем так, как господин доктор. И тут же они оказываются в Берлине. Доктор любит Берлин, даже знает еврейский Народный дом и интересуется, как она стала кухаркой, а чуть позже просит, чтобы она что-то сказала ему на иврите, который он в последние годы пытается учить у преподавательницы по имени Пуа, к сожалению, правда, без особого успеха. Подумав немного, она произносит фразу, что хотела бы за ужином сидеть с ним рядом, на что он тоже на иврите, хотя и не без ошибок, отвечает, что полночи об этом мечтал, и, церемонно склонившись над ее рукой, как бы в шутку, чтобы ее не испугать, и в самом деле целует ей руку. Но она все равно пугается. И чуть позже, когда она чистит картошку, а он как бы невзначай дотрагивается до ее руки, она пугается снова, не столько его, сколько саму себя — такое неистовство, такую беспомощную готовность ему покориться она в себе чувствует, словно никаких условностей между ними вообще нет.
В воскресенье после ужина они идут гулять. На сей раз у них настоящее свидание, о котором они условились на пляже, незаметно от Тиле, чтобы не обидеть девочку, которая по-прежнему ведет себя так, словно господин доктор принадлежит ей и только ей. После обеда, когда все идут купаться, Дора вдруг понимает, что невольно себя с Тиле сравнивает. На своих длинных ногах та стремглав убегает по мелководью, оставляя за собой искрящиеся фонтаны брызг, но господин доктор, который сейчас почему-то кажется Доре еще более тонким и хрупким, чем прежде, почти не смотрит ей вслед. Он и на нее, Дору, поглядывает лишь изредка, но ей кажется, она чувствует на себе этот его взгляд, изучающий ее руки, ноги, бедра, грудь, да, и ей нравится, что он все это разглядывает и сводит для себя в некий единый образ, не столько с вопросительным удивлением, а словно утверждаясь в том, что в общем и целом и так давно знал. Вода под ногами теплая, ленивая, какое-то мгновение оба медлят, но Тилле вдали уже требовательно зовет, торопит, надо надеяться, она ничего не заметила.
Когда утром доктор представил ее своей сестре, та была скорее любезна, чем приветлива. Она о Доре от брата уже наслышана. Знает, что Дора работает в летнем лагере кухаркой и славится своей стряпней на весь Мюриц. Зато Дора знает, что, если бы не Элли, она бы с господином доктором не познакомилась. Ей нравится, как она о нем говорит, ее брат, уверяет Элли, к сожалению, едок никудышный, нужно ангельское терпение и много любви, чтобы уговорить его хоть что-нибудь съесть.
На прогулку Дора надевает свой темно-зеленый пляжный сарафан. Уже начало десятого, но все еще светло, и ей так радостно идти рядом с ним и чувствовать, что он рад ничуть не меньше. Они могли бы сесть вон там, на одну из скамеек, что на первом причале, и разглядывать фланирующих курортных гостей, но доктор хочет пройти дальше, на второй причал. Дора сняла туфельки, она любит ходить босиком по песку, доктор берет ее под руку — и в тот же миг они снова в Берлине. Доктор знает Берлин еще с довоенной поры, она поражена, насколько хорошо он помнит город, он называет места, что были когда-то для него важны, отель «Асканийское подворье», где ему однажды довелось пережить ужасный день, и тем не менее ему хотелось бы спустя столько лет побывать в Берлине снова.
— Что, правда? — удивляется она, ведь саму-то ее забросило в этот город скорее случайно, три года назад это было. Он спрашивает, в каком районе она живет, как ей там, он вообще странными вещами интересуется, ценами на хлеб и молоко, сколько платят за отопление, настроениями людей на улице, теперь, когда война уже пять лет как кончилась. В Берлине всюду сутолока и хамство, и беженцев с востока полным-полно, отвечает она, в квартале, где она живет, от них прохода нет, повсюду эти оборванцы, целыми семьями, попрошайничают, поют, и все с этого жуткого востока.
Прогулка вдоль пляжа тем временем кончена, в тусклом свете фонаря они сидят на узкой скамье на дальних мостках второго причала. Но разговор и мысли все еще о Берлине, доктор рассказывает о своем друге Максе, у которого в Берлине дама сердца по имени Эмми. Тут и ей, к сожалению, приходится в двух словах сообщить о Хансе, по крайней мере упомянуть о нем она должна, тем более что доктор вспоминает о своей бывшей невесте, но с тех пор сто лет прошло. Он предается мечтаниям вслух — как славно было бы переехать в Берлин, на что она с живостью откликается, это было бы замечательно, она бы ему все показала, театры, варьете, толкучку на Александерплац, но есть и тихие уголки, ближе к окраинам, в Штеглице или на озере Мюггельзее, где город уже почти превращается в деревню. Кто бы мог подумать, вздыхает доктор. Поехать на море, а очутиться в Берлине. Ему сейчас очень хорошо вот так с ней сидеть. Ей тоже.
Мостки тем временем мало-помалу пустеют, скоро, наверно, уже полночь, лишь тут и там одинокие пары, спящие чайки на дощатом настиле причала и где-то совсем вдалеке огни отеля. Поднялся легкий ветерок, доктор спрашивает, не холодно ли ей, может, ей пора домой, нет, она хочет еще побыть тут, пусть он расскажет о своей невесте и об этом жутком дне, если, конечно, это не одно и то же, на что доктор отвечает, да, в сущности, одно и то же.
Ночью она долго лежит без сна. Было около половины второго, когда доктор проводил ее до дома, а вскоре началась гроза, казалось, она бушует прямо над их крышей, между вспышками молний и ударами грома никаких промежутков. Почти весь лагерь проснулся, и Тиле в соседней кровати тоже, она конечно же тут же спрашивает, где Дора была? С ним встречалась? Дора отвечает: да, прогулялись немного, а теперь вон что началось. Они пережидают, пока гроза не уйдет, на улице заметно похолодало, Дора пошла распахнуть окно и заодно взглянуть на его балкон, но там темно.
Дождь не прекращается до утра, а потом и до вечера, доктор приходит лишь после обеда, но приходит, ибо это уже почти стало для него привычкой — сидеть у нее на кухне и расспрашивать, а запас вопросов у него неиссякаем. Ей по душе официальность его обращения на «вы», она знает, это лишь антураж, временный маскарад, который они однажды отбросят. Ведь она может ему сказать: «Я вспоминала о вас, сегодня за завтраком мы о вас говорили, вы все еще думаете о Берлине?» Она-то беспрестанно об этом думает. Иной раз ей приходится себя одергивать, настолько погружается она в эти мечты, в мыслях она уже приводила его к себе, в свою комнату на Мюнцштрассе, хотя ничего хорошего, даже водопровода, в этой комнате нет, в сущности, это просто жалкая каморка: койка, шкаф и окно на темный задний двор.
Она решила, что ему лет тридцать пять, значит, он старше ее лет на десять. Но он нездоров, он сам сказал, застудил себе верхушки легких, из-за этого и морской воздух, и этот пансион в лесу; не будь он уже столько лет болен, они бы не встретились.
Его рот, его губы, его слова, в которые она окунается, словно в ласковые волны. Прежде ни один мужчина так на нее не смотрел, он видит ее насквозь, видит ее плоть, видит, как под кожей все в ней трепещет, и ей от этого хорошо.
Однажды она очень счастлива — это когда он пересказывает ей свой сон. Во сне он едет в Берлин, уже много часов сидит в поезде, но по непонятным причинам поезд тащится ужасно медленно, то и дело останавливаясь, он в отчаянии, уже ясно, что из расписания они безнадежно выбились, а ведь на вокзале его должны встречать, в восемь вечера, но сейчас уже семь, а они еще даже не пересекли границу Такой вот сон. Доре тоже иногда что-то похожее снилось, и главное в этом сне, как ей кажется, — это что его ждут. Ей лично, говорит она, было бы совсем нетрудно его дождаться: ну, села бы на скамейку и просидела бы полночи. Доктор спрашивает:
— Да, вы в самом деле так думаете?
До вчерашнего дня он церемонно обращался к ней «барышня», и ей это нравилось, но теперь он зовет ее просто Дора, а ведь Дора происходит от «дара», что ж, раз так, пусть принимает, она ждет.
3
Более всего изумляет доктора, что он тут спит. Вроде бы изготовился с головой окунуться в новую жизнь, впору страшиться, сомневаться, а он спит, и никакие призраки его не тревожат, хотя он каждый миг их ждет, слишком хорошо он помнит прежние с ними битвы. Однако сейчас, похоже, никакой битвы нет, а есть чудо, и даже план, из этого чуда проистекающий. Он не так уж часто о ней думает, но он дышит ею, вдыхает и выдыхает ее, когда наведывается после обеда к ней на кухню и они вместе мысленно гуляют по Берлину, или за ужином, когда ловит подле себя, совсем близко, ее аромат. Ближе к ночи, уже в постели, его мысли занимает то какая-нибудь ее фраза, то воспоминание о полоске ее кожи возле самого рукава, о подшивке платья или о том, как она замерла с вилкой в руке, вчера, когда он спросил ее об отце; оказалось, что тот — правоверный иудей, и она давно с ним в раздоре. В снах его она пока что не появлялась. Но он и во сне ее не теряет, просыпаясь утром, первой же мыслью осознает, что она где-то здесь, словно между ними привязь, на которой их медленно друг к дружке притягивает. Он еще почти к ней не прикасался, но знает, и не только подспудным знанием, что настанет день, когда он коснется ее недвусмысленно, и даже не чувствует к себе из-за этого ненависти, словно это почти его право, а ужас по этому поводу — просто глупое, давно изжитое суеверие.
Вот уже неделю они видятся каждый день. Сестер и детишек он видит преимущественно за завтраком, не далее как вчера ему пришлось выслушивать упреки — ему, дескать, совсем не до них. Это Элли сказала, но таким тоном, словно на самом деле она очень даже одобряет и его, и эту Дору, и хорошо, что ему есть чем заняться в этом сонном, Богом забытом Мюрице — вместо того, чтобы ночи напролет корпеть над своими странными историями. О работе своей доктор никогда говорить не любил. И если она спросит, придется ответить, что он сейчас даже писем не пишет, даже другу Максу, которому мог бы, по крайней мере, сообщить, что обдумывает возможность переезда в Берлин. Впрочем, сама эта возможность еще слишком призрачна, скорее дуновение, чем мысль, нечто такое, что и в слова-то облечь нельзя, вот он и боится: одно неловкое предложение — и даже мысль улетучится.
То, что она с востока, Максу бы наверняка понравилось. С тех пор как города заполонили беженцы, все только о востоке и говорят, и Макс тоже, он надеется, что оттуда, с востока, придет спасение для всех евреев, хотя никакого спасения не будет, и с востока тоже.
Тот, кто пришел с востока, в одночасье оставил позади всю свою прошлую жизнь, вот почему Дора гораздо свободнее, чем он, оторванней, хотя из-за этого, должно быть, и более скованна, — это человек, хорошо помнящий, где его корни, но именно потому, что сам же их обрубил. Хотя она ничуть не кажется доктору мрачной, как, вероятно, стал бы утверждать Макс, увидев в ней чуть ли не персонажа Достоевского. Кстати, Эмми, возлюбленная Макса, тоже какая угодно, только не мрачная, вот уж она-то настоящая берлинка, белокурая и голубоглазая, и единственная тайна у нее за душой — это ее связь с Максом, который уверяет, что лишь с этой женщиной познал чувственную любовь во всей ее полноте. В разговорах с доктором он уже не раз в этом смысле высказывался, по счастью не вдаваясь в подробности, ведь Макс его друг, и он женат, но очаровательная Эмми, похоже, слегка выбила его из колеи. Хорошо еще, что живут они не в одном городе, хотя, с другой стороны, это и несчастье, по крайней мере для Эмми, сетующей, что они так редко видятся. Она и доктору на это жаловалась, он по пути сюда заезжал к ней в комнатку возле Зоологического сада, просил не сердиться на Макса, войти в его положение.
Дора смеется над такими историями. Они сидят на пляже и рассказывают друг другу истории про ожидание. Доктор — тот тоже полжизни прождал, во всяком случае сейчас, задним числом, у него такое чувство: ждешь, ждешь, и сам не веришь, что что-то еще будет, а оно вдруг раз — и случается, точь-в-точь как ты ждал.
На следующее утро дождь льет стеной. Доктор стоит на балконе и наблюдает внизу, на соседнем участке, великий переполох — днем половина детей уезжает обратно в Берлин. Сегодня воскресенье, и Тиле тоже уезжает, около одиннадцати она, уже в плаще, стоит внизу в холле и с трудом сдерживает слезы. Доктор на прощанье купил ей подарок, вазу рубинового стекла, на которую она несколько дней назад залюбовалась в витрине. Тиле потом не раз еще про эту вазу вспоминала, так что сейчас она почти не верит своему счастью. Мы в Берлине увидимся, обещает доктор, хотя имеет в виду всего лишь, что на обратном пути, когда остановится в Берлине, зайдет в книжный магазин ее проведать. И все равно — вот теперь она плачет.
Доктор спрашивает, но почему, а она только головой трясет и говорит, что это от радости. Адрес у него есть? Доктор кивает, он все записал, он ей напишет, как только точно станет известно, когда именно он проездом окажется в Берлине, ведь если и дальше так будет лить, его сестры долго здесь не выдержат. Похоже, прощание затягивается. Тиле поглаживает мерцающую вазу, доктор еще раз подбадривает ее насчет родителей, возвращение под чей кров она себе вообще представить не может, но доктор говорит: так надо, вспомни о своих балетных туфельках, ты же обещала.
Он испытывает почти облегчение, когда Тиле наконец уезжает. Доре он бы в этом не признался, но и у самой Доры на лице тоже облегчение, отсутствие Тиле ощутимо для них обоих. Пока девушка была здесь, они постоянно чувствовали, что за ними наблюдают, они были несвободны, хотя, может, именно поэтому и беззаботны.
Невзирая на скверную погоду, они все же условились погулять. Дора обещала зайти за ним около десяти, доктор в своей комнате читает, а она вдруг является на полчаса раньше. Она бежала под дождем и вся вымокла — намокли и тяжелые волосы, и лицо. На какой-то миг она доктору совсем чужая, но это потому, что она в его комнате. Вот, значит, где вы живете, бросает она, все еще в дверях, надеюсь, я не помешала. На комнату она почти не смотрит, стоит в дверях и улыбается, смотрит на него, доктору надо еще пальто взять, но вместо этого он вдруг, ни слова не говоря, ее обнимает. Это скорее полунаклон, чем объятие, мимолетное проскальзывание, вдруг остановленное, замершее, он целует ее волосы, лоб и что-то при этом шепчет, даже поцелуи тоже как будто шепот, он полон радости. С тех пор как он увидел ее на кухне, он полон радости. Да, говорит она. Она все еще стоит в дверях, прислонясь к косяку, словно по-прежнему намерена вместе с ним идти на прогулку, вон там, в шкафу, его пальто, он только хотел его взять — но он его не берет. Он говорит о Берлине, если ей хочется, он еще этим же летом в Берлин приедет. Он правда это сказал? Она кивает, она целует его руку, ладонь, подушечки пальцев, и вообще — пора уже снять наконец это дурацкое пальто. Похоже, ей холодно, в комнате не топлено, а на ней платье, которого он еще не видел, конечно, она в нем мерзнет. Не уходи, говорит она, когда он все-таки порывается взять пальто, и потом они долго так стоят, чуть неловко, кренясь, но крепко обнявшись, прижимаясь друг к другу бедрами, как настоящая пара. Ее с самого начала к нему тянуло, признается она, еще там, на пляже, хоть она и не верила ни секунды. А теперь верит. Можно ли верить поцелуям? Ей хочется узнать, о чем он думает, вот сейчас, в эту секунду, подумал ли он… Нет, не говори, шепчет она, хотя ей самой не понятно, почему она перешла на шепот. Дора вышла на балкон, качает головой по поводу погоды, по части погоды им и правда жутко не повезло. А вот она уже сидит на софе возле балконной двери, там, где он иногда читает, доктор что-то говорит про ее платье, платье у нее из Берлина, и только тут ему приходит в голову, что у Доры до этого лета было ведь какое-то прошлое и он об этом прошлом все-все хочет знать. Только тут он снова замечает, насколько она молода, у нее еще вся жизнь впереди, думает он, так по какому праву он в эту жизнь лезет.
Ночью приходят сомнения. Нет, это не борьба с кошмарами, к которой он уже привык, но все равно он проворочался до рассвета, сна ни в одном глазу. Зато мысли проплывают в голове страшно медленно, он имеет возможность, с удивлением отмечая это про себя, спокойно и всесторонне их рассматривать, почти безучастно, словно бухгалтер, сводящий баланс, не ведая сомнений в своей цифири. Последовательность безразлична, он изучает вопросы в порядке поступления, потом перебирает их снова. Итак, он болен, и он на пятнадцать лет ее старше, но, несмотря ни на что, он мог бы попытаться начать с ней жить, в Берлине, поскольку она, по счастью, из Берлина, а никакой другой город никогда его не привлекал. Таковы обстоятельства, которые, не считая утренних поцелуев, он с грехом пополам может считать благоприятными. Все остальное — против: за все эти дни здесь, на море, он вряд ли прибавил в весе, постоянно ощущает слабость, понятия не имеет, как объяснить родителям, что с ним теперь кто-то, молодая женщина, да еще, как назло, с востока, выходцев откуда так презирает отец. Что, ему так прямо подойти к отцу и заявить: я познакомился с ней в Мюрице и уезжаю к ней в Берлин? Он прокручивает в голове начало разговора, сперва с матерью, потом с отцом. Спрашивает себя, что в этом, собственно, такого трудного, и в конце концов, почти успокоившись, проходит все еще раз сначала, проверяет, не упустил ли чего: жизнь в Берлине, где найти комнату, и снова — собственные силы, нехватка деятельной энергии, в чем он уже столько лет себя упрекает, и все без толку.
Он отчитывается Роберту об этой ночи, не столько потому, что верит в ночь, а скорее по привычке, ибо между ними это уже почти вошло в обычай — сетовать друг другу на свои ночи. Два года назад, когда они познакомились в санатории, они часто обсуждали возможность переезда в другой город. Именно об этом доктор сейчас и вспоминает, да, им обоим не худо бы как можно скорее переехать, самое позднее на следующий год, поселиться, к примеру, где-нибудь в грязных еврейских переулках Берлина, где живет Дора, хоть о Доре он не упоминает в письме ни словом.
После обеда они с Дорой договорились о встрече, надо же наверстать пропущенную прогулку. На сей раз она его ждет, опять в этом своем пальто, немного робея, словно сразу угадав, что его ночь прошла скверно. Смотрит вопросительно, но он вида не подает, в первый раз берет ее за руку, которая оказывается маленькой и сухой на ощупь. И, не пройдя и нескольких шагов, они уже снова попадают туда, где очутились накануне в его комнате, все еще в этом царстве шепота, а вокруг только перестук дождя по ветвям берез и сосен. Доктор дает понять, насколько он со вчерашнего дня в замешательстве, все вокруг поражает его новизной, все в движении. Он хотел бы, чтобы она в нем не обманулась, чтобы правильно его оценивала, да и себя тоже, чтобы потом не пришлось сожалеть. Она в ответ говорит, что не представляет о чем. Сожалеть? Доктор не знает, как еще ей это объяснить. Он болен, серьезно болен, и уже год, как на пенсии. И он со странностями. Чтобы она хоть приблизительно имела представление, как обстоят его дела, он говорит о своем туберкулезе, просто чтобы она знала, с чем связывается, на что идет, если он верно вчера ее понял, да и сам понимает это так же. Что он болен — ей это все равно. То есть не все равно. Просто я хочу быть там же, где ты, чтобы мы были рядом, остальное образуется. Он вслушивается, как звучит в ее устах это «мы», нежно и уверенно, как будто теперь-то уж с ними ничего особо страшного не может случиться. Насчет комнаты она уже подумала. Она знает, у кого спросить, если он хочет, она сегодня же в Берлин напишет. Ты хочешь? Она упоминает несколько имен, ничего ему не говорящих, это уже на подходе к берегу, почти в конце их прогулки, когда оба уже мерзнут, хотя дождь заметно поутих. Погоди, останавливает она его. Так мне что? Она, конечно, имеет в виду комнату, но, может, и что-то еще, и доктор отвечает, да, пожалуйста, напиши, — а еще он хотел бы знать, какое доброе небо ее ему посылает.
Вечером у себя в комнате господин доктор пытается в точности восстановить, о чем они говорили, но припомнить может лишь ее голос, а еще их молчание, которое, кстати, случается, и даже не бывает неприятным, когда они просто идут рядом, а потом начинают говорить снова. Больше ничего не запомнилось. Он более или менее спокоен, все идет своим чередом и вроде бы не требует его участия. Только Эльзе Бергман насчет путешествия в Палестину он должен все-таки наконец написать, что он ей не попутчик. Его отказ не слишком ее удивит, но объясниться он должен, и ему стоит некоторых усилий сделать вид, будто он из-за этого расстроен, хотя именно это он ей и напишет.
4
Проходит какое-то время, прежде чем она начинает понимать, чего он от нее хочет. Почему не решается прикасаться к ней, хотя ничего ей не хочется сильнее, как именно его прикосновений, когда он приходит звать ее на прогулку, ведь они теперь почти каждый день гуляют. Погода опять довольно прохладная, но хотя бы дождя нет, а иногда даже солнце выглядывает, и времени у них вдоволь, они могут и вправду подолгу бродить, рука об руку, но — по крайней мере она, Дора, так чувствует, — постоянно ощущая внутри некую дрожь, словно в любую секунду она может его потерять. Некоторых его странностей она вовсе не понимает, когда, к примеру, он ее спрашивает, действительно ли у нее это всерьез, или когда на себя наговаривает. Ни с того ни с сего вдруг спросит: хочешь знать правду? — а правда эта, дескать, такая, что ее такая правда только отпугнуть может, — а она в ответ его высмеивает, и слушает так, будто он не о себе, а каком-то другом человеке говорит, совсем не знакомом.
Они сидят на скамейке, где-то в лесу, и что-что, а уж легких путей он точно не ищет. Он пытается вообразить их вдвоем в Берлине, допустим, вместе в одной комнате, как это будет. Он хочет, чтобы она как можно больше находилась с ним рядом, но ему надо бывать и одному, прежде всего, когда он пишет. К тому же он много гуляет, часами бродит по городу, ведь на ходу, объясняет он, рождаются образы, фразы, одна за другой, которые потом остается лишь записать. А пишет он только по ночам. Я непереносим, когда пишу. Но теперь уже он и сам смеется. Что ж, слишком пугающе, находит она, все это не выглядит. Странновато, конечно, на ее взгляд, но чтобы страшно — нет. Чего он сам-то боится? Меня? Ты меня боишься? Что я буду тебе мешать? Если буду мешать, говорит она, я просто уйду, пока ты не подашь знак, что мне можно вернуться. Отчасти это, конечно, шутка, но он, похоже, воспринимает ее слова с облегчением. Он уже несколько недель почти не пишет, может, его писательство вообще кончилось, говорит он, но, похоже, и сам в это не верит. Да, ты понимаешь? Она не уверена, понимает ли, но он уже ее целует. Он хотел бы жить где-нибудь, где зелено, и она говорит «да», и потом еще раз «да», и все это посреди леса, на скамейке. Иногда я смотрю на тебя и вообще себе не верю, говорит он.
На нем сегодня новый костюм, темно-синий, почти черный, в тонкую белую полоску, а к нему еще и белая сорочка, и жилетка, и галстук — галстук этот она уже помнит.
Она пишет своему приятелю Георгу, а потом Хансу, от которого уже две открытки пришли, бестолковые каракули, на которые она не знает, что отвечать. Между строк он дает понять, что скучает по ней, впрочем, без тени упрека, и именно это затрудняет ей ее просьбу. С тех пор как она увидела доктора, она на Ханса смотрит совсем другими глазами, он словно скукожился, его невозможно воспринимать всерьез, ведь ему, как и ей самой, всего лишь двадцать с небольшим. И тем не менее приходится ему написать, ведь у него отец архитектор, там и связи, и знакомства, и все это им сейчас нужно. Ну, доктор — он доктор и есть, познакомились случайно на пляже, она хотела бы оказать ему услугу. Она чувствует, что звучит все это немного вычурно. В сентябре она уже снова будет в Берлине, извещает она, надеюсь, у тебя все хорошо, что опять-таки звучит примерно в том смысле, что ей до него уже почти и дела нет. Впрочем, строго говоря, она ему ничего и не должна. Ну, в кино два-три раза вместе сходили, а больше-то ничего и не было, по крайней мере, на ее взгляд. Она рада, что доктор ни разу о нем не спросил, ее бы это смутило, словно такого парня, как Ханс, только стыдиться можно. Позже, во второй половине дня, они опять пойдут на прогулку, доктор пообещал местным детишкам мороженое, так что пойдут, наверно, чуть попозже.
Вчера, уже на обратном пути, он сказал ей, что один в Берлине жить не смог бы; он о Берлине способен думать только потому, что ее встретил. Он, к примеру, вообще не умеет готовить. Там, в Берлине, она будет ему готовить? Спросил, как глупый мальчишка. Но он же не вправе от нее этого требовать. На это она его обняла, поцеловала и сказала, что только счастлива будет, хотя в последнее время замечает, что он к ее стряпне почти не притрагивается. И вообще, он похудел за то время, что они знакомы, — и вот после этого он ей говорит: да, он хотел бы, чтобы она ему в Берлине готовила.
Элли тоже сетует, что брат ей не нравится, он не только в весе потерял, но и температурит почти каждое утро, холодная погода, к сожалению, ему не на пользу. Они мельком встретились внизу, в вестибюле. Дора восприняла эти слова как скрытый упрек, словно теперь это ее забота — следить, чтобы доктор набирался сил. Вечером, за столом с новыми детьми, он съедает совсем немного или вовсе ничего, уверяя, что уже поужинал у себя в комнате. Не сердись, просит он взглядом, но позже, задним числом, ей слышится в этой просьбе и что-то еще: ты этого не понимаешь, ты столько всего еще не понимаешь, и все равно ты мне дорога.
Ты мое спасение, говорит он ей. А я уже ни в какое спасение не верил.
Если от счастья можно умереть, то уж со мной-то это несомненно случится, но если благодаря счастью можно остаться в живых, то, может, я и останусь.
Когда она думает о нем перед сном, ее больше всего радует, что он говорит ей ты и не устает ее восхвалять, словно сама она не в силах осознать, насколько она хороша. Он, к примеру, может спросить: а я уже говорил тебе про это платье? А потом, через несколько фраз, вдруг: пожалуйста, почитай мне что-нибудь, — потому что, если они не идут гулять, она теперь должна читать ему вслух, на иврите. Она уже из Исайи ему читала, он больше всего Пророков любит. Так бы часами и сидел и только тебя слушал, говорит он. Или еще: как бы я хотел положить эту бедную голову тебе на колени, когда наберусь храбрости, я попрошу.
На улице по-прежнему не погода, а наказание. Впрочем, покуда можно сидеть с ним у себя на кухне, ей это все равно, но тут вдруг все нарушает внезапный план отъезда, вместе с сестрами он, оказывается, вознамерился покинуть Мюриц. Приехал Карл, муж Элли. За первым же завтраком происходит долгий семейный совет, потому что доктор ничего не ест и исхудал как никогда. После обеда он ей обо всем этом рассказывает. Валли первой подала мысль об отъезде, и даже дети не слишком возражали, с тех пор как им на море нельзя, они совсем распоясались. Его эти планы, конечно, не радуют, он правда ни словом не подтверждает, что отъезд — дело решенное, однако рано или поздно все они, конечно, уедут, что, к сожалению, означает, что придется уехать и ему тоже, один, без сестер, он здесь никак остаться не может. Поначалу она просто не верит своим ушам. Но почему? — изумляется она. И что значит «один»? Разве ты здесь один? Ведь она еще даже не успела попробовать, чуть не вырывается у нее, кроме того, у них и так друг для друга всего-то по нескольку часов в день, а сама она, к сожалению, уехать не может, если б могла, она бы ни секунды не колебалась, тотчас же поехала бы за ним. Доктор пытается ее успокоить, отъезд еще совсем не решен, хотя он и вынужден признать, что потеря в весе — обстоятельство немаловажное, и, может быть, удастся подобрать на последующие недели более подходящее место для отдыха.
Разговор происходит наверху, у него в комнате, она почти не в силах поднять на него глаза, теперь, когда понимает, что остались считанные дни. Ей приходит в голову, что она вообще в его отъезд не верила. Ей казалось, каникулы кончатся, и они уедут вместе, прямиком в Берлин. Значит, ей надо этот план отъезда пересмотреть. Доктор стоит у нее за спиной, она чувствует его ладони у себя на талии, как он гладит ее по волосам, вдыхает ее запах. Наши планы от этого ничуть не меняются. Я даже ничего не буду тебе обещать, потому что начни я обещать, это означало бы, что я не уверен, а так — чем раньше я отсюда уеду, тем скорее я буду в Берлине. Она не знает, верить ему или нет, вдруг это нечто вроде той вазы для Тиле, нечто такое, что берешь с собой, а потом не знаешь, на что оно может пригодиться и куда, скажите на милость, его девать. Завтра приезжает Пуа, сообщает он, думаю, она тебе понравится. Все это время он ее не отпускал, они все еще стоят на кухне возле печки, и руки у него теплые, хотя бы это слегка ее утешает, но только слегка.
А Пуа и вправду понравилась ей с первого взгляда. Она здесь не только из-за доктора, хотя сразу видно, что они давно знакомы, Пуа учила его ивриту, кроме того, с недавних пор она живет в Берлине, значит, еще одна ниточка свяжет его с этим городом. Впрочем, в разговорах с Пуа он об их берлинских планах не упоминает ни словом. Хвалит народный дом, детей, которые, правда, если честно, радуют его уже гораздо меньше, чем на первых порах, когда они каждый вечер в саду ужинали и пели, — в его устах это воспоминание звучит так, словно все это было много лет назад. А это Дора, говорит он, но таким тоном, как если бы он сказал: взгляните, какое чудо со мной приключилось. К сожалению, ему вскорости придется уехать, — рассказывает он вечером, когда они все вместе сидят, — хотя отнюдь не каждый с этим решением согласен, а менее всего он сам. И тогда Пуа говорит ей: что ж, значит, увидимся в Берлине. После чего они долго еще говорят о Берлине, но совсем не так, как беседовали о Берлине они с доктором, говорят так, будто в Берлине все ужасно и на свете хуже Берлина вообще места нет, там картошку теперь продают под охраной полиции, чтобы не растащили, а государственный банк каждый день печатает два миллиона новых денег. Вы тут, в глуши, хоть представляете, что в мире творится? Доктор смеется и уверяет, что газеты здесь все-таки пока что есть, но Дора уже не слушает, она неотрывно следит за взглядом этой новой женщины по имени Пуа. Доктор ей явно нравится, она запускает руку себе в волосы, когда с ним говорит, что-то шутит насчет его успехов в иврите, дескать, он лучший ее ученик, на голову выше остальных. Издали ее можно принять за сестру Тиле, и Дора испытывает что-то вроде гордости оттого, что господин доктор этой женщине нравится, она еще не ревнует, ну, или самую малость, она ведь и к Тиле поначалу ревновала, но потом он объявился у нее на кухне и никого, кроме нее, уже не хотел.
5
С тех пор как она знает, что он вскоре уедет, она какая-то притихшая. Хотя доктор уже не раз ей повторял, что все решено, сам он явно нервничает и полон сомнений. Вот уже которые сутки почти не спит, у него головные боли, и от перемены мест ему вряд ли станет лучше, как и от перемены климата, хотя погода вроде бы наконец-то и здесь налаживается, после обеда все даже снова отправляются на море. Так почему бы тогда ему не остаться? Он объясняет Доре: это и из-за Берлина тоже. По пути домой он хотел бы ненадолго в Берлине задержаться, принюхаться слегка, по улицам пройтись, а через пару недель, когда сил наберется, он приедет уже навсегда. Им всего три дня осталось, он устал, Дора то и дело гладит его лоб, виски, он чувствует, до чего ей грустно, ужинать сегодня в летнем лагере с детьми он уже отказался.
Он боится, что разочарует ее. Он ее покидает и даже не знает, что впереди, одно это — уже разочарование. Нет, говорит она. Перестань. Позже, уже на пляже, она сидит перед ним на песке, по-турецки скрестив ноги, улыбается и смотрит чуть вопросительно, ведь они в последний раз тут вместе, и погода дивная, тепло, почти как в начале июля, еще до того, как они встретились.
Хотя он еще не упаковал вещи, комната уже совсем чужая. Еще вчера он вот за этим столом писал письмо Тиле, а раньше, задолго до того, открытку родителям, но больше за целый месяц, можно считать, почти ничего не написал, пару строк в дневник, пару набросков, где о Доре ни слова. Уже почти неделю, как валяется без ответа письмо от Роберта, тот ноет, что болен, хотя, скорей всего, это просто его мнительность. В своем ответе доктор, как ни странно, даже не удосуживается его пожалеть, вместо этого жалуется на свои хвори, голова болит, сон отвратительный, в понедельник он отсюда уезжает. Он мог бы хотя бы имя ее назвать, но вместо этого пишет о детском лагере, где бывает в качестве гостя, но статус этот, к сожалению, не свободен от двусмысленности, потому что тут примешаны и личные отношения. Хотя бы таким образом она все-таки упомянута. О планах на будущее — ни слова. Да и с кем он мог бы ими поделиться? С Максом, о котором уже много недель ничего не слышно? С Оттлой, пожалуй, можно поговорить, и внезапно все его предотъездные мысли окрашиваются упованиями на эту встречу: вот вернется домой и все обсудит с Оттлой. Он садится на балконе, послушать уже привычные голоса, только не слишком долго, чтобы не тягостно было уезжать. Этих голосов ему наверняка будет не хватать, думает он, без моря, пожалуй, можно обойтись, да и без леса, хотя лес бывает и в других местах, да и комната, где можно писать, тоже найдется.
Прощание выходит недолгим и светлым. Она, считает он, держится молодцом, опять в этом платье, перед которым он хоть сейчас готов пасть на колени прямо здесь, посреди кухни. Нет, ужинать к ней он сегодня не придет, этот последний вечер он уже обещал детям, зато вместе с ней он еще раз сходил на пляж. Говорить больше особенно не о чем. На станцию он просит его ни в коем случае не провожать. Да, хорошо, откликается она, на что он: тогда до скорого. И она, в ответ: да, до скорого.
Наверху, в комнате, он испытывает облегчение оттого, что она так просто его отпустила. Он обещает ей телеграфировать по дороге, еще из Берлина, на что она: пожалуйста, не забывай того, что было, а теперь иди, все хорошо. Он начинает паковать чемодан, там, в лагере, в это время все садятся ужинать, да как она может подумать, что он хоть малейшую подробность способен забыть. Элли тоже уже запаковала вещи, дети ни в какую не хотят его отпускать, лишь около десяти он снова у себя в комнате. За окном, в лагере, стало заметно тише, он смотрит на детей там, внизу, за длинным столом, но уже без тоски, словно он уже в дороге, уже в Берлине, уже едет с вокзала в гостиницу.
Стук в дверь, который он сперва не слышит, которому не верит — а на пороге уже она, Дора. На сей раз совсем не запыхавшаяся, напротив, очень спокойная, правда, чуть бледная. Нет, она не плакала, говорит она, просто думала, весь вечер там, в лагере. И вот о чем она пришла его попросить, попросить ради всего святого: отложить отъезд, хоть на несколько дней, ну не может он, нельзя ему уезжать завтра утром. Я прошу тебя, повторяет она, и потом еще раз: пожалуйста. И уже опять сидит на софе, странно юная и серьезная одновременно, словно сама удивляется, что сюда пришла. Качает головой, какое-то время молчит, потом признается: она не думала, что будет так тяжело. Но она не из-за этого пришла. Я все время думала — ну не можешь ты так уехать. Или можешь? Нет, отвечает он. Может, и мог бы, но теперь уже не смогу.
В поезде его сопровождает ее запах, обрывки фраз, вдруг всплывающие в памяти, промельк движения или жеста, а Герти и Феликс буравят его своими детскими вопросами, торопятся показать разных зверушек там, за окном, где тянется под безоблачным небом плоский и бескрайний ландшафт. Даже ласточки снова чиркают в воздухе, но на дворе ведь еще начало августа, с чего бы им не летать…
Расставаясь в половине первого, они мало о чем говорили. Единственная мысль была — насколько же можно обманываться, прежде всего, в самом себе, ибо оказалось, что чудо, сколь бы непостижимым и невозможным оно ни мнилось, еще не кончилось, и его переполняло изумление, почти оторопь при воспоминании о ее терпении, нежности и неожиданной догадливой умелости. Она ушла от него почти беспечально, завороженная счастьем, словно теперь все под защитой, так, или примерно так, она и сказала. А теперь спи, обещай мне, что будешь спать! И он и вправду несколько часов кряду проспал, покоясь в ее запахе, пусть не слишком крепко, словно ожидая, что она придет снова, или словно это уже не имело значения — здесь ли она, подле него, или там, в лагере, в своей комнатенке, словно она и здесь, и там одновременно. Наутро он даже смог позавтракать, проснулся в полседьмого, запаковал последние вещи, прислушиваясь к себе, нет ли внутри какой помехи, мелкого предательства, но в душе было только восхищенное изумление, оно одно.
Доктор не особенно торопится в город, тем паче что первые шаги ему хорошо известны: стойка портье в «Асканийском подворье», лифтеры в ливреях, доставившие в номер его багаж, золотисто-бардовая обивка стульев и кресел, той же ткани тяжелое покрывало на кровати, массивный письменный стол у окна. Хотя он обещал Элли, что будет есть, из комнаты он не выходил до вечера, но теперь, после более или менее сносной ночи и для его-то аппетита, можно считать, просто царского завтрака, его распирает жажда деятельности. Он знакомится с новенькими миллионными купюрами в меняльной лавке на вокзале, где накупает себе всех берлинских газет, чтобы чуть позже, в кафе, углубиться в изучение объявлений о сдаче жилья. Цены чудовищные, по крайней мере по части цифр. Дора сказала ему, в каких районах искать, — помнится, во Фриденау, она говорила про Фриденау, название ему нравится, «пойменная тишь», значит, туда он и поедет.
Два часа спустя он, можно считать, уже решился. Район очень зеленый и тихий, почти как предместье, кругом одни сады, парки, аллеи, молодые матери с младенцами в детских колясках, но рукой подать и до ратуши в Штеглице, откуда полно трамваев, если надо — через каких-нибудь четверть часа ты в центре. Он посылает Доре телеграмму, что доехал благополучно, и о первых своих впечатлениях. Поедешь со мной во Фриденау?
И Тиле, которую он навещает в ее книжной лавке, он тоже о Фриденау рассказывает, пожалуй, скорее для собственного успокоения, потому что по дороге жутких вещей насмотрелся, нищие в лохмотьях, побирушничающие прямо на улицах, да еще этот страшный шум, и давка, и толкучка, потому что всюду полным-полно людей. Тиле его ждала, показывает ему его книги в витрине, слева в глубине, рядом с последним романом Бреннера. Она ужасно рада, все время о нем думала, а рубиновую вазу бережет как зеницу ока. Она заварила ему чашку чая. Ему дозволяется посидеть в подсобке, переоборудованной под контору, пока она за прилавком обслуживает последних клиентов, оставив его наедине с его усталостью или чем-то еще, чему трудно подобрать имя, некоей пустотой, даже нельзя сказать, чтобы неприятной, это просто передышка, когда вдруг видишь вещи такими, как они есть.
На следующий день он вновь бродит по улицам, открывает для себя еще два парка, час, если не больше, сидит в тени на скамейке в Ботаническом саду, потому что сегодня, как и накануне, стоит жара, что не особенно располагает к ходьбе. Он радуется, когда снова видит что-то знакомое, сад с мальвами на одной из тихих улочек вокруг ратуши, и белокурая девчушка, что катит по тротуару большой железный обруч на куске толстой проволоки. В час или два пополудни в летнем кафе он заказывает себе порцию мороженого, начинает письмо Максу, но откладывает, вдруг почувствовав себя совсем брошенным. С каждым часом он все сильнее ощущает недобрый гнет своего — пока что всего лишь однодневного — одиночества, это он потом так напишет, а пока что просто сидит за столиком, ничего не чувствуя и ничего вокруг не замечая. Между тем вокруг него — семейства с детишками, сегодня среда, народу в саду не особенно много, толстая официантка приносит расплакавшемуся малышу улетевший воздушный шарик, повсюду голоса, болтовня, кое-где смех, через два столика от него две пары, разговор о деньгах, что-то про чемоданы, которые теперь для денег понадобятся. Недавно в банке, говорит та, что блондинка, и все четверо вдруг покатываются с хохоту, словно нынешние скверные времена — всего лишь мимолетная шутка. Доктора этот взрыв отчаянного веселья почти утешает, он пытается внушить себе, что да, он сейчас один, но ведь именно к этому он и стремился, к тому же он и не вполне один, еще вчера вечером он был в театре, вместе с Тиле и двумя ее подружками, на «Разбойниках».
Едва он выехал из Берлина — и прежней решимости как не бывало. Город, конечно, оказался ужасен, но то, что его ждет, гораздо страшней. Он сидит в поезде и изо всех сил старается не потерять ее образ, как она стояла у него в комнате, преданная и вместе с тем гордая, словно вообще неуязвима.
Вот этим воспоминанием он и пытается вооружиться. Элли и Валли дома, разумеется, представят обо всем полный отчет: и как он похудел, и что вся поездка была ошибкой; да и весенняя поездка тоже была ошибкой, и все равно он каждый раз чего-то ждет, чтобы потом испытать новое разочарование. Они опять начнут принуждать его есть и уже не оставят своей заботой, укоризненно покачивая головами после полудня, когда он еще не встал, — дескать, он никогда не научится жить, как надо.
6
Она и правда не знала, каково это; ей уже двадцать пять — а она и понятия не имела. Она дивится себе, чуть не скачет от радости, смеется, какая же она была дурочка, пока его не встретила, только теперь она поняла, что к чему.
О том, что было прежде, она думает без всяких сантиментов. Ну, было и то, и это, хотя в основном там и говорить-то не о чем, меньше всего об истории с Хансом, потом еще Альберт, с ним полдня в отеле, тоже и вспоминать не стоит, а она ведь даже надеялась с ним жить, поверить не могла, что он ею просто попользовался и бросил, а когда поняла, думала, что вообще этого не переживет. А теперь она его и вспомнить толком не может. Да и себя ту, давнишнюю, почти не помнит, словно доктор всю ее прежнюю жизнь стер. Она вообще не понимает, как такое возможно. Дело ведь не в поцелуях, не в объятиях, думает она, и не в словах дурацких, которые друг другу шепчут, хоть, может, они и правдивые, теперь, когда он уехал: я твой, я не уйду, если ты сама меня не прогонишь, не уйду никогда. Я твоя, я не уйду, если ты сам меня не прогонишь, не уйду никогда. Нет, ей совсем не по душе, что он уехал, но это можно вынести. Вот если бы она в последнюю ночь к нему не пришла — это было бы невыносимо, а так нет, просто душа немного не на месте, что-то там свербит и ноет, словно это боль, но это не боль.
После телеграммы о нем, к сожалению, ни слуху ни духу. Телеграмму ей доставил курьер, в прошлый вторник, когда он в Берлине был.
Она знает: он ей не принадлежит. Его руки, пожалуй, еще как-то, и слова, что он ей говорил, когда за окном уже смеркалось. Она эти слова почти все наизусть помнит. И вообще весь тот поздний вечер, голоса детишек, что поначалу еще доносились до них, потом тишину, и добросовестность его памяти, каждый день с ней он помнил по отдельности, каждый первый раз, ведь с ней все в первый раз.
Его почерк для нее неожиданность, округлый и словно текучий, а временами даже порывистый. Письмо не особо длинное, без обращения, она поначалу ищет свое имя, будто письмо не ей, пока не находит место, где он говорит об их последнем вечере: волшебная Д., читает она, и потом, чуть ниже: пожалуйста, жди меня в Мюрице, и звучит это так, будто он уже на днях вернется.
О своих делах он сообщает не слишком много, домашние приняли его хорошо, но все равно, тем не менее… Не будь мне так худо, я бы прямо на вокзале повернул обратно и с первым же поездом уехал к тебе. Он упоминает о том, что заходил к Тиле, потом очень подробно описывает свое знакомство с Фриденау. Он дважды туда ездил и бродил там, почти счастливый. Вокруг повсюду была страна Дора. И Мюриц — страна Дора, и это дивное Фриденау — тоже, вот я и путешествую целыми днями из одной страны в другую. Он ничего не забыл. А понял некоторые вещи только сейчас, до чего она была нежная и умная, словно давным-давно все-все о нем знала.
Чуть ли не в полночь она опустила свой ответ в почтовый ящик, до последней секунды сомневалась, получилось не письмо, а какое-то бормотание. Так, значит, Фриденау — это страна Дора? Значит, поищем что-нибудь во Фриденау. Ей как раз один знакомый по случаю написал, что готов помочь, но ему нужны более точные данные, количество комнат, примерная цена. А она ничего не смогла ему сообщить. Ей бы хотелось, чтобы он описал свою комнату, какой там вид из окна. В самом начале он что-то такое рассказывал, вроде там была церковь, верно? И что-то заграничное, она не помнит что. Ты еще помнишь Исайю? Как бы она хотела снова почитать ему вслух, это совсем не то, что с детьми, да и все остальное совсем не то с тех пор, как его нет, как раз вчера она долго стояла под его балконом, комната его уже снова сдана, там теперь пожилая женщина поселилась, только вот по какому праву?
Она не ждет сложа руки. При всякой возможности читает то, что он написал, беспрерывно говорит с ним, да, она неспокойна, но головы не теряет, к тому же на ней ведь дети, три кормежки в день, она трудится на кухне, где он до сих пор рядом с ней, а после обеда на пляже, где над ней потешаются детишки, потому что она отвечает невпопад и все время думает о чем-то своем.
Он послал ей денег, много купюр в незнакомой иностранной валюте, она не знает, как это понимать. В первый момент она решает, что это вроде как задаток за комнату, но потом читает, что он ей написал, и оказывается, это деньги для нее, ведь в Мюрице она через пару недель останется без работы, это на тот случай, если он к тому времени еще не вернется. Чтобы она в Мюрице работу не искала. Тон решительный, даже воодушевленный, словно он твердо уверен, что поступает верно, но она с первой же секунды знает: не надо ей этих денег. Время к полудню, ей надо обед готовить, но она все еще думает об этих деньгах, она сегодня же отошлет их обратно, это какое-то недоразумение, пожалуйста, пойми меня правильно, я не то чтобы сильно обижена, но нужды в этом нет никакой. Хотя она даже подумать не успела, будет в этом вправду нужда или нет, ведь вид на жительство у нее только до конца августа, и если он к этому времени не приедет, вот именно, что тогда?
Пауль, это один из воспитателей, спросил, что с ней. У тебя неприятности? Он студент, и она ему нравится, может, и стоило бы ему поплакаться. Но она не может. Неприятности — совсем не то слово. Просто она узнала, до чего легко можно пораниться. Но и пораниться — тоже не то слово, потому что она почти рада, что он может ее поранить, да, увидь он ее сейчас, она бы ему так и сказала: смотри, что ты со мной сделал, но даже это я тебе позволяю.
Одна из девочек принесла ей из лагеря письмо прямо на пляж. Дора только что вылезла из воды, сидит на песке возле своей плетеной кабинки и видит девочку с письмом, еще издали различает его почерк, потом свою фамилию на конверте — только он так ее пишет, огромными буквами, чуть ли не в половину конверта, и первые же строчки мгновенно ее успокаивают, и не потому, что он извиняется из-за дурацких денег, — извиняется чуть уклончиво, не до конца убежденный в ее правоте, не вполне понимая, с какой стати она отказывается, — а потому, что он без нее тоскует, его тянет к каждой строчке, которую она ему пишет, потому что без нее он просто не может жить по-человечески. Звучит не слишком-то счастливо, думает она, но письмо вчерашнее, он еще не обжился как следует. Завтра я встречаюсь с Максом, читает она, и на какой-то миг для нее это тоже завтра, и, только прочтя это второй раз, она понимает, что это «завтра» — уже сегодня, если не вчера. О комнате его — ни слова, ни слова и о том, во сколько он встает и как его родители. Только Оттлу один раз упоминает, когда пишет, что сидит за столом, смотрит в окно, но на что смотрит, так ей и не написал. Зато вместо этого: когда я в своих усталых мыслях провожу рукой по твоим волосам, я, конечно, радуюсь, но как будто не взаправду. Вся моя нынешняя жизнь — не взаправду, она происходит кое-как, тогда как жизнь с тобой не происходит вовсе, хотя она-то как раз настоящая, она-то, несомненно, взаправду.
7
Макс ушел от него очень поздно, уже после одиннадцати. Они проговорили добрых три часа, поначалу с легким чувством отвычки, в первые полчаса, когда речь шла только о докторе. Макс был явно напуган его видом, расспрашивал, сколько он сейчас весит и кашляет ли по ночам, есть ли у него температура, — все это доктор, более или менее в соответствии с истиной, отрицал. Да, он чувствует слабость, поэтому много лежит, нередко до самого обеда, а потом и после обеда часа два-три, он читает, пытается заснуть, потом идет на почту, снова в постель, пробует есть, а вот писать он, можно считать, вовсе не пишет, короче — делает, что может. О Берлине он Максу уже писал, о летнем лагере, потому что с тех пор, как он в этом лагере побывал, он стал другим человеком.
Я там познакомился кое с кем. С женщиной, она с востока. Дора. Он ей с первого взгляда во всем доверился, она очень молода, убежденная иудейка, в ней столько далекого, незнакомого, у него теперь вся надежда только на нее, ведь она живет в Берлине. Как только соберусь с силами, уеду к ней, в Берлин. Да, он и в самом деле это сказал. Звучит безумно, так ему чудится. Ты считаешь, я сошел с ума? Это как чудо. Но друг-то как раз всегда в подобные чудеса верил, у Макса полжизни из таких чудес состоит, и единственным, кто всегда в этих чудесах сомневался, был именно он, доктор.
Вот как с ним все обстоит. Что ты на это скажешь? Макс только одно может сказать: как он рад, ни за кого он так не рад, как за доктора. И, словно в доказательство, даже обнимает его. Хочет знать, есть ли у доктора ее фото, надеется, что вскоре с ней познакомится. Доктор говорит: я не знал, что такие создания вообще бывают на свете. Она очень нежная, если это способно сказать хоть что-то, свободно говорит на идише и на иврите. Я вешу пятьдесят девять кило, говорит он вдруг. Макс, говорит он, можно ли ехать в Берлин, если в тебе пятьдесят девять кило? Конечно нет. Надо набраться терпения. Берлин никуда не денется, считает друг. Этот город сейчас как в лихорадке, говорит Макс, он же знает от Эмми, и самое худшее, похоже, еще впереди.
Письмо ее он читает, стоя у окна, с облегчением, потому что она больше не сердится, о деньгах и вправду практически не упоминает. Она на пляже. Ему кажется, он почти видит, как она сидит и пишет, словно и сам совсем неподалеку. Все такое знакомое, близкое. Когда она пишет, к пристани как раз причаливает пароход — он сразу видит всю эту картину — дамы, на любой вкус и с пестрыми зонтиками, опираются на уверенные руки своих деловитых супругов, перед ними наряженные дети, а вот и собака, еще одна, строгое платье гувернантки, беззаботная барышня. Да, он видит почти все: белесую дымку на горизонте, пенистую линию прибоя, хотя кое-что уже улетучилось, стерлось из памяти, запах моря ранним утром на пляже, краски, вообще подробности, которые он, к сожалению, недостаточно цепко старался заметить, старая брошь, которую носила Дора, ее туфли, пальцы ног, что-то там было с этими пальцами. Глаза, глаза у нее серо-голубые. Помнит ее взгляд, хотя даже его уже не вполне, ощущение, что в тебя что-то попало, как ударило, вот и сейчас, когда он читает то, что ему написала эта молодая, двадцатипятилетняя женщина с востока.
И М. было примерно столько же, когда он ее встретил. А до нее была Ф., тоже двадцать с небольшим, да и Юлия была лишь ненамного старше. Получается, что он вот уже много лет знакомится только с двадцатилетними, ну, чуть постарше двадцати. Что это говорит о нем, кому тем временем уже сорок? Что он так и остался молодым? Или настолько боится стать взрослым? Какое-то время он раздумывает об этом. Еще ему приходит в голову, что почти все они были еврейки. Швейцарка была не еврейка, и М. тоже. Из-за того, что встретил М., он у Юлии, можно сказать, заживо сердце вырвал. Сейчас, все эти долгие годы спустя, ему вообще не верится, что он был на такое способен.
Дора пишет, что о нем тут помнят. О тебе помнит песок, вода, лагерь, столы и стулья, стены в моей комнате, когда я ночью не сплю и понимаю, насколько всем тебя недостает.
Воскресный вечер, доктор в постели, слушает шум улицы и домашние звуки — голос матери из кухни, шаги отца, бой напольных часов, а в короткие промежутки безмолвия, откуда-то совсем издалека, стук собственного сердца, биение крови в висках, как это видится, или, скорее, грезится ему сквозь полусумеречную дрему утомления. Он рад, что Дора его таким не видит. От стыда он бы тотчас же вскочил с постели, и в конечном счете это было бы даже хорошо, ведь если б не Дора, он, наверно, и вовсе бы из постели не вылезал. Итак, он лежит в постели и в то же время как бы видит себя со стороны, от двери — глазами матери, которая то и дело что-то ему приносит, в последний раз — стакан простокваши, ведь за ужином он почти ничего не ел.
Вопросов ему пока что никто не задавал — ни по поводу Мюрица, ни относительно ближайшего будущего. Мать, правда, пыталась — как бы невзначай, немного с жалостью, но и с легкой обидой в голосе. Она знает, он не очень хотел возвращаться домой, и ему здесь неможется, все эти дни он лишь с грехом пополам их терпит. Как всегда, он ее недооценивает. Она, к примеру, не считает, что эта поездка была ошибкой. Говорит: надеюсь, в Германии ты изведал что-то, что принесло тебе радость. О чем ты будешь вспоминать. Доктор обескуражен, он немедленно с ней соглашается: да, кое-что очень его порадовало. На что она: вот и хорошо. Тогда я тоже рада. И, уже от двери, обернувшись: отец тоже очень беспокоится. Каждый из нас.
Ей уже к семидесяти, и вид у нее усталый, он часто слышит, как она вздыхает, не напоказ, скорее тайком, от горя и забот обо всех и каждом.
Договор с издательством он на днях подписал и отослал в Берлин. Просто фамилию свою внизу поставил, словно это первый шаг, на который он, правда, решился пока что лишь наполовину, но который должен был сделать, чтобы не утратить решимость вовсе.
Газеты теперь каждый день только и пишут что о нескончаемом падении марки и о том, как это падение все глубже повергает немцев в несчастья, виной чему только они сами. А темпы падения и впрямь несусветные, литр молока стоит семьдесят тысяч марок, буханка хлеба — двести тысяч, курс доллара приближается к четырем миллионам. Сколько же, ради всего святого, придется платить за комнату, если до этого и вправду дойдет?
Оттла прислала открытку, спрашивает, как он себя чувствует, может ли она чем-нибудь ему помочь. Доктор даже не знает, что на это ответить. Он уже сколько дней назад начал писать ей письмо, с намеками насчет Мюрица и того, что там случилось и что это для него значит. Но так и не отослал. У нее и без сумасбродного немощного брата забот по горло. Нельзя, чтобы она догадалась, как ему хочется, чтобы она вытащила его отсюда, ибо это единственное, на что он уповает — что она вдруг появится в дверях и скажет: давай собирайся, хуже, чем в этой комнате, тебе все равно нигде не будет.
Дора хотела бы знать, какое жилье ему нужно. Будь добр, напиши мне, пожалуйста, чтобы мой берлинский знакомый понял, что надо искать. У нее все по-старому, с тех пор, как он уехал, ей и лагерь не в радость. Эта неделя пройдет, потом еще одна — и все. Как его сон? Ты спишь? Я, когда на пляже, сплю вообще как сурок, только вот времени на пляж почти не бывает, все то и дело от меня чего-то хотят и требуют, я почти безвылазно на кухне, которая каждый день ко мне пристает, почему тебя так давно не видно. Ты хоть помнишь, как мы купались вместе? Когда ты приедешь? Пожалуйста, приезжай поскорей. Комнату снимешь — и сразу же можешь приезжать.
Его утешает, что она все еще верит в эту комнату. Ему нужна кровать и стол, чтобы писать. Больше ничего не надо. Софа, конечно, не помешала бы, и отопление, когда настанут холода, ну, еще свет и вода. На какой-то миг он и сам во все это верит. Это возможно. Ведь встретил же он ее. Значит, возможно и это.
Оттла на один день сбежала со своей дачи. Как выясняется, только ради него, видимо, Элли и мать в своих письмах изложили все, как есть. Она только глянула на него — и тут же решает, что нечего ему здесь киснуть, ему в деревню надо, на свежий воздух. Поначалу он вроде даже ломается, но на самом деле благодарен и рад, хоть ему и неловко, у Оттлы ведь свои две дочурки, а ей еще о нем заботиться.
Обсуждать, собственно, особенно и нечего. Оттла у него в комнате, помогает паковать вещи, трогает ему лоб, рассказывает о своей квартире в доме коммерсанта Шёбля, велит прихватить с собой и что-нибудь из теплых вещей, на случай, если погода переменится, и постепенно как-то само собой выясняется, что едет он вовсе не на пару дней. До конца сентября они вполне могут остаться. Он пугается, это же, получается, больше месяца, но он слаб, у него температура, он не возражает.
8
Иногда, просыпаясь среди ночи, она изводит себя сомнениями: приедет ли он вообще, с чего вдруг все эти дни у нее была такая уверенность, даже сейчас, когда все вдруг кажется столь зыбким, — ведь он и вправду может передумать, если, к примеру, разболеется всерьез или потеряет уверенность, потому что начнет ее забывать.
В первые дни ей казалось, что всего этого ей хватит на всю жизнь, однако теперь запасы счастья неожиданно кончаются, все как-то теряет былой блеск, даже ее волосы в зеркале, и взгляд, и ее кожа, кожа у нее особенно чувствительная. Она не знала, что у тела может быть память, — глаза, нос, губы, которые теперь тоскуют без его губ, и даже впадинка пупка, которую он так любил гладить. Недостает его голоса и того его взгляда, которым он тогда, на пляже, сразу всю ее распознал и понял, кто она такая — глупая влюбленная девчонка с востока, но вдобавок и еще что-то, по крайней мере для себя, потому что он видит в ней нечто такое, чего до него никто еще не разглядел. Она не считает себя красавицей, ну, разве что хорошенькой, но там, на пляже, под его взглядом, ей хотелось быть красивой, и потом, на мостках причала, когда она чувствовала, как его к ней тянет и как он внутренне с этим своим влечением в ладу, потому что хотел только ее и никого больше.
В полиции, в отделе для иностранцев, ее уведомили, что вид на жительство ей продлен не будет; поскольку новой работы для нее не предвидится, ей следует вернуться в Берлин. Она поговорила с Паулем, скорей намеками давая понять, почему не хочет уезжать из Мюрица. Дескать, пообещала кое-кому здесь его дождаться, может, хотя бы на время какая-нибудь работа найдется, в гостинице или еще где. В службе занятости ее не особенно обнадежили, сезон кончается, гости разъезжаются, потребности в рабочих руках практически нет.
Пауль, конечно, почти сразу догадался, кого она ждет. Она не говорит ни да, ни нет, что на самом деле уже признание, но в конце концов сдается: да, его, господина доктора. Теперь, задним числом, Пауль уверяет, что почти сразу что-то заметил, нечто вроде искорки, за ужином — как доктор с ней разговаривал, как на нее смотрел, обычно люди так не смотрят. А он для тебя не староват? Самому Паулю слегка за двадцать, для него любой тридцатилетний уже старик. Зато, правда, он очень хорошо говорит о докторе, какой он необыкновенный человек, деликатный, чуткий, предупредительный, к тому же писатель, даром, что ли, в конце концов, чуть не половина лагеря в него влюбилась.
Он сказал, что поедет с ней в Берлин, выдавливает она из себя.
Кто? Доктор? И из-за этого ты ждешь его здесь? Так куда проще и логичней ждать его в Берлине! Когда он собирался сюда приехать?
Этого она, к сожалению, не знает, но если ей отсюда уезжать, то ни в коем случае не в Берлин, в Берлин она теперь только с ним поедет.
Он перебрался на дачу к своей сестре. Вчера, сразу после разговора с Паулем, пришла открытка, и теперь она вообще не знает, как ей быть. Сестре его вид не особенно понравился, и поэтому он на несколько дней переехал к ней за город. Название ничего ей не скажет. Местечко называется Шелезен[5]. Оттла была ужасно настойчива, она практически не оставила ему выбора. Сказала, что я выгляжу как призрак. Ты ведь не захочешь жить в Берлине с призраком? Вчера, на кухне, читая открытку, она только одно и успела подумать: нет, нет, прошу тебя, любимый, ты совсем не в ту сторону поехал, возвращайся, как же я тут без тебя.
Пауль утром сразу все заметил и стал приставать: что с ней, ради Бога, что стряслось? Дурные вести? А она даже не знает, дурная ли это весть или просто весть, она читала открытку снова и снова, особенно насчет призрака, и теперь, мало-помалу, начинает успокаиваться. Если по-другому нельзя, то, может, это и хорошо. Ей просто надо понять, куда ей в ближайшее время деваться. Она могла бы поехать к своей подружке Юдит, та проводит лето в деревне под Ратенау, там она пока что и поживет.
Пауль говорит: заметно, конечно, что ты огорчена, но видно и другое: насколько ты счастлива. Он помогает ей на кухне, сидит с ней в саду, приносит кофе, печенье, говорит ей комплименты, но не пошлые, а так, что ей и вправду приятно, как будто вместо доктора, который ведь сейчас комплиментов ей говорить не может. Он приедет, уверяет Пауль. Не такой же он дурак, чтобы не приехать и оставить тебя тут невесть кому, — и когда он так говорит, она и вправду верит: да, приедет. Она вся какая-то слабая, но на душе все равно радостно, даже если ничего не останется, только эти дни с ним, мостки причала, лес, и первый раз в его комнате, и потом второй. Но даже если бы и второго раза не было, ей достаточно просто знать, что он есть, что он для нее, тогда достаточно, если останутся только письма, телеграмма, да любой пустяк, — лишь бы только знать, что это от него и только для нее.
На следующий день у них появляется жилье. Ханс прислал телеграмму, не сказать, чтобы очень любезную, но жилье у них, похоже, и вправду есть: большая комната с эркером, в Штеглице, на неведомой улице, она такого названия и не слышала никогда, и даже с ванной и кухней. Сперва она не верит такому счастью, потом, все-таки поверив, чуть не прыгает до потолка и в тот же день рассказывает все Паулю. «Для твоего доктора», — так Ханс написал. Но дело срочное. До конца недели надо решить, тут же и телефон, и фамилия хозяйки (госпожа Херман), которая, если намерения их подтвердятся, возьмет с них задним числом плату за половину августа. В конце ни привета, ни теплого слова, только имя, пусть не держит его за дурачка, с какой еще радости станет она в лепешку расшибаться ради какого-то курортного знакомства.
О своей берлинской комнате он еще ничего не знает. Последнее письмо от него от позавчерашнего дня, и все равно странно, что он ну совсем ничего не почувствовал, иначе наверняка бы порадовался, но письмо какое-то унылое, словно все его дни — тяжкая борьба, исход которой ему самому не ясен. Он сидит на балконе на солнышке, с утра читает в газетах про Берлин, как там с каждым днем все ужасней и ужасней, решает больше вообще газеты в руки не брать, но каждое утро все-таки их читает и пугается с новой силой.
Он рассказал о ней Оттле, пишет он, о том, что она есть и как она его преобразила. Оттла уставилась на него во все глаза, потом сказала, что ей это знакомо, по своему мужу Пепо, она тогда чувствовала примерно то же самое. «Не хочешь ли ты приехать в Шелезен? Места здесь достаточно. Тебе бы здесь понравилось, погода пока что вполне хорошая, а обе моих племянницы — восхитительные малышки». Они живут в небольшом пансионе над колониальной лавкой, окнами на деревенскую улицу. Сама деревня не слишком большая, он упоминает уютную долину, вокруг лесистые холмы, по которым он иногда гуляет, пишет о купальне, в которой, правда, пока что не был ни разу. Но отчетливей всего она представляет его самого, там, в комнате пансиона, ей видится что-то такое же, как в Мюрице, когда он на балконе сидел и читал, и тот же его отрешенный взгляд, скользящий по лесисто-холмистым окрестностям, только моря там нет, не то, что здесь, где между пальцами все время прибрежный песок.
Милый, взгляни на меня, пишет она. Ты еще меня видишь? Я сейчас в саду за длинным столом, и я вся дрожу из-за Берлина. И то ли я здесь, то ли в твоей новой комнате, как мне кажется, просторной и светлой, и там всегда солнце. И я не знаю, куда податься, пишет она. Тут сейчас ветрено, все трепещет, колышется, летит, стремится куда-то, вот и это письмо рвется к тебе, с тысячью поцелуев, твоя Дора.
Дёбериц — вот как называлась та деревушка, теперь она вспомнила. Может хоть завтра с утра в поезд садиться, написала Юдит, правда, с пересадками намучишься, но приезжать можешь в любое время. Оказывается, Юдит сама там лишь неделю и останется до конца сентября, надо наконец к экзаменам подготовиться, а в такую дождливую погоду чем еще заниматься? Приезжай, я тебе ужасно рада. Мужчин, правда, никаких, к сожалению, я, по крайней мере, таковых не заметила, есть только деревенские подростки, которые вовсю на меня глазеют, да ты сама увидишь.
Пауль несколько огорчен, узнав, что она собралась к Юдит. В глубине души он, видимо, надеялся, что она поедет с ним в Берлин, но она теперь хочет только в Дёбериц, уже вроде как прощаться начала, прямо там, на пляже, словно боится, что потом, не дай Бог, забудет, хотя ведь еще только четверг. Вид у Пауля и вправду грустный, но вечером, когда они поют и танцуют с детьми, все как будто уже забыто. Она целую вечность не танцевала, Пауль ее уговорил, и вот они кружатся в танце. Он не слишком ей подходит, да и она ему, но все равно — они танцуют.
9
С тех пор как доктор снял комнату в Берлине, он опять взбодрился. Хозяйку интересовали прежде всего деньги, она даже не спросила, когда он намерен въехать. То, что он доктор, ученый человек, похоже, произвело на нее впечатление, она постоянно только так к нему и обращалась, на предложение перевести плату за комнату в иностранной валюте согласилась немедленно, у них тут, в Берлине, бог весть что творится. Так что у него теперь в Берлине своя комната. Он пытается припомнить, где примерно это находится, шлет Доре телеграмму, что все улажено, и в этот миг, в близком предвкушении новой жизни, он даже почти весел.
Она пишет, что в Мюрице больше оставаться не может и пока что переедет к подружке. Может, это и хорошо, а может, и нет. Былое ощущение чуда куда-то пропадает, только в ее письмах еще что-то от былого волшебства остается. Названия Дёбериц он отродясь не слыхал. В пансионе есть небольшая библиотека, там, помнится, был атлас, он долго ищет, наконец находит, от Берлина это меньше сотни километров, к западу.
В первые дни в Шелезене ему нелегко. Ведь это его прошлое, здесь все до боли знакомо и близко, уютные виды, дома, виллы, то ли деревня, то ли уже дачное место, проселки, рощицы, леса. Здесь, вдали от шума городского, сколько-то лет назад начался его роман с Юлией, вон на той вилле, что уже почти на околице, там сейчас Макс и Феликс поселились. Больше свободных комнат там не нашлось. Он рад, что ему не придется там жить, но потом, когда как-то после обеда отправляется туда и стоит на ступеньках крыльца перед входом, сам не понимает, чему радовался, — он вообще не помнит, кем он, собственно, тогда был. Все эти любовные истории стираются в памяти, вернее, одна стирает другую, письма, блаженство поцелуев и объятий, одно наплывает, унося другое, бесследно, даже тени не остается.
На этой вилле он тогда написал свое «Письмо к отцу».
У Оттлы достает чуткости ни о чем ему не напоминать. Она идет рядом с ним, поглядывая по сторонам так, словно всю жизнь тут прожила, вспоминает лишь случаи, касающиеся только их обоих, — как они однажды, уже за полночь, перелезли через забор купальни и плескались в лунной дорожке, какие-то их шалости за столом, скалы в форме жутких образин, по которым они в первое лето карабкались. Ты помнишь, спрашивает вдруг она, указывая на домик, что примостился вдали на склоне, — там, на опушке, они когда-то нашли кошку с котятами. Воспоминание очень смутное. Кошка с котятами, да, но не отчетливо, без подробностей, он не помнит ни окраски, ни смысла, который для Оттлы с этим случаем связан.
Когда-то, много лет назад, он как бы в шутку ей сказал: если я женюсь, то только на такой же, как ты. Это будет нелегко, ответила она, такую, как я, найти не просто. Где же это было — здесь, в Шелезене, или в Цюрау, или еще где-то?
И с ней, Оттлой, его тоже ждало разочарование. С тех пор как у нее свои дети, она иногда смотрит на него как будто совсем издалека. Сейчас ночи у нее беспокойные, малютке Хелене еще только четыре месяца, зато до чего же упоительно смотреть, как Оттла кормит ее грудью, когда они связаны друг с другом без всяких слов.
Но время от времени он замечает и иные перемены. К примеру, он уже не придает такого значения письмам, не изводится от нетерпения, ожидая ответа. Приходит письмо — он, конечно, счастлив, любовно откладывает его в сторонку, говорит себе: смотри-ка, письмо из Мюрица, а ведь вроде бы только вчера предыдущее было. Но если почтальон ничего не приносит, он воспринимает это без всякого огорчения, не ругает почту, как частенько делал это в прошлом, да и получив письмо, вовсе не торопится тут же в свою комнату, чтобы прочесть его еще раз, уже в одиночестве, — нет, он может до самого обеда преспокойно с Оттлой и детишками на лужайке возле купальни проваляться.
Прибавить в весе ему пока что не удалось. Он бережет силы, прогулки себе позволяет только короткие, вообще следит за собой. Оттла ему внушает: делай это хотя бы ради нее. Если ты ее любишь, делай это для нее. А ведь о своих планах он Оттле еще ни слова не сказал. Каждый день собирается — но все никак не решится: то у него была скверная ночь, то у Оттлы, потому что малышка плакала, ведь она чуть что, днем ли, ночью ли, просит грудь.
Он пригласил ее на прогулку. Оттла вышла в легком летнем платье, погода и впрямь теплая, в садах доживают свой век последние летние цветы; во дворах где-то уже пилят и колют на зиму дрова, где-то просто нежатся на солнышке, иногда с ними здороваются. Они идут не торопясь, куда-то на восток, только что миновали последние дома на окраине. Наконец он излагает свой план. О его трудностях он даже упоминать не хочет, и так все ясно. Но он бодр и полон решимости. Оттла кивает. Уточняет какие-то мелочи, но в целом не возражает. Хороший план, повторяет она снова и снова. Я рада, говорит она. Да, конечно. Почему нет. И я конечно же тебе помогу. Ты всегда был немного сумасшедший, но, наверно, все-таки недостаточно, иначе с какой стати ты все эти годы там оставался. Как и Макс, она очень хочет как можно скорее с Дорой познакомиться, ей нравится, что та умеет готовить и принимает брата таким, как есть.
Дёбериц — это несусветная сонная глушь, пишет Дора, тут есть церковь, дачники вроде нее и Юдит, крестьяне, скотина на лугах, скособоченные дома, пяток улиц, и — правда, довольно далеко — река Хафель, где можно купаться. Письмо вполне бодрое, хотя погода не особенно, но они много разговаривают, разумеется, она рассказала о Мюрице, о своем огромном счастье. Юдит по-настоящему ей позавидовала, особенно из-за того, что ты писатель, она про тебя слышала, правда, не читала ничего. Она бы тебе понравилась, читает с утра до ночи. Оттла хорошо за тобой следит? Она очень его просит передать Оттле от нее привет. Он так о ней рассказывал, что Оттла ей сразу же понравилась. Про Берлин ты рассказал? У нас все хорошо? Ты мне снился, совсем недавно, на софе, я соснула ненадолго, и ты такое со мной делал, что я об этом, к сожалению, только шепотом говорить могу, до того дивно ты со мной это делал.
В Германии курс доллара за три дня с десяти миллионов подскочил до тридцати, буханка хлеба стоит миллион. Макс написал ему, что едет в Берлин, очевидно, отношения с Эмми опять обострились, но доктор и так все знает, ему история этого романа наскучила, больше того, стала почти надоедать, о чем он и хочет написать другу, перед тем как они через неделю с небольшим встретятся. У отца скоро день рождения, поэтому доктор взвешивает возможность покинуть Шелезен дня на два и съездить в Прагу, дабы хоть ненамного приблизиться к Доре, как он сам себе внушает, ибо во всем, что касается отца, его побуждения давно уже смутны и неясны ему самому. Отец, скорей всего, вообще не заметит, что он специально ради него приехал. Оттла над ним смеется. Разве ты не хотел в Берлин? Неужели ты думаешь, что он одобрит твои планы, если ты, как пай-мальчик, сперва поздравишь его с днем рождения?
10
Он пишет ей почти каждый день. Юдит, которой все еще неохота заниматься, подтрунивает: единственная, кто здесь по-настоящему работает, это Дора, — только и успевает, что ответы строчить. Его расспросам нет конца, он хочет знать, во что она одета, какое платье, какая кофточка, как прошла ночь, как обставлена комната, в которой она спит, что они ели, о чем говорили, потом что-то насчет капель на ее коже и мокрых волос, когда они возвращались с реки. Письма его по большей части ясные и спокойные. И ей нравится, когда он такое пишет о ее глазах, о ее фигуре, когда задерживает на ней свой взгляд, когда целует ее. По ночам его одолевают сомнения, сумеет ли он поправиться, и положение в Берлине его тревожит — и от всего этого ей подчас самой делается не по себе, тогда ей нужна передышка, отлучка от этих писем, чтобы хоть немного собраться с силами.
Сегодня утром она сама над собой проделала эксперимент. С почтой пришло сразу два письма, но она их вскрывать не стала. Отложила в сторонку, сказав себе, а может, и Юдит, мол, не сейчас, попозже, это чересчур, любимый, я тут как пьяная, если бы ты знал, что со мной делают твои письма. И на каждодневную прогулку она письма с собой не взяла. Не сказать, чтобы это было для нее большой радостью, но она не взяла их нарочно, зато на обратном пути, часа через два, с полдороги припустила бегом, мчалась со всех ног, летела, скорей, скорей, к этим двум письмам, в комнату ринулась, конверты надорвала и вот уже читает, слышит его голос, как будто впервые, за сотню лет впервые снова его голос.
Утром, когда Юдит подолгу спит, Дора любит побродить по здешним низеньким комнатам. Ей этот дом с самого начала понравился. Приземистый, небольшой, старомодный, он принадлежит тетушке Юдит, которая в феврале умерла, но здесь по-прежнему все пропахло деревом и самой хозяйкой, которая в молодости была актрисой и только годам к пятидесяти удалилась на покой, уединившись в этой глуши. В доме остались ее фотографии, на них ей, похоже, нет и двадцати, диво как хороша, чем-то похожа на Юдит, запечатлена в роли Офелии, как свидетельствует размытая надпись на обороте фотокарточки. С возрастом тетушка растолстела, упустила пору, когда могла бы обзавестись мужем и детьми, и на рубеже веков перебралась в Дёбериц, где стала почти крестьянкой, несколько лет даже держала скотину — птичник с курами и гусями, двух коз — и до самой смерти хранила в подвале множество всяких солений-варений, копченых окороков, самогонки и целый закром картошки.
Юдит сказала, что готовить не будет, здесь, в деревне, она ничего, кроме бутербродов, не ест, но с тех пор, как Дора ошарашила ее известием, почем теперь в деревенской лавке буханка хлеба, они живут практически на домашних припасах. Еда простая, в основном картошка, оладьи с яблочным муссом, пюре с топленым маслом, вечером бульон со взбитым яйцом, благо яйца Юдит все еще покупает у соседей по дешевке.
Несколько дней она живет, как живется. Ей все внове, у нее есть Юдит, есть его письма, долгие прогулки, если, в виде исключения, нет дождя. Прежде, как выясняется, они с Юдит толком друг друга не знали. Когда несколько месяцев назад Юдит появилась в Народном доме, Доре она показалась зазнайкой, но теперь у них завязалась настоящая дружба, и они секретничают, делятся самым сокровенным. У Юдит был роман с женатым мужчиной, из-за этого, собственно, она и сбежала в Дёбериц. Ведь с самого начала знала, что ничего хорошего не будет, но он был такой внимательный, по ресторанам водил, в театры, на руках носил, по крайней мере в первые недели, пока она его «мариновала», считая, что так положено и вообще.
Познакомились в университете — он вел у них семинар. Он сам с ней заговорил, и так при этом глянул, что она сразу поняла, чего ему от нее надо. Юдит, это имя ему нравилось, хотя позже он ей и сказал, что все еврейское в ней ему не по душе. Ты считаешь, я похожа на еврейку? Ну да, имя еврейское. А так, вообще? Но он все равно настаивал. Поначалу она только смеялась и спрашивала, в чем именно проявляется ее еврейство, и, разумеется, он ничего внятного ей сказать не мог. Просто чует, так он говорил. Все манеры у меня еврейские, повадка, как я двигаюсь, как говорю, и что у меня никакой застенчивости нету. Это в первую же нашу ночь, а потом все чаще. Евреи — это, мол, настоящее бедствие для Германии, он историк и знает, что говорит. И все это в первую же ночь. Юдит неприятно это вспоминать; дура была, сразу могла бы сообразить.
У Доры по части людей, которые против евреев, опыт небогатый. Ну, иногда на улице кто-то в спину нехорошее слово скажет, в ресторане краем уха разговор услышишь. Один раз какой-то мальчишка ей под ноги плюнул, так ему и десяти не было. Она, правда, его догнала и даже потребовала объяснений. Бедняжка Юдит. Но Юдит вовсе не считает себя бедняжкой, она давно уже сделала выводы из этой истории и твердо решила, когда университет закончит, уехать в Палестину. Может, это, конечно, и глупость, что я сперва непременно выучиться хочу, кому там, в Палестине, немецкие юристы нужны, а уж женщина-юрист и подавно. Им требуются люди, чтобы в поле работать, садовники, крестьяне, а женщины нужны только детей рожать, смуглых и курчавых еврейских карапузов. Теперь она смеется, потому что не может себе такого представить. А ты? — спрашивает она Дору, и та тоже ничего подобного вообразить не в состоянии, она никогда ни о чем таком не думала, но сейчас, когда думает, ей вдруг все это кажется непостижимо чудесным.
Юдит решила устроить себе выходной. День выдался по-настоящему жаркий, поэтому после завтрака они бегут на речку и сразу лезут в воду. Юдит рассказывает, что в прошлом году местные деревенские мальчишки здесь толпами собирались, словно голую девчонку отродясь не видели. Но сейчас они одни, компанию им составляют только стрекозы да запоздалые комары, в небе птицы разные, вон красный коршун, показывает Юдит, которая, разумеется, в птицах тоже разбирается и мечтает, чтобы и ей достался такой же мужчина, как доктор.
Ты счастливица, говорит Юдит. К тому же еще и красивая, покруглее меня, у меня-то, вон, кое-где косточки торчат. Ей, пожалуй, даже приятно, когда Юдит ее так разглядывает, и когда говорит, вот это место мне у тебя нравится, и это тоже, и когда волосы ей причесывает, словно они сестры.
Его письма она на ночь берет в кровать, кладет под подушку, такие чудесные вещи он ей пишет. То и дело он мечтает о своей новой комнате, об их первом вечере, как он берет ее на руки и уносит, хотя в жизни никогда бы не смог, зато в мечтах это сущие пустяки. К тому же ты неожиданно легкая, как пушинка, я несу тебя на одной руке, а ты такая маленькая и уже лежишь у меня на ладони, с закрытыми глазами, как будто спишь, но на самом деле ты не спишь, совсем не спишь.
Пока что он ни разу ей даже не намекнул, когда он все-таки из этого своего Шелезена уезжать собирается. И вдруг сегодня, проснувшись, она почему-то знает: через несколько дней, их даже сосчитать можно, но ближе к обеду приходит письмо, в котором он ей сообщает, что о поездке пока что нечего и думать. И только тут она понимает, до чего устала ждать, и даже начинает реветь, но не слишком долго, потому что вдруг замечает, что сама своим слезам не верит. Он болен, пишет он, у него постоянно температура. Берлин кажется ему отсюда совершенно недосягаемым. Будь ты здесь, рядом, — и до Берлина было бы рукой подать, но наедине с собой, в хандре и унынии последних дней даже путешествие Колумба в сравнении с этой недосягаемостью — сущий пустяк. Самое малое через неделю, таков приговор. Он клянчил как ребенок, но Оттла была непреклонна: через неделю.
Теперь она иногда и вправду боится. Ей неприятна мысль, что она его почти не знает, что они, возможно, разочаруются друг в друге в первые же недели в Берлине, когда вдруг выяснится, что все оказалось ошибкой. Стоит чуть расслабиться — и эти подлые страхи тут как тут, какие-то неправдоподобные, ведь она даже не может объяснить, с чего вдруг и откуда они берутся, словно это не ее страхи, а чьи-то чужие, проникающие в нее тайком, чтобы потом исчезнуть снова.
Вдруг опять сделалось лето, последние денечки, хоть уже и под другим солнцем, у реки, возле купальни, золотится камыш, шуршат березы. Она пытается внушить себе, что подобные мысли — нормальная вещь. Ему сорок, он живет на свете на пятнадцать лет дольше, чем она. Он несчастный человек, так он о себе сказал тогда, на причале. Она хорошо помнит, как удивилась, ведь у него такой счастливый был вид, с самого первого мгновения, когда я тебя на кухне увидела.
11
Несколько дней он в отъезд вовсе не верит, словно ради того, чтобы все осуществилось, надо сперва окончательно извериться. Он написал и Максу, и Роберту: да, небольшая прибавка в весе имеется, но о Доре ни слова, зато, правда хотя и весьма туманно, о своих берлинских видах на будущее, дескать, в домашнем угаре он, похоже, себя переоценил.
Самая его большая радость — это теперь дети, малышка Хелена у него на коленях за завтраком, или когда он с ней на руках гуляет по саду и с ней разговаривает, одними и теми же предложениями, какая же славная, какая милая девочка, но малютка быстро устает и уже вскоре засыпает. Оттла очень устала и иной раз теряет терпение, когда двухлетняя Вера заявляет свои права на любовь и заботу, поэтому он все больше занимается Верой, которая не сегодня завтра уже заговорит, так ему кажется, будто слова в ней давно уже созрели, а сейчас, этим поздним летом, вот-вот вырвутся на свободу. Доктор не особенно умеет обращаться с детьми, у него мало опыта по этой части, хотя Оттла и уверяет, что дети его обожают, — наверно, оттого, что в чем-то он и сам все еще ребенок.
Ближе к обеду он с Оттлой и детьми отправился купаться, жара стоит невыносимая, около тридцати. Впервые за столько недель у него нет температуры, поэтому он сразу же лезет в воду и плавает долго, всерьез, до конца дорожки и обратно, снова и снова, как-то по-особенному осознанно, словно в предчувствии, что купальню эту больше не увидит и плавает в последний раз.
Пепо, муж Оттлы, на даче бывает редко. Приезжает по большей части лишь на выходные, изумляясь, что все это, оказывается, его жизнь — две дочурки, молодая жена, которая ночами почти не спит и благодарна ему за каждый час, когда он рядом. На сей раз он остается только на одну ночь, долго ругает проклятую контору, хотя из его тирад нетрудно заключить, что контора для него — спасительное прибежище. Он здоровается с детьми, дарит рассеянный поцелуй Оттле, кивает доктору, гладит малышку Хелену по волосам, спрашивает, где Вера, которая, едва он вошел, тут же сбежала. И это все — его жизнь? Сразу видно, что он во все это не верит. Но Оттла, похоже, толком ничего этого не замечает, то и дело вскакивает что-то ему принести, пытается рассказать, что Хелена вчера уже много раз улыбалась, а потом, в четыре утра, без всякой причины разревелась и орала два часа.
О господи, вздыхает Пепо, чья ночь тоже была недолгой, до полпервого он просидел над бумагами. Пеленки менять — это не для меня, признается он доктору, когда Оттла ненадолго выходит, к тому же ему все это ненавистно — природа, тишь, эти осы, будь они неладны. Говорить им особенно не о чем, возможно, потому, что Пепо чувствует — доктор видит его насквозь, хоть и относится не без симпатии, словно с зятем приключилось несчастье, которое при иных обстоятельствах вполне могло настичь и его самого.
Доктор знает: своих детей у него никогда не будет. За годы с Ф. он много раз об этом думал и твердо решил: не бывать этому. Или это сама жизнь за него все решила? Либо я пишу, либо живу с женой и детьми, так он думал: либо ты сам по себе и сам для себя, либо ведешь такую же жизнь, как отец, как сестры. Он не бесплоден, дети у него вполне могут быть. Он специально к врачу ходил, и тот удостоверил, так что дело не в этом. Страх — вот в чем дело, или женщину подходящую он не встретил, он сам женщин сперва заманивал, а потом прогонял, все тем же своим страхом их запугивал, ну, и другого еще боялся, что они его писательству помешают. А сам давно и не пишет ничего, уже несколько месяцев, если не считать писем Доре и коротких весточек друзьям, которые от него все дальше и дальше.
Почерк у нее все мельче. Иногда он с трудом его разбирает, словно она писала в вагоне поезда или поздно ночью в темноте, когда она себя не помнит от тоски. У нее нет больше сил, пишет она. Не надо мне тебе об этом говорить, но правда в том, что надолго меня уже не хватит. Без тебя я становлюсь противная, ругаюсь с Юдит, которой надоедает, что я такая нервная из-за тебя, без тебя. Я то и дело спотыкаюсь, ножом умудряюсь порезаться чуть не каждый день, не помню уже ни твоего имени, ни дня рождения, ни твоих поцелуев. Пожалуйста, приезжай, пишет она.
Доктор сидит один в саду и находит ее сетования вполне объяснимыми. У нее теперь есть на это право, а может, и не только право, может, это теперь ее долг. А для него это не просто зов, но еще и некий внутренний голос, напоминающий, что чудо — тоже штука вполне уязвимая.
Он намерен ехать через два дня. Оттла тоже не хочет больше оставаться. Пепо в городе, обещал за ней приехать, вот они все вместе и отправятся.
Насчет родителей Оттла советует прибегнуть к полуправде. Они сидят в саду, уже прохладно, но полчаса, пока дети еще спят, у них есть. Пусть скажет, что едет лишь на пару дней, с небольшим багажом, может, с этим они и смирятся. Ты хотя бы рад? Не сказать, что вид у него особо радостный. Он боится. Он рад — и он боится, прежде всего этого города, который, похоже, ему не по плечу, сейчас, когда такой кризис. Он уже не помнит в точности черты ее лица, носа не помнит. Губы помнит, взгляд помнит, и голос, пусть совсем издалека, этот голос говорит, что она чуть с ума не сошла, меня это чуть не убило, и я ведь даже не знаю, где этот проклятый Шелезен, черт бы его побрал…
В четвертый раз за это лето он пакует вещи. Сами по себе сборы ему нипочем, если бы не дорога. Да и дорога сама по себе тоже не так страшна, если бы в этом путешествии не решалась его жизнь…
Доктор знает: он будет колебаться до последней секунды, еще и ночью, и садясь в поезд, с дурной головой, потому что он почти не спал и до самого утра все сочинял, но так и не решился отослать телеграмму берлинской хозяйке с отказом от комнаты. Он все, все может себе представить: взгляд матери, покачивающего головой отца. И тем не менее утром он встанет и уйдет от них. Возьмет вещи и пойдет, не слушая укоризн, не отвечая на вопросы, выйдет на улицу и поедет на вокзал. Он способен предвидеть будущие бои, а значит, быть может, даже сумеет их выиграть.
12
Возле реки, под деревьями, уже осенняя прохлада. Без жакета она бы вообще замерзла, и все равно ее потянуло сюда, одну, без Юдит, которая теперь зубрит с утра до ночи и мечтает о будущем лете, когда все они, так она надеется, здесь встретятся, — Дора со своим доктором и Юдит невесть с кем, может, к тому времени у нее уже будет мужчина, такой, чтобы навсегда.
Какое-то время Дора просто стоит на берегу и думает только о нем, нащупывает в кармане последнюю весточку от него, это телеграмма, в которой и вправду черным по белому написано: приезжаю. Утро уже прошло, он, надо полагать, уже давно в поезде, один в купе, хоть он и написал, что поедет вместе с Оттлой. А больше она ни о чем и не думает. Главное, он едет. Она чувствует, как в ней оживает радость, какая-то новая, почти задумчивая, не верящая себе радость, как после трудного, только что сданного экзамена. В последние дни она его уже почти не чувствовала, но теперь он снова рядом, совсем близко. Ночью ей приснилось, что он попал в железнодорожную катастрофу. Она его искала, под откосом, там лежали неподвижные тела, укрытые одеялами, словно от холода, но среди этих жертв его не было.
Она сидит на кухне у окна и представляет, как он им это скажет: сперва поздоровается, потом под их строгими взглядами начнет что-то объяснять… Если они его любят, думает она, то наверняка догадаются, что он их покидает, тем же вечером догадаются, когда все сядут за стол и он начнет что-то им плести. Будь она с ним, все было бы гораздо проще, думает она. А может, наоборот, гораздо трудней?
Юдит возмущается, господи, ему уже сорок, как-нибудь переживут. Ведь ты же сама говорила, что ему сорок?
Это их предпоследний вечер, Юдит даже раздобыла бутылку вина, хотя вид у нее измученный. Она не думала, что столько всего придется учить, к тому же ей совсем не хочется, чтобы Дора уезжала, она снова затевает разговор о будущем лете, да и в Берлине обязательно надо будет встретиться, если твой доктор тебя отпустит. Будешь с ним жить? Прямо с самого начала? Как ни странно, этого они еще не обсуждали, Дора не знает, там же только одна комната, наверно, это довольно трудно — с другим человеком на таком пятачке изо дня в день, хотя ничего ей так не хотелось бы, как именно этого.
В ночь на воскресенье она почти не смыкает глаз. То ей мерещится телеграмма, что он не приедет, то, наоборот, она уверена в его приезде как никогда. И с деньгами у нее, к сожалению, совсем плохо. Юдит сказала, что билет ей, разумеется, купит, «не валяй дурака, это всего лишь деньги, у родителей их куры не клюют».
Наутро за завтраком она вдруг ясно чувствует: он уже едет, едет в Берлин. Он обещал дать о себе знать, как только доберется, это будет ближе к вечеру. Юдит то и дело приходится ее успокаивать. Потерпи, увещевает она. Но наступает вечер, смеркается, а от него никаких вестей. Почему ты ему не позвонишь? Об этом Дора как-то не подумала. И правда, можно ведь позвонить, и номер телефона у нее есть, ведь Ханс тогда в письме прислал. Всего лишь пару слов, и у нее сразу бы от души отлегло.
К сожалению, он успел сказать ей, до чего ненавидит телефоны.
А она бы даже расспрашивать ни о чем не стала, ей бы только голос его услышать, его дыхание, пусть далекое, на другом конце провода, пусть даже просто гудок какой-нибудь, который его с ней соединит, чтобы ей знать, что связь установлена, одно это…
Накануне отъезда откуда ни возьмись объявляется Ханс. Дора в саду развешивает белье, поэтому даже замечает его не сразу, только когда к тазику наклоняется, вдруг видит — на лужайке перед домом стоит кто-то. Это и правда Ханс, и действительно, он ведь писал, что за ней приедет, а поскольку она ничего ему не ответила, он просто взял и приехал. Ханс? Ну хорошо, говорит она. Подожди. Я сейчас. Грустными глазами он смотрит, как она вешает последнюю пару чулок; на нем замызганные брюки и не очень свежая рубашка.
Дора тотчас понимает: объясниться надо немедленно. Он для того только за ней и приехал, чтобы с ней об их берлинских отношениях переговорить, старых, как прошлогодний снег, но прямо здесь, в саду, ей этот разговор затевать неудобно. Она предлагает прогуляться, ведет его к реке, мимо церкви, этой дороги она еще и сама не знает. Ханс не слишком-то разговорчив. Топает рядом с ней молча, потом наконец спрашивает, как она вообще, не прочь и присесть, когда она предлагает. Они садятся на ствол поваленного дерева на берегу, где наконец-то и происходит объяснение, не слишком долгое, но прямо как у настоящей любовной пары, хотя она ни в чем перед ним не виновата и оправдываться не должна. Она благодарит его за комнату, господин доктор тоже весьма ему признателен, он со вчерашнего дня в Берлине. В двух словах она излагает, что произошло, говорит, что ей очень жаль, но теперь у нее такие-то планы, да он и сам, наверно, почти обо всем уже догадался. Будешь с ним жить? — спрашивает Ханс, на что она отвечает: да, я бы хотела. Он мне очень дорог.
Когда они возвращаются, уже вечереет. Ханс долго рассказывал ей про свою работу в порту, работа, правда, временная, но все лучше, чем ничего. Он подсобный грузчик, помогает при разгрузке судов, таскает тяжеленные ящики, мешки, бочки. А вечером, когда жалованье получаешь, надо торопиться хоть что-то на эти деньги купить, потому как наутро это уже не деньги, а просто никчемные бумажки. И за ужином они много о Берлине говорят, Юдит на прощание накупила всякой всячины, а время уже позднее, уже два пробило.
Вот оно и прошло, наше лето, говорит Юдит и подытоживает все, что можно сказать о бедном дурачке Хансе, который спит внизу на кушетке, потому что под конец еще и опьянел изрядно. Да, жалко, вздыхает Юдит, по-моему, я уже начинаю по тебе скучать, хотя поезд у тебя только завтра после обеда. Время отхода, как и время прибытия, указано в телеграмме, что пришла днем. Я встречаюсь с Максом, говорится в ней, а потом жду тебя на вокзале в 18:42. В первую секунду она подумала, почему так поздно, но сейчас уже почти рада, что они увидятся лишь к вечеру, они же наверняка испугаются, и каждый спросит себя, ужели это они, все те же, что были в Мюрице?
Когда подъезжали к вокзалу, она о Хансе просто забыла. Скорость еще большая, перрон еще мелькает, еще толком и не разглядишь ничего, но вот поезд тормозит, и она видит первые указатели, две-три багажных тележки, носильщиков, пары, мужчин, подхватывающих свои чемоданы, ребенка на плечах у отца. Они едут на дешевых местах, в хвосте, так что неудивительно, что она не может сразу отыскать его взглядом, она по-прежнему совершенно спокойна, не торопится в дверях, давая впереди идущим без помех сойти, наконец и сама стоит на перроне, но все еще его не видит. На Ханса по-прежнему даже не оглянется. Поворачивается налево, к выходу, и только там наконец обнаруживает его, довольно далеко, в самом начале перрона, еще сильнее похудевшего, но все-таки не совсем чужого. Она машет, и да, он тоже машет ей в ответ, улыбается, но и удивлен чем-то, делает пару шагов ей навстречу. Он что, и в самом деле чем-то удивлен? Хотя нет, это лишь позже, пусть и почти в ту же секунду, когда она уже стоит перед ним и не знает, как поздороваться, боится его потрогать, только на мгновение успевает прильнуть головой к его плечу. Давно ждешь? Он качает головой, поезд пришел минута в минуту, и только в этот миг он понимает, что она не одна. Ханс поставил на перрон ее багаж. Это Ханс, говорит она, не поднимая на Ханса глаз, и чуть не добавляет, что это не важно. Ханс — это просто Ханс, приятель, даже не приятель, а так, просто провожал. Господин доктор, говорит Ханс, весьма рад. И подает доктору руку — здороваясь и прощаясь одновременно, потому что, едва обменявшись с доктором рукопожатием, он поворачивается и исчезает в сторону подземки.
Она даже не знает, чего именно она ждала. Франц, говорит она. Дай посмотреть на тебя, отзывается он, кивает, да, вот, значит, какие мы. Она смущена и робеет, но тут он обнимает ее, прямо посреди перрона, не обращая внимания на последних пассажиров, направляющихся к выходу. Наконец-то, говорит он. Мы возьмем авто. Уже в машине он еще раз говорит, наконец-то, потом снова: дай на тебя посмотреть, словно вспомнив, что упустил это сделать, и еще что-то про свою комнату, прекрасная комната, но боюсь, она меня доконает.
Дора и не припомнит, когда в последний раз на машине ездила. Им приходится несколько минут простоять, потом они все-таки едут, водитель клянет себя, что не ту дорогу выбрал, через Потсдамскую площадь, половину Потсдамской улицы он себя честит, пока поток машин постепенно не рассасывается. За окном уже проплывают в садах первые виллы, они уже во Фриденау, уже завиднелась впереди ратуша Штеглица, и вот они уже на месте. Всю дорогу Дора не выпускала его руки из своей. Слов у нее в голове немного, к тому же сейчас все равно говорят другие, говорят их руки, прикосновениями, биением пульса. Их пальцы говорят. И пусть говорят, благо время теперь есть. И это пока что самое большое счастье, у них наконец-то есть время, ей для начала ничего и не нужно, кроме его руки. Как, уже приехали? Она и не заметила, что он уже отпирает калитку, она и улицу толком не разглядела, а они уже стоят перед дверью.
Она почти забыла, как это бывало, но теперь они снова шепчутся. Он отпирает перед ней дверь в квартиру, и первое, что она видит, — это маленькая темная прихожая. А ей ничего другого пока и не нужно, сколько же она мечтала об этом мгновении. Вот я и здесь, шепчет она. Это ты, шепчет она. Под конец это было почти невыносимо, но теперь уже нет.
Чтобы побыстрей привыкнуть, она спешит все потрогать руками: жуткие занавески, подушки на софе, мебель, особенно долго — пианино, которое на днях, к сожалению, вывезут. Она осматривает печку и шкаф, присаживается за письменный стол. Потом стоит на кухне, закрывает и открывает водопроводный кран. Вчера я этого не заметила, говорит она, вон там, посмотри, даже щипцы для орехов есть, кастрюли, сковородки — все, что душе угодно.
Вчера они целую вечность в этой странной прихожей простояли, словно все эти долгие недели разлуки ни о чем другом и мечтать не могли, лишь бы вот так, даже не сняв пальто, постоять в жалком закутке. Потом она полвечера все время думала: сейчас он меня отправит, уже после того, как мы вместе поужинали, когда я этого уже не жду.
Ушла она от него очень поздно, но сейчас, на следующее утро, уже снова здесь. Они завтракают, потом вместе идут по магазинам, счастливые, даже дурачась от счастья, хотя и с оглядкой. Хохочут над вереницами нулей на купюрах, из того, что собирались купить, половину забывают, так что, придя домой, тут же отправляются за покупками снова. Он ей рассказывает, как все прошло с родителями, и о последней ночи, которая была ужасна, ведь он до самого конца не знал, поедет он или нет.
Вообще говоря, он очень осторожен. Больше, правда, с самим собой, чем с ней, так ей кажется, потому что с ней — чего ему осторожничать? Она все еще не пришла в себя, но ей и это нравится, она пытается осознать происходящее, видит его за письменным столом, совсем рядом — и не в силах поверить.
На второй день после обеда к ним пожаловала Эмми. Дора не уверена, что ей эта взбудораженная женщина по душе, договорились, что она будет к пяти, а она опаздывает больше чем на полчаса, приходит запыхавшаяся, словно всю дорогу бежала. Она прямо с репетиции, она вечно и всюду опаздывает, спросите у Макса, уж он-то порасскажет. Потом она сама долго говорит о Максе, это и счастье ее, и горе, как это ужасно, когда он уезжает, она к такому просто не привыкла, для нее это всякий раз конец света. Разумеется, Макс им обоим передавал привет, они с доктором совсем недавно долго-долго в кафе «Иости» просидели. Вы бывали в «Иости»? Нет, Дора только название слышала. Да сам-то он куда пропал? — изумляется Эмми, и теперь вслед за ней недоумевает и Дора. Только что он сидел за столом и писал, но когда они из кухни снова заходят в комнату, то обнаруживают его спящим — на софе, лицом к стене, поджав ноги, иначе ему там вообще не уместиться, он спит без малейшего движения, как убитый.
Часть вторая. Пребывание
1
Первые дни — как легкий сон, после обеда на софе, когда он толком не знает, откуда доносятся звуки — с улицы, из кухни или откуда-то глубоко изнутри, то какой-нибудь стук, то голос, похожий на голос Доры, но, скорей всего, это просто воображение, нечто, что он способен вызвать в себе сам, потому что слышал когда-то прежде.
Когда он бодрствует, все вокруг приятно чужое, неброское движение пригородной жизни за окнами, тишина парков, — это когда они вместе идут гулять. Большинство впечатлений все еще оттенены новизной, ее лицо по утрам, ее запах, то, как она сидит на софе в позе портняжки, когда читает ему из Библии. Да? Ты хочешь? Тебе тут, со мной, тоже хорошо? Первые дни, когда эти вопросы — даже и не вопросы вовсе.
Он и правда в Берлине, и с ним эта молодая женщина. Он может в любое время к ней прикоснуться, но чаще он только смотрит, молча восторгаясь то изгибом ее шеи, то плавным покачиванием бедер, когда она идет по комнате. И каждым движением она как будто говорит — все это для него, что бы он в ней еще ни открыл — все это лишь для него.
Какое-то время они живут как в воздушном колоколе, скорее безразличные ко всему, что творится вокруг, хотя происходящее затрагивает и их, эта всеобщая тревога и духовная опустошенность. Единственное, что его всерьез беспокоит, — это квартирная хозяйка. Получая от нее ключи в среду, он о Доре ни словом не упомянул, а теперь они уже много раз виделись, однажды даже побеседовали недолго, и в результате состоялось вполне любезное знакомство, но он чувствует, что со дня на день все это может круто перемениться.
Эмми он в первые дни говорит: я еще толком не приехал. В город, к примеру, сегодня вообще лишь второй раз рискнул выбраться. Они договорились встретиться на станции «Зоологический сад» у меняльной конторы, там толчея, ажиотаж, выменянная сумма потрясает воображение, хотя в пересчете это не больше двадцати долларов. Эмми замечает: худшего времени для приезда вы выбрать не могли, хуже уже быть не может. Но сама она вполне жизнерадостна, говорит ему несколько приятных слов о Доре, потом переходит на Макса, с которым только вчера говорила по телефону. А доктора донимает городской воздух. Едва он оказался в центре, у него начинается кашель. Эмми смотрит на него с тревогой и поскорее ведет к аквариуму, где укромная тишина и полумрак, почти как в кино. Морские твари где-то далеко за стеклом. Это рыбы всех возможных размеров и расцветок, светящиеся медузы, которых Эмми считает противными, еще дальше, совсем в глубине, акулы. Она пугается или только делает вид. Доктор берет ее под руку, как бы изъявляя готовность защитить, ну а почему бы и нет. От нее хорошо пахнет, успевает подумать он, когда держит ее под руку, и потом, совсем уж мельком: а ведь это могла быть и она, в другой жизни, хотя они ведь, в сущности, едва знакомы.
Родителям он уже написал. Ответила Элли, издалека она тревожится, ведь издалека самые обыкновенные вещи, чуть что, внушают опасения. Впрочем, бывает, и наоборот. Достаточно, что называется, разуть глаза или почитать местные газеты, к примеру, «Штеглицкий вестник» в витрине возле ратуши, ставший его повседневным чтением. Но ведь он же сам во что бы то ни стало хотел в Берлин. Обычно, впрочем, он газеты лишь проглядывает. Хотя нынче утром у него был настоящий припадок вычислительного безумия, что, к сожалению, еще далеко не все, самый неприятный урок ему еще только предстоит. В Ботаническом саду дивным солнечным днем мимо его скамейки проходит стайка девушек, и все начинается прямо как любовное приключение. Высокая стройная блондинка, в облике которой есть что-то мальчишеское, издали кокетливо ему улыбается, раскрывает ротик и что-то шутливо кричит. Вот, собственно, и весь эпизод. Он разлюбезно улыбается в ответ, и потом, когда и сама девушка, и ее подружки, уходя, то и дело на него оглядываются, все еще продолжает улыбаться, пока до него постепенно не доходит, что она ему крикнула. Жид! — вот что она крикнула.
Фото, которое он в начале октября заказывает себе в ателье большого магазина «Вертхайм», надо послать родителям. Цена, конечно, устрашающая, но и само фото его нисколько не радует. Справа на воротничке рубашки отвратительная складка, чего, к сожалению, уже никак не изменить, хотя остальное — галстук, костюм, жилетка — более или менее в порядке. По-настоящему хорошо на фотографиях вообще мало кто выходит, но на сей раз он вынужден признать: фотография его неприятно поразила. Он выглядит пожилым десятиклассником. Ужасно выглядит. Уши торчат, в огромных глазищах — ну просто бездны бог весть какого глубокомыслия. И ни намека на благотворное воздействие Доры. Почему он не улыбается? Ну ладно, крохотную, тонюсенькую тень, слабый отблеск, жалкое подобие улыбки при желании — буде такое желание у кого-то возникнет — худо-бедно можно разглядеть, размышляет он в трамвае, возвращаясь из города в свой тихий Штеглиц.
Оттла прислала посылку с маслом и хочет знать, как ему живется, пытается себе вообразить, как это вообще должно быть, первые дни с этой женщиной. Заметно, что она немножко сомневается, чья-либо близость всегда давалась доктору не слишком легко, к тому же они с Дорой еще так мало друг друга знают. Она сейчас у тебя? Ты хотя бы с ней ласков? Как будто Дору от него защищать нужно. Это последнее, что могло бы потребоваться, без всяких оговорок. Да, она у него, не круглые сутки, но так часто и столько, что он к ней привыкает, есть свой ритм, и по большей части все происходит как бы само собой, словно никогда и не было иначе.
Элли тоже написала и осыпает его упреками. Его отъезд в Берлин она называет ребяческой выходкой, подвергает сомнению его серьезность и правдивость и обосновывает все эти недовольства и тревоги, как обычно, расспросами о его весе. В чем-то он, безусловно, признает ее правоту. Он не потолстел ни в Мюрице, ни в Шелезене, где сперва прибавил, а потом снова потерял в весе, и именно поэтому, ровно в тот момент, пока еще не стало окончательно поздно, он сел в берлинский поезд и по сей день ни секунды об этом не жалеет. Как ты этого не понимаешь? Ведь ты же познакомилась с Дорой! У него нет больше охоты ей писать. По крайней мере в подобном тоне, словно он обязан перед ней оправдываться, именно перед ней, перед Элли, которая была там с ним с самого начала и своими глазами видела, что это за девушка и какое это для него счастье.
Он, впрочем, просит посылать ему деньги, в обычных письмах, небольшими порциями, так что пуповина пока что не перерезана окончательно.
Погода, к сожалению, весьма переменчива. Последние дни, по сути, почти все время шел дождь, и он не то чтобы по-настоящему простудился, но чувствует на себе действие здешнего воздуха, какое угодно, но только не благотворное, к тому же он переутомился, сожалеет, что поехал к Пуа на Штайнметцштрассе, тем паче что не в силах отделаться от ощущения, что его визит нисколько ту не обрадовал. Она поздоровалась с ним почти холодно, спросила о Доре, но тоже больше из вежливости, чем из интереса. Дора ведь тоже, кажется, очень хорошо говорит на иврите, разве нет? Он вспоминает, как они расставались в Мюрице, и огорчен, что от былой сердечности почти ничего не осталось, а ведь совсем недавно это было, в начале августа. На обратном пути в трамвае он всю дорогу чувствует странную слабость, ложится рано, но около одиннадцати, как по заказу, начинается кашель, качественно вполне безобидный, как напишет он Максу, зато количественно вполне злостный.
На следующий день он почти не вылезает из постели. Поднявшись, как обычно, в семь, он через два часа ложится снова, в полудреме пропускает второй завтрак и обед, покуда в пять кое-как не встает на ноги. Дора ухаживает за ним трогательно и по возможности незаметно, так что его стыдливость страдает в меру. Она запрещает ему в дождь ездить в город, и за покупками намерена впредь ходить сама, и все это полушутливым тоном, которого он прежде за ней не замечал. Иногда Оттла вот этак с ним разговаривает, в знак сестринской заботы и связывающей их любви.
Я плохо за тобой слежу, сетует Дора, я мало с тобой бываю. Это при том, что они почти каждый день видятся. Ему-то кажется, что она почти всегда с ним, а если ее нет — то только когда это уместно или желательно, как вот сейчас, когда его навестил доктор Вайс, три часа пробыл, потом вдруг, извиняясь, стал прощаться, и до этого тоже как на иголках сидел, какой-то нервный, преувеличенно бодрый и язвительный, за исключением получаса, когда Дора еще была с ними.
Распорядок дня у него все еще не установился. Сутки за сутками пролетают бездеятельно и незаметно, он получает почту, отвечает на письма, но не более того. То и дело приходится ездить менять деньги, остальное время занимают еда, разговоры, знакомства. По-настоящему трудного ничего нет. Не все новое дается с ходу, бывают душевные царапины, препоны, которые приходится преодолевать в себе самом, хотя менее всего виной тому это волшебное создание рядом с ним. Иногда его переполняет гордость, и тогда он хочет показать ее всем и всюду, посмотрите, кто у меня есть, — словно она его добыча. Вчера, во время визита доктора Вайса, он почувствовал это особенно сильно, когда она вошла и принесла что-то, потом присела с ними ненадолго.
Так что живут они, в общем и целом, как любовная чета. Комната, правда, маловата, и если все и дальше будет продолжаться столь же приятным образом, им придется искать настоящую квартиру, но пока что его и нынешнее положение вполне устраивает. Вечером, когда она уходит, он не испытывает ни облегчения, ни грусти. Частенько она оставляет ему что-нибудь о себе на память: шарф, колечко, снятое, когда она мыла посуду, на подушке софы — волос, облачко ее запаха в прихожей, запаха Доры, отзвук голоса, когда он блаженно отдается вечерней тиши.
По меньшей мере до конца года он хотел бы остаться.
Когда погода позволяет, он по-прежнему выходит гулять, чаще всего в Ботанический сад, где в оранжереях так занятно изучать всевозможные цветы и растения. Идут дожди, хотя пока что не особенно холодно, можно выходить в пиджаке, но, по всей видимости, уже недолго. Ему что-то нужно на зиму из одежды, пальто, теплое белье, домашний халат, может, и теплый мешок для ног. Вероятно, кое-что из этого при случае мог бы привезти и Макс, а нет — он и сам сядет в поезд и привезет себе все, что нужно. Перед отъездом он родителям сказал, что отлучается всего на несколько дней, а прошли уже недели, у него совесть нечиста, но не слишком, кроме того, стоит ему приехать, и он тут же, с порога, снова станет сыном, а вот этого он ни в коем случае больше не допустит.
2
Дора считает, что все хорошо. Да, у них была эта бессонная ночь, но с тех пор кашель не повторялся, хотя, конечно, ей надо будет повнимательнее за ним смотреть. На улице по-прежнему прохладно, идет дождь, изредка на пару часов выглянет солнышко, и снова дождь. Доллар стоит уже четыре миллиарда марок, им приходится экономить, но она молода, она живет с этим мужчиной, которого знает уже три месяца и который предоставляет ей какую угодно свободу. Она может приходить и уходить, когда вздумается, у нее жалкие почасовые приработки в Народном доме, там можно поговорить с Паулем, она встречается с Юдит. Оба в один голос говорят ей, до чего хорошо она выглядит, расспрашивают, как и что. Все так, как ты себе и представляла? На это она, конечно, могла бы кое-что порассказать, но предпочитает кивать и светиться мечтательной улыбкой, как будто вспомнив вдруг нечто очень радостное, какую-то мелочь, которую прежде не замечала, только кому какое дело до этого.
Какое-то время она и вправду думает, что, когда они вместе выходят из дома, по ним все видно, словно на них повсюду следы, то ли сияние исходит, то ли особенный запах, то ли просто отметины остаются на пару часов, — к примеру, на шее, в том месте, куда он ее сегодня целовал.
Кое-что, впрочем, и ей странно. Уже много лет он никакого мяса, кроме птицы, не ест, а жует по системе какого-то врача, долго до бесконечности, он в необычное время ложится спать и встает. Выглядит усталым, вокруг глаз черные тени, это от скверных ночей, а она все время себя спрашивает, не оттого ли это, что он ночами пишет или просто не может заснуть, или сперва пишет, а потом из-за этого не спит. Ночами у себя в комнате она долго перебирает в памяти минувший день, их разговоры о Палестине, какую-то его шутку в магазине, как он во время еды вдруг встает и обнимает ее сзади. Правда, сами разговоры быстро забываются. Да и ласки его она помнит смутно, ее словно несет по тихим волнам, изредка вздох, шепот, и все это как-то сразу в голове путается. Она ведь до этого по-настоящему себя не знала. И при всякой возможности так ему и говорит: она узнала себя только с ним. Все спало, все тебя дожидалось, одна беда — я тебя еще не знала. Вернее, я тебя знала, но невдомек было, где тебя найти, а потом вдруг там, на пляже, нашла.
Отец бы сказал, что он вообще не еврей. Субботу не соблюдает, молитв не знает — и вот на это ты просишь моего благословения?
Похоже, и квартирная хозяйка ими недовольна. Видно, как всякий раз, встречаясь с ними в поздний час, когда приличным людям уже положено спать, или рано утром, она недовольно хмурится, и на ее лице явственно читается вопрос: «Прикажете понимать, что эта хорошенькая барышня здесь ночует?»
Однажды она является к ним в сопровождении двух грузчиков, чтобы, как она и предупреждала, вывезти пианино. Дело происходит утром, в половине десятого, она застает их за завтраком, и ничего предосудительного в этом нет, но у госпожи Херман такое лицо, будто это и впрямь неприлично, а она даже позволяет себе и замечание — она, мол, в разговоре с господином доктором, должно быть, недостаточно ясно выразилась, только нынче, как война кончилась, судя по всему, ни от каких устоев камня на камне не осталось, — и еще что-то в том же духе. Оба грузчика, по счастью, заняты исключительно инструментом. Оба берлинцы, лет по тридцать, они по привычке кряхтят и поругиваются, но одно удовольствие смотреть, с какой легкостью и сноровкой они подхватывают пианино и несут к дверям. Франц наблюдает за ними с нескрываемым восхищением. И потом, когда они уже на улице, он из окна неотрывно следит, как они играючи, с прибаутками и смехом, управляются с грузом и уже вскоре уезжают, так что и неприятный эпизод с хозяйкой вскоре забывается.
Хотя вообще-то такие расходы им не по карману, они купили себе большую керосиновую лампу. От маленькой света почти не было, они все время сидели в темноте, а дни и так все короче, уже в пять темень непроглядная. Дора любит эту темную пору года, долгие вечера после работы в Народном доме, когда у них столько времени друг для друга. С новой лампой, однако, сущее мучение. Стоила она целое состояние, а теперь еще и гореть как следует не желает, по крайней мере у Франца в руках, — у него она только коптит и воняет. Конечно, трудно обращаться с ней более неумело, чем он, зато это доставляет им обоим массу удовольствия: желая добиться расположения лампы, он расточает ей комплименты, хвалит и прославляет ее свет, но, к сожалению, тщетно. Лампа явно его невзлюбила. Тогда он уходит из комнаты. Пусть Дора скажет лампе, что его нет, может, тогда она загорится, одному Богу известно, что у этой капризной лампы на уме, и гляди-ка, едва он выходит, лампа слушается ее с полуслова.
Ей пока что не особенно заметно, что он писатель. Конечно, он иногда пишет — открытки, письма. Неужто это и есть работа писателя? Однажды приходит письмо, доставившее ему неприятности. Это сводка по его проданным книгам. Он подавлен, да что там, убит, но это продолжается полдня, не больше. До вечера она оставляет его в покое, наедине с этой его печалью, которую ей не дозволено с ним разделить, терпеливо ожидая, пока он снова ее заметит, дожидаясь его первого слова, а потом, за ужином, и первой улыбки.
Однажды они собрались в кино. До этого они вечерами дома сидели, но, поскольку утром пришло письмо, а в нем пятьдесят крон, они решают в порядке исключения о деньгах сегодня не думать, тем более что кинематографы на каждом углу, и в Штеглице тоже, а на них афиши, а на афишах красивые мужчины и женщины, и всякие сцены головокружительные, обещающие бог весть что. Но почему-то из этой затеи ничего не получается. Вроде бы уже из дома вышли, но тут начинаются сомнения, уже и в очередь в кассу встали, но в последний момент он хватается за голову, то ли от боли, то ли вспомнив что-то. А Дора и не расстроена ничуть. Говорит, что ей хотелось бы просто пройтись, ей вполне достаточно в этом полутемном Штеглице просто на магазинные витрины посмотреть. Ах, Франц, говорит она. Ну что кино, разве кино от них убежит? Нет, считает Дора. В другой раз, говорит она, когда-нибудь после, когда все это кончится, хотя понятия не имеет, когда это будет.
Вздумай она писать о своей жизни, она бы запечатлевала одни мелочи, потому что самое большое счастье как раз в самых крохотных мелочах, — когда он ботинки зашнуровывает, или когда спит, когда волосы ее трогает. Он все время что-то с ее волосами делает. Он уже и причесывал ее, и голову ей мыл, что немного странно было, хотя и очень приятно. Ее волосы, говорит он, пахнут дымком и серой, а еще, иногда, морем. Он говорит, что никогда до конца ее не узнает. Если бы вдруг узнал — тотчас бы упал замертво. А так, выходит, я бессмертен.
В городе первые волнения из-за продовольствия. В особой опасности булочные, люди требуют хлеба, собираются вокруг толпами, запружают мостовую. Тиле, пришедшая к ним в гости как-то под вечер с неким молодым художником, наблюдала подобную сцену своими глазами, больше, правда, слышала, чем видела, рев озверевшей от голода толпы и отдельные выкрики, когда в глубине лавки, за припертыми изнутри дверьми, люди замечали какое-то шевеление и орали: «Хлеба давай!»
Вид у Тиле совсем не радостный. Она, судя по всему, рассчитывала, что Франц будет один, и лишь на пороге, когда Дора им открыла, понимает, что они теперь вместе, живут как муж с женой, тогда как она всего лишь посторонняя девушка, курортное знакомство, — поэтому за три часа она почти не раскрывает рта. А художника, похоже, она прихватила с собой лишь приличия ради, так что теперь и говорить вроде бы особенно не о чем, хотя нет: у художника сейчас выставка открыта, на набережной Лютцов, больше дюжины акварелей, морские пейзажи, дюны, пышные облака, все это в разном освещении. А сама Тиле? Да, она, как выясняется, все-таки танцует, хотя с родителями все по-прежнему повисло в неопределенности. Франц говорит, что твердо в нее верит, на что она, в свою очередь, спрашивает, над чем он сейчас работает. Новую книгу пишет? Кажется, лишь на секунду Франц задумывается, потом отвечает: нет, никакой новой книги, ничего похожего.
Писательство никогда не было его профессией. Он работал в этом агентстве, что-то по части страхования, а теперь на пенсии, у него вышло несколько книжек, которых она не читала и которые для ее любви ей не требуются. Вздумай они в Палестину уехать, говорит он, там его писательство никому не нужно, надо какое-нибудь дело освоить, ремесло, работу руками, что-то действительно полезное людям.
Когда пишу, я совершенно невыносим.
В последующие дни они все еще играют в Палестину, как это могло бы быть, он и она в стране, где одни евреи. Погода там, конечно, прекрасная, они могли бы открыть ресторан, в Хайфе или в Тель-Авиве, такая примерно им грезится мечта. Ну что, попробовать? Как ты считаешь? Кухаркой была бы, разумеется, она, ну а он был бы официантом, такого официанта еще свет не видывал, одна мысль об этом вызывает у обоих приступ смеха, он — и официант, при его-то уклюжести. Небольшой ресторанчик прямо у дороги, с терраской, чтобы можно было на открытом воздухе сидеть. Всего несколько столиков, так им видится, что вовсе не значит — верится.
И в садоводческую школу, что в Далеме, им тоже верится лишь недолго. Франц рассказывал, как лет десять назад пробовал работать садовником, но тогда он был еще не такой слабый. Их знакомый, который эту школу знает, решительно не советует: работа тяжелая, и возьмут ли еще на нее человека его возраста — большой вопрос, сейчас от желающих найти работу отбоя нет. Франц слегка отрезвлен, тем более что причина разочарования, как всегда, он сам, совсем недавно двое грузчиков, что вывозили от них пианино, лишний раз и более чем наглядно ему об этом напомнили.
Однажды в парке они знакомятся с маленькой девочкой. Одна-одинешенька, стоит она на опушке и плачет, поэтому, собственно, они с ней и заговаривают. А она и говорить почти не может от слез, у нее кукла потерялась, где-то здесь, в парке. Сначала вообще ни слова понять нельзя, захлебываясь от горя, девочка показывает то в одну сторону, то в другую, судя по всему, она уже всюду куклу свою искала. Бедняжке лет шесть-семь, и никогда, никогда уже у нее такой красивой куклы не будет. Вчера после обеда она ее в последний раз видела. Кажется, куклу зовут Миа, или это имя самой девочки?
Мало-помалу она все-таки успокаивается. Погоди, послушай. Я знаю, где твоя кукла. Это Франц говорит. Он склонился над девочкой, прямо в траве встал перед ней на колени и тут же, с ходу, начинает сочинять историю. Она письмо мне прислала, если хочешь, я его завтра тебе принесу. Девочка смотрит недоверчиво. Письмо? Разве так бывает? Не бывает так. От моей куклы? А как твою куклу зовут? Девочка отвечает: куклу зовут Миа. Ну да, как раз от куклы по имени Миа он сегодня утром и получил письмо. Почерк у нее, правда, не слишком разборчивый, что верно, то верно, но это точно она, Миа, письмо написала. Франц не спешит, дает девочке осмыслить сказанное, подбадривает ее улыбкой, со стороны сцена довольно трогательная. Поборов первые сомнения, девочка, похоже, приходит к выводу, что такое, быть может, все-таки бывает. Она начинает верить. Они договариваются встретиться завтра, здесь же и в то же время. Франц все еще стоит перед ней на коленях и серьезно, строго и почти торжественно спрашивает, точно ли она завтра придет, словно от этого, как и тогда, в Мюрице, вся его жизнь зависит.
3
Месяц спустя после приезда он, можно считать, мало-помалу прибыл. Хотя он почти не пишет, дел все равно на удивление много, он ревностно заботится об Эмми, почти каждый день ей звонит, принимает у себя — здесь ему даже удается иногда ее рассмешить, лишь бы она не думала все время о Максе, который вместо того, чтобы ехать к ней в Берлин, решил отправиться на свадьбу к брату, что для бедняжки Эмми страшный удар.
Беспрерывно ему приходится посредничать, улаживать, увещевать или, и того хуже, оправдываться. То надо написать Максу, который жалуется, что из Берлина нет вестей, то директору своей страховой компании, убеждая того не сокращать ему пенсию в связи с его переездом в Берлин. На прошлой неделе он пригласил Дору в вегетарианский ресторан на Фридрихштрассе, он по-прежнему собирается в кино, а еще и в театр, но вместо всего этого у него теперь девчушка из парка. Ему самому странно, до чего важным оказалось это дело, во всяком случае, оно отнимает поразительно много времени, он теперь сочиняет письма от куклы, советуется с Дорой, то и дело читает ей вслух.
Какое-то время у них, можно сказать, свой ребенок. Из парка кукла ушла в сторону вокзала и поехала на море. К сожалению, у нее совсем не было денег, но ей страшно повезло: какой-то мальчик оплатил ей билет. Несколько дней она живет на море, но море быстро ей прискучивает, она хочет на другой берег океана, поэтому однажды ночью пробирается на корабль, который должен отплыть в Америку, но почему-то, к сожалению, приплывает в Африку. Вот сколько всего приключилось за три письма.
Теперь после обеда в парке их уже с нетерпением ждут. Девочка только недавно в школу пошла, сама читать еще не умеет, теперь они уже и имя ее знают, Катя, а по-взрослому, как сама она пояснила, — Катарина. Погода хорошая, они присаживаются на лужайке, после чего читают новое письмо, в котором говорится, что беспокоиться совершенно не о чем, куклам тоже иногда хочется повидать мир, самое позднее к Рождеству она вернется.
Кроме этих писем он вот уже за много месяцев ровным счетом ничего не создал, а по сути, и за весь 1923 год почти ничего, хотя, конечно, что-то он постоянно пишет, у него много всяких тетрадок, дневник, отдельные записочки, на которых он иной раз то одно черканет, то другое. В письме Максу он велеречиво рассуждает о своей работе, которую здесь, в Берлине, продолжает, а на самом деле это всего лишь разрозненные заметки, кое-какие наброски к новому роману, зачины, отрывки, то одна какая-нибудь безделица, то другая, которую, едва записав, лучше всего при первой же возможности бросить в огонь.
Катя спрашивает: а если она вдруг в Африке захочет остаться, что тогда? Вопрос и вправду нешуточный, потому что кукла тем временем, сколько можно судить по ее намекам, там, в далекой Африке, влюбилась. Что ж, бывает и такое. Катя спрашивает: она что, принца любит больше, чем меня? С одной стороны, она отказывается в это поверить, у нее слезы в глазах, но с другой она уже начинает к такому повороту привыкать, ведь она же слыхала, в сказках бывают принцы, но неужели даже в Африке?
Несколько дней, как уже было сказано, их всецело поглощает эта малютка, как она радуется, как не упускает ни одной мелочи, как готовится стойко пережидать разлуку, когда кукла однажды признается, что возвратится, наверно, не так уж скоро. Потому что принц, представляешь, просил ее руки! И дал ей сутки на размышление, но ей и раздумывать не о чем, она хочет за принца замуж. Доре куда больше по вкусу другой конец. Можно ведь купить другую куклу и сказать, что это та же самая, просто Миа за время путешествия сильно изменилась, но это все еще она, прежняя Миа. Разве нет? Нет, доктор не согласен. История должна чему-то научить. В последнем письме он напишет, что кукла очень счастлива. Если бы девочка лучше за ней следила, она бы никогда не познакомилась с принцем. Выходит, это хорошо, что ты за мной не следила, или все-таки не очень? Точно так же он мог бы сказать и о себе: не откройся у меня много лет назад чахотка, я бы, вероятно, женился и не был бы сейчас с тобой в Берлине. Так хорошо, что у меня чахотка открылась, или все-таки не очень?
В остальном же им и желать нечего. Они вместе, и у них есть время, это главное. Единственное, что слегка тревожит, это непомерно высокая плата за жилье, при том что это всего лишь одна комната, хорошо, пусть в прекрасном районе, но только одна. Через каждые три-четыре дня хозяйка стучится в дверь и объявляет новую сумму. В конце августа это были четыре миллиона, а сейчас, хочешь верь, хочешь нет, уже полмиллиарда, в скобках прописью — пятьсот миллионов! И были уже осложнения из-за счета на свет, продолжаются подспудные осложнения из-за Доры. Вообще-то ему не хотелось бы отсюда съезжать, но он уже просматривает газетные объявления под рубрикой «сдается», он все-таки решил от комнаты отказаться. Однажды вечером это становится известно, до середины ноября им нужно подыскать себе другое жилье, желательно поблизости. Он говорит, что хотел бы две комнаты. Чтобы в случае чего тебе не нужно было вечером уезжать, когда ты слишком устанешь, или я не захочу тебя отпускать, одну, вечером, через весь город, в такие времена. А Доре эти времена по душе. Ей, в сущности, безразличны и комнаты, и все на свете квартирные хозяйки, и даже, наверное, все равно, в каком городе. Сейчас она радуется, что он сам сказал: две комнаты. Она сияет, стоя там, возле письменного стола, где любит иногда стоять, слегка прислонившись, — само воплощение цветущей жизни.
На следующий день, словно решение о переезде вдохнуло в них новые силы, они вместе едут в город, в раввинскую семинарию, что в самом центре района Шойненфиртель. Если и есть какой недостаток в их загородном существовании, то лишь тот, что они так далеко от еврейской жизни. А доктор очень хотел бы учиться, он так мало осведомлен в обычаях, законах, молитвах. И Дора тоже хочет учиться, хотя она и так все с детства знает, и совсем не боится ему сказать, что по вечерам молится у себя в комнате, соблюдает субботу, вообще правила, и Писание знает, которое для него всего лишь свод историй и послание, только не ему.
Он все еще собирается в театр, но «Враг народа» с Клёпфером[6] на месяцы вперед распродан, а билеты в театр Шиллера несусветно дороги, в итоге вместо Кортнера[7] он вынужден созерцать заплаканное личико сопровождавшей его Эмми, чьи требования к Максу возрастают столь же стремительно и непомерно, как цены. Макс должен наконец решиться, говорит она, подразумевая под этим бросить жену, его приезды в Берлин раз месяц — этого ей просто недостаточно. Один раз, при упоминании слова «долг», она вскипает от гнева, но в остальном держится скорее робко, рассказывает о последнем телефонном разговоре, который ее просто осчастливил, о своих репетициях, о том, что, вероятно, она скоро сможет спеть на концерте в церкви. По сути, ему не слишком все это интересно, но он, как и прежде, любит на нее смотреть, ему нравятся ее духи, неожиданные приступы нежности, когда она берет его за руку и подолгу не отпускает, когда смотрит на него, словно это какая-то совсем другая Эмми, не та, что все время сетует, а имеющая на его счет совсем иные виды. Пожалуй, его слегка сбивает с толку ее поцелуй на прощанье, но потом он говорит себе, что за глупость, она же актриса, для актерской братии это всего лишь привычка и больше ничего.
К тому же она вообще не в его вкусе.
Его всегда привлекали скорее брюнетки, с низкими, глубокими голосами, что к Эмми никак не относится. У Доры такой голос, и у М. тоже, хотя голоса, как известно, запоминаются хуже всего.
Самое удивительное и даже странное то, что он не боится — во всяком случае, рядом с этой девушкой, хотя цены взлетают так, что дух захватывает, лишь за последнюю неделю они возросли вшестеро, а в целом все стоит примерно в сто раз дороже, чем до войны. Однако новое пристанище у них есть. Ему повезло, крохотное объявление в «Штиглицком вестнике» он запросто мог и пропустить, а уж потом все вообще пошло как по маслу, достаточно было один раз позвонить, условиться о времени визита, и они сразу же обо всем договорились.
Новая квартира оказалась совсем рядом, всего в двух кварталах от прежней, в небольшой вилле с дивным садом, как он пишет родителям, две красиво обставленных комнаты, из которых одна, гостиная, такая же солнечная, как и предыдущая его комната, а во второй, что поменьше, это спальня, солнце бывает только с утра. Есть и третья, средняя комната, в ней живет хозяйка. Но к этому маленькому неудобству, как он надеется, они как-нибудь приспособятся. И даже о Доре была речь, во всяком случае, он не умолчал, что он некоторым образом будет жить не один, а с женщиной. В общем, там видно будет, как все дальше сложится, эта средняя комната хозяйке вроде бы только для ночлега и нужна, госпожа Ретман врач и с утра до ночи пропадает у себя в частной клинике в районе Райнек.
Такой красивой квартиры у него никогда не было.
Дора ужасно радуется и электрическому свету, и работающему отоплению, ведь впереди зима, и на Микельштрассе они бы только мерзли, там окна и двери толком не закрываются, газ горит еле-еле, не говоря уж о постоянных трениях с самой госпожой Херман. Словом, им, можно считать, сказочно повезло. Доре почти сразу надо бежать, она встречается с Юдит, но прежде чем уйти, пусть только скажет ему, чему она радуется больше всего. Хочешь, я сам тебе скажу? У нее сегодня волосы как-то по-особенному уложены, поэтому он что-то говорит насчет ее волос, на какое-то мгновение он даже не хочет ее отпускать, но потом все же отпускает, быть может, сегодня вечером он все-таки что-нибудь напишет.
4
Последним гостем на Микельштрассе оказывается Макс, который привез целый чемодан зимних вещей, он очень милый и совершенно чужой. Она не знает, нравится ли он ей. Быть может, она слишком много всего о нем слышала, а быть может, в глубине души она все-таки на стороне Эмми.
Когда она приходит, оба уже сидят за столом, обсуждают политику, какое-то недавнее событие. Оказывается, в Мюнхене был путч, по счастью, он уже подавлен. Они говорят о каком-то человеке, который этот путч возглавил, он антисемит жуткий, а еще о том, что означает для евреев появление такого человека. Минуты две-три она стоит в дверях, слушает, даже с налетом какой-то ревности, но потом вдруг все становится неожиданно легко и просто, Франц страшно горд, что наконец-то может показать ее другу, Макс чинно подает ей руку и говорит: «Так это вы, значит, Дора».
Как ей кажется, он много старше Франца, мужчина до мозга костей, что бы это там ни значило, весьма солидный, женатый, немного, как ей кажется, скучный, человек, повидавший мир, много городов, женщин, всего отведавший, причем, похоже, не всегда с чистой совестью, имеет явную склонность к драме. Это она от Франца знает, который однажды что-то неодобрительное о Максе говорил. Какое-то время все просто сидят за столом, говорят о ценах, о театре, иногда упоминают и Эмми, хотя эту тему, судя по всему, уже обсудили. Потом Дора приносит что-то перекусить, они по-прежнему болтают, рассказывают ему о Мюрице, как познакомились, ну и всю эту их бесконечную историю.
Так проходит вечер. В одиннадцать Макс прощается, но уже внизу, на улице, успевает дать ей несколько советов. Я очень рад за вас обоих, говорит он. Вы так трогательно о нем заботитесь, пожалуйста, не переставайте, с Францем иногда непросто, но это самый замечательный человек из всех, кого я в жизни встретил. Да, отвечает она, я знаю, а про себя думает: а что я, собственно, знаю? Хотя, с другой стороны, а что знает о нем этот человек, что ты знаешь о его руках, о его губах, — да ничего, ничегошеньки ты о нем не знаешь.
Это лучший друг Франца.
Насчет новой квартиры он, можно считать, ничего внятного не сказал. Не дороговато ли? Франц очень хотел ему ее показать, да времени не было, Дора тоже осматривает квартиру лишь через несколько дней и находит ее, пожалуй, даже еще прекрасней, чем Франц описывал. И хозяйка симпатичная, ей около сорока, может, чуть строга в своем темно-сером костюме, но скорее это не строгость, а благородная сдержанность. Плату за отопление она тем не менее попросила бы внести вперед. Сумма чудовищная, по сути, за уголь она требует почти столько же, сколько за проживание. По лицу Франца видно, о чем он подумал: вы только потому так меня обдираете, что я иностранец, но она тут же показывает им счет, деньги и впрямь безумные, она и сама так полагает, находит, кстати, несколько любезных слов для Доры, которую называет его невестой, — правильно-то все равно никто не скажет.
Что теперь? Дело к вечеру, можно немного пройтись, радуясь тому, что на свете и кроме госпожи Херман есть люди, что-то в этом роде она и говорит, а еще что-то насчет его сорочки, которой она еще не видела, и какой он все-таки красивый мужчина. Весь вечер им очень хорошо, ну да, деньги уплыли, но это же только деньги, главное, они теперь от госпожи Херман избавлены. Может, он как раз о ней сейчас и пишет, замечает Франц. Что, правда? Она удивлена, прежде-то он о своих планах ни слова не говорил. Она часто себя спрашивала, интересно, о чем он пишет, а теперь вдруг оказывается, он пишет об их жизни в Берлине.
Тем не менее визит госпожи Херман, требующей освободить комнату немедленно, застигает их врасплох. На них якобы поступили жалобы, из соседнего дома, так она утверждает, в подробности она не хотела бы вдаваться, она вовсе не ханжа, однако даже у нас, в Берлине, такое не принято. Обращается исключительно к Францу, Дора для нее пустое место, как и вчера вечером, когда в ответ она не поздоровалась, а скорее прошипела, и сразу стало понятно, до чего она разъярена: «Не поздновато ли для прогулок?» Возвращаясь домой, Дора долго еще на нее злилась, и вот сегодня, на следующее утро, она врывается к ним прямо во время завтрака и устраивает такой скандал. Голос крикливый, близкий к истерике, очевидно, она ожидала возражений, сопротивления, но, поскольку Франц молчит, она поворачивается и стремительно удаляется на свою половину.
В первые минуты Франц возмущен, он не припомнит, чтобы с ним так обращались, хотя ему совсем не впервой снимать жилье. По этой части, как выясняется, у обоих богатый опыт, у Франца уже чуть ли не дюжина комнат на счету, это помимо гостиниц, пансионов и санаториев. Да и Дора часто переезжала, в одном только Берлине за последние три года пять раз. Родительский дом в Пабьянице[8] она уже почти не помнит, но большую комнату в Бендзине[9] вскоре после смерти мамы помнит хорошо. В Кракове, когда от отца убежала, она в полуподвале жила, там в окошко под потолком от прохожих одни ноги были видны; во Вроцлаве у нее была комната неподалеку от скотобойни, а потом около вокзала. Чему-то из ее жилищной эпопеи Франц поначалу даже отказывается верить, первую берлинскую зиму она вообще в садовом домике прожила, в Панкове, а потом была крохотная каморка прямо над танцевальным заведением, и еще более крохотная — вплотную к городской железной дороге. Куда только их жизнь не забрасывала, подытоживают оба, хотя по-настоящему путешествовали они не особенно много, даже Франц куда меньше, чем она предполагала, по сути, он только в Италии бывал, ну, еще понемногу в Швейцарии, Германии и Австрии. Она бы в Лондон съездила или в Париж. Поедешь со мной в Париж? Она забыла, он же был в Париже, с Максом, чуть не сто лет назад, но это не в счет, если бы я мог, говорит он себе, я бы прямо сейчас с ней поехал.
Вечером, у себя в комнате, она пытается представить, каким он был лет в двадцать пять. Она тогда совсем еще девочкой была, в школу ходила, и все равно: все было бы так же, как в Мюрице. Где бы она его ни увидела, в кафе с приятелями, она бы сразу вздрогнула, и потом бы всю жизнь надеялась, и никогда бы уже не забыла. Франц об этом так говорит: встреть я тебя раньше, кое-что было бы по-другому, но раньше я тебя не мог встретить, самое раннее — это Мюриц и был. Раньше я был не готов. Все должно было случиться именно так, как случилось, иначе ты бы мне не досталась, и я не поехал бы в Берлин и мы не жили бы так, как живем.
На следующий день они переезжают. Это скорей прогулка, чем переезд, все равно что комнату в гостинице сменить, из одного крыла в другое переселиться. Дора уже с утра у него, помогает паковать вещи, потом и вовсе отправляет его в город, чтобы самой спокойно все перенести. Ей за два раза удается обернуться. На улице свежо, но и солнышко проглядывает, горстка детишек смотрит ей вслед, кто-то из малышни даже спрашивает, куда она уезжает.
В новой квартире ей поначалу надо просто походить, попривыкнуть, из большой комнаты в маленькую и обратно, в большую, где софа. Потом она раскладывает по полкам белье и одежду, развешивает в шкафу его костюмы, идет купить что-нибудь к ужину. Возвратившись, переодевается, опробует ванну, потом, в новом платье, садится его ждать. Уже давно миновало шесть, когда наконец она слышит его в прихожей. Он знакомого встретил, тот пригласил его зайти, вот он и задержался. Ему страшно неловко, что он ничем не помог, он тотчас же замечает цветы, порядок в обоих шкафах, ее платье. Она какая-то необычная, считает он, как будто новая, или это обстановка другая, и свет электрический, ему еще предстоит привыкать. К тебе, поясняет он. Или все-таки нет? Господи, в Мюрице она целыми днями думала, да как же я его забуду, хоть бы он и правда был неженат, когда же я его снова увижу. А теперь она стоит перед ним в новой квартире и нервничает, ну, не то чтобы всерьез, а как-то совсем по-девчоночьи. В любовных делах с ним по-прежнему непросто, но ей с ним всегда и так хорошо, хорошо и приятно, и спешить некуда. Однажды, недавно, она ему сказала: со мной вовсе не обязательно так уж осторожно, на что он удивился и ответил, я не с тобой, я с собой осторожен. То, что выглядит заботой о тебе, на самом деле всего лишь о себе забота.
Лет с двадцати он начал захаживать к проституткам. Она не знает, с какой стати он ей об этом рассказывает, и хорошо ли это для нее, и имеет ли вообще к ней отношение. Одна была еще почти ребенок, что даже создавало некоторую иллюзию невинности; у нее были дырки на чулках, и она все время смеялась, поэтому он ее до сих пор и помнит. От всех остальных остался только ужас. Несколько лет всего, говорит он, а потом перестал. Вечер, он лежит на софе, с закрытыми глазами, словно спит. Она не чувствует, что это признание что-то изменило, как ни странно, она находит его даже трогательным, ведь оно как бы позволяет ей ощутить, до чего юным он тогда был, таким же юным, как она сама, прежде чем его встретила, юным и совсем неопытным.
Она принесла с собой кое-какие свои вещи из комнаты на Мюнцштрассе: платья, белье, туфли. Ну, и еще всякие мелочи, губную помаду, коробочку пудры, уже начатую, пару книг, почитать вечером, когда он за столом работает. Он теперь почти каждую ночь пишет, до раннего утра. Когда потом юркает к ней в постель, она на мгновение просыпается и млеет от счастья, в первые дни, когда он еще может спать, рядом с ней в ее узенькой кровати — ей тогда кажется, будто она его спасла.
Он еще в Мюрице ей объяснил, что уже много лет спит из рук вон плохо, что-то насчет призраков, что она, должно быть, не вполне поняла или отнеслась несерьезно. Посчитала, что, когда они будут вместе, эти призраки больше показаться не посмеют, но теперь начинает понимать: противник нешуточный. Призраки — это его тревоги? Поначалу она так и думает. У них почти нет денег, они живут в скверное время, в городе демонстрации, недавно в столкновениях безработных с полицией и до кровопролития дошло, были раненые. Но дело не в этом. И похоже, даже не в его болезни. Оба они знают, что недуг этот дремлет и в любую секунду может прорваться, но призраки появились в его жизни гораздо раньше, чем чахотка. Иногда они уходят, на какое-то время оставляют его в покое, но потом передумывают. Не нравятся ей эти призраки, говорит она, с какой стати они выбрали именно тебя? Ей хочется что-то для него сделать, она идет на кухню, заваривает ему чай, хоть он и говорит, что это пустая трата времени, пусть лучше спит, но потом все-таки разрешает ей остаться рядом с ним, на софе, пока они его не отпустят.
Она в жизни не представляла себе, что когда-нибудь будет жить вот так. В юности у нее было полно всяких видов на будущее, в семнадцать-восемнадцать, когда понемногу начинаешь спрашивать себя, как оно все-таки сложится дальше, какой муж достанется, будут ли дети. В шестнадцать она стала сионисткой. Начала играть в театре, воевала с отцом, который не мог пережить смерть жены. В двадцать в приступе гнева она от него ушла, в двадцать один ушла снова. Неужели только четыре года назад? Она всю жизнь о театре мечтала, хотела актрисой стать, как Эмми, только, избави Бог, не такой, как Эмми, но чтобы в чужие роли вживаться, в незнакомые тексты, лучше всего в еврейские или на идише, а еще классика, Клейст, которого Франц так ценит, из Шекспира кое-что. Такие были мечты. Сейчас они вроде бы чуть поблекли, но это нечто, о чем она когда-нибудь обязательно вспомнит, если это тогда еще будет важно, потому что сейчас, с Францем, это как раз не важно.
Она рассказывает Юдит, что чувствует, когда он пишет. Вообще-то это очень здорово, хотя и странно немного, почти как священнодействие или вроде того, словом, она не знает. Однажды она за ним подсматривала, в дверную щелку. Со стороны это прямо как тяжелая работа, а еще как ожидание, хотя ожидание тоже вроде как часть работы получается, но в тот вечер он писал и писал, без остановки, прямо как каменотес, по-настоящему, с молотком и зубилом, так ей казалось, словно бумага — это камень или что-то такое, что не поддается, а потом вдруг все стало почти легко, уже не как каторга, а как если бы он поплыл, и уже далеко от берега, подумалось ей, а он все плыл и плыл, все дальше и дальше, в открытое море.
Иногда, впрочем, он впадает и в ярость. Он тогда совсем тихий становится, какой-то до жути собранный, и чем яростней, тем тише. Прежде она думала, с ним ничего такого вообще не бывает, но с сегодняшнего утра он просто вне себя. Родители выписали и послали ему чек, на 31 миллиард немецких марок, из чего, к сожалению, вытекает, что пока этот чек до них дойдет, сумма на треть обесценится. Он еще и вечером клянет все и вся. Потом очень долго пишет письмо Оттле, которая собралась навестить их в Берлине, потом снова злится, и за ужином у него аппетита нет — ну что еще тут скажешь? Родители хотели как лучше, робко замечает она, откуда им знать, какая тут жизнь, а узнай они — напугались бы до смерти.
Ближе к одиннадцати, отправляясь доделывать историю об их прежней квартирной хозяйке, он уже не прочь пошутить. Такую особу, как госпожа Херман, нельзя заставлять ждать, она сердится, как ребенок, которому не дают шоколаду. И больше Дора уже ничего не слышит. Она не спит, читает, в глубине души надеется, что он ее позовет, но он не зовет, она так и остается одна, словно он вообще о ней позабыл.
5
За долгое время это вообще первая история, в которую он хоть как-то верит, не сомневается, что закончит, и она в самом деле уже вскоре, можно считать, готова. Не длинная, всего несколько страниц, но, судя по всему, он и впрямь еще что-то может, у него даже возникает соблазн прочесть ее вслух, а это всегда было для него хорошим знаком. Он работает, он чувствует в себе силы, даже М. наконец-то смог написать, про сожженное письмо, и про свое тоже, это еще в июле было. Но с первых же строк он впадает в прежний тон, что, к сожалению, не в лучшую сторону влияет на точность выражения. С ним случилось нечто грандиозное, так он начинает, упоминает летний лагерь, свое, поначалу не очень твердое намерение вместо Палестины перебраться в Берлин, сколь бы невозможной ни казалась ему всегда самостоятельная жизнь в полном одиночестве, но и в этом отношении в Мюрице он обрел неоценимую, хотя в своем роде и неожиданною поддержку. И теперь вот он в Берлине, уже с конца сентября, похоже, не один, хотя иной раз кажется, что все-таки один. Он живет почти за городом, в вилле с садом, такой красивой квартиры у него никогда не было. Ест то-то и то-то, пишет он, со здоровьем все по-прежнему, затем, напоследок, торопливый поклон в сторону «духов воздуха», и даже слово «страх» не боится упомянуть, причем на весьма почетном месте, ибо этим словом, будто навсегда захлопывая за собой дверь, он письмо заканчивает. Два вечера ушло у него на это послание. Он рад, что М. не знает о его новой жизни, что она в Вене, недавно, судя по всему, побывала в Италии, все это от Штеглица очень далеко, можно считать, недосягаемо.
Этими днями приходит сразу много посылок и бандеролей, тщательно пронумерованных, чтобы ничего не пропало, что, к сожалению, иногда случается. Мать прислала бутылку красного вина, домашние тапочки, четыре тарелки, огромную бутыль малинового сока домашней заготовки, вдобавок, как обычно, масло и даже буханку грехемского хлеба, хотя ему теперь здешний, берлинский хлеб больше по вкусу. Завтра приезжает Оттла. Он послал ей список неотложно необходимых вещей — было бы неплохо привезти ему три кухонных полотенца, две скатерти, уже неоднократно упомянутый мешок для ног, которого он особенно ждет, — когда пишет, у него, к сожалению, постоянно мерзнут ноги.
На сей раз, в отличие от приезда Макса, он ни секунды не сомневается в успешности визита, и действительно, Дора и Оттла находят общий язык мгновенно, пусть, к сожалению, всего лишь на протяжении нескольких часов, ибо вечером того же дня сестре надо ехать обратно. Если у Оттлы и были кое-какие опасения относительно его берлинского житья-бытья, то теперь их как ветром сдуло. Она не устает нахваливать квартиру, загородную местность, да и состояние брата, судя по всему, не дает оснований для тревоги, сразу видно, что им, что «вам обоим» хорошо живется вместе, сколь бы ни трудна была, к сожалению, здешняя жизнь. Привезенные ею вещи встречены с огромной радостью, она даже спиртовку догадалась прихватить, что особенно радует Дору, а вслед за ней, разумеется, и саму Оттлу, — та помогает Доре на кухне, и он с удовольствием прислушивается к их дружеской, доверительной болтовне.
Под вечер, уже по дороге на вокзал, Оттла говорит ему, что очень хорошо его понимает. Дора совсем другая, не то, что мы, поэтому его к ней и тянет, разве нет? Во-первых, считает он, и нет смысла об этом умалчивать, она с востока, тем не менее между нею и сестрой много общего, практическая жилка, свойственная им обеим, то, как обе смеются… Отец — тот, конечно, ничего, кроме востока, и не увидит. Это, кстати, первый раз, когда они об отце не поговорили, вообще ни словом его не упомянули, за все четыре часа, — ведь оба, каждый на свой лад, уже ведут самостоятельную жизнь, сестра с Йозефом и девочками, а он сам с Дорой здесь, в их штеглицком гнездышке.
К собственному его изумлению он и дальше пишет без передышки. В ночь после отъезда Оттлы он начинает новую историю, понятия не имея, куда она его заведет, во всяком случае, уж никак не в Берлин, ведь разыгрывается она в подземелье, в жилище некоего зверя. Спит он уже которые сутки весьма посредственно, но он пишет, он живет с этой женщиной, вместе в одной квартире, — и тем не менее пишет. Историю про госпожу Херман он Доре уже успел прочесть, и та во многих местах смеялась, хотя на самом деле это история совсем не про госпожу Херман, но Доре это невдомек.
Сдается ему, он смотрит теперь не только в себя, а словно слегка повернув голову, словно вокруг него, сколь это ни удивительно, и вправду что-то нешуточно переменилось. Как будто все зависело только от этого: достаточно было всего лишь голову повернуть, и его взор разом обратился наружу, туда, где есть Дора и опыт общности, связывающей его с ней.
Он уже не раз писал о зверях, начиная с мельчайших тварей, вроде таракана, про обезьяну, про гигантского крота, про коршуна. О собаках и шакалах писал, и о леопарде немного, и о кошке, пожирающей мышь.
А начинается новая история так: «Я соорудил себе жилище, и, кажется, весьма удачное. Снаружи виден только большой лаз, который, однако, никуда не ведет: пройдя несколько шагов, натыкаешься на глухую скалистую стену».
Что еще новенького? Выпал первый снег, и сделалось очень холодно, солнца почти не видно, хотя иногда все-таки проглядывает, но он-то все равно уже много дней из дома почти не выходит.
Берлинцы голодают, со всех концов Европы в город поставляется продовольственная помощь, о чем он знает скорее понаслышке, изредка от Доры кое-какие подробности, когда та ходит за покупками или встречается с кем-нибудь в городе. К виду нищих на улицах все уже привыкли, к сожалению, теперь уже полгорода, можно считать, нищенствует, люди изнурены и пребывают в каком-то терпеливом отчаянии, в районе Шойненфиртель положение вообще ужасное, хотя ноябрьские попытки погромов больше не повторялись. Дора говорит, что еврейский Народный дом на последнем издыхании, ей хочется что-то делать, не только похлебку для бедняков варить, а именно предпринять что-то, как-то изменить все это.
Что правильнее: писать о жизни или изменять ее?
Отвечая на последнее письмо Роберта, он не столько даже объясняет, почему ничего не говорит о себе, сколько устанавливает данность, что это так и есть. Семье не пишет, Максу, полузабытому другу, тоже нет, не испытывая даже угрызений совести, тем паче что, по его ощущению, времени у него в обрез.
У него всего в обрез, и он не знает, хватит ли сил выдержать эту гонку, — хотя на самом деле времени у него много как никогда. Может, думает он, счастье — это и есть своего рода расточительство, когда вечерами, при скудном, экономном свете, они читают друг другу вслух, либо Дора на иврите из Библии, либо он ей что-нибудь из сказок братьев Гримм или из Хебеля[10], историю о рудокопе, ее он любит больше всего. В такие мгновения ему кажется, что времени у него сколько угодно, целая вечность еще, и что он его вовсе не транжирит, ибо точно знает, что через несколько минут сядет за свой письменный стол и не встанет из-за него, сколь бы ни томительно было искушение, когда она, подойдя, ласково к нему прижимается или когда сидит на софе, скрестив ноги по-турецки, в глазах смесь ожидания и опаски.
Несколько дней и ночей подряд он все глубже зарывается в свое подземное жилище, поражаясь, как там все просто.
По утрам, надевая рубашку и галстук, или в маленькой ванной, когда моется и бреется, а уж потом одевается, в темный костюм, при полном параде, у него такое чувство, будто он идет на свидание, романтический завтрак в кафе, где он должен с ней встретиться, хотя она уже давно здесь, рядом, в знакомом платье или блузке.
Он спрашивает себя, когда он успел этому научиться. Или есть вещи, которые заложены в тебе просто так и ты делаешь их легко и не задумываясь, когда это потребуется?
Он не перестает удивляться и вечерами, когда все же наступает время сбросить с себя одежду, готовиться ко сну, пусть каждый в своей комнате, но ты все равно не один, и это не мешает, совсем напротив, ибо именно так, думал он в прежние времена, именно так и надо бы жить.
6
Несколько недель ничто не омрачает их счастье. Кое-что ее удивляет — его обыкновение ложиться в постель после обеда и не вставать чуть ли не до вечера, его истории и то, как он ей их растолковывает, вот тут, мол, и тут он, когда писал, думал о ней, а это место, где зверь свои припасы собирает и хранит, склад-крепость, это ты, хотя она при всем желании, ей-богу, никакой связи не улавливает. Но ее счастью все это не помеха. Зима выдалась суровая, в городе люди голодают, и они оба нередко об этом говорят — мол, как им самим повезло и как надо радоваться тому, что у них есть. А далеко наперед она и вовсе предпочитает не загадывать, в том числе и потому, что о многом она просто запрещает себе думать, насчет детей, и что вообще будет с ней в этой квартире, которую она, будь ее воля, век бы не покидала.
Оттла рассказывала ей, до чего рождение ребенка меняет всю жизнь. Она без обиняков так и спросила — а что у тебя с этим? — когда они были вдвоем на кухне. Дору вопрос застиг врасплох, и она, к сожалению, в ответ только пробормотала, что вообще-то да, но все еще так непривычно, и времена такие, она не знает. Оттла только грустно на нее глянула, они ведь обе знают, все дело во Франце, который, к сожалению, болен, а не будь он болен, он, вероятно, уж от тебя-то захотел бы детей. «Вы хоть говорили с ним об этом?» На что она может ответить только — нет, и тут же рассказывает о девочке с куклой, потому что конечно же они об этом никогда говорили, но те несколько дней, в парке, все же в известной степени имеют к этому отношение. Оттле история очень понравилась, она вообще очень добра и хочет Дору утешить, кто знает, как оно там с вами обоими обернется, ты молода, может, он еще выздоровеет, или лекарство изобретут, откуда нам знать. Оттла крепко ее обняла, прямо как сестричку, подумалось ей, ее это и утешило, и удивило, — удивило, что ей, оказывается, и утешение это нужно и чтобы относились вот так.
В марте ей двадцать шесть исполнится.
Она поговорила с Францем насчет своей комнаты, и оба сошлись на том, что пора ей оттуда съезжать, это только ненужный расход, вот кончится месяц — и пусть перебирается к нему. Та комната никогда ей не нравилась, кровать старая, в которой она ревела, когда Альберт ее бросил, затхлость, трухлявые ковры, мебель обшарпанная. Один раз она Ханса туда привела, что, конечно, было большой ошибкой. Все как-то натянуто происходило, они не знали, о чем говорить, да и не ради разговоров он пришел, — ну а потом он встал, ушел и больше не вернулся.
Отказ от комнаты мало что меняет в ее поездках по городу. Она по-прежнему через день ездит в народный дом, где положение день ото дня все хуже, не хватает практически уже всего, денег, продуктов, несчастные евреи со всей округи и сами бедствуют.
Франц ее подбадривает. Кто-то же ведь должен о них позаботиться, говорит он, а лучше нее это никто не сделает, но она не уверена, не чувствует в себе сил, хоть надвое разрывайся, ведь она не знает, какую из двух забот выбрать — о детях или о Франце.
Историю свою он все никак не закончит. Но она продвигается, каждый вечер, с десяти, с половины одиннадцатого он садится за стол, и Дора, теперь уже безо всякого предварительного разрешения, иногда сидит вместе с ним, читает книжку или просто следит за ритмом его работы, как он собирается с мыслями, прежде чем снова нащупает нить повествования. Как-то раз она засыпает, а когда просыпается, он сидит рядом с ней, совершенно неузнаваемый, изможденный, как после тяжкого, изнурительного труда. И в лице такая просветленность, что в первую секунду ей даже почему-то больно, а потом уже нет. Не спал? Нет, отвечает он, а теперь вот тебя тут обнаружил. Похоже, ничего подобного он прежде не испытывал, он явно растроган, шепчет что-то, как будто это совершенно немыслимая вещь — обнаружить ее у себя в комнате.
С тех пор как встретил тебя, я другой человек.
Чуть ли не через день он что-нибудь ей читает, и они постоянно вместе. Иногда они даже молятся вместе, и ее всякий раз изумляет, как мало он знает. Но быть может, именно это ей и нравится больше всего, когда он, благоговея от неумения, повторяет за ней слова молитвы, будто школьник, по слогам разбирающий в букваре первые строки, невесть где витая при этом мыслями. Он ругает себя, дескать, вечно он все делает неправильно, но в молитве ведь не бывает правильно и неправильно, ее надо просто творить. Ты как бы простор себе создаешь, объясняет она. И тогда все вдруг затихает. И только когда все совсем затихнет, ей временами бывает слышен голос, очень издалека и совсем не басовитый, скорее высокий, неожиданно юный, такой голос, что его и попросить нетрудно. Слышишь меня, Господь, говорит она. Прошу, услышь меня. Пусть только заметит, что она тут стоит и ничего невозможного не требует.
В эти дни она странно чувствительна — до того растрогана, что не в силах сдержать слезы, когда от Оттлы приходит посылка: две скатерти и кухонные полотенца, а еще, почему-то, вдруг начинает бояться зимы. Хотя первый снег давно растаял, зарядили дожди, но им тепло и светло, и для тревоги вроде бы нет причин. Франц очень с ней ласков. Он пишет, хотя и не каждый день, он обнимает ее, хвалит ее еду, часто сидит у нее на кухне, почти как тогда в Мюрице.
Предчувствие — не то слово. Просто несколько дней у нее в душе нет прежнего покоя, она места себе не находит от неясного ощущения, что они уязвимы, он и она, пока эти опасения мало-помалу сами собой не сходят на нет.
Франц уже много дней пишет, вид у него усталый, но довольный. Хотя готово пока не все, с концом заминка, но все равно — то, что уже получилось, он хочет ей прочесть. И снова она первым делом невольно думает о том, как красиво он говорит, слушает не столько саму историю, которая по-прежнему кажется ей странноватой, сколько его голос. Выходит, зверь — это сам Франц? Иногда ей хочется думать, что это и вправду просто какой-то зверь, но потом вроде бы она понимает, что это он свою жизнь здесь, в Штеглице, так описывает, хоть и зашифрованно, но не слишком, не настолько, чтобы решающее место до нее не дошло. Ведь он сказал ей, что крепость-склад — это она. Зверю страшно, он работает день и ночь, иногда его донимает голод, но припасы его и впрямь неистощимы, все жилище насквозь пропахло мясом, а мясо, то есть плоть, — это я, с внезапным ужасом догадывается она, и тут как раз следует место, где он этим мясом лакомится, и это такая жуть, что невозможно слушать.
Она и на следующий день еще сама не своя. За окнами уже который час бушует ненастье, Франц прилег, значит, у нее есть время еще раз спокойно все это обдумать. Она — так она чувствует — как будто голая, и что-то ей угрожает, да и обидно ей, но самое странное — ей это нравится. Она — мясо, она — плоть, но совсем не так, как с Альбертом, который ею попользовался и бросил. Она даже не вполне понимает, в чем тут разница. Но сама по себе история все равно ужасная. Неужели его и вправду вот так же страх мучит? Потому что прежде всего это история о страхе. А у зверей вообще страх бывает? В паре мест она даже засмеялась и надеется, что Франц не рассердился на нее за это. Он, впрочем, тут же сказал, что нисколько, и, похоже, наоборот, даже обрадовался, хотя ведь это как раз самые жуткие места и были.
Кашель, говорит Франц, разумеется, всегда тут как тут. С ним все обстоит точно так же, как с призраками, так что его, Боже упаси, лучше не будить, даже говорить о нем не следует, иначе, если выманишь его из его берлоги, от него потом так просто не отделаешься.
Они вместе позавтракали, на Доре его халат, и она сидит у него на коленях. Это все внове — и то, что она сидит у него на коленях, и что он разрешает ей приписывать слова привета в своих письмах, и что все, кто ему пишет, о ней осведомлены и спрашивают, Макс и Оттла, которые здесь побывали, а теперь вот и этот Роберт, про которого она знает только, что он много лет назад с Францем в одном санатории был. И лишь родителям, только им, ничего о ней не известно. Когда он пишет родителям, письма его всегда звучат так, будто он здесь, в Берлине, совершенно один. Он не хочет, чтобы они тревожились, объясняет он. Только когда они не тревожатся, они и его оставляют в покое, позволяют ему тут жить, вот он и пишет всякое, жалуется на дороговизну берлинских прачечных, рассуждает о погоде, которая якобы пока что вовсе не такая уж скверная была, сухо и даже не очень холодно, и туманы редко, сейчас, правда, идет дождь, но не слишком сильный.
7
У истории все еще нет конца, она завершается пока что патовой ситуацией: имеется мясо и жилье, но слышно и приближение могучего врага, которого ничто и никто не остановит. Скажи ему кто-нибудь — в такой-то день ты по-настоящему заболеешь, и заболей он именно в этот день, его бы это нисколько не удивило. Удивило бы его, пожалуй, наоборот, внезапное выздоровление, хотя ведь и такое бывает, в некоторых, правда, очень редких случаях от туберкулеза излечиваются, он как будто сам исчезает без следа. По крайней мере, он много раз про такое слышал, раньше, в санаториях, когда бывал там еще не в качестве легочного пациента, а, строго говоря, даже и не пациента вовсе.
В ее объятиях он иногда верит и в такое. Или, лучше сказать, забывает про то, что, в сущности, в такое не верит, ибо на самом деле вся его жизнь — это неустанная тревога, опаска, вслушивание в себя, даже в ее объятиях, когда, по счастью, ему и что-то еще слышно.
В одночасье нагрянула настоящая зима. На улицах снега по щиколотку, холодно, пасмурно, и, как назло, у него впервые за несколько недель снова температура. Невысокая, но все-таки. Дора немедленно отправляет его в постель, желания писать, что придавало ему вдохновения в последние недели, как не бывало, он чувствует лишь отупляющую пустоту, бездумно листает принесенные Дорой газеты, весь день хандрит, из-за чего она уже всерьез начинает тревожиться, однако кашля нет. Он ощущает страшный упадок сил, что сейчас, к концу года, когда за окном все застыло в студеном, мертвенном оцепенении, даже некоторым образом уместно.
Ночь проходит без особых происшествий. 24-е начинается так же, как окончилось 23-е, у него температура, но кашля нет, он лежит на софе возле печки, а Дора тем временем ушла за последними покупками к праздникам. Но едва она уходит, у него начинается жар. Он мерзнет, его знобит, а все тело будто пылает. Возвратившаяся Дора не на шутку перепугана, тут же звонит врачу, какому-то профессору, знакомому дальних знакомых, тот, в свою очередь, присылает ассистента, доктора лет тридцати, который ничего не находит. Надо ждать, говорит он. Постельный режим — такова его рекомендация, вслед за чем он не упускает означить причитающийся гонорар, совершенно непомерную сумму.
Поскольку ничего, кроме температуры, у него нет, он вообще-то не очень склонен лежать, но в угоду Доре остается в постели, пишет еще одно письмо М., чуть более жалостливое, чем того заслуживает его самочувствие, но так уж между ними повелось. Хотя покамест он пишет о давних хворях, которые настигли и скрутили его в Берлине, ему все дается с трудом, каждый росчерк пера, вот почему он и не пишет в ожидании лучших или худших времен, хотя уход за ним заботливый и нежный настолько, насколько это вообще в силах человеческих, — подобным образом он полагает уместным упомянуть Дору. А больше и сказать особенно нечего. На улице идет снег, за окном уже много часов кряду кружат белые хлопья, на которые так приятно смотреть — словно ты опять вернулся в детство.
На четвертый день температура спадает. Дора просит его оставаться в постели, хотя он считает это излишним. Когда она приносит ему еду и, улыбаясь, присаживается на кровать, вид у нее все еще напуганный. Она признается, что выглядел он ужасно. Прямо как смерть, говорит она, и тут же спохватывается, трясет головой, говорит: нет, господи, да нет же, а потом заливается слезами, потому что именно так она и подумала.
Зима лютует, разрисовывает окна причудливыми ледяными цветами, но он, похоже, снова более или менее в порядке. Только сегодня, на второй день без температуры, Дора отваживается признаться ему, что во время болезни, когда у него был сильный жар, она позвонила Элли, прямо отсюда, из гостиной, — это в тот раз, когда он, не вполне ясно осознавая происходящее, удивлялся, что ее так долго не было. Она раскаивается, что не спросила у него разрешения, кто она в конце концов такая, чтобы его домашним звонить, но она очень испугалась и не знала, что предпринять. Не сердись, просит она, хотя он и не думает сердиться, скорее испытывает облегчение, сам-то он телефон ненавидит. Может, Дора согласится в дальнейшем все телефонные звонки за него улаживать? Потому что его от одного только звука телефонного звонка уже до мозга костей пробирает ужас, а потом он никогда не знает толком, о чем говорить, или все идет вразнобой, как недавно с Элли, люди только перебивают друг друга, перескакивая то на одно, то на другое, зачем-то расспрашивая о совершенно ненужных вещах вроде погоды или как ты спал, а что твой кашель, — все это, сиди они друг против друга в комнате, можно было бы выяснить спокойно, по порядку и без всякой спешки.
Без письма к Элли теперь никак не обойтись, и начинает он его так: я-то подумал, что и вправду случилось непоправимое, может, она половинку голубя на обед купила или еще что-то в этом роде, а оказалось, это всего лишь звонок. Оттле он написал бы совершенно иначе, но с Элли у него всегда такое чувство, будто для начала надо обязательно упредить ее упреки, а кроме того, за шутливым тоном он пытается скрыть, до какой степени тревожит его непрекращающаяся дороговизна, вынуждая временами подумывать даже об отъезде из Берлина. Пока что он делает вид, будто это не более чем игра, в качестве возможных вариантов называет Шелезен, Вену или озеро Гарда, но тут же все их отбрасывает. После Нового года все наверняка пойдет на лад, даже цены упадут, как он слышал, чуть ли не вполовину, а может, и вовсе целиком, и можно будет зарабатывать бездельем, шутит он, не забывая, впрочем, упомянуть, что гонорар за визит врача Доре после телефонных переговоров удалось скостить наполовину.
Может, он потому так не любит говорить по телефону, что голосом трудно скрыть обман? В письмах легко прикинуться, что-то оставить недосказанным, а по телефону все выкладывается прямиком и однозначно. К примеру, свою просьбу насчет бутылочки для мокроты он по телефону высказывать бы не стал. Дело это немного щекотливое, касается их пражской прислуги, которая, он знает, очень хотела что-нибудь ему подарить на Рождество. Рождество давно позади, тем не менее он через Элли все же решается попросить купить ему на фирме «Вальдек и Вагнер» новую стеклянную пробку, сама-то бутылочка, как и резиновая прокладка к ней, у него еще живы, он давно ими не пользовался, а вот пробка — хотя вообще это так, на всякий случай.
Повсеместно и разом вдруг исчезает из продажи спирт. Дора обегала множество магазинов, но все без толку, поэтому она готовит теперь на свечных огарках, это хлопотно, утомительно и немного смешно, но в конечном итоге она как-то справляется. Больше того, еда получается такая горячая, что, того и гляди, язык обожжешь, но все равно — это новый удар судьбы. Они уже целую вечность нигде не были, и даже на обычные почтовые расходы денег едва хватает, о всяких излишествах и говорить нечего.
Желаний на Новый год более чем достаточно, но большинство из них боязно даже помыслить. Дора желала бы никогда больше так не пугаться, как неделю назад; а в новогоднюю ночь она хочет просто лежать с ним в постели. Полночь уже давно миновала, от усталости у нее глаза слипаются и ноги холодные, но это только ноги, а так она теплая и греет его под одеялом. Около двух она засыпает, что само по себе можно считать маленьким чудом, потому что, невзирая на мороз, окна повсюду нараспашку и шум стоит невообразимый, как напишет он потом домой, все небо в ракетах и по всей округе музыка и гвалт.
Им не вечно быть вместе. Иногда он видит ее, одну, без него, лет через десять, когда ей будет тридцать пять и красота ее чуть поблекнет, но одновременно обретет своего рода четкость завершенности. Такой стройной она уже не будет, скорее полноватой, если предвидение его не обманывает, но взгляд — взгляд останется, а с ним и нежность, и живость, и вера в добро.
Однажды ему снится Ф. Впервые за много месяцев он о ней вспоминает — и то лишь потому, что она ему приснилась. Он знает, вернее, слышал — ведь вскоре после расторжения помолвки переписка между ними оборвалась, — что она замужем и у нее дети. Да он и понятия не имеет, о чем бы ей писал. Что наконец-то обрел ту жизнь, которую она с ним вести не захотела? Из всего сна запомнилось лишь, что он как-то был связан с мебелью, с обстановкой огромного салона, они ведь насчет мебели часто препирались.
Оттле он пишет, что Меран[11] — это вообще-то очень даже неплохо. Но пока что он останется в Берлине, где с Нового года, как и было обещано, цены уже слегка снизились, поездка на городской железной дороге до Потсдамской площади стоит на треть дешевле, а литр спирта — чуть ли не вполовину. Несмотря на Дорины опасения, они все-таки поехали в город, погода не такая уж скверная, и действительно иногда приятно побыть на людях, убедиться, что все на своих местах, а цены, как уже было сказано, очень даже интересные, к примеру, венский шницель со спаржей в дешевом ресторанчике стоит — в скобках прописью — целых двадцать крон. Да, морозы сильные, пишет он вечером, но под пуховой периной ему тепло, иногда и в парке под солнышком выпадают блаженные минуты, а уж если прислониться спиной к батарее центрального отопления, то совсем хорошо, особенно когда вдобавок и ноги в теплом мешке греются.
8
Больше всего она радуется, что теперь и родители его о ней знают, так сказать, вполне официально, — знают, что они вместе живут. Все-таки, хотя и немного, ее это обижало, Франц не решался им о ней сообщать, но теперь им о ней известно, она достойна упоминания в письмах с обеих сторон, у нее есть имя, она теперь спутница Франца, и ей даже благодарны, в последнем письме от родителей ее даже доброй феей назвали, почти как в сказке.
Но есть и плохие вести, касательно квартиры. Они имели разговор с хозяйкой, вообще-то лишь потому, что намеревались из соображений экономии от второй комнаты отказаться, а вместо этого выяснилось, что им предлагается снять и третью. Госпоже Ретман нужны деньги, и сумма, на которую она рассчитывает, им, увы, не по карману. Очень жаль, говорит она, а Франц хотел бы знать когда, на что она отвечает, ну, разумеется, не завтра, но к первому февраля, так она думала, впрочем, быть может, для них еще найдется квартира взамен, одна ее знакомая как раз ищет новых квартирантов, прежний жилец там умер.
Совсем иначе, чем в ноябре, но на них вновь, как гром среди ясного неба, обрушивается внезапное выселение. Франц переживает это известие очень тяжело, чувствует себя чуть ли не изгоем, уже и квартире не рад, вообще сомневается в Берлине, может, лучше куда-то еще перебраться. Но куда? Он рассказывал ей о Меране, где побывал много лет назад, но она не представляет, что это такое, к тому же он был там всего лишь в гостях, один, можно считать, на отдыхе. Так что, может, лучше все-таки озеро Гарда, где он тоже уже бывал? Гарда — это почти что море, говорит он, только очень итальянское, по берегам веселенькие деревушки, а вдали горы. И в Меране повсюду горы, она этих гор боится, никогда не думала, что вся ее жизнь может столь круто перемениться.
Она советуется с Юдит. Подруга уже много раз звонила, предлагала встретиться, у нее важные новости. Нет, не мужчина, — это на вопрос Доры: что, мужчина? Ну, то есть, может быть, роняет Юдит, но не то, что ты думаешь. Они договариваются встретиться в Моабите, в кафе, владелец которого — один из ее дядей, и, пока делают заказ, все мгновенно выясняется: Юдит едет в Палестину, самое позднее — этим летом. А мужчину, о котором была речь, зовут Фриц, он еще вовсе не старый, тридцать шесть лет, по профессии врач и давно уже сионист. И вот с ним она едет, будет жить в кибуце на море. А больше между ними ничего, просто он спросил, есть у нее кто-нибудь, с кем она могла бы поехать. А потом: поедешь со мной? Дора рассказывает про Меран, она не знает, хочет она туда или нет. Юдит считает, если вы в Меран собрались, то с тем же успехом можете и в Палестину отправиться. Но нет, это совершенно исключено, на что они там жить будут, не говоря уж о его здоровье, вот только куда же, господи, им податься.
А снег все идет и идет, она думает о Юдит, собравшейся в Палестину, а сама мысленно все время гуляет по горам. Франц тихий ужасно, ему хочется знать, как в конце концов все решится с квартирой, но знакомая госпожи Ретман, как назло, теперь в отъезде, они встречаются с хозяйкой в прихожей, вежливо раскланиваются и расходятся в разные стороны. Однажды, ближе к вечеру, она вдруг стучится к ним вместе с каким-то мужчиной, тот якобы ищет квартиру, но эта, похоже, не особенно его вдохновляет. Он испуганно косится на Франца, возлежащего на софе, пока госпожа Ретман расхваливает достоинства своих трех комнат, заодно делая вид, какая это для нее жалость — таких замечательных квартирантов выселять.
Все опять как-то повисает в воздухе. То кажется, что они все-таки остаются, то прикидывают, к кому из знакомых в случае нужды можно временно подселиться. Или вообще из Берлина уехать? Опять всплывает Меран, она даже понемногу на это настраивается, Меран, почему бы и нет, но тут вдруг Франц заговаривает о Вене, что ее, честно говоря, безмерно удивляет, ведь в Мюрице, помнится, он от Вены камня на камне не оставлял, Вена во всех отношениях совершенно неприемлема, хотя какой-никакой, но все-таки тоже город.
После того приступа жара он почти не писал. Вечерами он садится за стол, но сразу видно, что ему это не по нутру, работа утомляет, только отнимая силы, вместо того, чтобы придавать новых. Иногда ей хочется его отговорить, она напоминает, просит — пожалуйста, только не допоздна, как вчера, вчера он опять полночи просидел. Она слышала, как он пришел, и уже тогда хотела спросить, но не осмелилась, как и сейчас, за завтраком, когда она в его халате сидит у него на коленях и ни одна душа на свете не знает, что с ними дальше будет.
Она так до конца и не поняла, что у него там было с этой М., так мало и неохотно он об этом рассказывал. Кажется, он не говорил дословно — мол, разрушили, — но что-то вроде того, что они друг друга не щадили, во всяком случае, он долго ее ждал, жил от письма до письма и все надеялся, себя изводил, так что это был лишь вопрос времени, и в итоге все распалось само, просто у обоих силы кончились. Раз или два она видела у него на столе письма от нее, почерк на конверте, о котором она еще что-то успела подумать, но все это уже больше месяца назад.
Если он снова заболеет, она и на этот раз, не задумываясь, врача вызовет. Вчера, за ужином, у нее вдруг будто предчувствие какое возникло, очень уж усталым он выглядел, и глаза больные, — и точно, оказалось, у него температура. С тех пор они опять регулярно меряют. А у него и утром легкий жар, до полудня, то подскочит, то опять упадет, и все около 37,5.
Словно одной этой беды им мало, госпожа Ретман объявляет, что все определилось и к 1 февраля им надо съехать, а с квартирой на замену, к сожалению, ничего не получится, она уже сдана. Что ж, в глубине души они к этому готовились, Франц даже шутит, благодаря этому они, мол, теперь по крайней мере с Берлином основательно познакомятся, однако шутка звучит как-то невесело, словно ему вдруг все надоело, но хотя бы про Меран и Вену он больше не упоминает.
Повод для радости по-прежнему дают посылки — то масла кусок, то что-нибудь для хозяйства, посылает, как правило, Оттла или мать, а однажды, хлопотами Макса, приходит пакет помощи от женского союза, какие рассылают бедствующим в Германии иностранцам. Франц мечтал о плитке шоколада или еще о чем-то, чего в Берлине не достать, но вместо этого в посылке только унылые манка и рис, мука и сахар, чай и кофе, что особых восторгов у них не вызывает. Можно, впрочем, испечь торт, и она мгновенно решает, для кого: для детишек из еврейского сиротского приюта, где она в прошлом году подрабатывала швеей. Принимают ее там как ангела-спасителя. Торт съеден в один миг, но детишки все равно ее не отпускают. Голодные, грустные мордашки, огромные черные глазищи. И тут я вдруг запела, рассказывает она вечером Францу. Так они и пели вместе, а потом молились, на прощанье, конечно, слезы, словно они знали, что теперь уже не скоро увидятся.
Для Франца подобные вылазки в город уже немыслимы. Я теперь сугубо домашнее животное, шутит он. Могла ли ты в Мюрице такое себе вообразить? Ведь на пляже я выглядел чуть ли не спортсменом, из кресла-кабинки в воду бежал бегом, и обратно тоже, прогуливался с тобой до дальнего причала, даже в лес с тобой ходил, целых два раза с перерывом всего в несколько дней, а теперь погляди только, в кого я превратился. Он хочет, чтобы она чаще встречалась с другими людьми, пусть не думает, что его нельзя одного оставлять, к примеру, когда спит, он вполне может без нее обходиться. Ты слышишь меня? Когда он о чем-то просит, у него лицо ребенка, она кивает, потом качает головой, словом, она подумает.
Кажется, без него она теперь вообще не сможет спать.
В целях экономии они топят только спальню. Это уже почти как на Микельштрассе, просто поразительно, до чего мало места требуется человеку в случае нужды, по сути, у них всего только и есть что кровать, небольшой столик, стул и шкаф, но вообще-то вся жизнь протекает в кровати, где они даже едят, — правда, потом целый день от крошек не избавишься.
9
Каково его самочувствие на самом деле, сказать нелегко — это не считая температуры и угрызений совести перед Эмми, которую надо было удержать от очередных эскапад, да у него, к сожалению, сил не нашлось. Радоваться особенно нечему. Правда, он спит, у него есть еда, есть Дора, конечно, но в общем и целом он какой-то дохлый, работа встала, это просто еженощный перевод бумаги и не более того — по крайней мере, в последние недели. Ему страшно, что он опять заболеет, но он хотя бы способен эти свои опасения высказать, в длинном письме Максу, в котором, правда, он делает вид, будто все это пустяки: если бы укрепить под ним почву, засыпать пропасть у самых его ног, прогнать стервятников в небе и укротить бурю над головой, — вот если все это сделать, тогда, пишет он, худо-бедно еще можно жить.
Гостей он теперь принимает в кровати, в начале месяца это супружеская чета Кацнельсонов, которые остаются чуть ли не до вечера, тогда как подруга Доры Юдит пробыла лишь чуть дольше получаса. Он иногда даже и от столь кратких визитов устает, но потом вдруг опять ощущает прилив сил, хочет куда-нибудь выйти, он и так без конца все пропускает, сегодня, к примеру, он хочет пойти на чтение «Братьев Карамазовых». Мадемуазель Бугш из Дрездена и чтица-декламатор Мидия Пинес его пригласили, обе пожаловали к ним сразу после обеда, и до сих пор ему ни секунды не было скучно. Особенно симпатична господину доктору маленькая смуглолицая Мидия, разговор идет о великих русских, о различиях между Толстым и Достоевским, об искусстве художественного чтения, обсуждаются даже дальнейшие планы на вечер, после концерта можно еще и по городу прогуляться, но именно эти планы в конечном счете и заставляют его передумать: нет, лучше он останется дома. Он переоценил свои силы. Все удивлены, даже обескуражены, еще пробуют его уговорить, а он даже пытается встать, но именно эта попытка и решает все сомнения окончательно.
Как выясняется, ему, похоже, все-таки есть о чем пожалеть. Дора возвращается с концерта в восторге и с тех пор только об этой Мидии и говорит. Уже семь утра, первый завтрак стоит перед ним на ночном столике, а он все слушает ее впечатления, слушает почти через силу, иногда отвлекаясь мыслями, словно завидуя всей этой оживленной компании, что после концерта еще заглянула на часок в винный ресторан, где не смолкали хвалы в честь Мидии. Как жаль, что она не может рассказать все это как следует, говорит Дора, но она сияет, она все время о нем думала, весь вечер, пока он тут в постели лежал и из-за звонка Элли злился, ибо как только они ушли, позвонил телефон, это оказалась Элли, опять изводившая его своими вечными треволнениями.
А квартиру себе они все еще не подыскали.
Дора поместила объявление: пожилой господин снимет две комнаты, желательно в Штеглице, хотя в этот раз они готовы ехать и в Целендорф, пусть это и отодвинет от них Берлин еще дальше. Иногда ему кажется, что он тут как в заточении. Уже больше месяца в раввинской семинарии не был, даже с Эмми не встречался, только по телефону коротенько поговорил, что оказалось еще хуже, чем встречаться, она была с ним весьма холодна, почти равнодушно рассказывала о своих слезах, о том, как часто и как долго она из-за Макса плакала, но теперь, не сегодня завтра, этому навсегда будет положен конец.
Сидя за столом, он то и дело с досадой спрашивает себя, чего ради он тут расселся, и играет с мыслью, что в новой квартире все будет иначе. Он не может понять, с чего вдруг — то ли от упадка сил, то ли от странного чрезмерного покоя, который никак с себя не стряхнуть, — ему все написанное больше всего хочется просто сжечь.
А между тем грянула оттепель. Январский снег почитай что сгинул, что, конечно, еще не знаменует конец зимы, но теперь, для разнообразия, хотя бы солнышко иногда проглядывает. Он отправляется в парк, сидит на скамейке, той самой, на которой тогда девушка крикнула ему «жид», но, честно говоря, он как-то слишком уж быстро устал, ему и на следующей скамейке приходится сделать передышку, а потом и на следующей и так далее. У ратуши в газетной витрине он на первой странице читает сообщение о том, что умер Ленин, причем, очевидно, уже несколько дней назад. Он даже пугается — до какой степени они оторваны от событий большого мира, но пугается лишь в первый миг, потому что на самом деле ему это по душе, быть может, как никогда прежде.
О деньгах он всерьез никогда не беспокоился.
По их объявлению теперь беспрерывно звонит телефон, но предложения, как правило, либо сомнительны, либо им не по карману, к тому же у него по-прежнему температура, так что большинство адресов он посмотреть не в состоянии. Рассудку вопреки они решают взглянуть на квартиру, за которую без всяких шуток пришлось бы платить три четверти его пенсии, тем не менее они едут две остановки по городской железной дороге, уповая на скидку, которую им конечно же не дают. Квартира, правда, и впрямь чудесная, много лучше их нынешней: две комнаты и кладовка в высоком первом этаже, сама вилла в Целендорфе, утопает в зелени, с садом, верандой для солнечных ванн, электричеством, центральным отоплением, описывает он своим домашним. Мы сходим с ума, говорит Дора. Но именно это, похоже, им и нравится, тем паче что телефон по-прежнему трезвонит без умолку. Последний звонок раздается уже после десяти вечера, голос женский, довольно любезный, во всем идет навстречу и предлагает посмотреть квартиру завтра в первой половине дня. Некая госпожа доктор Буссе. Буссе? Откуда-то он эту фамилию знает. Он справляется в телефонной книге, Буссе, да это же писатель, причем, сколько помнится, он евреев на дух не переносит.
Во время визита выясняется, что хозяйка уже вдова. Муж ее, тот самый писатель, несколько лет назад умер от испанки. Возникает неловкая пауза, дама удивлена, что господин доктор этого не знал, об этом во всех газетах было, в конце концов, не только в берлинских. Ну ладно. Обе комнаты с печным отоплением он находит вполне подходящими, скорее солнечные, если вообще будет солнце, расположены на втором этаже, где, кроме них, никто жить не будет, и местность еще более загородная, чем в Штеглице. Цену тоже непомерной не назовешь, но все равно для них это дорого. Хайдештрассе, 25–26. Из окна дивный вид, и садом можно пользоваться, скоро весна и худшее, надо надеяться, уже позади.
Дольше двух с половиной месяцев они пока что ни в одной квартире не продержались.
Несколько дней настроение колеблется между опустошенностью и надеждой. Два просмотра, пожалуй, были для него немного чересчур, но в общем и целом он ничего, не кашляет, температура тоже не скачет, все вокруг него покойно, да и внутри тоже — ни единой путёвой мысли, ни одной точной фразы и вообще никаких идей.
На прощание они идут прогуляться по округе, словно они здесь в последний раз, хотя, казалось бы, в любое время могут приехать сюда снова. В Ботаническом саду они видят старую лисицу, та стоит под сосенками и спокойно на них смотрит, без всякого страха, словно поздороваться вышла. Вот и кончился Штеглиц, говорит доктор, а Дора добавляет, что ей тут очень понравилось, это было самое счастливое время в ее жизни.
Вдруг позвонил Макс, он в городе, приехал объясниться с Эмми. После обеда заезжает ненадолго. У них с Эмми все в разброде, по-человечески ни о чем поговорить не могут, что-то еще дорого, но все уже разрушено, вот он и решил их с Дорой навестить, хоть немного мыслями развеяться. Советы тут не помогут. Большую часть вещей Дора уже упаковала, но теперь хватит, будет чай, печенье, а потом долгое чтение обеих последних историй. Дора давно этого хотела, она так рада, что все это уже слышала и знает, в то время как Макс сидит на своем стуле, как пришитый, потом долго молчит и, наконец, изрекает что-то очень красивое насчет подземных сооружений.
10
В день переезда он заболевает. У него жар, он весь горит, но, как и в декабре, ни на что не жалуется, странно бодр, ничуть не обескуражен, скорее раздосадован, что опять не сможет помочь, лежит в постели и изумляется, сколько вещей придется перевозить, с сентября их хозяйство изрядно разрослось.
Погода для переезда не самая подходящая. На улице дождь и вдобавок сильный ветер, но Дора не ропщет, к тому же она не одна, ей вызвалась помочь Реа, знакомая девушка из Мюрица, они недавно случайно в городе встретились, поболтали о прошлом лете, и попросить ее оказалось совсем не трудно. Но от станции путь неблизкий, пешком четверть часа, а багаж увесистый, время от времени они останавливаются передохнуть, но Дора торопит, она встревожена и новым приступом жара, и тем, как странно он улыбается, словно ему что-то такое известно, что ей и не снилось. Они делают две ездки, так что часам к пяти уже почти все перевезено, остаются только мелочи. Поскольку Францу в такую погоду на улицу никак нельзя, решено взять авто, хоть это удовольствие совсем недешево им обходится, но зато уже вскоре дело сделано. Это в последний раз, говорит Франц, и Дора тоже думает: да, этот раз — последний, другой квартиры у них в Берлине уже не будет.
Опять потянулись часы между тоской и надеждой. Но все равно это так сладостно — все время за ним ухаживать, проверять, заснул ли он наконец, потому что время от времени он все-таки спит, тогда она может украдкой поцеловать его в лоб или просто постоять, посмотреть, как он тихо дышит, как почти незаметно поднимается и опускается его грудь. На улицу ему по-прежнему ни в коем случае нельзя. А их пригласили на вечер Людвига Хардта[12], он, среди прочего, и какие-то вещи Франца будет читать, так что они с удовольствием бы пошли, но сейчас об этом и думать нечего. Франц отказывается, пишет коротенькое письмецо, передать которое просят все ту же Реу, потому что гостиница, где Хардт остановился, на другом конце города, и так надолго оставлять Франца одного Дора не хочет.
Но к сожалению, что-то с этим письмом не задалось. Очевидно, до адресата оно не дошло, во всяком случае, ответа нет, поэтому срочно пишется второе. На сей раз передать его должна сама Дора, и она действительно идет на вечер и слушает художественное чтение знаменитого артиста. После концерта ей совсем не просто к нему пробиться, вокруг него целая толпа, все задают вопросы, осыпают его комплиментами, хвалят манеру исполнения, особенно сильное впечатление производит история про обезьяну, ставшую человеком[13]. Я Дора, говорит она, я принесла вам письмо. От волнения она называет только имя Франца, он, к сожалению, болен, говорит она, а ей вечер очень понравился. Артист не сразу понимает, о ком речь, потом читает письмо, сожалеет, что Францу нездоровится, говорит, что с удовольствием бы к ним заглянул, но уже завтра с утра, первым же поездом он, увы, уезжает.
Франц огорчен, но не слишком, хотя он Хардта уже много лет не видел и не слышал. Про историю с обезьяной Дора мало что может сказать. Мне ее жалко, говорит она. Разве это не ужасно, что она должна стать такой же, как мы? А сама спрашивает себя, как вообще можно до такого додуматься. Одна кличка чего стоит — Рыжепятый. А что его родители про эту историю думают? Они ведь тоже этот концерт Хардта слушали и потом об этом написали, но у них все совсем иначе было, чем в Берлине, где в зале вообще свободных мест не осталось, а там, в Праге, кроме них, почти и не было никого.
Больше всего Франц страшится приезда матери. Температура то есть, то ее нет, с этим вполне можно жить, но что, если, не приведи Бог, сюда, в квартиру, заявится мать. К сожалению, подобные планы, судя по всему, давно вызревают, вот уже и дядюшка изъявил желание взглянуть, что к чему, он выслал приличную сумму на непредвиденные расходы, и уже только поэтому визит его, судя по всему, неотвратим. Франц стонет, для него это сущий кошмар, ибо, стоит им оказаться в Берлине, они начнут его отсюда вытаскивать, в то время, как Дора видит в подобном визите и благоприятные стороны, в конце концов это его мать, они наконец-то смогли бы познакомиться и вместе обсудить, как быть дальше.
Послушай, говорит она. И так несколько дней, снова и снова. Вечером в постели, когда он спит и когда она верит в свои силы. Послушай. Все не так уж скверно, а там будь что будет, и всякие прочие увещевания дурацкие, которые она, к сожалению, только нашептывать может, потому что все давно решено, с самого начала, по крайней мере в ней самой, что бы там с ним ни случилось.
Незадолго до переезда он написал своей тете, которая живет в местечке под названием Лимериц, и та только теперь ему ответила, к сожалению, не слишком любезно, очевидно, решив, что они с Дорой надумали поселиться у нее. А он всего-навсего попросил разузнать, не найдется ли там для них подходящего жилья, две-три комнаты с мебелью, в вилле, желательно отдельных.
Других новостей вроде бы и нету.
У открытого окна он лежит на солнце в кресле-качалке и пишет родителям, что в ближайшие дни, возможно, рискнет выбраться на веранду.
Он лежит в постели, листает свои тетрадки и только сокрушенно качает головой — до того скудна выработка последних недель. Дора тщетно пытается его утешить. Он корит себя, что мало старался, слишком подолгу в постели нежился. Но ты же болен, возражает она. И в декабре уже ты болел, ты что, забыл? Но он все равно не унимается. Полжизни просвистел. Почему так мало о главном думал? Как ребенок, говорит он. Но ребенок уходит в жизнь, он покидает кроватку, в то время как со мной все наоборот, вместо того чтобы уходить в жизнь, я только и знаю, что заползать обратно в кровать и все больше в одеяла кутаться.
Он сообщил домашним их нынешний телефонный номер, но с условием, что сам он к телефону подходить не будет.
Он еще больше похудел, и всякий раз, когда встает, видно, насколько он изможден. Готовить она считай что перестала, покупает овощи и фрукты, приносит ему пахту — это обезжиренные сливки, их еще масленкой зовут, — свой поцелуй, иногда газету.
Постепенно все они начинают звонить, сперва Элли, потом Оттла, потом мать. Телефон внизу, в общей прихожей, говорить там не слишком удобно, к тому же холодно, когда разговор затягивается, у нее зуб на зуб не попадает. С Элли, пожалуй, проще всего. Та ей душевно не особенно близка, поэтому можно немного и приврать, приукрасить, хотя похвастаться особо нечем, квартира у них теперь довольно шумная, не такая уютная, как предыдущая. К тому же погода холодная, да, признается она, из дома они почти не выходят, но Франц, Франц ничего, вполне прилично, хотя в основном лежит, у него небольшая температура, — хотя на самом-то деле у него жар. В разговоре с Оттлой она уже ни о чем не умалчивает. Франц похудел, ослаб, она делает все, что в ее силах. На это Оттла: мне так жаль, вы такие были счастливые. Она пытается Дору утешить, в декабре тоже ведь была температура, а потом спала, однако и она встревожена, Берлин ему не на пользу, но говорится это без тени упрека, не то чтобы она Дору в чем-то винила, напротив, она считает: Дора с самого начала была для него истинным счастьем.
Вечерами, когда она сидит у его постели и либо шьет что-нибудь, либо просто за ним спящим наблюдает, она иной раз себя спрашивает, кто же он такой все-таки. Тот ли он, кого она сейчас видит, — больной, горячий от жара человек, с которым она живет, который ее целует, иногда читает ей вслух, эту странную историю про обезьяну, иногда письмо, когда родителям пишет и делает вид, будто все в порядке и ничего особенного. Он сейчас отвернулся к стенке, поэтому лица его она не видит, но знает — с недавних пор в его лице, сдается ей, что-то переменилось, оно вроде как будто светится, но совсем не так, как в тот раз, ночью, когда он ее разбудил. Теперь это, наверное, болезнь. Хотя до сих пор она о его болезни вообще как-то не думала, словно это его бывшая возлюбленная, нечто из его прежней жизни, к чему она лично нисколько не ревнует. Она не может толком эту мысль додумать, вроде даже и не скажешь, что ей страшно, она просто отмечает это про себя как данность и не хочет торопиться с выводами.
11
Разумеется, кое-чего ему в нынешнем его состоянии недостает, но это не так болезненно, как он предполагал, — пожалуй, прогулок, но при таких сугробах они превратились бы в настоящие экспедиции, вообще движения, света. Город вот уже которую неделю далек от него, как Луна. Для разнообразия он решает встать, ведь к ним на заснеженную Хайдештрассе пожаловал Рудольф Кайзер из журнала «Ди Нойе Рундшау» — пожаловал и глазам своим не верит. Но доктор уже привык, что старые знакомцы при его виде пугаются. Лежа на софе, он подает явно потрясенному Кайзеру руку, что-то говорит насчет прошедшей ночи, которая и вправду была так себе, да и все последние дни тоже были не ахти. Но он держится молодцом, улыбается, да и чувствует себя довольно неплохо, за ним ведь вон как ухаживают. Дора, как всегда, приготовила легкое угощение, да, признается он, без Доры ему бы в Берлине не выжить, перед этим незнакомым мужчиной, который для него как посланец из былой, недосягаемой теперь жизни, он чуть ли не в любви ей объясняется. Разговор весьма оживленный, о книгах, о театре, общих знакомых, но в таком тоне, будто для него все это раз и навсегда кануло в прошлое, отчего доктору делается немного не по себе. Неужто он настолько плох? Дора рассказывает о превратностях их жизни в последнее время, упоминает, как готовила на свечных огарках. О его работе, полагает доктор, в нынешних обстоятельствах спрашивать неуместно, однако нет, Кайзер интересуется, и он вынужден мямлить что-то уклончивое, мол, не о чем и говорить, что лишь усугубляет неловкость, потому что теперь Кайзер принимается воздавать ему хвалы, говорит о его опубликованных вещах, проявляя поразительную осведомленность, даже цитирует на память то место из «Кочегара», где юный Росман смотрит на статую Свободы, после чего, пожелав всего наилучшего, наконец откланивается и уходит.
Как всегда после долгого визита, доктор назавтра весь день остается в постели, что, однако, вовсе не означает, будто утром он не встанет, не побреется перед зеркалом в ванной, где он еще некоторое время будет пристально себя разглядывать. Он и вправду стал выглядеть как ребенок, яснее это трудно определить, но бросается в глаза странное выражение лица, будто он полжизни употребил на то, чтобы казаться чудаковатым десятиклассником, а едва добившись желаемого, немедленно скатиться совсем уж в детство.
Мыслей Доры он не знает. Она не говорит ему, каким его воспринимает, вероятно, потому, что для нее это слишком очевидно и она не хочет его огорчать, как будто перемен к худшему, пока их не назовешь, и не существует вовсе. Ему, к примеру, стали велики его костюмы, все висит и болтается, как на вешалке, даже в нательном белье явно не хватает тела. Уличные ботинки, правда, вроде бы ему еще впору. Но когда он в последний раз их надевал, свои уличные ботинки? У него даже голова как будто сморщилась, возможно, это из-за ушей, которые, он знает, растут до глубокой старости. Но до старости он не доживет. Он это знает давно, сколько себя помнит. Он умрет относительно молодым, примерно в нынешнем своем возрасте, без малейших признаков старческой умудренности.
Не в первый раз он спрашивает себя, что после него останется. Он сочинил три негодных романа, дюжины две историй, а еще множество писем, которые он писал всю жизнь, главным образом женщинам, что были вдали, он снова и снова писал им письма, оправдываясь и объясняя, почему сам он вдали, а не живет с ними.
Он слаб, чувствует себя разбитым, но вместе с тем он полон решимости. Уже подумывал, не стоит ли попросить Дору кое-что из его писанины прошедших месяцев уничтожить, по сути, все, кроме двух последних рассказов. Как знать, настоящие свои истории он еще не написал, может, это все еще впереди, когда кончится ужасная зима и он снова наберется сил, не важно где, где угодно.
Хоть погода установилась. Можно на веранде погреться на солнышке, наслаждаясь теплом и заботливостью Доры, которая следит, чтобы он был хорошо укутан одеялом. Она приносит ему почту, что-нибудь поесть, стакан молока или сока, а он в ответ ласково, почти блаженно на нее смотрит, покуда после обеда она не приходит с открыткой от дядюшки, в которой тот уведомляет о своем приезде. В чем дело? — спрашивает она, а он, сразу поняв, что это конец: они послали дядю. В тот же вечер он пишет жалобное письмо родителям, прикидывается удивленным, хотя на самом деле он в ярости и из последних сил пытается сопротивляться: для тревоги ни малейших оснований, а Целендорф дядюшке совершенно не интересен, чего ради тому пускаться в такую даль.
Но на следующий день дядюшка уже здесь. Не потеряй они в суматохе переезда его телефон, это путешествие еще можно было в последнюю минуту предотвратить, но теперь ничего остановить уже нельзя. Почти сразу после обеда в дверь звонят, и не проходит и пяти минут, как приговор дяди уже вынесен. Доктору срочно нужно на курорт, Берлин для него смерти подобен, как можно скорее надо определить его куда-то на лечение, в Давос, куда-нибудь в горы, но ради всего святого, прочь, скорее прочь из Берлина. Дора просит его хотя бы присесть, но дядюшку уже не собьешь, между делом он заодно успевает на бегу произвести инспекцию квартиры, явно его не устраивающей, хотя потом он и отзовется о ней как о довольно уютной, правда, конечно, бедноватой, но все же совсем не такой ужасной, как опасались родители.
После этого вопрос о санатории вообще уже не обсуждается. Дядюшка возмущен ценами, но не устает нахваливать город, совершает длительные прогулки, от великолепной Потсдамской площади по Лейпцигской улице до самой Александерплац, в кафе «Йости» успевает подслушать беседу двух антисемитов, чья глупость просто написана у них на физиономиях. Таковы его первые впечатления. В целом он ожидал гораздо худшего, правда же состоит в том, что он Берлин любит, включая даже их загородную Хайдештрассе, на которой он настойчиво уговаривает Дору сходить с ним в театр, молодой женщине негоже сидеть взаперти, надо бывать в обществе. Он расспрашивает ее о семье, о том, как она оказалась в Берлине и что было до Франца. Однажды, когда она ненадолго отлучается, он уважительно хлопает доктора по плечу, девушка у него и вправду очаровательная, такая заботливая, самоотверженная, и скромная к тому же.
Дядя ночует в пансионе с завтраком на озере Ванзее, поэтому раньше одиннадцати, до второго завтрака, к ним не приходит. На третий и последний день его визита настроение лучше, чем прежде, и они коллективными усилиями пишут матери открытку, причем подведенный дядей итоговый баланс выглядит совсем не плохо: он полагает, что в Целендорфе Францу живется вполне хорошо. Но опасность эвакуации сохраняется. Вечером Дора сопровождает дядю на литературный вечер Карла Крауса[14], которого доктор вообще-то не особенно ценит, но что из того, Дора в восторге, она замечательно развлеклась, и потом тоже, когда они с дядей до полуночи просидели в пустом кафе, еще раз обсуждая все возможные варианты.
На прощание дядя заявляет: ты сам знаешь — тебе нельзя здесь оставаться. Я прекрасно понимаю, тебе это не по душе, но другого выхода, к сожалению, нет. Посмотри на себя, говорит он, посмотри на Дору, она того же мнения, что и я. Ситуация в целом скорее неприятная, вид у дяди невеселый, Дора только кивает, измученная, расстроенная, но и, как ему кажется, с явным облегчением, словно только что поняла, какую ношу в его лице на себя взвалила.
Доктор в последнюю секунду все-таки дает обещание. Он уедет из Берлина, с тяжелым сердцем, с крохотным остатком надежды в душе. Может, им надо просто переждать. Терпения набраться, говорит Дора. А у меня терпения на всех хватит, и тут же начинает перечислять доводы, почему нельзя иначе и почему для нее это никакая не беда, она к нему куда хочешь приедет. Она сегодня говорила по телефону, с Юдит.
Юдит всегда ей духу придает, поясняет она. Так что место, куда ехать, ей безразлично, и Юдит так считает, она передает привет.
Роберт ему написал и прислал плитку шоколада. Надо бы сразу ответить, поблагодарить, но в такой душевной смуте ему не до переписки. К полудню выпадает немного снега, потом выглядывает солнышко, он отваживается выбраться на веранду, ненадолго, он скорее растерян, чем угнетен, и некуда деться от чувства бесполезности всего и вся.
На следующее утро он решает заняться бумагами. Лежит в постели, вроде бы даже бодрый, зовет ее и четко объясняет, что принести и откуда, — пусть все несет, тетрадки, письма, отдельные листки. Что самое приятное — она безропотно это делает. Удивлена, конечно, и растеряна немного, слишком уж это внезапно, неожиданно как-то, но она все делает, как он сказал. Ему слышно, как она ищет, как шуршит бумагами, как споро, с интервалом в несколько минут, выдвигаются и задвигаются ящики. Обе истории у него при себе, в постели, он еще раз их проглядел, но все остальное — долой, долой. Это все бесполезный хлам, говорит он, время от времени надо избавляться от балласта. Однако набирается приличная груда, он не ожидал, что это так затянется. Дора на коленях стоит возле пылающей печки, бросает в огонь бумагу, листами и небольшими пачками, пережидает, пока пламя справится с очередной порцией, а он смотрит на ее согбенную спину, голые ноги, пятки. И только когда дело окончено, она желает знать: зачем? Разве так лучше, я имею в виду: для тебя? И он отвечает, да, я полагаю, как-то легче, что-то вроде уборки, а ведь большая часть бумаг у него даже не здесь, старые дневники у М., а остальное дома, в его комнате, у родителей.
Ночью они говорили о Доре — что с ней будет, когда он отправится в санаторий. Она будет с ним рядом, комнату снимет, будет его навещать, все это где-нибудь в лесистой местности, где погулять можно и на скамейке посидеть, на весеннем солнышке погреться. Она уже даже радоваться начала, говорит она, дядя ведь не зря, наверно, так за этот Давос ратовал, но вообще-то ей все равно где, она каждому дню, проведенному рядом с ним, будет благодарна. Сейчас, утром, за завтраком, он мог бы рассказать ей, что раздумывает над новой историей, пока еще не слишком отчетливой, вчера, когда она давно уже заснула, у него родилась задумка, нечто вроде итога, опять как будто про животных, но и про музыку, про пение, и как это все взаимосвязано. Может, она и сочтет это добрым знаком, думает он, и точно, она и вправду ужасно рада, что у него планы на будущее, жизнь продолжается, на худой конец даже и в Праге — в порядке исключения можно упомянуть и это противное название, — потому что в крайнем случае он возьмет ее с собой даже в Прагу.
12
Пусть отъезд из Берлина, можно считать, дело почти решенное, в ее жизни по-прежнему выпадают счастливые мгновения — после обеда, когда она юркает к нему в постель, или когда он ест, его взгляд, признательность, хотя это она должна быть за все благодарна, его рукам и даже ногам, да, за то, что так исправно к ней ходили, там, в Мюрице, в самые первые их дни. Как раз потому, что им, скорей всего, придется уехать, она и этими днями не может пренебрегать, ведь это дни рядом с ним, их совместная жизнь. Она неохотно уходит из дома, покупки старается делать поблизости, да только поблизости многого не купишь, ей довольно далеко приходится бегать, и она всякий раз боится, сама не знает чего, когда через час или дольше возвращается и его слышит, и по первому же звуку его голоса тотчас узнает, что с ним и как.
Вот уже несколько дней у него кашель сильнее, чем когда-либо прежде. Вообще-то она раньше и вовсе его кашля не слышала, зато теперь нагоняет упущенное с лихвой, у него настоящие приступы, продолжающиеся иногда часами, что утром, что вечером. Франц ее тогда гонит, ведь он пользуется своей бутылочкой и не хочет, чтобы она это видела, а сама бутылочка у него теперь, похоже, все время полная. Однажды она его спросила, что там и как, и даже видела мельком, и тут он почти всерьез разозлился. Температура у него постоянно около 38, но из-за этого он нисколько не тревожится, так он сказал, лежит на веранде на солнце и единственно, чего боится, это санатория.
Они по-прежнему настраиваются на Давос. Франц спросил, не поехать ли им вместе через Прагу. Потом вдруг на короткое время всплывает другой санаторий, в Венском лесу, домашние изо всех сил стараются подыскать для него что-то подходящее. Франца, как всегда, не устраивают цены, но об этом она и слышать не хочет. Неужели ты для себя чего-то жалеть будешь? Мне вот для тебя ничего не жалко. По утрам, когда надо вставать, она долго раздумывает, что ей сегодня для него надеть, потом в ванной прихорашивается, румяна накладывает, но чуть-чуть совсем, ровно столько, чтобы он не заметил.
Франц спросил ее, что бы ей хотелось в подарок на день рождения. Из-за кашля он иногда по нескольку минут ни слова выговорить не может, даже стоя, даже на ходу, потому что, когда кашель совсем сильный, он встает и пытается ходить, медленно, небольшими шажочками, а сам просто сотрясается от кашля. И отмахивается, мол, не сейчас, дает понять, что все это глупо ужасно, и даже улыбаться пробует, хотя это не улыбка скорее, а почти гримаса.
Полночи он прокашлял, из-за чего в день ее рождения оба они совершенно без сил. Но все равно она надевает зеленое платье, ведь он всегда говорил, что для него это Мюриц. Он и на сей раз не преминул заметить, до чего восхитительно она в этом платье выглядит, а еще, что он при этом всегда о ее матери думает, ведь без нее у него бы и самой Доры не было.
В угоду ей он пытается есть, просит ее купить себе от него цветов, а она и в самом деле около полудня выходит из дому, чтобы купить букетик нарциссов. А когда возвращается — он опять уже совсем болен. Он спит, она сидит возле его кровати, трогает лоб, совсем горячий, и тут он начинает бормотать что-то невнятное, бессвязное, но как-то легко, просветленно, даже очнулся на миг, улыбнулся ей и снова впал в забытье.
Им срочно нужен врач. Тут она вспоминает, что в Бреслау, много лет назад, она как-то познакомилась с одним доктором, он, как и она, потом перебрался в Берлин и работает в Еврейском госпитале. Доктор Нелькен. Сперва она его не застает, просит перезвонить. Два часа спустя, так и не дождавшись ответного звонка, звонит сама, на сей раз удачно, да, Бреслау, он помнит и обещает приехать как можно скорей.
Вид у Франца ужасный. По такому случаю он встал и оделся, врача принимает в костюме, описывает свое самочувствие, позволяет себя осмотреть. Тут мало чем поможешь. Врач, низенький, жилистый человечек, говорит им то, что они и без него знают. Им надо отсюда уезжать. Я так и думал, роняет Франц. В эту минуту он ужасно от нее далек, стоит у окна, опираясь на подоконник, совсем чужой, и смотрит с улыбочкой, то ли смущенной, то ли снисходительной, словно хочет этому доктору Нелькену сказать, что его визит, к сожалению, был только напрасной тратой времени.
Поскольку от гонорара доктор Нелькен отказался, Франц на следующий день посылает ему книгу о Рембрандте. Она относит книгу на почту и, расстроенная, грустная, долго стоит в очереди. Не то чтобы Франц прямо ей попенял за вызов врача, но она прекрасно поняла, что ему это было неприятно. И если она еще и Элли по телефону об этом расскажет, он, наверно, еще больше будет недоволен, она стоит внизу в прихожей и говорит только то, что и так известно, хочет узнать, нашелся ли уже подходящий санаторий, но, увы, там на поиски брошены все силы и во всех направлениях, однако пока, к сожалению, безрезультатно.
Может, им и вправду вместе в Прагу уехать? Для Франца, похоже, тут и сомнений никаких нет, да, в Прагу, но только на несколько дней, прежде чем отправиться дальше в Давос, как и предполагалось по плану. Без нее он и шага не сделает, уверяет он, сколь ни странно все это будет выглядеть в доме родителей, сколь истово еще несколько недель назад он этой мысли ни противился. Они долго говорят о городе, о том, что он ей покажет, если, конечно, будет в состоянии. Настроение у него хорошее, его издательство прислало ему договор на новую книгу, и даже деньги обещают заплатить еще до того, как книга выйдет, причем, как он утверждает, какую-то баснословную сумму, — он потом весь день этому радуется.
Насчет Праги она не знает, как быть.
Впервые к ним на Хайдештрассе приезжает Юдит, привозит конфеты — это запоздалый подарок Доре ко дню рождения — и пытается их обоих подбодрить. Франц лежит на веранде и сетует, что они так мало друг друга знают, хотя столько было времени познакомиться поближе, а теперь вот им всем разъезжаться бог весть в какие стороны. Выясняется, что Юдит едет даже не в мае, а совсем скоро, в конце месяца. Франц дает ей адрес Бергманов, на случай, если ей понадобится помощь или возникнет желание поговорить на древнееврейском. Он надеется, что она будет им писать, ведь, как и очень многие другие, он о Палестине только мечтал, а вы-то действительно едете, пожалуйста, не забывайте нас. Звучит это печально и даже по-деловому, но уже вскоре он снова шутит, ничего, зато в самое ближайшее время, если все будет благополучно, он жутко разбогатеет и даже прославится, будет знаменитостью не меньше, чем сам Бреннер[15].
Деньги от издательства еще не поступили, а он уже начинает их тратить. Пишет Элли, что хотел бы покрыть все свои долги перед семьей, купить богатый подарок матери, а также что-нибудь для их прислуги и для Доры. В Праге они вместе отправятся по магазинам, купят Доре новую сумочку, красивую автоматическую ручку, чтобы писать, и вообще все, что она только пожелает.
Только бы ей никогда, никогда больше не пришлось ему писать.
Тем не менее в Прагу ей пока что нельзя. Они еще раз это обсудили, у родителей ей толком жить негде, пришлось бы в гостиницу, но пока неясно, когда и как все определится с санаторием, как только он будет об этом знать, она тут же к нему приедет. Таким убитым она никогда еще его не видела. День ото дня он все тяжелее переживает прощание с Берлином, разлуку с ней, конец своей свободы. Как я вообще смогу жить без тебя? Ты можешь мне объяснить? Он давно не говорил ей, что она для него значит, пусть даже это и вовсе не так. Они сидят на софе, она думает — еще только вот этот, последний раз, она прильнула головой к его плечу, ах, дурачок ты мой, дурачок.
Назавтра они ждут Макса. Они перезванивались, долго утрясали сроки, но он сразу же изъявил готовность отвезти Франца в Прагу. Пока что все их пожитки еще на своих местах, там, куда их занесло течением повседневной жизни, на софе раскрытая книга и ее шитье, его пиджак на спинке стула, белье и одежда в шкафах, его тетрадки. Вечереет, но на улице еще светло, чувствуется, как отступает зима, они мечтают о весне, о разных путешествиях, которых, возможно, так никогда и не будет, даже в хорошие времена, раз уж нынешние хорошими не назовешь, в чем, увы, не приходится сомневаться.
Часть третья. Уход
1
Макс обещал вернуться ближе к вечеру, так что он может еще поработать. Чувствует он себя неважно, однако уже несколько дней, как снова пишет, без устали, — рассказ про пение, вернее, скорее, про писк, ведь история-то про мышей. Он снова почти счастлив, все еще в этой комнате, все еще с Дорой, что сидит на софе и допускает его к столу, быть может, в последний раз, ибо сейчас все и вправду очень похоже на то, что этот раз последний. Дора сказала, что ей нравится имя. Жозефина. Это ты? Мышь-певица? Это она, похоже, уже научилась понимать, пишешь вроде как о зверях, исключительно и только о зверях, но это лишь для примера, точно так же и «Я» может быть таким же примером, потому что в этот раз он конечно же, хоть и своеобразным способом, о себе пишет. Его занимает восприятие толпы, сама публика, которая упивается искусством Жозефины, в то же время не придавая ему такого уж большого значения, даже после ее смерти, ибо понятно, что однажды голос Жозефины оборвется. До отъезда в Давос он хотел бы закончить. Дальнейшее он вообще не загадывает, для него этот Давос пока что только название, а для страха ему и Праги хватает за глаза. Дора больше всего хотела бы поехать с ним, она завидует Максу и из-за этого даже немного на него злится, ну да это ведь всего на несколько дней. К тому же кому-то надо ведь и с квартирой разобраться, и в Народном доме у нее еще дела, а для Макса такое путешествие — вещь привычная.
Поговорить в тот вечер толком не удалось. Макс устал с дороги, сразу же снова умчался, у него встреча была, и не с Эмми, о которой вообще ничего не слышно, уже несколько недель. Он привез два больших чемодана, приветы, был, как обычно, заботлив, впрочем, пожалуй, озабочен он был больше обычного, да что там, он был просто потрясен, и за Дору очень переживал, что все так кончается. Мне так жаль вас обоих. Дора тут же расплакалась, отчего Макс еще больше растерялся и, донимаемый, как это частенько с ним бывает, угрызениями совести, в следующие два дня у них почти не показывался. Дора начала паковать вещи, а доктор тем временем пишет успокаивающее письмо родителям, благодарит за посылку, за великолепную новую жилетку, за масло. Их прислуга вызвалась освободить для него свою комнату, за это он тоже обязан поблагодарить, и нет, спасибо, дядюшкиному слуге вовсе не нужно в понедельник вечером приезжать на вокзал, чтобы его встретить, и Роберт, пожалуйста, пусть остается дома в Праге, судя по всему, они там в связи с его приездом всех переполошили. Дора чуть ли не поминутно спрашивает, что делать то с тем, то с этим, она пакует три чемодана одновременно, что-то снова вытаскивает, потом опять укладывает, белье, бумаги, а первым делом костюмы, которые он здесь, в Берлине, носил, перчатки, мешок для ног. В какой-то момент он просит ее прерваться. Я тут, говорит он, как будто она не знает, где он, она оборачивается, — и вот он, этот ее взгляд, который он так любит и который сейчас чуть не переворачивает ему всю душу.
Проходит субботний вечер, воскресное утро. Пишется тяжело, но все равно почти две страницы он сделал. Последние совместные трапезы, последние прикосновения, хотя оба и делают вид, будто все по-прежнему. Дора даже уезжает на два часа в Народный дом, там новые детишки прибыли, тут же мчится обратно, влетает в комнату, в его объятия, прямо в пальто, почти как тогда в Мюрице. Потом приезжает Макс. Говорят о Давосе, попутно немного и о его истории, которую он как можно скорее должен им прочесть, вот только вопрос, где и когда. Все по-прежнему твердо рассчитывают на Давос, куда, согласно последней диспозиции, его сопроводит дядя, так что они с Дорой договариваются снова увидеться уже в Давосе, совсем скоро, уже в начале весны, когда в горах особенно прекрасно. Это если верить Максу, он единственный был в Давосе, а Дора вздыхает, ах, весна, когда же она наконец наступит, ведь на улице хотя и солнечно, но все еще прохладно, да и ветер.
Расставание проходит тяжело и явно затягивается, похоже, прощаниям конца не будет, утром за завтраком, потом в машине по пути на вокзал и, наконец, еще раз, перед отходом поезда. На Доре от усталости лица нет, ведь они почти не спали, полночи точно, когда она лежала в его объятиях, безмолвно, он даже решил, что она заснула, но нет, она не спит, просто волнуется перед его отъездом, перебирает в уме, не забыла ли чего, опять, уже в сотый раз, наверно, повторяет, что это на несколько дней всего и как она с ним была счастлива, с первой секунды и всякую минуту она была с ним счастлива. Она еще и на перроне Анхальтского вокзала это повторяет, потом вдруг спохватывается, мчится куда-то и возвращается со свежей газетой и двумя бутылками воды, какая-то вдруг вся заполошная, потому что самое главное забыла, как же я могла забыть сказать тебе, ведь это самое важное. Но уже поздно, им с Максом надо в купе, уже два раза звонили, и вот она уже на перроне, стоит, машет, а вот ее уже и не видно.
Еще час после этого он словно оглушен, голос Макса доносится будто сквозь вату, тот, впрочем, говорит немного, две-три фразы, что-то о Доре, и никаких утешений, никакого вранья насчет его скорого выздоровления, нет, он говорит о счастье, которое своими глазами видел, и не только недавно, на перроне, когда она совсем убитая там стояла. Где-то на подъездах к Дрездену он наконец засыпает, каким-то несладким, пустым, прерывистым сном, в коротких просыпах ловит на себе неотрывный, тревожный взгляд Макса, который трогательно щупает ему лоб и сулит всяческую помощь, покуда наконец из-за последнего поворота не показывается ненавистная Прага.
Когда Макс его привозит, они, конечно, все в сборе: Оттла, Элли, Валли, родители, прислуга и дядя. Прежде всего, пожалуй, со стороны отца он ощущает волны разочарования и горечи, какое он наказание для семьи, все, конечно, встревожены, но и раздосадованы, Берлин был только переводом времени и денег, а теперь вот можно полюбоваться, чем это кончилось. По счастью, рядом Макс, он всегда действовал на родителей успокаивающе, они и говорят сейчас практически только с ним, спрашивают, как доехали, останется ли он поужинать, от чего Макс учтиво и многословно отказывается. Ему пора, поздно уже, да и Франца надо срочно в постель уложить, — и только тут, словно очнувшись от спячки, они все, как по команде, кидаются за ним ухаживать, дядя несет багаж в его новую комнату, прислуга заранее извиняется за неудобства этой комнаты и только Оттла ласково гладит его по руке и спрашивает, как Дора.
Вот уж он не думал, что когда-нибудь снова вернется в Прагу. Этого возвращения он всегда опасался, но в нынешних обстоятельствах ему, пожалуй, уже не до того. Он рад, конечно, что Дора его сейчас не видит, в этой жалкой, тесной каморке прислуги, где он примостился за крохотным столиком и ей пишет, в этой тишине, ибо вокруг все странно тихо, словно все домашние затаились и только и ждут, когда же он в Давос уедет.
Дольше нескольких часов он, к сожалению, не выдерживает. Ко второй половине дня, еще прежде, чем снова лечь, он обычно уже почти совсем обессиливает, его изматывает неотступный жар, утомляют, хотя и радуют, каждодневные визиты Макса, бесконечные разговоры об Эмми, которая Макса бросила, о судьбе его, Макса, брака. Он пишет директору санатория в Давосе и дяде, который собрался его туда сопровождать, что, к сожалению, в данный момент выехать не сможет, ибо в связи с непрекращающейся температурой вынужден постоянно находиться в постели. Доре он пишет: с постели я конечно же поднимаюсь, хотя всего на несколько часов, как это было и в Берлине. Стороннему взгляду может показаться, что и вся его здешняя жизнь точно такая же, как в Берлине, хотя если получше вглядеться, то здесь, без тебя, это полная ей противоположность. Берлин — это был рай, пишет он. И как, ради всего святого, я мог позволить себя оттуда изгнать? Дора тоже ему написала, сразу же, еще на скамейке вокзала, торопливую открытку, вслед за которой до вечера в Прагу полетят еще две, уже гораздо более спокойные, внешне собранные, но только внешне, потому что за словами, между строк, прячется волнение, словно она пишет и одновременно молится.
На следующий день он записывает последние фразы своего рассказа, записывает легко, словно они давно уже ему известны, как нечто, когда-то услышанное, а потом неспешно положенное на бумагу, как мелодия, которую кто-то насвистывает в переулке, давая всем остальным прохожим безоговорочное право насвистывать ее вслед за ним по дороге домой. Среди его историй это одна из самых длинных. Он хорошо понимает: это нечто вроде его последнего слова о себе самом и своей работе, о его в общем и целом неудавшейся попытке стать писателем, о тщете искусства, неразрывно связанной с тщетою самой жизни. А к вечеру у него вдруг пропадает голос. То есть вообще-то он просто охрип, хотя, может, и не только, он срывается на писк, почти как Жозефина, и ему представляется, что некоторым образом это даже знаменательно. За ужином это не остается незамеченным, мать спрашивает, что с ним, но с ним ничего, и действительно наутро голос, похоже, возвращается как ни в чем не бывало.
2
С тех пор как он уехал, Дора большую часто времени проводит в Народном доме, ухаживает за новыми детишками, переставляет вместе с Паулем в столовой столы и стулья, а домой, на Хайдештрассе, возвращается как можно позже. Пауль находит, что она изменилась. Повзрослела, спокойнее стала, так ему кажется, а ведь после Мюрица всего полгода прошло. В один из первых вечеров, в кафе, она долго ему рассказывала про Давос, про свои тревоги, про то, как ей его недостает. Пауль ведь не знал, что она в Давос собралась. Она, кстати, до сих пор так и не удосужилась взглянуть, где этот Давос вообще находится, и признается, что ей страшно, уж очень скверно выглядел Франц при отъезде. Но кое о чем она Паулю не рассказывает. Как в первый вечер, в надежде, что Франц что-нибудь позабыл, она обшаривала обе комнаты, снова и снова. И разве может она признаться, что целует его письма? В первое же утро после того жуткого расставания она сразу побежала к почтовому ящику, может, он еще в поезде что-нибудь ей написал, но в ящике ничего не было. И вообще, когда она проснулась, все было ужасно, когда к завтраку на стол накрывала, на себя и на него, две чашки, два прибора, и вдруг поняла, что голоса его не помнит, но потом вспомнила, и даже смех, если напрячься немного. Летом, тоже после его отъезда, она до последних мелочей все про него помнила, но в этот раз она вообще сама не своя, кошелек недавно дома забыла, а когда телефон внизу в прихожей звонит, она пугается и то и дело, иной раз в самое немыслимое время, бегает к почтовому ящику.
Первое письмо от него еще длинное. Он пишет, как доехал, обо всех этих дремотных часах, и как его встретили родители, которых он поначалу хвалит, чтобы тут же пожаловаться — как мало они могут сказать друг другу. По большей части она, пожалуй, все это видит. Оттлу хорошо видит, и Элли, и мать, надо надеяться, все они понимают, что ему нужен покой. Каждый день приходит Макс, один раз был Роберт, он передает ей привет. Рассказ он тем временем закончил, а вот температура не спадает, и голос у него теперь прокуренный, ей придется привыкать. Он пишет, что она ему снится, считай что каждую ночь, хотя наутро от большинства снов лишь смутные воспоминания. Но она с ним, стережет его сон, когда он спит, потому что иной раз он до утра заснуть не может. Весна и здесь, в Праге она чувствуется не меньше, чем в Берлине. Мать каждое утро читает ему все, что в газетах про Берлин пишут. Оттла тоже передает ей привет, самый сердечный и обстоятельный. Уже скоро, пишет он. Надеюсь, мой вид тебя не испугает. Не стоит ли спросить госпожу Буссе, может, кое какие вещи можно оставить у нее, если ничего другого не найдется.
О госпоже Буссе она и правда как-то не подумала. Поначалу они вообще почти не общались, но теперь выясняется, что она очень даже любезна и проявляет участие. Как раз вчера она сама постучала в дверь справиться о Франце. За квартиру до конца марта уплачено, но в том, что касается Дориного отъезда, то тут особой спешки нет, пусть она из-за этого не волнуется, а уж тем более насчет вещей, ведь есть подвал, дом большой, места полно, она, к сожалению, до сих пор никак к этой пустоте не привыкнет. Дора пригласила ее зайти на чашку чая, теперь они сидят, говорят о мужчинах, которых нет рядом, ужасная эта испанка, миллионы людей покосила, в последние месяцы войны и в первую послевоенную зиму. На пятые сутки в восемь утра он умер, рассказывает госпожа Буссе, а Дора замечает, что Франц тоже переболел этим гриппом и долгое время неясно было, выживет ли. Незаметно разговор переходит на писательство, ведь это вторая общность обоих мужчин, хотя Дора ни строки Буссе не читала, а госпожа Буссе — ни строчки Франца. В порыве сочувствия госпожа Буссе даже называет Дору «бедной деточкой», но потом все-таки интересуется, как так вышло, что они с Францем не в браке; пока оба живы, это в общем-то все равно, но вот она, овдовев, теперь смотрит на эти вещи совсем иначе. Или вы брак вообще отвергаете? Мой муж был очень строг в этом вопросе, по счастью, он уже не узнает, до чего изменились времена и нравы. В вас есть что-то очень еврейское, замечает она, ну да, нос, к тому же Дора просто очень красива, добавляет она, еврейки вообще все-таки очень красивые.
Она встречается с Юдит, которая без обиняков называет госпожу Буссе антисемиткой и полагает, что от антисемитки никакой помощи принимать нельзя. Но к сожалению, без этого уже никак не обойтись, Франц написал, что с Давосом ничего не выходит, ему просто не дали въездную визу, и все прежние планы рухнули. Точных причин он не называет, но пока что он из Праги выехать не может, поиски санатория начались сначала, так что увидятся они не так скоро. Дора признается, что разлука сводит ее с ума, хотя он всего неделю как уехал, а осенью она прождала его дольше полутора месяцев. Юдит в ответ без умолку говорит об этом своем враче, который конечно же то ли хочет ее соблазнить, то ли давно уже соблазнил, в эти подробности она предпочитает не вдаваться. Она уже видит себя крестьянкой, с лопатой посреди пустыни, вместе с этим Фрицем. Они перебрасываются шуточками насчет обоих имен, Фриц и Франц, вероятно, буквы Ф и Р приносят счастье, хотя отъезд в Палестину все еще гадателен, ведь получить въездную визу, оказывается, совсем не просто, вдобавок ее Фриц, к сожалению, еще и женат тоже. Надо ждать, говорит Юдит, и голос у нее задумчивый, может, я вообще неправильно живу, не то, что ты, несмотря на все твои трудности, потому что даже твоим трудностям я завидую.
Тяжелее всего вечерами. Когда она ему пишет и понимает, что не в силах к нему пробиться, что она не там, где ей надо быть, что не может его утешить. Однажды он описывает ей свой сон. Какие-то бандиты вытащили его из квартиры на Хайдештрассе, заперли где-то на задворках в сарае, но мало того, они его еще и связали, рот заткнули кляпом и совсем одного в темном закуте в этом сарае бросили, так что он уже мысленно с жизнью прощался, но, оказывается, нет, он слышит вдруг ее голос, твой чудесный голос, и совсем близко. Он пытается освободиться от пут, ему даже удается каким-то образом вынуть кляп изо рта, но именно в эту секунду бандиты возвращаются и связывают его снова. Ну разве не ужасный сон, тем более что такой жизненный? Как бы ему хотелось видеть ее совсем в других снах. Впрочем, в известном смысле, он и так постоянно о ней грезит, после обеда в кровати, вечерами под приглядом родителей, или когда гулять выходит, вчера он полпути до Градчан прошел, один и все-таки не один, ведь он то и дело что-то ей показывал, мысленно, словно она уже в Праге, на несколько часов заехала, чтобы вместе с ним по его родным улочкам пройтись.
Вот так она и барахтается от письма к письму. Утром ждет письма от вчерашнего вечера, а вечером, возвращаясь домой, достает из ящика письмо утреннее. Читает чаще всего еще в пальто, стоя, лишь бы ни секундочки не ждать, или по дороге к станции, из-за чего впопыхах обязательно что-то упускает, так что в итоге вместо одного письма у нее выходят как бы два, первое для нее как музыка, а уж во второе она вникает от слова до слова. С новым санаторием по-прежнему все неясно, но потом он вдруг все-таки найден, неподалеку от Вены, примерно в часе езды, по сведением дядюшки — заведение со столь же первоклассной репутацией, как и давосское. И дело это уже считай что решенное, его паспорт уже сдан на получение визы, так что Доре тоже надо о визе хлопотать, хотя об этом он упоминает только мельком, мол, надеется, что скоро она будет с ним. Поняла, Вена, отвечает она, Вена это хорошо, словно ни о чем другом и не мечтала никогда. Это при том, что города они, вероятно, вообще не увидят, да и разрешение на въезд австрийские власти запросто могут не дать. Даже не знаю, что сказать, пишет она, особого повода к радости она пока не чувствует. Все поводы к радости остались для нее в их трех квартирах, она их ему перечисляет — новогодняя ночь в постели, девчушка с куклой, бог ты мой, а переезды, а комнаты, а столы, за которыми он писал. На софе, за подушкой, она нашла его карандаш, наверняка он уже его искал, этим карандашом она ему сейчас и пишет. Кстати, у нее и почерк изменился, все больше на его похож, такая же игривая округлость, буквы словно сами собой катятся, при этой мысли ей становится легче, словно это сходство — доказательство связующих уз и ее беззаветной преданности.
Теперь она не то ждет, не то готовится. Подала заявление на австрийскую визу, начинает упаковывать вещи, из одежды летнее, большинство книг и вообще все, что, как она полагает, ей не понадобится. Вероятно, ей придется сколько-то дней прожить у Юдит, март уже на исходе, но, быть может, все пойдет скорей, чем ей представляется. Она начинает прощаться, встречается с Паулем, уведомляет кого надо в Народном доме, что не знает, когда вернется и вернется ли вообще. Пауль предлагает ей для хранения вещей свой подвал, да и жить у него можно, в любое время, — она учтиво благодарит и отказывается. Даже если Франц сколько-нибудь поправится, она совершенно не обязательно вернется в Берлин. Даже если он хотя бы вполовину так окрепнет, как прошлой осенью, все равно надо будет подумать, не лучше ли ему остаться в Праге, поближе к родным, или куда-то за город переехать, в Шелезен или как там еще все эти места называются, где он раньше бывал.
3
Дядюшка распорядился прислать проспекты нового санатория. Он возвышается над деревушкой Ортман в холмистой местности, пластаясь по обширному склону, со стороны напоминая фешенебельный отель, но внутри там все очень современно, просторная столовая, салон, музыкальная комната. Совсем недавно, несколько лет назад, лечебница дотла сгорела, и не вполне ясно, запечатлен ли на фотографиях нынешний вид здания, как без всяких видимых к тому оснований утверждает дядя, — он-то расхваливает учреждение до небес и даже немного злится на племянника за то, что тот нисколько не рад открывшимся новым перспективам. Утром он составил для матери доверенность на получение своего паспорта, однако выясняется, что раньше конца недели вопрос не решится, и мать это явно беспокоит; она, конечно, рада, что он здесь, но в доме тесно и вообще все очень хлопотно и сумбурно. А тут еще и визиты в самое неподходящее время: чуть ли не каждый день Макс, однажды Оттла с детьми, которые от скуки с криком носятся по всей квартире; один раз заглядывает Роберт, потом Элли с Валли и снова Оттла.
С Оттлой ему, как обычно, легче всего. Оба с ходу подхватывают принятый между ними шутливо-задушевный тон, вместе погружаются то ли в воспоминания, то ли в мечты о деревенской жизни, тогда, в Цюрау, где Оттла хотела стать настоящей крестьянкой, а он жил у нее несколько месяцев. А помнишь, мыши? От мышей я избавилась с помощью кошки, но как избавиться от кошки? Оттла и ее домочадцы тогда, на четвертый год войны, по сути, голодали, но она все равно любит вспоминать о тех временах и говорит, что снова туда хочет, вот станет тебе получше, и в мае, уже после санатория, когда настоящая теплынь начнется, все, вместе с Дорой, туда и переберемся. Не вздумай меня огорчать, говорит она. При этом у нее, похоже, и так полно огорчений, брак с Йозефом тяжелый, мужа часто не бывает дома, а когда бывает, он замыкается в себе, даже от Веры и Хелены, они уже вроде как жаловаться на это стали. Приходя его навещать, она тут же спешит пристроиться полулежа рядом с ним на кровати, закрыв глаза, говорит, что ей так легче думается, а потом вдруг сразу, рывком, поднимается и уходит, не забыв поцеловать его на прощание.
Когда приходит Макс, его слышно еще из прихожей, он беседует с родителями. Уже много лет он в доме все равно что член семьи, но весьма уважаемый, еще бы, он же знаменитый человек, и женатый, и вообще ведет нормальную жизнь, вполне в отцовском вкусе. По крайней мере, ему сопутствует успех, он путешествует, выступает на публике, и не с пустыми руками, уж ему-то есть что предъявить, в любой солидной книжной лавке на витрине полдюжины его книг стоит, чего, к сожалению, о докторе никак не скажешь. Максу от таких сравнений не по себе, с другой стороны, ему уже столько раз удавалось замолвить перед родителями за него словечко, после злосчастной расторгнутой помолвки, или вот теперь, этой осенью, когда доктор под предлогом вымышленных фактов сбежал в Берлин, да еще и с восточной еврейкой. Вы привыкнете, увещевает Макс. Вот познакомитесь с Дорой, и все ваши предубеждения как ветром сдует.
О болезни они с Максом говорят только вскользь и слишком хорошо ему знакомым тоном, словно это гость, показывающийся в доме от случая к случаю и потом тактично исчезающий, в чем оба они давно уже не уверены. Доктор читает ему мышиную историю, своим новым голосом, не однажды вынуждающим его ненадолго прерываться, но реакция Макса с лихвой его вознаграждает, тот хвалит без умолку, эта история — из числа лучших его вещей.
Доре он пишет, что о его постельной жизни сообщать, по сути, почти нечего, время от времени чей-нибудь коротенький визит, недавно он попробовал встать, чтобы тут же от этой затеи отказаться, что пишет мало, что думает о ней, в воспоминаниях часто бродит по их комнатам, по знакомым дорожкам в Штеглице. Дора между тем вот-вот съедет с квартиры, она перебирается к Юдит и в каждом письме напоминает, что хочет в Прагу, что каждый час без него — непростительная трата времени. Она еще раз побывала на Микельштрассе и на Грюневальдской, долго стояла там, не веря себе, словно их берлинской жизни никогда и не было. Ей даже показалось, что госпожа Херман ее заметила, в окнах вроде как шелохнулось что-то, и она сразу убежала. Пожалуйста, пусти меня к себе. Неужто мне все только приснилось? Как только твои бумаги будут готовы, я тут же сажусь в поезд. Родителям твоим вовсе не обязательно меня видеть. Встретимся на вокзале, ты возьмешь туда авто, и я кинусь в твои объятия. В конце недели, он надеется, виза должна быть готова. Хотя вид мой вряд ли может кого-то обрадовать, пишет он. На короткое время он и сам верит в эту сцену, на вокзале, видит, как она сходит с поезда, усталая с дороги, чуть меньше ростом, чем она ему запомнилась, но с прежней своей упоительной, ласково-лукавой полуулыбкой.
Но, проворочавшись полночи, он этот план отбрасывает. Не может он в нынешнем своем состоянии один поехать на вокзал, Доре пришлось бы забирать его из дома, при родителях, что по хорошо известным причинам невозможно, поэтому все остается по-старому, он едет с дядей, а с Дорой встретится уже там, в санатории. Намеками он дает понять, до чего ему страшно, хотя в точности все прояснится только на месте. В некоторых из этих заведений тебе каждую минуту напоминают, что ты болен, что ты пациент, в других, наоборот, живешь чуть ли не как в отеле, но какая-то форма режима в конечном счете существует всегда, и есть заставляют повсюду, что для него всю жизнь было самой страшной пыткой, врачи опять же, неприятные допросы по прибытии, в тяжелых случаях медикаменты, промывания-полоскания, инъекции ментола и прочие процедуры. С большинством из них в том или ином варианте он уже успел познакомиться, что нисколько не облегчает дело, потому что в прежние разы он был относительно здоров, а теперь, похоже, положение и впрямь серьезное. Перед зеркалом легче всего себя иллюзиями тешить, в конце концов изменения наступают крадучись, ты к ним привыкаешь, а это, к сожалению, означает, что объективно ты о них судить не можешь. Вот это, значит, и есть мое лицо? Ну ладно, хорошо, пусть это теперь мое лицо, однако на хриплый голос обращают внимание все, даже если Элли вроде как его не замечает, предпочитая тревожиться о его весе, вообще о его ужасном самочувствии, в чем она без обиняков винит Берлин и только Берлин.
И все ждут, когда же он наконец уедет. А пуще всех он сам, но и все его близкие, мать, которая по нескольку раз на дню приносит ему почту, прислуга, которой не терпится вселиться обратно в свою комнату, даже Макс, который по поводу и без повода начинает клеймить канцелярскую волокиту и крючкотворство властей, не замечая, до чего тошно доктору слушать его инвективы. Ничего, скоро он перестанет быть им всем обузой, и в самом деле, больной — это, в конце концов, неприлично, с ним и поговорить не о чем. Ему в тягость одеваться и умываться, надоел непрестанный шум, даже когда он говорит, что ему надо поспать, он и в самом деле спит часто, иногда что-то записывает — приснившуюся ему сцену смерти на лоне природы и почему смерти не надо бояться. Сейчас, под вечер, он в порядке исключения один. Он лежит в постели, все приятно и покойно, родители то ли вышли, то ли газету читают. Он знает, это последние дни, а может, и последние часы, но все равно ничего не ощущает, только смутное, преждевременное чувство облегчения, и точно — наутро он получает долгожданную визу, а на следующий день покидает этот город.
Поскольку дядя, ввиду давно запланированной поездки в Венецию, отвезти его в санаторий не может, сделать это вызывается Оттла, и из всех возможностей эта ему милее всего. Долго обсуждается вопрос, что ему понадобится в санатории, из кладовки извлекаются чемоданы, Оттла и мать их укладывают, так что на ближайшие часы покоя ему не будет. Вечером он звонит Доре, она у Юдит и как раз готовит ужин. Очевидно, он ее перепугал, она никак не привыкнет к его голосу, но потом все-таки радуется, наконец-то, наконец не надо больше ждать. Бог мой, я поверить не могу. Это правда ты? Это так странно — говорить с ней по телефону, как будто она не где-то далеко, а совсем рядом, все равно что за стенкой, так что он на секунду даже забывает свою давнюю неприязнь к телефонам. Дора завтра же с утра пойдет покупать билет до Вены, а еще ей ведь нужна комната в Вене, лучше всего недалеко от вокзала, через несколько дней, любимый, подумай только, через несколько дней. В начале разговора она почти робела, но теперь голос ее звенит от счастья, она смеется, успевает еще и с Юдит переговариваться, та передает ему привет, а Дора не перестает удивляться, твой голос по телефону, кто бы мог подумать. Будь ее воля, она бы и вовсе трубку не вешала, так бы и проболтала с ним до ночи, и потом, в постели, под одеялом, твой голос, любимый.
4
Дни перед отъездом проходят для нее как в тумане. Все вокруг как-то сразу становится чужим, лица на улице, потоки машин, всеобщая подавленность. Франц настаивает, что она приедет к нему лишь на несколько дней, но чутье ей подсказывает, что она уезжает навсегда. Тяжелее всего дается расставание с Народным домом, с Паулем, который беспрестанно ей внушает: доктор обязательно выздоровеет, наверняка, и вы опять будете жить в Берлине. Ты должна мне пообещать, требует он, но этого она никак не может, к тому же ей надо к детишкам, те записали для нее целую тетрадку еврейских песен, они вместе поют, молятся, потом ей приходится еще всех по очереди обнять на прощанье, вырваться удается лишь много позже шести.
Дел вообще-то осталось не так уж и много, Юдит изумляется, да как же Дора с таким скудным багажом собирается обходиться, ей самой в Палестину как минимум вдвое больше понадобится, зимние вещи, конечно, вряд ли, зато уж книг побольше, коротать долгие теплые вечера, надо надеяться, у нее будет время для чтения. Она уже больше не видит себя всего лишь сестрой милосердия, верной помощницей своему Фрицу, она, скорей всего, с этим Фрицем уже сошлась, потому что все время говорит «мы» обо всем, что они задумали и собираются там делать, он и она. Юдит приготовила ужин и вообще очень заботлива, обнимает ее, старается ободрить. Ты сильная, внушает она, ты его любишь, вы справитесь. А Дора с утра весь день думает о том, что он сейчас в поезде с Оттлой и сколько им еще ехать. Теперь-то, ранним вечером, он наверняка уже давно в санатории. Она представляет, как он, усталый с дороги, в изнеможении падает на кровать, и рада, что Оттла с ним. Она немного рассказывает об Оттле, потом опять о Франце, а Юдит признается ей, что в своем Фрице не уверена, сомневается, вправду ли он «тот самый», но это старая песня — как его, «того самого», распознать. Они еще в Дёберице об этом говорили, когда обе и понятия не имели, что с ними станется. Юдит говорит: я бы с радостью тебя с собой взяла, и тут Доре вдруг становится ужасно тяжело, потому что в эту секунду она и вправду больше всего на свете хочет с ней уехать.
Только по пути на вокзал она снова успокаивается, и голова у нее совершенно ясная. Юдит непременно хотела ее проводить, из дома вышли поздно, так что времени на прощанье почти не остается. Дора еле успевает пообещать, что напишет как можно скорей, и вот она уже на своем месте, уже едет к Францу. У нее с собой его письма и все, что она в январе сумела сберечь, — стопку тетрадок, которые ей не принадлежат, которые она без его ведома спасла от огня. Большую часть дороги она предается мечтам, листает газету, вообще коротает время. Приходит кондуктор, потом они стоят на границе, где она предъявляет паспорт, показывает свои вещи на багажной полке. У Франца как раз заканчивается второй день в санатории, до него уже не больше двух часов езды. Венгерка, с которой они разговорились в поезде, рекомендовала ей гостиницу «Бельвю», это тут, совсем рядом. Неужто она уже и правда в Вене? Настроение здесь, похоже, не сильно отличается от берлинского, кассир в меняльной конторе на вокзале был, прямо сказать, не слишком любезен, но крохотную каморку под крышей ей дают, это высоко, из окна открывается вид на весь переулок, и вокзал слышно, куда несколько дней назад и Франц тоже приехал.
На следующее утро она звонит в Прагу. Ей повезло, к телефону подходит Элли, ведь с Элли они уже говорили, тогда, перед самым Рождеством, у нее и тогда, наверно, от волнения был такой же запыхавшийся голос. Узнаёт она, однако, немного. Дорогу Франц перенес хорошо, он просит ее сообщить свой венский адрес и ни в коем случае не выезжать к нему, пока он сам ей не напишет. Заполучив наконец адрес санатория, она — за баснословную цену — отправляет телеграмму, в которой говорится только, что она готова приехать, адрес и телефон гостиницы и как она скучает. Сегодня, сегодня же к вечеру она сможет его увидеть. Потом начинается ожидание, уже с налетом досады, в чем она сама боится себе признаться, — ну в самом деле, чего ради он все так усложняет. Первые часы еще как-то проходят. Ну да, на ответ ведь требуется время, потерпи, уговаривает она себя, но после обеда начинается настоящая пытка. Он мог бы позвонить или, если уж сам не может, попросить, чтобы ей позвонили. Или ему до такой степени плохо? До девяти, даже позже, в безысходном и тупом отчаянии она сидит внизу, в вестибюле гостиницы, лишь пару раз отлучившись в ресторан перекусить. Хорошо, утром, успокаивает она себя, только одна ночь еще. В последнем письме он был так нежен, так по ней тосковал, — чтобы утешиться, она это письмо перечитывает, снова и снова поглядывая на стойку портье, где стоит телефон и в узеньких ячейках хранится почта для постояльцев, большинство ячеек пусты, и в верхнем ряду, где и ее номер, тоже все пусто.
Весь следующий день она только куда-то мчится. Он написал, написал, что ждет, и с тех пор она, кажется, так и летит, сперва на вокзал, где успевает в первый же поезд на Перниц. Она и в поезде места себе не находит, все время вскакивает, мечется по вагону, краем глаза замечая в окнах незнакомый ландшафт, и в сотый раз перечитывает его телеграмму. В Пернице она не сразу понимает, куда направиться, расспрашивает пожилого крестьянина, вроде бы должен курсировать автобус, но очень редко, так что она решает пойти пешком, по извилистой дороге, по солнышку. Поначалу долина очень узкая, но постепенно раздвигается вширь, по пути тут и там хутора, и наконец, через час примерно, вдали показывается санаторий, широкое, раскидистое здание о двух башнях, гораздо больше, чем ее венская гостиница, почти замок. Еще не особенно тепло, но по мере приближения она повсюду начинает замечать пациентов в халатах — не только в парке, но и на балконах, где она тщетно выискивает Франца, — белые фартуки и колпаки сестер, что возят больных в креслах-каталках или поддерживают тех, кто худо-бедно идет на своих ногах. Она представляла себе куда более безотрадную картину. И все равно ей страшновато, особенно перед стойкой приемной, где свои строгости, ее просят назвать себя и сперва не хотят к нему пускать, но потом все-таки пускают, его комната во втором этаже, по коридору налево. На последних метрах она, кажется, от волнения вот-вот лопнет. Она стучит, и, поскольку на стук никто не отзывается, она просто входит к нему, и вот уже стоит возле его койки, и почти не узнает его. Даже поцеловать его не осмеливается, в такую даль ехала, а теперь стоит в этой палате и говорит: вот и я. Наконец-то. Он улыбается, кивком головы показывает ей на стул, вид немного заспанный, очевидно, она его разбудила. Он что-то шепчет, но совсем не так, как она помнит, как у них было принято, она спрашивает, боже мой, что у него с голосом, и только теперь присаживается на его койку, берет его руку в свои, осторожно сжимает, на что он тут же откликается ответным пожатием. Вообще-то он почти не изменился. Очень ослаб, похудел еще больше, чем в Берлине, но это Франц. Поначалу у нее в голове только одна мысль: я здесь, я с ним, все остальное не важно. Она толком не слушает даже, что он ей говорит, — названия каких-то медикаментов и что у него боли. Сам по себе шепот — это бы еще ничего, но болезнь перекинулась на гортань, врачи говорят об опухоли, по счастью, вроде бы не злокачественная. Он спрашивает, как она доехала, где остановилась, ведь здесь, в санатории, ей оставаться нельзя. Через час ее выставляют за дверь, и только теперь, в коридоре, она начинает понимать, где находится. Из-за соседней двери доносится кашель, долгий, по нескольку минут, в следующей палате кто-то стонет, еще где-то слышен смех, но почему-то он смахивает на рыдания. Ее снова пускают к Францу, попутно она всех расспрашивает насчет ночлега, сидит возле его кровати, теперь, как ей кажется, уже не такая растерянная. Вчера вечером в Вене она себе бог весть что навоображала, готова была умереть от тоски, а теперь вот он, лежит перед ней в этой комнате, странно далекий, словно ей до него не добраться, и как только она могла подумать, что он будет такой же, как в Берлине.
Крестьянам, у которых она остановилась, она сказала, что приехала навестить мужа, он болен, хотя это им, похоже, и так заранее известно. Она с трудом понимает их диалект, но ей дают хлеба и молока, сопровождая каждый прожеванный ею кусок одобрительным киванием, которое, надо полагать, припасено у них специально для городских гостей вроде Доры. Комната у нее простенькая, но чистая, все из дерева, включая стены и потолок; для мытья кувшин с водой и тазик, на завтрак все те же молоко и хлеб. Она конечно же встает ни свет ни заря, еще нет восьми, когда она приходит в санаторий, откуда ее вежливо выпроваживают, указав на время посещения. Она пытается протестовать, но персонал неумолим, она вообще не понимает, как переживет эти несколько часов, как потерянная, будто во сне, бродит по парку, потом возвращается к себе в комнату, но уже вскоре снова идет в санаторий. На полдороге ей попадается странное вытянутое здание, внутри люди играют в кегли, это пациенты в халатах и двое-трое санитаров, там шум, гомон, азартные выкрики, веселье. Без четверти час она уже у Франца, который явно ей обрадован, чуть ли не больше, чем вчера. К шепоту она уже привыкла, ей, правда, недостает его голоса, но это замечательно, что они снова говорят друг с другом. Как всегда, он беспокоится о деньгах. Сутки в санатории обходятся в бешеную сумму, а еще ведь надо платить за лекарства, названия которых она потихоньку начинает запоминать: от температуры три раза в день жидкий пирамидон, от кашля — атропин и к нему еще какие-то леденцы. Ни одно из лекарств не помогает. Из-за опухоли в гортани Франц вот уже несколько дней не может есть, зашедший в палату врач говорит о каких-то уколах в нерв, не исключена и резекция[16], сделать которую могут только специалисты в одной венской клинике. Смысл его слов поначалу до нее не доходит. Врач начинает проявлять нетерпение, Франц в растерянности качает головой, но, в конце концов, что же тут непонятного, здесь, в санатории, помочь ему уже ничем не могут, им надо в Вену, в клинику к профессору Хайеку, и чем скорей, тем лучше.
Когда она прощается с крестьянами, те как раз завтракают. И Франц уже давно на ногах, и совсем не так плох, как она опасалась. Все бумаги на выписку уже готовы, раздумывать особенно некогда, впрочем, оно, может, даже и к лучшему — все делаешь автоматически, в заранее предусмотренной для этого последовательности. Посылают за машиной, и пока она пакует вещи, Франц пишет родителям. Сам переезд оказывается просто ужасен. По необъяснимым причинам крытого автомобиля для них не нашлось, и весь бесконечно долгий путь они едут под дождем и ветром, Дора, стоя перед Францем, прикрывает его полами своего распахнутого пальто, она опять как во сне и с трудом верит, что такое вообще возможно. В клинике его сразу же от нее уводят, проходит целая вечность, прежде чем его определяют в палату. На самом деле это скорее камера, койки почти вплотную, ему придется лежать бок о бок еще с двумя пациентами, явно очень тяжелыми, на горле у каждого какие-то жуткие аппараты. Франц торопится ее выпроводить, и в итоге она снова поселяется в гостинице «Бельвю», где, все еще под гнетущим впечатлением от клиники, дописывает начатую Францем открытку Роберту. Терять больше нечего, пишет она, Франц совсем без голоса. И действительно, только тут она понимает, что сегодня с самого утра он ни слова не сказал, даже не шепнул, но, несмотря на это, у нее все время было такое чувство, будто она с ним говорит, как тогда, в Мюрице, даже когда его рядом не было, он все равно был тут, в ней, словно они там вместе, неразлучно, и разговаривать будут без конца.
5
В первый день они еще оставляют доктора в покое. При поступлении врачи, правда, его расспрашивали, вообще о ходе болезни, много ли, когда и как часто он кашляет, о мокроте, про кровь — это еще той, самой первой ночью, — про температуру в последнее время, про писк вместо голоса в Праге, рассказали, как намерены его лечить и о действии ментола, уведомили, что опрыскивание опухшей гортани считают на данный момент наилучшим решением, в конце концов он же должен как-то есть, у него вес меньше пятидесяти, ниже уж никак нельзя. Вот так примерно они с ним беседуют, не сказать, чтобы откровенно, словно заранее сговорившись сообщать пациенту лишь самое необходимое, а в подробности он, пожалуй, и сам не склонен вникать. И с соседями по палате он уже познакомился. Они здороваются, скорее кивком или взмахом руки, на большее никто и неспособен. По сравнению с ними он вообще, можно считать, почти здоров. Правда, боли в горле непереносимые, но к нему вернулся голос, он пьет, осторожными, меленькими глоточками, строго по расписанию, до обеда каждые полчаса. Конечно, отрадного в его состоянии мало, но он держится, вида не подает, особенно перед Дорой, которая уже до собора Святого Стефана прогулялась, а выглядит все равно невесело. Он пишет пару строк родителям, обычное вранье, что устроен хорошо, под присмотром лучших врачей, а как долго это продлится — пока неясно. Дора то и дело отвлекает его расспросами, обтирает ему влажной салфеткой лоб и губы, вместо приветствия она его поцеловала, а на прощание, когда часы посещения давно кончились, целует снова, под укоризненным взором санитара.
Врач, который должен сделать ему первое опрыскивание, в клинике новичок, примерно одних лет с Дорой, поначалу заметно и неприятно нервничает, из-за чего процедура, к сожалению, затягивается. В руках у него большой шприц с длинной, клювом выгнутой иглой, выглядит все это довольно устрашающе, но самое противное, пожалуй, — предварительные манипуляции, перелистывание бумаг, заполнение шприца жидкостью, пока сам ты, трясясь, в неудобной позе лежишь на странном топчанчике, уродливой помеси кровати и кресла. Ах да, я же еще не представился, спохватывается врач и называет какую-то фамилию, совершенно незапоминающуюся, а сам уже засовывает тебе в глотку эту жуткую металлическую штуковину и начинает до бесконечности долго ею там шуровать, пока все, что нужно, не окажется там, где нужно, после чего в тебя течет маслянистая жидкость. Попало или не попало, уже все или еще не все? Особого эффекта на первых порах не чувствуется, так, жжет чуть-чуть, и облегчение, что все позади, потом, уже ближе к обеду, все-таки, как ему кажется, некоторое улучшение, однако о еде по-прежнему нечего и думать. Но чувствует он себя получше. Вскоре после часа приходит Дора, он бодр, доволен и даже обнаруживает радость, когда без всякого предупреждения в дверях появляется его зять Карл. То ли он случайно в городе оказался, то ли Элли специально его прислала, выяснить невозможно. Он передает тысячу приветов и пожеланий, приносит рисунок дочурки Герти, на котором при желании можно узнать пляж в Мюрице, на переднем плане песочный замок, потом плетеное кресло-кабинка, а в ней черный человечек с направленной на него стрелкой и подписью: Дядя Франц.
И на следующий день зять снова приходит его проведать, но на сей раз настроение подавленное, ночью один из пациентов умер, Дора долго не может этому поверить, Карлу же более или менее все равно. Пожилой крестьянин, из здешних мест, так, во всяком случае, доктор предполагает. Где-то в три, в полчетвертого вдруг стал задыхаться, врач и санитар прибежали, но помочь ничем не смогли. Он видел, как они в полутьме склонились над койкой, как головами качали, а потом по-тихому выкатили койку в коридор. О чем-то другом говорить трудно. Обсуждают, как подействовал второй укол, глотать вроде бы уже не так больно, поэтому вечером он даже смог поесть, правда всего лишь несколько ложек картофельного пюре, но все-таки. Уходя, Карл пообещал не описывать положение в слишком уж мрачных красках, иначе они там в Праге начнут сходить с ума и опять пришлют дядюшку, который пока что в Венеции мокнет под дождем; ему вроде бы даже уже отправили из Праги телеграмму, одна надежда, что не дойдет. Неужели одного Карла в качестве посланца от семьи недостаточно? Вместо новых посетителей он просит прислать лучше стеганое пуховое одеяло и подушку, здесь, в отличие от санатория, имеется лишь самое необходимое и чувствуешь себя как на фабрике, тем более что и врачи не особо с тобой церемонятся, приходят, даже не потрудившись прихватить с собой смотровое зеркальце, и рекомендуют жевательную резинку, которая от болей вообще не помогает.
Когда Дора с ним, ему легче всего удается забыть, где он находится; закрыв глаза, он слушает ее рассказы, про то, как все вокруг цветет, деревья в парке, «Форсайты» — это розы такие в розарии. Когда она рядом, часы обычно пролетают как миг, но, к сожалению, случаются и заминки, когда его одолевает кашель или когда вдруг снова пропадает голос. Есть он опять почти не может, от силы кусок-другой в состоянии проглотить, хотя всякий раз честно пытается себя заставить. Вот только что, совсем недавно, сестра унесла почти нетронутый поднос, после чего Дора, набравшись храбрости, все-таки решается спросить, нельзя ли ей здесь готовить, как-никак она господина доктора немного лучше знает, знает его вкусы, что он может есть, а что нет. Сестра поначалу весьма строга, она должна спросить, но уже вскоре возвращается с благоприятным ответом и сразу же ведет Дору с собой показать ей здешнюю кухоньку для персонала. Обычно они только чай здесь пьют, но все необходимое имеется — кастрюли, приборы, плита. Она спрашивает, чего бы ему хотелось. Предлагает суп, вареную курицу, на десерт бисквит. Да, ты хочешь? Тогда завтра я буду у тебя уже в одиннадцать. Сразу видно, до чего она рада, по пути из гостиницы она видела крытый рынок, там все и купит.
С соседями по палате общение скорее скудное. Разговоры в основном о температуре, о врачах и сестрах, о предстоящих визитах, ну и о погоде, потому что на улице день ото дня теплеет, через открытые окна заглядывает солнышко, если и дальше так пойдет, вскоре можно будет перебираться вместе с койкой в сад на крыше, откуда, по слухам, видно чуть ли не пол-Вены. Сосед Йозеф, что на койке рядом с ним, — симпатичный усатый сапожник, целый день на ногах, хотя у него из шеи трубка торчит, однако он с удовольствием уплетает больничную еду и завидует доктору, к которому каждый день приходит его девушка, самого-то его еще ни разу не навестили. Впервые за три дня он избавлен сегодня от ментолового опрыскивания, что весьма отрадно, лечение, похоже, и вправду помогает, он в состоянии немного поесть, хотя бы в угоду Доре, которая потчует его обедом из трех блюд, на первое бульон с яйцом, потом курица с овощами и на десерт бисквит со взбитыми сливками. Правда, банан в пирожном не вполне ему по вкусу, но Дора все равно счастлива, все уже хорошо, и нет причин для тревоги и отчаяния, уже даже можно строить планы на будущее. Обсуждается либо снова санаторий Гримменштайн, либо другой, поменьше, в Кирлинге неподалеку от Вены. Дора уже звонила, наводила справки и заставила Макса пустить в ход свои знакомства, даже Верфель вроде бы проявил и принял участие, потому что Францу наблюдать все это беспрестанное умирание вокруг уже невмоготу. Вчера ночью еще один пациент скончался, Йозеф на прогулке слышал, а потом и подробно разузнал, при том что и сам он чувствует себя неважно, у него постоянно жар, возбуждение, и никакими уговорами его в кровать не уложишь. Дора намерена поехать в Кирлинг, посмотреть на месте, что там за санаторий. Профессор Хайек, который этот переезд решительно не одобряет, мог бы приезжать туда из Вены для консультации и лечения, никаких ограничений для посетителей там нет, она постоянно могла бы быть с ним рядом, короче, сразу после обеда она поедет.
На следующий день все решено. На пригородном поезде до Кирлинга рукой подать, приняли Дору чрезвычайно любезно, сам санаторий небольшой, скорее почти пансион, двенадцать комнат, на окраине поселка. Всем распоряжаются хозяева заведения, супруги Хофман. Цены сносные, а главное преимущество — есть комнаты для родственников. Тем не менее вид у Доры бледный, похоже, что-то там, в Кирлинге, ее перепугало, словно она поняла, что после Кирлинга никакого другого санатория уже не будет. Опять она приходит за два часа до начала посещений, чтобы приготовить ему обед, но на сей раз, хотя сегодня тоже опрыскиваний не было, да и погода дивная, чувствует он себя плохо, его мучит жажда, на прошлой неделе он пил недостаточно, а нагонять задним числом врачи не позволяют. Дора, кстати, рассказала им о предстоящем переезде в Кирлинг, теперь и родителей надо известить, что он опять же предоставляет сделать ей. Переезд в субботу, пишет она, место дивное, лесистое. К вечеру он и сам постепенно начинает в это верить. Прощание, пожалуй, не то слово. Он ощущает некоторую тяжесть внутри, быть может, это всего лишь леность, но и досада, опять переезжать, ведь это, к сожалению, означает, что и здесь его зачислили в разряд безнадежных, даром, что ли, все последние дни врачи к нему почти не заглядывали.
В остальном же, не считая жажды, состояние его вполне сносное, хотя силы убывают. Он чувствует это с каждым движением, с самого утра, как только мыться идет, словно внутри что-то прохудилось и из него по капле, но непрестанно и неумолимо, вытекает живительная влага. Дора чего только не делает для подкрепления его сил — приносит к завтраку жирное молоко или какао, чуть позже обязательно яйцо в разных видах, на обед курица или телячья отбивная, протертые помидоры, жаренные с яйцом на сливочном масле, цветная капуста или нежный горошек, на десерт кусочек торта со взбитыми сливками, иногда бананы или яблоко, потом на полдник опять какао или теплое молоко со сливочным маслом, а на ужин снова что-нибудь с яйцом. Может, это как раз из-за обильной еды он такой вялый? Даже в короткие часы, когда с ним Дора, ему трудно бороться со сном, и когда вдруг приезжает Феликс[17], но этот час он еще как-то продержался. Феликс и вида не подает, что доктор произвел на него какое-то особое впечатление, он очень рад знакомству с Дорой, даже для Йозефа находит дружеское словцо, после чего обстоятельно передает приветы из Праги, от Макса и от Оскара[18], которые там, вдали, по-прежнему о нем помнят. Для Доры его визит — желанная перемена, у них все в полном порядке, если погода позволит, можно даже выйти ненадолго прогуляться. Она даже что-то говорит про «выздоровление», и как они будут рады поскорее отсюда уехать. Две недели назад, думает он, вся надежда была на санаторий, неделю назад это оказалась Вена, а теперь, значит, это будет Кирлинг. У Феликса, как всегда, полно работы с журналом «Самооборона»[19], который доктор регулярно читает. Родители недавно переслали ему последний номер, но он хотел бы получать без пересылки, чтобы читать на балконе, Дора сказала, что в Кирлинге у него будет балкон, и комната на южной стороне, он сможет по нескольку часов лежать на солнце, и в данную минуту ему слышится в этих ее словах чуть ли не благое предзнаменование.
6
Не проходит и двух недель, а от всех этих Дориных надежд мало что остается. Никогда она не думала, что будет вести такую жизнь, и тем не менее она ее ведет, приняв свою участь, как смиряется с судьбой потерпевший крушение мореход, которого забросило на необитаемый остров, — живет, сколько хватает сил, а хватает их не всегда. По вечерам в гостинице она буквально на последнем издыхании, измотана и вместе с тем взбудоражена, ведь поводы для всяких мелких волнений возникают то и дело, сегодня утром телеграмма от Роберта, который без всякой предварительной договоренности просто уведомляет о своем приезде, чему ей удается воспрепятствовать лишь ценою самых недвусмысленных выражений. Франц между тем уже просто часы считает, до того ему не терпится уехать, ведь это их последний день в Вене. Она перекусила в ресторане, где, по счастью, не привлекает особого внимания, постояльцев сейчас немного, у официантов работы почти нет, так что кто-то из них то и дело подходит к ее столику спросить, не желает ли она чего. Она попросила подать карандаш и бумагу, хочет написать его родителям, только от себя, что ей непривычно, да и врать от своего имени гораздо трудней. Она пишет о предстоящем переезде, все это якобы с полного согласия врачей, что уж точно переворачивает факты с ног на голову, ведь на самом деле они до последнего ее отговаривали, но извольте, Франц бодр и весел, а проспекты нового санатория она в ближайшее время вышлет.
В день отъезда настроение хуже некуда, ночью, оказывается, умер Йозеф, а ведь еще накануне вечером бегал как молодой. Впервые она видит, как Франц плачет, это слезы гнева, словно при всем желании он не может понять, не в силах смириться, как это Йозеф, неугомонный Йозеф — и вдруг умер. Как это врачи могли недоглядеть? Со своей стороны Дора видит в этой смерти прежде всего предостережение: даже если человек на ногах и ест за двоих, это вовсе не означает, что он выживет. Почта опять приносит последние новости, открытку от Макса, который продал мышиную историю и просит сообщить, на какой адрес высылать деньги. Погода, по счастью, превосходная. Около полудня они трогаются в путь, до вокзала берут машину и в самый раз поспевают к поезду, который идет прямо до Клостернойбурга. Их сопровождает Феликс. Все рады, что клиника уже в прошлом, на душе полегчало, можно обсудить планы на ближайшие дни, ведь места вокруг санатория и впрямь дивные, его балкон утопает в цветах, а комната залита солнцем. Все сияет белизной — стены, кровать, шкаф, умывальный столик, есть даже письменный стол, хоть и непонятно, как он тут уместился, поэтому чуток тесновато, это да, но уж никак не скажешь, что неуютно. Госпожа Хофман, вместе с супругом зашедшая поприветствовать нового пациента, говорит, что для них это большая честь, тут же проводит краткую экскурсию, но Франца интересует только комната. Она во втором этаже, с видом на сад, где уже расцветают первые розы. Трое-четверо пациентов сидят на веранде, где-то вдалеке слабо журчит ручей, вокруг холмы, леса, виноградники.
В первые дни у них, можно считать, просто загородный отдых. Они сидят на балконе, наслаждаются теплом, Франц впервые за много дней в костюме, его распирает жажда приключений, так что сразу после завтрака они отправляются в сад, где в этот час загорает на солнце молодая женщина, как позже выяснится, баронесса, которая славится здесь своим непомерным аппетитом. В дальнем конце участка кованые ворота, выйдя за которые, оказываешься в чудесной маленькой долине, где журчание ручья, пение птиц, самый воздух — все напоено торжествующей весной. Они идут налево, берегом ручья, пока несколько минут спустя не доходят до деревни. Хоть путь был недолог, они устраивают себе передышку на скамейке, по-прежнему в наилучшем самочувствии. Вокруг великое множество гуляющих, семьи с детьми, все в воскресных нарядах, направляются обедать в два местных трактира. Франц не прочь совершить прогулку на пролетке, толстяк-кучер бойко расхваливает свой кабриолет и за вполне умеренную плату везет их в соседний Клостернойбург, где на улицах еще оживленнее. Франц смеется, он весел и даже шаловлив, почти как в прошлом году на пляже, то и дело обнимает ее, целует ей руки, лоб, даже нос, словно поверить не может, что она и вправду с ним и никуда не денется. Кроме мышиной истории Макс, оказывается, и другую, про их первую берлинскую хозяйку, тоже продал, как раз сегодня она напечатана в одной из пражских газет, которой у них здесь, разумеется, нет, но все равно это повод для радости и воспоминаний. Берлин — это как будто вечность назад было, кто знает, увидят ли они его еще, и все равно они говорят сейчас о Берлине. Вчера вечером она наконец-то написала Юдит, что далось ей совсем не легко, не было слов, чтобы описать их нынешнюю жизнь, которая лишь бессмысленно ползет мимо нее в те часы, когда она не с ним, в своей новой комнате, о которой и сказать толком нечего — комната как комната, временное пристанище, откуда съезжаешь при первой возможности.
И в пасхальный понедельник они идут прогуляться вдоль ручья, но теперь направо и подальше, в сторону леса, довольно крутой дорогой, взбирающейся по склону холма, с вершины которого хорошо видны окрестные леса и виноградники. Франц задыхается, но все еще жаждет новых приключений. Он хотел бы зайти в винный ресторанчик, посидеть на солнышке за бокалом вина, ну а почему бы и нет; при случае, если сельская жизнь им надоест, даже и в Вену можно прокатиться. Прогулка была недолгой, но по возвращении они вынуждены признать, что даже от нее следовало бы отказаться. Франц совершенно обессилел, его знобит, поэтому он тотчас же ложится, и даже прощальный визит Феликса лишь вяло принимает к сведению. Об этом Феликсе Доре мало что известно. Работает библиотекарем в университете. Но ей по душе его спокойная рассудительность, исходящее от него безмолвное сочувствие и то, как он рассказывает о своей дочери Рут. Они присели поговорить в комнате-читальне. Разговор в основном о Франце и его мечте о Палестине — это и его, Феликса, мечта. Она провожает его до двери, где он, к полному ее изумлению, неловко ее обнимает и говорит, как ему не хочется с ней расставаться. Так, совсем одной, ей, наверно, бывает нелегко, да и тоскливо. Да нет, отвечает она. Мы же дороги друг другу и вполне ладим, в Берлине было достаточно времени привыкнуть.
По счастью, пасхальные праздники позади. Франц попросил свежих фруктов, можно снова идти за покупками, а потом стряпать, так у нее, по крайней мере, дело есть, она обсуждает с кухаркой, веселой силезкой, когда и кому удобнее занимать кухню, чтобы друг другу не мешать, и все это улаживается без малейших затруднений. Атмосфера в заведении домашняя, почти семейная, пациенты здороваются друг с другом, встречаясь в коридорах и на лестницах, большинство обитателей — четверых мужчин и двух женщин — она уже знает. Однажды ей случается разговориться с баронессой, которую врачи записали в безнадежные, но не доктор Хофман, который побуждает ее как можно больше есть. Она буквально набивает себя едой, за обедом одного только салата берет сразу четыре порции и надеется таким образом одолеть недуг. Все это она рассказывает со смехом, и что помолвлена с юристом, который все равно намерен на ней жениться. А у Франца по-прежнему жар, особенно вечером, и он удручен, ведь ему теперь нельзя на улицу. Но аппетит у него есть, и он всякий раз так благодарен, что она приходит, что столько работы ради него на себя взваливает. А ты помнишь, вегетарианский ресторан на Фридрихштрассе?
В докторе Хофмане она до сих пор толком не разобралась. Человек средних лет, вообще-то обходительный, он, однако, имеет по некоторым вопросам неколебимое мнение, и, к примеру, все методы нетрадиционной медицины категорически отвергает. Эту категоричность успевает почувствовать на себе Дора, которая одного такого гомеопата из Вены хочет пригласить к Францу, но разрешения не получает. Доктор хорошо ее понимает, в таком положении любые средства хочется испробовать, однако ответственность за своих пациентов здесь несет он. Франц, похоже, воспринимает запрет чуть ли не с облегчением, ведь каждый врач обходится в несусветную сумму, санаторий тоже стоит денег, и комната для Доры, и любая покупка. Полдня он хандрит, жалуется, что ему читать нечего, родители не посылают газет. Вечером она звонит матери, разумеется, все давно уже послано, включая вожделенное пуховое одеяло, о котором Франц так просил. Несмотря на проспекты, мать не очень-то представляет, как они там, в этом Кирлинге, живут, надеюсь, у вас там есть хотя бы возможность побыть вместе, после всех треволнений вам это, конечно, необходимо. Дора по-настоящему растрогана, особенно этими «вас» и «вам», она рада, что там, в Праге, понимают: она и Франц теперь вместе, даже здесь, в санатории, несмотря ни на что, это все-таки их совместная жизнь.
Юдит прислала ей из Берлина две больших посылки, белье и одежду, о чем Дора просила, поскольку о возвращении в Берлин пока что не может быть и речи. Дора еще в Берлине сама это все запаковала и теперь удивляется — чего тут только нет: два платья, как раз демисезонных, ее костюм, несколько книжек, украшения. Она тотчас переодевается, для Франца, в пестрое платье, пусть даже он не заметит, но он замечает, сразу же, и даже помнит, когда она его носила, в их первые берлинские дни, так и говорит — в Ботаническом саду. Это платье она купила незадолго до Мюрица. Ей сразу приглянулся и плиссированный воротник, и цветастый узор, пусть цветы немного девчоночьи, но именно это ему и нравится. Он просит ее медленно пройтись взад-вперед перед его кроватью, потом плавно покружиться, как будто в танце. А она ведь никогда с ним не танцевала и даже не знает, умеет ли он, хотя вроде бы он говорил, что раньше танцевал, студентом, однако он, смеясь, качает головой, нет, никогда, но ради нее он готов научиться. В тот вечер у них все, как прежде. Они вместе ужинают, омлет, вместе опять предаются мечтаниям, о Мюрице, когда-нибудь летом, и что бы они сделали по-другому. Не слишком много, как выясняется, потому что в основном почти все было правильно. Ну, работать Дора, конечно, не будет, комната у них было бы общая, поближе к морю, а то до пляжа все-таки было далековато, хотя вообще-то Францу его пансион очень понравился. А комнату помнишь? Она помнит, и жуткий ливень, как она вся промокла, и вообще все, до мельчайшего движения, помнит. Как он подошел к ней. Все помнит. Поцелуи. И как голова кружилась от волнения. Как же давно это было. А чувство все еще с ней, как бы разными отголосками, и даже страх, который тоже с самого начала в ней сидел, притаившись, словно в засаде, только она, доколе возможно, старалась его не замечать.
7
На писательстве его, судя по всему, окончательно поставлен крест. Сейчас он даже с корреспонденцией едва управляется, не говоря уж о чем-то другом. Самое удивительное — его это даже не особо занимает. Все его мысли — о грядущей ночи, о текущем дне, где от часа к часу все предусмотрено и расписано, о сегодняшних визитах, процедурах, о ближайшей трапезе. Он прикидывает, сможет ли сегодня встать, с утра смотрит в окошко, какая погода, можно ли будет на балкон, и ждет Дору, без которой он давно бы уже был не жилец, думает о предстоящем визите врача-легочника, который назначен на завтра и которого он до смерти боится. Не считая всего этого, чувствует он себя на удивление хорошо. Никуда не надо уезжать, по крайней мере пока деньги не кончатся, они могут вместе сидеть на балконе, вспоминать. Дальше Берлина он обычно памятью и не возвращается. Упования у него тоже не сказать чтобы чрезмерные: можно помечтать о поездке куда-нибудь подальше, порадоваться мелким новостям, которые сообщает Дора, приветам из Праги или из Берлина, потому как ему теперь и из Берлина приветы шлют, от Юдит, которой он обязан радостью присланных Доре платьев.
Дора пишет, звонит по телефону, иной раз он дивится, сколько у нее сил, тем паче что от его общества, видит Бог, к сожалению, радости мало, из-за хрипоты он все чаще вообще говорить не может, в самое неподходящее время вдруг устает и ест, к ее огорчению, гораздо меньше, чем следовало бы.
О венском светиле рассказывают, что его однажды сюда к одному из пациентов тоже вот так вызвали, но потом, поскольку он затребовал три миллиона, визит в последнюю минуту отменили, прошлой осенью это было, когда и здесь цены на все взлетели до небес. Все утро они его ждут, а когда он наконец приезжает, весь визит длится не более получаса. Для светила он всего лишь очередной чахоточный, один из несметных тысяч, но раз уж он здесь, то производит краткое обследование гортани, щупает понемногу там и тут, после чего, не забыв оставить счет за свои услуги, уезжает обратно в Вену. При виде выписанной суммы Дора слегка бледнеет, но ничего не говорит, только выходит ненадолго из комнаты. По ней хорошо заметно, как много для нее этот визит значит. Профессор не сказал этого прямо, но понять нетрудно: он такой же безнадежный случай, как и все пациенты в этом санатории, где, впрочем, все они, по крайней мере, в приятном обществе. Дора, впрочем, стойко делает вид, будто этот визит — всего лишь дурацкое недоразумение. Но ей конечно же нужна помощь. И как он раньше об этом не подумал? Однажды она уже и сама мельком намекала, вроде как с Робертом у нее об этом разговор был, а теперь она то и дело о Роберте вспоминает, как это было бы хорошо, если бы кто-то еще с ним мог побыть, хотя бы просто поболтать, пока она на кухне или бегает в деревню за покупками. К тому же у Роберта тоже туберкулез, по счастью, только в начальной стадии, но он эту болезнь знает и, безусловно, если понадобится, сумеет помочь. Ладно, говорит доктор, хотя у него к Роберту давно уже душа не лежит, что-то в этом человеке всегда ему претило, сама его повадка, какая-то вызывающая, требовательная готовность к подчинению.
Для начала он просто приезжает навестить доктора. Дора встречает его на вокзале, доктор тем временем отдыхает в тени на балконе, раздетый до пояса, с позавчерашней газетой, пришедшей вместе с остальной почтой из Праги. Три года прошло с тех пор, как они познакомились в санатории. Война давно уже кончилась, однако именно о войне они много тогда говорили, ведь Роберт и на восточном фронте успел повоевать, а потом еще в Италии, в эти два года он чахотку и подхватил. Сколько и когда бы они ни встречались, вид у него всегда был свежий, моложавый, но какой-то мягковатый, прежде всего в выражении лица, в котором запечатлелась тень неизбывной горечи, ведь болезнь не позволила ему окончить университет и стать врачом. Как и следовало ожидать, он нисколько не изменился. Приехал в костюме, при жилетке, волосы приглажены, от левого виска, как всегда, безупречный пробор, словом, вполне благополучный молодой человек лет двадцати с небольшим. Очевидно, они с Дорой уже успели многое обсудить, он почти не задает вопросов. Но готов помогать, говорит, что даже рад будет, словно много лет только и ждал возможности вроде этой. Для Доры его приезд — просто спасение. Она показывает ему вид с балкона, комнату, где они успевают поговорить еще немного, осматривают даже столовую и кухню, где она готовит, — это ее маленькое царство. Он намерен остаться на несколько дней, прямо здесь, в санатории, где, по счастью, еще есть свободные комнаты, так что в итоге все довольны, сколь ни трудно приходится доктору в эти дни, с каждый днем все труднее разговаривать, но даже и читать, ведь на днях прислали нового Верфеля, и он время от времени его читает, бесконечно долго, всего по нескольку страниц.
Приходит какой-то новый покой, скорее в душе, так ему кажется, потому что вокруг по-прежнему все время что-то творится, ему назначили компрессы и ингаляции, из-за температуры это пока что единственное лечение. От предложенных доктором Хофманом инъекций мышьяком он отказался, но со вчерашнего дня температура, похоже, и в самом деле стала спадать. Сегодня с утра, к примеру, она у него только слегка повышенная, с горлом все по-прежнему, хрипота, но говорить мешает лишь изредка. А больше всего он рад за Дору. С тех пор как Роберт здесь, она прямо преобразилась. Иногда эти двое сменяют друг друга, иной раз они сидят в комнате все втроем, обсуждают последние новости и сплетни из Праги, откуда только что пришла очередная почта, — почтой, кстати, теперь ведает Дора. Об этом настоятельно попросили родители, чем она необычайно горда и в одном из первых же писем осторожно напоминает насчет одеяла, она, мол, уже собралась сама купить в Вене, но Франц ведь ее тогда просто вышвырнет за дверь. Доктор смеется, когда читает эти строки, ему нравится, как она пишет, ее потешные, трогательные формулировки, — он, дескать, будет бурчать, что она ему в письме так мало места оставила, хотя на самом-то деле ему это только на руку. Ему нравится ее почерк, который, как она полагает, все больше становится похож на его собственный, нравится серьезность, с которой она благодарит его за то, что он позволил ей вести переписку. У него здесь и впрямь почти как прежде в конторе, чуть ли не каждый день надо отвечать на письма, конверты стопкой накапливаются на столе. Когда она пишет, он видит ее согбенную спину, но согбенную усердно, словно эта ноша ей в охотку, словно она не письмо пишет, а священнодействует.
Вечером, уже в постели, он спрашивает себя, что с ней будет. Что с ней станется, когда его уже не будет, куда она подастся. Немного странно и грустно думать о ней одной, без него, хотя ведь все свои первые годы она в Берлине без него жила и никогда на эту жизнь не жаловалась. Сейчас, прикрыв глаза, он, как ему кажется, видит: она не пропадет, ведь она хотя и хрупкая, но стойкая, такой, по крайней мере, он ее знает. Он мог бы на ней жениться, да он и сейчас еще может. Почему, собственно, он на ней не женится? Мысль несколько запоздалая, как он, хотя и не без оттенка облегчения, вынужден признать сейчас, когда он вообще не понимает, почему еще в Берлине ее не спросил. Об ответе ее он вообще не думает. А думает о Ф., почему та с самого начала была не той, а еще, но совсем отдаленно, о М., без особой боли, словно М. всего лишь логическое последствие ошибки, которой была его помолвка. До самой ночи он остается в приподнятом настроении, на его ночном столике лежит присланный редакцией экземпляр «Прагер прессе», где напечатана его «Жозефина», это тоже повод для радости, а еще Дора и ее новое платье, и даже еда была ему сегодня по вкусу, он и не припомнит, когда в последний раз с таким аппетитом ел.
Полночи он думает только об этом, не в смысле «да» или «нет», а лишь о том, как, ибо на сей раз он не хотел бы совершить ошибку; есть правила, которые он полагает нужным соблюсти, есть вдобавок обычные сомнения по поводу родителей, хотя собственные родители в данном случае не слишком его тревожат. Он должен сделать это не из угрызений совести, хотя совесть то и дело его мучит, ведь это он вовлек девушку в такую жизнь, там, в Мюрице, когда все или почти все уже можно было предвидеть. А тем более он не должен жениться из благодарности. Хотя благодарность его несомненна, сама по себе она основанием быть не может, зато ему вдруг почему-то становится важным благословение ее отца, ведь сейчас, не исключено, для него начинается совсем новая жизнь, жизнь иудея. На следующее утро он делает ей предложение. Особенно долго говорить не приходится, она сразу отвечает «да», она только что принесла завтрак, а тут вдруг такое. Но почему? — спрашивает она таким тоном, словно ей это и во сне не могло присниться. Разве для женитьбы обязательно иметь основания? Не напрасно же ты, такая молодая, была со мной, разве недостаточно твоих поцелуев, твоего лепета, всех наших ночей, признаний. Да нет же, говорит она, а потом сразу снова: да, хотя она не представляет, как отец даст ей согласие. Может, мне все это просто снится? — все еще не верит она. Ты правда меня спросил? Вот только отец; к сожалению, он с ее отцом даже не знаком. Давно, еще в Берлине, я иногда думала: надо ему про нас написать, про то, как нас свела жизнь, как мы живем. Но после первых же слов ничего не получалось. Только при чем тут «напрасно»? Любимый, говорит она как раз в ту секунду, когда в дверь стучится Роберт. Ей нелегко очнуться, к тому же доктор совсем разворошил ей волосы, так что вид у нее во всех смыслах изрядно растрепанный. По счастью, Роберт ничего не замечает, он просто слегка озадачен, — что, есть хорошие новости? — и тогда Дора открывает ему, какие именно у них хорошие новости.
Письмо он пишет до следующего утра, вернее, до обеда. Послание получается не очень длинное, страницы две, на которых он сообщает о себе, возраст, род занятий, о своей работе в агентстве, о том, что уже больше года на пенсии, потом вкратце о семье, родители, сестры, его отношение к вере праотцев. Он не пытается скрыть, что узы, связующие его с религией, не слишком прочны, однако благодаря встрече с Дорой он уже многому научился. Он упоминает посещения раввинской семинарии, быть может, слишком раболепно, в том смысле, что полагает, будто теперь наконец обрел истинный путь. О болезни своей говорит как бы между прочим — проходит сейчас курс лечения в санатории под Веной. Дора вместе с ним, она осведомлена обо всем, и он просит ее руки, в твердой вере и убежденности, что сможет быть ей хорошим супругом. Поскольку у него нет даже фотографии Дориного отца и он совершенно не знает человека, к которому обращается, ему очень трудно подбирать нужные слова, но Дора все одобряет, для нее главное — что он сделал ей предложение. Она еще ни разу в жизни не была на свадьбе, признается она, так что первая свадьба, на которой ей случится присутствовать, будет ее собственная. В мае, так ей хотелось бы, когда можно будет внизу, прямо в саду отпраздновать. Оттла должна быть обязательно, Элли, детишки, родители, если захотят в такую даль ехать, а еще Юдит и Макс, или, может, только Макс и Оттла. Так, примерно, могло бы все быть. Да? Письмо пока что не отослано, она сама потом отнесет его на почту, конверт уже надписан, и теперь им остается только одно — ждать.
8
С тех пор как он попросил ее руки, Дора совершенно преобразилась. В нее будто вдохнули новые силы, теперь-то уж она тем более не перестанет за него бороться и все, все сделает, чтобы он наконец попал в нужные руки. Им требуется по-настоящему хороший врач, не из тех, кто заранее списывает его со счетов, а такой, чтобы придумал что-то, нашел выход. Макс по телефону ей сказал, к кому обратиться, и вот в начале мая под каким-то предлогом она с утра пораньше едет в Вену в клинику и оформляет на вторую половину дня вызов нового врача. На обратном пути пишет Элли. Честно признается, что вызвала врача самовольно, Франц никогда не должен об этом узнать, а главное, о чем она сейчас просит, — ей срочно нужны деньги, только на этот, один-единственный раз, лишь бы врач Франца осмотрел и назначил необходимое лечение. Профессор Нойман. Сам он, к сожалению, приехать не сможет, посылает вместо себя некоего доктора Бека, это здоровенный мужчина, он прибывает минута в минуту, никуда не торопится и делает Францу от болей какую-то сложную инъекцию спиртом. Но кроме этого мало что можно сделать. Гортань, а отчасти и надгортанник безнадежно поражены болезнью, а умерщвление нерва произвести, к сожалению, не удается. Звучит не слишком утешительно, но что все-таки это означает? Дора ведет доктора Бека в комнату-читальню, где как раз никого нет, и там он открывает ей всю правду. Еще месяца три, говорит доктор Бек. И советует перевезти больного в Прагу, что Дора отметает сразу же, — стоит ей заикнуться о Праге, Франц сразу поймет, что он обречен. Что ж, решать, разумеется, ей, замечает доктор Бек. Очевидно, он полагает, что она жена, Дора чуть было его не поправляет, а сама все никак не сообразит, что же именно он ей сказал своим ответом. Три месяца — это минимум или максимум? Она провожает доктора Бека до дверей, желает ему счастливого пути, а сама, будто оглушенная, еще долго смотрит ему вслед, прислонившись к двери, пока постепенно не начинает понимать.
Роберт, похоже, давно все понял. По телефону он пытается ее утешить, советует пойти прогуляться, в таком состоянии ей нельзя показываться Францу. От ходьбы ей и вправду делается легче, она и не догадывалась, сколько за час можно отшагать, куда-то совсем далеко, до верхних виноградников, где она еще какое-то время сидит на краю лужка, думает о жизни, о том, сколько ей еще с Францем осталось, то в ярости от отчаяния, то вдруг на удивление спокойно, с какой-то неистовой готовностью все принять. Ужасно, но в ней растекается странный покой. Всю обратную дорогу, то и дело спотыкаясь, чуть не падая, она плачет и молится, и потом тоже, всю ночь напролет, до самого утра, но утром она, как всегда, подаст Францу завтрак. От нее Франц ничего не узнает. Они обвенчаются и будут вместе здесь жить. Разве она не знала с самого начала: надо благодарить каждый прожитый день. Вчерашний укол немного помог, и все равно вид у Франца подавленный, словно он все же почувствовал что-то, да и на нее иной раз все еще накатывает, особенно вечером, когда у себя в комнате она думает о баронессе, которую все-таки хотят вылечить, и никак не может смириться с тем, что ее пример к Францу почему-то неприложим. Она позвонила Роберту, которого даже не пришлось долго просить: он уже на днях вернется и будет ей помогать. Она и Максу позвонила, прямо ему сказала, что надежд больше нет, от матери и Элли она до сих пор это скрывала, но ведь те и не спрашивали по-настоящему, по привычке, наверно, словно для них его болезнь всего лишь нескончаемая череда перепадов, то лучше, то хуже. Франц визит врача просто принял к сведению, даже не спросил, кто, зачем, откуда, даже о проклятых деньгах на сей раз не сокрушался. Он очень сдал, но улыбается, когда она приходит, хотя у него боли, это видно при каждом его глотке, а он все равно изо всех сил старается, чтобы она не заметила. Вечером он выпил вина, спросил о почте, когда можно ждать Роберта, что сказал по телефону Макс, который, оказывается, собрался вскоре их навестить, что ж, хорошо, раз уж это Макс, потому что никаких других посетителей он видеть не хочет.
Теперь они ждут Роберта. А вдруг у этого Роберта что-то и получится, или у самого Франца, ведь, в сущности, наше спасение всегда только в наших руках. После визита доктора Бека состояние Франца пока не изменилось. Благодаря уколам он теперь может спать, но вдруг, опасается она, эти инъекции ему вредны, убивают последние целительные силы, какие еще есть в организме? Она не знает. Иногда она желает только одного — чтобы он не страдал, а иной раз начинает тешить себя заклинаниями, что Франц должен выжить, что чудо еще возможно, не исключено. В недавнем разговоре с Элли она пообещала писать каждый день, но горькая правда в том, что она даже с телефонными звонками едва управляется, в ней все пусто и глухо, она просит понять ее и смилостивиться. Прошу вас, я не смогу писать каждый день, оправдывается она в письме, пощадите меня, иначе я просто не выдержу. Вчера им опять выпало несколько счастливых часов. Франц вдруг захотел вина и пил его с большим удовольствием, даже с каким-то радостным любопытством и совсем без боли. Это надо же: именно Элли она обо всем этом пишет. В Мюрице, когда она приняла Элли за его жену, та ей не слишком понравилась, но теперь она видит в Элли почти подружку, после того своего отчаянного крика о помощи из Вены, на который тотчас же пришел ответ, такой теплый, сердечный и добрый.
Больше всего она любит писать у него в комнате, пару строк родителям, а он рядом лежит. После визита врача это первое письмо, но она упоминает лишь затянувшееся похолодание, хороший воздух и уход, который иногда берет на себя. Стеганое одеяло вместе с пододеяльниками и подушкой конского волоса они получили, а вот пуховую подушку, к сожалению, все еще нет, вероятно, лежит на почтамте в Вене, когда она в следующий раз поедет в Вену, обязательно осведомится. На сей раз она особо обращается к отцу, и не потому даже, что Франц об этом просил, а потому, что так много о собственном отце думает, который по сей день ничего им не ответил. Как знать, может, ответ его уже в пути, вот только какой это будет ответ, ведь отец во всем лишь своего чудотворца-раввина слушает. Франц тоже, оказывается, много лет назад свел знакомство с одним таким чудотворцем-раввином, по его рассказам, это был и впрямь очень чудной человек с нечесаной клочковатой бородой, в шелковом халате, из-под которого кальсоны выглядывали. От одной этой нарисованной им картины оба покатываются со смеху. Франц, кажется, снова полон добрых надежд, он хотел бы видеть ее в зеленом платье, — ну, в том случае, если… — и тогда и сама она какое-то время считает это вполне возможным, здравому смыслу вопреки, как это и свойственно большинству грез и мечтаний.
Приезд Роберта вдохнул в нее новые силы, словно позволил снова воздуха в грудь набрать, — ведь в последние недели она почти все время не столько жила, сколько бегала. Теперь она ведет корреспонденцию, отвечает на телефонные звонки, изворачиваясь между правдой и ложью, а ведь на ней еще покупки и готовка, каждые два часа она его кормит, а это значит — погрей, принеси, а потом обратно вниз на кухню. В последние дни Франц лишь изредка выбирался из постели, поэтому она начала сама его мыть, что ей и сладостно, и жутко, ведь у него везде одни кости, и кожа горячая, которую она покрывает осторожными поцелуями, смутно чувствуя, что делает нечто стыдное, запретное, словно видеть его таким ей нельзя. А он снова шептать начал, иногда даже разобрать почти нельзя, что он говорит, — что лежать неудобно, что пить хочет, или как он устал, ох, до чего же устал. Не сердись, просит он, на что она: Я — на тебя? Да как же я могу на тебя сердиться? После долгого молчания снова написала Оттла, вот ей она тотчас ответила. Милая, прекрасная Оттла, так она написала, а сама даже думать толком уже не может, чувствует внутри лишь пустоту и отупение, словно деревяшка, и радуется, когда Роберт что-нибудь делает вместо нее.
Вчера вечером в комнате-читальне они друг другу рассказывали, как каждый с Францем познакомился. Долго говорили — о его семье, о деньгах, которых она попросила у Оттлы и которые, наверно, скоро придут. Роберта только несколько дней не было, но видно, что насчет трех месяцев он сомневается, ведь Францу день ото дня все хуже. Он предлагает ей переписку с семьей взять на себя, пусть у нее чуть больше времени будет на Франца, да и на себя, ведь ей тоже иногда отдых нужен. По Роберту почти и не скажешь, что он и сам болен, ну да, бледный немного, худощавый, но не сравнить с худобой Франца, даже каким она его в Мюрице увидела, куда там. Когда она говорит о Мюрице, у нее до сих пор делается легко на сердце, но иногда ей начинает казаться, будто воспоминания эти изменились, они уже не такие живые и вроде как вдаль отодвигаются, теряют связь с ее сегодняшним временем и местом. Эти первые их недели как будто застывают, словно вещица, которую берешь в руку, потому что когда-то она была тебе бесконечно дорога, — вазу, допустим, или камешек, или ракушку, — а она ничего тебе не говорит, даже отдаленно не может напомнить, что с нею сопряжено и как. После обеда она долго сидит у него на балконе, где он пригрелся на солнышке и уснул. Обычно, когда она рядом, он просыпается, но сейчас нет, он спит крепко, с сомкнутым ртом, ну прямо король, так ей невольно подумалось, или кто-то, чьи мысли мудрено разгадать, словно он уже от них всех очень далек и всецело погружен в какие-то свои, совсем особые раздумья, как прежде, когда он за письменным столом замирал.
В последние дни Франц почти не говорил. Доктор Хофман рекомендовал ему молчать, и он честно старается следовать его предписанию. Так что теперь он общается с ними с помощью записок, на которых чиркает свои вопросы или просто мысли, поначалу не без некоторой неловкости, будто это не всерьез, будто это такая игра, правила которой ему как бывшему чиновнику слишком хорошо знакомы, — он и в самом деле на первых порах делает вид, будто важные бумаги подписывает и вручает. Дора не сразу к этому привыкает, но вскоре новое общение ей даже начинает нравиться, ведь оно дарит ей его любимый почерк, не то чтобы их разговоры теперь, на бумаге, стали значительнее, но, быть может, точнее; к тому же выясняется, что и вовсе без слов можно прекрасно обходиться, можно просто за руку взять, да и глаза на что, а можно просто кивнуть, лоб наморщить, и уже очень скоро у тебя такое чувство, будто ты, что называется, постоянно на связи. К сожалению, он больше ничего не ест. Как ни старается, все тщетно, и это не из-за горла, которое почти не болит, а просто потому, что у него совсем нет аппетита. Как ни уговаривает, как ни заклинает его Дора, он в ответ все чаще только качает головой, страдая от того, что его сперва незаслуженно хвалят, а потом незаслуженно корят, шепчет, что все это напрасный труд, теряет веру. Как же я вас мучаю, просто с ума сойти, пишет он. А в другой раз: сколько же лет ты сможешь это выдерживать? Сколько лет я смогу выдерживать, что ты это выдерживаешь? А она из всего этого воспринимает только одно: он думает о годах, и сразу перестает верить в три месяца доктора Бока, который, быть может, просто не распознал, сколько в нем еще силы. Внутренний огонь, так ей это видится, нечто такое, что само себя из себя же возрождает, ну, может, не только из себя, но по большей части, раз он любит и любим, просто из такой его сильной приязни ко всему и всем.
9
С тех пор как Роберт в санатории, вид у Доры поспокойнее. Ей уже не надо вечно куда-то спешить, теперь она то и дело либо с шитьем или книжкой возле него устраивается, либо просто так приходит посидеть, всякие байки про других пациентов рассказывает, которых в любое время суток в санатории можно встретить — особенно о пресловутой баронессе, с которой ему пример надо брать. Что, к сожалению, на его отвращение к еде никак не влияет, ему тошно от одного запаха, едва Дора с подносом входит в комнату, и он знает: сейчас придется ради нее себя заставлять. К общению с помощью записок он худо-бедно притерпелся. Там хотя бы экономность требуется, качество, ему вообще-то не чуждое, но многое зато остается невысказанным, ночные страхи, огорчение, что все еще нет ответа от Дориного отца. А вдруг, так он иногда думает, раввин взял да и разрешил свадьбу, а отец не хочет его совета слушаться, или, наоборот, раввин против, а отец, из любви к дочери, колеблется, гадает, нет ли все-таки какого-нибудь выхода. Со дня на день он ждет корректур от издательства, новая книжка его рассказов, из-за одного этого ему уже как-то неспокойно. Но пока ждешь, рассуждает он, надежда еще жива. Вот если бы силенок хоть чуть-чуть побольше и чтобы с едой так не мучиться, — и вполне можно какую-никакую жизнь себе помыслить, где-нибудь в деревне, под крылышком у Оттлы, если, конечно, можно это назвать мыслью, ведь в последнее время мысли у него беспрестанно повторяются. Визиты врачей тоже повторяются. Из Вены профессор Хайек приезжал, тщетно пытался сделать инъекцию спиртом против воспаления гортани, а тут еще некий доктор Глас откуда-то выискался, рекомендует новые лекарства и процедуры, раз в два дня предписал ему ванны, что в первую секунду представляется совершенно невыполнимым, однако в конце концов усилиями Доры оказывается возможным.
На следующий день приезжает Оттла. Она давно просилась, сколько раз звонила, и зять его Карл с ней увязался, к полудню оба уже тут. Настроение, понятно, невеселое, но все стараются, ведь кто знает, когда еще доведется свидеться, к тому же под щедрым солнцем все-таки дышится легче. Говорить ему по-прежнему нельзя, приходится изрядно потрудиться над записками. Все вспоминают истории из пражского прошлого, диковинные комнаты, которые он снимал, несколько случаев в Цюрау, и как отец, уже много лет назад, его историю про жука воспринял, ну, про насекомое это жуткое или как там его еще назвать. Около двух Карл и Дора отправляются обедать. Только Оттла никак не решится, стоит в дверях, в смутном волнении, потом, наконец, остается. Она очень много о нем думала, говорит она, и как она рада, что у него Дора есть. Чувствуется, что она еще что-то хочет сказать, но ей трудно, она несколько раз собирается с духом, а он и так все знает. Разве Оттла не была для него всегда чем-то вроде живого зеркала? Она хочет знать, как он себя чувствует на самом деле. Ради меня не надо прикидываться, просит она, в ответ на что он долго ее благодарит, за месяцы в Цюрау, за все, что она для него сделала. Всем страшно, шепчет он. Но это и понятно, ведь ему самому страшно больше всех. Она кивает, ей тоже страшно, как и остальным, шепчет она, и от этого ему вдруг ее присутствие делается почти неприятным. Она смотрит, как он мучается с едой, на его судорожные попытки затолкать в себя несколько ложек Дориного супа. Ну а дальше уже недолго. Только успели приехать — а им уже уезжать. Карл прощается лишь испуганным кивком, а вот Оттла все никак не может от него оторваться. Стоит рука об руку с Дорой, и это, пожалуй, самое прекрасное, что запомнится, думает он, когда они вот так, рядышком, стоят, как сестры.
Напряженность в его отношении к Роберту заметно ослабла. Раньше, когда от Роберта приходило письмо, в нем заранее возникало чувство отпора, каждая фраза чего-то требовала, словно того, что он уже ему дал, Роберту мало, словно у Роберта на него по-прежнему какие-то особые права, как у возлюбленного, а это мысль совсем уж неприятная. Но это позади. Роберт не дает ему ни малейшего повода к недовольству, напротив, он самоотверженно заботлив и внимателен, когда нужен — всегда оказывается рядом, ночами, когда Дора спит, он тихо появляется в дверях либо возле кровати, со свежим компрессом, очередным лекарством или просто добрым словом. Даже мыть себя он позволяет Роберту, что вообще-то Доре не по душе, но это теперь стало нелегким делом, его надо приподнимать, поворачивать, а ей это не по силам. Часто она моет ему лицо, влажной салфеткой, чтобы он хотя бы запах ее услышал, а остальную, порой весьма неприятную часть доделывает Роберт, легко и как бы между прочим. Он рад, что Оттла успела приехать вчера, потому что сегодня уведомил о своем визите дядя. Он, как всегда, громогласен и фамильярен, долго и многословно рассказывает о своем путешествии, о дивной Венеции — вот уж действительно город, который он каждому, каждому настоятельно рекомендует для посещения, — и ни минуты не сидит на месте. Роберта спрашивает: ведь мы с вами, кажется, вроде как коллеги, верно? Он всего лишь простой сельский врач и оценить учреждение во всех тонкостях вряд ли сможет, однако на первый взгляд все вроде бы превосходно: и комната, и вид, да и бесценная Дора, с которой он ведь уже знаком, еще с Берлина, когда я, к сожалению, прямо вынужден был вам сказать, что с Берлином надо кончать немедленно. Он расспрашивает о врачах, досконально вникает, кто и когда какой поставил диагноз, хоть и объявляет, что для него не имеет значения, кто там доктор, а кто профессор. Лишь два часа спустя его удается выпроводить, и то лишь после того, как Роберт достаточно прозрачно ему намекнул. Он жмет доктору руку, обнимает Дору, велит за доктором получше присматривать. Франц, мальчик мой, говорит он, ох, ребятки, — и стремглав выходит из комнаты.
В последнюю секунду Дора успела сказать Оттле, что они хотят пожениться. И теперь уже в который раз, сияя, рассказывает, как Оттла обрадовалась, ты даже представить не можешь как. Она и про письмо упомянула, которое они уже целую вечность ждут, и тут, словно по заказу, едва они об этом заговорили, приходит долгожданный ответ. Дора заранее полагает, что ответ неблагоприятный, и действительно это несомненный и недвусмысленный отказ. Господин доктор сам назвал все причины, он происходит из семьи со слабыми религиозными устоями, по собственному признанию, он еще только начинает искать пути к религии праотцев, вот почему брачный союз невозможен. Тон письма не сказать чтобы нелюбезный, однако касательно существа дела корреспондент не оставляет ни малейших сомнений, не забыв, кстати, в конце письма пожелать доктору скорейшего выздоровления и передать привет Доре, от которой сам он, к сожалению, давно не имеет известий, — вот приговор и оглашен. Неужто он и вправду ожидал иного? Дора, пожалуй, огорчена даже больше, чем он, очевидно, вопреки здравому смыслу, она все-таки надеялась, и вот они оба сидят, как пришибленные, и не знают, как быть. Раз он доверился Дориному отцу, переступить через его запрет он теперь считает себя не вправе, боится, что это будет не к добру, как, впрочем, не к добру и само письмо. Дора пытается его успокоить. Мы же вместе. Разве мы не вместе? И все равно — это тяжелый удар. Он чувствует, как на глазах иссякают силы, или это просто из-за двойного визита, ведь всякий визит стоит ему сил, — и в таком вот удрученном настроении они принимают Макса. Тот на несколько дней вырвался в Вену по делам и честно силится как-то их утешить. Спрашивает о корректуре, которая все еще где-то в пути, читает письмо Дориного родителя, находит его не столько скверным, сколько странным, хотя по результатам оно, конечно, скверное, впрочем, главная ошибка, видимо, в том, что это письмо им вообще понадобилось. Что-то в этом духе он изрекает. Если, конечно, доктор правильно его понял, ведь ему все труднее сосредоточиться, а кроме того, они вообще почти не знают, о чем говорить. Все отодвинулось куда-то неимоверно далеко, история с Эмми, над чем Макс сейчас работает, какие именно дела привели его в Вену, — доктора все эти вещи словно бы уже не касаются. Сам он в последние недели ничего не пишет, но Макс даже об этом и не спрашивает, и в два следующих визита тоже, они расстаются, мало что сказав друг другу, словно не осознавая, что он, вероятно, уже не поправится, что они, скорей всего, вообще не увидятся больше.
Несколько дней ему страшно. Ночами, когда он лежит без сна и вокруг только безмолвие, когда он истово прислушивается к малейшему звуку в этих дебрях тишины, спасительное журчание воды в кране, чьи-нибудь шаги, шепот из-за стенки, в палате соседа, — лишь бы ухватиться хоть за что-то, за любую соломинку, доказывающую, что жизнь еще идет и что это всего лишь ночь и завтра утром ты благополучно проснешься снова.
Роберт привез из Вены кулек черешен — первое предвестье настоящего лета. Уже середина мая, он целую вечность не был на улице, лишь от случая к случаю выползает на балкон, и то все реже. Но глотать более или менее получается, под строгим взглядом Доры он ест, она следит и за тем, чтобы он вовремя, не позже девяти, половины десятого, ложился спать. Часто она еще и в полночь к нему заглядывает и, если он не спит, садится рядом, потому что так, в темноте, многое бывает легче сказать, о том, как ему страшно, и как он жалеет, что отцу ее написал, но он не мог иначе, и потом опять — как ему страшно. Когда она его целует, становится ненадолго легче, он тогда забывает, где он и кто, тогда все почти так же, как прошлым летом. Разве не чудо, что она здесь, с ним? Что она живет независимо от него, даже сейчас, вот в эту минуту? Что она дышит, что ее сердце бьется? Что вообще есть еще бьющиеся сердца?
С тем, что он не пишет, он уже мало-помалу свыкся. Тем больше радость, когда Дора приносит конверт с первыми корректурами и он своими глазами может убедиться, что знавал и иные времена. Никогда он не был особенно ретив, но все-таки кое-что сделал, есть вот эти истории, его имя на титульном листе, конечно, это еще не книга, в руку не возьмешь, но есть стопка печатных страниц, красивый шрифт, не такой крупный, как в «Сельском враче». Поначалу он не столько правит, сколько просто читает, «Голо-даря», со слезами на глазах. Сейчас смог бы он так? Полусидя в кровати, он читает, надеясь, что никто ему не помешает, ведь время от времени заглядывает врач-ассистент, и от него так просто не отделаешься. Больше часа он остается совсем один. Есть время, есть о чем вспомнить, он иногда откладывает листы в сторонку и наслаждается тем, что снова может хоть немного поработать, и на завтра, как ни трудно в это поверить, у него тоже еще работа останется.
10
Письмо с отцовским отказом Франц ей показал только мельком, но и много дней спустя она все еще в ожесточении, вспоминает, будто это было вчера, все, из-за чего она ушла из дома, за два года дважды уходила, и почему не может отца простить, почему ни слова ему не пишет. Увидев, как тяжело Франц воспринял эту историю, она даже подумала, что, быть может, сумеет переубедить отца, — если бы он только знал, что с Францем на самом деле, ведь ему жить осталось всего ничего, — какое имеет значение, правоверный он иудей или нет, если человек умирает, разве все это значит хоть что-нибудь? А если значит, то что? Что все это дерьмо собачье — вот что это значит! Это значит, что у отца ни капли сострадания нет, что у него только его Бог и есть, а сострадания, милосердия — ни на грош, а коли так, она и писать ему не будет. Франц сказал: мы обязаны уважать, надо с этим считаться, нам со многим в жизни приходится считаться, в том числе и с возможностью чуда. В тот день, когда письмо пришло, она внизу встретила госпожу Хофман, а сама вся в слезах, ну, и все ей рассказала. Теперь выясняется, что это было серьезной ошибкой, с тех пор Хофманы, оба, от нее не отстают, убеждают, что ей и Францу надо как можно скорее пожениться, она обязана подумать о своем будущем, времени, к сожалению, остается немного. В первый раз они официально приглашают ее в ординаторскую, где оба восседают с самыми серьезными минами, она даже пугается, уж не случилось ли чего. Госпожа Хофман заготовила целую речь, они только добра ей желают и все необходимое подготовят сами, раввин, чиновник из магистрата, все, что нужно, — Дора тотчас в ужасе все отвергает, нет-нет, Францу это будет не по душе. Что ж, как вам будет угодно, соглашаются супруги, на чем, как она считает, дело и исчерпано, но не тут-то было, с тех пор дня не проходит, чтобы они тем или иным образом ей об этом не напомнили. Они отводят ее в сторонку, попеременно, то он, то она, а потом еще и врач-ассистент, и всякий раз она говорит «нет», а сама просто не знает, куда от них деваться.
Францу обо всех этих разговорах она, конечно, ни слова не сказала. Но он, похоже, что-то все-таки заметил, спрашивает, нет ли новостей, чего-то такого, о чем я должен знать, на что она отвечает отговорками. Встретилась с доктором Хофманом, поболтали немного, о том, как они оба рады, что он такой умница, старается есть и пить, и вино и пиво тоже. Больше всего она доверяет молодому доктору Гласу, который приезжает три раза в неделю, — это он посоветовал ей для улучшения аппетита добавлять в пиво белковые порошки, тайком от Франца, который, правда, хотя и заметил, что пиво какое-то невкусное, но пьет, не капризничает. И с едой она тоже колдует по-всякому, яйцо регулярно добавляет, без особой надежды на улучшение, но просто ради поддержания сил. С тех пор как пришли корректуры, тихая санаторная жизнь, похоже, опять ему в радость, он сидит в постели и правит, не очень много, то тут слово, то там, пока не устанет. Однажды пишет ей: как мы могли столько времени обходиться без Р.? Ведь если Дора вообще почти не выходит из дома, Роберт раза два в неделю ездит в Вену, и всякий раз привозит новые цветы, которых у них теперь, пожалуй, даже многовато, — и боярышник, и аглайя, и белая сирень.
А лучше всего, на ее взгляд, бывает, когда они в комнате вдвоем и каждый занят своим делом, это напоминает ей Берлин, вечера, когда он при ней писал. То была совсем особая тишина, напряженная, но вместе с тем и вдохновенная, какая-то легкая, он сидел и писал, склонясь над столом, это в первые недели было, когда она его работы, писательства его, еще почти боялась. Из Праги прислали авторский экземпляр его мышиной истории. Франц показал ей газету, но только теперь она начала читать, потому что Роберт прочел и спросил, что она об этом думает. Про этих мышей Франц ей рассказывал. Интересно, это из берлинских времен или еще из Праги? Если честно, ей совсем не хочется читать, и не столько из-за мышей, а потому что вообще страшно, вдруг она какую-то новую правду узнает, к которой не готова совсем, про себя и про него, как тогда, в той истории про крота, хотя про нее там только мельком упомянуто. Что она — мясо. Нечто, что требуется от случая к случаю. Когда он голоден. Тогда ей даже понравилось, хотя и не без содрогания, что разгадка в конечном счете так проста. Только разгадка ли это? По счастью, новая история совсем другая, гораздо нежнее, так ей кажется, и с легкой насмешкой над этой Жозефиной, в которой она без особого труда узнает Франца. А о ней там вроде бы ни слова, но это даже неплохо, хотя под конец, пожалуй, все-таки плохо, потому что в конце он ужасно одинок, там, где он пишет о смерти своей и о том, что после него ничего не останется, кроме воспоминаний. Это самое ужасное из всего, что она читала. По счастью, она одна, рядом никого, уже давно пробило одиннадцать, и она сидит, одна-одинешенька, и сморит в тусклое, бесцветное будущее, когда его больше с ней не будет, Господи, или ее самой, если такое вообще можно представить, так странно, и такая вдруг неодолимая тоска оттого, что все так тщетно.
Франц теперь много спит, и среди дня тоже, на балконе, на солнышке, и так блаженно, словно он давно уже в таких краях, куда им, посторонним, доступ заказан. Сегодня за завтраком он попросил ее снова написать родителям. Роберт старается, но для родителей он человек незнакомый и, наверно, не всегда умеет найти нужный тон. Впрочем, рассказывать-то особенно нечего. Можно только увещевать, успокаивать и размышлять о том, каково бы оно было, если бы родители все-таки сюда выбрались и сами посмотрели, как хорошо и уютно Францу здесь живется. Написать, что он все больше и больше становится ребенком? Самое поразительное — он сам, первый, об этом начинает. У него совесть нечиста оттого, что так долго не писал, но это все потому, что он, как всегда, вообще старается отлынивать от труда и усердия в любой их форме, разве что при еде ему приходится теперь напрягаться чуть больше, чем, должно быть, при блаженном посасывании в пору далекого младенчества. И — вообще впервые за все время — обращается к отцу. Перечисляет напитки, которые охотнее всего пьет, из пива крепкое солодовое «Швехатер», а из вин — «Жемчужину Адриатики», с которого, впрочем, он недавно перешел на токайское, однако в столь мизерных дозах, что отцу это явно будет не по вкусу, как не по вкусу и ему самому. Верно ли, что солдатом отец служил в этих краях? Случалось ли ему бывать в здешних винных ресторанчиках? Как бы ему хотелось с отцом тут посидеть и вместе, большими глотками, отведать молодого вина, ибо если по части выпивки он не особенно силен, то уж по части жажды нынче любого за пояс заткнет.
Вот уже несколько дней у него весьма болезненный кишечный колит, он не то что есть, даже пить почти не может, Роберт и доктор Глас уже подумывают об искусственном питании. Дважды в день ему делают укол спирта, но эффекта почти никакого, его донимают жар и жажда, и конца этой муке не видно. Он уже начал прощаться, пишет длинную открытку Максу, которую она после обеда относит на почту. Будь счастлив, пишет он, и спасибо за все. Снова и снова она вынуждена думать, что самое страшное совсем близко, и всякий раз мысль эта по-новому пугает и по-новому непостижима. А тут еще госпожа Хофман прохода ей не дает, мол, времени осталось немного, поторопитесь. Она пробует позвонить Оттле, посоветоваться, та от горя почти не в силах говорить, что-то робко, беспомощно лепечет, но все-таки отвечает утвердительно. И Роберт туда же клонит. Но потом она идет к Францу, сидит с ним, видит, как он все еще надеется, и у нее духу не хватает его спросить.
Почти в каждой его записке теперь речь о питье. Она, конечно, вспоминает случаи, когда сама очень хотела пить, но все равно неспособна ощутить, какая это, должно быть, для него пытка. Он просит хорошей минеральной воды, просто так, любопытства ради, но выпить может от силы глоток-другой, и то лишь изредка, даже стакана за день не осиливает. Когда Дора ему предлагает, он только головой трясет, и завидует увядающей сирени в большой вазе, она умирает, а все еще пьет, не всякому умирающему такое дано. У него странная улыбка, когда он пишет такие вещи, словно только благодаря этим записочками он еще и жив. Дора, кстати, уже несколько дней, как заметила, что Роберт эти записки собирает — тайком от Франца, когда тот не смотрит, он их припрятывает. У нее разрешения не спросил, но она, пожалуй, скорее бы разрешила, чем нет. Иной раз ей совершенно ясно, что эти дни — последние, а потом вдруг все опять в голове перемешается, и она ни за что не хочет его отпускать. Когда смотрит, как он мучится, пытается из последних сил внушить себе, что у них все было, хоть и совсем недолгий срок, но было же счастье, самое полное, какое только может быть. А потом опять — хоть вой, хоть криком кричи, ведь даже года не прошло. Ибо когда он уйдет, она все, все потеряет — его руки, его губы, защиту и опору, которую он ей давал, словно их любовь — это дом, откуда ее теперь навсегда хотят на улицу выгнать.
А Хофманы вызывают ее для новой беседы. Все их доводы и увещевания она уже наизусть знает, поэтому идет, особенно даже не волнуясь, но на сей раз они затеяли нечто серьезное, пригласили служащего из еврейской общины, и вот перед ним она, Дора, должна будет сказать Францу, что она согласна. Поначалу она просто замечает какого-то человечка, время после обеда, она уже устала, раздражена, а доктор Хофман с супругой готовы быть свидетелями, уговаривают ее как неразумное дитя, что-то про ее будущее, что она совершенно не обеспечена, что надо о себе подумать. Она отказывается. При чем тут жизнь, какая вообще жизнь, если Франца не будет, что тогда от нее самой и от ее жизни останется? Она не может себе этого представить и так прямо им об этом и говорит: для нее важен только Франц. Почему вы отнимаете у него последнюю надежду? Госпожа Хофман возражает: но ведь это было бы так красиво! Разве он не просил вашей руки? Да, просил, соглашается она, но ее отец не дает благословения на этот брак, и вообще какое это имеет значение, да и было это уже сколько недель назад. С этими словами она встает и выходит из комнаты. Она твердо решает, что больше с Хофманами слова не скажет, и с Робертом не разговаривает, потому что он с ними спелся, ее как будто всю в грязи вымазали, думает она, но уже вскоре велит себе собраться, встает и идет к Францу.
11
В последние дни самочувствие перепадами, после уколов он проваливается в полудремотное забытье, но постоянно, денно и нощно, хочется пить, и улучшения никакого, наоборот, неотступная жажда только усиливается. Во сне он пьет куда чаще, чем наяву, наяву удается выпить лишь немного воды и за неделю с трудом осилить бутылку токайского. Но он не чувствует, что это последние его дни. Все существо, хоть и не без сомнений, отказывается верить — пусть иной раз он каждой клеточкой тела ощущает, что ничего, кроме немощи, в нем не осталось, зато потом вдруг, в следующее мгновение, он снова собирается с силами. Особых дел у него, к сожалению, нет, вычитанные корректуры уже в Берлине, а верстку еще не прислали. Он доблестно сражается с трапезами, Роберт и Дора его моют. Иногда сидит на балконе, листает какую-нибудь книжку, газету лучше не надо, хотя иногда не пренебрегает и газетой, читает письма из Праги, ответы на которые за него пишут другие, но не на все, те, что остаются без ответа, копятся стопкой на ночном столике. Спроси его кто-нибудь, как он себя чувствует, пришлось бы признаться, что хуже никогда не было. Но голова у него ясная, он исправно пишет записочки, восхищаясь терпением, которое проявляют Роберт и Дора и на которое сам он, на их месте, вероятно, не был бы способен.
Когда он один, он часто думает об отце. До недавних пор во всех своих письмах он всегда только к матери обращался. Писал вроде бы обоим, но думал о матери, а теперь вдруг то и дело видит себя вместе с отцом в самых разных летних питейных заведениях. Старое поминать не хочется. Достаточно, что отец в его воспоминаниях снова присутствует, что отец снова у него есть, и не только грозной тенью, но и просто как человек, который, как все, пытается выстоять в тяготах собственной жизни, и, быть может, это нечто вроде прощения — через все те бессчетные километры, что сейчас между ними пролегли. Появись сейчас отец здесь, он, наверно, окаменел бы от ужаса, но пока что Доре удавалось удержать родителей от столь дальнего путешествия. В конце концов, он здесь не один, есть люди, которые за ним ухаживают, в Праге ему наверняка было бы ничуть не лучше. Интересно, остался бы отец им доволен хотя бы сейчас, устроил бы он отца в качестве умирающего? Наверно, сначала похвалил бы, но потом, как водится, изъявил бы недовольство, что он копается, отец ведь раздражительный донельзя, а уж с доктором чуть что, сразу терпение терял, и не всегда без оснований. Отец похлопал бы его по плечу, потом сказал бы: вообще-то ты сызмальства был не особенно поворотлив, но сейчас, я вижу, ты молодец. Чтобы потом, как всегда внезапно, сменить милость на гнев: слушай, а почему так долго? Ты, как всегда, не торопишься, знаю я тебя, но так же нельзя, люди ждут, побойся Бога, сколько еще ты намерен заставлять людей ждать?
По Дориному лицу не угадаешь, что она на этот счет думает. Она почти не спускает с него глаз, даже когда он спит, а спит он теперь очень много, можно сказать, без зазрения совести, то на балконе в кресле, то в постели. Когда просыпается, его порой охватывает тоска по ее телу, вспоминается Берлин, как она с ним лежала, Мюриц, в пансионе, когда она спросила: ты хочешь? Он видит ее губы, шею, плечи, тело под платьем, потаенные места, которых он касался сто лет назад, но даже и сейчас еще мог бы коснуться. Сегодня вечером тоска совсем уж невыносима, и смотри-ка, похоже, она это почувствовала, неужели их и сейчас еще тянет друг к другу? А если бы они поженились — это было бы так же или уже по-другому? Робкой ощупью пробуют они плоть друг друга, пробуют просто радость прикосновений, пытаются пробудить, насколько это возможно сейчас, то, что так жаждет пробуждения. Любимый, шепчет она, хотя он не вполне уверен, что она это сказала, но она здесь, она с ним, совсем как Оттла, прилегла на кровать рядом, такая нежная, такая юная, его это трогает почти до слез. Как же давно это было, когда он плакал — о ней и о себе. Оба замерли в неподвижности, утешенные тенью утехи и радости, той радости, думает он, в которой и есть их истина, если только она вообще бывает на свете, ибо никогда он не чувствовал в себе эту истину так близко.
Родители прислали открытку срочной почтой. Видимо, Дора пожаловалась на долгое отсутствие вестей, что и неудивительно при их нынешнем прогулочном образе жизни. Погода в Праге просто великолепная, они то и дело выходят гулять и предаваться всяческим питейным радостям, что вызывает у него даже некоторую зависть. Похоже, чуть ли не весь город высыпал на улицы. Люди сидят по берегам реки или отдыхают наверху, на холмах, которые он все, конечно, помнит и сейчас еще раз окидывает мысленным взором, вспоминает послеполуденные часы где-нибудь у воды, свои прогулки на лодке. Теперь, навсегда покинув этот город, он вдруг видит его как бы по-новому, с неожиданной приязнью, как в свое время, много лет назад, смотрел на Милан или Париж, свежим взглядом чужеземца, взглядом, который, он знает, сродни слепоте, этакая доверчивая, до всякого опыта, готовность окунуться. А разве с людьми не так же? Поначалу ты будто околдован, видишь только незнакомое, и лишь оно притягательно, поэтому ты заранее готов смириться с мелкими промашками и заблуждениями на чужой счет. Да и что нам заблуждения? Разве все на свете не есть всего лишь путь? И разве всякий путь не ведет к цели? Только вот сюда, на эту милую улочку, еще загляну. Она плавно уходит под гору, не очень понятно куда, но потом, на полпути, где-нибудь, скажем, под Градчанами, вид открывается невероятный.
Едва ли не главное, что его сейчас занимает, — он ждет верстку из Берлина, но, когда ту приносят, он в первую секунду почти пугается. Однако потом все-таки приходит радость, снова, фразу за фразой, читать то, что ты сам написал, на сей раз уже не так удивляясь, все-таки впечатления еще свежи, но тем больше обращая внимания на всякие мелочи. Просто поразительно, сколько всего всякий раз забывается. Ведь бился над каждым предложением, а вспоминается в лучшем случае все только в самых общих чертах, да еще тут и там какая-нибудь подробность, неизвестно почему запавшая в сознание, — вдруг ни с того ни сего сверкнет блесткой.
Он с Робертом говорил, о конце, возможна ли тут, в последние часы, какая-нибудь помощь, чтобы не слишком мучиться. Дора ушла за покупками, поэтому можно все спокойно обсудить, на записке перед ним давно знакомые альтернативы. Смерти от голода он боится меньше всего, по этой части у него уже есть некоторый опыт, боится он смерти от удушья, ну и от жажды тоже приятного мало. Так как же это будет? От чего вообще умирает тело? Просто сердце останавливается, или легкие отказывают, или мозг, ведь по-настоящему конец — это когда уже не можешь думать. Роберт не особенно удивлен, он давно уже об этом размышляет. Медикаменты есть, говорит он, называет опиум, морфий, обещает, что поможет, не бросит. Разве не странно, что они вот так просто говорят об этом? Доктор не в первый раз задается вопросом, чего ради Роберт все это делает, с какой стати вот уже которую неделю сидит тут, а не живет своей собственной жизнью. Пишет это на записке. Почему вы о себе, о своей жизни не позаботитесь? На что Роберт отвечает, что вот тут, в этой комнате, и есть его жизнь, я с вами, и мне дорога каждая минута. Возможно ли, вообразимо ли такое? На какое-то время, наверно, да, думает он, вероятно. Он сейчас и по себе это знает, потому что даже такая жизнь — все еще жизнь, да, и она ему нравится, пожалуй, даже сильнее, чем когда-либо прежде, даром, что ли, он готов радоваться по любому, самому дурацкому поводу.
С работой он не особенно торопится. Готовую книгу ему в руках не держать, уж это-то он сознает, пока под взглядом Доры читает и вносит правку, в надежде, что кое-что все-таки останется, доказательство, что он старался, что видел свою задачу и не убоялся ее, неважно, какой потом будет вынесен приговор. Он многое понял поздно, а что-то скорее предчувствовал, чем понял. Но все-таки, все-таки он поехал с Дорой в Берлин, он решил все сам, не колеблясь, и вот она до сих пор с ним, и это гораздо больше, чем он смел надеяться. Она принесла новые цветы и спрашивает, как обычно, не нужно ли ему чего-нибудь, — нет, ему ничего не нужно. Через открытое окно в комнату влетают ароматы, уже не столь настырные, как недели назад, в пору первого цветения, ведь уже конец мая, почти лето, летом год назад они познакомились. Когда Роберт в комнате, она почему-то слишком уж охотно об этом вспоминает, какие-то подробности, которые он давно забыл, тогда на мостках причала, как он вдруг ее обнял. Помнишь? Вообще-то вовсе он ее не обнял. Скорее это был намек на объятие, подступ к нему, первая попытка прильнуть к ней, прислониться, опереться, а уж в этом искусстве он давно понаторел. Ночи с ней — вот чего ему недостает. Разве не чудо, что можно выбрать кого-то, с кем ты лежишь ночью в одной постели и даже спишь, словно это самая обычная вещь на свете? Рядом с ней он, пожалуй, стал мужественнее. Или он сперва стал мужественнее и поэтому оказался рядом с ней? От нее он хотел бы иметь детей. И вообще — разве не странно, что вопросы и желания не иссякают в человеке до самого конца?
12
Вот уже несколько дней он, кажется, снова чувствует себя лучше. Она не знает, в чем тут дело, может, всему причина работа над версткой или их шепот ночами, когда она всякие глупости ему рассказывает, про то, как, еще маленькой девочкой, когда мама умерла, не давала остричь себе волосы и потом долго еще с длинными косами ходила. Про школу свою рассказывает и про то, как хотела, чтобы у нее братья-сестры были, как Оттла и Элли, с которыми она теперь каждый день перезванивается и всякое, даже ерундовое изменение обсуждает. Хофманов по возможности старается избегать. Они, судя по всему, смирились с ее отказом, и все равно ей неприятно встречаться с ними, особенно с женой, с такой жалостью та на нее смотрит, чем-то смахивая на сову, которая с недавних пор ей, Доре, стала сниться. Один и тот же сон, в котором даже ничего не происходит. Птица просто сидит и во все глазищи на нее таращится. От этого взгляда ей даже не страшно, во всяком случае, там, во сне, где для нее это просто глупая птица, залетная, думает она, а просыпаясь, сразу понимает: это вестник, и весть ей тоже известна давным-давно.
Ей написала Юдит. В прошлом письме она была ужасно деловая, а теперь вдруг у нее вся жизнь наперекосяк пошла. Она беременна от своего Фрица, а тот вернулся к жене, и ни о какой Палестине теперь не может быть и речи. Письмо очень взволнованное, горькое, какое-то чужое, словно там, в Берлине, она бог весть какую жизнь ведет. Франц умирает, а Юдит ждет ребенка, которого наверняка не хочет, хотя, сложись все иначе, как знать… Она совсем голову потеряла, мечется день и ночь у себя в комнате, как львица в клетке, все не может решить — сегодня так решит, завтра иначе. Дора даже не знает, что ей ответить. Пишет, что желает ей мужества, что никак не может ей сейчас помочь, у нее у самой сейчас ужасные дни, каждое утро она просыпается с одной надеждой — лишь бы он еще дышал, потому что пока он дышит, она все готова вынести, причем с радостью. Франц считает, что все совсем не так плохо, он даже рад, а что Юдит в Палестину не может, ну так что ж, хотя почему, собственно, нет, может, ей бы со временем вместе с ребенком в Палестину податься, вместо него и Доры.
Ночью в постели, когда птица смерти опять ей во сне привидится, она пытается молиться. Только не знает, о чем — о чуде в последнюю минуту или чтобы ей достало сил выдержать, когда его не станет, потому что скоро, она чувствует, его здесь не будет, она его потеряет, утратит — сколько ни плачь, сколько ни клянчь, сколько ни моли. Под утро стук в дверь, и она тотчас вскидывается — уже? Но нет, это только Роберт, пришел рассказать, что ночь была беспокойная, Франц много раз просыпался, спрашивал про нее. Увидев ее, он весело стучит ладонью по одеялу, он явно рад ее видеть, но и только, дальше обычная болтовня с помощью записок, но никаких серьезных признаний, последних испытующих слов, он просто лежит и смотрит на нее, указывает на открытое окно, откуда доносятся первые птичьи трели. Спать то ли не может, то ли не хочет. Появляется Роберт, но сразу уходит, чтобы им не мешать, потом приходит снова, приносит завтрак, а Доре кофе, к которому та почти не притрагивается. Около полудня он засыпает. Она следит за его дыханием, дивясь собственному спокойствию, тому, что нет у них друг для друга никаких особых слов, хотя все так явно к концу приближается, ведь он уже несколько часов не спит, снова шептать начинает, все какие-то очень приятные вещи, ему, правда, целая вечность нужна, чтобы их высказать, говорит, что видел ее актрисой, во сне, на сцене, в какой-то совершенно неизвестной роли.
И опять она с ним. Она его поцеловала и потом долго не могла решить, сесть ли ей на стул или на кровати остаться, где ей лучше его видно, ибо она хочет еще раз спокойно его рассмотреть, руку, что лежит сейчас на одеяле, по отдельности каждый палец, подушечки пальцев, ногти, сгибы, потом лицо, его ресницы, рот, тихо трепещущие крылья носа, при этом она то и дело задремывает. Она чувствует, как от неудобной позы затекает спина, но уже вскоре вознаграждена за это неудобство тем, что Франц ее будит. Да, ей даже что-то снилось, но теперь он ее будит, гладит ее по волосам, уже давно, как он уверяет, практически одними губами, без голоса. А ей снилось, как они пили пиво, вместе, и родители тоже были, чокались с ними из-за соседнего столика. Франц по-прежнему не хочет, чтобы они приезжали, в последнем письме они недвусмысленно грозились, поэтому надо их отговорить, в длинном письме, где он нагромождает препятствие на препятствии. Роберт тем временем принес две вазочки с клубникой и черешней, письмо покамест может и подождать. Ближе к вечеру он снова принимается за верстку. Сегодня не закончит, но вид у него довольный, засыпая, он держит Дору за руку, не очень крепко, она даже иногда забывает, не чувствует, такая легкая, такая невесомая у него рука, словно вот-вот улетит.
Вчера он во сне то и дело шевелил губами. Слов она не разобрала, но он, вне всяких сомнений, что-то порывался сказать, снова и снова одни и те же слова, что-то вроде изречения, но не молитву, хотя со стороны вообще-то очень похоже было, прямо как правоверный иудей в синагоге. Ей только кажется, что он сегодня тяжелее дышит или это правда так? Днем он много кашлял, но ее это не особенно беспокоило, не больше обычного, она долго на него смотрит, а у самой от усталости даже и мыслей почти никаких нет. В четыре утра она просыпается. Она лежит у него на ногах поперек кровати и слышит какие-то странные звуки. Это Франц, она сразу понимает, он хватает ртом воздух и как-то жутко руками по одеялу сучит, а ее вообще не видит, — она тотчас вскакивает и мчится за Робертом. Вот и все, думает она. Как рыба, думает она. Но разве рыбы хватают ртом воздух? Господи, любимый, шепчет она. Стоит у кровати и не знает, что делать, чем помочь, пытается его утешить, но тут прибегает Роберт с врачом-ассистентом. Ее выставляют из комнаты. Францу надо сделать укол камфары, может, еще и морфия, по крайней мере, они это обсуждают, и льда немного принесли, температуру сбить, и все это вроде даже помогает. Правда, вид у Франца страшный. От приступа он совсем обессилел, но ей позволяют к нему присесть, она держит его за руку, гладит по щеке, хотя он почти все это время спит. Она сидит над ним час за часом, словно окаменев, словно выпав из времени, в звенящей и чистой пустоте. Пожалуйста, не надо, шепчет она. Не бойся. Я с тобой. Только слышит ли он ее вообще? Через какое-то время Роберт, не в силах больше на это смотреть, уговаривает ее сходить на почту, чему она поначалу противится. Но потом, все еще с неохотой, все-таки идет, в первых лучах утреннего солнца, вышагивая по дороге бездумно, как автомат. Отдает последние письма. Передышка ей и правда на пользу, она бы, пожалуй, еще немного прошлась, как вдруг видит — к ней со всех ног мчится ассистент, машет ей, знаки подает, потом она и голос его слышит, скорей, скорей, господин доктор. Хотя ее всего каких-то полчаса не было, Франц за время ее отсутствия изменился разительно, весь как будто съежился, словно от него только половина осталась. Но он в сознании, улыбается ей, кивает, прежде чем в изнеможении снова закрыть глаза. Около полудня он умирает у нее на руках. Странно, но она понимает это мгновенно, может, вздох такой, какой-то особенно тихий, но она тотчас же это знает. Пришел Роберт, пришел врач-ассистент. Какое-то время она еще лежит с ним рядом, не выпуская его из объятий, словно ребенка, проносится у нее в голове, хотя он мужчина и был ее мужем. Наконец она встает и накрывает его с тем же неправдоподобным чувством разлуки, что и тогда, на перроне, когда Франц уезжал с Максом и все не хотел уходить в вагон. Потом начинает его обмывать. Сперва Роберт увел ее из комнаты, принес ей кофе, но теперь ей надо обратно, к нему, она обмывает его с особой благоговейной бережностью, лицо и все тело, все любимые местечки. Так проходит день. Роберт позвонил в Прагу, спрашивает, может ли чем-то помочь, — да, он может. Она спрашивает Франца: ты ведь тоже не против? Вместе они переодевают его во все чистое, потом в темный костюм, — он давно его не носил, — и только после этого она хоть как-то успокаивается. Есть она не хочет. Роберт дал ей какое-то снадобье, и теперь им можно присесть, передохнуть и обсудить, что делать дальше. Для Роберта не подлежит сомнению: им надо везти его в Прагу. Господи, ну да, говорит она, вот, значит, как она в Прагу приедет. Франц умер, и она поедет с ним в эту проклятую Прагу.
В первую ночь она и Роберт почти не спят, снова и снова повторяя себе, что они это знали. Они успели попрощаться, только разве ужас от этого меньше? Они теперь уже не те, что были прежде, говорят они, они словно дети из сказки, которых выгнали из дома на все четыре стороны, вокруг и в душе холод и страх, хотя на дворе лето, дни стоят солнечные, один другого краше. Роберт умоляет ее наконец поспать, но только когда он обещает, что потом сходит вместе с ней к Францу, она позволяет себя уговорить. Проснувшись, она долго не может понять, где она, в первый миг ей кажется, что в Берлине, и только потом она все вспоминает. А ей Берлин снился, квартира на Хайдештрассе и как она там Франца ждала. Целую вечность она не может толком проснуться, потом кофе, потом они снова идут к Францу. Только он ли это еще? Когда его трогаешь, все тело пробирает озноб, и лицо ужасно строгое, неприступное просто, она долго не решается его поцеловать. Она хотела бы сохранить что-то на память и берет халат, записные книжки, щетку для волос. Госпожа Хофман говорит, что его скоро заберут и перевезут в морг на кладбище, вот почему она торопится напоследок еще раз сказать ему, что он для нее значил, с самого начала. Но с мертвым трудно говорить, он и не слушает толком, и она умолкает. Вдобавок у них, к сожалению, еще и гости. Прибыли Карл и дядя, и сразу же, кощунственной помехой их горю, возникают некрасивые сцены, ибо дядя хочет хоронить здесь, в Кирлинге, в то время, как Дора настаивает на Праге, и тихий надгробный этот раздор в итоге разрешается лишь телеграммой от отца: во всем руководствоваться только желаниями Доры.
Последующие дни проходят непонятно как. В морге он становится ей все более чужим. Она плачет, она не узнает его больше, и потом снова, когда закрывают гроб и забирают его у нее уже навсегда. Для транспортировки надо улаживать тысячу формальностей, Роберту приходится бегать по учреждениям, выправлять нужные бумаги, но в конце концов все они собраны, и наступает день, когда они прощаются и садятся в поезд, в котором где-то сзади едет и Франц. Больше недели спустя после его смерти они прибывают в Прагу. Она знакомится с его родителями. Здесь же и сестры, все три, и прислуга, стоят будто каменные. Большинство из того, что ей показывают, она лишь видит, но по-настоящему не воспринимает — его прежнюю комнату, где ей позволено жить, его кровать, его письменный стол, который для нее всего лишь обыкновенный стол, каких много. Когда не плачет, она сидит за большим столом и пытается вспоминать. Франц в своих письмах, конечно, изрядно их жизнь приукрашивал, теперь она может то одно, то другое подправить, уточнить, рассказать, как было на самом деле и как им друг с другом было хорошо, с самого первого дня. Пока рассказывает, ей вроде легче. Зато на кладбище совсем худо, отверстая могила, горы цветов, и камушка нет, чтобы бросить, но потом все-таки приносят, и теперь здесь, на могиле, у нее опять появляется что-то вроде опоры, цель, место встречи, где она каждый день может с ним поговорить. Друзья Франца организовали литературный вечер, читали разные его вещи, большинство из которых остается ей чуждо, словно это другой Франц, которого она еще не знала. Но разве и каждый человек для разных людей не разный? Вон Франц родителей своих до последнего дня боялся, хотя в ее глазах это всего лишь убитые горем старики, что скорбят вместе с ней и не хотят ее отпускать. Так проходит июнь и половина июля, а она все еще остается в его городе. Никакой радости не приносит ей встреча с Максом, который обнаружил множество рукописей Франца, романы, восклицает он, рассказы, фрагменты, он все это постепенно хочет опубликовать и сейчас всех, кого можно, расспрашивает, не осталось ли у них чего-нибудь написанного Францем, и просит отдать ему. Она отнекивается, и он вроде бы смиряется, но, когда они встречаются во второй раз, снова начинает приставать, вы ведь друг другу писали, где последние записные книжки, но она тем временем уже все обдумала и пришла к выводу, что нет у него на это никакого права. В конце июля начинает замечать, что в душе понемногу проясняется. Если в начале месяца, в день его рождения, ей казалось, что она от боли вот-вот расколется, то теперь чувствует, как понемногу к ней возвращаются силы. Оттла и мать много всего ей о Франце рассказали, каким он был ребенком, потом студентом, Прагу ей показывали, реку и мосты, дорожки, по которым он хаживал, улочки старые, отцовский магазин. И отец тоже о Франце горюет, правда, все больше про себя, то и дело качает головой, как будто все еще поверить не может, в том числе и в Дору, в то, что Франц такую, как Дора, найти сумел. Так что же ей — обратно в Берлин? А она и придумать не может, куда бы еще, даже если в Берлине ей все о Франце напоминает. Но разве сыщется теперь место, где она будет без Франца? И Юдит как раз написала, она решила сохранить ребенка и с нетерпением ждет ее возвращения. Но она все еще колеблется. Уже начало августа, она уже купила билет, уже запакованы чемоданы, пожалуй, она может трогаться в путь, без долгих проводов, просто так, что она и делает. Я буду вам писать, говорит она про себя, но пока что она едет в Берлин, где ее ждут летняя жара и книги Франца. У нее они все с собой, включая последнюю, для которой пока еще не время, она пока что листает прежние, старые, иногда читает начало то одной вещи, то другой, вот «Одиннадцать сыновей», название ей сразу нравится, как-то очень похоже на Франца.
Заключительные пояснения и благодарности
Переписка между Францем Кафкой и Дорой Диамант не сохранилась. Летом 1924 года, возвращаясь в Берлин, Дора Диамант взяла с собой 20 записных книжек и 35 писем Кафки, но в августе 1933 года в ходе обыска они были конфискованы гестапо и с тех пор считаются утерянными. Дора Диамант до 1936 года жила в Германии, потом три года в Советском Союзе. Вскоре после начала Второй мировой войны она эмигрировала в Англию, где умерла в августе 1952-го в возрасте 54 лет. Отец Кафки дожил до 1931-го, его мать — до 1934 года. Сестры Элли, Валли и Оттла, так же, как и племянница Ханна, в 1942–1943 годах были убиты в лагерях смерти Хелмно и Освенцим.
* * *
За внимательное критическое прочтение, а также за поддержку и помощь в сборе материалов благодарю: профессора Петера-Андре Альта (Свободный университет Берлин), Кэти Диамант (Государственный университет Сан-Диего), доктора Ханса-Герда Коха (Университет Вупперталь), Германа Кумпфмюллера, Штефана Кумпфмюллера, Маттиаса Лангвера, Хельгу Мальхов, Олафа Петерсена, доктора Аннели Рамсброк (Центр современной истории, Потсдам), профессора Клауса Вагенбаха.
Примечания
1
Мюриц — ныне часть комунны Граль-Мюриц, курорт на Балтийском море в 20 км от Ростока. (Здесь и далее примеч. перев.).
(обратно)2
Плана-над-Лужници — городок в 80 км к югу от Праги, где Кафка провел лето 1922 г. с сестрой Оттлой и ее семьей.
(обратно)3
Роберт Клопшток (1899–1972) — один из поздних друзей Кафки, писатель познакомился с ним в 1921 г. в санатории.
(обратно)4
Супруги Хуго Бергман (1883–1975) и Эльза Бергман (1886–1969) — друзья Кафки, эмигрировавшие в 1919 г. в Иерусалим.
(обратно)5
Шелезен (чеш. Желицы) — населенный пункт в районе Мельник, в 35 км севернее Праги.
(обратно)6
Ойген Готтлоб Клёпфер (1886–1950) — немецкий актер театра и кино. Премьера пьесы Ибсена «Враг народа» в Немецком театре Берлина состоялась 19 октября 1923 г.
(обратно)7
Фриц Кортнер (наст. имя Натан Кон, 1892–1970) — австрийский актер и режиссер, в 20-е годы играл в Берлине в театре Шиллера.
(обратно)8
Пабьянице — польский город, юго-западнее Лодзи.
(обратно)9
Бендзин — город на юге Польши. В 1921 г. 62 % населения составляли евреи.
(обратно)10
Иоганн Петер Хебель (1760–1826) — немецкий писатель, один из любимых авторов Кафки. Имеется в виду его рассказ «Нежданное свидание» из сборника «Шкатулка-сокровищница для рейнского домашнего круга» (1811).
(обратно)11
Меран (Мерано) — город-курорт в Северной Италии, расположенный в альпийской долине.
(обратно)12
Людвиг Хардт (1886–1947) — актер театра и кино, мастер художественного чтения.
(обратно)13
Имеется в виду рассказ Кафки «Отчет для академии» из сборника «Сельский врач» (1919).
(обратно)14
Карл Краус (1874–1936) — австрийский писатель, поэт-сатирик, литературный и художественный критик, фельетонист, публицист, значительная фигура немецкоязычной общественной и культурной жизни первой трети XX в.
(обратно)15
Йосеф Хаим Бреннер (1881–1921) — еврейский писатель, критик, переводчик, уроженец Полтавской губернии, один из пионеров современной литературы на иврите. В 1909 г. эмигрировал в Палестину, где издавал ряд литературных журналов.
(обратно)16
Резекция (эктомия) — полное удаление органа или четко определенной анатомической части тела.
(обратно)17
Феликс Вельч (1864–1964) — писатель, философ, журналист, близкий друг Кафки и Брода.
(обратно)18
Оскар Баум (1883–1940) — пражский писатель, один из друзей Кафки.
(обратно)19
«Самооборона» («Selbstwehr») — журнал сионистской направленности на немецком языке, Феликс Вельч издавал его в Праге с 1907 по 1938 г.
(обратно)
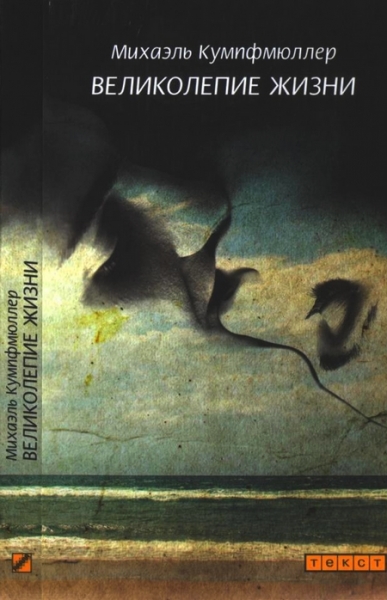


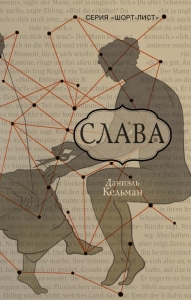

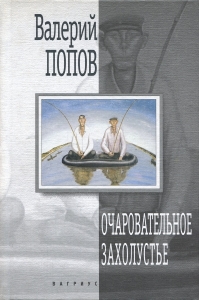


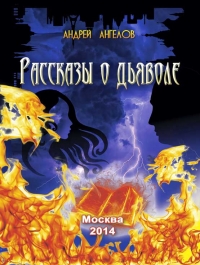



Комментарии к книге «Великолепие жизни», Михаэль Кумпфмюллер
Всего 0 комментариев