Дэвид Галеф
Дэвид Галеф — профессор университета Миссисипи, автор бестселлера «Молчание сонного пригорода», рассказов, сборников японских пословиц и детских книг. Эссе и литературные обзоры Галефа публикуют ведущие издания Америки.
«Плоть» — первый роман Галефа. Это мудрая и смешная книга, она не может не нравиться. Книга с небывалым интеллектуальным зарядом, заземленная сценами жесткого натурализма. Яркая история с интересными характерами и неожиданными сюжетными поворотами. Дневник Макса, главного героя, опубликованный в конце романа, — подлинная жемчужина.
Amazon.comГалеф утонченно препарирует причины одержимости и пристрастия к вуайеризму. В каком-то смысле вопрос в том, кто из них больше одержим: Макс, в поисках очередного объекта для завоевания, или Дон, со своей манией подглядывания за сексуальной жизнью другого мужчины?
BooklistГалеф — профессор университета и поэтому пишет об академической жизни со знанием дела, беспощадно обнажая всю подноготную мужской дружбы.
Publishers WeeklyБеспристрастное исследование американского Юга в романе Галефа перерастает в увлекательную сатиру на нравы академической среды. Хотя сюжет тяготеет к абсурду, автор поднимает серьезные вопросы о навязчивом интересе нашей культуры к телу.
Library JournalПлоть
1
Обычно летом на Миссисипи можно свариться и поджариться одновременно или даже обуглиться, если рискнуть одеться во что-то потеплее, чем хлопчатобумажная футболка. Сегодня утром — дело происходит в 1989 году — я полез в ящик письменного стола и обнаружил, что почтовые марки склеились, намертво прилипнув друг к другу, и отнес их в холодильник. Мое первое воспоминание о Максе как раз и относится к одному из тех дней середины июля, когда мы все сходили с ума от неимоверной жары и влажности, когда машины, деревья и даже люди на расстоянии были неразличимы на фоне какого-то марева. Солнце казалось огромным и необъятным, — день тек своим чередом, а небо представлялось одним исполинским ярко-желтым тентом, покрывавшим все и вся. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — это по-дурацки блаженно улыбаться, делая вид, что наслаждаешься благодатным теплом. Я и Сьюзен сидели на переднем крыльце — так мы называли несколько каменных ступенек, спускавшихся к лужайке, поросшей колючей травой и дурманом, взявшим в плен все дома нашего квартала. Для того чтобы почувствовать хоть какую-то прохладу, мы принялись обсуждать планы покупки кондиционера.
Урчание выехавшего из-за угла грузовичка заставило меня выпрямиться. Этот звук невозможно спутать ни с каким другим: мотор рычит громче, чем двигатель легковушки, но явно не дотягивает до рева настоящего грузового фургона. Судя по звуку, это был небольшой пикап, и мне стало интересно, кого же это занесло в наши края. На улицу выехал серый грузовичок и, словно испытывая сомнение, застыл на месте, как похоронный автобус, водитель которого не понял, на то ли кладбище он приехал. Порычав некоторое время на холостых оборотах, машина наконец рванулась вперед, сдала назад и с похвальным мастерством припарковалась впритирку с нашей «хондой-сивик». Двигатель умолк, и в следующий момент из кабины вылез коренастый человек в зеркальных солнцезащитных очках. Сьюзен приветственно взмахнула рукой, — как бывший северянин, я до сих пор только привыкаю к этому милому обычаю.
Человек в ответ улыбнулся, хотя я не уверен, что он сначала вообще нас заметил. Он задрал голову, рассматривая наш квартал. Дома здесь двухэтажные, впечатление высоты создается оттого, что они все построены на склоне холма, спускающегося к тротуару. Потом человек взглянул на сверкнувший в его руке какой-то предмет — наверное, на ключ. Фигура приезжего была окружена свечением — его было трудно рассмотреть до тех пор, пока он не подошел ближе.
Сьюзен толкнула меня коленом:
— Должно быть, это новый жилец из соседнего дома. Кажется, он снял его уже два месяца назад.
Я кивнул — осторожно, чтобы со лба не слетели капли пота. Сьюзен в блузке без рукавов и в шортах не брала никакая жара. Ее золотисто-каштановые волосы красивыми колечками падали на шею. Она нисколько не страдала, но, в конце концов, она была уроженкой этих мест.
Сьюзен еще раз надавила на меня коленом. Я встал с плетеного стула, который жалобно, словно падшая душа, застонал. Человек приближался к нашему дому. Он был хрупкого телосложения, жилист; одежда его состояла из облегающих джинсов и футболки. Густые каштановые волосы копной возвышались над угловатым лицом. Если и было в нем что-то примечательное — так это лицо, не черты лица, а само его выражение. Было в нем нечто плутовское, как у карточного игрока, который собирается выиграть, имея на руках всего пару двоек. Он снял очки и оказался обладателем по-настоящему синих глаз.
— Привет, — радостно произнесла Сьюзен, с выражением, которое я называю «приветливая хозяйка».
— Привет, — ответил он, и шулерское в нем внезапно сменилось теплой и внушающей доверие улыбкой. — Вы живете в С-8?
Сьюзен и я одновременно кивнули.
— Ну, значит, я на месте, и если дверь откроется…
С этими словами человек вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Это удалось ему сравнительно легко, но линялая белая дверь сильно разбухла от влажности. Незнакомец надавил, но она не поддалась. Он попробовал снова, вены на руках его вздулись, как веревки. Внезапно он, отпрянув, резко толкнул дверь всем телом, словно стараясь кого-то повалить. Дверь со страшным скрипом отворилась, и человек победно улыбнулся.
— Вот так! Похоже, что я — ваш новый сосед. — Он распахнул дверь во всю ширину и отступил на наши ступени, которые были продолжением его крыльца. — Меня зовут Макс Финстер, я буду работать на историческом факультете.
Я ожидал сокрушительного рукопожатия, и я его получил. Та же участь подстерегала и Сьюзен, — он так сдавил ей руку, что она поморщилась. Я сказал ему, что нас зовут Дон и Сьюзен Шапиро, это была истинная правда, и что мы в восторге от знакомства с новым соседом, что было похоже на правду только отчасти. Но по крайней мере, нам действительно приятно видеть в квартале новое лицо. Наши соседи справа уехали на недельку на Мексиканский залив, а блок С-7 пустовал с июня. В середине июля в Оксфорде почти ничего не происходит, если не считать подведения итогов университетского семестра. Вечеринки начинают отдавать инцестом, потому что туда ходит один и тот же узкий круг людей, в основном факультетских преподавателей, по тем или иным причинам оставшихся на лето дома. Сьюзен смертельно скучала и, полагаю, имела на это полное право. Мы не могли позволить себе длительный отдых, поэтому сошлись на том, что провели неделю у родителей Сьюзен в Джорджии, а потом собирались поехать отдохнуть на один-два уик-энда в августе. Но пока мы коротали свободное время сидя на крыльце.
Первой реакцией Макса, когда он вошел в свою новую квартиру, был тихий долгий свист.
— Бог мой, я мог бы сдать эти апартаменты троим ньюйоркцам, и у меня осталась бы еще одна комната. Или нет, я мог бы вообще сдать все это в субаренду и жить припеваючи, как лендлорд. Неужели эта квартирка действительно так велика, как кажется? — Голос его почти затих, когда он вошел в один из чуланов.
С-7 был почти такой же величины и имел такую же планировку, как и наши апартаменты, но я уже забыл, каким просторным казалось наше жилье по сравнению с городскими клетушками. Четыре большие комнаты, выходящие в один общий короткий коридор, находившийся в центре квадрата, в углах которого помещались комнаты. Предполагалось, что одно помещение должно быть кухней, а другое — спальней. В квартире полно чуланов и встроенных шкафов и одна, довольно скромная, кладовая для продуктов.
— Вы приехали один? — спросила Сьюзен, моя вечно матримониально озабоченная женушка.
— Гм, о да, конечно, я один-одинешенек, преподаватель младших факультетов с отвратительными холостяцкими привычками. — В его голосе было что-то актерское, одновременно истертое и банальное.
Он вышел из своей новой квартиры, приветливо улыбаясь Сьюзен. Я преподаватель английского языка, поэтому предпочитаю говорунов молчунам. Первые выдают себя хотя бы тем, что произносят…
— Ну… — Сьюзен толкнула меня в бок. — Вы не возражаете, если мы поможем вам разгрузить вещи?
Макс задумался над предложением. По нему было видно, что он предпочитает все на свете делать сам, даже ехать тысячу миль на взятой напрокат машине.
— Знаете, что я вам скажу, — произнес он наконец. — Позвольте мне самому перенести все, что я смогу. У меня всего несколько по-настоящему тяжелых вещей, с которыми мне, наверное, надо будет помочь. Я позову вас, если не справлюсь, хорошо?
— Конечно. — Сьюзен сделала мне неприметный знак, чтобы я возразил, но я сделал вид, что ничего не заметил. Если человек желает порисоваться, то надо предоставить ему такую возможность, хотя бы в лечебных целях.
Макс вернулся к фургону и вытащил первую из множества коробок с книгами. Коробки были чертовски тяжелыми — это было видно по венам, вздувшимся на шее Макса. Естественно, мы не могли больше сидеть на крыльце и равнодушно взирать, как мучается этот несчастный, поэтому Сьюзен ушла в дом готовить фруктовый чай со льдом, а я подошел к фургону, чтобы помочь, несмотря на недвусмысленный отказ.
Максу наконец удалось проделать брешь в завале из ящиков, окружавших мебель. Ничего особенного: письменный стол светлого дерева, две гигантские книжные полки и старый шкаф. К стенкам кузова были привязаны два велосипеда, между которыми Макс проложил одеяло. Теперь он находился в центре, распутывая паутину веревок, которыми были закреплены вещи. Макс здорово вспотел, футболка на груди промокла.
Я сунул голову в кузов:
— Мне думается, вы готовы принять помощь? Знаете, просто больно смотреть, как вы мучаетесь в одиночку, не говоря уже о том, что это прямое нарушение традиций южного гостеприимства.
В ответ смешок и короткая улыбка.
— Ну что ж, будучи в Риме…
Я хотел было сказать, что он находится не в Риме, а на берегах Миссисипи, но в этот момент он всучил мне одну из коробок, и я, сгибаясь под ее тяжестью, вошел в дом. Он последовал за мной с корзиной для грязного белья, в которой находилась завернутая в простыню огромная сковорода, а в ней помещалась гипсовая копия какого-то греческого бога, обернутого листом пористой резины. Видны были только голова и пах. Но это был замечательный пах. Гениталии бога не уступали размерами голове.
— Что это? — спросил я, возвращаясь к машине.
— Что — что?
— Там, наверху. — Я указал рукой на дом.
— Что именно?
Я почувствовал, что начинаю объясняться как аббат.
— Там, в сковороде. В корзине.
— А, это… Это статуя Приапа. Так сказать, затравка для застольной беседы.
— Действительно, похоже на то.
Он пожал плечами, и я понял, что на эту тему он ничего больше не скажет. Мы выгрузили из кузова часть мебели. Когда мы что-то тащили вдвоем, я всегда оказывался впереди, а Макс старался взять на себя большую тяжесть, поднимая для этого свой край. Вскоре я чрезмерно вспотел — работа и в самом деле оказалась потогонной. Но вдвоем она спорилась быстрее, и через полчаса кузов машины опустел. Последними — самыми приятными — предметами были два велосипеда, на один из которых Макс просто сел и покатил вверх по тропинке. Приглядевшись к велосипедам, я убедился, что один был действительно классной дорогой машиной, а второй всего лишь старым потрепанным драндулетом, вроде того, на котором катался я, будучи мальчишкой. Макс поехал именно на нем.
— Гоночный велосипед и грузовой, — объяснил Макс и нажал на педали. У него была сбивающая с толку привычка не смотреть на собеседника при разговоре. Но когда он все же поднимал глаза и смотрел в лицо, это воспринималось вроде как оказанная вам честь.
— Что такое грузовой велосипед? — крикнул я в его удаляющуюся спину.
Макс въехал на велосипеде в прихожую квартиры и соскочил с седла.
— Гоночный велосипед я использую для дальних поездок, для тренировки. Грузовой велосипед у меня для перевозки всяких вещей. Например, я езжу на нем в супермаркет и все подобное.
— У вас нет машины?
Он вернулся, чтобы забрать второй велосипед.
— Нет у меня никакой машины. Я, знаете ли, человек двухколесный. — Он стрельнул в меня мимолетной и резкой улыбкой.
— Это хорошо, но здесь вам понадобится автомобиль, потому что в этих местах нет никакого общественного транспорта.
Трудно было сказать, доставляет ли одиночество ему удовольствие или все же раздражает своими неудобствами. Он неопределенно кивнул и положил руки на руль, словно успокаивая испуганную лошадь. Я хотел было — движимый отчасти вежливостью, отчасти любопытством — предложить ему помощь в распаковке коробок, когда дверная занавеска откинулась и в проеме показалась голова Сьюзен.
— Если вы, портовые грузчики, закончили работу, то не хотите ли попробовать чай со льдом?
Это был способ Сьюзен проявить смесь вежливости и любопытства. На стол было поставлено блюдо с сахарным печеньем. Вскоре мы уже дружно сидели в плетеных креслах на общем крыльце, потягивая этот обязательный на юге напиток, который Сьюзен всегда делала слишком терпким — таким же, какой была и она сама, — так мне, во всяком случае, иногда казалось. Но, как бы то ни было, она знала, как вытянуть из собеседника нужные сведения. Через полчаса мы знали всю подноготную Макса. Тридцать лет, доктор философии, закончил Колумбийский университет по специальности «британская история». Страстный велосипедист, одинокий и свободный. Я видел, как Сьюзен лихорадочно перебирает в уме возможные перспективы, каковых в Оксфорде было немного, если вы не горите желанием стать монахом или положить жизнь на алтарь науки. Сама Сьюзен, закончив университет, кое-как пробавлялась журналистикой, когда я с ней познакомился. После того как мы поженились, она бросила работу и занялась общественной деятельностью в нашем преподавательском городке.
Когда я сказал, что у меня есть знакомая в Колумбийском университете, которая до сих пор возится со своей диссертацией, Макс демонстративно не стал интересоваться ее именем. И дело даже не в том, что они едва ли могли знать друг друга, так как были из разных отделений, но в том, что Макс вообще не хотел говорить о Нью-Йорке. При этом он не прекратил беседу, он просто так повернул разговор, что теперь нам пришлось отвечать на его вопросы. После каждого ответа он одобрительно кивал, словно выставлял нам оценки.
Через пятнадцать минут Макс резко встал, поблагодарил за оказанное гостеприимство и сказал, что ему надо все же заняться коробками. Оказавшись на крыльце своих апартаментов, он достал из кармана ручку и блокнот и что-то черкнул для себя.
— Как ты думаешь, что он написал? — спросил я Сьюзен.
— Не знаю, может быть, «Дон и Сьюзен — запомнить их имена»?
— «Заплатить остаток за прокат фургона», — предположил я.
Мелькнули мысли и о Приапе с его фаллосом. Уже тогда я предвидел, что наш новый сосед станет благодарным объектом для пересудов. В течение следующих двух часов мы слышали шуршание картонных коробок по линолеуму, иногда раздавались звуки падающих предметов и приглушенные ругательства. Около половины четвертого, когда я решил сесть за стол и немного поработать, дверь блока С-7 распахнулась, и на пороге появился Макс в обтягивающих велосипедках и бананово-желтой футболке с надписью «Мерсье». Сквозь жалюзи я видел его разделенным на две половины — так происходило всегда, если я погружался в мир литературы. Все остальное существовало для меня как бы сквозь жалюзи… Сосед был обут в шиповки, вынуждавшие его громко топать при ходьбе. Но всю неуклюжесть как рукой сняло, когда он садился в седло. Туфли как влитые вошли в педали, а сам он, съезжая с холма, грациозно выгнувшись и приникнув к рулю, стал похож на кота. Велосипед был того же цвета, что и футболка, и сверкал, как зеркало…
Выезжая на асфальт, Макс уже набрал приличную скорость. Но по шоссе, спускавшемуся под уклон, он ехал еще быстрее, а на перекрестке проскочил на красный. Мне стало интересно, куда он направился, совершенно не зная местности. Макс пролетел мимо пожарного депо и не колеблясь свернул возле муниципального пруда. Он несся с какой-то непреклонной решимостью, даже мысль о том, что его можно остановить, казалась абсурдной. Как поршни паровой машины, работали его ноги. Я следил за ним сквозь щели жалюзи, как стал делать постоянно с этого момента, пока он не исчез из вида. Исчезнувший божок. Я понимал, что мне не угнаться за ним, но в тот момент, отвернувшись от окна, я поймал себя на мысли, что мне тоже хочется ехать рядом с ним на велосипеде.
2
Большинству людей требуется некоторое время для того, чтобы окончательно переехать на новое место жительства, но Макс управился с этим за одну ночь. Ему удалось это только благодаря невероятному сочетанию целеустремленности и невероятной лени, что я про себя окрестил МАКСимальной эффективностью. Все это означало, что наш сосед вкладывал массу энергии в какое-то дело, чтобы покончить с ним, а покончив, терял всякий интерес. Как Макс позже рассказывал мне, он просто распаковал все свои вещи, не затруднив себя покупкой дополнительной мебели. Так как он последние шесть лет жил в общежитии для выпускников, то все свелось к тому, что три или четыре предмета из его мебели были теперь расставлены на восьмистах квадратных футах линолеума. Один стул стоял на кухне, а второй в кабинете. Он купил в магазине офисной мебели Дэйла металлический письменный стол и одну книжную полку. И то и другое доставили на второй же день после его приезда.
Мало того, он купил себе кондиционер, и это подвигло наконец и нас сделать то же самое. Мы купили «Водоворот» размером с небольшой холодильник. Агрегат был страшно дорогой, мощный и работал замечательно; теперь нам стало почти стыдно, потому что пришлось искать новый повод для семейных дебатов. Кроме того, получалось так, что мы взяли пример с нового соседа.
Несколько раз мы видели его в городе, когда он разъезжал по улицам на своем коричневом грузовом велосипеде. За седлом у него был вместительный широкий багажник, и мы не переставали удивляться тому, что, наверное, не было такой вещи, какую он бы не мог прикрутить к нему эластичными веревками. В первое же воскресенье по его приезде я видел, как он привез на багажнике зеркало в рост человека и складное кресло, купленные в местном «Уол-Марте». Сьюзен предложила свозить его в несколько магазинов, но он так поблагодарил ее, что впредь моя жена остереглась делать ему такие предложения.
Он так и не купил себе машину. Однажды я спросил его об этом, и он ответил, что уже добрался до «Чесвикмоторс», дилерского магазина «шевроле» в конце Университетской авеню.
— Я въехал на велосипеде прямо на стоянку, думая, что, может быть, мне повезет купить маленькую подержанную машинку и покончить с этим ко всем чертям. Но вы же понимаете, как это бывает. Я уже доехал почти до дверей, но тут меня перехватил какой-то продавец в клетчатой куртке. Он пожал мне руку, сказал, что очень рад видеть, и выразил уверенность, что и я испытываю такую же радость.
Я не помнил, чтобы в «Чесвике» кто-то носил клетчатые куртки, и не стал возражать: быть может, в этом была соль анекдота? Я кивнул, словно и мне пришлось пережить то же самое.
— Ну, в общем, когда я сказал продавцу, что ищу дешевую подержанную машину, глаза у него заблестели, как у кота. Он попытался всучить мне «понтиак» с откидным верхом, принадлежавший какой-то девушке из университета, которая решила его продать, когда ее милый купил «мерседес». То есть машину можно было назвать подержанной только для проформы. Но мне не нужна такая дрянь.
— Угу. — Я перенял его развязный тон, решив придерживаться такой тактики и в дальнейшем. Понемногу я приспособился угадывать мысли Макса. — Значит, вы в принципе и не собирались покупать машину, да?
— Что? — Он был раздражен вопросом, но сумел быстро это скрыть. — Да, действительно, не собирался. Мне хорошо и с двухколесным другом.
Он сел на свой тяжелый коричневый велосипед, который покорно ожидал хозяина у крыльца, и покатил к библиотеке студенческого городка.
— Скажите нам, если вас надо будет куда-нибудь подбросить, — крикнул я ему в спину, как беспомощное эхо собственной жены.
Я и сам не знаю, зачем я ему это предложил. Он был весел и бодр в своей самодостаточности, весел даже с оттенком надменности, и, хотя женщины рассматривают такую надменность как вызов, я не женщина, а вызовов и трудностей в жизни у меня хватало и без него. Думаю, мне просто было любопытно, до каких границ он может дойти. Но казалось, его возможности не имеют границ. Готовил он сам, запах его обедов и ужинов плавал по кварталу, обдавая сильным запахом специй. Однажды луковый дух был так силен и соблазнителен, что я не выдержал, обошел дом и подошел к открытому кухонному окну соседа. Макс, вооружившись лопаткой, как раз в этот момент, как коршун, атаковал сковородку. Потом он вернулся к столу и ножом, похожим на японский меч, принялся крошить на доске что-то большое и беспомощное — кажется, это был баклажан. Шипела то ли печь, то ли Макс, а может быть, оба. Я последний раз втянул ноздрями воздух и отошел, пока он меня не заметил. Несколько дней спустя я уловил что-то похожее на запах нестираных, пропитанных потом носков, поджаренных на огне.
— Это тмин, — сказала Сьюзен, втянув воздух крошечным, как пуговка, носиком. — Тмин и красный жгучий перец. Наверное, он делает чили.
Каждый день ровно в половине четвертого Макс садился на свой гоночный велосипед и летел в сторону озера Сардис. Обычно он катался около часа и возвращался в потемневшей от пота футболке. Однажды Сьюзен высказала ему свою озабоченность насчет дорожной аварии, но он в ответ молча показал ей свой шлем, черный пластиковый полумесяц с пенопластовой подкладкой. На нем красовалась этикетка, гарантировавшая безопасность владельца.
Шлем не произвел на Сьюзен никакого впечатления.
— Но что будет, если какой-нибудь пьяный студиозус врежется в вас на своей машине?
— Студенческое пьянство? Здесь? — Он напустил на себя то, что можно было назвать Видом Полнейшей Респектабельности. — Я шокирован, мэм, просто шокирован.
— Но вы все же будьте повнимательнее на дороге.
— Гляжу в оба.
С этими словами Макс исчез в квартире. Послышался звук льющейся в душе воды. Потом он включил Национальное государственное радио и принялся слушать «Все учтено», мы тоже это слушали, упиваясь неожиданным стереоэффектом от прослушивания в двух квартирах одновременно. По большей части это был образцовый сосед, который тихо и старательно работал, готовясь к осеннему семестру. Компьютер он поставил в передней комнате и много времени проводил перед монитором. Он ездил на велосипеде в библиотеку и в супермаркет и каждый день, также как и большинство профессоров и преподавателей, встав рано утром, заглядывал в почтовый ящик.
У кафедр истории и английской филологии был общий буфет в Бишоп-Холле, и я привел его туда, чтобы познакомить с некоторыми сотрудниками нашего факультета. Мне показалось, что со многими из них он уже знаком. Получилось так, что там была только наша компания, у которой болтовня за чашкой кофе постепенно перешла в обсуждение положения с местной недвижимостью. Мелвин Кент, похожий на гнома джентльмен, от манер и специальности которого веяло высоким Средневековьем, протянул Максу руку. Его примеру последовал и Боб Хаммер, который изо всех сил делает вид, что занимается какой-то важной лингвистической проблемой, хотя на деле интересуется наблюдением за повадками птиц.
— Очень рад познакомиться с вами. — Макс делал успехи в постижении местных обычаев.
С противоположного конца буфета раздался пронзительный громкий голос, поданный Франклином Форстером, недавним переселенцем из Новой Англии, видом и манерами похожим на медведя. Его конек — американская готика; видимо, этот интерес предполагает у его носителя угрожающую внешность вкупе с пышной бородой, хотя и в сочетании с высоким жалобно-ворчливым голосом.
— Вам уже дали кабинет, мистер Финстер?
— Да, в Бондуранте.
Франклин окинул всех нас взглядом, в котором проглядывало искреннее соболезнование по поводу тяжкой утраты. Бондурант был закутком кафедры социологии и считался местом ссылки. Мой кабинет, кстати, находится там же.
Макс продолжил:
— Собственно, я не собираюсь проводить там много времени: работаю в основном дома.
Франклин одобрительно кивнул, обнажив кривые желтые зубы.
— Я слышал, мистер Финстер, что вы человек неженатый.
Это замечание вызвало у многих подавленный смешок. Франклин, которому давно перевалило за пятьдесят, недавно женился в третий — или это был уже четвертый? — раз. Как бы то ни было, он второй раз женился на своей студентке, и мы все немного жалели эту женщину. Бывают моменты, когда такое подкрепление отношений учителя и ученицы выглядит вульгарным и отталкивающим. Мы бы испытывали еще больше сочувствия к крашеной блондинке по имени Джейн, будь она меньше похожа на самого Франклина.
Тем временем Сьюзен решила пригласить Макса на ужин, но не собиралась делать этого раньше, чем ей удалось бы мобилизовать подходящую женщину.
— Как насчет Дарлин? — спросила она меня как-то вечером. Наш бытовой кризис давно миновал: новенький кондиционер весело жужжал, а мы собирались ложиться спать.
Я представил себе Дарлин, преподававшую обычаи юга. Потом представил себе Макса.
— В этой красавице южанке всего слишком. Он задохнется в ее жасминовых духах.
— Гм…
— Но вот как насчет Марджори Бингхем с психологического?
— Она помолвлена. Уже целый месяц.
— О!
Как это женщины узнают такие факты? Вероятно, это свыше даровано только их полу. Наконец Сьюзен остановилась на сравнительно незнакомой даме, Мэриэн Хардвик, недавно принятой в университет для преподавания курса искусствоведения. Мы практически ничего о ней не знали, за исключением того, что она женщина яркая и привлекательная. Мэриэн ездила на шикарном красном «камаро», имела весьма космополитичный вид и могла привлечь мужчину. Мы обсудили еще несколько кандидатур, но в конце концов остановились все же на Мэриэн. До сих пор не понимаю, почему мы вдруг озаботились этой проблемой. Может быть, я заразился этим от Сьюзен или меня соблазнило предвкушение компенсаторного удовольствия. Мы вступили в тот период брака, который можно назвать затишьем второго года. Для того чтобы не заболеть клаустрофобией, нам необходимы были какие-то общие внешние интересы. Кто знает, может быть, мы и правда желали чего-то для Макса. Кажется, он будил во всех окружающих непреодолимые материнские инстинкты.
К несчастью, мы не знали самого главного — чего хочет сам Макс. Он как-то пару раз обмолвился о своей бывшей подружке из Манхэттена, но это были мимолетные упоминания, Макс даже не назвал ее имени. Я догадывался, что он хочет взять тайм-аут, и не желал его подгонять. С другой стороны, было ясно, что он отнюдь не монах. Я был совершенно уверен, что он тихо ведет себя в Оксфорде только потому, что порывы такого рода — во всяком случае, для человека его возраста — были здесь попросту невозможны. Когда приходишь в прачечную, получаешь только выстиранные вещи, и больше ничего. Если же вы действительно вынашиваете матримониальные планы, лучший способ воплотить их в жизнь — стать баптистом, но Макс был не из того теста.
Мне казалось, что какие-то сексуальные связи у него могли быть. Дело в том, что дальняя стена моего кабинета была одновременно стеной его спальни. Судя по скудости меблировки его квартиры, обстановка там была сугубо спартанская: сосновый комод с зеркалом, который я помогал перетаскивать, может быть, настенный светильник для чтения, складное кресло из «Уол-Марта» и пружинный матрац на деревянной раме. Все эти предметы не издавали ни малейшего шума, кроме кровати, которая скрипела в мастурбирующем ритме — иногда днем, иногда вечером. Приапизм имел место, это не вызывало у меня никаких сомнений.
Не будь я таким любопытным, я бы просто выходил из кабинета. Конечно, я никому не рассказывал о том, что слышал. Но мне было интересно, какую визуальную стимуляцию — кажется, это называют именно так — он использовал, и если да, то как она выглядит. Девушки модельной внешности в спортивных машинах или шлюхи на мотоциклах? Торчащие груди или убойные сиськи? Когда я был мальчишкой, в Филадельфии некоторые парни пользовались для этой цели старыми каталогами Сирса. Но быть взрослым в той компании — это значило самому покупать порнографические журналы. У меня самого было несколько таких журналов, и я пользовался ими в первые два года моего пребывания здесь, до того как встретил Сьюзен, когда журналы перекочевали в запертый ящик стола.
Сильнее всего меня выводили из себя звуки, которые издавал Макс. Это было нечто среднее между хрипами и стонами, иногда с приступами гомерического хохота. Воображал ли он себя снизу или сверху? Какой тип тела или одежды возбуждал его? Иногда, когда я засиживался в кабинете, такие вопросы начинали сильно меня занимать. Потом я вставал и направлялся в спальню, где засыпала Сьюзен, и принимался гладить ее тело — сверху вниз и снизу вверх, останавливаясь в нескольких местах: на грушевидных грудях и пушистом светлом лобке и ниже, на внутренней стороне бедер, где кожа была потемнее. Мы почти не разговаривали, но, когда ее вздохи достигали определенной тональности, она сама принималась делать то же самое со мной, что заставляло меня подчас чувствовать себя бисексуальным — особенно из-за того, что у Сьюзен были узкие бедра и стройные ноги. Наша кровать с поролоновым матрацем на стальной раме не издавала ни звука.
Этот званый вечер был в каком-то смысле заговором. Сьюзен пригласила гостей на вечер пятницы, и, чтобы это не выглядело как прямое сводничество, мы позвали еще и Пирсонов, супружескую пару с нашего же факультета, состоящую наполовину из кафедры английской филологии, а наполовину из кафедры психологии. Такое совмещение, казалось бы, должно сулить катастрофу, но супруги уживались на удивление мирно — как друг с другом, так и с окружающими. Джина Пирсон, урожденная Тальери — это наш несгибаемый поклонник Фолкнера. Она одержима идеей, что, если не считать такого пустяка, как самоубийство, Фолкнер был абсолютно нормальным человеком. Ее муж Стенли занимается экспериментальной психологией и рассказывает весьма познавательные вещи о гипоталамусе и нейронных матрицах, но на самом деле больше любит выпить пару-тройку кружек пива и, кстати, поразительно хорошо осведомлен об английской литературе, особенно о британском модернизме, то есть в моей области. Но такой узкоспециальный интерес мало что значит: если мы устраиваем факультетские вечеринки, то обычно проводим время в жалобах на администрацию и студентов.
Обед был назначен на семь часов, и Сьюзен провела целый час у плиты, готовя сложное куриное блюдо, название которого напрочь улетучилось из моей головы, но я помню, что оно пахло полынью и лимонным соком. Были в нем еще шафран, рис и лаймовые бобы. На мою долю выпал салат, и я продолжал без устали крошить его, пока не осознал, что гора нарубленной мною зелени скоро перестанет умещаться в миске. Макс пришел первым — ровно в семь. Конечно, он наш сосед и ему не надо было далеко идти, но мне показалось, что если бы мы назначили вечеринку на семь ноль шесть, то он явился бы на шесть минут позже.
На нем были брюки хаки и открытая рубашка, что при такой духоте стоило бы назвать официальным вечерним костюмом, в котором еще можно было дышать. Он презентовал нам бутылку калифорнийского шабли, которая, запотев от холода, лежала в бумажном пакете. Я приступил к обязанностям гостеприимного хозяина, налив нам по бокалу из уже открытой другой бутылки. Сьюзен хлопотала на кухне — просто потому, что любила хлопотать, производя впечатление на гостей. Я спросил Макса, сколько миль он накрутил сегодня.
В ответ он несколько натянуто улыбнулся, как улыбаются звезды спорта, когда их спрашивают, как идут тренировки.
— Сегодня тридцать. На обратном пути велосипед чуть не расплавился.
Макс, и это очень меня удивило, относится к тем людям, которым надо немного боли, чтобы испытать наслаждение от жизни.
Мэриэн явилась второй, на пять минут позже Макса, одетая почти так же, как и он, с такой же бутылкой вина. Невольные участники заговора пожали друг другу руки и принялись играть в игру «Угадай, кто я?». Потом прибыли Пирсоны, неся с собой все то же шабли, — видимо, в магазине «Би энд Джи» в тот день была распродажа.
Джина была сильно взволнована — ей удалось что-то узнать о расследовании по поводу смерти Фолкнера. Один из ее аргументов состоит в том, что лечащий врач подчистил историю болезни во время между разговором с родственниками и написанием официального отчета о смерти пациента. Именно он сделал укол морфия Фолкнеру после несчастного случая, и надо было выяснить дозу. Теперь ее занимал вопрос о том, жив ли еще следователь, который вел то дело.
— Ну, в те времена морфий вводили не по науке, — академично заметил Стенли. Потом он пустился в пространные рассуждения о том, как именно тогда вводили морфий. Стенли много знает о психотропных лекарствах и их неврологических эффектах. Он также авторитетно рассуждает и о многих других вещах, но всегда становится не по себе оттого, что он все на свете в конечном счете сводит к неврологии. Например, когда в его поле зрения попадает человек в плохом настроении, то он сразу предлагает снадобья, улучшающие расположение духа.
— Думаю, что жена Фолкнера была морфинисткой, — заметил Макс с боковой линии.
Джина одарила его заговорщическим взглядом.
— Она была весьма посредственным художником, это я знаю, — произнесла Мэриэн, протянув пустой бокал, который я поспешил наполнить. — У нее начисто отсутствовало чувство перспективы.
— Именно, она женила его на себе. — Это был уже мой вклад в дискуссию, но единственное, чего я удостоился, — это укоризненного взгляда Сьюзен. Впрочем, мое замечание направило разговор в другое русло — все принялись обсуждать вопрос о потребностях гениев, а так как я уже слышал, что думает по этому поводу Джина, то отправился накрывать на стол. Когда я вернулся, разговор совершенно магическим образом перекинулся на проблемы отношений с администрацией. Наш теперешний канцлер, следуя вековой традиции, считал преподавателей предметами одноразового употребления.
Через полчаса мы принялись за еду и заговорили о самых слабых наших студентах. Джина живо откликнулась на эту тему — она оттрубила в аудиториях «Оле Мисс» пятнадцать лет. Мой стаж был скромнее — всего три года, но мне представляется, что есть некая корреляция между стажем и злостью на студентов. Вероятно, Стенли смог бы пояснить, какая часть мозга отвечает за злобу. Мэриэн опасливо хранила нейтралитет, а у Макса не было вообще никакого мнения, так как ему только предстоял первый в его жизни семестр.
Еда была восхитительно вкусной, за что мы без устали хвалили Сьюзен; ужин подходил к концу, когда кто-то задал Максу неизбежный вопрос о том, как он привыкает к жизни на Юге. Меня об этом тоже спрашивали до тех пор, пока я не научился уклоняться от ответа, говоря, что мне нравится все. Должно быть, Макса спрашивали об этом уже раз десять, но он каким-то образом ухитрялся каждый раз искренне отвечать на один и тот же вопрос, и именно тогда я окончательно понял, что он, вероятно, хороший учитель.
— На самом деле, — начал он, — мне здесь многое нравится. Юг очень выгодно отличается от Нью-Йорка. Ритм жизни здесь свободнее, люди более дружелюбные…
Он продолжал в том же духе, вознося дифирамбы, которых ждали от него жители долины реки Миссисипи. Но закончил он весьма своеобразным наблюдением:
— В здешних женщинах есть что-то такое… Они более женственны, как-то… я не могу точно это выразить.
Мэриэн поставила локти на стол.
— Вы хотите сказать, что они больше похожи на леди.
— Вы говорите о светских манерах и одежде. Нет, здесь нечто большее. Позавчера я видел пожилую женщину. Она ехала на велосипеде в шортах и безрукавке. Одежда развевалась на ветру, но ее это совершенно не смущало. Ей было не стыдно выставить себя напоказ; когда мы встретились взглядами, она продолжала смотреть мне прямо в глаза.
Мэриэн, которая тоже не выглядела чересчур застенчивой, подложила ладонь под локоть.
— И что вы хотите этим сказать?
— Ну, женщины здесь кажутся более… раскованными.
Мэриэн хихикнула.
— Возможно. Все мужчины ведут себя как Эд — такой дружелюбный парень с вашей заправки.
Эта реплика привела к тому, что Сьюзен называла половой неразберихой, — мы все стали рассуждать об особенностях половых ролей здесь, на Юге. Из нас шестерых настоящим южанином был только один человек — Сьюзен, родившаяся в Мейконе, штат Джорджия. Джина происходила из большой итальянской семьи, проживавшей в Нью-Джерси, а Стенли сильно влиял на нее своей висконсинской основательностью. Мэриэн десять минут назад призналась, что росла в Калифорнии, ну а мы с Максом оба приехали с Севера. Я рассказываю все это потому, что именно неюжане чаще всего объясняют местным уроженцам суть южных манер. Сьюзен вежливо помалкивала, хотя наедине со мной она находила меткие выражения для характеристики такого поведения. При этом излюбленными определениями были «свиные головы» и «невежды».
То была весьма поучительная дискуссия для всякого, кто не слышал прежде рассуждений Стенли по этому поводу. Со временем он пришел к выводу, что Юг — это общество вежливости и бесчестья, но без невротического нью-йоркского чувства вины. Стенли и Макс не сошлись в типичности и предметах тестирования, но Стенли — это человек, который будет скармливать одну и ту же пищу группе людей в течение десяти дней, чтобы их дерьмо в конце концов стало одинаково вонять. Макс, напротив, был большим поклонником эксцентричности. Потом они перешли к вопросу о том, существует ли особая южная эксцентричность. Макс достал из кармана блокнот, положил его на стол и что-то записал, доказав тем самым свою эксцентричность.
— Что это вы пишете? — спросила Джина.
— Заметки для себя, — нашелся Макс. Он быстро черкнул несколько строк и сунул в карман ручку и бумагу.
— О нас? — спросила Мэриэн.
— Не обязательно.
Сьюзен внесла в столовую огромный сладкий пирог и жизнерадостно объявила, что кофе готов. Разговор снова завертелся вокруг «леди» и постепенно переместился к тому, что называют «галантностью». Сьюзен сказала, что, по ее мнению, здесь больше подходит наименование «хорошие манеры».
— Вся эта галантность… — Мэриэн протестующе взмахнула одной рукой, другой принимая кусок пирога. — Что же тогда сказать об изнасилованиях и инцесте, о которых мы все читали, да, кстати, у того же Фолкнера. — Она повернулась к Джине, ища поддержки.
— Это выход подавленных эмоций в эго, — тихо пробормотала Джина. Эта этиология была призвана стать спасительной соломинкой, когда ей требовалось объяснить любой вид человеческого поведения — от проявления застенчивости до охоты на оленей.
— Все дело в повышенной активности гормонов, — произнес Стенли.
Мэриэн нахмурилась. Мгновение спустя она допустила неловкое движение, и ее кофейная ложечка, вылетев из чашки и описав радужную дугу в воздухе, упала на пол между нею и Максом. Оба бросились ее поднимать, но Макс оказался первым. Он поднял ложку и протянул ее Мэриэн с притворной и напыщенной манерностью.
— Мне кажется, что это ваша ложечка, сударыня.
Мэриэн слегка покраснела:
— Это и есть галантность.
— Цивилизованность, — поправил ее Макс.
— Патриархальная светскость, — продолжала настаивать она, не заметив нарочитого преувеличения в его манерном жесте, так же как и кофейных пятен на его штанах.
Но Макс почему-то не просветил ее насчет этих недосмотров. Вместо этого он отпустил какое-то едкое замечание по поводу матриархата — с равным успехом он мог бы выплеснуть ей на подол чашку горячего кофе. Ответная инвектива была не менее обжигающей. Джина попыталась вмешаться, а Сьюзен ввернула какое-то замечание о погоде, но Мэриэн продолжала горячо говорить о двойных стандартах. Макс, который до поры сохранял хладнокровие, принял вызов и принялся детально излагать свои взгляды на сексизм. Стенли попытался сгладить противоречия, заговорив о влиянии психостимуляторов на сексуальную агрессию, но и это не помогло. Сьюзен пошла на кухню за губкой, чтобы вытереть брюки Макса, но он отказался от чистки. Сьюзен села и принялась беспомощно помешивать кофе, меланхолично наблюдая, как званый обед выходит из-под контроля.
— Признайтесь, женщина, за которой вам хочется пойти, должна быть стройной, безмозглой и раболепной. — Мэриэн подалась вперед, поставив руки на стол, и я невольно заметил, какие у нее широкие бедра. Свободные брюки скрывали обычно эту часть ее тела, но теперь было видно, что она заполнила собой весь стул.
Макс медленно, почти печально, покачал головой.
— Это неверно. — Видя, что Мэриэн готова возразить, он поднял руку. — Например, меня очень влечет к вам.
Мэриэн покраснела еще больше. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого прикусила губу. Сейчас она выглядела как смущенная девочка-подросток. Она судорожно, ища поддержки, вцепилась в стол, наклонилась к Джине, хранившей на лице нейтральное выражение, потом снова повернулась к своему мучителю:
— Ладно, но даже это не дает вам сорваться с крючка.
— Я знаю, — грустно улыбнулся Макс, на его лице появилось мальчишеское выражение, гармонировавшее с ее девическим смущением. Честные синие глаза только подчеркивали это выражение. — Но я не так прост, как вы думаете.
Но все же это был ужин на шестерых, а не романтическое свидание при свечах для двоих, поэтому разговор вернулся в более спокойное и безопасное русло. Никто не прост так, как, может быть, кажется, вставил я, а Сьюзен вспомнила свою кузину Бетти, которая тоже была намного сложнее, чем это казалось, но, быть может, это был не самый лучший пример, потому что со временем у Бетти развился такой тяжелый маниакально-депрессивный психоз, что ее пришлось госпитализировать и поместить в психиатрическую лечебницу. Как бы то ни было, рифы удалось обойти, и разговор закончился в гостиной тем, чем и должна была закончиться беседа жильцов съемных квартир, — обсуждением рынка недвижимости.
Макс и Мэриэн сели в кресла лицом друг к другу и продолжили обсуждение взаимоотношений полов. В один из моментов их содержательной беседы им вздумалось, как мне кажется, сравнить мужские и женские ноги. Они поставили свои ноги рядом, поддернули штанины и принялись рассматривать ее полную, белую, матово поблескивавшую голень и его — загорелую, жесткую, со вздувшимися икроножными мышцами. Макс положил ей руку на колено, и они понизили голос. Я перестал их слышать и потерял нить разговора: и так я очень часто слышу и вижу то, что отнюдь не предназначается для моего слуха или зрения. Джина говорила о пристройке к дому, а Стенли объяснял, как рабочие будут это делать, Сьюзен живописала свои мечты о доме — таком, какие строили в незапамятные времена — до войны Севера и Юга. Вечер закончился около десяти. Мы проводили Пирсонов до двери. Я думал, что Макс вернется к себе — на соседнее крыльцо, но, должно быть, они о чем-то договорились с Мэриэн, так как вместе направились вверх по холму к ее машине.
Сьюзен схватила меня за руку — она всегда так делала, когда хотела поведать мне что-то важное.
— Это была судьба.
— Угу. — Я в это время думал, какой тип волокиты являл собой Макс. Он был очень откровенен, впрочем, как и все волокиты.
Мы стояли в дверях, и прохладный воздух улетучивался из квартиры, бесследно растворяясь в теплой влажной мгле. Мы видели, как Мэриэн открыла дверь для Макса: женская галантность? Видели, как он сел в машину, как Мэриэн обошла автомобиль спереди и села за руль. Сьюзен обвила меня рукой, и так мы стояли, прильнув друг к другу, пока Мэриэн и Макс не исчезли на красном «камаро» во влажной черноте ночи.
3
Несколько дней спустя я видел, как Макс, нажимая на педали, ехал на своем коричневом «грузовике» в сторону Вилла-Флэтс; к багажнику желтым эластичным шнуром был привязан букет красных цинний. В том квартале, насколько я знал, жили многие наши факультетские преподаватели, и в их числе Мэриэн. В эти выходные красный «камаро» Мэриэн приезжал на ужин — но не к нам, а к соседу. Макс, должно быть, готовил что-то совсем необычное, ибо часом позже на его кухне раздался такой взрыв, что весь наш блок затрещал по швам. Я представил себе, как они ужинают при свечах, вообразил, как они сравнивают свои голени, а потом переходят к более интимным анатомическим структурам. Но, как подметила Сьюзен, красный «камаро» не остался на ночь.
Правда, я видел, как они вместе шли в кино, но, учитывая, какое барахло показывали в нашем местном кинотеатре «Синема-3», это скорее был повод и прелюдия, нежели настоящее кинематографическое переживание. Макс и Мэриэн переживали то, что в нашей средней школе называли «любовь до гроба — дураки оба». Это было, конечно, вовсе не удивительно, но они действительно оказались необычной парочкой. Для начала они часто и громко ссорились. Обычно их споры и ссоры касались половой принадлежности, причем часто они решали, кто из них к какому полу принадлежал. Макс ухитрялся так представлять свои аргументы, что совершенно верное утверждение могло обратиться в полный абсурд и наоборот. На самом деле, я думаю, Мэриэн осталась с ним только потому, что рассчитывала победить и оказаться наверху — если не в споре, то хотя бы в постели.
Первое доказательство того, что Мэриэн делит ложе с Максом, явилось не в виде протестующих диванных пружин, а в виде протестующих голосов в спальне Макса. В тот день я допоздна засиделся в кабинете, снова и снова переписывая один параграф своей статьи о синекдохе и метонимии у Джойса. Люди очень часто путают целое с его частями или части между собой — таков мой взгляд на жизнь. Если я пишу об этих явлениях в литературе, то это называется научной работой. Когда я в ударе, то могу писать хорошую научную прозу, но в этот день мой ум блуждал очень далеко от метонимии Джойса. Я лишь усугублял свою неспособность что-либо написать, отказываясь сдаться, и не столько лепил параграф, сколько насиловал его. Сьюзен благоразумно удалилась в спальню с романом Эйна Панда. Мне было приятно, что она стала больше читать, — независимо от того, какие тексты она выбирала.
Третий раз за пять минут я уже был готов плюнуть на статью, когда в спальне сильно хлопнула дверь. Из-за стены этот звук казался похожим на приглушенный кашель. Напротив, голос Мэриэн был слышен очень отчетливо.
— Это же замещение, — вещала она. — Это оправдание, как мне кажется.
— Замещение чего, секса? — Макс издал издевательский звук, как это принято в Бронксе, но не столь открыто. — Черт, я думал, что женщины любят мужчин в форме.
— Да, я люблю мужчин в форме. Но скажи, почему ты занимаешься этим каждый день?
Как я понял, речь шла о поездках Макса на велосипеде, а не о мастурбации. Я перепутал части. Хотя, надо сказать, Макс неукоснительно занимался и тем и другим.
— Это привычка. Разве у тебя нет привычек?
— Есть, но я отношусь к ним более гибко.
— Но мне это еще и приносит пользу. Тренирует мою сердечно-сосудистую систему.
Послышался какой-то извращенный вздох, и я понял, что Макс зло втянул в себя воздух.
— Гм. Знаешь, мне нравится твоя грудь.
— А мне твоя.
— Спасибо, но знаешь что? Я могу потерпеть и похудеть на десять фунтов.
Я непроизвольно кивнул компьютеру. Почти все женщины думают, что им надо похудеть на десять фунтов. Сьюзен сказала мне об этом вчера. Когда я уверил ее, что она прекрасно выглядит — то же самое сейчас говорил Макс, — то получил ответ, который слышал теперь от Мэриэн.
— Ты говоришь так только для того, чтобы меня успокоить.
— Нет, совсем нет. — В голосе Макса послышалась горячность, способная пробить стены. — Но может быть, похудев, ты будешь лучше себя чувствовать.
— Что ты собираешься делать? Нет, не… О-о-о.
Это заключительное «о-о-о» повисло в воздухе, как жалобный стон. Прошло несколько секунд, и за первым стоном последовал второй, немного тише.
Диалог стал невнятным. Речь шла о езде, но сомневаюсь, чтобы это относилось к велосипеду. Язык тела трудно читать из-за непрозрачности стен. Кроме того, я почувствовал себя вуайеристом, точнее, даже одитьеристом, я сохранил данные на компьютере и на цыпочках вышел из комнаты. До меня вдруг дошло, что если я слышу их, то может быть верно и обратное.
Сьюзен еще не спала, хотя уже и не читала. Она выжидающе посмотрела на меня, когда я вошел, словно ожидая отчета.
— Закончил?
— Закончил что?
— Статью. Ты ведь работал над статьей?
Я мог бы рассказать, что меня отвлек сосед, но мне не хотелось говорить об этом в тот момент. Я буркнул в ответ что-то невразумительное и тяжело улегся на кровать. Профессор пришел отдохнуть после важных трудов. У меня болела спина, и я не преминул сказать об этом. У ученых часто болит спина.
Сьюзен по доброте душевной предложила сделать мне массаж, и, хотя она не умела делать его как следует, мне доставляли удовольствие одни только ее прикосновения. Я перевернулся на живот, и она оседлала меня, упираясь, впрочем, коленями в кровать. Она начала массировать мне шею, медленно спускаясь ниже по спине и используя для массажа кончики пальцев и основания ладоней.
Мне было хорошо. Я сказал, что у меня сильнее всего болит поясница, и Сьюзен сместилась еще ниже. Через минуту я рассыпался в изъявлениях нижайшей благодарности. Сьюзен благосклонно кивнула и продолжила массаж. Как бармен, выслушивающий пьяного посетителя, или как священник, отпускающий грехи прихожанину, массажист — личность исповедующая. Прошла еще минута, и я не выдержал.
— Знаешь… э-э… у Макса и Мэриэн действительно роман.
— Я знаю. Я позавчера видела их у Крогера. — Сьюзен хихикнула, продолжая тискать мою поясницу. — Они спорили по поводу того, что положить в тележку.
— Н-ну-у.
— Это было очень серьезно. Мне даже показалось, что она вот-вот его стукнет.
— Хм-м-м. Похоже, они созрели для семейной жизни.
Сьюзен изо всех сил сдавила мне бока, а я отомстил ей тем, что выгнулся дугой, приподняв ее, благо она весит всего сто пятнадцать фунтов. Я подмял ее под себя, но не придавил, так как всегда боялся причинить ей боль. Мы всегда занимались любовью по-миссионерски, но сегодня я вспомнил о Максе и заставил Сьюзен сесть на меня верхом, чтобы она, опираясь мне на плечи, качалась вверх и вниз. После этого мы лежали как ложки в наборе — так часто лежат молодые любовники: я лежал лицом к спине Сьюзен, прижимаясь к ее ягодицам. Помнится, так мы провели свою первую ночь после вечеринки, где я танцевал только со Сьюзен. До этого я шесть лет жил как монах, готовя диплом в Пенсильванском университете, беспокоясь, что жизнь проходит мимо, но она все же меня не подвела. В какой-то момент мы перестали танцевать и принялись целоваться; она говорила, что приходится целоваться, чтобы я перестал наступать ей на ноги.
Мне понравился ее юмор. Но постепенно он стал ей изменять. Когда мы начали встречаться, она была очень забавна, это была женщина, способная выставить ноги из окна машины, когда было слишком жарко, купить мне в подарок торт в виде луны и воткнуть в него одну свечу на мой тридцать первый день рождения… Она любила мужчин с мозгами — сама говорила, что любит мужчин, которые могут думать и говорить после секса. Сьюзен нравилась мне и потому, что являла собой разительный контраст с атмосферой северных университетов, этакий нахальный свежий ветерок в сравнении с капризным и изнеженным северным ветром. Нам было так хорошо, что мы решили пожениться. Это изменило все.
Возможно, перемена произошла оттого, что она стала женой факультетского профессора. Сьюзен чувствовала себя скованной, одновременно став умнее и изящнее, — две ипостаси настоящей южной жены. Да и сам я, вероятно, изменился, превратившись в близорукого книжного червя. Так же как в прошлом, то, что я читал, интересовало меня больше, чем окружавшая реальная жизнь.
Я уже почти соскользнул в сон, когда Сьюзен вдруг решила продолжить прежний разговор. Она толкнула меня в бок.
— Знаешь, а Мэриэн не мешало бы похудеть.
Я дотянулся до ближайшего кусочка Сьюзен — до ее правой руки, на которой не было ни грамма лишней плоти.
— О, ты же знаешь, о чем я говорю. Ей надо чуть-чуть похудеть в бедрах.
Я ничего не сказал, и она развила свою мысль дальше:
— Я думаю, что из-за этого они и ссорились в магазине. Дорогой, тебе не кажется, что мне надо сбросить фунтов пять?
— Тебе? — Я так устал, что не стал оригинальничать и процитировал строчку из «Соседства мистера Роджерса»:
— «Я люблю тебя такой, какая ты есть».
— Льстец. — Это было сказано без всякой интонации.
Я протянул руку и положил ладонь на ее вздымавшуюся в такт с ровным дыханием грудь. Она положила свою руку на мою. Я ощущал, как сливаются биения нашего общего пульса. Медленно в нереальной ночной атмосфере мое тело слилось с телом Сьюзен, с кроватью, с сумерками — и я уснул. Обычно после секса мне всегда снились мы со Сьюзен. Но на этот раз я видел во сне Мэриэн и Макса в какой-то до сих пор невиданной мною позе.
Когда я проснулся, мне показалось, что наступил конец лета. Или, по меньшей мере, начался новый семестр, что, по сути, одно и то же. В воздухе висело нечто почти осязаемое; я чувствовал это нечто, бреясь тем утром в ванной, счищая лезвием пену со щек. В прошлом году Сьюзен купила мне опасную бритву, и я в конце концов научился ею пользоваться. Проблема, правда, заключалась в том, что я не выношу долго смотреть на себя в зеркало: терпеть не могу свои мягкие черты, скошенный подбородок и редеющие на макушке пепельно-каштановые волосы. Сьюзен говорит, что у меня доброе лицо, но я сам лелею тайное желание выглядеть резким. Эта мечта сбывается только тогда, когда я готовлюсь к занятиям и думаю о себе как о профессоре. Но лето расслабляет, и я утратил эту способность.
Тем субботним утром у подножия холма было припарковано множество машин. На импровизированных плечиках, свисавших с задних сидений, болтались свитера, блузки и платья — я понял, что вернулись девушки из женского Студенческого союза университета. Днем я услышал новую интерпретацию «Гаммы» Беты Гаммы «О, как я счастлива». Все это возвещало скорый приход осенней лихорадки. Песни неизбежно сопровождались танцами на лужайках объединения, больше похожими на коллективную ритмическую гимнастику. Все это выглядело бы куда сексуальнее, если бы движения не были такими спортивными, но все равно зрелище обнажаемых в танцевальном раже животов и спин сорока с лишним девиц, только что вышедших из подросткового периода, действовало достаточно возбуждающе. Брачные пляски юности. Несколько раз я видел, как Макс, стоя на своем крыльце, бесстыдно наблюдал танец.
Забрав почту в Студенческом союзе, я пробежал сквозь толпу загорелых блондинов и блондинок, наткнувшись там на своего бывшего студента, который узнал меня прежде, чем я узнал его. Единственное, что можно сделать в такой ситуации, которые неизбежны у преподавателей, обучающих до девяноста студентов в семестр, — это сделать вид, что ты что-то лихорадочно ищешь. Я покинул союз, так и не вспомнив его имени, но я понял, почему он вспомнил меня. Это был один из моих студентов семинара по введению в литературоведение, и каждый свой реферат он начинал словами «это всего лишь мое мнение» — каковое, по моему мнению, едва-едва заслуживает тройки с плюсом. Научные работники всегда испытывают двойственное чувство в преддверии учебного года с его неизбежными студентами: с одной стороны — цель и смысл существования университета — учить студентов; с другой — их присутствие смертельно в научной среде, в которой «публикуйся или умри» — одиннадцатая заповедь. Тем не менее я не вижу смысла лезть в науку, если ты собираешься только марать бумагу. Короче, во время учебного года большинство ученых, у которых истекает срок пребывания на конкурсной должности, начинают проявлять чудеса эквилибристики, которым позавидовали бы профессиональные циркачи: занятия в подготовительных группах, проведение собраний, ведение независимых исследований, работа в аудиториях, выставление оценок, кабинетная работа — все это надо как-то согласовать с семейной жизнью и свободным временем, хотя обычно в сторону отставляются интересы семьи и свободное время. Я завидовал Максу в его необузданной свободе и еще в некоторых вещах.
Удручающий аспект этой работы, не связанный с самим процессом преподавания, заключается в том, что она начисто лишена какой-то схемы. Сам процесс преподавания — это лишь то, что торчит на поверхности. Подводная часть айсберга, например подготовка к занятиям, может отнимать многие и многие часы, но иллюзия свободы заключается в том, что вы можете кроить эти часы по собственному усмотрению. Если вы хотите, то ходите в кино пять раз в неделю, но это прямой путь загубить выходные. Один преподаватель с нашего факультета, ночной филин Грег Пинелли, ежедневно вставал в полдень, к двум часам шел в университет, а потом за полночь засиживался над своими планами и записями. Он был закоренелый холостяк с типично холостяцкими привычками, в кои входило приготовление итальянских блюд, обильно приправленных чесноком. Секретарь кафедры, миссис Пост, смотрела на него как на еретика, не ходившего в епископальную церковь, и сибарита, но он из-за своих привычек, к счастью, редко с ней виделся. У него был ключ от канцелярии, и он брал почту во время обеда, который начинался у него в семь часов вечера. Единственное, чего он по-настоящему боялся, — так это того, что его заставят вести утренние группы.
Сначала я думал, что и Макс относится к тому же типу, но вскоре понял ошибочность своих предположений. По собственному опыту я знал, что одинокое житье может сделать человека либо мягким и раздражительным, либо твердым и дисциплинированным. На самом деле все зависит от того, какая часть вашей души берет в этой ситуации верх — ид или супер-эго[1]. Я в этом отношении личность колеблющаяся. Когда я прожил один целый год в миле от университетского городка, то вскоре обнаружил, что стал позже вставать, стал реже ходить в кафе, а убирался в доме только тогда, когда это становилось абсолютной необходимостью. Даже Сьюзен ужаснулась, когда мы начали встречаться. Она назвала меня «северным варваром» и заставила вычистить кухонную раковину, когда я в первый раз пригласил ее к себе на ужин. Я склонен подчиняться чужим установлениям и изменился. Остальное завершила женитьба.
Не таков был Макс. Я не могу доподлинно сказать вам, чем именно он занимался, но он всегда и постоянно что-то делал. Я знаю, что он вставал около шести утра и принимался слушать радио. В мои утренние сны стали проникать песни из выпуска Национального государственного радио. Он проводил массу времени перед монитором компьютера, я мог наблюдать его в окне, словно в рамке картины. Окно находилось в противоположной от университета стороне, поэтому мне нужен был какой-то предлог, чтобы пройти мимо него. Раз или два я притворился бестактным и без околичностей просто заглянул к нему: было похоже, что Макс затеял со своим компьютером игру — кто кого пересмотрит. Он забыл о своей безупречной осанке и, сгорбившись, сидел на стуле, уставившись в экран монитора. Время от времени он принимался с лихорадочной быстротой печатать и делал это двадцать-тридцать секунд. Потом — это было третье мое подглядывание — он поднял голову, увидел меня и помахал рукой. Я почувствовал себя назойливым дураком. Мне так и не удалось узнать, составлял ли он лекции, писал ли письма друзьям или сочинял какой-то неведомый шедевр. Обычно во второй половине утра он куда-то уезжал на своем грузовом велосипеде, но всегда возвращался к обеду. Обедал он исключительно дома. Конечно, была неизменная дневная поездка и на гоночном велосипеде, после которой следовало приготовление ужина. Не знаю, как он строил свой вечер. Вообще я понял, что не имею представления, чем большинство людей занимаются по вечерам.
Я хочу подчеркнуть самую главную черту Макса — он был постоянно активен и всегда с определенной целью. Если вы видели его идущим или едущим на велосипеде, то он либо куда-то ехал, либо откуда-то возвращался. В то долгое жаркое лето, когда для меня главным событием дня было забрать кафедральную почту, Макс жил по какой-то своей внутренней схеме. Конечно, так живут все ученые, иначе мы просто не смогли бы выполнять свою работу. В конце концов, никто не говорит нам: «Вы должны написать статью о Джойсе» или «Ну а теперь самое время пойти в библиотеку!». Никто, за исключением внутреннего голоса, коварно не намекает, что мы расслабились, или не советует отчетливо сделать еще один шаг по дороге. Мы же все идем, как по канату, по невидимой линии, и кто-то быстрее других теряет ориентир. Но кажется, я начинаю безнадежно увязать в метафорах. Вернусь к главному пункту: всеми учеными движет одновременно эгоизм и отчаяние. Но Макс выбивался из всех рамок. Он превосходил своей целеустремленностью даже моих нью-йоркских знакомых, а этот город — земля обетованная для чересчур активных.
Я думал обо всем этом в середине августа, когда кафедральная канцелярия перестала напоминать комнату с привидениями. За день там бывал от силы один посетитель, теперь она превратилась в бурлящее деятельностью учреждение с разрывающимся от звонков телефоном, трубку которого миссис Пост брала одной рукой, другой в это время печатала на компьютере. Миссис Пост респектабельная дама, ей за пятьдесят, и раньше она работала в армии; иногда она громко ругает себя за то, что оставила службу. Думаю, что одна из причин, почему она скучает, заключалась в передаче приказов по команде, но единственное, что мы можем ей предложить, — это подрабатывающего студента для печати фотокопий и отсылки корреспонденции. Образчик нынешнего года называется Трейвис Петерсон, парень со всклокоченными светлыми волосами в неизменной помятой футболке оливкового цвета, которую он, кажется, вообще никогда не снимает. У него покатые плечи и покатый лоб. Трейвис вполне может отпечатать вашу рукопись так, что вы получите в результате чистый лист, или положить отправленное вам письмо в соседний почтовый ящик. Любимое его занятие — подслушивать кафедральные сплетни и путаться у всех под ногами. Мы пытались избавиться от него, но, как оказалось, Трейвис останется с нами и на следующий семестр.
Вскоре я начал обнаруживать в почтовом ящике приглашения на заседания различных комитетов и всякую прочую высокопарную административную чушь. Дома, сидя за компьютером, я заканчивал наброски планов трех курсов, которые мне предстояло вести: один выпускной курс по британскому модернизму и два курса введения в литературу (двести часов английской литературы, обязательных для всех студентов-гуманитариев). Сорок впечатлительных умов, размышляющих о Шекспире, пока преподаватель разливает перед ними волны своего красноречия. Семинар по модернизму был одновременно и легче и труднее; на занятиях будут пятнадцать студентов, но подход к материалу куда более серьезный.
Как преподаватель младших курсов на кафедре истории, Макс будет вынужден столкнуться с теми же проблемами, но с другим боссом. И это очень жаль, так как нашей кафедрой заведовал сообразительный и не лишенный чувства юмора парень из Нью-Джерси по имени Эд Шемли. Этот бывший газетчик, который шесть лет отработал в «Майами геральд», прежде чем погрузиться в науку, носил ярко-красный галстук на все факультетские мероприятия, подчеркивая этим их вопиющую комедийность; к тому же он обладал здоровым отвращением к истеблишменту. Некоторые ветераны факультета, вся эта довоенная и допотопная орда, были раздражены тем, что во главе кафедры находится янки, но это спасало нас от того, что Мэриэн называла деревенской светскостью.
Глава кафедры истории, к несчастью, не носил ничего, кроме белого костюма и узкого галстука. Генри Клей Споффорд Третий, специалист по истории и религии Юга, был из тех начальников, которые, если им это позволят, запрягут в телегу белого коня. Он говорил, как мне казалось, с нарочитым южным акцентом, хотя точно этого утверждать я не могу. Его жена Эмма ценила сплетни выше золота; она их собирала и распространяла в группе, куда входила и Сьюзен, — Оксфордская женская группа содействия. Я всячески пытался уговорить Сьюзен перейти в какую-нибудь другую организацию. В тот момент ее заставили читать книги заключенным. В ответ она, пытаясь внушить мне чувство вины, сказала, что эта деятельность заменяет ей отсутствующих детей. Мой обычный ответ в таких случаях был неизменным: «Не сейчас».
Что касается того, каким образом Макс сумел получить место преподавателя, то сначала я предположил, что ему просто повезло. Начиная с семидесятых рынок труда для гуманитариев стал таким узким, что его просто не с чем стало сравнить. Чтобы вы имели представление о шансах, могу сослаться на собственный пример: спустя год после того, как меня приняли на работу, Шемли как-то обронил, сколько претендентов было на мою должность, — двести. И это в «Оле Мисс», которая хоть и неплохой университет, но все же не идет ни в какое сравнение с Йельским или Стэнфордским. Сотрудники факультета, годами не имевшие дела с комитетами по найму, просто не представляют себе, что за кошмар там происходит. Например, Стенли Пирсон во время нашего званого ужина задал Максу неизбежный вопрос: «Почему вы выбрали „Оле Мисс“?» Я думал, что Стенли лучше разбирается в ситуации. Только позже я понял, что это был очень коварный вопрос.
Макс ответил не моргнув глазом: «Потому что здесь я смог получить работу». Это может показаться скромностью, но в действительности это был умный уход от прямого ответа. Специальностью Макса была новая история Британии, по странному совпадению это в точности соответствовало тому, чем я занимался в литературе. Но в его публикациях этой темы не было вовсе; диапазон работ Макса простирался от политики Октавиана Августа до демократии Джексона. Это было странно не потому, что в наши дни все придерживаются узкой специализации, но и потому, что студенты-выпускники вообще очень редко публикуются. Он писал и художественную прозу, — во всяком случае, однажды он сам сказал мне об этом, но больше к этой теме не возвращался. Что касается работы, то он либо сухо излагал факты — когда я как-то спросил его об этом, он просто показал мне свою профессиональную биографию, — либо занимался самоуничижением — он отмахивался от своих публикаций, как от чего-то слишком несущественного. Действительно, ему стоило быть более сосредоточенным; за последнее время у него было несколько неудач. Я не мог понять, была ли это ложная скромность или истинная правда. Даже просмотрел пару его работ, и они показались мне стоящими, но я пожалел о том, что у меня нет знакомых на историческом факультете Колумбийского университета. Сами понимаете, как это бывает: если вы заинтересовались человеком, то хочется знать не только каков он теперь, но и каким был раньше.
В дни регистрации мы время от времени сталкивались в коридорах. Каждый раз я снабжал его разными сведениями об университете, например о том, как заказать учебники для группы (он уже заказал их в большом и отвратительном университетском магазине, но в следующий раз я посоветовал ему воспользоваться услугами превосходного книжного магазина в городе). Я собирался сказать ему, чтобы он посетил бар «Тед и Ларри», если хочет познакомиться с женщиной, но потом вспомнил, что у него уже есть Мэриэн, и спросил как бы между прочим, как идут дела.
— Какие дела?
Ложная скромность или истинная правда?
Это тип, которого надо либо хорошенько толкнуть в бок, либо сделать существенный и грязный намек. Сам я не таков. Но любопытство взяло верх.
— Я думал, что вы продолжаете видеться с Мэриэн Хардвик.
— А… это. — Он слегка усмехнулся, и я понял, что увидел нового Макса — Макса смеющегося. — С ней бывает забавно. Но она может быть и как репей в заднице.
— Правда? — Этим словом я обычно подзадориваю моих студентов.
— Да, иногда мне даже кажется, что она пытается меня спровоцировать, просто для того, чтобы посмотреть, что из этого получится.
— Правда?
— М-м-м-м… иногда она, правда, бывает сама кротость. — Он отвернулся, на его лице промелькнуло виноватое выражение. — Но такие провокации я люблю. В женщине, любящей доминировать, что-то есть, а Мэриэн… — Он замолчал. — Но посмотрим. Так что вы будете вести в этом семестре?
Думаю, он и в самом деле хотел выслушать подробности, чтобы узнать для себя что-то новое. Я знаю, что он использовал некоторые мои замечания, но в тех обстоятельствах, расскажу об этом позже, пришлось почувствовать себя почти соучастником преступления — по причинам, которые станут очевидными, если я верно их изложу.
Закончив, я попросил его ответить на тот же вопрос. Он рассказал, что будет вести выпускной семинар по истории Англии накануне Первой мировой и две группы по теме «Европа от упадка Римской империи до 1648 года». Если начало занятий выпадет во вторник, то будет осада Константинополя. Я сказал, что в первый день в аудитории не наберется и половины студентов, так как «Оле Мисс» планирует начало занятий накануне Дня труда.
— Посмотрим, но на работу я все же пойду, вы же понимаете.
— О, это вы просто обязаны сделать. Я называю это воспитательным мероприятием.
Так как я не знал, как мне подступить к нему с новыми расспросами о Мэриэн, то перед тем, как разойтись, мы поговорили о педагогических трюках, после чего я направился к лифту (мне надо было воспользоваться копиром наверху), а Макс — к лестнице. Мне следовало давно понять, что Макс не пользуется лифтом. Прежде чем двери лифта закрылись, я увидел пару мускулистых ног, в быстром темпе перескакивающих через две ступеньки сразу. Я понял, что до верхнего этажа Макс доберется раньше меня.
4
Следующая сцена с Максом: он одет в безупречный льняной серый пиджак, на нем шелковый галстук с орнаментом пейсли[2] и отутюженные брюки цвета хаки — брюки прижаты у обшлагов прищепками, чтобы не попали в цепь велосипеда. В первый день занятий он отправился в университет на своем коричневом мустанге. Он помахал мне, отъезжая, и я помахал в ответ, не поняв сначала, кто это такой. Я ни разу до этого не видел Макса ни в чем более парадном, чем безрукавка и слаксы. Сочетание костюма и грузового велосипеда было вопиюще нелепым, но это был Макс. Я видел, как он спускался с холма, устремившись мимо Кросби-Хилл к женскому общежитию. Там ему преградили путь две переходившие дорогу женщины, но он не стал тормозить, а, совершив пару невероятных поворотов, ухитрился проехать между четырьмя ногами.
Итак, Макс уехал, чтобы отметиться первый раз. Мое первое занятие в этом семестре должно было начаться днем, но я уже пережил тот период, когда преподавателя перед работой мучают мрачные предчувствия и терзает страх. Подобно большинству людей, выступающих по долгу службы перед аудиторией, я нервничал вплоть до наступления ночи, но потом отключался и переставал дрожать. Предыдущие несколько дней я суетился, заготовив пять вариантов вступления, перебрал все неблагоприятные сценарии: забыл дома конспект занятия, в аудитории нет мела, на штанах у меня дыра, — но потом смирился, решив: пусть будет что будет. На самом деле меня больше интересовало, как выкрутится Макс.
Я не видел его, когда приехал в Бишоп-Холл в четверть первого, зашел в мужской туалет и осмотрел себя в зеркало (однажды я провел два часа аудиторного семинара с расстегнутой ширинкой). Затем спустился в отведенную мне аудиторию, где уже толпились студенты. В прошлом году они выглядели как пятнадцатилетние подростки, в этом — помоги мне Бог — как четырнадцатилетние. Они искренне полагали, что лето еще не кончилось, в глазах рябило от шорт и рубашечек с бретельками. Тела всех мыслимых форм и размеров — от бледных очкастых эктоморфов до неуклюжих гигантов, лишенных только одной детали — лба. Свеженькие лица, стройные конечности — и я, который должен обрушить какие-то знания на их бедные головы. Тут нет места метафорам; английский-200 — обязательный курс, который надо вдолбить всем — от воротилы бизнеса до футболиста. Мой выпускной семинар — куда более малочисленная группа — соберется только на следующей неделе.
Я взошел на кафедру и поставил сумку себе под ноги, потом наклонился и достал оттуда журнал посещаемости, заметки и нужный текст. Это помогает аудитории понять, что преподаватель не окостенел и может согнуться в поясе. Выпрямившись, я улыбнулся аудитории и сразу же вспомнил, почему мне нравится преподавать на Юге: студенты обязательно улыбаются в ответ. Возможно, они не испытывают никакой симпатии, но это многое говорит об их вежливости, даже если вы определите ее как цивилизованную ложь. Или деревенскую светскость.
Я не придерживаюсь того мнения, что в первый день студенты и преподаватели могут ничего не делать, отметил отсутствующих, достал план и прочел вводную лекцию по курсу. Так как одного слова литература достаточно для того, чтобы вызвать у человека панику или зевоту, то я всегда прошу студентов дать определение этому слову. При этом я обращаюсь к людям, которые, возможно, сначала пугаются, но зато это несколько развеивает скуку.
Я спросил загорелую до черноты блондинку в расписанной греческими буквами футболке. Она вопросительно прижала к груди руку с ярко-красными ногтями:
— я?
Я сочувственно кивнул. Она скривила свое красивое личико.
— Ну, не знаю… поэзия?
— Возможно, — пробормотал я и написал на доске печатными буквами слово ЛИТЕРАТУРА. Следующим стал клон Эдда, служащего с бензоколонки, который допускал, что в понятие литературы можно включить пьесы.
— А как насчет фильмов? — поинтересовался я.
— Не-а.
— Некоторые можно, — запротестовала девушка в первом ряду. На ней были такие тяжелые очки, что казалось, они вот-вот сломают ей нос.
Наконец с заднего ряда раздалось неизбежное:
— Это скучища, которую нацарапали какие-то мертвецы, а мы теперь должны читать.
Реплика разрядила обстановку — скованности как не бывало. Предложения посыпались как из рога изобилия. Может быть, сказки, но не надписи на обратной стороне коробок с хлопьями. А если бы Шекспир написал сонет о картофельных чипсах? Мы обсуждали предмет добрых десять минут и решили, что литература имеет отношение ко множеству разных областей. Потом, когда они уж слишком расшалились, я дал им текст для чтения. Накануне я сделал сорок копий рассказа Кейт Шопен «История о часе»; у этого рассказа есть два несомненных литературных достоинства: в нем всего две с половиной страницы и он входит в обязательную программу. Так как большинство еще не купили учебник, я пустил копии по рядам.
Я видел множество шевелящихся губ. Миссисипи не завидный образец всеобщей грамотности, и, хотя все студенты, с которыми я до сих пор сталкивался, умели читать, литература была для них очень трудным предметом. Потом мы поговорили о рассказе, неожиданный конец которого делал его интересным, а феминистский налет оказался ниспровергающим основы для большинства аудитории. Так как в первый день я еще не мог связывать имена с лицами, то спрашивал студентов, просто указывая на них рукой. Под конец занятия я потревожил широкоплечего здоровенного парня, которого наверняка не вызывали к доске уже много лет. Зато я запомнил его имя: Том Феллон. Том выглядел отчасти испуганным, отчасти польщенным, и я решил не оставлять попыток.
Один вывод, к которому я пришел на Юге, заключается в том, что если анатомия и не определяет здесь судьбу человека на сто процентов, то все же играет очень важную роль. Я — и это очень печально — имею в виду, что если девушка привлекательна и умна, то высоко она не поднимется, а если я вижу очкастого коротышку, почесывающего свое дурно скроенное тело, то понимаю, что вижу кандидата в отличники.
Но больше всего мне жаль обыкновенных девушек: из небогатых семей, с жидкими, неухоженными волосами, впалыми щеками или толстушек, зады которых не умещаются на стульях. Если учесть, что жизнь в штате Миссисипи представляет собой сочетание соревнований по красоте и политической борьбы, то внешность здесь может значить для человека очень много. Я приметил в пятом ряду одну особенно полную девушку; полные розовые и упругие руки вызывающе торчали из коротких рукавов футболки. Она выглядела как одинокий остров, как вещь в себе и для себя, и, когда занятие окончилось, она надела пояс на свои тяжелые чресла, собрала книги и, не говоря никому ни слова, пошла к выходу. Казалось, ее плоть движется сама по себе, подчиняясь только своей собственной воле. Я стоял у двери, как радушный хозяин, провожая гостей. Когда девушка вышла на лестничную площадку, я увидел вынырнувшего откуда-то Макса, который не отрывал от толстушки взгляд. Я помахал ему:
— Ну? Как дела?
Сначала Макс меня не слышал. Он остановился, достал блокнот и принялся что-то записывать, поглядывая на девушку, которая плыла мимо него, как баржа. Я подождал, пока он перестанет писать, и повторил вопрос.
— Что? А, вы имеете в виду занятие. — Он пожал плечами. — Думаю, нормально. То есть они не швыряли в меня жеваными шариками и не клевали носом.
— Эффект новизны. Дайте им время.
— Я даю им нечто большее, чем просто время. Я даю им историю — с 1648 по 1945 год, если быть точным. — Он провел пальцами по переносице, словно поддерживая нос. За время разговора он повторил этот жест три или четыре раза. — Я должен их заинтересовать. Как бы то ни было, но я могу это делать.
Так как этот подход совпадает с моим, я одобрительно кивнул. Разговаривая, мы вышли на улицу и превратили университетскую болтовню в дискуссию на открытом воздухе.
— Это похоже на актерство, — заметил я.
— Точно так. — Он сделал театральный жест, делано взмахнув манжетой. — Но разница в том, что актеры играют одно и то же перед разной публикой, а нам приходится играть разные пьесы одной и той же публике.
Это было сказано так искренне, что едва ли он заранее подготовил фразу, но я не стал интересоваться, насколько она оригинальна. Вместо этого я решил ее запомнить, чтобы сегодня же ночью поразить ею Сьюзен. Было двадцать минут третьего, шел перерыв между занятиями, и студенты бродили вокруг, совершая некое подобие броуновского движения. Макс был просто очарован этим обилием тел, он буквально пожирал их глазами даже во время нашего разговора. Некоторые могли бы назвать его поведение грубым и бестактным, но он делал это с таким видом, какой бывает у ребенка, прижавшегося носом к витрине кондитерского магазина, — то, как он созерцал их, нисколько не раздражало. Это был человек, который… Который — кстати говоря — что? У которого пунктик на тела? Собственно говоря, что такого он в них нашел, что так пристально их рассматривает?
В это время появилась натянуто улыбавшаяся Мэриэн. Она была одета как преподаватель, что — на ее взгляд — означало носить синюю плиссированную юбку и белую блузку. Взгляд Макса переместился на это возникшее рядом тело, и он притворился, что разглядывает его с головы до ног. Он закончил тем, что присел на корточки, пощупал кожу туфель Мэриэн и одобрительно кивнул.
— Ну, прекратите. — Мэриэн топнула ногой, как испуганная кобылица.
Я заметил, что у нее сильные, налитые икры — белые, как алебастр, не стесненные чулками. Наверное, их касались руки Макса, когда она кричала: «Ша!»
Макс встал и галантно поклонился.
— Если сударыне и дальше угодно разбивать мужские сердца…
Эта тирада явно пришлась ей не по вкусу и к тому же вогнала ее в краску. В самом деле, теперь ее лицо напоминало помидор или еще что-то из семейства пасленовых. Макс, воспользовавшись этой временной слабостью, подхватил ее под полный, как у Юноны, локоть и повел к выходной двери. Кажется, она еще прибавила в весе, несмотря на все уверения Макса.
— Идемте, я провожу вас до аудитории. Можете представить меня студентам как своего анонимного воздыхателя.
Не могу сказать, какое было у Мэриэн выражение лица — я видел ее со спины, но на этот раз она не пыталась сопротивляться. Макс крепко держал вожжи, по крайней мере, об этом можно было судить по его голове, — жестами изображая: «Простите, мы продолжим этот разговор позже». Я тоже жестом выразил свое согласие (кивнул) и тупо смотрел, как они вместе вышли из Бишоп-Холла. Когда они дошли до двери, Макс не стал галантно пропускать даму вперед, напротив, он изо всех сил прижался к ней, чтобы придать им обоим нужную ширину, буквально вклинившись в бок Мэриэн, и так они протиснулись в проем одновременно. Студенты между тем незаметно рассосались, и, когда дверь за сладкой парочкой закрылась, я понял, что стою в холле один.
В первый месяц семестра я виделся с Максом достаточно часто, что означает, что я часто виделся и с Мэриэн, но надо сказать, что они не всегда выглядели парой, особенно когда бывали вместе. Женщины с сильным мировоззрением и сильными икрами редко любят, когда их пощипывают в разных местах, но Макс не отличался особым почтением ни к личностям, ни к политике. Кроме того, они постоянно спорили, спорили обо всем — от искусства истории (Макс обычно бывал прав) до истории искусств (здесь Макс обычно тоже оказывался прав, особенно когда дело касалось дат, и это бесконечно раздражало Мэриэн). Они ругались по поводу рыбных блюд и барбекю — двух священных предметов штата Миссисипи, а в последнее время начали препираться по поводу своих препирательств, что обычно говорит о вырождении отношений.
Кое-что я узнал от самого Макса, кое-что от Мэриэн через Сьюзен — моя жена почему-то стала поверенной в ее сердечных делах. Макс жутко раздражал Мэриэн, слышала Сьюзен, но зато он был чертовски сексуален. Но помимо этого он был просто маньяк, который мог своими ласками причинить боль. Короче, Макс был провокатор. Это было видно по его глазам, которые всегда были очень внимательны, иногда добры, но обычно взгляд его блуждал. В толпе он, как правило, рассматривал девушек.
Мэриэн, со своей стороны, была в основном моногамной и если не могла привлечь к себе его полное внимание — например, когда они разговаривали, — то это по очевидной причине вызывало ее сильное раздражение. Я не знаю доподлинно, как протекала их частная жизнь, но у меня сложилось впечатление, что она питалась излишествами и трением. Как бы то ни было, ночные шумы, проникавшие в мой кабинет, стали непредсказуемыми и часто абсолютно непостижимыми. Иногда я слышал шлепки и странные вздохи. Слышались звонкие удары, похожие на щелчки гигантских резиновых лент. Продолжался и скрип, но тональность его изменилась, переместившись в более высокий регистр.
От неподтвержденных экстраполяций ужасно устаешь. Единственное, что я видел, глядя в сторону стены, — это гравюру «Карриер и Айвис» с изображением деревенских саней, подаренную мне Сьюзен на последнее Рождество. Гравюра висела рядом с набитой книгами полкой. Можно было бы воспользоваться каким-нибудь шпионским подглядывающим устройством, но я не обладаю для этого нужной квалификацией. Никакого визуального доступа в спальню Макса у меня не было. В ней было одно окно, выходившее на задний двор, но жалюзи были всегда опущены. Так что и через окно я не мог ни черта увидеть.
Однако должен добавить, что это не совсем так. Однажды — всего однажды — мне случилось снять белье с веревки; нет, и это тоже неправда. Обычно высушенное белье снимала Сьюзен. Ну ладно: однажды, когда мне случилось выйти на задний двор, жалюзи внезапно открылись, как вечно закрытый до этого глаз. И тут в поле моего зрения вступила Мэриэн — абсолютно голая. У нее оказались полные бедра и пышная растительность на лобке. Груди были большие, с тем оттенком слоновой кости, который возбуждает сексуальное вожделение сильнее, чем загар, так как говорит о скромности. Длинные каштановые волосы, ниспадающие на плечи, делали ее похожей на женщину с портрета Боттичелли, если не считать того, что у нее вызывающе торчали ярко-розовые соски, — старые мастера не позволяли себе подобной откровенности.
Так она и стояла — всего одно мгновение, ослепленная солнцем, которое и помешало ей увидеть меня. Лицо ее горело обычным после полового соития румянцем. Но в это время в окне появилась рука Макса, резко опустившая жалюзи. Судя по странному положению руки, Макс сделал это лежа в кровати. Но когда я после этого вернулся в кабинет, звуки стали еще громче. Значит, там происходило что-то еще невидимое глазу — моему глазу, так скажем. Можете назвать меня близоруким.
Но любопытство мое не улеглось и после этого. Любопытство не просто по поводу их занятий сексом, но по поводу того, как именно они им занимались. Наконец я решил прямо спросить об этом самого Макса.
Конечно же я не собирался спрашивать его об издаваемых ими звуках, но однажды, во вторник, когда он на своем спортивном велосипеде возвращался домой, я спросил его, как обстоят дела у них с Мэриэн. Он резко остановился, но, приподнявшись в седле, некоторое время, как опытный наездник, балансировал на своем мустанге, сохраняя равновесие. Свитер его взмок от пота, лицо раскраснелось, веки подернулись соленой корочкой. В сентябре в Миссисипи порой бывает очень жарко, и в тот день было за тридцать. Мой вопрос об их отношениях едва ли мог принести Максу приятную прохладу.
— Мне кажется, что ничего. — В этот момент он потерял равновесие и, резко сдернув ногу с педали, уперся в землю, чтобы не упасть. — Я хочу сказать, — он замолчал, поставив на землю вторую ногу, — что есть свои взлеты и падения.
— Какие взлеты и падения ты имеешь в виду — сексуальные или психологические?
— Ты знаешь третий аспект?
— Хочешь уклониться от ответа?
— Нет. Это касается и того и другого, но совершенно не так, как ты думаешь.
— Откуда ты знаешь, что я думаю?
— Я, во всяком случае, думаю не так, как ты.
— Откуда ты знаешь?
— Потому что ты женился на Сьюзен, вот откуда. — Он отвел глаза.
Только в этот миг я понял, насколько он измотан. Его тело, обычно подтянутое, согнулось под углом наименьшего сопротивления, и он даже не скрывал этого, впрочем, как и других вещей, о которых умолчал бы в ином случае.
— При чем здесь моя жена? — Я понял, что говорю подражая всем деревенским забиякам в радиусе трех штатов.
— Ни при чем, просто, видишь ли, у меня другие вкусы. Давай остановимся. Все это не имеет никакого отношения к Сьюзен. Мне очень трудно тебе это объяснить.
— Мне кажется, ты слишком часто ссоришься с Мэриэн.
— Возможно. Возможно, это просто часть наших отношений. Знаешь, мне надо домой, я промок, на мне сухой нитки нет. — Он пнул ногой дверь, которую никогда не трудился запирать, и наполовину вошел, наполовину вкатился в дом.
Так все же при чем здесь моя жена? Пружинная раздвижная дверь с грохотом захлопнулась.
— Потому что он очень чувствительный, вот почему, — сказала Сьюзен.
Мы доедали вчерашний обед — рубленую свинину и картошку, пережаренную с луком и брокколи. Сегодня блюдо было вкуснее, чем вчера, когда оно стало настоящей кулинарной катастрофой недели. Так иногда бывает, когда продолжение оказывается лучше первой книги. Сьюзен прекрасно готовила и не жалела продуктов: никаких Бармесидовых пиров за семейным столом Шапиро. То была такая разительная перемена по сравнению с моим холостяцким недоеданием и вечными сандвичами, что я за первые несколько месяцев семейной жизни прибавил двенадцать фунтов, прежде чем сообразил, что происходит. Я попытался ограничить себя, но было трудно устоять перед соблазном таких вкусных блюд. Сьюзен оставалась тонкой и стройной, думается мне, только за счет своей стальной воли.
Мой пищевой вопрос по ассоциации привел нас к разговору о том, что говорила ей Мэриэн, а говорила она существенно больше, чем рассказал мне Макс. Во всяком случае, эти подробности были более интимного свойства, хотя, вероятно, и Сьюзен что-то скрывала. Иногда мне кажется, что все женщины принадлежат к какому-то огромному международному союзу. Вы можете жениться на них, но никогда не станете членом этого союза.
Я проглотил последний кусок картошки.
— Чувствительный? В каком месте?
— Это совсем не то, о чем ты подумал. Он много целует ее в попу, а иногда ласкает и живот.
— И?..
— Ну, еще он любит спускаться ниже, устроившись между ее пухлых бедер.
Сьюзен посмотрела на меня, и я вскинул брови в притворном удивлении.
— И никаких перчаточных фетишей, никакого сосания пальцев ног?
— Ну нет, не думаю. — Она отодвинула тарелку. — Но есть и еще кое-что: он спросил ее о макияже. Она считает это странным.
— И как же он ее об этом спрашивал?
— О, ну, например, какую основу она использует, как накладывает тушь на ресницы, ну и прочие вещи в таком же роде.
— Может быть, это просто любопытство. — Я понял, что у Макса гораздо больше тайн, чем мне казалось. Это была еще одна. — Ты покажешь мне, как ты пользуешься своей косметикой?
— Нет.
— Почему нет?
— Потому что. У тебя исчезнут иллюзии.
Первое, что я хотел ей сказать, было: «Господи, да ведь я твой муж», но брак полон невысказанных вещей и потайных мыслей.
— Ну пожалуйста?
— Гм, ну ладно, может быть.
Она ловко, как официантка, убрала тарелки со стола и поставила их в мойку. Открыв кран, она принялась ждать, когда нагреется вода, так как нашему генератору для этого нужно некоторое время. Тихо жужжал кондиционер, и Сьюзен что-то мурлыкала ему в унисон. Я расстегнул ремень, наслаждаясь ощущением сытости. Вечерний свет проникал в окно кухни, и я вдруг, глядя сзади на жену, ощутил прилив любви. В браке бывают моменты, когда возвращается сладость обладания, когда снова начинаешь обожать любимую или любимого, потому что они в это время не подозревают, что ты на них смотришь.
Секс повернулся ко мне своими ягодичными щеками. Когда Сьюзен наклонилась над раковиной и принялась отмывать тарелки, джинсы туго обтянули ее зад, обозначив сладостную складку между ягодицами. На какой-то краткий миг меня посетило желание встать и расцеловать ее в обе половинки. Мне захотелось подойти к ней сзади, обнять ее за талию и, медленно покачиваясь, опускать руки все ниже и ниже. Но минуты шли, а я продолжал все так же сидеть за столом. Сам не знаю, почему я не сдвинулся с места. Может быть, причиной стала инерция после сытного ужина вкупе с этим несколько избыточным чувством. Или меня смутило время, которое потребуется от первых ласк до медленного — рука об руку — ухода в спальню. Или возникший перед глазами образ опередившего меня Макса, который с хищным выражением на ястребином лице уже жадно протягивал руки к соблазнительной плоти.
5
Вскоре мне представился случай понаблюдать отношения Макса и Мэриэн вблизи; произошло это два воскресенья спустя, на одной из вечеринок у Вернона Ноулза. Жуткая скука посиделок у Вернона могла вызвать приступ болезни — Эд Шемли утверждал, что это молниеносная кататония, за что был навеки вычеркнут из списка гостей. Конечно, для того, чтобы понять, какая причина скрывается за скукой воскресных вечеров Вернона, надо было заодно понять кое-что и в самом Верноне, но я не уверен, что в данном случае понять — значит простить.
Профессор Вернон Ноулз, заслуженный ученый в отставке, на звучной латыни emeritus, был когда-то преподавателем нашей богоспасаемой кафедры английской филологии; в те дни само собой подразумевалось, что профессору этой кафедры полагается быть культурным джентльменом — опять эта деревенская светскость. Он носил титул emeritus как некий почетный знак, хотя Эд Шемли переводил это слово как «заслуг не имеющий». Вернон был неиссякаемым кладезем литературных анекдотов XVIII столетия, коими регулярно погружал в оцепенение и сон студенческую аудиторию: что Босуэлл сказал Джонсону, что Джонсон ему ответил и так далее. К концу срока пребывания в должности Вернона выпихнули наверх — в администраторы, и теперь он стал деканом, рассказывающим литературные анекдоты. Самой страшной его привычкой была привычка читать лекции — она выработалась годами преподавания перед аудиторией. Он не говорил, как все прочие люди, — нет, он вещал, он проповедовал… но что хорошо в соборе, не годится для супермаркета или какого-нибудь иного места, где вам случалось его встретить. Супруга Вернона Айрис несколько лет назад начала прикладываться к рюмке, и, как мне думается, поступила весьма разумно.
В какой-то степени все это было даже трогательно и печально: теперь, когда Ноулз был в отставке, ему просто стало некому читать лекции. Несколько лет назад он начал устраивать свои воскресные вечера только для того, чтобы снова обрести аудиторию. За «Кровавой Мэри» и крекерами с сыром, которые Айрис называла розетками, кворум из семи-восьми человек терпеливо слушал перлы южного неоклассицизма. В конце концов Вернон распоясался до того, что начал неверно цитировать двустишия Александра Попа. Над всем собранием нависло что-то тусклое, — это нечто душило, как тяжелая влажная гардина. Как однажды выразился Т. С. Элиот по поводу садовых вечеров у леди Ротермир, они покажутся интересными, «если вы сумеете как следует сосредоточиться на ужасе происходящего».
В действительности в узкий круг избранных было не так-то легко попасть. Для этого в первую очередь надо было быть благодарным слушателем, быть, кроме того, знатоком погоды и других главных тем южной беседы. Поверхностные знания литературы могли принести пользу, но глубоко знать предмет было неразумно. Наш нынешний специалист по XVIII веку, скрупулезная дама по имени Элейн Добсон, однажды имела неосторожность исправить неточность, допущенную Верноном, процитировавшим Свифта, — в наказание ей пришлось выслушать три неприличных лимерика — Вернону просто необходимо было реабилитироваться.
Общение с Верноном помогало ближе познакомиться с «Оле Мисс», проникнуться его духом, так как отставной профессор знал множество историй о прежних сотрудниках кафедры, малоприметных, эксцентричных и, как правило, уже отошедших в мир иной. Один из них, например, держал лошадь, живя в пансионе, а другой ухитрился трижды жениться в течение одного семестра. Странно, самые неприличные и цветистые рассказы Вернона были самыми бесцветными из всего, что он говорил, но многие женщины возмущались тем, что Джина называла вербальным щипком за задницу. Элейн заходила еще дальше, сказав как-то раз Джине (которая затем передала ее слова мне): «Когда он подобным образом шутит, мне кажется, что он мастурбирует у меня на глазах».
Спрашивается, зачем мы вообще туда ходили? На этом настаивала Сьюзен. Она жалела Вернона, во всяком случае, она так говорила. Но я, честно говоря, думал, что ей нравится сам дух собрания. Ее светская, благовоспитанная часть показывала свое нарумяненное лицо. При всем отсутствии у Сьюзен какой бы то ни было претенциозности что-то в ее душе радовалось случаю надеть красивое платье (по поводу которого Вернон всякий раз отпускал изысканный комплимент), выпить разбавленного вина, пообщаться с кафедральными женами и похрустеть розетками. Возможно, эти посиделки заменяли церковь; хотя сам я отпетый атеист, а Сьюзен — пресвитерианка-отступница, каждому человеку хочется — пусть даже окольным путем — снова приобщиться к вере.
Итак, около двух часов дня мы сели в автомобиль и совершили короткое путешествие к дому Ноулза. На Сьюзен была крестьянская блузка и широкая сборчатая юбка, но все это выглядело не совсем так, как надо, потому что Сьюзен, увы, не была альпийской крестьянкой. Моя жена была ухоженной тонкокостной женщиной с короткой стрижкой. Я знал, что румяна она нанесла на светлую основу, — она позволила мне наблюдать процесс. Видел я и как она подводила брови, красила ресницы и красила губы розовато-лиловым цветом. Все это благодаря идеям Макса. Удивительно, сколько всего наносят женщины на свое лицо. Это священнодействие, а вовсе не тот формальный ритуал, который исполняют некоторые дамы в Оксфорде, например Эмма Споффорд. Когда видишь этот многослойный макияж, начинаешь чувствовать себя Шлиманом, готовым приступить к раскопкам Трои. Я сам позволил себе только одну уступку: крем «Брут» после бритья — подарок Сьюзен. На мне был обычный наряд ученого на отдыхе — свободный бесформенный пиджак и спортивная рубашка. С собой Сьюзен взяла жестяную коробочку с орехами — благодарность за грядущее неизбежное гостеприимство.
Как и большинство профессоров Оксфорда, Ноулзы занимали домик в стиле ранчо, дополненный половиной акра ухоженной лужайки. На дорожке был припаркован красный «камаро» Мэриэн; круглые задние габариты светились, как два выпученных бычьих глаза. Сьюзен искоса взглянула на меня.
— Свежая кровь. — Я пожал плечами. — Вернону, вероятно, потребовалось срочное вливание.
Действительно, наша группа куда больше интересовалась новым факультетом, чем кафедра истории, наверное, потому, что сам факультет еще не стал историей.
Мы позвонили в дверь, и на пороге возник сам Вернон — воплощение литературного типажа «добрый хозяин». На нем был темный малиново-коричневый смокинг с художественными заплатами на локтях. Под смокингом виднелся клетчатый, плотно застегнутый жилет. Он отрастил несколько прядей седых волос, коими тщательно прикрыл свой блестящий розовый череп — явный признак неискренности.
— Так-так-так! Кто же к нам пришел?! — воскликнул он, заставив меня почувствовать себя мальчиком, явившимся к соседям на Хеллоуин. Вернон стиснул мне руку и, как обычно, сказал Сьюзен, что она прекрасно выглядит. В ответ она сделала реверанс, правда недостаточно низкий, но об этом я скажу ей позже. Широким жестом нас пригласили в душную гостиную, где царила тупая давящая тусклость, сгущавшаяся над пузатым голубым креслом. Айрис уже сидела на своем обычном месте, словно в трансе держа в руках стакан. Ее лицо, насколько я успел заметить, было оштукатурено в истинно троянской манере. Заметив, что мы вошли, она рассеянно кивнула.
Я окинул комнату взглядом. Все те же неописуемые диван и стулья — аксессуары для сидения, как однажды обозвал их Вернон, поставленные в виде треугольника, указывающего своей острой вершиной на кресло. За троном помещались сокровища короны: раздвинутая решетчатая перегородка, заставленная сувенирными пепельницами с рынка графства, хрустальными пресс-папье, изукрашенными орнаментами вазами, прикидывающимися дельфийскими, заключенными в рамки фотографиями мужчин и женщин в старомодных шляпах и костюмах и бронзовыми фигурками неясного происхождения и значения. Тусклый свет из-за занавески создавал весьма слабую иллюминацию, но я был здесь не в первый раз и имел больше чем достаточно времени в подробностях рассмотреть всю эту ужасную выставку. За сокровищницей помещалась столовая, за ней — мрачная темная кухня, а за ней — задний двор, а еще дальше — вся Миссисипи в ее верхнем течении. Интересно, думал я, в скольких еще гостиных собирают гостей на воскресные вечера — время светских приемов штата.
Сьюзен принялась приветствовать почтенное собрание: каждый получал свою, точно отмеренную долю — такую цену приходится платить за проживание в маленьком городке. Вот тот, съежившись сидящий на стуле с высокой спинкой, Бенджамин Дальримпль, куртуазный старый пьяница, который оттрубил свое — боюсь, что на нашей кафедре, — и постепенно гнил, как почва в Дельте. О нем ходили всякие истории, поговаривали, что он был женат на второй жене бывшего заведующего, но все, кто знал подробности, давно вышли на пенсию или умерли. Мускулатура правой руки Дальримпля судорожно дернулась, и я в ответ приветливо помахал ему рукой.
В дальнем углу гостиной сидели Франклин и Джейн Форстер, разделенные дистанцией в двадцать пять лет. Как его бывшая студентка, она одновременно исполняла три роли — ученицы, жены и подражательницы Франклина. Например, сейчас она сидела буквально у его ног. Заметил я также и Грега Пинелли, человека настолько вежливого, что он не посмел бы отказаться даже от приглашения на открытие мавзолея. Он храбро пытался вовлечь Дальримпля в какое-то подобие беседы, но последний был озадачен уже тем, что кто-то вообще пытается это сделать.
Главными персонажами, несомненно, были Макс и Мэриэн, сидевшие на оранжевом диванчике, поставленном наискосок к трону. Возможно, виной тому был темный загар жилистого и мускулистого тела Макса, но Мэриэн в сравнении выглядела весьма объемистой, рядом с ее широкими бедрами его выглядели какими-то карликовыми; полные белые руки, заканчивавшиеся пучками пальцев, лежали на круглых коленях. Обвитые канатами мышц бронзовые руки Макса, обожженные во время велосипедных поездок, были странно белыми на запястьях и локтях, словно кто-то нарочно стер меланин с этих мест. На первый взгляд эта белизна была не очень заметна, но бросалась в глаза, когда Макс тянулся за стаканом с выпивкой. Мэриэн казалась одновременно радостной и нервной, и Макс, казалось, поощрял в ней оба этих состояния.
Нас с Сьюзен удостоили мест возле стены с сокровищами, и Вернон отправился за графином с «Кровавой Мэри». Я ждал, когда он произнесет свою дежурную шутку: «Кровавая Мэри» без водки — это кровавый стыд. Мне не пришлось долго ждать. Шутка была доставлена вовремя, вместе с выпивкой. За ней последовали розетки. Я завязал разговор с Джейн Форстер, но она вскоре переключилась на мужа. Сьюзен разговаривала с Мэриэн. Вернон уселся в кресло и ждал своего часа. Мне не было слышно, что именно говорил Грег Дальримплю, но все же я уловил упоминание об университетской библиотеке. Грег все еще пытался разговорить Дальримпля, который когда-то был весьма сведущ в том, как следует создавать, менять или уничтожать библиотеки. Бедный, услужливый, благонамеренный Грег — теперь он был обречен. Я услышал, как деликатно, аристократически покашлял Вернон, очищая свои старые бронхи от мокроты.
— Э… библиографические материи, о коих вы теперь говорите… сомневаюсь, что вы осведомлены о них… все это, знаете ли, происходило довольно давно… когда приобретением книг занимался Саттон…
У Дальримпля опустилась нижняя губа — в знак траура по поверженному коллеге.
— Естественно, Саттон, у которого была степень по биологии, имел склонность предпочитать книги именно по этой научной дисциплине. Помнится, однажды я попытался заказать книгу о Стерне, но в ответ получил записку с суровой отповедью: «Какое отношение это имеет к научному прогрессу?» — Вернон разгорячился и стукнул ладонью по обтянутому материей подлокотнику. Макс стремительно извлек из кармана блокнот и ручку, сделал какую-то пометку и так же стремительно убрал блокнот и перо. Айрис подняла стакан, в котором явственно звякнул кусок льда. — Мне тогда показалось, что мы зашли в тупик. Но я должен был получить требуемую книгу. Итак, я тоже написал служебную записку…
— Знаете, у меня на прошлой неделе возникла точно такая же проблема. — Произнося эти слова, Макс чуть-чуть отделился от Мэриэн. — Но кто сейчас отвечает за приобретение книг?
— Этого я вам сказать не могу, — раздраженно ответил Вернон.
— Бремвелл, — услужливо подсказал Грег. — Тот, который всегда ходит в коричневом костюме.
— Так это он? Он всегда отвечает на мои заказы всякой чушью, — раздался из угла голос Джейн. Она так сильно и преувеличенно вздрогнула, что Франклин отечески положил ей руки на плечи.
Грег, который по натуре никогда не был убийцей, поспешил обелить Бремвелла, начав рассказывать, как трудно подчас бывает приобрести нужную книгу. Макс изъявил желание поближе познакомиться с деталями процедуры, в особенности в том, что касалось нужной ему книги, в то время как Вернон осуждающе и сурово смотрел на покинувших его дезертиров. Наконец он решил вознаградить себя следующей выпивкой. Когда он проходил мимо, Айрис погремела льдом в пустом стакане, требуя снова его наполнить.
Когда профессор вернулся, предмет беседы переместился на тему, о которой у каждого факультетского сотрудника было свое особое мнение: на студентов. Франклин, яростно теребя свою густую бороду, с жаром отстаивал тезис о том, что нынешний студент чересчур богат.
— А эти женские студенческие сообщества, — подхватила Джейн. — Посмотрите, что они на себя надевают! Эти танцы, одежда…
— То lose her heart, or her necklace at the ball, — несколько не в тему и не вполне точно процитировал Вернон. — She stained her honor, or her new brocade. — Он многозначительно откашлялся. — Знаете, тут несколько лет назад была одна студентка, которая — хм! — потеряла нечто гораздо большее. В самом деле…
— Эта цитата из Попа — силлепсис? — Лучший студент группы, Макс Финстер снова поднял руку. Полосатая футболка подчеркивала одновременно его молодость и мускулистые руки.
— Что? — Невысказанное «молодой человек» прямо-таки повисло в воздухе. Лицо Вернона окрасилось в приятный карминовый оттенок.
— Риторический прием, который он здесь использует — ну, вы понимаете, душа и ожерелье, честь и парча, — сочетание абстрактного и конкретного. Это ведь силлепсис, не так ли? Во всяком случае, это что-то такое со слогом «силл». — Словно ища поддержки, Макс обернулся к остальным присутствующим. Не знаю, осознавал ли он сам, какой эффект это произвело на Вернона.
Слово, которое искал Макс, действительно было «силлепсис» (если он, конечно, не искал повода перебить хозяина), и Грег подтвердил верность последнего опасения секунду спустя, получив незаслуженный грозный взгляд Вернона. Франклин — из лучших педагогических побуждений — заявил, что это действительно зевгма, за что был вознагражден обожающим взглядом Джейн. Подиум снова был выигран у главного кресла. Здесь тоже можно употребить силлепсис: Вернон утонул в нем вместе с надеждами на продолжение беседы.
Вечер и дальше продолжался в том же духе. Каждый раз, когда Вернон начинал свои ораторские рассуждения, Макс перебивал его, чем останавливал предложенную дискуссию. Один раз Макс назвал имя ученика Попа, неизвестное Вернону, другой раз это было замечание по поводу одной из ваз в гостиной. После третьего или четвертого замечания я понял, что Макс делает это намеренно, — думаю, даже Айрис заметила, что происходит что-то неладное. Но чего он, собственно, добивался? Он вел себя как невоспитанный дикарь. Вернон все больше и больше съеживался в своем кресле, и мне стало немного жаль этого старого надутого пустозвона. В конце концов, мы все были у него в гостях.
Поначалу и парочка на диване вела себя, как подобает послушным гостям, невинно и вежливо. Но по мере того как реплики Макса множились в дерзости и количестве, его вежливость и вкрадчивость все явственнее превращались в маску добродушного настроения, удерживаемую на лице лишь усилием мимических мышц. Напротив, в поведении Мэриэн все более явственно проступала тревожность. Вначале возникшая напряженность проявилась чисто физически. Как только Макс создавал очередную неловкую ситуацию, Мэриэн на дюйм отодвигалась от него, широкая синяя юбка при этом задиралась все выше. Постепенно она отодвинулась настолько, что парочку теперь разделяло расстояние в целый фут оранжевой обивки. Но Макс и не думал униматься, и неловкость Мэриэн стала переходить в раздражение. Пару раз она пыталась заступиться за Вернона, но с тем же эффектом, что и бедолага Грег. Когда Макс разыгрывал прямодушное невежество, губы Мэриэн сжимались в тонкую нитку. Один раз я даже заметил, как дернулась ее рука, — будь она его мамой, Макс непременно получил бы по губам. Мне хорошо знакомо это страшное желание: заткнуть кому-нибудь рот любым способом. Только потом я узнал, что к Ноулзам они пришли после воскресной утренней ссоры.
Когда Макс риторически вопросил: «Но что такое точность применительно к биографии?» — Мэриэн не выдержала и увесисто толкнула Макса бедром. Он улыбнулся и положил на него руку. Она не могла на виду у всех стукнуть его по руке и поэтому толкнула его еще раз. В ответ его рука поползла вглубь.
Мэриэн прикусила нижнюю губу и оперлась рукой о подлокотник дивана, чтобы сохранить равновесие. Она могла отодвинуться, могла и просто, на худой конец, сдвинуть ноги, но она не сделала ни того ни другого. При всем старании я не смог читать ее чувства по выражению лица, к тому же, как я уже говорил, освещение было очень неважным. Разговор переместился в угол, где сидел Франклин, и на Мэриэн никто не смотрел.
Никто, за исключением меня. Рот Мэриэн слегка приоткрылся, взгляд затуманился. Рука Макса, как я заметил, гладила ее бедро в том месте, которое бывает по-королевски мясистым даже у стройных женщин. Я имею в виду внутреннюю, очень мягкую и теплую часть бедра. Казалось, рука сама, независимо от хозяина, знала, что надо делать, лаская и щупая ногу женщины сквозь тонкую ткань юбки. Потом в дело включилась и вторая рука, которая потянулась к той руке, какой Мэриэн опиралась о диван, и принялась гладить ее по самому нежному месту на сгибе локтя.
Она постаралась овладеть собой, но безуспешно, и затрепетала, вместо того, чтобы ощетиниться. Вместо того чтобы раздраженно цыкнуть, она тихо застонала. Белые пухлые плечи безвольно опустились. Я стал свидетелем чего-то почти противоестественного. Легким мановением рук Макс сделал Мэриэн абсолютно беспомощной. Самое ужасное заключалось в том, что он даже не смотрел на нее. Во всяком случае, прямо.
Он нежно привлек ее к себе, и она покорно распростерлась всем своим мягким телом по его жесткому плечу. Рука, гладившая локоть, скользнула вперед, обогнула руку, провела пальцами под правой грудью Мэриэн и исчезла в углублении между двумя подмышечными валиками плоти. Теперь рука заскользила вниз, как будто Макс собирался достать бумажник из заднего кармана, но ладонь была направлена совсем не в ту сторону. Удивительна эластичность подушек старых диванов — рука проникла между подушкой и сидевшей на ней Мэриэн. Я живо представил себе, как рука жадно мнет и тискает пышную ягодицу, а потом, сквозь юбку, проникает в более влажные глубины. Я почти физически ощутил влажную гладкость этого места. Оба принялись мерно раскачиваться взад-вперед, словно ехали в конном экипаже.
Сьюзен в это время увлеченно помогала Дальримплю уничтожать крекеры с сыром. Вернон со счастливым лицом пересказывал историю о баптистском священнике и преподавателе английского. Я быстро обвел взглядом других гостей. Грег и Форстеры притворялись, что внимательно слушают Вернона, Айрис же допивала четвертый или пятый стакан. Когда я снова посмотрел на парочку, Макс уже убрал руку. К его лицу, словно маска, пристало выражение абсолютной респектабельности. На вечере снова царила привычная атмосфера, гости на местах, только одна женщина превратилась в раскисший студень. Когда Мэриэн вновь обрела способность двигаться, она нерешительно подняла руку и положила ладонь на руку Макса. Я ощутил почти неудержимое желание предложить ей сигарету.
Когда прошло еще полчаса великого сидения у Вернона, Грег начал смущенно извиняться, подыскивая предлог для того, чтобы откланяться. Джейн посмотрела на часы Франклина и простодушно воскликнула, что сейчас гораздо позднее, чем ей казалось. Все стали прощаться, поднялась неторопливая суматоха, среди которой Макс помог Мэриэн встать с дивана. Женщина тяжело привалилась к Финстеру всем своим полным телом. Сьюзен, когда мы рука об руку шли к машине, была легка и воздушна в своей блузке и деревенской юбке и едва ли о чем-нибудь догадывалась.
В следующее воскресенье мне пришлось изрядно поработать. Действительно, все выходные дни я был вынужден посвятить проверке работ моих студентов двух групп введения в литературу. Я предложил студентам несколько заданий на выбор: переписать какой-либо эпизод из пройденных нами произведений, а затем проанализировать, насколько изменился от этого сюжет, можно было также изменить тональность и стиль произвольно выбранного фрагмента. Или переписать рассказ с точки зрения второстепенного персонажа. Для того чтобы выполнить любое из этих заданий, надо было хорошо понимать суть и идею произведения. Я дал эти три альтернативных задания, так как считал, что каждое из них может побудить студентов к творчеству и анализу. Так как эти анализы были новы, то их невозможно было найти в сетевых файлах — с этой бедой сталкиваются все преподаватели, не меняющие методики обучения.
Проверка заданий в выходные похожа на долгое и тяжкое похмелье. В субботу я встал рано утром и начал день с доброй порции кофе, вооружившись красной ручкой. К полудню у меня разболелась голова, а перед глазами начали плясать разноцветные точки, а ведь я проверил всего двадцать работ. По большей части авторы сочинений брали неверные ноты — студенты считали своим долгом переделать конец. В результате ружья не стреляли, желчная брань превращалась в мольбы о прощении, тупой лодырь становился трудягой и за один день, точно по волшебству, добивался успеха. Логика развития характера для студентов ничего не значила — студенты были вскормлены христианскими историями о чудесных обращениях и, кроме того, приключенческими романами для мужчин, в то время как гендерные роли для женщин диктовались сочинениями Питера Бигла[3].
После энного счастливого конца я вдруг смертельно устал царапать на полях «неправдоподобно». Потом я наткнулся на сочинение, автор которого ловко переделал один из рассказов Кэтрин Энн Портер в повествование о том, как бьют жен, и еще на одно, в котором рассказ Хемингуэя «Белые слоны» превратился в шуточную рекламу планирования семьи. Благодаря им я решил, что выживу с моими студентами в течение следующих шести недель.
Наступило воскресенье, а я все еще перепахивал сочинения второй группы. На мое несчастье, я принадлежу к тому типу людей, которые не могут оставить без внимания даже опечатки и солецизмы. И если исправления превращаются из-за этого в весьма трудоемкую операцию, то что ж, значит, быть по сему. Я вознаграждал себя тем, что зачитывал вслух особенно забавные ляпсусы Сьюзен, если она оказывалась поблизости. На этот раз в сочинениях встречались настоящие перлы: «Она стала учительницей в первом классе и матерью — во втором», «…постоянно откусывала себе нос, чтобы выглядеть пострашнее», «Надо учиться подбирать падения, когда их бросают на дорогу». Один перл я решил приберечь для Макса: «Он понимал животных по собственному опыту».
Потом я втянулся и проработал до двух часов. Мы со Сьюзен обсудили все варианты компромиссов — на случай, если работа захватит меня с головой. Если, например, я засиживаюсь в кабинете больше четырех часов кряду, то Сьюзен имеет полное право войти в кабинет, взять меня за руку и вывести на прогулку. Поводами отлынивания от работы считались также факультетские совещания и домашние обязанности, выставление годовых оценок и вечер в городе. Обычно мы отмечали окончание семестра походом в продуктовый магазин «Дарли» и в рыбный ресторан, тот самый, где Макс… Впрочем, я забегаю вперед.
Всю прошедшую неделю я периодически вспоминал о Максе. Странное дело, я не видел его с понедельника, хотя и знал, что он находится где-то поблизости, делая то же самое, что и я: преподает, посещает собрания и проверяет письменные работы, подобные моим. Мне было интересно, какие задания он дает студентам и как он, вообще, преподает. Я допускал, что он может оказывать магнетическое воздействие, несмотря на то что не мог пощупать на диване свою аудиторию. В нем была какая-то таинственная, непостижимая сила, некое мощное присутствие — я употребляю это слово за неимением в моем лексиконе лучшего. Он использовал свое присутствие так же, как другие используют красноречие.
Определенно он мог раздражать многих. История о препирательствах Макса с Верноном всю неделю циркулировала в коридорах факультета. Рассказывал их в основном Франклин, который, как мне кажется, восхищался героическим поступком Макса. Но никто не говорил о том, что он делал на том вечере с Мэриэн. Может, мне все это пригрезилось? Я так не думаю. Более того, я до сих пор не вполне понимаю, зачем Макс все это делал — если не из желания получить садистское удовольствие; я имею в виду его поведение с Верноном. Макс умел воздвигать вокруг себя стену — я не имею в виду стену моего кабинета. Рядом со мной жил сосед, которого я знал в течение… неужели уже четырех месяцев? — но в действительности совершенно его не знал. Или, лучше сказать, чем больше я его узнавал, тем более неопределенным становилось мое мнение о нем. Днем раньше, подчиняясь какой-то прихоти, я написал письмо своей подруге Дороти, все еще томившейся на кафедре английского языка в Колумбийском университете. В постскриптуме я попросил ее узнать какие-либо подробности о выпускнике исторического факультета Максвелле Финстере. Я надеялся, что Дороти восполнит пробел, но это была всего лишь надежда.
Не слишком ли я раздуваю проблему Макса? На самом деле это была вовсе не моя проблема. У меня, слава богу, нет антагонистических отношений с любимой женщиной, которая очень довольна, что мы остаемся в списке гостей Ноулзов. Кроме того, мне надо проверить еще пятнадцать сочинений. Я сделал глоток остывшего тепловатого кофе, мысленно отточил перо и принялся читать очередной счастливый конец. Спустя несколько секунд я поднял голову. Гравюра «Карриер и Айвис» на стене тряслась, хотя и не очень сильно.
6
В октябре листва здесь еще не тускнеет, чего нельзя было сказать о моем настроении. К Хеллоуину оно стало насквозь элегическим, я стал часто заглядываться в окно, а во взоре появилось выражение, которое Сьюзен называла абстрактно-отчужденным. В кампусе в полном разгаре был футбольный сезон. Питомцы нашего университета в синих блейзерах и платьях от Лоры Эшди вместе с семьями не пропускали ни одного домашнего матча «Бунтарей». Дети одеты так же, как их мамы и папы, только размеры поменьше; правда, вместо того, чтобы жевать жареную курятину и запивать ее бурбоном из бумажного стаканчика, они надували «чиз-виз» и носились друг за другом по Колледж-Гроув.
Два года назад мои родители, решившие навестить меня в «Оле Мисс», попали на субботний матч. Понаблюдав эту сцену, отец, единственный из известных мне людей, который действительно сначала думает, а потом говорит, сказал, что ему кажется, будто он вернулся в пятидесятые годы. Девушки из групп поддержки в одинаковых нарядах; мужья с безукоризненными стрижками и не со столь безукоризненными талиями; жены, косметические ухищрения которых прикрывали их лучше, чем завеса секретности — процесс Элджера Хисса; музыка военного оркестра; море улыбок (нервных, искренних, ослепительных и пьяных) — все это захватывало и поглощало любого, кто в тот момент присутствовал на стадионе Воут-Хемингуэй, где фанаты «Бунтарей» размахивали флагом Конфедерации и во всю силу глоток орали: «Лисы, вперед!», проливая коктейль «Том Коллинз» на голову сидевших в передних рядах. Это продолжалось все время, пока я там находился. Меня поразила эта ожившая диорама, а впечатление можно было выразить одной незамысловатой фразой: «Я теперь жил в чуждой мне культуре».
Во всяком случае, чуждой мне, ибо я рос и воспитывался в Филадельфии. Честно говоря, я провел так много времени на диване в гостиной, читая все, что попадалось мне под руку, глотая, подобно теннисоновскому кракену, все, что можно съесть. Я впитывал рассказы Несбита и Вудхауса, а мое знакомство с публичной библиотекой отличалось почти нездоровой интимностью. Долгое время я чувствовал себя в литературе гораздо лучше, чем в реальной действительности, — думается, что такова участь большинства будущих ученых. Даже когда вы перестаете читать из чистого желания бежать от реальности, у вас остается предпочтение к романтической литературе из букинистических лавок. Когда в субботу я гуляю со Сьюзен, держа под руку уроженку Джорджии, то меня захватывает какая-то неведомая сила. Эта сила невнятно, но убедительно нашептывает мне из кустов магнолии нечто такое, что внушает желание певуче растягивать гласные, купить пикап и любить хруст гравия под ногами.
Я никогда толком не знал, как на это реагировать, и, более того, никогда не мог понять, как относится ко всему этому сама Сьюзен. С одной стороны, она всячески поощряла меня научиться болтать в южном стиле, сбросить темп и стать более общительным. С другой стороны, бывали моменты, когда никто с такой яростью не обрушивался на культуру южан, как Сьюзен. Она ненавидела провинциальность маленького городка и преувеличенную религиозность, расизм и вежливость, которая все это скрывала. Она отпускала по поводу своего родного города шокировавшие даже меня замечания.
— Я могу все это говорить, а ты — нет, — говорила она при этом, тыкая меня пальцем в грудь, — потому что здесь выросла я, а не ты.
Но по крайней мере один из знакомых мне преподавателей, Брет Уотсон, стал настоящим аборигеном. Он приехал сюда лет пять назад из Корнеллского университета преподавать социологию: умный, новоиспеченный доктор философии, образованный, любезный и приветливый, не слишком привязанный к деньгам и не желавший куда-либо уезжать. Некоторое время он жил на квартире в Нортгейте, — собственно говоря, только поэтому мы с ним и познакомились. К моменту знакомства он уже в какой-то мере ассимилировался; над джинсами уютно повисло пивное брюшко, говорить он стал медленно и тягуче; иногда, прежде чем ответить, он искоса бросал взгляд на собеседника. Он купил «додж» — вездеход и повесил на кронштейн винчестер не то 20-го, не то 30-го калибра. Ревность новообращенных всегда превосходит таковую старых овец стада, и Брет рисковал стать одним из самых красношеих в округе. По отзывам Грега Пинелли, Джины Пирсон и других, Брет когда-то был задумчивым, склонным к уединению человеком, любившим слушать бибоп. Но, прожив дверь в дверь с ним в течение нескольких лет, я не слышал ничего, кроме кантри и вестернов в обработке Пола Харви.
Женившись, Уотсон перебрался в собственный дом. Его застенчивая румяная невеста была местной уроженкой. У нее была милая привычка толкать его локтем в бок всякий раз, когда кто-нибудь поблизости произносил что-то забавное. Когда я совсем недавно в последний раз разговаривал с Бретом, он спросил, не хочу ли я съездить с ним на охоту в выходные. Я вежливо отказался, а вечером напустился на Сьюзен, когда она — совершенно случайно — спросила, люблю ли я оленину.
В старую квартиру Брета вселилось целое семейство, ставшее нашими соседями. Им не надо было ассимилироваться — все были местными уроженцами, никогда в жизни не покидавшими родных мест. Жена занималась чем-то религиозным в лицее, нашем главном административном здании. Муж, как мне кажется, работал водопроводчиком. Их дочка, семи лет, была идиоткой, дурочкой. Она либо моталась по участку на трехколесном велосипеде, либо с сосредоточенным видом сворачивала голову куклам. Изъяснялась она — если здесь уместно это слово — бессвязными глаголами. Практически каждые выходные родители наряжали свое чадо в балетную пачку и везли на очередной детский конкурс красоты. На заднем борту их пикапа красовалась надпись: «Бунтарь по рождению и южанин Божьей милостью».
При встречах я приветливо им улыбался и махал рукой. Они отвечали мне тем же; и один только Бог знает, что они на самом деле обо мне думали. Думаю, что у меня иммунитет к ассимиляции — я предпочитаю наблюдать, — но я всегда опасаюсь одной вещи. Чувству Юга не приходится накапливаться постепенно — оно витает вокруг — везде и всюду. Вот типичный пример: около «Уол-Марта» детишек за двадцать пять центов катают не на пони и не на спортивной машине, а на маленьком красном грузовичке.
Так что мне стало интересно, когда Макс зачастил в «Тед и Ларри» пропустить кружку-другую пива. Нет, «Тед и Ларри» — это отнюдь не то же самое, что «Фланаган» или «Фэктори» — типично студенческие забегаловки («Четв. вечер: Скидка! Целый кувшин за полцены»). Как заметил Эд Шемли, во «Фланагане» студенты начинают драку, а в «Фэктори» заканчивают.
«Тед и Ларри» был больше похож на приличное заведение, чем на притон, здесь был ресторан в подвальчике и живая музыка по выходным. Когда играла группа «Обжоры», Сьюзен тащила меня в «Тед и Ларри» послушать поп-кантри в южном стиле. Бывали здесь и другие люди с нашего факультета: Джон Финли, специалист по Югу, занимавшийся влиянием лирики рока на творчество Бобби Энн Мейсон; или Элейн Добсон, которая приходила сюда, чтобы забыть о том, каково быть одинокой интеллектуальной женщиной в поголовно женатом сообществе. Время от времени сюда заходил и Эд; однажды он даже ухитрился провести кафедральное совещание в одном из кабинетов ресторанчика.
Но никто из нас не был завсегдатаем этого заведения. Единственный постоянный посетитель, который приходит мне в голову — если не считать нескольких студентов-выпускников, — это Рой Бейтсон, единственный признанный писатель-южанин в нашей среде. Обычно Рой приходил в «Тед и Ларри» слегка поддатым, а уходил совершенно готовым. Если вам случалось застать его в нужном расположении духа, то он бывал на удивление приветлив, правда, не приходилось рассчитывать на то, что через пять минут он будет в состоянии вспомнить, как вас зовут. Однажды он целый вечер называл меня Джо, потому что — как он объяснил мне позднее — спутал с одним приятелем, который погиб из-за несчастного случая на лесоповале. Рой часто рассказывал занимательные истории, сюжет которых поначалу дробился на несколько линий, которые только в конце сливались друг с другом. Рой охотно рассказывал — особенно женщинам — истории о том, как он работал на заготовке леса и валил огромные деревья. Голая правда заключалась в том, что Рой вырос в Чейпл-Хилл и мог пилить деревья разве только во сне. Даже в своих произведениях он начал повторяться, как не уставали твердить критики. Правда, если вам хотелось послушать одну из историй Роя, надо было всего лишь купить ему выпить.
Послеполуденный полумрак бара делает его похожим на подводное царство — именно такое ощущение возникало в «Теде и Ларри» в четыре часа. Пару раз я заходил туда в это время, но единственным собеседником — если не считать грезившего наяву Роя — оказывался корейский ветеран с пустым рукавом гавайской рубашки. Он спрашивал человека, сколько тому лет, и кисло кривил губы, заключая тем самым, что вы слишком молоды, чтобы понять всю боль его раны. Уверен, что Макс в этой ситуации прочел бы ему лекцию по истории корейской войны.
Но главный вопрос был, конечно, в другом: зачем Макс вообще сюда ходил? Насколько я знал, Мэриэн не любила бары, хотя уверен, что Макс мог убедить ее ходить с ним. И действительно, я узнал, как это произошло, от самой Мэриэн. Дело было так. Я шел от Бондуранта к Бишоп-Холл, наслаждаясь видом синего неба в промежутке между двумя тусклыми серыми зданиями, глядя на север и полной грудью вдыхая прохладный осенний воздух, и в следующее мгновение внезапно осознал, что столкнулся с женским телом. Это была Мэриэн в широком красном платье. Мы оба шли по улице, не глядя перед собой.
Столкновение было приятным и мягким. На какую-то секунду я даже представил себе, что было бы очень приятно сталкиваться с Мэриэн каждый день и по нескольку раз. Мы начали извиняться одновременно.
— Это я сослепу налетел на вас, — произнес я.
— В этом месте вообще надо поставить светофор.
В нее явно въелось что-то от Макса. Или она с самого начала была такой, и именно это привлекло его к ней. Разговор начался с вопроса о том, куда я иду. Я спешил на свидание с нашим кафедральным ксероксом.
— Если быть честным, то не думаю, что там кто-то есть в четыре часа, — сказал я.
Мэриэн поджала губы.
— Вы никогда не были в «Теде и Ларри»?
— Иногда захожу, но не в этот час. А что, там есть что-то особенное?
— Нет.
— Они переделали зал?
— Не похоже. — Полуулыбка превратилась в незаконченную недовольную гримасу. Потом она погрустнела, а может быть, просто задумалась. Следующий ее вопрос поразил и насторожил меня. — Мм, не хотите выпить пива или еще чего-нибудь?
Это не было приглашением на свидание, скорее мольба о помощи. Мне не хотелось пить, но хотелось помочь Мэриэн, и я сказал, что хочу. Ее машина была припаркована неподалеку, и я, мысленно перенеся копирование на завтра, сел в красный «камаро». В машине едва уловимо пахло корицей, а там, где у большинства водителей помещается распятие, красовалась превосходная миниатюрная копия роденовского «Мыслителя». Статуэтка на торпеде навевала на меня задумчивость все время, пока мы ехали к площади.
Центр Оксфорда примечателен зданием суда графства, стоящим в середине площади, и статуей солдата армии конфедератов на сером гранитном постаменте. Солдат стоял по стойке смирно, глядя на юг и на магазин подержанной мебели Лоури. Большинство стоящих здесь магазинов производили впечатление деревенских лавок, включая и аптеку, цены в которой были выше, чем в местной «Эс энд Эм», и универмаг Карлсона, в котором Сьюзен всучили шляпу, когда она попыталась купить там трусики. «Тед и Ларри» стоял рядом с магазином электронной техники, которую редко кто покупал. Парковка была прозорливо устроена прямо у входа, и Мэриэн умело всунула «камаро» в узкую щель. Она заглушила двигатель, и мы вышли, в унисон хлопнув дверями.
В заведении было пусто. Но, поднявшись на второй этаж, я услышал раздававшиеся из бара голоса. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к полумраку. Вначале я разглядел корейского ветерана, бормотавшего на ухо Рою: «Китаезы, япошки и всякие там прочие азиаты». Рой писал или, по крайней мере, что-то царапал на салфетке. Ни один из них не обратил на нас ни малейшего внимания. Но из-за стойки бара в нашу сторону одновременно повернулись две головы — одна из них — Макса. Вторая голова принадлежала женщине. Когда пространственное зрение стало мне повиноваться, я рассмотрел, что она стоит за стойкой. Я ничего не мог понять, пока до меня не дошло, что это бармен — барменша? барментиса? барменка? — короче, бармен.
Она профессионально улыбнулась:
— Я могу вам чем-нибудь помочь?
У нее были старомодные румяные щеки, изобличавшие несокрушимое здоровье, а фигуру можно было назвать соблазнительно пышной. У нее была большая дружелюбная грудь. Округлые, полные белые руки одинаково годились для того, чтобы нянчить ребенка и таскать подносы с кружками. Джинсы туго облегали ее ноги, а на бедрах они были натянуты так, что захватывало дух. Но, несмотря на свой объем, женщина проворно откупорила два «Будвайзера», протерла их одновременно с этим и ловко подхватила две долларовые купюры с ладони моей спутницы. Рука Мэриэн казалась детской по сравнению с руками барменши.
Я прикинул, что на протяжении последнего часа ее основным клиентом был Макс. Он с неподдельным вниманием следил за ее движениями — приблизительно так ресторанные алкоголики следят за изображениями на немых телевизионных экранах в зале. Внезапно, словно по какой-то подсказке, Макс повернулся, как на шарнире.
— Приветствую вас! — Слова были произнесены приторно-сладким тоном, в манхэттенском пироге оказалось слишком много сахара. Кроме того, Макс уже изрядно набрался.
— Привет. — Мэриэн и ее красное платье как-то потускнели в полутьме. Она взгромоздила свой зад на сиденье перед стойкой и села, стараясь не смотреть ни на меня, ни на Макса.
Он протянул руку, как казалось, для того, чтобы обнять Мэриэн за плечи, но вместо этого положил руку на стойку полузакрытой ладонью вверх — словно прося милостыню.
— Еще арахиса? — Женщина порылась под стойкой, доставая коробку с орехами, чтобы наполнить чашку, где осталась одна шелуха, скорлупки и крошки. Арахисовый детрит.
— Нет ли у вас еще чего-нибудь, что могли бы пожевать важные персоны? Оливки, палочки, хрустящий картофель? Давай, Холли, чего-нибудь новенького для наших гостей, Дона и Мэриэн.
— Нет, — весело сообщила она, наполняя чашку до краев арахисом. — Не по этой цене. Ешьте.
Я, Дон-миротворец, протянул руку к чашке и подал ее Мэриэн, но она отмахнулась.
— Они слишком соленые, — сказала она. — К тому же я не очень люблю орехи.
— Арахис, — педантично и наставительно произнес Макс, — не орех.
Алкоголь обычно расслабляет людей, но в данном случае он только обострил характерологические особенности Макса. От максимального к высшей степени, как сказал бы один из моих студентов.
— Не орех? — Холли наклонилась вперед и вперилась в чашку с таким видом, словно ее содержимое вдруг каким-то чудесным образом изменилось. Блузка оттянулась вниз, обнажив сливочную белизну ее могучих грудей. Я не слишком сильно всматривался, но Макс не отрывал от них глаз, и я проследил за его взглядом.
Мэриэн ухватилась за осколок информации.
— Что ты хочешь сказать? Если это не орех, то что? — Она извлекла из чашки одну штуку и принялась критически ее рассматривать.
Макс самодовольно ухмыльнулся:
— Это овощ, даже, скорее, трава. Так же как каштан.
С этими словами он вытащил из заднего кармана блокнот, чтобы сделать очередную запись. Холли смотрела на него с тем же восхищением, с каким смотрят на меня студенты, когда я на память читаю длинные отрывки.
Мэриэн повернулась ко мне, как к арбитру, — вероятно, потому, что я мужчина, а единственной альтернативой были Рой или корейский ветеран.
— Это действительно так?
Я задумался. Это было требование фактического знания, интонация рубрики «знаете ли вы, что?»; я впервые услышал эту интонацию, когда кто-то сообщил мне, что помидор — это фрукт. Мир полон lusus naturae[4], и, кажется, у Макса было хобби знать о них все. Чего Максу, правда, не хватало, — это способности к дипломатии.
— Можно поискать в каком-нибудь справочнике, — дипломатично уклонился я от прямого ответа.
— Это я сделаю позже, — пробормотала Мэриэн, явно раздраженная Максом, мною и, вероятно, мужской гегемонией вообще. В заключение она бросила горящий взгляд на Холли.
Макс пожал плечами:
— Орешки для тебя. — С этими словами он протянул Мэриэн чашку.
Наверное, эти слова послужили сигналом. Рука Мэриэн была всего лишь в паре дюймов от чашки, и спустя долю мгновения ее содержимое полетело в лицо Максу.
Арахис разлетелся по всему залу, и корейский ветеран в противоположном конце зала автоматически пригнулся, ища укрытия.
— Нас атакуют! — закричал он Рою, пытаясь пригнуть его уцелевшей рукой. — Падай на пол!
Кажется, Рой и правда почти ему поверил.
Макс был скорее изумлен, чем обижен.
— Какого… — он сделал паузу, стряхивая с себя орехи, — черта ты это сделала?
Мэриэн была обижена, сконфужена и разозлена одновременно.
— Не знаю, как это получилось. У меня просто соскользнула рука, я сама не понимаю…
Макс обменялся взглядом с Холли. Налицо было соучастие. Я видел такие взгляды и раньше; они обозначали следующее: «Смотри, с чем мне приходится иметь дело» и «Я тебе сочувствую».
Мэриэн взяла меня за запястье.
— Дон, может быть, вы отвезете меня домой?
— Но это ваше…
— Я знаю, знаю. Но давайте выйдем отсюда, ладно? — Она облокотилась на меня, слезая со стула. Но, выходя из бара, она оглянулась на Макса. — Прости меня, Макс. Прости меня. Я позвоню тебе вечером?
Макс кивнул, хотя кивок мог с равным успехом предназначаться и для Холли, которая вышла из-за стойки с мусорным ящиком и шваброй. Последнее, что я видел, спускаясь по лестнице, была Холли, склонившаяся вперед. Ее зад положительно впечатлял. Рядом стоял Макс со шваброй в руке. Выглядел он как средневековый рыцарь. Держа в охапке Мэриэн, я тоже чувствовал себя кавалером.
Мэриэн оказалась права; она настолько обезумела, что была не в состоянии вести машину.
Я сел за руль и приготовился ехать, когда заметил, что чего-то не хватает.
— Ключи?
— Что — ключи?
— Где они?
— Ох. — Она начала поспешно рыться в сумочке в поисках ключей, но не могла их найти. — О, черт, проклятье. — Она подняла голову и сквозь ветровое стекло посмотрела на «Тед и Ларри». — Знаете что?
— Вы оставили их в баре.
— Так. Но я же не могу туда вернуться. — Последовала безнадежная пауза, сменившаяся проблеском надежды. — Э-э, Дон?..
— Конечно. Я сейчас вернусь. — Я вышел из машины и поднялся на второй этаж, перепрыгивая через две ступеньки. Наверное, я сильно поспешил, так как, оказавшись наверху, застал весьма пикантную сцену. На заднем плане ветеран и Рой тыкали друг друга в грудь пальцами, споря насчет шрапнели. На переднем плане Холли наклонилась вперед, собирая ореховые овощи, а Макс, подойдя сзади, засунул ей рукоятку швабры между ног. Казалось, что между мясистыми ляжками не было вообще никакого промежутка, но — удивительное дело — они с готовностью поглотили длинную палку. Холли повернула голову и снизу, искоса, посмотрела на Макса.
— Глупо.
— Я подумал, что ты хочешь прокатиться. — Макс аккуратно потянул швабру на себя, отчего бедра Холли раздались в стороны, а зад уперся в пах Макса. Не знаю, была ли это прелюдия к половому акту или театральное повторение акта предыдущего.
Макс вытянул палку, а потом вставил ее обратно. Единственное, чем отреагировала на это Холли, была короткая фраза: «Не здесь и не сейчас». Она решительно оттолкнула Макса в сторону. Они снова принялись играть в деву с мусорным ящиком и рыцаря со шваброй. Макс решил помочь Холли навести в зале порядок. Я притворился, что только сейчас добрался до верха, и тяжело затопал по половицам, направившись к стойке бара, на которой золотистой кучкой лежали ключи Мэриэн.
— Ключи, — объяснил я, когда Макс удивленно поднял свои кустистые брови. — Не могу без них тронуться.
— Если тронулся, то поезжай, — вставил Рой откуда-то слева.
Я автоматически кивнул. Не согласиться с Роем значило обречь себя на неприятности — потерять массу времени на объяснения. Я скатился по лестнице вниз. Выходя из бара, я увидел, как у тротуара паркуется Эрик Ласкер, записной марксист нашей кафедры. Он недавно купил машину и теперь по-капиталистически ее эксплуатировал — ездил на ней везде и всюду. Оксфорд — городок маленький. Ласкер видел, что я сел в машину с Мэриэн, но с этим уже ничего не поделаешь. Я помахал ему, дав понять, что не делаю из этого никакой тайны, и он ответил мне тем же жестом. Кроме того, он грязно мне подмигнул.
7
Мэриэн молчала, пока мы выезжали на улицу. Нашу пантомиму с Эриком она вообще не заметила.
— Ну и что вы думаете?
— О Холли? — Я понимал, что ничто сказанное мной не поможет. — Она… э-э… определенно аппетитная. Может быть, правда, не очень интеллектуальна.
— Это уж точно. — Мэриэн стукнула ладонью по приборной доске. — Не понимаю, что его привлекает к этой… к ней.
Я искоса, с любопытством, взглянул на Мэриэн. После того достопамятного фиаско на вечере у Ноулзов несколько воскресений назад я был постоянно занят припоминанием разных экзотических риторических приемов. Тот, которым сейчас воспользовалась Мэриэн, называется апосиопесис — внезапный разрыв фразы. Привлекает к этой — какой? К барменше такого типа?
— Вы хотите сказать, что ему нравится… что он… хм… ухаживает…
— Я имею в виду женщин такого типа, — невообразимо тихим голосом буркнула Мэриэн. Сейчас она вообще выглядела странно съеженной, или мне только так казалось от сравнения ее с Холли — последней досталось куда более щедрое телосложение.
Груди Мэриэн вяло обвисали под красным платьем, соски были видны, но и они плакали, безвольно глядя вниз. Я-то знал, как выглядят эти же, но возбужденные соски; теперь они явно были подавлены. Мне захотелось потрепать Мэриэн по грудям, бормоча при этом: «Ну, ничего, ничего». Вместо этого я пробормотал только: «De gustibus…» Мы ехали по Университетской авеню, и я посмотрел на дорогу как раз вовремя, чтобы вильнуть в сторону и объехать валявшиеся в правом ряду останки раздавленного на асфальте броненосца с оранжево-красными вывороченными кишками. Труп животного выглядел как игрушечный танк, но машина может раздавить и его. Выхухоли, черные белки, щитомордники, коробчатые черепахи — нигде, за исключением Юга, не видел я столь разнообразной и экзотической, раздавленной автомобилями фауны. Я уже не говорю о слишком беспечных водителях. Вдруг я осознал, что забыл, где живет Мэриэн.
— Э, куда дальше?
— К черту… То есть я хочу сказать, надо свернуть у баптистской церкви.
Я не знал, какую из них она подразумевала, но наверняка речь шла о какой-то церкви на углу. Церкви на Юге всюду как банки: Баптистская церковь Желтого Листа, Баптистская церковь Миссионерского Служения, Вторая Оксфордская баптистская церковь Свободной Воли (мне ни разу не случилось увидеть Первую), Баптистская церковь Святого Спасения и так далее и так далее. Фасад нужной нам церкви был украшен белым полотнищем с рекламой воскресных обедов с жареной курятиной. «Женский вечер со спагетти», «Молодые христиане: все, что можно съесть из запеченных моллюсков» — из всего этого возникает прямая связь церкви с едой. В конце концов, именно Христос первым занялся распределением хлеба. Правда, те трехслойные пироги, которые, как я видел, продавались у входа прихожанками, были положительно греховны.
Проехав два квартала от церкви, мы оказались в Вилла-Флэте, упорядоченном скоплении домов, какое можно увидеть где угодно — на Юге, на Севере и, наверное, даже в преисподней. Самое подходящее название для обитателей Вилла-Флэте — ученый на полпути. Эти жилища предназначались для людей, покинувших общежитие студенческого городка, но не имевших пока денег на более сносное жилье. Стены покрыты лимонного цвета терракотой, а окна закрыты жалюзи — голубыми, как глаза ребенка. Все это венчалось шоколадно-коричневой кровлей. Три «виллы» образовывали блок, а четыре блока окружали четырехугольник дерна, скудно поросший травой.
— Не надо ничего говорить, — сказала Мэриэн, перехватив мой взгляд. — Макс называет это место «виллами проклятых».
— Ну, не знаю. По-моему, здесь не так уж плохо.
— Нет, плохо, и именно поэтому так дешево. Я не попала вовремя в университетский список на жилье, вот и приходится теперь жить здесь.
Мы остановились возле блока, который Мэриэн мне показала. Перед домом на клумбе фуксиями была выложена цифра 5.
— Я могла бы поселиться в более живописном месте, но мне его даже не показали — это по ту сторону цветной линии.
Расизм Юга — вещь весьма примечательная. Обычно он не бывает таким безобразным и отвратительным, каким он стал на Севере. Здесь расизм под контролем, поэтому он более жизнеспособный и оттого худший. В Оксфорде, например, было очень мало черных семей среднего класса, и у них не было никакого стимула селиться здесь. Это была пропасть, пустота, а пустота не так заметна, как живое присутствие. Я поделился этими мыслями с Мэриэн, когда мы вышли из машины, и она согласно кивнула. Большая часть новичков факультета, нанятых в течение последних пяти лет, замечала это и не стеснялась в комментариях. Если это чувство сохранится, то когда-нибудь настанет день и мы изменим положение вещей. С такими людьми, как Эрик Ласкер, мы смогли бы организовать даже митинги в поддержку восстановления социальной справедливости в Зимбабве.
Посыпанная гравием дорожка была обрамлена двойным рядом карликового кустарника. Трава палисадника была подстрижена до такой степени, что никакой ветер не смог бы пошевелить ею. У двери под номером 5В Мэриэн забрала у меня ключи. Она открыла дверь и печально улыбнулась.
— Вы не против войти?
— Конечно нет. — Отказ показался бы оскорблением. Кроме того, не собирается же она наброситься на меня в холле.
Внутри дом оказался несколько лучше, чем снаружи, вероятно, потому, что здесь его обставляла сама Мэриэн. Перегородка холла была украшена потускневшим зеркалом какого-то смутно испанского стиля. Перед зеркалом стояла корзина с засушенной сиренью. Плетеный коврик соединял холл со спальней и столовой-кухней. Два строгих стула с высокими вертикальными спинками словно ожидали, когда слуга поднесет им кофе от плиты в глубине комнаты. На низком столике между стульями стояла миниатюрная складная ширма и эластичный шнур цветов французского триколора. В последнем предмете воплотилось присутствие Макса.
— Вот. — Она протянула вперед руку, и одежда снова обрела надлежащую форму. — Вы видите то, что видите.
— Я вижу.
Я, правда, не видел спальню, во всяком случае, с того места, где стоял. Единственное, что я мог различить, — это кусочек пледа, наброшенного на нечто похожее на стандартную кровать. И что? — мысленно спросил я себя. Ты здесь не инспектор. Ты здесь не для того, чтобы свидетельствовать, что-то узнавать, удовлетворять свое любопытство или составлять отчет об увиденном. Ты здесь не для того, чтобы цитировать Т. С. Элиота. Ты не найдешь здесь камеры пыток в чулане. Хотя в поиске непристойностей было что-то возбуждающее.
— Чашку чаю? — Мэриэн направилась в кухонную часть гостиной и сняла с плиты синий эмалированный чайник. — У меня есть кофе, но он растворимый.
— Лучше чай.
Когда Мэриэн склонилась над раковиной, я впервые заметил, какая она маленькая — не выше пяти футов двух дюймов. Рост не бросался в глаза, когда она стояла ко мне лицом, так как внимание отвлекалось на ее полноту.
Она поставила на плиту чайник, мы сели на стулья и принялись ждать, когда он вскипит. Думаю, мы оба надеялись, что собеседник начнет первым. Наконец она решила взять инициативу в свои руки.
— Макс иногда может быть настоящей занозой в заднице. — Это была не жалоба, а констатация факта.
— Я понимаю, что вы имеете в виду.
— В самом деле? — Ее карие глаза широко раскрылись.
— Нет — да, я хочу сказать — нет не в том смысле, как вы подумали, как мне кажется.
Слова снова загнали меня в ловушку. Полисемантическая извращенность языка. Я сделал паузу, чтобы подумать.
— Думаю, что понимаю, что именно вы чувствуете.
Но Мэриэн не позволила мне так легко отделаться.
— Хм… вы что, тоже влюблены в Макса?
— Он мой сосед, и я часто его вижу.
— И какие именно части?
— Вероятно, не те, какие видите вы.
— Я не возражаю против этих частей. — Она улыбнулась и закинула ногу на ногу, поправив юбку на бедрах. Кожа ее при комнатном освещении казалась желтоватой. — Но я говорю о том, как он обходится с людьми.
Я подумал о резком юморе Макса. Потом вспомнил швабру в баре и не смог сдержаться.
— Думаю, он любит верховодить людьми.
— Это верно, — пробормотала она, и я вдруг подумал, не ездила ли сама Мэриэн вместе с Максом на помеле или оттачивала на нем какие-нибудь трюки с веревками. Чайник засвистел, и Мэриэн встала. Она подошла к плите и обернулась ко мне через плечо:
— Молоко, сахар?
— Ничего.
— Вот и хорошо, а то, кажется, у меня их и не осталось. Стараюсь выдерживать диету. — Она поставила чашки на поднос, украшенный орнаментом из бычьих глаз.
Некоторое время мы молча прихлебывали чай. Я не знал, почему она вдруг решила пуститься со мной в откровенность, но, вероятно, Мэриэн в данном случае следовала принципу «от бури в любую гавань». Но как бы то ни было, один вопрос я все же хотел ей задать, и я его задал.
— Скажите, что вы в нем находите?
Это было стандартное клише, но я не хотел, чтобы и на этот раз меня поняли превратно.
Мэриэн помрачнела и задумалась. Сначала она облизнула нижнюю губу, а потом ее прикусила. Она покашляла, словно собиралась ответить, еще немного помолчала и тоже ответила избитым клише:
— Это трудно объяснить.
— Постарайтесь.
— Ну, вы же знаете, какой он…
— Только в некоторых частях.
На этот раз она покраснела.
— Я не это имею в виду. Он пленяет. Он может заставить почувствовать тебя самой важной персоной в любой компании — так, словно ты единственный человек. Конечно, если не делает свои проклятые заметки в блокноте.
— Он действительно хорошо говорит.
— Это не все. Если ты скажешь о, ну, например, о Караваджо, то он обязательно видел «Прорицателя», и ты можешь поговорить об этой картине. Или о флагах Джаспера Джона. Или о том, сколько тмина надо положить в перец. Можно говорить о санитарных нормах при уничтожении мусора, и окажется, что он разбирается и в этом.
— Вы и об этом говорите?
— Перестаньте! Вы же понимаете, что я имею в виду. Не будьте как Макс.
— Прошу прощения. Вы правы. Я знаю, что вы имеете в виду. — Поскольку мы пустились в откровенности, я тоже сделал признание: — Он и меня очаровывает.
Она посмотрела на меня, округлив глаза. Еще одна полисемантическая извращенность.
— Мм, за исключением некоторых частей.
— Будьте серьезны.
Итак, мы были серьезны в течение десяти минут, говоря о том, какими невнимательными и черствыми могут быть мужчины и насколько легче в Оксфорде мужчине познакомиться с женщиной, чем наоборот. Мы не стали говорить о садизме Макса. Я пошутил, что в этом городе суженого легче встретить в церкви, чем в прачечной самообслуживания. Она спросила, не знаю ли я каких-нибудь красивых мальчиков-хористов. Я пообещал, что буду искать, но что я беру за службу десять процентов — десять процентов того, что она хочет знать. И вот в таком духе мы и общались. Между нами ничего не происходило. Все шло так, как мне хотелось. Если бы меня сильно потянуло к Мэриэн, а я могу признаться, что отчасти так оно и было, то в этом было бы что-то нездоровое. Во всяком случае, в моем положении и в нашем маленьком городе. Когда я наконец посмотрел на часы, было уже половина седьмого. Я сказал, что мне пора идти, и поставил чашки в мойку.
В проеме она положила мне руку на плечо и одарила быстрым поцелуем, а потом подтолкнула к двери. Я прошел половину лужайки, когда до меня дошло, что я без машины. Мэриэн, привыкнув к тому, что Макс везде и всюду ездит на велосипеде, должно быть, просто забыла об этом. Мне не хотелось возвращаться — портить эффект прощального поцелуя. Поэтому я решил пройти пешком, тем более что идти надо было немногим больше мили.
Я прошел полдороги, когда меня остановил автомобильный клаксон. Это был Эрик Ласкер в своей новой машине, «шеви-нова», ехавший в опасной близости к полосе встречного движения. Он опустил стекло:
— Привет! Вас подбросить?
Я прикинул все за и против. Конечно, если я поеду с Эриком, то скорее попаду домой. С другой стороны, я был уверен, что он начнет втягивать меня в какой-нибудь очередной политический крестовый поход. В последний раз, когда мы с ним беседовали, я поймал себя на том, что подписался на десятимильный забег в поддержку Гринписа. Разговор с Эриком — истинным выпускником британского Оксфордского университета — являл собой образчик высокого наслаждения. Он читал телефонную книгу с лучшим произношением, чем средний американец декламирует Шекспира. Но было одно но — ко всему он примешивал политику. Его преподавание было насквозь пропитано политикой, при покупках он руководствовался обоснованным экономическим выбором, и конечно же его секс тоже был пропитан политикой (недавно он порвал со своей подругой, с которой не сошелся во взглядах на международную амнистию). Если вы обедали с ним, то он мог начать рассказывать, какая часть вашего меню доставлена из стран угнетенного третьего мира.
Я отрицательно махнул рукой, но Эрик подумал, что я прошу его остановиться, что он и сделал. Он высунулся из окна, заплатка на локте пиджака должна была свидетельствовать о симпатиях к пролетариату его владельца. Он воспроизвел в увеличенном масштабе ухмылку у «Теда и Ларри».
— Хотите незаметно улизнуть домой? Садитесь, садитесь.
Вот черт. Я поразмыслил: стоит ли пускаться в объяснения?
— Я только что вышел от Мэриэн… — начал я.
— Держу пари, что так и есть. Как принято, пошлепали и пощекотали друг друга?
— Нет, говорили об одном общем друге.
— Ах да, у вас есть старый общий друг. Это то, что вы будете рассказывать жене? — На лице его появилось выражение, которое британцы называют ослиной улыбкой.
Если я уйду, это возбудит еще большие подозрения, поэтому я просто сел в машину. Но вероятно, мне следовало все же хотя бы попытаться стереть с его лица эту идиотскую ухмылку.
— Все было совсем не так, как вы думаете, Эрик. — Это было единственное, что я сумел сказать.
— Как скажете.
— Мы тронулись, и у Эрика тут же возникли проблемы с автоматической коробкой передач. Мы едва не столкнулись с двумя девушками, решившими заняться после обеда энергичной ходьбой. Эрик им дружелюбно посигналил. Они помахали в ответ — это были наши бывшие студентки. Будучи главным и единственным преподавателем творчества Шекспира в кампусе, Эрик учил этому предмету практически всех студентов все три года, что прожил здесь.
Главная проблема заключалась в том, чтобы отвести удар от себя, но так, чтобы не поползли сплетни о Максе. Но прежде чем я успел что-нибудь придумать, Эрик показал рукой в сторону заднего сиденья:
— Слушайте, там лежат листовки, которые я должен завтра распространить. Возьмите одну.
— Спасибо, но знаете, мне и без этого есть что почитать.
— Какой абсурд. Это займет у вас всего лишь пару секунд. В субботу на площади будет митинг в защиту Сальвадора.
— О! — Мне хотелось побывать на митинге не больше, чем увидеть у моего крыльца пятерых продавцов щеток Фуллера. Помнится, однажды я подписал одну из петиций Эрика, и после этого мне пришлось отдать деньги на революцию в Эфиопии. Но может быть, если я возьму листовку, это отвлечет его от Мэриэн. Мне захотелось открыть дверь и выйти, хотя мы и ехали со скоростью миль этак двадцать в час.
— Да, я действительно думаю, что сотрудники кафедры должны прийти. Это абсолютно необходимо. Боже, там творится такое. У меня есть литература, я покажу вам… сейчас, куда же я их дел?
Машина совершила плавный зигзаг, пока он лазил под мое сиденье, потом под свое, прежде чем отыскал нужные листки под передним ковриком. Я взглянул на памфлет и даже пробежал его глазами, чтобы доставить ему удовольствие. Политические заключенные, лагеря пыток, военные «миротворцы», эскадроны смерти. Я тяжело вздохнул, понимая, что мог бы принять все это намного ближе к сердцу. Самое ужасное заключалось в том, что этика Эрика была безупречна, и, сталкиваясь с ним, все мы, преподаватели литературы, чувствовали себя виноватыми оттого, что не бежали сей же момент на помощь гондурасским беженцам.
Я вышел из машины, пообещав, что приду на митинг вместе со Сьюзен, но не смог удержаться и добавил:
— Можете попробовать пригласить и Макса Финстера.
— О! Но кто это?
— Новичок факультета, преподаватель с кафедры истории. Очень хорошо разбирается в таких вещах. Удивительно, что вы с ним до сих пор не познакомились.
— Да, я обязательно его разыщу. — Глаза Эрика загорелись поистине миссионерским огнем, верой в обращение.
Я вспомнил, как он когда-то говорил мне, что его отец был генералом Армии спасения. Я помахал ему в знак благодарности, и Эрик отбыл в превосходном расположении духа.
Сьюзен ждала меня с обедом, и я, невзирая на поздний ленч, буквально набросился на еду, уничтожив половину сковороды с лазаньей, а через час вернулся на кухню за крекерами и сыром. Это удивило Сьюзен, в глазах ее засветилась материнская радость. Она даже похлопала меня по спине и назвала Донни.
Когда она спросила меня, почему я припозднился, я сказал, что Эрик заставил меня помочь ему в сочинении памфлета.
— Мало того, — добавил я, — мы согласились пойти завтра на митинг, который состоится на площади.
— Мы согласились?
— Это, наверное, будет интересно.
— Завтра собирается наш комитет по улучшению дорог. — Сьюзен снова занялась общественной деятельностью. Она, правда, никогда не была такой политизированной, как Эрик, который считал ее слишком буржуазной. Она же, в свою очередь, считала его чужаком.
— Когда у тебя встреча?
— Тогда же, когда митинг Эрика.
— Но я же не сказал тебе, когда он начнется, — съязвил я. Мне показалось, что теперь ей нечем крыть.
— Он наверняка состоится во второй половине дня — они всегда начинаются чуть после двенадцати. Сам-то он никогда не встает раньше полудня.
Это была правда. Эрик, как и Грег, был известен своим ночным образом жизни. Если бы вам захотелось вдруг увидеть рассерженного марксиста, вам достаточно было бы постучать в дверь Эрика, когда наступало время завтрака. Миссис Пост, как и подобает ранней пташке, презирала утренних сонь, имела обыкновение в девять утра извещать Эрика о кафедральных совещаниях, и дело кончилось тем, что Эрик стал на ночь снимать трубку с рычага. С другой стороны, если мне не спалось ночью, достаточно было выглянуть на задний двор и посмотреть на апартаменты Эрика. Там неизменно светились два ярких желтых прямоугольника окон, задернутых жалюзи. Окна Эрика придавали неизъяснимую теплоту безбожной беспощадности ночных часов.
— Ты просто не любишь Эрика, — произнес я.
— А кто его любит?
— Да, конечно, никто, но суть не в этом. Дело действительно важное, и люди должны показать свое к нему отношение.
— Что там случилось на этот раз?
— Восстание в Сальвадоре.
Сьюзен прикусила губу, это был знак, что она колеблется. Я просто физически чувствовал, как она взвешивает на весах мусор на дорогах и размахивающих мачете революционеров. Потом она стала мысленно прикидывать, что ей надеть.
— Ладно, — сказала она наконец, — но ты за это должен будешь повести меня в кафе.
— Договорились.
Выход в кафе обычно означал жареную рыбу, так как Сьюзен из-за запаха никогда не готовила рыбу дома. Обычно мы ходили есть рыбу один раз в месяц.
Закончив дискуссию, мы разошлись. Сьюзен отправилась звонить главе комитета миссис Споффорд, я же пошел в кабинет поработать. Во всяком случае, я честно собирался работать. Некоторое время я сидел перед компьютером, не притрагиваясь к клавишам. Потом подобрал статьи с критикой Джойса, но не прочел в них ни строчки. Из-за стены не доносилось ни звука. Я стал думать о тишине. Я стал думать об одиночестве. О частях, представляющих другие части. По неведомой причине мне вдруг представились ласкающие меня руки.
Руки были женские, мягкие и белые, мне было уютно и приятно от их ласк. Руки легли мне на плечи, как руки музы, решившей поговорить со мной по душам. Потом руки заскользили вниз, прошлись по груди и вскоре оказались в паху. Они гладили и нежно мяли мою плоть. Постепенно руки стали моими собственными, и я принялся делать то, чего не делал уже давно, — я занялся онанизмом в носовой платок, который извлек из ящика стола. Я не вполне понимал, на чей образ я мастурбирую, но это точно не была моя жена.
Сьюзен уже спала, когда я наконец отказался от попыток работать. Мне захотелось посмотреть на ее руки, но они оказались спрятанными под простыней. Я тихо разделся и лег. Я лежал, вытянув руки по швам, понимая, что сегодня засну не скоро. Праздно, как человек, который всю жизнь только собирается путешествовать, думает о поездке друга за границу, я подумал: интересно, чем занимается сейчас Макс?
8
Самая унылая пора Оксфордской площади, два часа пополудни, суббота, ноябрь месяц. Никакого движения, никакой суеты; большинство перелетных птиц уже улетели на побережье, половина студентов сидит по общежитиям и библиотекам, готовясь к промежуточным зачетам, а половина уехала в Арканзас, на матч «Бунтарей» «Оле Мисс» с арканзасским «Лезвием бритвы». В универмаге Карлсона были заняты распродажами — после Хеллоуина и перед Рождеством. Даже погода проявляла свойства чистилища: с одной стороны выглядывало солнце, а с другой — нависали свинцовые тучи. Посреди всей этой половинчатости и нерешительности Эрик с мегафоном в руках взобрался на пьедестал памятника конфедерату, собираясь произнести зажигательную речь перед толпой из десятка человек.
Большинство этих людей разделяли взгляды Эрика. Среди них были преподаватели юридического факультета. Это не очень нравилось Эрику, ибо какой толк проповедовать уже обращенным? Листовки, которые он пытался распространять в Студенческом союзе, шли плохо. Эрик обвинял студентов в апатии, но это было не совсем честно, так как дело было не в том, что студентов ничего не интересовало, а в том, что их не интересовало то, что делал Эрик. Он мог бы с равным успехом обвинить дружбу в том, что она заставляет многих из нас притворяться, когда нам, в сущности, нет никакого дела до других. Именно по этой причине я и остаюсь аполитичным. Жизнь — достаточно запутанная вещь и без политических пристрастий, пересекающихся с нашими личными делами.
Мы собрались возле здания суда на площади; к нам не спеша присоединились еще несколько человек, и теперь мы выглядели как организованное движение, а не беспорядочная группка. У самого пьедестала стояла Нэнси Крю, молодая преподавательница права, появлявшаяся на всех мероприятиях Эрика. Они бесконечно спорили о социализме и глубоко уважали друг друга. Были здесь и Кэи, факультетская супружеская чета, воспитывавшая пятерых детей от разных браков. Мэри Кэй была когда-то хиппи и сейчас лишь слегка маскировалась роговыми очками, которые была вынуждена теперь носить. Ее муж Джозеф, седобородый святой, был самым начитанным человеком из всех, кого мне когда-либо приходилось встречать. Он знал всю литературу от Гомера до Пинчона, но не имел представления о том, что происходит в Сальвадоре, так как нигде этого не читал, однако очень хотел узнать.
Эрик пылал праведностью больше, нежели обычно, вероятно по причине недавнего разрыва. Он трубил в мегафон в стиле, который один из его студентов называл «беспощадно полисиллабическим». Стоя на возвышении цоколя памятника, он пинал статую солдата, высмеивая ее за бездеятельность, и в то же время яростно осуждал вторжение американских войск в Сальвадор. Цифры, которые он приводил, были ужасающими. Он как раз разогревал себя статистикой, когда появился Макс, ведущий за собой Холли.
Я стоял рядом со Сьюзен, которая хранила на лице вежливое непроницаемое выражение, которое она берегла специально для общественных мероприятий. Тем не менее мы все что-то здесь делали вместе, разве нет? Я помахал рукой Максу, который начал протискиваться к нам между Нэнси Крю и Джозефом Кэем. Толпа выросла к этому времени до двадцати человек, и все внимательно следили за тем, что происходит на пьедестале. По случаю ноябрьских холодов Макс и Холли были одеты в свитера, но ее свитер был гораздо теснее, чем его. Не знаю, в чем тут дело, может быть, это просто фетишизм, может быть, что-то животное, но женщины в шерстяных мохнатых свитерах выглядят безумно сексуально.
В случае Холли эта истина была неоспорима. Во-первых, самой Холли стало от свитера намного больше — эти большие широкие груди распирали бедный свитер так, что казалось, он вот-вот лопнет. На ней были надеты те же самые джинсы, в которых она была в баре, и когда женщина шла, то казалось странным, что джинсы не рвутся пополам. Промежуток, который был проходим для Макса, оказался препятствием для Холли, и она, протискиваясь в него, оттолкнула грудью Джозефа, а выпирающим задом оттерла в сторону Нэнси. Нэнси отвернулась, Джозеф смотрел на Холли как зачарованный. Макс коротко представил Холли Сьюзен, и та ответила, что ей очень приятно, — судя по интонации, это была неправда. Допускаю, что Сьюзен была раздражена, потому что Холли оказалась на месте Мэриэн, но до меня только потом дошло — хотя нет, если честно, то мне просто сказали об этом, — что я ничего не сказал Сьюзен о Холли. Холли была одной из частей, которые я упустил в тот день в «Теде и Ларри».
Эрик ненадолго замолчал, ожидая, когда группа перестроится. Площадь совершенно внезапно ожила. У некоторых из слушателей были припасены плакаты: «США — вон из Сальвадора» печатными буквами, написанный от руки — «Покончить с полицейскими государствами» и еще один написанный пурпурными, совершенно неразборчивыми буквами. Целью мероприятия был марш от площади до университетской рощи, но сначала Эрик намеревался довести слушателей до точки кипения или, во всяком случае, до той точки, на которую он окажется способен. Он мог быть красноречивым, но скорее в британском парламентском стиле, хотя люди здесь привыкли к более пламенным проповедям. Если бы Эрик стал описывать ад, то непременно заговорил бы о средней температуре в огненной геенне и в подтверждение привел бы соответствующую статистику.
Тем не менее какой-то эффект от его речи все же был, так как за то время, что Эрик говорил, толпа увеличилась почти втрое. У большинства пришедших был задумчивый вид, с каким большинство американцев смотрят «Даллас». Может быть, просто по ящику в этот день не было ничего интересного. Макс, как я заметил, обвил рукой уютную талию Холли. Руку он засунул в ее задний карман, и туго натянутая ткань прочно захватила его пальцы. Было не похоже, что Холли носит нижнее белье. Он что-то прошептал ей на ухо, и женщина рассмеялась. Я попытался напрячься и тоже что-нибудь шепнуть в розовое ушко Сьюзен, но так ничего и не придумал.
Будто для того, чтобы компенсировать свою сухую речь, Эрик стал все больше применять язык тела. Он бил солдата кулаком по ружью, а один раз — может быть, случайно — ткнул воина коленом в самое чувствительное место. Он размахивал руками и один раз едва не упал, потеряв равновесие, но остался на ногах, вовремя ухватившись за ту же эрогенную зону. Углом глаза я заметил, что к толпе присоединились еще несколько человек — несколько человек в синем.
Я не знаю, что именно, но в копах Оксфорда есть что-то особенное. Может быть, это чрезмерная фамильярность по отношению к студентам, более грубая, чем их машины, на которых они носятся субботними ночами. Да и сам я как-то раз столкнулся с законом, когда просто шел по кампусу пешком поздно ночью и был остановлен для короткого допроса. Они дети или — как бы выразиться поточнее? — очень ревностные дети, которые очень любят устрашать. Как мне кажется, Юг вообще богат на властные натуры, и обычный южный коп — это отец, судья и сержант в одном массивном теле с парой малоприметных спутников.
Их было трое. Они окружили пьедестал, и один из них произнес:
— Ну а теперь остановись, сынок.
Эрик замолчал на середине своей очередной инвективы.
— Прошу прощения?
Тем же голосом ответил тип с двойным подбородком и выпирающей из-под куртки наплечной кобурой:
— У вас есть разрешение на выступление?
— Разрешение? Нет… но это же общественная собственность, разве нет?
— Конечно общественная, и в этом городе есть закон, запрещающий ее ненадлежащее использование. Почему бы вам не спуститься вниз, прежде чем мне придется вас арестовать?
Я видел, как Эрик спорил с самим собой. Будет ли разумно подчиниться? Или стать мучеником за Сальвадор и привлечь внимание к страданиям его народа? Марксисты в наши дни не пролетарии, теперь они — университетские интеллектуалы, в результате они всегда пахнут мелом, теорией, а не практикой. Это сильно им досаждает. Например, они терпеть не могут, когда их называют кабинетными активистами. И вот сейчас Эрик сделал шаг навстречу настоящей деятельности, чему все мы стали свидетелями. Он презрительно плюнул на штык солдата Конфедерации.
Полицейский, стоявший позади статуи, немедленно схватил Эрика за ноги и принялся стаскивать его с пьедестала. Бумаги Эрика разлетелись по воздуху, ветер подхватил их, и они упали прямо в руки Мэри, как главной соучастницы. Я мельком взглянул на записи и понял, какую кропотливую работу выполнил Эрик, готовясь к якобы импровизированному выступлению: пометки, что надо подчеркнуть, вставки цифр, полные цитаты. Этому учишься, став преподавателем: ничто не звучит более спонтанно, чем тщательно подготовленная речь.
Тем временем копы прижали Эрика к цоколю памятника, причем больше всего их раздражало то, что Эрик и не думал сопротивляться. Тип с двойным подбородком разъяснил Эрику, что он имеет право молчать, хотя Эрик конечно же хотел говорить. И он говорил, рассказывая копам о подавлении свободы слова и о том, что такое никогда не могло бы произойти в Англии. Если бы стояла темная ночь и вокруг никого не было, копы просто избили бы его, но здесь был народ, поэтому стражи закона ограничились тем, что просто завернули ему руки за спину. Они быстро надели на него наручники и повели к машине, припаркованной на противоположной стороне улицы. Машина тронулась с места и уехала, прежде чем кто-либо успел отреагировать.
— Так ему и надо — что заслужил, то и получил.
Все мы одновременно повернули голову на голос. Парень в форме службы подготовки офицеров резерва тоже присутствовал на митинге вместе со своей подругой, которую он держал за тонкую талию. Свободной рукой парень показал на статую:
— Плевать на наших ребят в форме, издеваться над парнями, которые умирают где-то за демократию… — Он сам весьма красноречиво плюнул на землю. Было заметно, что он умеет плеваться самыми разнообразными стилями. Потом он повернулся на каблуках (девушка, будто по команде, точно повторила его движение), и они зашагали вверх по улице к стоявшему неподалеку джипу.
— Первая поправка всегда защищает не тех, кого надо, — буркнула Нэнси Крю. Она достала из сумочки черную записную книжку и что-то в ней черкнула.
— Чего это здесь случилось? — поинтересовался студент выпускного курса в футболке с лозунгом в защиту мира. Даг Робертсон.
Я помнил его по прошлогоднему семинару, на котором он доказывал, что Вирджиния Вульф исповедовала дзен-буддизм.
— Все зависит от того, как далеко они собираются зайти, — мрачно говорила Нэнси. — Кто знает, может быть, есть пяток каких-нибудь дурацких постановлений, которые он нарушил просто потому, что находился здесь.
Она продолжала яростно что-то записывать в блокноте, иногда поглядывая вверх, словно что-то вспоминая. Небо теперь было окончательно затянуто серыми тучами, предвещавшими неминуемый дождь. Поднявшийся ветер вырвал из рук Мэри записи Эрика и разбросал их по площади. Мы стали бесцельно торчащей здесь группой, лишившейся смысла и центра притяжения.
— На это, помнится, жаловались мне мои чехословацкие друзья, — сказал Джозеф, застегивая воротник черной куртки.
— Интересно, вернутся ли они еще раз? — сказала Мэри, которая и в самом деле казалась очень озабоченной.
Ее слова подсказали, что нам лучше уйти в какое-то другое место. Несколько человек, стоявших с краю, поспешно ушли.
В этот момент Нэнси закончила писать и закрыла блокнот.
— Слушайте, нам надо что-то делать. Эрик не имеет ни малейшего понятия, как работает американская юридическая система, и никто в участке не будет ему в этом помогать.
От толпы отделились еще несколько человек и пошли прочь. Стало ясно, что по большей части группа слушателей состояла из любопытствующих зевак. Все остальные остались, чувствуя важность происходящего. Нэнси продолжала:
— Все мы — свидетели, а это может помочь, хотя и не обязательно. Очень важно спланировать, что должно произойти дальше, а не пускать дело на самотек. Что, если нам встретиться в «Полька-Дот», ну, скажем, через пятнадцать минут?
Над группой пронесся согласный ропот. Холли, прижавшись к плечу Макса, что-то шепнула, но он лишь отрицательно покачал головой. Он в это время что-то записывал в новом блокноте, но я не думаю, что это каким-то образом соотносилось с записями, сделанными Нэнси. Когда Холли попыталась заглянуть в блокнот, Макс отвернулся. Она была раздражена, но ничего не сказала; еще одна женщина, павшая жертвой эксцентричности Макса. Наступила тишина, в которой был слышен лишь шум ветра, гулявшего в листве дубов у здания суда. Потом толпа, как выражался Дэн Разер, рассеялась. На площадь снова опустилась обычная монотонность субботнего дня.
9
— Не думаю, что надо идти всем сразу.
Мы сидели вокруг покрытого царапинами стола в «Полька-Дот», а Нэнси излагала, что и когда надо делать. На самом деле оказалось, что сделать можно не очень много. Холли хотела пойти в полицейский участок вместе с Максом и другими, чтобы заявить протест, а потом решила, что надо начать печатную кампанию за освобождение Эрика. Нэнси педагогическим тоном, выработанным годами работы со студентами-юристами, сказала, что первое делать не рекомендуется, а второе — совершенно не обязательно. Единственное, что должен был сделать кто-то из нас, — это отправиться в полицию, чтобы освободить Эрика под залог. Сделать это собралась сама Нэнси. Но если дело коснется необходимости опровергнуть надуманные и лживые обвинения, то в этом случае все мы могли бы выступить свидетелями, чтобы изложить правдивую историю происшествия. Все мы чувствовали, что участвуем в деле чреватом обвинением в подрывной деятельности.
«Полька-Дот» была самым подходящим местом для такой встречи. В каждом белом городке, таком как Оксфорд, должно быть такого рода заведение, которое уравновешивало бы модные лавки, церкви и социальные приличия, и «Полька-Дот» была местным ответом на местный истеблишмент. Надпись на входной раздвижной двери гласила: «Нет ботинок и рубашки — ну и что?» Каждый квадратный дюйм стен был покрыт граффити, постерами, бамперными стикерами и картинками — большая часть всего этого была родом из шестидесятых; почти все противоречило всяким понятиям о культуре, а некоторые образцы были и вовсе странными. Плакат против курения упоминал о влиянии никотина на седьмое измерение. Постер о наркотической эпидемии в Лос-Анджелесе демонстрировал четыре зада, обтянутые бикини. Один лозунг задавал простенький вопрос: «Ты сегодня обнимался с ядерным реактором?» Больше всего мне нравился стикер, прилепленный к кофейному автомату: «Бросьте мне что-нибудь, мистер».
Большую часть блюд здесь готовили из бобов, за исключением сырного пирога, который просто не имел права быть таким хорошим на таком расстоянии к югу от линии Мэйсона-Диксона. Владелец заведения, Энди Хиллмен, говорил, что спер рецепт этого пирога в бруклинской пекарне, когда встречался с поварихой, которая работала там на выпечке. Обслуживание было дружелюбным и ненавязчивым, и я частенько пил здесь травяной чай за столиком у двери, до того как познакомился со Сьюзен. Кафе занимало только половину крытого белой жестью здания, бывшего когда-то складом; вторую половину Энди превратил в кинотеатр, где показывал настоящие фильмы, а не гомогенизированный хлам, который крутили в «Синема-3» торгового центра. Билетером был молчаливый заика по имени Эрл, полный идиот во всем, что не касалось гениального подбора фильмов. Энди и его «Полька-Дот» существовали в Оксфорде уже больше десяти лет, и если некоторые граждане с удовольствием отправили бы его из города первым же поездом, то были и другие, которые хотели избрать Энди мэром.
Энди до сих пор носил конский хвост по моде шестидесятых и бороду, всегда, впрочем, помятую и всклокоченную. Говорил он немного, но был весьма сведущ в тонкостях американской политической кухни. Это объяснялось тем, что он постоянно проигрывал выборы, что, впрочем, не сильно его расстраивало. Кроме того, он был хорошо знаком с движениями протеста и внутренним убранством тюремных камер.
С другой стороны, шестидесятые годы давно миновали, и Нэнси ясно дала понять, что лозунгом теперь должна быть целесообразность.
— Я восхищаюсь Эриком, — сказала она, добавляя столу еще одну царапину ярко-красным ногтем, — и разделяю большинство его политических взглядов. Но я бы не стала плевать на статую.
— Может, нам вернуться и вытереть ее?
Это было благонамеренно, и опять это была Холли, но Макс решительно заявил, что мы здесь обсуждаем не плевки. Он с чувством сжал руку Холли, произнося это. Это сбивало с толку, потому что в голосе явно чувствовалось раздражение. Но действия Макса, как я заметил, всегда опровергали его слова. Не то чтобы он был лицемером, скорее, это был разрыв между тем, что он говорил, и тем, что он делал. Сьюзен утверждала, что Макс принадлежал к опаснейшему типу рассеянных преподавателей, но у Макса не было и грана неопределенности, столь характерной для этого биологического вида профессоров. Я отметил, что его пальцы оставили красные следы на руке Холли.
Следующие полчаса мы провели за составлением связных свидетельских показаний, и это оказалось трудным делом, что было удивительно, так как все мы видели своими глазами одно и то же. Мэри думала, что полицейский, стащивший Эрика с цоколя, схватил его до того, как Эрик плюнул на статую, а Холли думала, что второй полицейский превысил свои полномочия, применив ненужную силу. Джозеф, по ведомым ему одному причинам, считал, что копов было четверо. Макс в качестве шутки предлагал воспроизвести номер патрульной машины. Он почему-то его запомнил. В конце концов мы обменялись телефонами, записанными на салфетках, на случай если потребуется быстро связаться друг с другом. Сейчас, в ретроспективе, это представляется абсурдным, но надо понимать, как скучен был тот уик-энд всего два часа тому назад.
Нэнси отправилась к банкомату брать деньги для залога, а все мы разъехались по домам. Университетская радиостанция транслировала матч, но ни я, ни Сьюзен не стали включать радио. Я понимал, что это непатриотично, но мне просто нет дела до футбола, и думаю, Сьюзен любила его только потому, что в детстве отец кормил ее палочками, когда они вместе смотрели по ящику футбол.
Пять кварталов мы проехали молча. Я вильнул, чтобы объехать лежавшую на мостовой мертвую кошку. Что-то в последнее время их стало очень много. На полпути к дому Сьюзен заговорила:
— Знаешь, здесь так не делают.
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что не надо пинать статую и злить копов. Когда-нибудь у Эрика могут быть серьезные неприятности.
— Они у него уже есть.
— О, Дональд, все могло быть и хуже.
Каждый раз, когда она называет меня Дональдом, я чувствую себя десятилетним мальчиком. Но она переживала что-то еще, и, когда мы остановились напротив наших апартаментов, она высказала и это:
— Почему ты ничего не рассказал мне о Максе и Холли?
Я пожал плечами, что было затруднительно в машине, поэтому я вышел и пожал плечами снова — для Сьюзен. У меня не было готового ответа.
— Откуда она взялась? Что она делает с Максом?
— Она явилась из другой солнечной системы, и ее миссия — уничтожить Макса.
— Именно об этом я и говорю. Как они познакомились? И что случилось с Мэриэн?
— Думаю, они познакомились в «Теде и Ларри». Она там работает.
Я рассказал Сьюзен меньше той малости, какую знал, сам не знаю почему. Я начал скрывать от нее разные вещи, сам этого не осознавая. Может быть, это просто привычка, допущение, что всегда надо иметь что-нибудь в запасе, на всякий случай. Так я учу и моих студентов. Допускаю, что это делает меня не слишком надежным рассказчиком.
Сьюзен злилась на Холли из-за Мэриэн.
— Это не его типаж, ты же сам видишь. И ей действительно надо сесть на диету. Рядом они смотрятся как гороховый стручок и груша.
— Кажется, она добрая… — «И носит чудные свитера», — добавил я мысленно.
— Да, но умом она не блещет. Не думаю, что он искал именно ее. Мне ее почти жалко. Кто-то должен открыть Максу глаза.
Я видел, что она во всем винит Макса. Не был уверен, что разделяю ее отношение, несмотря даже на то, что мне пришлось увидеть. Наверное, Макс отмел бы все обвинения или переложил вину на других.
Приблизительно через час зазвонил телефон. Я сразу поднял трубку.
— Алло?
— Джейми, это ты?
— Простите, вы неправильно набрали номер. — Я положил трубку.
Через мгновение телефон снова зазвонил. Я опасливо снял трубку.
— Джейми?
— Нет. Вы неправильно набираете номер.
Пауза.
— Это 555–1057?
— Да, но Джейми здесь не живет. Может быть, это его старый номер.
— Тогда, может быть, вы передадите ему это? — Голос упорно не желал подчиняться никакой логике. — Скажите, что ему надо срочно позвонить Джону.
Собеседник отключился.
Я тяжело вздохнул. Такое уже случалось и раньше. Когда мы переехали сюда год назад, нам постоянно звонили, ошибаясь номером и все время спрашивая Джейми. Очевидно, Джейми задолжал очень много денег очень многим людям. Неизвестно почему. Через месяц звонки прекратились, но в последнее время интерес к Джейми вспыхнул с новой силой. Самой ужасной оказалась какая-то старуха, которая настаивала, что мы лжем.
— Если вы не Джейми, — убежденно говорила она, — то что вы с ним сделали?
Мы подумывали о том, чтобы сменить номер, но решили не ввязываться в бюрократические хлопоты.
Телефон зазвонил снова. Я не стал брать трубку. После пятого звонка я мысленно чертыхнулся и ответил. Это была Нэнси. Она приехала в полицейский участок с пятьюстами долларами, но оказалось, что залог за такую мелочь составлял всего сто тридцать долларов.
— Так в чем проблема?
— Дон, он не хочет выходить.
— Что вы имеете в виду?
— Он хочет быть сидящим в тюрьме революционером. И поэтому не хочет выходить до суда.
Я выкатил глаза, глядя на Сьюзен, но потом понял, что этого она не услышит.
— На какой день назначен суд?
— Срок еще не определен. — Нэнси раздраженно вздохнула. — Скажите, мы можем допустить, чтобы он сгнил там?
— Какая у нас альтернатива?
— Мы можем оказать давление, чтобы с него сняли обвинения. Может быть, кто-нибудь из университетского начальства, кто-нибудь, кто может вмешаться.
— В чем его, кстати, обвиняют?
В этот момент Сьюзен едва не поцеловала меня в ухо, и не от любовной страсти, а из желания услышать, что говорят на другом конце провода. У нас, к сожалению, нет второго телефона.
— Обвинения те же, которых мы ожидали. Злоупотребление общественной собственностью. Плевки в общественном месте. Может быть, противоправное нарушение владения.
— Плохо, что он не снял штаны.
— Да, простите, я из-за всего этого совершенно потеряла чувство юмора. Но, как бы то ни было, мне хотелось сообщить вам, что происходит. Я обзвонила всех, просто чтобы они знали.
— Спасибо. Слушайте, если мы попозже его навестим, то, как вы думаете, надо ему что-нибудь отвезти?
— Только свое внимание. Он хочет именно этого. — Она отключилась.
Приблизительно через час мы отправились навещать Эрика. Через час, потому что именно столько времени потребовалось Сьюзен, чтобы испечь добрую партию орехового печенья для томящегося в тюрьме революционера. Учитывая ее отношение ко всему этому делу, с ее стороны то был акт подлинного южного героизма. Для этого случая надо было бы придумать специальное изречение: что-нибудь вроде «Я не согласен с вашей манерой выражать свои убеждения, но, несмотря на это, накормлю вас». Мой вклад ограничился тем, что я почистил противень. В печеньях напильник спрятан не был, так как Эрик не замышлял побег.
Оксфордский полицейский участок находится возле мусорной свалки, что может быть как метонимией, так и чистым совпадением. Участок являл собой здание из кирпича, стали и стеклянных панелей, увенчанное чем-то похожим на церковную колокольню. Как всегда припаркованный у ограды, стоял древний черно-белый «динафло», заново выкрашенный, чтобы выглядеть как подобает образцовой полицейской машине. Может быть, это тоже говорило о чем-то. Когда мы подъехали, человек в безрукавке полировал свежую краску автомобиля.
Как я уже говорил, Оксфорд — община церемонная, и в полицейском участке за столом в вестибюле сидела симпатичная девушка-секретарь, а не грубый сержант. Девушка была одета в лавандовое платье и щелкала по клавиатуре компьютера, сохраняя неестественно прямую осанку и дежурную ослепительную улыбку. Когда мы спросили ее об Эрике, улыбка несколько потускнела. Она кивнула в сторону основного помещения и певучим миссисипским говором сказала, что нам надо поговорить с сержантом Памперникелем. Она жестом направила нас в нужный кабинет, но сидевший там человек никогда не слышал о сержанте Памперникеле. Когда же, наконец, явился сержант Поперник, его сообщение было кратким: Эрика уже перевели в тюрьму графства.
Так как Оксфорд является административным центром графства Лафайет, то мы удостоены чести содержать тюрьму графства. Заметим: для того чтобы наше графство не путали с покойным французским генералом, местные жители называют графство Лафэйит. Тюрьма находилась неподалеку от университета, рядом с супермаркетом «Джитни-Джангл». Над дверью веселенькими золотыми буквами было написано «Отдел шерифа графства Лафайет». Внутри мы увидели стандартную полицейскую приемную, но за столом сидела сестра-близнец девушки из полицейского участка за таким же компьютером. Мы спросили, можем ли мы видеть Эрика Ласкера, и через минуту действительно смогли его лицезреть лицом к лицу, но за добротными железными прутьями.
— Привет, Дон. О, Сьюзен, вы тоже здесь! Как вам нравится моя новая квартирка?
Он стоял, прислонившись к выкрашенной в белый цвет стене, в то время как его сокамерник тщательно избегал смотреть в нашу сторону. Это был рослый черный человек с такими широкими и вздернутыми вверх плечами, что голова казалась погребенной между ними. Он сидел на топчане, молчал и мучительно рассматривал что-то в руках. Сначала я подумал, что это какая-то брошюрка «свидетелей Иеговы», но потом у меня возникло подозрение, что это одна из листовок Эрика.
Сьюзен протянула узнику завернутое в фольгу печенье, которое осмотрел и даже попробовал полицейский офицер.
— Мы узнали, что вы не хотите выходить, и поэтому принесли вам кое-что поесть.
Сокамерник поднял голову и посмотрел на нас. В его глазах промелькнуло что-то похожее на интерес, несмотря на то что рядом с ним на топчане лежал точно такой же пакет из фольги. Позже я узнал, что заключенных кормили два раза в день, но неиссякаемый поток продовольствия от родственников восполнял любой недостаток.
— Как вы заботливы! Вы не возражаете, если я поделюсь? — Он церемонно указал на сокамерника. — Дон, Сьюзен, это Натаниэль.
Натаниэль сделал такое движение, словно приподнял шляпу, хотя на голове у него никакой шляпы не было:
— Привет. Рад познакомиться. — Он снова принялся изучать листовку.
Покончив с формальностями, я без обиняков спросил Эрика, какого черта он все это делает. В это время Сьюзен извлекла из пакета одно печенье и стала разговаривать с Натаниэлем у дальнего конца решетки. Занимаясь общественной деятельностью, она была знакома с подобными местами лучше, чем я или Эрик. Когда я спросил, что произошло, Эрик сквозь зубы пробормотал что-то невнятное о варварах янки. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем идет речь: с точки зрения Оксфорда (Англия) мы в Америке все были янки.
Его обвинили по трем пунктам, и все были угаданы Нэнси. Это пародия на правосудие, позорный процесс, надувательство — все это Эрик произносил, расхаживая по камере, как тигр Рильке. Это было настоящее представление: только один человек в мире мог бить себя в грудь сложенными за спиной руками. Короче, с Эриком все было предельно ясно: он остался в тюрьме в знак протеста, но будет защищаться в суде.
— У вас есть адвокат?
— Вы имеете в виду защитника?
— Да. Кто-то должен позаботиться о том, чтобы вы не выглядели в суде дураком.
— Нэнси сказала, что сделает что-нибудь. — Он на мгновение задумался. — Мне показалось, что она немного расстроена.
— Да.
— Гм… забавно.
С этим мы уехали, оставив все как есть и Эрика таким, каким он был. В воскресенье мы извинились перед Ноулзами за то, что не сможем быть их гостями, и уехали, только для того, чтобы не быть в воскресенье в Оксфорде. Мы не слышали, чем закончился субботний матч, — не слышали до понедельника, когда в нашей студенческой газете «Дейли Миссисипиэн» появилась статья, которую и в самом деле стоило прочесть.
10
«В ИГРЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ИГРОК „БУНТАРЕЙ“» — гласил заголовок в «Дейли Миссисипиэн».
«Вильсон (Вилли) Таккер, защитник „Бунтарей“, в прошедшую субботу показал себя настоящим героем. Таккер, который в каждой игре выкладывается на все сто процентов, попытался перехватить падающий мяч в третьей четверти игры, из-за чего началась драка, в которой ему сломали два шейных позвонка. Таккера немедленно доставили в Баптистский центральный госпиталь в Мемфисе, где его обследовали врачи».
В этом месте я поднял глаза и перестал читать. Я не знал, кто такой Таккер, но знал, что означает такой перелом, и заголовок, на мой взгляд, надо было переписать так: «ТАККЕР ЛОМАЕТ ШЕЮ — ЕМУ ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННЫЙ ПАРАЛИЧ». Господи Иисусе.
В остальной части статьи излагались сухие факты. Что еще хуже — «Бунтари» победили со счетом 22:17. Таккер лежит в отделении интенсивной терапии, неспособный двигаться. Прогноз не слишком хорош. У Таккера парализовано все тело ниже шеи, и он находится в критическом состоянии. Но, парни, болельщики, он не сдается, нет, такие настоящие «Бунтари», как Вилли, не сдаются никогда. Но ему потребуется вся ваша помощь и поддержка, чтобы восторжествовать над травмой, и поэтому молитесь за нашего… в этом месте я снова перестал читать, задыхаясь от отвращения. Это не была просто глупая утрата возможности жить — игроки в футбол могут заниматься только спортом, и если они теряют способность им заниматься, то они не могут уже заниматься ничем больше. Таккер был черным, а это отнюдь не увеличивало его шансы на благополучную жизнь. То была ложная надежда, то есть нечто, что я не могу не уподобить организованной религии. Да, я хром, но Иисус может меня исцелить! Бог не позволит банку отказать в выкупе закладной из-за просроченного платежа. Если я помолюсь за хорошую оценку — я ее получу.
Надежда — вот что питает людей, но, если надежда беспочвенна, она превращается в гибельную иллюзию. Ни один человек еще не поправлялся после такой травмы. Груда молитв не позволит дотянуться до цели. Знаете что? Когда Пандора открывает свой ящик и выпускает в мир все зло, то единственным утешением становится надежда на дне ящика. Так вот, это неверное толкование мифа. Его истинное значение заключается в том, что самое худшее из зол находится именно на дне, и в этом вся надежда. Надежда ведет человека, заставляет его шельмовать и хитрить, вместо того чтобы тяжким трудом прокладывать путь, кормит его ложью, подсовывая ее вместо реальности. Мой отец любил цитировать Казандзакиса, поставившего «Грека Зорбу»: «У меня нет надежды и нет страха. Я свободен».
Казандзакис был мужественным человеком.
Не знаю, почему я так разволновался, но, когда я снова поднял газету, я понял, что плачу. И не столько по поводу неизлечимо сломанной шеи, сколько по поводу нескончаемой надежды, которая пропадет без следа для этого несчастного сукиного сына. Даже если он выживет. Особенно если он выживет.
В среду газета оповестила читателей, что Таккеру сделали операцию. «Если кто и мог выдержать такое, так это Вилли», — сказал один из товарищей Таккера по команде в интервью. На четверг был назначен ночной молебен. От этого меня просто передернуло. Для покрытия медицинских расходов был учрежден специальный фонд помощи Вилли Таккеру. Вот это уже было хорошо. Это не надежда, а милосердие, единственная из трех добродетелей, в которую я искренне верую. Было уже собрано тридцать тысяч долларов.
В четверг Вилли сделали трахеотомию, чтобы ему было легче дышать, а потом подключили к респиратору. В эту ночь мне, впервые за много лет, приснилось, что я задыхаюсь.
Когда я был маленьким, мы с отцом часто ходили к одному другу нашей семьи, человеку с железными легкими, парализованному полиомиелитом в возрасте двадцати с небольшим лет. Того человека звали Ленни Сегал, и он был совершенно помешан на всяких умственных играх, вроде «Привидения», «Географии» или «Кто я?». Я читал ему вслух. Особенно он любил рассказы о Шерлоке Холмсе. Сначала скрип и скрежет железных легких Ленни выводили меня из равновесия, но со временем я привык. Если привык он, думалось мне, то смогу и я. Кроме того, Ленни вел себя так, словно их не было вовсе, словно он лежит просто потому, что ленится встать. Единственное, к чему я так и не смог привыкнуть, был его смех, последовательность монотонных односложных звуков: «Ха… ха… ха… ха… ха…»
Ленни умер от легочных осложнений, когда я учился в младших классах средней школы, но я до сих пор вспоминаю его всякий раз, когда думаю о разуме, отделенном от тела. Иногда я вижу этого человека во сне. Ленни вернулся ко мне в ту неделю, когда я думал о Таккере. Несколько футболистов слонялись по холлам университета в красных нарукавных повязках. Они как будто протягивали невидимую нить поддержки своего товарища. Я послал в фонд помощи Вилли Таккеру пятьдесят долларов. Это не бог весть какие деньги, их не хватило бы даже на сутки пребывания в отделении интенсивной терапии, но зато я стал лучше спать.
Это было сразу после моей утренней пары в четверг, когда я отправился в канцелярию кафедры за почтой и в холле увидел Макса. Он не двигался, и это показалось мне странным. Когда в 10.45 заканчивались утренние пары, весь холл наполнялся телами, текущими к выходу. Если вас не захватывал этот поток, то вы выглядели необычно, выделяясь из общей массы, не говоря уже о том, что проходящие люди постоянно на вас натыкались. Эту проблему Макс решил, спрятавшись в углублении стены в том месте, где коридор внезапно расширялся. Он внимательно рассматривал проплывавший мимо студенческий корпус, точнее сказать, корпуса студенток.
Я стал смотреть, как он смотрит, но на таком расстоянии было трудно понять, на кого именно направлен его взгляд. Может быть, это вон та блондинка Дельта-Гамма, состоявшая, как мне показалось, из одних только ног и распущенных волос, или проходившая слева настоящая гурия в форме часового стекла — видимо, ее мама каждый день подвязывала ей турнюр и в конце концов он навсегда отпечатался на ее теле. Или его привлекла студентка из моей группы — девушка с волосами как вороново крыло, кожа которой своей белизной напоминала свежее молоко? Сейчас он что-то писал в своем неизменном блокноте, вечно лежавшем в его заднем кармане. Пока он писал, какой-то здоровенный детина дружески сунул свою лапу Максу под нос и приветливо помахал ею. Макс коротко улыбнулся и кивнул, хотя было видно, что ему не понравилось, что его отвлекают. В это время между нами проплыла одна толстуха из моей группы и на время закрыла Макса непроницаемой стеной плоти. На девушке был белый свитер — не просто большой, а необъятный даже для ее могучего телосложения, — а двигалась она гладко и неторопливо, как празднично украшенная платформа на уличном шествии.
Когда она прошла, Макса уже не было.
Войдя в лифт, я поднялся в канцелярию и немного посплетничал с коллегами. Джина рассказывала Грегу об открытии, сделанном ею в изысканиях по поводу самоубийства Фолкнера. Когда Фолкнер упал с лошади, он незадолго до этого начал по предписанию врача принимать снотворные таблетки.
— Врач, который его осматривал, ни словом не обмолвился о таблетках. Вам это не кажется странным? — Глаза Джины горели, как у ищейки, напавшей на верный след.
Грег, как всегда бывший апостолом рассудительности, предложил иное толкование:
— Может быть, он просто забыл их дома.
— Нет, их не нашли, потому что Фолкнер проглотил их все. Я просто уверена в этом.
Грег и Джина посмотрели в мою сторону, ожидая окончательного решения.
— Кстати, о докторе, — сказал я. — Вы не пытались его найти?
— Конечно же. Несколько лет назад он вышел на пенсию, но по-прежнему живет в графстве Лафайет. Я пригласила его выступить перед моей группой.
— И?..
— Ну, не знаю. Он сам говорит, что не возражает, но его дочь думает, что такое выступление повредит его здоровью. Думаю, что это просто отговорка.
— Ну а вдруг у него и правда нелады со здоровьем? — Грег в своем репертуаре.
В этом месте я выбыл из дальнейшего спора. Джина — умная, горячая, одержимая — была мне очень симпатична. Она носилась с романами Фолкнера так, словно сама жила в таком же доме тридцать лет и соседями ее были Снопсы. Каждый год Джина, не жалея сил, готовила конференцию «Фолкнер и Йокнапатофа». Когда я приехал в Оксфорд на факультетское собеседование, Джина посадила меня в свой старенький «плимут» и повезла показывать место, где Джейсон Компсон творил свои мерзкие дела или мог бы творить, будь Джейсон реальным лицом, а не сочетанием букв, вложенных Фолкнером в «Шум и ярость». Самое поразительное и едва ли не сверхъестественное во всем этом было то, что Джина не любила Миссисипи — она ненавидела истовых южан, не могла есть местную пищу и была бы гораздо счастливее в Калифорнии. Но здесь была страна Фолкнера, и она должна, просто обязана жить здесь. Грег мог бы преподавать поэзию кому угодно хоть в Антарктике, и в этом было его фундаментальное отличие от Джины.
Через минуту из двери своего кабинета высунул голову Эд Шемли. Галстук на боку, волосы всклокочены, под глазами мешки — он был похож на репортера, всю ночь писавшего важную статью. Но если бы вы спросили его самого, то он сказал бы, что работать полный день в «Ньюсдей» несравненно, несоизмеримо легче, чем заведовать кафедрой в «Оле Мисс». Дальше последовало бы перечисление всех и всяческих — вполне, впрочем, обычных — университетских тягот: некомпетентность администрации, недостаточное финансирование и переполненные аудитории. Правда, Эду удавалось сохранять чувство юмора. Он ненавидел бюрократическую волокиту и избегал ее при любой возможности. Все наши кафедральные совещания длились — с гарантией — не больше часа. Я от души жалел Макса, в начальники которому достался Споффорд, известный любовью к театральным представлениям в своем кабинете.
Эд внимательно посмотрел на меня и вскинул брови.
— Вы не Мелвин Кент.
— Разве я так похож на гнома?
— Вы правы, извините. — Он обратился к миссис Пост:
— Не справитесь ли вы у профессора Кента, когда он придет? Я назначил ему к одиннадцати.
— Мне кажется, он приходил несколько минут назад.
Эд поднял глаза. Настенные часы показывали 11.03.
Словно волк в басне, в дверях появился Мелвин. Его стрижка всегда напоминала монашескую тонзуру, наверное, потому, что он был медиевистом, но для полноты образа не хватало монашеской рясы и сандалий.
— Я приходил в одиннадцать, но дверь кабинета была заперта, и я решил зайти попозже. — В этот момент он заметил меня. — А, Дон. Часть вашей почты попала в мой ящик. Уверен, что по чистой случайности. — Он извлек из кейса конверт. — Вот ваше письмо.
Конечно, виноват был Трейвис, но я промолчал и взял конверт, надеясь, что это письмо от Дороти, моей колумбийской подруги. Наверное, я мог бы позвонить ей по телефону, но наша дружба была чисто эпистолярной и лучше всего выражалась на листах бумаги. Впервые за всю историю нашей переписки мне пришлось ждать ответа несколько недель. Впрочем, и сегодня меня ждало разочарование — в конверте оказалась всего лишь листовка университетской типографии. Почему Мелвин просто не бросил конверт в мой ящик, осталось для меня загадкой. Наверное, он до мозга костей буквалист. Или, как выражается Эд, у Мелвина буквалистский геморрой. Кроме того, он невероятно груб. Когда я впервые познакомился с ним, то долго не мог понять, преднамеренная это грубость или она проистекает из полного невнимания к окружающим. Я так и не пришел к окончательному выводу, но теперь меня это и не волновало — я просто избегал встречаться с ним.
Выходя в коридор, я столкнулся с Трейвисом; он, как всегда, подслушивал, притворяясь, что читает доску объявлений, которые никто не менял вот уже целую неделю.
— Не сделаете ли мне одно одолжение? — спросил я.
— Конечно сделаю, а что?
— В следующий раз бросьте в мой почтовый ящик письмо для профессора Кента, ладно? Просто для равновесия.
Вернувшись домой, я увидел Макса, беседующего на ступеньках со Сьюзен. Он опирался на свой коричневый грузовой велосипед или велосипед опирался на него — в их отношениях было что-то слегка симбиотическое. Поначалу я подумал, что Сьюзен отчитывает его за новую подругу. Потом я решил, что они говорят о Таккере, потому что уловил фразу «не может даже ходить». Но потом я понял, что они говорят об Эрике, которого Макс и Холли навестили накануне.
— О, думаю, он был очень рад нас видеть, — произнес Макс тоном, который обычно приберегал для публичных объявлений. Говоря, он рассеянно снимал и снова натягивал эластичный шнур на раму велосипеда. — Но знаете, я думаю, что ему нравится, что он не может никуда выйти.
— Что вы хотите этим сказать?
Вопрос задала Сьюзен, но с равным успехом его сейчас мог бы задать и я.
— Не надо принимать решений, нет никаких трудностей, не надо думать, куда идти и что съесть на обед. Он в клетке, но о нем заботятся. Он в утробе, на которой висит замок.
— Я уверена, что люди, сидящие в тюрьме, так не думают.
— Нет, конечно. Эти мысли подсознательны, но почему, как вы думаете, они остаются в тюрьме? — Чтобы вскинуть руки в вопросительном жесте, Макс оторвался от велосипеда. — Дело в том, что передвижение на свободе может доставить им массу хлопот и неприятностей.
— Макс…
— Обездвиженность — это свобода.
Я больше не мог молчать.
— Вот как? Значит, по-вашему, этот футболист Вилли Таккер теперь свободен? Может быть, этот бедняга еще более свободен оттого, что не может самостоятельно даже дышать?
На лице Макса появилось то же очарованное выражение, какое я заметил сегодня в холле. Было похоже, что он хотел высказать что-то прямо и искренне, но в последний момент передумал и вильнул в сторону.
— Это… это совсем другое. Вероятно, единственное, чего Таккер действительно хотел в своей жизни, — это играть в футбол.
Сьюзен снова вмешалась:
— Нет, в этом есть нечто большее. Я думаю…
— Я понимаю, что это трагедия. «Трагедия человеческого измерения». Так было сказано вчера в «Дейли Миссисипиэн», что бы они ни подразумевали под этим. — Он покачал головой. Кажется, его больше огорчил стиль статьи, чем сама травма.
На этом наш разговор кончился, и Макс, взявшись за руль, покатил свой велосипед домой, словно непослушную собаку. Я не мог отделаться от впечатления, что Макс кормит велосипед. Интересно, если да, то чем?
Сьюзен повела меня на кухню и приготовила горячий обед — жареную ветчину с яблоками и с остатками зелени. Обычно мы обедали сандвичами, но иногда Сьюзен любит приготовить что-нибудь свое. Вероятно, это может показаться старомодным на Севере, но здесь мясо номер два с овощами идет на ура. Основное блюдо обычно тушеная говядина, свиная отбивная или куриная ножка. Так называемые овощи варьируют от пареной тыквы и полевого горошка до макарон с сыром и персиков с ромом. Я послушен и ем все. Единственное, чего я не могу взять в рот, — это бамия и томаты, известные в народе под названием «крушение поезда». Бамию я могу есть только в жареном виде, да, собственно, в таком виде она и появляется в большинстве меню с мясом номер два. Южане жарят все: рыбу, курицу и пироги. На площади Бетти предлагает даже жареный маринованный укроп, фирменное блюдо дельты, — пахнет оно именно так, как вы ожидаете.
Будучи холостяком, я покупал дешевое мясо номер два с овощами в «Джитни-Джангл», главным образом, для того, чтобы пребывать в иллюзии, что для меня кто-то готовит. Блюдо было сытное, но это единственное, что у него общего с готовкой Сьюзен. Она умеет поджарить ветчину так, что соль чувствуется ровно настолько, насколько надо, яблоки имеют консистенцию карамели, хлеб горяч и в меру пропитан сливочным маслом. В тот день у меня не было особого аппетита — я слишком живо представил себе, как Эрик ест какое-то пойло, а Вилли вообще не может есть ничего, — но сцены этой мерзости почему-то вдруг возбудили во мне волчий голод: я съел все и дважды отполировал сковороду хлебом. После еды мне пришлось распустить ремень.
Когда мы допивали в гостиной кофе, то увидели, что Макс поехал куда-то в зимнем свитере и облегающих джинсах. В последнее время он из-за плотного рабочего графика несколько сместил время своих обычных поездок. Вечно активен. Интересно, как бы он пережил вынужденную обездвиженность. Он, нажимая на педали, ехал по дорожке, когда едва ли не под его велосипед выкатилась соседская девочка на своем трехколесном велосипедике. В дверном проеме показалась голова ее матери.
— Осторожнее, Шейла!
Такова южная манера выражаться. На самом деле женщина обращалась к Максу.
Но Макс не стал сворачивать. Он прибавил скорости и проскочил мимо в каком-нибудь дюйме от Шейлы. На краю дорожки он вылетел на тротуар, пролетел между двумя машинами и выехал на дорогу, едва не попав под колеса мини-вэна. Я прикусил губу. Сьюзен вслух высказала то, о чем я лишь подумал.
— Надеюсь, — пробормотала она, — что он не сломает свою проклятую шею.
11
Суд над Эриком был назначен на пятницу, значит, выйти на свободу — хочет он того или нет — ему придется в субботу. По этому радостному случаю Нэнси уже запланировала на субботу вечеринку, куда намеревалась пригласить всех участников демонстрации. Сидя в тюрьме, Эрик занимался со студентами по почте, проверяя в камере стопки сочинений. Мало этого, он дал другим заключенным почитать Шекспира. Этот автор имел успех, так как у Эрика хватило сообразительности выбрать для сидевших вместе с ним ребят монолог бастарда Эдмунда из «Короля Аира». Вероятно, все парни в тюрьме были, так или иначе, не вполне законнорожденными. Когда я заехал в тюрьму в среду, то застал плечистого Натаниэля за рассматриванием арденовского издания «Макбета». «Он говорит, что любит таинственные истории с убийствами, — сияя бодрой улыбкой, сообщил Эрик, — и я попросил одного студента принести „Макбета“».
Событие это не осталось незамеченным. Старая добрая «Дейли Миссисипиэн» опубликовала на эту тему короткую заметку под заголовком «Препод в тюряге». Здесь была не вся история, да и все изложение показалось мне тенденциозным, так как редактор сэкономил на фактах, но, в конце концов, это же «Миссисипиэн». Как сказал однажды Эд Шемли, съевший зубы в «Ньюсдей»: «Начинаешь понимать, что живешь здесь очень долго, когда читаешь „Миссисипиэн“ и не находишь в этом ничего смешного».
Внутри, как всегда, ответы психолога и страничка комиксов с простейшим в мире кроссвордом. Естественно, большой отдел спорта и новости мужских и женских студенческих организаций. Колонка писем студентов типична: корпоративная гордость, размахивание флагом на футболе и вопрос о девственности. Но самое замечательное — письма в редакцию, от которых отдавало просто несусветным идиотизмом. Эд однажды вывел общую формулу таких писем:
Кому: Главному редактору.
Риторическое вступление.
Не относящийся к делу случай.
Искаженное освещение фактов.
Ностальгические воспоминания о традициях.
Мрачные предсказания на будущее.
Подпись: Выпускник.
Должен признаться, что я читаю «Дейли Миссисипиэн» каждый день и сильно раздражаюсь, когда ее публикация прерывается на каникулы и последнюю неделю сессии. Когда не хватало местных университетских новостей, «Миссисипиэн» перепечатывала сюжеты Ассошиэйтед Пресс: двадцать новых способов применения хлопка, почему, по мнению ученых, толстые счастливее тощих, недавние безобразия знаменитостей — в топку шло все, что попадалось под руку. Я не собираюсь оправдываться. Любой наркоман, подсевший на иглу «Нэйшнл инквайрер», поймет мои чувства. Когда я навестил Эрика в тюрьме, он был обложен несколькими номерами «Миссисипиэн» с обведенными красной ручкой статьями на политические темы. Кажется, узник готовил очередную речь.
Я не стал задумываться над этим — Эрик постоянно работал над своими длинными нудными речами, и тюрьма оказалась для этого самым подходящим местом, так как Эрик не был мадам Дефарж и не умел вязать. Макс, видимо, был все-таки прав: Эрику было уютно в тюрьме. Но мы все же надеялись увидеть его на свободе.
В пятницу днем мне позвонила Нэнси. Обычно в это время звонила злосчастная старуха, и я, сняв трубку, сразу сказал, что Джейми здесь не живет.
— Что? Кто это?
— Дон Шапиро. С кем я говорю?
— Дон, это Нэнси. Кто такой Джейми?
Я тяжко вздохнул:
— Не обращайте внимания, это долгая история.
— Ну хорошо, слушайте…
— Вы о суде?
— Угу. Он состоялся сегодня утром. Заседание открыли и закрыли. Злоупотребление общественной собственностью. Штраф сто долларов.
— Он заплатил?
— Не совсем.
— Вы заплатили? Знаете, не думаю, что это правильно. Эрик сам виноват во всех этих неприятностях…
— Есть еще одна неприятность.
— Что, никто не заплатил?
— Эрик прервал заседание. Он начал говорить, мало того, произнес целую речь. Главным образом о фашизме американской судебной системы. Его предупредили, но он и не подумал заткнуться. Оскорбление суда — два дня.
— Два дня за какую-то речь?
— Дон, он произнес ее со стола.
— О!
— Стол оказался не очень прочным и сломался.
— Гм.
— Судьи добавили ко всему прочему еще и стоимость стола.
— Понятно, — сказал я, размышляя, куда она клонит. — Это означает, что субботняя вечеринка отменяется?
— На самом деле я именно об этом хочу спросить вас. Можно ли из-за одного фарисействующего гостя — какими бы благими ни были его намерения — портить людям вечер?
— Мм, нет?
— Правильно, я тоже так думаю. Поэтому вечеринка состоится, только на ней не будет Эрика. Черт, пусть он сам потом устраивает праздник, если, конечно, когда-нибудь выйдет из тюрьмы. — Она фыркнула, по телефону это фырканье показалось мне лошадиным.
— Ну, если вы так считаете.
— Да, я так считаю. Итак, приезжайте ко мне домой часам к девяти, о’кей?
— Отлично. Нам надо что-нибудь принести?
— Я слышала, что Сьюзен печет замечательные ореховые печенья.
— Правда? Хорошо, она будет просто счастлива. Увидимся в субботу.
Я положил трубку, испытывая непонятное головокружение. Помню, что я пришел на кухню и сказал Сьюзен о печеньях и только после этого рассказал, что произошло. Обычно на вечеринках я веду себя респектабельно, но чувствовал, что завтра могу там что-нибудь натворить. То ли в честь Эрика, то ли в пику ему. Если честно, то я и сам этого не понимал.
Одна из приятных черт штата Миссисипи заключается в том, что вы можете выехать из любого города и через пять минут оказаться на грунтовой дороге посередине неведомого пространства, можно сказать, нигде. «Посередине» — это буквально, ибо стоит вам проехать еще с полмили, как вы упретесь либо в лес, либо в поле. Нэнси жила в конце одной из таких дорог в бревенчатом доме с на совесть заделанными щелями. В отличие от крошечных бревенчатых хижин Новой Англии этот дом был большим и вместительным, здесь был камин и гостиная, в которой можно было стелить ковры и устраивать танцы. В доме был даже второй этаж, но он предназначался, очевидно, для детей или карликов, потому что потолочные балки нависали над полом в трех футах. Джон Финли, высоченный детина, как-то раз ударился головой о стропила второго этажа и чуть не помер от кровотечения. Но это лишь еще раз говорит о том, какие чудесные вечеринки устраивала Нэнси. Три жесткошерстных терьера Нэнси носились по дому, и перемещаться по комнатам здесь было труднее, чем в других домах.
Мы приехали в 9.15. Компромисс между желанием Сьюзен явиться вовремя и моим намерением великосветски опоздать. Только благодаря Сьюзен я не опаздываю на поезда и не пропускаю важных встреч. Мне не помогают ссылки на то, что на Севере просто принято опаздывать на подобные мероприятия. Сьюзен убеждена, что опоздание есть форма грубости, и, возможно, она права. Мне кажется, что здесь, на Юге, пунктуальность все еще считают эквивалентом вежливости, хотя есть и исключения. Например, Джером Хилл пользуется пунктуальностью для выражения враждебности, пунктуальность Макса была совершенно иного свойства: она была проявлением его внутренней пунктуальности и присущей ему во всем точности.
Как бы то ни было, мы оказались не первыми гостями. Макс и Холли уже были здесь вместе с принесенными ими деликатесами. Нэнси великолепная повариха, и на ее вечеринках всегда была настоящая еда, а не всякие там чипсы с соусом. На этот раз она приготовила салат «тортеллини», лососевый мусс, пирожки с мясом и рыбой, огромный пирог, начиненный малиновым вареньем и взбитыми сливками. В сторонке стояли блюда с сосисками в кляре и что-то рыбное и скандинавское на ломтях ржаного хлеба. В дальнем конце стола красовались оливки и брынза. Сьюзен с виноватым видом протянула хозяйке пакет с печеньями, но Нэнси поставила их на почетное место возле камина, где уже были глубокие миски с грецкими орехами и изюмом.
Макс рассказывал Холли всякие интересные вещи о бревенчатых домах с их неповторимой индивидуальностью. Она внимательно слушала, кивала, отдавая должное сосискам. Я заметил, что у нее великолепные зубы — крупные, белые и, вероятно, очень острые. Я поздоровался с ними и тоже взял одну сосиску. Потом, будучи женатым человеком, я дал еще одну Сьюзен, которая в это время незаметно материализовалась рядом.
— Против чего мы протестуем сегодня? — Макс едва заметно улыбнулся, скрыв свои симпатии.
Холли от души толкнула его локтем в бок. На Максе была клетчатая рубашка и рабочие джинсы, то есть одежда людей, которых просто положено толкать локтем в бок. Он всегда хорошо справлялся с взятыми на себя ролями, сегодня на сто процентов выглядел как парень, который должен гулять с такой девчонкой, как Холли.
— Против отсутствия Эрика, — отозвалась из угла Нэнси, вставлявшая бесчисленные бутылки в огромное ведро со льдом. — На Юге должны быть более мягкие законы специально для сумасшедших британцев.
Холли, взявшая кусок брынзы, отвлеклась и вставила слово:
— Я думаю, что это подло.
— А я думаю, что закон есть закон. — Макс, изловчившись, откусил от ее брынзы.
— Значит, закон подлый. Это мой сыр!
— Всасывание — девять десятых обладания.
Она шутливо шлепнула его. Видимо, это уже вошло у нее в привычку. Макс, нагнувшись, принялся что-то записывать.
Нэнси велела всем наливать, а сама пошла открывать дверь. Во всех четырех углах стола мы затеяли разговор о диссидентах в Америке, одновременно принявшись за «тортеллини». Сьюзен сказала, что сейчас не шестидесятые годы, на что Макс ответил, что шестидесятые были массовой галлюцинацией в воспаленных мозгах американцев. Холли толкнула его в бок, сказав, что он на самом деле так не думает. Я попросил Макса дать определение галлюцинации.
— Галлюцинация — это то, что люди, как им кажется, испытывают и переживают, их переживания кажутся им реальными, хотя в действительности это не так.
Мне захотелось поспорить.
— Но как быть с сильными убеждениями?
— Никто не может утверждать, что они объективны.
— Вам не приходилось общаться с моим отцом, — вставила Сьюзен.
Я понял, что она имеет в виду. У ее отца не было мнений, он обладал истинами. Он, например, был до сих пор, каким-то участком своего мозга, уверен, что Юг еще поднимется. Может быть, Макс прав, и старик Сьюзен, как и ему подобные, всего лишь страдает культурной галлюцинацией. Но тут разговор перешел на семью, и мы заговорили о младшем брате Холли, который жил в Мемфисе и работал по франчайзингу на «Кентукки фрайд чикен». Я хотел было попросить Макса дать определение реальности — это было бы потруднее, но опоздал, все стали обсуждать новинку полковника Сандерса — «Экстра-Хруст».
В 9.30 прибыли еще пятнадцать гостей, среди них Роберт Уэстон, владелец «Книжного червя», местного книжного магазина и кафе. Он всегда поддерживал материально того или иного писателя, включая Роя Бейтсона, который постоянно занимал у него деньги. Роберт мне нравился: он был респектабелен, но ни в коем случае не лишен чувства юмора. Жену Лору он привез из Калифорнии, но она уже успела пустить прочные корни в Оксфорде. Напоминанием о прошлом были ее сережки — сегодня это были два миниатюрных глобуса. Когда я видел ее в последний раз, в ушах были мобильники Кальдера. Как-то раз она надела скрещенные ножи и вилки, украденные, как она торжественно сообщила мне, в конторе «Мишлен». В университете она преподавала искусствоведение и поэтому была знакома с Мэриэн, которую я, кстати, уже давно не видел.
Пришли Кэи. Мэри занялась напитками, а Джозеф отправился осматривать книжные полки. Остальных я знал плохо — это были люди с юридического факультета, включая одну студентку, бледную, суетливую и очень женственную, поставившую перед собой амбициозную цель: уложить в постель все мужское население «Оле Мисс». Это я слышал от двух жертв и одного кандидата.
Разговор с Максом стал немного меня раздражать. Я теперь понял его тактику: он придерживался правых взглядов только потому, что большинство из нас придерживались левых. Из четырех своих собеседников Макс сейчас вцепился в четвертого, приводя исторические прецеденты для того, чтобы доказать что-то, но я забыл что именно. Кажется, речь шла о том, что левые всегда берут у полковника Сандерса темное мясо. Холли была явно растеряна от такого неожиданного превращения либерала в консерватора. Она не привыкла к таким мгновенным переходам, и ей, должно быть, казалось, что пришла она сюда совсем с другим человеком. Сьюзен пыталась время от времени храбро вмешиваться, но Макс мастерски использовал ее аргументы только для того, чтобы, прожевав очередную порцию салата, не оставить от них камня на камне. Что касается меня, то я помнил о своей решимости напиться и, допивая третий джин с тоником, был уже на полпути к желанному забытью.
Холли, как я заметил, все время беззаботно жевала — было такое впечатление, что она поедает свои слова. Действительно, всякий раз, когда казалось, что она вот-вот что-то скажет, Холли, вместо этого, отправляла что-то в рот: петрушку с сыром, паштет, обильно намазанный на галету, или лососевый мусс с овощами. Макс наконец обратил на это внимание или просто решил высказаться по этому поводу. Он вожделенно похлопал Холли по животу:
— Куда все это уходит?
— В бедра, — буркнула мне в ухо, проходя мимо, Лора Уэстон.
Я решил разыскать Лору позже.
Макс повторил свой вопрос, поглаживая обширное туловище Холли. Она покраснела, но не убрала его руку.
— Пища поступает внутрь здесь, — Макс обвел рукой ее жующий рот, провел по горлу, — а дальше идет сюда…
Он провел ладонь между грудей Холли и остановился в области живота. Потом он принялся массировать его, разминая полноту подруги под туго натянутой тканью.
Сьюзен демонстративно отвернулась, а вскоре и совсем ушла, уединившись с Мэри Кэй. От джина с тоником я чувствовал приятное отупение и решил не вставать. На Холли была синяя блузка, туго застегнутая на мелкие пуговицы. Макс, как Наполеон, просунул руку между двумя пуговицами. Было видно, как его твердые пальцы ритмично поглаживают гладкую белую плоть.
— Вот сюда и пришел этот паштет, — приговаривал он, — а сверху на него лег лосось…
Холли нервно улыбалась, не зная, как реагировать, или просто смущаясь от моего присутствия. Мне оставалось только наблюдать эту сцену остекленевшими глазами.
— Наверное, мне не стоит так много есть, — отважно произнесла Холли, — но все так вкусно.
— Тогда ешь еще! И я чуть-чуть поклюю. — Он почавкал у нее над ухом, и она на этот раз привычным жестом толкнула его в бок.
Он потащил ее к буфету, одной рукой поглаживая по уютной талии, а другую прочно утвердив на ее заду. Ягодицы Холли обладали поразительной, исполинской кривизной, но одновременно были похожи на лицо, я бы даже сказал, на ангельское личико. Я хватил еще джина и вспомнил, что ягодицы называют щеками. В тот момент это сравнение показалось мне чертовски умным.
Где-то в глубине заиграл Дэвид Боуи. Музыка зазвучала громче, и кто-то начал свертывать ковер. В камине горел огонь — в это время года холодно уже даже в штате Миссисипи, — и кто-то стоял у огня, стараясь поджарить на нем кусок сыра, подцепленный на длинную вилку. Студентка, лениво развалившись, лежала на огромном диване Нэнси в очень опасной близости от Джозефа Кэя. Мне показалось, что она что-то делает с его бородой — может быть, разглаживает, — хотя другая изящная ручка обвила его шею. Джозеф имел озабоченный вид, но не двигался, словно околдованный. Мэри была на кухне и, наверное, разговаривала с моей женой. Из солидарности со Сьюзен я взял одно из ее печений. Оно пахло джином. Один из псов Нэнси подошел ко мне и ткнулся в мою руку влажным носом, и я дал ему остаток печенья. Я долил свой стакан и отправился дальше не вполне твердым шагом.
У буфета я столкнулся с местным архитектором Четом, как бишь его там, и его приятелем, подрядчиком. Они что-то хлебали из фляжки, по-собачьи встряхивая головой после каждого глотка. По запаху мне показалось, что они пьют какой-то растворитель. Решив, что с их помощью мне удастся опьянеть быстрее, я попросил Чета дать глотнуть и мне.
— Это не фабричное питье, это самогон, — ответил он, смерив меня взглядом с головы до ног. Короткий конский хвост при этом элегантно дернулся, сделав Чета похожим на хорошо воспитанную лошадь. — Почти чистый спирт. Забористая штука.
— От нее твой хер уткнется на полшестого, — кивнув, добавил его приятель. Руки его безвольно висели вдоль тела, красные и синие жилы делали их похожими на дорожную карту.
Я никогда в жизни не пробовал ничего подобного, но, конечно, читал о таких напитках. Это зелье обычно перегоняют в карбюраторе, рискуя в любой момент взорвать гараж.
— Если оно такое крепкое, — сказал я, — то почему бы не смешать его с виноградным соком или чем-нибудь еще?
Они посмотрели на меня так, будто я предложил смешать с содовой «Шатонеф-дю-Пап». Отступать было поздно.
— Ты слышал, что он сказал? — спросил Чет.
— Да, он просто ничего не понимает, — ответил подрядчик.
Они собрались уйти. Учитывая, что по пути к ним я уже выписывал немыслимые кренделя, я понял, что второй случай может и не представиться.
— Подождите, дайте мне хотя бы попробовать, ну, честно!
Чет посмотрел на подрядчика. Подрядчик — на Чета. Они одновременно пожали плечами. Чет полез в широкий боковой карман куртки и извлек оттуда фляжку.
— Осторожно, сначала вдохни.
Я опрокинул фляжку подсмотренным у них жестом и сделал основательный глоток. Мне показалось, что по моему пищеводу побежала дюжина олимпийских факелоносцев с горящими факелами. Это была не жидкость, а живой огонь.
— Ааах! — Я выплюнул проглоченное на Чета.
— Эй, приятель, это вообще-то моя куртка.
— Аааах! Аааах! — Рот и глотка горели огнем, и я, схватив ближайшую бутылку, принялся пить из горлышка бурбон. Это немного помогло. Подрядчик дал мне ломтик лайма, это помогло еще больше. Чет забрал у меня фляжку, оба постояли некоторое время, глядя на меня, а потом ушли.
Я сделал несколько шагов в противоположном направлении, но наткнулся на свернутый ковер и тяжело уселся на него. Сидеть на нем оказалось удобно, тем более что рядом оказался забытый кем-то стакан со свежей выпивкой. Взяв стакан и приняв приличный вид, я решил пока остаться на этом месте. Отсюда мне были видны только ноги, а потом я перестал видеть и их, так как кто-то приглушил свет. Приехали еще гости — среди них ноги Джона Финли и его жены. Джон был мужчина с факультета и поэтому был на прицеле студентки-правоведа, но она лишь небрежно махнула ему рукой. Да, она была высоким профессионалом, которого невозможно отвлечь от дела всякими пустяками. Теперь она откидывала волосы со лба Джозефа и временами ласково гладила его по щеке. Теперь дело должно было дойти до поцелуя, но поцелует она его в губы или просто чмокнет в щечку? Она просто лизнула его, и я едва не закричал, что нас надувают.
— Боже, это уже пятый за семестр. — Лора уселась на ковер рядом со мной и ткнула пальцем в рекордсменку. — Не знаю, как она это делает, то есть я, конечно, знаю, как она это делает, но не могу понять зачем.
Лора очень забавная женщина, и я рассмеялся. Ее глобусы медленно вращались под мочками ушей. Я поднял свой стакан, чтобы чокнуться с ней, но обнаружил, что он почти пуст.
— Мне нужно еще выпить, — остроумно заметил я.
— Давайте поменяемся. Я сегодня и так уже слишком много выпила, — она уловила мое дыхание, — как, впрочем, и вы.
— Это явление временное, только на сегодняшний вечер.
— Угу. Где Сьюзен?
— Где-то там. — Я огляделся, но там Сьюзен не было.
— Вы не танцуете, а, Дон?
Я собрался было ответить, но в это время меня пнули в голень, какой-то расплясавшийся идиот. Им оказался муж Лоры Роберт, дрыгавший во все стороны своими длиннющими ногами. Еще бы, в Роберте было не меньше шести футов шести дюймов роста. Звучала музыка «Роллинг стоунз», и между ногами Роберта показалась Нэнси, пытавшаяся поспеть за своим кавалером.
— Сукин сын.
— Простите, я вас ударил? — спросил, обернувшись, Роберт.
— Нет, это живой и очень чувствительный ковер. — Я отхлебнул из стакана Лоры — в нем оказалась водка с чем-то.
— Давайте немного отодвинемся, — предложила Лора, и так мы и сделали.
Вскоре мы увидели Макса и Холли, которые совершенно безответственно крутились посреди гостиной. Скажу вам, что для такой полной дамы Холли скакала и вибрировала не худшим образом, во всяком случае лучше, чем ее партнер. Макс всеми своими манерами доказывал давно известную истину: гены танца неравномерно распределены между полами. Координация движений у Макса была, конечно, лучше, чем у совершенно не умеющего танцевать Роберта, но зато он был слишком решителен и скован в своих движениях. Даже во время медленного танца, когда Холли томно извивалась, Макс продолжал напряженно дергаться взад и вперед. Кажется, он мог пребывать только в двух взаимоисключающих позициях — либо держать Холли в объятиях, либо находиться в ее объятиях. В какой-то момент я представил его голым и танцующим одновременно.
Я попытался встать, чтобы налить себе еще, но мои ноги таинственным образом застряли под ковром и отказались мне повиноваться. По какому-то волшебству Лора раздобыла где-то еще один полный стакан и тоже отдала его мне. Рука ее освободилась, и она указала на Холли:
— Это преемница Мэриэн.
— Я знаю.
— Мне нравится Мэриэн.
— Мне тоже. — Я старался быть дипломатом. — Но думаю, что Максу очень нравится Холли.
— Еще бы, этой Холли так много. — Лора отхлебнула из стакана. — Максу надо проверить голову.
— Вот уж не знаю.
— Что вы хотите этим сказать?
Я постарался разобраться, что я имею в виду, но это оказалось неимоверно трудной задачей. Этот последний стакан напрочь выключил у меня тот участок мозга, которым я обычно думаю. Но я честно старался ответить. Удивительно, почему алкоголь заодно не отключает центр речи?
— Ничего страшного, Дон.
Она посмотрела на танцующих в тот момент, когда Макс перешел в активную позицию, обхватив Холли за туловище. Один из терьеров Нэнси бестолково топтался у них в ногах.
— Я просто плохо знаю Макса, — сказала Лора.
— Да, мне трудно говорить, — согласился я и попытался вытянуться на ковре, но от этого у меня закружилась голова, и я снова сел. Руки и ноги почему-то отказывались мне повиноваться и как будто вообще отделились от тела. Мне почему-то взбрело в голову, что я соберусь, если буду танцевать. — Потанцуем?
Лора поставила стакан на пол (где на него точно наступит Финли) и согнула свои калифорнийские ножки.
— Почему нет?
Она милостиво помогла мне встать на ноги — сразу на обе.
Все остальное я помню весьма смутно. Мы наткнулись на несколько пар, хотя, как мне кажется, я так и не смог расквитаться с Робертом за пинок. Музыка становилась все громче и быстрее. В какой-то момент мне показалось, что я вижу Энди Хиллмена, владельца «Полька-Дот». Я моргнул, и Энди исчез. Я постарался моргнуть так, чтобы увидеть Роберта, но у меня ничего не вышло. Помню, что я крутил Лору вокруг себя или только пытался, так как она кричала, что это модно. В тот момент я, вероятно, оторвался от нее и полетел в пространство, увлекаемый центробежной силой. Последнее, что я помню, — это как я, заложив руки за спину и наклонив голову вперед, несусь мимо танцующих пар, нацелившись головой в широкий зад Холли.
12
В воскресенье утром меня разбудили типично южные ароматы: пахучие молекулы яичницы, сосисок, крекеров и кофе. По счастью, нос продолжал работать, тогда как остальные органы чувств казались безнадежно испорченными. Глаза, густо присыпанные сонной пылью, не желали открываться, уши были восковыми, как у кукол мадам Тюссо. Пальцы набрякли и не гнулись, в отличие, как это ни странно, от члена. Во рту было такое ощущение, словно в нем всю ночь топтались в испачканных навозом сапогах. Помнится, в старом фильме «Филдс и я» главный герой просыпается утром и говорит, что ему кажется, что на его голове капюшон с узкими прорезями для глаз. В фильме так оно и оказывается. Я пощупал голову, но капюшона не обнаружил, хотя могу биться об заклад — он там был.
Все, что осталось от Сьюзен, — это вмятина на постели длиной пять футов пять дюймов, все остальное стояло на кухне у плиты. Из этого я заключил, что ночью мы страстно занимались любовью и теперь она хочет традиционно накормить утомленного мужа. Запах был таким соблазнительным, что без промедления вытащил меня из гостеприимной постели; по дороге я ударился голенью о дверной косяк, сообразив, что чувство равновесия ко мне пока не вернулось. Я прихромал на кухню как был, в отвисших трусах, и увидел Сьюзен — с лопаточкой в руке, в повязанном переднике и персиковых штанах. Я видел только ее затылок, но точно знал, что она улыбается.
— Првт.
— Что ты сказал, дорогой?
Я попытался еще что-то сказать, но горло оказалось забитым тягучим комом мокроты. Мой дед начинал день с того, что высовывался в окно и отхаркивался в кусты. Я последовал его примеру. Иногда этот ком выглядел как прилипший к листве и постепенно удлиняющийся моллюск. Я протер глаза. Моллюск был на месте, так же как и я — с прежним отвратительным вкусом во рту. Стоя у плиты, Сьюзен ловко бросала порезанные сосиски на крекеры и укладывала все это на тарелку.
— Иди поклюй.
— Мм спрвнпртдш.
— Что?
Я сделал титаническое усилие.
— Мне сперва надо принять душ. Тогда я стану человеком. Потом ты расскажешь, что я вчера делал.
Я, грациозно спотыкаясь, направился в ванную, благословенный источник утреннего комфорта. Я не стал предлагать Сьюзен свою помощь: кухня — ее священное владение. Всякие гендерные споры были совершенно неуместны и вредны. Однажды, когда я приготовил для Сьюзен завтрак, она дулась на меня целый день.
Через десять минут я сидел за кухонным столом, а Сьюзен обслуживала меня, стоя за спинкой стула. Кофе был изумительно крепок; жена добавила в него цикорий — для остроты. Я сделал добрый глоток, чувствуя, как божественный коричневый жар вливается в мои жилы, замещая дурную кровь. Сок сосиски пропитал крекер, и я физически ощутил всю вредоносность этого блюда, проглотив первый кусок. Полужидкий желток лопнул, и его масса, как лак, покрыла острия вилки. Чисто южная диета смертельна, но временами неотразима. Сьюзен наблюдала за тем, как я ем с видом служителя зоосада, кормящего диковинное наземное животное. Мимолетно я подумал, не так ли выглядит Холли, когда ест.
— Ты вчера был очень забавным, — сказала Сьюзен.
— Забавным в смысле смешным или забавным в смысле дурным?
— Просто забавным. Нэнси тоже так думает.
— Черт, и что же я говорил?
— О, ты много чего говорил.
Я потер лоб, изо всех сил пытаясь вспомнить, что я говорил вчера ночью, но в голове вместо мыслей и воспоминаний была какая-то вата. Единственное живое воспоминание — я лечу головой вперед, атакуя арьергард Холли.
— Холли не очень злилась из-за того, что… э-э… произошло?
— Злилась на что? — спросила Сьюзен, не донеся вилку до рта.
— Разве я не врезался в нее? Я имею в виду, когда танцевал.
Сьюзен неопределенно покачала головой:
— Думаю, что ты танцевал больше в своем воображении. Кстати, Холли почти все время паслась у буфета, а Макс был просто отвратителен.
Я устало кивнул. Но я помнил, что Сьюзен большую часть вечера провела на кухне. Должно быть, она вышла оттуда на поздней стадии моего умопомрачения, о которой я уже ничего не помнил. Может быть, мне стоит спросить Макса, а еще лучше вообще забыть об этом?
Сьюзен обвила мою шею теплой рукой и наградила яичным поцелуем.
— Я люблю, когда ты пьян. Ты перестаешь быть серьезным и академичным. Это хорошо. Кстати, ты был вчера очень хорош в постели.
На этот раз я не стал интересоваться подробностями. Я сделал еще один глоток кофе, стараясь притворяться лукавым и озорным, наслаждаясь теплом от окна, желтого ядра яичницы и женой, уткнувшейся носом в мою небритую шею. Я получал истинное удовольствие от еще одной южной традиции — воскресенье, проведенное в раскаянии, служит душевному выздоровлению.
Понедельник вернул меня к нормальной жизни. «Дейли Миссисипиэн» предпочла не сообщать о вечеринке в доме преподавателя права Нэнси Крю. Вместо этого газета представила отчет о состоянии Вилли. Добровольцы собирали теперь пожертвования на каждом футбольном матче. «Оле Мисс» победил команду Луизианского университета. Фонд помощи Вилли превысил сто тридцать тысяч долларов. Опекун Вилли — в довершение всех бед Вилли оказался сиротой — сказал корреспонденту газеты, что его подопечный не падает духом. «Господь не оставляет сильных духом», — сказал он.
На шестой странице я нашел короткую заметку об Эрике: препод английского возвращается в тюрьму. Процитировано оскорбление суда. Приведена также цитата из выступления самого Эрика: «Я останусь узником системы до тех пор, пока эта система не будет реформирована». Интересно, что теперь читает сокамерник Натаниэль — неужели «Капитал»? Или Натаниэля уже выпустили?
Через неделю будет День благодарения. Значит, в понедельник и вторник начнутся проповеди в полупустых аудиториях. Некоторые преподаватели уже неофициально отменили занятия. Я не иду на такие уступки даже под давлением, но в эти дни провожу занятия по облегченной программе. Элейн Добсон, единственное преимущество которой заключалось в том, что она женщина, решила отыграться тем, что устроила на предпраздничной неделе внеочередной экзамен, но это тоже не принесло никакой пользы — мало того что ей придется в праздники проверять сочинения, надо будет заставить отработать пропущенное студентов, проигнорировавших экзамен.
Студенты «Оле Мисс» — народ увертливый и ненадежный. Если даже их прижать, они все равно найдут способ увильнуть. Они придумывают самые разнообразные неотложные дела и обстоятельства — чаще всего для этого избирается смерть бабушки. Два года назад у меня учился студент, у которого за семестр умерли три бабушки. Но здесь надо проявлять осторожность. У меня была студентка, которая постоянно ссылалась на болезнь. Когда я, окончательно выведенный из себя, вызвал ее в свой кабинет, оказалось, что девушка действительно больна лейкозом.
В университете обучается очень много молодых людей, поэтому нет ничего удивительного в том, что старуха смерть часто витает над кампусом. Три года назад на пять студенток, шедших спортивной ходьбой из Бейтсвиля, наехал грузовик. С тех пор на дороге номер шесть проводится ежегодный мемориальный марафон. Каждый месяц кто-то погибал, обычно из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Бывали таинственные опухоли, тихие раки, причем они поражали самых лучших студентов, родители которых вносили большие суммы в фонд университета, если к ним находили правильный подход в канцелярии «Оле Мисс». Странный инцидент произошел однажды даже в салоне загара — НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАГАР! СТУДЕНТАМ СКИДКИ! Одна девушка переусердствовала и сварила свою печень. Иногда я вспоминаю об этих преждевременных смертях, когда прохожу мимо старого конфедератского воинского кладбища, расположенного неподалеку от кампуса. Гражданская война — это апофеоз ранней смерти.
Кладбище было небольшим, на нем даже не было могил. Оно находилось сразу за мемориальным колизеем Теда Смита, на развилке дорог, отмеченной двумя столбами бывших здесь когда-то ворот. Аспидно-серые сланцевые ступени вели на середину аккуратно подстриженной лужайки, в центре которой возвышался обелиск. На обелиске была укреплена позеленевшая от времени бронзовая плита с поминовением семисот умерших — не тех, кто погиб в бою, а тех, кто умер в госпитале, в который на время войны был превращен университет. Большинство их были ранены в бою у Шило, но были и другие, и даже несколько солдат армии Гранта. Имен было перечислено всего восемьдесят, остальные — «ИЗВЕСТНЫ ТОЛЬКО БОГУ».
Рой Бейтсон клялся, что видел здесь духов, но они, скорее всего, являлись ему из бутылки. Сам я временами с удовольствием посещал кладбище — там было так тихо и покойно. Лужайка поросла по-весеннему мягкой травой, а не жесткими колючками, как в кампусе. Двор кладбища окружала низкая стена, хранившая атмосферу прошлого, а по периметру позже были посажены дубы, отбрасывавшие на траву шевелившиеся в унисон ветру тени.
Я только что отпустил студентов с последнего перед Днем благодарения занятия — присутствовало всего двенадцать человек, больше озабоченных билетами на самолет, нежели «Молль Флендерс»[5], и теперь мне надо было успокоить мою больную совесть. Я решил пойти на кладбище. Было самое подходящее время для такого посещения — солнце уже скрылось за деревьями, предвещая покой наступавшего вечернего полумрака. Самым подходящим словом, конечно, было «сумрак». Кладбище было к тому же самым подходящим местом для того, чтобы проникнуться духом «Грозового перевала», романа, стоявшего следующим в программе. Я оставил записи в кабинете и отправился на край универсума, или хотя бы университета.
На территории учебного заведения с десятью тысячами студентов всегда кто-то есть, но не в дни, когда всех ждут родственники на День благодарения. Я не видел ни души. На стоянке томился одинокий «форд»-пикап. Передний бампер был в засохшей грязи. Машина была похожа на большого замызганного пса, ожидающего загулявшего хозяина. Я обогнул колизей и по дорожке пошел к кладбищу. Деревья шептали что-то невразумительное. Проходя мимо каменных столбов, я услышал сдавленный крик.
Я не суеверен, не верю в привидения, перевоплощения или в астрологические гороскопы. Но это не значит, что я не ведающий страха глупец. Остановившись у столба, я огляделся, но ничего не увидел, так как углы кладбищенской ограды тонули в черно-зеленой тени. Потом крик повторился — доносился он откуда-то слева. Дальше я не пошел, но теперь знал, куда смотреть.
Сначала мне показалось, что я вижу двух человек с одним торсом. Приглядевшись внимательнее, я различил двух человек — одного большого, другого — меньше. Тот, который был больше, приподнимался и опускался над вторым. Казалось, этот человек своей непомерной тяжестью сокрушает второго. Как свайный копер. Правда, этот верхний был, без сомнения, женщиной, и, залившись краской, я понял, что наткнулся на то, что южане на своем светски-деревенском жаргоне называют встречей. Люди занимались любовью в высокой траве, куда не добирались служители с газонокосилками. Я подкрался ближе.
Наверху была Холли, которая во плоти выглядела именно такой, какой я ее себе представлял. Большие круглые груди выпирали, болтаясь, над огромным белым животом, широкий зад поднимался и падал, как невероятная розовая секс-машина. Чтобы не раздавить лежавшего под ней человека, Холли упиралась в траву коленями. Человек внизу должен быть Максом, хотя я видел только пару ног, торчащих из-под толстых бедер Холли. Эти ноги были похожи на какой-то странный анатомический отросток, тоже принадлежащий женщине. Когда мои глаза привыкли к темноте, я смог разглядеть темные жилистые руки Макса, обхватившие бока Холли и погрузившиеся в ее мягкое тяжелое изобилие. Остальная часть Макса была скрыта широкой спиной партнерши, полотнищем кожи на фоне молчаливых стеблей зеленой травы.
Я задержался там дольше, чем мне хотелось. Холли с криком кончала, причем не единожды. Каждый раз, после паузы и тихого гортанного крика, она наклонялась вперед, чтобы снова вставить, или, быть может, она просто расправляла и укладывала по-новому конечности Макса. Макс за все это время не издал ни звука. Наконец я опомнился и, крадучись, вышел с кладбища. Оглянувшись, я увидел, что теперь кладбищенский двор погружен в темноту, словно деревья опустили ветви и прикрыли его от света.
Об этом случае я тоже не стал рассказывать Сьюзен. Список тайн рос. Правда, она ни о чем не спрашивала, а я ничего не говорил. Кроме того, как я мог описать увиденное и как бы она к этому отнеслась? Сьюзен не была ханжой, но мы мало говорили о сексе. То, что увидел, я решил приберечь для себя. В эту ночь я мастурбировал, представляя себе Макса и Холли.
Ноулзы пригласили нас на праздничный ужин, но мы, выразив искреннее сожаление, отказались, и на следующее утро мы вместе со Сьюзен поехали к ее родителям в Мейкон. Такой же визит мы нанесли им в прошлый День благодарения, так как в этот день надо было навестить семью, но ехать в Филадельфию на несколько дней — это слишком дорого. Не важно, что многие мои студенты летают на праздник в Техас, — у них скидка на билеты. Что касается Макса, то Сьюзен несколько дней переживала по его поводу, но успокоилась, узнав, что Споффорд пригласил к себе сотрудников кафедры. Лучше скучать, чем остаться в одиночестве — это изречение должно стать южным афоризмом.
Что касается меня, то я прекрасно знал, что нас ждет. Отец Сьюзен, пенсионер, бывший учитель средней школы, будет по-прежнему шутить по поводу гражданских прав, теща будет кормить нас местными сплетнями, будто мы всегда жили в этом же городе, а Сьюзен порадует родителей, снова превратившись в красавицу южанку. Они относились ко мне как к полноправному члену семьи — это грело душу, но было весьма скучно и утомительно, так как я категорически отказывался меняться и превращаться в южанина. Приедет брат Сьюзен Стив — адвокат из Атланты — с розовощекой женой и детьми, а вечером мне придется качать одного из них на коленях. Еда будет обильной: ветчина, индейка, лук, овощи и непременный ореховый пирог. То, что мы не съедим в первый вечер, настигнет нас наутро и будет преследовать до самого отъезда в воскресенье.
Вероятно, я представляю это в худшем виде, чем оно было на самом деле. Это семейное мероприятие было куда более безвредным, чем многие подобные праздники, о которых мне приходилось слышать. По крайней мере, семейство Сьюзен поддерживало беседу, не давая мне скучать в одиночестве. И даже если эта поездка не соответствовала отпуску моей мечты, мне было хорошо просто оттого, что представился случай уехать в Джорджию. Но я ошибся. Определенно есть вещи, к которым нельзя вернуться — родной дом, детство, — но есть и другое — вещи, от которых невозможно уйти.
13
Мы вернулись в воскресенье, насладившись приятной скукой праздника, каковую я и предсказывал. Отец Сьюзен рассказал нам, что, когда он был молодым, в городском парке было три питьевых фонтана: один для черных, один для белых, один для мулатов. Мать Сьюзен сообщила ей, что Эллен Уиллер родила мальчика, и поинтересовалась, когда и мы пойдем в этом же направлении. Детки Стива были такими же умненькими, как и год назад, а трехлетний сынишка без запинки научился произносить «чертов янки». Запеканка из сладкого картофеля и ореховый пирог были восхитительны, и к воскресенью Сьюзен мучилась от несварения, а я переусердствовал с бурбоном тестя и страдал похмельем.
Из Джорджии мы увезли не только воспоминания, на заднем сиденье лежали большие пакеты из алюминиевой фольги, набитые едой. Дорога была скучной и длинной. Дорога из Оксфорда в Мейкон всегда кажется более короткой, чем обратная. Это не игра воображения. Дорога номер двадцать забита машинами, в которых семьи возвращались из гостей, такие же объевшиеся и усталые, как мы, и, наверное, с такими же остатками в багажниках.
Возле Бирмингема мы попали в необъятную пробку, и Сьюзен уснула у меня на плече. Рот ее слегка приоткрылся, длинные золотисто-каштановые пряди разметались по пиджаку, и я почувствовал себя защитником. Нет ничего тяжелее, чем голова доверяющей тебе женщины на твоем плече. Она доверчиво передает тебе всю свою тяжесть, надеясь, что ты все возьмешь на себя. Эта ноша становится особенно тяжелой, если ты не особенно уверен в себе.
За прошедшие два дня я так и не поделился со Сьюзен тем, что было у меня на уме. Во-первых, я не знал, как она на это отреагирует. Во-вторых, я и сам толком не знал, что ей говорить. И дело не в том, что мы со Сьюзен были одной из тех пар, которые не общаются. Мы часто обменивались новостями о людях, которых знали. Но это было совсем другое. Я не мог сказать почему, но тем не менее не мог и заговорить об этом с женой.
Я не стал делиться с ней ни тем, что я узнал о Максе, ни тем, что я об этом думал. Рот мой был закрыт на замок, но зато по ночам на свободу вырывалось мое сознание. В последнее время мне все чаще стали сниться сны, которые я, за неимением лучшего слова, назвал бы снами в кафетерии. Какова бы ни была последовательность приснившихся мне событий — опоздание на поезд, блуждание по незнакомому отелю, — все неизменно заканчивалось тем, что я оказывался в большом кафе, где обслуживались все, за исключением меня. На лотках стояло все — куски мяса, овощи и десерты, — но все это никак не могло попасть на мой поднос. И не то что я сильно страдал от голода, нет, мне было обидно, что все-все, кроме меня, преспокойно едят и радуются жизни.
Снились мне и настоящие кошмары: кладбища взмывали в воздух и улетали прочь, трупы ворочались в гробах, высовывая руки из-под крышек. Мне снилось, как мраморный конфедерат на площади ест пончики, но джемом и жиром при этом вымазано было почему-то мое лицо. От этого последнего ужаса я проснулся среди ночи, судорожно вцепившись в мягкую подушку. Проснулась Сьюзен и виновато погладила меня по руке. Она пробормотала, что это несварение, и я не стал ей противоречить.
Мне страшно хотелось поговорить с Максом. У меня никогда не было таких сновидений до знакомства с ним.
Сны не оставляли меня в покое. Они повторялись и множились. Чем больше я замыкался в себе, чем менее откровенным я становился, тем пышнее расцветали образы сновидений, и из-за них я становился еще менее разговорчивым и еще более скованным. Во времена Ренессанса круг был символом целостности и возвращения, но теперь круг стал порочным — он никогда не заканчивается. Идите и обвините во всем Беккета. Конечно, нельзя думать, будто ты и твое страдание — это единственное, что существует в мире. Глядя на скопление машин впереди, я украдкой бросал взгляды на спящую Сьюзен, раздумывая, что происходит в ее душе. В тот момент, когда я на нее посмотрел, жена рефлекторно сглотнула и сделала губами такое движение, словно что-то куснула. Вегетативная нервная система дает знать о себе? Что она видит? Сцену пира? Или, быть может, она сейчас пребывает в теле рыбы и хочет схватить муху с синего купола водоема? У меня не было ответов на эти вопросы, и я просто обнял ее за плечи, а свободной рукой повел машину к дому.
Утро понедельника. Я стою в канцелярии кафедры, забираю почту и вбираю в себя атмосферу. Праздник кончился, всем грустно и тяжело. Студенты бродят по коридорам, как мыши в лабораторном лабиринте. Миссис Пост разбирает конверты и резинки на столе, не удосужившись приклеить на лицо фальшивую улыбку, приберегаемую сегодня исключительно для незнакомцев. День благодарения породил всеобщую постпрандиальную депрессию. Вошла мрачная Элейн в строгой юбке, несущая в руке стопку контрольных.
— Никогда больше… — бормочет она.
— Никогда больше контрольных перед праздниками?
— Нет, никогда больше не полечу на праздники в Нью-Джерси к куче родственников, которых я не выношу. — Она на некоторое время задумывается, а потом выносит суждение: — Здесь никакие контрольные не помогут.
Сгорбившись, входит Финли в поношенных джинсах и клетчатой рубашке. Не говоря ни слова, он достает из ящика почту и уходит.
Я ткнул пальцем в направлении двери:
— Что это с ним?
— Разве вы не знаете?
— Что я должен знать?
— Вы были на вечеринке у Нэнси Крю?
— Пожалуй. Да, я хочу сказать, что, конечно, был. Что там случилось?
— Ну, Джон отдохнул на чердаке Нэнси с девочкой-правоведом, ну с той, которая здесь что-то пишет. Жена пока ничего не знает, но люди на него косятся, и он теперь боится даже открыть рот.
— Джон?
— Угу.
Порывшись в мозгу, я извлек оттуда образ женской руки, треплющей бороду.
— Вы не думаете, что речь идет о Джозефе?
Элейн пожала плечами:
— Не знаю, я там не была, говорю, что слышала.
Я кивнул, изобразив согласие. Возможно, дама-юрист проявила большую активность, чем мне казалось. Или я был пьян больше, чем мне казалось. Зато я понял, как циркулируют сплетни в таком маленьком городке, как Оксфорд. Они распространяются, как осмотически активные молекулы в крошечной клетке, как электрический ток в коротком проводке. Тут еще я с моими фантастическими кладбищами, о которых никому не рассказываю. Может быть, мне все это вообще привиделось.
Конечно же, черт возьми.
Я решил повидаться с Максом завтра или послезавтра и прояснить вопрос. Так, ничего особенного, пара наводящих вопросов, не больше. Когда я вышел в холл, из своего кабинета показалась Мэри. На ней были голубые бусы — напоминание о днях ушедшей молодости и свободы.
— Эй, вы слышали? — воскликнула она. — Эрика освободили.
— Правда?
Очевидно, повторные слушания тоже прошли неважно, на этот раз судья приговорил Эрика к пятидесяти часам общественных работ. Я спросил у Мэри, что это будут за работы, и она ответила, что, скорее всего, ему придется поработать в местной школе. Я постарался представить себе эту картину. Пятьдесят часов — это очень много. Ребятки будут обожать британский акцент. Может быть даже, Эрику удастся воспитать новую марксистскую интеллигенцию из нынешних пятиклассников.
Я зашел в Студенческий союз, чтобы убить время перед обедом и морально подготовиться к вечерней схватке со статьей. Я стал рассматривать полученные конверты и сразу увидел его: письмо от Дороти Тробл, моего колумбийского товарища. Обратный адрес был незнакомым. Я неловко надорвал конверт и, остановившись, прочел:
«Дорогой Дон,
Прости, что так долго медлила с ответом. На случай, если ты не знаешь: я бросила докторантуру в Колумбийском. Эти тупые профессора, мрачная секретарша философского факультета — боже мой, некоторое время я даже не могла зайти на кафедру. Когда меня наконец впустили, я нашла твое письмо, которое мне никто, конечно, не удосужился передать. Еще один штрих в портрете учреждения, придающего новый смысл термину „кафкианский“…»
Я продолжал читать, как всегда останавливаясь на патологических подробностях. Бедную Дороти выселили из студенческого общежития, теперь она работает официанткой и снимает с подругой квартиру на Двадцать третьей улице. Еще одна находка ожидала меня в конце письма.
«Что касается Максвелла Финстера, — писала Дороти, — то я не уверена, что это он, но в прошлом году у одного из сотрудников исторического факультета были большие неприятности. Сексуальные домогательства по отношению к студенткам старших курсов — обычное здесь дело, но это было какое-то извращенное, как я слышала. В газеты это не просочилось, но все студенты о нем знали. Как бы то ни было, этот человек защитил диссертацию, получил степень и исчез. Бог знает, где он теперь».
Дочитав письмо до конца, я вдруг понял, что непроизвольно киваю самому себе. Возможно, в письме речь шла о другом человеке, но также возможно, что и нет. Теперь, правда, можно объяснить его добровольное изгнание на Юг. Он хотел уехать как можно дальше от неприятной ситуации. Так Макс и попал в «Оле Мисс». Правда, куда бы человек ни уехал, он обычно привозит с собой свои неприятные ситуации либо заново попадает в них на новом месте. Я прикусил губу и задумался. Справедливо ли судить человека на основании таких, с позволения сказать, доказательств или, лучше сказать, слухов? Конечно нет, хотя такому желанию очень трудно сопротивляться, тем более что его поведение соответствует тому, что изложено в письме. Но даже и в этом случае судить нельзя, так как человек, быть может, очистился от прошлых прегрешений. Из того, что я видел и слышал, было ясно, что Макс очень корректно ведет себя со студентками. Конечно, это похоже на поведение вылеченного алкоголика, который не берет в рот спиртного.
Можете назвать это грубым пренебрежением к общественной безопасности, но я решил, что все это меня не касается. Я хочу сказать, что решил ни во что не вмешиваться; у меня не было ни малейшего намерения ломать хорошие отношения с Максом на таком шатком основании. Я просто выброшу все это из головы. В ответном письме Дороти я выражу лишь мое сочувствие. Сунув письмо в карман, я отошел от почтовых ящиков и, подняв голову, увидел обычную круговерть тел; перекусывающие на ходу красивые футболисты в джинсах, несколько близоруких факультетских сотрудников, пытающихся справиться с банкоматом, двадцать одинаково обмундированных девушек из женского Студенческого союза, одновременно получающих почту, несколько студентов-азиатов с тревожными лицами, рассматривающих доску объявлений в поисках рекламы дешевого жилья, и так далее. Наверное, это влияние Макса, но в последнее время меня начала интересовать форма человеческих тел: хрупкие, похожие на птичек профессора классической филологии с крошечными кукольными ручками.
Молодой человек, огромный, как эпические персонажи Гомера, дружелюбно махнул мне рукой:
— Приветствую вас, доктор Шапиро!
Я добродушно кивнул в ответ, мысленно лихорадочно роясь в словаре имен. Здесь, в Союзе, я часто вижу своих бывших студентов, и хотя забываю их имена, но помню их лица, а часто и то, что они писали в своих сочинениях. Этот студент в прошлом году едва не провалился у меня на экзамене по британской литературе. Я заметил, что он прикрепил листовку к доске объявлений: какие-то велосипедные гонки в честь такого-то и такого-то. В следующую субботу. Это было что-то новое. Обычно студенческие братства искали спонсоров по-другому — устраивали пикники с барбекю, рекламировали товары или устраивали вечера. Естественно, студенты в большинстве своем не ездили на велосипедах. Некоторые умудрялись ездить на машинах даже на занятия из общежития, расположенного в трех кварталах от университета.
— И кого вы ожидаете там увидеть?
Если бы его руки не были заняты клейкой лентой, он бы почесал затылок, но руки были заняты, и на лице его просто появилось такое выражение, будто он чешет затылок.
— Не знаю, мы никогда раньше такого не устраивали.
Но потом природный оптимизм победил (помнится, этим оптимизмом он страдал и у меня в аудитории). Он самоуверенно улыбнулся:
— Но мы надеемся, что народу будет много. Вы ездите на велосипеде, доктор Шапиро?
— Нет, я избавился от него много лет назад, но я знаю людей, которые много ездят на велосипеде.
— Ага, ну так скажите им о нашей гонке! У нас будут хорошие призы.
Я снова киваю и отхожу. Макс, если заинтересуется, будет реальным кандидатом на первое место. Если повезет, то сможет выиграть какой-нибудь золоченый шлем. Во всяком случае, соревнование увлечет его. Я обязательно скажу ему о гонках. Время я успешно убил и теперь мог со спокойной совестью идти на обед. Я уже открывал дверь левого крыла, когда из правого мне помахала Мэриэн. Я ответил на ее приветствие.
— Дон!
В голосе ее прозвучала такая безнадежность, что я вернулся из холла в Союз. Идти домой было еще рано, и я мог потратить на разговор несколько минут. К тому же я не видел ее с того памятного вечера в «Теде и Ларри». Не было ли в том, что я избегал ее, того же чувства, с каким избегают встречаться с наполовину разведенными супругами? Для второй половины будешь всегда выглядеть соучастником. Я разговаривал с Холли, а значит, мог считаться изменником.
Но Мэриэн, по всей видимости, так не думала или, по крайней мере, не выказывала явно. Она поинтересовалась, как мои дела и что я буду делать в обед.
— Пойду домой. Но чашкой кофе я тебя угощу. — Дон Шапиро и его галантность.
— Нет, это я тебя угощу. Я и так задолжала тебе за пиво. — Улыбка ее вышла кривой.
Пока мы шли в кафетерий, я заметил, что она немного изменилась. Стала более подавленной. Лицо ее осунулось, и я понял, что она сильно похудела. Юбка, которая раньше была туго натянута, теперь висела на ней, да и грудь стала несколько меньше. Руки определенно стали тоньше; в них появилась угловатость, будто по ним прошлись остро отточенным резцом. На Мэриэн была зеленая блузка, мешковато свисавшая с плеч. Я невольно сравнил ее с надутой, как воздушный шар, Холли.
Я взял кофе со сливками. Очень люблю его вкус. Подозреваю, что Мэриэн он тоже нравится, но она взяла черный и принялась задумчиво размешивать ложечкой сахар.
— Так как ваши дела? — спросила она, хотя голос ее говорил нечто другое: «Так как мои дела?»
— Ничего особенного. — Я похлопал себя по животу, оттянул ремень. — Только что выздоровел от Дня благодарения. А что у вас?
— Все еще выздоравливаю. — Она обняла себя руками и стала пощипывать плечи.
Я прекрасно понимал, что мы говорим о разных выздоровлениях, но так как я не знаю, что делать со вторым их типом, то не стал ничего говорить, а отхлебнул кофе и добавил в него половину пакетика сахара. Студенты, сидевшие за соседним столиком, с шумом отодвинули стулья, встали и ушли.
— Я прошу прощения — вам со Сьюзен, наверное, кажется, что я вас избегаю.
— Вовсе нет. — Ее слова избавили меня от необходимости извиняться за такое же поведение.
Она просительно прикоснулась к моей руке:
— Дон, ты все еще дружишь с Максом?
— Мм, думаю, что да. Он твердый орешек, с ним можно быть закадычными друзьями.
— Ты его совсем не знаешь. — Мэриэн округлила глаза, отпила кофе и скривилась. — Он похож на животное, которое начинает защищаться, когда к нему подходят слишком близко.
Я очень явственно представил себе, как Макс ощетинивается или, как дикобраз, выставляет иглы.
— Но в нем есть что-то такое, что притягивает… Я не могу выразить это словами. Он… по большому счету настоящий. И делает меня настоящей и… значимой.
Я согласно кивнул. Что скрывать, я и сам мог бы произнести эти слова.
— Макс единственный. — Она пила кофе с таким видом, словно это было что-то алкогольное и болеутоляющее. — Я не могу перестать думать о нем.
— Лучше бы ты перестала.
— Я не могу. Я знаю, что он встречается с этой толстой дурой Молли…
— Холли.
— Не важно. Все видят, что она ему не подходит. Что он в ней нашел?
Богиню плоти. Так как не мог сказать это вслух, я в ответ лишь дипломатично пожал плечами. Бывают моменты, когда я чувствую себя британским университетским доном, или, быть может, это для меня просто один из способов защиты. Дон-дон.
— Все дело в сексе. Знаешь, у большинства людей есть фантазии, но Макс… — Она неловко поерзала на стуле. — Ты не поверишь.
Я подумал о письме в моем кармане.
— В самом деле?
— Я сама не могу поверить. — Она отвела взгляд и, шумно прихлебывая, чтобы скрыть смущение, выпила еще кофе.
Последовала тишина, и я громко отодвинул назад стул, чтобы встать и уйти. Она снова схватила меня за руку.
— Спроси его, когда увидишь в следующий раз… Спроси его, вспоминает ли он обо мне хоть изредка. Понимаю, что это глупо, понимаю, что мое место в доме для умалишенных романтиков. Но спроси его, ладно?
Я пообещал и поднялся с места. Она снова криво улыбнулась мне — или у нее всегда была такая улыбка? — и я оставил ее там, в центре моря столов и стульев кафетерия, пьющей черный кофе.
В этот вечер вместо тарелки Сьюзен положила передо мной на стол ключи от машины.
— Мы выезжаем в город, — объявила она и пошла переодеваться. — Ты обещал, помнишь? Когда я согласилась пойти на митинг Эрика.
— Но у нас до сих пор не съедены остатки от праздника.
— Я их заморозила. Мы съедим их на Рождество.
— Ладно. — Мне и самому не очень хотелось подъедать эти разогретые остатки. — Что вы желаете на ужин?
Сьюзен погладила себя по плоскому животу:
— Рыбу. Это неуемное желание посетило меня сегодня днем.
Итак, мы поехали в «Дарли», магазин в семи милях от Оксфорда. Для тех, кто этого не знает, поясню — самую вкусную еду готовят на кухнях гастрономических магазинов: в «Доке ит Плейс» в Гринвилле, где вы получите запеченный окорок величиной в половик, или в «Деб и Ронни», где вам дадут мыльные хлопья и ведро для наживки, если вы закажете мясо с двумя видами овощей. Магазин «Дарли» стоит рядом с почтой, в пятидесяти футах — знак парковки. Это весь центр городка Тэйлор. Сам магазин помещается в обшарпанном здании с парой котов, лениво греющихся на крыльце. «Ешь, или мы оба умрем с голоду» — написано красно-синими буквами на полотнище, укрепленном на стоящем перед входом столбе.
«Дарли» предлагает покупателям самую вкусную рыбу в округе, а в Миссисипи это значит очень многое. Правда, здесь не разрешают запивать рыбу пивом, так как некоторое время назад какие-то футбольные фанаты «Оле Мисс», напившись пива, едва не разнесли магазин, но зато позволят выпить принесенную с собой в бумажном пакете (для маскировки) бутылку вина — видимо, владельцы считают, что любители вина культурны и не позволят себе устроить дебош. У нас была с собой бутылка шардоне, катавшаяся под передним сиденьем. И я и Сьюзен были одеты в драные джинсы. Грег, бывший весьма брезгливым человеком, всегда призывал людей, которых он приглашал в «Дарли», одеваться попроще. Запах жареной рыбы въедался в одежду, волосы, рубашку и даже в нижнее белье и носки. Основное рыбное блюдо подавали с капустой, смешанной с мелкой рыбешкой, все это было очень жирным, как шутливо говорили, с витамином Ж. Но рыба всегда была свежей, плотной и вкусной до самых костей. Ничего подобного я не ел никогда.
Пока мы ехали по старой Тэйлорской дороге, я спросил Сьюзен, как она провела день. Она ответила, что ездила по общественным делам относительно благоустройства дорог, так как пропустила много мероприятий, за что я нес персональную ответственность. Впрочем, сильного чувства вины я все же не испытывал. В последнее время Сьюзен, кроме того, работала в местном госпитале на общественных началах, ухаживая за больными, но без традиционного джемпера в красную и белую полоску. Она говорила, что все идет хорошо, но врачи невыносимые снобы. Я посоветовал уделять этому делу больше времени, и она согласилась. Тема для разговора была исчерпана, и мы замолчали.
Мы проехали еще милю, прежде чем я нарушил молчание:
— Сегодня я видел в Союзе Мэриэн.
— И?..
— Она, кажется, подавлена.
— На ее крыльце все еще горит свет?
Я очень люблю Сьюзен за ее изречения. Иногда она может сказать что-нибудь вроде «продолжает нести факел». Я пришел в полный восторг, когда она однажды произнесла «шестигранный поедающий змей мерзавец».
— Да, что-то еще горит. Она хочет, чтобы я прижал Макса и спросил его о его истинных чувствах.
— Не думаю, что это хорошая мысль.
— Мне показалось, что он тебе нравится.
— Больше нет. Да, я думаю, что он интересен, но доверять ему нельзя.
Меня возмутило это заявление. Сьюзен считает, что знает больше меня. Если бы я спросил ее, почему она так думает, то она наверняка ответила бы, что это «женская интуиция», и поэтому я промолчал. Это было нечестно так безапелляционно говорить о Максе, с которым она встречалась в два раза реже, чем я. Интуиция — это не то же самое, что знание, и никто не безупречен, при всех своих блестящих мыслительных способностях. Когда мы подъехали к «Дарли», то обнаружили, что света в окнах нет, а двери заперты.
— Я забыла, — жалобно сказала Сьюзен. — «Дарли» не работает по понедельникам.
— Я должен был об этом помнить, — возразил я. — Прости.
— Нет, это моя вина. — Она взяла меня за руку, и мы простояли у магазина минуту-другую.
Потом я развернулся, и мы поехали в рыбное заведение в Аббевилле — кафе с красными кабинками и более разнообразным меню. Некоторые считали, что там лучше, чем в «Дарли», но это совсем разные вещи. Когда мы вернулись домой, то, открывая дверь, я услышал телефонный звонок. Даже не снимая трубку, я знал, что спросят Джейми.
14
Как вы относитесь к людям, с которыми работаете? Кто они — друзья, коллеги, соль или прах земли? Что скажете о подчиненных, если таковые имеются? Если вы преподаватель, то считаете ли студентов своими подчиненными? Я размышлял над этими вопросами, которые Макс задал мне во время перерыва, входя в аудиторию, чтобы покончить с Эмили Бронте.
— Бывают дни, когда студенты работают на меня, — сказал Макс, — как будто я капитан корабля. Но иногда я чувствую, что в воздухе пахнет бунтом.
По какой-то причине он опустил главное — господствующую на занятиях апатию. С кафедры преподаватель может видеть всех студентов: пустые взгляды, спрятанную газету, оцепеневший взгляд — каждое выражение, каждый жест. Это всеведение преподавателя — тайна, о которой студенты не подозревают до тех пор, пока я им ее не открываю. Я делаю это не для того, чтобы они знали, что Большой Брат смотрит на них, а для того, чтобы они знали, что мне не безразлично, слушают меня или нет. Я верю в мотивацию, каковая всегда возникает из смеси заинтересованности и страха. Любой, кто верит во врожденную склонность к учебе, провел слишком много времени за чтением Руссо, имея слишком малый стаж практического преподавания.
После такого пространного вступительного замечания позвольте мне все же признаться в том, что я искренне люблю моих студентов. Одни из них были умны и талантливы, другие забавны, третьи испытывали трудности, но в большинстве своем они старались учиться. Была Лайза Дженкинс, которая всегда шутя получала сто баллов; Тим Брэдфорд, мучительно морщивший лоб при ответе; Чарлин Додд, знавшая, что ее улыбка зачтется ей даже в письменной работе; Дэн Малоун, которому в голову постоянно приходили идеи, поражавшие его самого. Были и многие, многие другие, о которых я думал в течение семестра. Любимыми моими студентами всегда были те, кого я в тот момент учил. Не думаю, что смогу определить наши отношения лучше, чем «учитель-ученик». Относился я к ним искренне, они не были мне безразличны. Некоторые из них даже звонили мне домой, так как я советовал им так поступать в важных случаях.
Но я не был готов к звонку Черил Мэтт, которая позвонила мне днем в четверг. Надо сказать, что в тот день Черил не пришла на занятия. Это уже было необычно, так как Черил была из тех студентов, чьим главным достоинством является упорство. Она не только была умна и способна; ее, кроме того, отличали внимание и трудолюбие. Она всегда приходила на семинары подготовленной. Черил — застенчивая улыбка, тихий голос.
Голос, который я услышал в трубке, был глухим, речь невнятной. Сначала я решил, что кто-то ошибся номером. Потом я узнал Черил.
— Черил, это ты?
— А… да. Вы… вы можете мне помочь? Простите, что я сегодня пропустила занятия.
— Бог с ними, с занятиями. Что случилось?
— Я… я попала… Я хочу сказать, что я старалась… о боже…
— Все хорошо, Черил, все в порядке. Возьми себя в руки и скажи, что произошло.
Я слушал, то там, то здесь подсказывая ей нужные слова, но в целом я не знал, что сказать. Несколько раз она замолкала и вообще вела себя так, будто совершила какое-то тяжкое преступление, будто просила за него прощения. И это было хуже всего.
Все началось с того, что ее предложил подвезти друг отца. Ей надо было по дороге в университет заехать к себе на квартиру, и она согласилась, благо что он ехал в ту же сторону.
«Запрыгивай», — сказал он, и я явственно представил себе, как он это сказал, я слышал это так же ясно, как то же слово, произнесенное ломким голосом Черил. Она запрыгнула. Он начал приставать с непристойными предложениями. Она притворилась, что не слышит. Когда они доехали до места, он пошел за ней в дом и изнасиловал.
Наверное, слово «изнасилование» не самое здесь подходящее. Он не смог проникнуть в нее. Черил была девственница и весила около девяноста фунтов. «Что за черт?! — заорал он. — Ты же студенточка. У тебя там грузовик должен проехать». Он нанес ей несколько ударов. Когда у него ничего не вышло второй раз, он приподнял ее и дважды ударил о стену, а потом ушел. Она пролежала на полу около часа, а потом решила позвонить мне.
Мне. Своему учителю. Учителю, который говорил, что ему можно звонить в важных случаях. Боже. Я сказал ей, что сейчас перезвоню и чтобы она никуда не уходила. Я вызвал скорую, перезвонил Черил и сказал, что сейчас приеду. Вскоре я подъехал к ее квартире — на первом этаже выкрашенного сепией дома на Колледж-Хилл-роуд. Я постучал, и дверь открылась сама. Она косо висела на петлях, словно кто-то почти выломал ее. Я присмотрелся внимательнее и понял, что так оно и было.
Черил была в спальне и выглядела хуже, чем я предполагал. Он выбил ей два зуба, избил и, кроме того, сломал ей одно или два ребра. Вся комната и Черил были забрызганы кровью. На полу лежали разорванные желтые шорты, и она обмотала пояс белой хлопковой блузкой. Несмотря на это, она умудрилась выглядеть скромно. Она тихо стонала, до тех пор пока не приехала скорая помощь — два парня в одинаковых зеленых куртках и шапочках.
— Мы заберем ее, — сказал один из них таким тоном, словно в этом могли быть какие-то сомнения.
— Похоже, у нее сломано ребро, — сказал другой.
Ребята были из Баптистского мемориального госпиталя, в миле оттуда на Саут-Лэймар-роуд. Я сказал Черил, что там о ней хорошо позаботятся, от всей души надеясь, что это окажется правдой. Но когда ее погрузили на носилки, она схватила меня за руку и начала просить не оставлять ее.
— Я боюсь, — едва шевеля губами, произнесла она.
— Почему? — спросил я. — Этот ублюдок не вернется, можешь быть уверена.
Но она продолжала отчаянно трясти головой. Потом она сказала. Передо мной лежала девочка, которую избили почти до бесчувствия, пытаясь изнасиловать, и чего же она боялась? Она боялась того, что ее родители ей скажут. Я пообещал поговорить с ними, и она наконец меня отпустила. Когда скорая уехала, я вернулся в квартиру Черил и позвонил ее родителям. Это не обещало быть, по выражению Сьюзен, социальным звонком.
Мэтты жили в Тупело, в городке, где родился Элвис и где помещалась штаб-квартира организации «Граждане за достойную Америку». Эта организация посвятила себя самоотверженной борьбе именно за то, в чем вы могли бы ее заподозрить. Я не знал, чего ждать от Мэттов, но кое-какие мысли на этот счет у меня были. Было 5.30, когда я позвонил, и отец, видно, только что пришел домой. В трубке я слышал, как кто-то возится у плиты, а это означало, что мама тоже дома.
— Мистер Мэтт, это Дон Шапиро. Я преподаватель Черил по английской литературе.
Очень неуклюжее вступление, но ситуации, подобные этой, не располагают к тонкостям.
— По литре? Да, она рассказывала. Что случилось? Она что-то натворила?
— Нет! Э-э… нет. Совсем нет. На самом деле натворили с ней. — Я откашлялся и в нескольких коротких фразах описал положение дел.
— Где этот сукин сын? — закричал мистер Мэтт. — Я убью его, если найду!
Было ясно, что он действительно сейчас хочет кого-нибудь убить. Он что-то крикнул жене, которая тут же взяла вторую трубку. Мне пришлось дать и ей объяснения, перемежавшиеся злобными комментариями Большого Папочки.
— Как это могло произойти с Черил?
Я почти физически видел миссис Мэтт, заламывающую руки.
— Она же всегда была такой примерной девочкой. — Она многозначительно помолчала. — Что на ней было надето? Может быть, она сама его спровоцировала?
— Скажите мне имя этого сукиного сына, и я убью его!
Прошло добрых пять минут, прежде чем они поинтересовались, как Черил себя чувствует. Весь разговор был настолько отвратительным, что мне хотелось повесить трубку. Я сказал то, что вызвало их резкую неприязнь:
— Она нуждается в вашем сочувствии, а не в гневе.
— Это мой ребенок, а не ваш, — презрительно фыркнула миссис Мэтт.
— Мне не нужно, чтобы кто-то учил меня, что мне думать о моей дочери. Кстати, почему вы-то там оказались?
— Потому что она побоялась звонить вам. — Я подождал, пока до них дошел смысл сказанного. Потом я обрисовал им ее состояние и назвал госпиталь. Повесив трубку, я стал счищать с какого-то предмета запекшуюся кровь, но скоро бросил и постарался представить себе человека, напавшего на Черил. Воображение рисовало мне толстобрюхого любителя пива, водителя пикапа, хотя я знал, что изнасиловать девушку пытался адвокат, ездивший на БМВ. Так-то вот с сексуальными стереотипами. Я отправился домой, обозленный на Тупело, так как устал злиться на отдельных людей.
Вернувшись домой, я обнаружил, что настроение Сьюзен не лучше моего. Я понял это, потому что всякий раз, когда моя жена бывала не в духе, она принималась за уборку. Вот и сейчас, вооружившись тряпкой и флаконом с полиролью, она наводила глянец на немногочисленную мебель в нашем доме. Волосы были убраны под тюрбан, скрученный из полотенца, голые локти мелькали, как у многорукой чистящей богини. Наш вертикальный пылесос лежал у двери, словно крокодил, уткнувшийся пастью в пол. Влажный линолеум еще блестел после мытья, и я буквально покатился по холлу.
— Осторожнее, он еще скользкий! — с некоторым опозданием крикнула мне Сьюзен.
Я прошел в спальню. Было уже время обеда, но есть мне не хотелось.
— Я немного полежу! — крикнул я в ответ, сам не знаю зачем — мы были на расстоянии десяти футов друг от друга.
— Хорошо! Обед будет через час!
Я закрыл дверь и улегся, обхватив массивный матрац дивана. Когда я закрыл глаза, мне явственно представилась Черил, распластавшаяся по стене, хотя я и не был свидетелем этой сцены. Она была такая хрупкая, такая маленькая. Неужели этот тип не мог напасть на более крепкую девицу из моих студенток? Как бы он обошелся с женщиной, чьи бедра были много толще, чем у него? Я представил себе, как он пытается обхватить ее, но не может сомкнуть руки за ее жирной спиной. Когда же он занялся ее громадными трусами, то она, обхватив его своими мощными руками, заткнула ему рот, распластав свои пухлые ладони по его лицу. Лицо женщины превратилось в лицо Холли, а потом в лицо Сьюзен, которая обыденным голосом позвала меня к столу.
Аппетит у меня так и не проснулся, впрочем, Сьюзен тоже не слишком интересовалась едой. Мы вяло тыкали вилками в мясо и горошек. Я подумал и решил все ей рассказать.
— Одна моя студентка получила травму.
— Как Джим Макалпин? Но сейчас уже не сезон для водных лыж.
— Нет, не как Джим.
Год назад один мой студент, Джим, сломал ногу, прыгая с трамплина на водных лыжах на озере Сардис. В невероятном возбуждении он позвонил, чтобы сообщить мне эту новость, но вместо меня трубку сняла Сьюзен. Я перестал думать о Джиме и проглотил кусок мяса.
— Нет, это было изнасилование.
— Сукин сын. — Сьюзен медленно кивнула, подтверждая свое возмущение. — Как она?
— Не очень хорошо. Она потеряла два зуба, и у нее, вероятно, сломано ребро или два. Не знаю, что еще. Думаю, мне надо навестить ее завтра в госпитале. — Эта последняя мысль пришла мне в голову, когда я ее высказал.
— Постой, это Баптистский мемориальный?
— Да, ее отвезли туда.
— Значит, это ее я видела сегодня днем, как раз перед тем, как пошла домой. — Сьюзен сжала мне руку. — О, Дон, она выглядела ужасно.
— Знаю, это я вызвал скорую. Это было примерно через час после того, как он ее отделал.
— А что с ним? Где он?
— Не знаю, вероятно, нянчит свое оскорбленное эго. Он не смог ничего сделать, она оказалась очень фригидной — девственница.
— Свинья, надеюсь, ему отрежут яйца.
— Об этом позаботится ее отец.
— Возможно, но держу пари, что ее отец такая же свинья. Знаешь, сколько таких историй я слышала, когда росла? Иногда об этом рассказывали сами мужчины.
Сьюзен начала убирать со стола, хотя мы еще не закончили есть. Она отнесла тарелки к раковине и выбросила вполне пригодную пищу в мусорный пакет. Теперь мне стало понятно почему. Вернувшись с работы, я застал ее за уборкой. Это был своеобразный сеанс домашнего изгнания бесов. Она обернулась ко мне, грудь ее тяжело вздымалась.
— И знаешь, что я тебе еще скажу? Иногда, держу пари, мне казалось, что эти мужчины похваляются.
Мы прекратили этот разговор. Сьюзен была в такой же ярости, как и я, может быть, еще больше. Но эмоциональные реакции имеют, очевидно, какое-то отношение к сексуальности. Поди разберись — Стенли Пирсон, вероятно, объяснил бы эту связь. Я же могу только сказать, что в эту ночь мы со Сьюзен любили друг друга в первый раз за несколько недель.
Когда мы на следующий день приехали в госпиталь, в палате Черил были ее родители. Девочка была в гипсе, на челюсть наложена шина, но родители решили забрать ее, чтобы ухаживать за ней дома. Мистер Мэтт оказался бледным эктоморфом, а не плотным здоровяком, каким я себе его представлял. Он непрерывно протирал носовым платком свои роговые очки. За то время, пока мы разговаривали, он сделал это пять раз. Миссис Мэтт носилась вокруг дочери, как хлопотливая клуша по курятнику. Оба родителя старались не смотреть на дочь, которая неподвижно сидела в белом пластиковом кресле.
Я поздоровался с Черил, которая в ответ с трудом произнесла что-то нечленораздельное, выказав свои чувства лишь выражением карих глаз. Лицо было покрыто синяками; может быть, потребуется пластическая операция. Я представился родителям и представил Сьюзен, и мистер Мэтт робко приблизился, словно желая предложить мне что-то из-под полы.
— Хочу поблагодарить вас, — пробормотал он, — за то, что вы помогли моей дочери.
Я рассеянно кивнул, словно помогать жертвам изнасилования для меня самое привычное дело.
Миссис Мэтт пригласила нас в Тупело, в гости.
— Черил потребуется общество, пока она будет выздоравливать.
— Что с тем парнем, который это сделал?
Я должен был задать этот вопрос.
Губы мистера Мэтта сложились в тугую нитку.
— Мы сами разберемся с этим. Мы не хотим огласки, вы же понимаете.
Я понимал. Все было так, как предвидела Сьюзен. Тот негодяй был заметной фигурой в городке. Единственное, что они сделают, — это прокатят его на выборах в Кивани-клуб. Я пожал Черил руку и сказал, что обязательно навещу ее через пару-тройку недель. Она ответила мне удивительно крепким рукопожатием. Это был, как мне показалось, добрый знак. По дороге домой Сьюзен сказала тусклым голосом:
— Интересно, сколько времени это займет?
— Что?
— Когда она сумеет это преодолеть?
— Постарайся не думать об этом.
— Я стараюсь.
Ночью Сьюзен призналась мне, что то же самое произошло когда-то с ее лучшей школьной подругой, которая трижды выходила замуж, трижды разводилась, а теперь проходит курс детокса в наркологической клинике Мемфиса. Мы долго говорили об этом, несмотря на то что разговор причинял боль. Но боль оказалась полезной: она снова сблизила нас.
Сам не знаю, почему я рассказал Максу об этом инциденте, но, с другой стороны, я рассказывал ему множество других вещей, так почему нельзя было сообщить об изнасиловании? Обычно мы вместе брали почту в Студенческом союзе и, когда были в настроении, перекидывались парой слов. Стоя перед безликой стеной почтовых ящиков, мы обсуждали пользу загара и летние отпуска, методы преподавания, холодный пот и благословение супружества, форму женских грудей и кудзу[6]; все эти темы обрастали ассоциациями, подобно тому как езда на велосипеде логически приводит к образу ягодиц, а прачечная вызывает в памяти вид нижнего белья.
Я уже говорил, что иногда Макс в своих речах был похож на насильника, но в действительности это было не так. Да, мне было известно все о его предполагаемом прошлом, но то было давно и в другом месте и относилось к иной категории действий. Да, иногда пути наших бесед выводили на дорогу обсуждения женских тел, но в суждениях Макса не было ничего преступного или предосудительного. Они были интересны. Я помню, один раз мы говорили об эластичных женских трусиках и о следе, который они оставляют ниже талии. Макс был прав: этот след похож на след шины в мягкой глине. Теперь каждый раз, когда я вижу след от резинки, вспоминаю это сравнение. Можно ли на этом основании обвинить меня в деперсонализации? Думаю, что нет. Напротив, Макс заставил меня увидеть то, чего я раньше не замечал.
Он всегда очень внимательно слушал собеседника, добавляя в нужном месте междометия, помогавшие продолжению разговора. Он мог превратить рассказанный вами тривиальный случай в нечто более поучительное. Было любопытно наблюдать, как он одновременно делает вас колдуном и околдованным. Он внимательно смотрел на вас, начинал реже мигать, глаза его округлялись, казалось, вот-вот, и они проглотят вас, пожрут без остатка. Я мог без труда представить себе, как Макс соблазняет своих женщин. Иногда я чувствовал, что еще немного, и он соблазнит меня. Я часто приберегал для него перлы — забавные ошибки из студенческих сочинений или последние изыскания Джины о Фолкнере. Макс делал свои причудливые выводы, после чего мы расставались и расходились по своим делам. Часто наши беседы заканчивались на самом интересном месте — надо было идти в аудиторию, кататься на велосипеде или делать какие-то неотложные дела. Каждый разговор происходил in medias res[7], так как в остальное время Макс нигде не задерживался надолго. Иногда мне казалось, что ему просто нравится меня дразнить. Я даже ни разу не был в его квартире с тех пор, как он в нее въехал.
Может быть, мне хотелось навести его на какую-нибудь мысль. Увидеть, что откроется ему в этом деле. Как бы то ни было, мне казалось вполне естественным рассказать ему о Черил. Мы встретились с Максом в его кабинете в Бондуранте, где у меня было занятие по введению в литературу. Сегодня было заключительное занятие по Бронте, и я до сих пор чувствовал себя наэлектризованным. Главным героем дискуссии был Хитклифф, при этом половина группы потешалась над ним. Никому особенно не нравился Эдгар (они отождествляли его со слабым Эдгаром из «Короля Лира», которого мы проходили три недели назад). «Он слабак», — пояснил свое отношение наш записной дурачок Том Феллон, который явно смотрел на Эрншоу и Линтонов как на две соперничающие футбольные команды. Я счел своим долгом вступиться за Эдгара, но меня поддержал только один тощий, длинный, сутулый студент с заднего ряда. Оказалось, что его первое имя Эд.
— Продолжаете тревожить могилы, поросшие вереском? — спросил Макс.
Он одевался теперь, как здесь называли, патриотично и естественно. Под пиджаком был полосатый жилет, а шелковый галстук топорщился у воротника каким-то подобием банта. С недавнего времени он перенял гротескную манеру Споффорда, но дома — ради Холли — он продолжал носить простые джинсы. Сейчас он смотрел на меня с видом высшей респектабельности.
— Некрофилия здесь считается преступлением, ведомо ли вам это?
— Им не мешало бы лучше защищать живых, — сказал я, входя в кабинет. — В четверг изнасиловали одну из моих студенток.
Брови Макса стремительно взлетели вверх. Что это было — потрясение, озабоченность, зудящий интерес? От пододвинул мне вращающийся стул и жестом предложил сесть. Когда я вошел, он работал за столом. Средний ящик был выдвинут. Он с грохотом задвинул его на место.
— Надеюсь, у вас есть алиби?
— Прекратите, Макс. — Я бы разозлился, если бы не знал Макса. Я всегда спорил с другими, говоря, что очень немногие понимают, что на самом деле имеет в виду Макс.
— Простите. Так что случилось?
Я рассказал.
— Бедная девочка. Она потеряла много крови?
— Все было забрызгано кровью. Надо было видеть комнату.
— А что с одеждой? — прищурившись, спросил Макс. — Она была разорвана?
— Практически пополам. На ней были желтые шорты, или она…
Макс живо кивнул. Он хотел знать все подробности, какие я только мог сообщить: характер травм, выражение лица, под каким углом тело находилось к полу. Было такое впечатление, что он ведет протокол или проецирует сведения на какой-то свой внутренний экран. Это было нелепо, что мы обсуждаем эту тему, сидя в кабинете Макса, среди томов ученых книг, на фоне серого шкафа и портрета Распутина. Речь шла не о проваленном экзамене или о планах на следующий семестр, а о плоти, которую со всего размаха ударили о кирпичную стену. Но возможно, декор соответствовал ситуации: портрет Распутина был сделан после того, как ему разбили голову.
В конце мы поговорили о типе, который это сделал. Его мотив казался мне непонятным: похоть, злоба, женоненавистничество? Я сказал, что это третье — как сочетание первых двух. Макс же сказал, исходя из точки зрения этого человека, что, скорее всего, он просто хотел получить удовольствие. Пока мы обсасывали эту неприглядную правду, лучи дневного солнца сместились, я посмотрел в окно и увидел, что из него открывается замечательный вид — не на деревья, не на подстриженный и выметенный кампус, а на тротуар, по которому непрестанно проплывали тела. Потенциальные жертвы, невольно подумалось мне.
— Полагаю, — медленно сказал Макс, — что ему никогда не сделают того, что сделал он ей. — Он машинально вдавил кончик шариковой ручки в мякоть большого пальца.
Я заметил, что и на других пальцах красовались точки.
— Да, это маловероятно, — сказал я. — Самое большее — это бракоразводный процесс и уход жены. Думаю, что он женат.
— Может быть, ему сделают операцию удаления органа полового влечения.
— В Миссисипи это еще практикуют?
— Я имею в виду, что гонады ему откусит и прожует пит-буль. — Макс снова воткнул ручку в палец.
— Или привяжут к днищу «кадиллака» и проедут по грязной дороге.
— Или его изнасилуют три здоровенные лесбиянки с фаллоимитаторами. — Макс с видимым удовольствием сказал это; похоже, такое наказание он нашел самым подходящим. — Сначала они предадутся своему лесбиянству, а потом вставят ему эти резиновые палки во все отверстия, которые у него есть, и даже в те, которых у него пока нет. — Он подчеркнул свою мысль, еще раз с усилием ткнув себя ручкой. — Вот так. Мне нравится поэтическая справедливость.
У меня не было ни малейшего настроения шутить, но в ветрености Макса всегда есть серьезная грань, хотя, быть может, я и заблуждаюсь. Мы воздали всем. Черил надо стереть память и каждый год даровать ей пять дней гарантированного счастья. Потом мы обсудили вопрос о том, что делать с родителями. И с городом Тупело. И со всем человечеством в целом. Я цитировал изречения Гоббса об одиноких, несчастных, дурных, отвратительных, жестоких и быстротечных аспектах жизни. Он процитировал Макиавелли о том, как правильно добиваться цели. Я сослался на Фрейда — как заменить невротическое несчастье на несчастье обычное. Макс сослался на Юнга — как избежать обычного несчастья. Мы вышли из здания полчаса спустя, поправляя галстуки, усталые, но с чувством праведно выполненного долга — нам удалось разрешить все проблемы западной цивилизации.
15
Когда я проснулся в понедельник утром, лил дождь. Это был тот нудный осенний дождь, сыплющийся с неба весь день не переставая. Небо было свинцово-серым, как дно опрокинутой суповой миски. Было начало восьмого, время, когда добрые миссисипцы уже битый час на ногах и кормят скотину или детей. Сегодня в 9.30 у меня занятие по «Сердцу тьмы». Я перевернулся на бок и взглянул на Сьюзен, и она, толком не проснувшись, обняла меня теплой рукой. Я снова задремал и пробудился только около восьми.
Сны отравляли меня все сильнее: я падал в какие-то ямы, садился в поезда, идущие в непроглядный стигийский мрак и прибывающие в какие-то загородные болота, ходил в туалет по страшным темным коридорам. Вернулись и сновидения про кафетерий, причем еда на подносах регулярно превращалась в шевелящийся клубок отвратительных змей. Я просыпался с поганым привкусом во рту, словно во сне мне довелось попробовать эти неаппетитные блюда. Но самые ужасные сны касались вполне обыденных вещей — преподавания и написания статей. Я плохо их помнил, но мне думается, что самой страшной была их абсолютная банальность. Я не укладываюсь в расписание, я напечатал абзац, но пропустил конец, пришел на занятия неподготовленный.
Когда в то утро я проснулся окончательно, то знал, что мне снилось что-то нехорошее, но не помнил хорошенько, что именно, хотя еще добрых полчаса я слонялся по кухне, как в тумане. Влажность меня просто добивала: от настоящей южной влажности моя голова разбухает, как разбухает от влажности дверь, перестающая помещаться между косяками. Наконец мне пришло в голову включить кондиционер, и это помогло. Кофе взбодрил меня окончательно, и я просмотрел план занятия.
В прошлом семестре я навязал своим студентам Диккенса. Если вам нужны доказательства того, как сильно изменилась читательская аудитория, то вспомните, что в свое время Диккенс был кумиром массового читателя, умевшим угождать вкусу толпы. И что теперь? Студенты колледжей спотыкаются об языковые особенности и безнадежно запутываются в хитросплетениях сюжета. Что касается Конрада, то у меня было такое чувство, что мои студенты потеряют интерес к Марлоу уже где-нибудь в Конго. Поэтому я подготовил краткую биографию самого Конрада — невозможно понять спектакль, не имея в руках программы, — упирая на параллели между его собственной жизнью и жизнью его героев. Такой подход всегда помогает группе думать, будто то, что они читают, есть реальность. То же самое делают в кино, когда в титрах появляется надпись: «Основано на реальных событиях». Я составил краткую биографию игрока, отправившегося из Марселя по воле волн к островам южных морей. Потом я плавно перешел к «Сердцу тьмы», вернувшись к началу мира в адской кочегарке морского парохода. Сделав половину работы, я понял, что невольно компенсирую недостатки своей жизни чужой.
Но такова суть и задача всякой литературы. Возьмем для примера такой персонаж, как Макс. Что лучше — реально его знать или прочитать о нем? Но выбор уже не зависел от меня: если Макс был Курц, то я был Марлоу. И сделало ли это знание студентов дикарями южных островов?
В этот момент в кухню вошла Сьюзен и целомудренно поцеловала меня в лоб. Было уже около девяти, а я толокся по кухне в трусах. Сьюзен выглядела очень женственно в ночной рубашке, и я сразу вспомнил, что в составленной мною краткой биографии не упомянул Джесси, жену Конрада. Оставив Сьюзен недопитый кофе, я пошел в спальню переодеться. Дождь продолжался; чтобы скомпенсировать серость дня, я выбрал желтый галстук. Дождь усилился, грозя смыть пяток ферм в реку, по которой они смогли бы уплыть в соседнее графство. Через пять минут, вооружившись зонтиком, надев галоши и захватив кейс, я отважно ринулся в миссисипскую грязь. Мне предстояло выполнить важнейшую миссию, вернуться к истокам цивилизации — мне предстояло учить.
Как это ни удивительно, но мои студенты полюбили Конрада. Или, лучше сказать, некоторые из студентов. Тех, кому не понравился, он хотя бы раздражал, а это почти то же самое. Один деревенского вида парень, с виду совершеннейший мужлан, очень хотел знать, зачем Марлоу сделал такую глупость — ушел в море. В поисках приключений, заявил в ответ парень, который, несмотря на дождь, приехал на занятия на мотоцикле.
— Но это же не реальность, это вымышленное путешествие, — возразила девушка в очках.
Я обратил внимание на свободное место рядом с ней — здесь обычно сидела Черил.
— Все верно, но разве реальные вещи не могут происходить в сознании? — Я бросил эту фразу только для того, чтобы поддержать спор, загнать студентов в дебри и заставить говорить о сюжете. Конраду были посвящены еще два занятия, и сегодня было положено хорошее начало.
Когда пара закончилась, полная девушка с пятого ряда выбралась из-за стола и медленно двинулась ко мне. На ней были огромные, туго обтягивающие джинсы, подчеркивавшие зад, похожий на корабельную корму, белая блузка, натянутая на торчащий холм грудей; живот был предусмотрительно замаскирован украшенным бисером широким поясом. Плоть ее была замечательно гладкой и округло-полной; отличаясь снежной белизной, она отливала золотом и слоновой костью.
Я, вероятно, никогда бы этого не заметил, если бы не мое знакомство с Максом. Как раз две недели назад мы с ним говорили о коже, ее цвете и текстуре. Есть белый цвет, напоминающий бледный лунный свет, — такой цвет бывает у кожи грудей — с мелкими порами и пронизанной кружевом голубоватых вен; коричневые руки отливают блеском жидкого шоколада; не имеющие возраста бронзовые спины солдат лейб-гвардии — безупречные и не заросшие волосами; молочно-белая кожа женских бедер, в плоть которых, кажется, можно погрузить палец; иссиня-черные ноги спринтеров, похожие на сухие долины в полумраке. Кожа Сьюзен была розовой, под цвет окультуренной розы; кожа Макса была покрыта загаром, который, казалось, въелся до самой плоти и теперь просто просвечивал через кожу. Таинство плоти заключается в том, что при всех этих крошечных нюансах, которые вкупе составляют ее великое многообразие, она, по сути, всегда остается одной и той же — податливой, гладкой и сексуальной. Моя кожа, шутил Макс, приобрела флуоресцирующий оттенок из-за того, что я много времени провел при искусственном освещении.
Теперь я рассматривал студентку с неведомым мне доселе интересом.
— Знаете, мне понравилась книга, — сказала она.
— Почему?
— Потому что благодаря ей я открыла в себе другого человека, — ответила она. Это было все, что она сказала.
Я смотрел, как она медленно и тяжело движется по холлу, и вдруг мне пришло в голову, что некоторым людям, намного больше, чем другим, нужно открывать в себе другого человека. Я стал думать, каково это иметь на себе столько плоти, быть таким тяжелым и тучным. Я нашел, что мне трудно это представить, несмотря на то что я и на самом деле стал толще, чем мне хотелось бы признать. Я расстегнул рубашку и пощупал тонкие валики жира, выступавшие над ремнем. Как ни странно, это подействовало отрезвляюще. Но у меня все же не было брюха, которое бы впереди меня входило в дверь. Но все же каково это, когда жир висит огромными подушками со всех сторон? Делает ли это человека уверенным в себе или, наоборот, подавляет? Каково сидеть в кресле кинозала и чувствовать, как подлокотники сжимают тебя, словно щипцами? Каково это, покупая полкило мороженого, ловить на себе неодобрительный взгляд стоящей рядом дамы? Или избыток плоти защищает, отгораживает от остального мира?
— Я отвратительно себя чувствовала до встречи с Максом, — сказала однажды Холли. — Разве вы не знаете, что все большие женщины так себя чувствуют?
Но кто в этом виноват? Все, подумалось мне. Или почти все.
Большинство литературных героинь после Молль Флендерс были стройными и гибкими. Мадам Бовари не сидела на диете. Героини Бронте, на свое счастье, были туберкулезницами. Я собрал книги, выключил свет и вышел из пустой аудитории. Небо было по-прежнему серым, дождь лил не переставая.
В тот день я сидел за компьютером и, вяло постукивая по клавишам, пытался печатным словом обойти критически непечатную проблему. Я все еще работал над синекдохой Джойса и никак не мог закончить, потому что безнадежно увяз в замене целого его частью. Суть моей работы заключалась в том, чтобы выявить определенный литературный прием и проанализировать мотив его использования. С какой целью называют человека или предмет частью, вырванной из целого? Ну, во-первых, как нечто противоположное персонификации. Я записал эту мысль. Хвастливый пастух похваляется семью девственностями; преступный авторитет делает смотр нанятым им стволам. Если обратиться к эпической поэзии, то можно сказать, что частью пользовались для того, чтобы подчеркнуть величие целого, намекнуть на это непостижимое величие: сорок судов на гребне высокого моря. Здесь я снова уткнулся в метонимию, так как часть просто вела к другой части. Я подумал о частях Молли Блум — теперь у меня появилась-таки полная героиня. Пухлая рука вела прямиком к пышной груди. Браво, Джойс.
Я встал, чтобы налить себе еще чашку кофе. Был ли вопрос «Хотите еще чашку?» синекдохой или метонимией? На самом деле ведь я хочу кофе, а не чашку. Сьюзен бы сказала, что я становлюсь чересчур академичным. Я отхлебнул кофе, уставился на экран и решил, что мне пора сделать перерыв. Дождь продолжался, время шло к трем. Внезапно я подумал, что делает Макс для зарядки — едет на велосипеде, увертываясь от капель дождя?
Макс был нашим соседом вот уже несколько месяцев, но у меня так и не было случая нанести ему визит. Он не приглашал к себе и вообще казался человеком, считавшим такие приглашения нарушением приличий. Но нет ведь такого закона, который запрещал бы мне постучать в его дверь. Я сообщу ему о велосипедной гонке — это послужит мне оправданием. Да и дома ли он в такое время? Я прислушался к колебаниям стенки моего кабинета: за стеной не было слышно никаких акустических признаков жизни, если не считать приглушенного жужжания, словно какой-то великан крутил прялку в запертом чулане. Наверное, Макс забыл выключить какой-нибудь прибор. Или, может быть, это пришельцы с планеты крягушек.
Тем временем звук усилился настолько, что начал дрожать пол. «Карриер и Айвис» вдруг грохнулась на пол. Стекло разлетелось вдребезги и рассыпалось по полу. Я бросился за метлой и совком. Вибрация прекратилась, но, когда я вернулся, она возобновилась, правда, на этот раз приглушенно и отдаленно. Пока я убирал осколки, стараясь не порезаться об их острые края, гвоздь, на котором висела гравюра, выскользнул из стены и со стуком упал в совок. Милое и остроумное завершение состоявшегося разговора.
Я взял выпавший гвоздь и машинально вставил его в отверстие. Надо просто выбраться из дома и отнести сцену катания на санях в ближайшую багетную мастерскую. Если же эстамп безнадежно испорчен — не прорезана ли бумага посреди заснеженного поля? — то я просто найду еще какую-нибудь вещицу, чтобы повесить ее на это место. Но гвоздь, проволочный штифт длиной три дюйма, проскользнул в дыру без остатка. Это показалось мне странным. Только ради экспериментального любопытства я разогнул скрепку и засунул ее в отверстие вслед за гвоздем.
Скрепка исчезла в дыре, словно Белый Кролик из «Алисы в Стране чудес». Так-так. Учитывая, скажем, что дырка глубиной шесть дюймов… Я отошел от стены и начал считать. Признаюсь, я не умелец, но все же унаследовал от своего деда кое-какие столярные навыки вместе с набором инструментов, когда он несколько лет назад умер. В набор входила старомодная ручная дрель. Я отправился в чулан за инструментами. Для начала я с помощью магнитной отвертки извлек из отверстия скрепку и гвоздь. Потом я просверлил в стене тонкое отверстие диаметром в одну восьмую дюйма. Я просверлил стену насквозь, о чем догадался по тому, как сверло с мягким толчком ушло вперед. По сравнению с вибрацией, доносившейся с противоположной стороны, дрель работала бесшумно.
Только покончив с этой работой, я осознал, что сделал, и впал в панику. Я стоял у стены, заглядывая в спальню Макса, имея весьма выгодный, хотя и ограниченный обзор, с видом на половину кровати, участок пола и нижнюю часть двери — полное воспроизведение эффекта камеры-обскуры. Дверь была закрыта, и жужжание доносилось с противоположной стороны. Но как выглядит отверстие из спальни соседа? Я критическим оком пригляделся к моему концу отверстия. Ничего особенного. Немного шпаклевки и штукатурки. Я смогу легко заделать отверстие или замаскировать его. Например, жесткой проволокой с комочком шпаклевки на конце. Мне оставалось лишь проникнуть на ту сторону, чтобы убедиться в качестве работы.
Мысль есть отец поступка, как сказал некто, не включенный в «Цитаты Бартлетта для семейного чтения». Через пять минут я изготовил проволочную затычку, вставил ее на место и вышел из кабинета, чтобы полюбоваться на плоды моих трудов с другой стороны. Я скажу ему о велосипедных гонках — это будет мой raison de venir[8]. Потом мне надо будет всего лишь на секунду остаться одному в спальне. Простите, мне что-то нехорошо. Можно я прилягу?
Я перешел на его крыльцо, преодолев расстояние в пять футов, и постучал в дверь. Вибрирующее жужжание стало громче, но никто не ответил. Я постучал сильнее. На этот раз мне показалось, что я слышу чей-то приглушенный голос, но он тонул в грохоте. Я размахнулся для последнего удара, но на этот раз моя рука пробила стеклянную панель двери.
— Да входите же, черт подери!
Рука моя кровоточила, перед дверью валялись осколки разбитого стекла. Дверь была не заперта — она просто туго открывалась. Я с хрустом прошел по стеклу в некое подобие прихожей, отделенной от гостиной японской ширмой. На ширме были изображены цапли среди плавающих в воде лилий. Этакий островок покоя. Мне стоило, конечно, рассмотреть цапель более подробно, но кровь из руки капала на линолеум Макса. А я так старался не пораниться, собирая осколки в кабинете. О смешных ситуациях лучше читать, чем переживать их наяву. Впрочем, это касается многих литературных феноменов.
Я огляделся в поисках какого-нибудь ящика с тряпками или чего-нибудь мягкого и гигроскопичного. Я все еще не видел Макса и, понимая, что и он не видит меня, нагнулся и приложил кулак к изнанке мягкого половика. На нем тотчас отпечатались рубиново-красные костяшки моих пальцев. Но кровь немедленно потекла снова. Надо было что-то делать.
— Куда вы, черт возьми, делись? — закричал я. Жужжание эхом отдавалось у меня в голове.
— В холле! Я не могу обернуться, вам придется пройти мимо меня.
Он что, растянул связки? И почему я должен пройти мимо него? Войдя в холл, соединявший гостиную с остальной частью дома, я обнаружил Макса, точнее, его обнаженную спину. Он ехал на велосипеде, поставленном на нечто похожее на перевернутую роликовую тележку из супермаркета. Чем быстрее он крутил педали, тем быстрее вращались ролики, не давая велосипеду сдвинуться вперед ни на дюйм. При этом жужжание и визг становились невыносимыми, велосипед раскачивался из стороны в сторону, а с тела Макса во все стороны летели капли пота. Было такое впечатление, что он изо всех сил хочет доехать до ванной в конце коридора, но никак не может сдвинуться с места.
— Макс!
— Да?!
— Вы скоро закончите?
— Что?
— Я говорю, вы скоро закончите?
— А? Нет, подождите, я через минуту остановлюсь.
Он протянул вниз руку, переключил скорость и стал с еще большей силой нажимать на педали. Я мелкими шагами обошел его — места было маловато — и стал смотреть на него от двери ванной. Его четырехглавые мышцы вздулись от напряжения, они волнами переливались под кожей. Было такое впечатление, что у него вообще нет мягкой плоти. Можно было бы подумать, что он едет по густой липкой грязи, если бы не ролики, вращавшиеся под колесами велосипеда. От скорости ролики сливались, как и все вокруг, даже дребезжание роликов слилось в однотонное жужжание. Макс мог легко ехать со скоростью сорок миль в час в нескольких дюймах от глухой стены. С полминуты он сохранял прежний темп, затем сбавил скорость, переключил монетку и приподнялся в седле, выпрямив спину, — ему стало легче. Прошло еще полминуты, и он перестал крутить педали. Остановившись, велосипед начал крениться, и Макс уперся рукой в стену, чтобы не упасть. Сам он был привязан к велосипеду и не падал только благодаря скорости, с какой нажимал на педали.
Он наклонился и распустил ремни, которыми его ступни были фиксированы к педалям. Черные лайкровые шорты были насквозь пропитаны потом. Дышал он не слишком тяжело, но лицо было багрово-красным. Под роликами была видна изрядная лужа пота.
— Что будет, если вы соскочите с роликов на такой скорости?
В ответ он равнодушно пожал плечами:
— Такое иногда случается. Когда велосипед соскакивает, то он сразу останавливается. Колеса тут же перестают вращаться.
— Почему вы так сильно потеете?
— Я же занимаюсь в помещении. Я не движусь, и поэтому нет ветра. Можете дать мне полотенце? — Он жестом указал на вешалку в ванной.
— Конечно, — ответил я, но потом вспомнил о своей ране. — Нет, пожалуй, нет, я испачкаю его кровью. — Я поднял руку и показал ему костяшки пальцев.
В глазах Макса вспыхнул живой интерес.
— Что случилось?
— Мой кулак проскочил сквозь панель вашей входной двери. Не беспокойтесь, я заплачу за стекло.
— Черт с ним, со стеклом, что у вас с рукой? Подождите, я сейчас достану бинты и марлю. — С этими словами он прошел мимо меня в ванную и открыл аптечку. Он порылся в ней и нашел что хотел: упаковку марлевых салфеток и огромный рулон хирургического бинта.
Среди эластичных бинтов и пузырьков с таблетками я увидел кучу резиновых трубок и старинную опасную бритву с несколькими ремнями. Все было таким мятым, словно все эти трубки и ремни долго грызло какое-то животное. На полу я увидел весьма потрепанные весы.
— Давайте руку, протяните ее над раковиной.
Он завладел моей рукой, аккуратно промокнул раны марлей, промыл их и смазал йодом, приложил компресс и велел поднять руку и так немного подержать. Потом он приложил к сухой ране тампон и туго забинтовал, похлопал меня по плечу и сказал:
— Ну вот. — Лучезарно улыбаясь, он посмотрел мне в глаза. — Было больно?
— Нет, не очень.
Порез оказался не таким глубоким, каким он выглядел из-за сочившейся крови, и я был слегка разочарован, так же как, по-моему, и Макс. Кстати, я ведь так и не объяснил ему, ради чего вломился к нему в дом.
— Между прочим, я хотел вам что-то сказать, но забыл, что именно.
— Гм, — хмыкнул Макс. То ли я не убедил его, то ли ему было абсолютно все равно.
Он все еще отходил от нагрузки. Мышцы бедер были напряжены, голени вздуты. Верхняя часть туловища не была и отдаленно столь же мускулистой, торс был плоским, почти вдавленным, тонкие струйки пота стекали за пояс шорт. Холм в паху был сплющен, трудно было что-то сказать о размере. Макс мог выглядеть угрожающим или уязвимым, в зависимости от того, под каким углом зрения вы его рассматривали. Я представил его верхом на Холли, воображая, как он едет на ней, или нет, все было как раз наоборот… Едет… Я вспомнил предлог своего посещения.
— Вспомнил, — сказал я, щелкнув пальцами здоровой руки. — Я хотел сказать вам о велосипедной гонке.
— Где?
— В кампусе. Я видел одного студента, который раздавал листовки. Это было вчера.
— А, это… «Сигма-Дельта».
— Думаю, что да. Кстати, откуда эти братства берут свои названия?
— Это первые буквы слов знаменитых греческих изречений. Таким образом, каждый клуб имеет собственное неповторимое лицо.
— Правда? — Я люблю собирать такие курьезы, а Макс был их настоящим кладезем. Мой запас удвоился с тех пор, как он приехал, и все сведения я черпал в таких вот случайных разговорах. — Значит… вы знаете о гонке?
— Ну да. Наверное, я видел ту же листовку, что и вы.
— Ну, вы точно ее выиграете. — В знак солидарности я поднял забинтованную руку.
— Возможно. Я слышал, что будет соревнование.
— Но вы хотите принять участие, верно?
— Думаю, что да. Холли хочет, чтобы я участвовал.
— Как у вас дела?
— У нас? Нормально. — Мышцы его непроизвольно напряглись, но ничто не дрогнуло в приапической области.
— Я вчера видел Мэриэн. — Фраза выскользнула у меня, как кусок мокрого мыла. Сжимаешь его рукой, а оно выскальзывает не в ту сторону.
— Ха. — Последовала короткая пауза. — Как она?
— Неважно. — Я представил себе Мэриэн, ее образ съежился, вот она склонилась над чашкой черного кофе, окончательно уменьшилась в размере и с тихим плеском упала в кофе. — Думаю, что ей недостает вас.
— Мне очень жаль это слышать. — Он бессильно развел руки. — Знаете, здесь нет ничего личного. У нас просто ничего не выходило в постели. Мы с ней говорили об этом. Мои вампирские вкусы. Это мои проблемы, а не ее.
Она не предавалась любви на кладбищах? Не хотела показываться с ним на людях? Но вслух я сказал:
— Понимаю.
Что бы я ни думал о его сексуальных предпочтениях, не стоило спрашивать о них его самого. Я бегло оглядел квартиру: узнаешь человека по его жилищу. Метонимия.
— Знаете, я ведь ни разу не видел вашу квартиру. Не возражаете, если я ее посмотрю?
— Пожалуйста. Но я хочу принять душ, а то эти шорты того и гляди сгниют на мне. Оставайтесь, сколько захотите. Осторожнее с ловушками и с трупом за диваном.
Он вернулся в ванную и закрыл дверь. Через мгновение до меня донесся шум льющейся воды. Все складывалось очень удобно. Шаги мои отдавались эхом, как в необжитом доме. Действительно, белые стены квартиры остались голыми. Непосредственно у входа в спальню висел плакат, написанный каллиграфическими восточными иероглифами. Я решил при случае спросить, что означает эта надпись. Спальня была приблизительно такой, какой я ее себе представлял: гигантский пружинный матрац на деревянной раме, плотно прижатой к стене моего кабинета. На спинку купленного в «Уол-Марте» стула брошена сорочка. Над простеньким сосновым шкафом висела застекленная миниатюра Магритта «Изнасилование», но изображено на ней было совсем не то, что вы могли бы подумать. На картине было изображено милое женское лицо на стройной шее, обрамленное золотистыми волосами. Но, приглядевшись, можно было понять, что глаза — это груди, нос — пупок, а рот напоминает треугольник лобка. Шея начиналась непосредственно под промежностью. Именно над этой картиной на моей стороне стены висел эстамп со сценой катания на санях. Я внимательно пригляделся к Магритту. С левой стороны картины, едва ли не у самого края, я заметил просверленное мною отверстие. Оно было почти незаметным, и вообще сомнительно, что его можно было увидеть, если смотреть на картину, а не на стену. Я подравнял шпаклевку, и ее белая поверхность слилась с белой поверхностью стены. Теперь я видел это пятно только потому, что знал о его существовании. Я на цыпочках отошел от стены, чувствуя себя диверсантом, заложившим бомбу с часовым механизмом.
Вода в душе продолжала течь. У меня был шанс отыскать три тайные улики преступления, но я паршивый детектив, в лучшем случае литературная ищейка. Я исследую описания и короткие рассказы, а не реальные предметы или реальных людей. В квартире было не так уж много вещей, которые могли что-то сказать о своем владельце. Японская ширма была изящна и создавала членение пространства, которого раньше не было. Я обошел препятствие. На полу лежал выцветший, бывший когда-то зеленовато-бежевым коврик. В углу гостиной стоял письменный стол с компьютером; монитор и клавиатура были прикрыты чехлами, как мертвецы саванами. Ящики стола были заперты — странная предосторожность для одиноко живущего человека. Стулья заменяли брошенные на пол подушки, казавшиеся странно сплющенными, но, скорее всего, так только казалось, так как их не обрамляли привычные рамки стула. Единственным предметом мебели, о котором стоит сказать, был массивный книжный шкаф, стоявший у дальней стены. Он был набит книгами по истории, включая такие интересные вещицы, как китайская энциклопедия и два желтых тома об этиологии заболеваний и боли. На верхней полке шкафа я заметил некоторые орудия моей профессии: Джойса, Манна, Набокова, Берджесса — набор эрудита. В коридоре стоял двойник этого шкафа, также заставленный книгами по истории.
У меня не было времени осмотреть стенные шкафы и чуланы, если не считать большой кладовки в прихожей, дверь которой была открыта настежь. Коричневый грузовой велосипед стоял здесь, как изгнанный за провинности пес, на раму была намотана двойная эластичная корда. На стене висели свитера и спортивные брюки, вместе с несколькими шинами. Посередине красовался огромный ящик с запчастями к велосипеду — фарой, седлом — и эластичным шнуром. Большая часть его казалась сильно потрепанной и не раз использованной. Некоторые куски были так растянуты, что покрытие растрескалось, обнажив скелет из скрученных волокон. Один из шнуров показался мне запачканным кровью, но, приглядевшись, я увидел, что это цвет матерчатых волокон.
Никаких наручников, никаких вибраторов. Наверное, Макс был специалистом по вербальному садизму. Или, может быть, я не там искал. Я нашел два нормальных стула и стол на кухне, в углу которой стоял радиоприемник. Статуя Приапа красовалась на столе — почему именно на кухне? — но кто-то привязал лист магнолии на самое выдающееся место. Плита была чистая, хотя и не новая; она стояла рядом со столом, на котором были расставлены керамические банки с сухой фасолью, ячменем и рисом. Я еще раз огляделся, разочарованный тем, что мне не удалось найти скелет. Это было типичное жилище холостяка, причем не слишком шикарное. Я бы сказал, что оно было намеренно спартанским. Если человек живет в квартире полгода и не покупает стулья, то он не делает этого не из лени. Под раковиной я нашел совок и швабру. Такие же, как у меня, — купленные в том же «Уол-Марте». Прежде чем уйти, я подмел в прихожей, убрав осколки стекла.
Я крикнул Максу «До свидания!». Он вылез из-под душа, но еще не вышел из ванной. Я хотел было задержаться, но есть границы интереса к чужой жизни. Сьюзен работала в госпитале; на часах было 3.30, я был предоставлен самому себе. Прежде я бы не знал, что делать и как убить оставшуюся до обеда пропасть времени. Теперь же мне казалось, что время съежилось и усохло, во всяком случае до вполне приемлемых пределов. Вернувшись в кабинет, я точно измерил, насколько проволока входит в отверстие, когда наружная затычка находится на месте, и обрезал ее вровень со стеной. Потом я взял эстамп, который стоял прислоненный к книжному шкафу, заклеил края разрыва и, прищурившись, рассмотрел результат. Получилось довольно пристойно, во всяком случае, для того, чтобы послужить маскировкой. Я взял в кладовой зонтик, сунул эстамп в пластиковый пакет и отправился в багетную мастерскую. Полтора часа спустя эстамп снова висел на стене чуть выше своего прежнего места.
Вечером после еды я пришел в кабинет и запер дверь. Соблюдая всевозможные меры предосторожности, по миллиметру вытащил проволоку из отверстия. Штукатурка затвердела, также как и мои чувства. Но, заглянув в отверстие, я увидел только аккуратно заправленную постель. Вероятно, Макс был у Холли, которая снимала квартиру в десяти милях от нас, в Туле. На следующий день, дождавшись полуночи, я снова извлек проволоку, но все, что я увидел, была темнота, а все, что я услышал, — это размеренное дыхание спящего Макса.
Если это не сексуальное расстройство, то что это? Я решил дождаться конца недели, надеясь на блестящие субботние перспективы.
16
Велосипедная гонка привлекла не слишком много участников. Пятнадцать человек из десяти тысяч — это и в самом деле немного для любого мероприятия. Даже иностранный сериал (в «Оле Мисс» иностранный, значит, претенциозный, значит, скучный) имел бы больший успех. Это не считая того, что мероприятие было задумано как благотворительное. Но я никогда не видел велосипедных гонок, и, думаю, те, кто пришел их смотреть, тоже. Среди пятнадцати участников была лишь одна женщина, автоматически становившаяся первой в женском соревновании. Но организаторы решили, что она будет стартовать вместе с мужчинами, которые разминались перед гонкой, разъезжая вокруг рощи.
Мероприятие это можно было, конечно, спланировать лучше. Декабрь не самое лучшее время для велосипедных гонок: температура воздуха градусов пять и чертовски сыро. Кроме того, в декабре студентам не до гонок, у них и без того масса дел — надо подчистить долги, накопившиеся за семестр. Реклама из рук вон плохая — всего несколько листовок. Устроители не удосужились даже объявить о мероприятии в газете. Небрежной оказалась и непосредственная организация соревнований. Очевидно, что каждый из участников рассчитывал в случае победы получить нечто большее, чем удовольствие от езды, но «Сигма-Дельта» решила: а почему бы и нет? — и бросила участников на произвол судьбы. Победитель получал, конечно, какие-то вульгарные призы и знал это, но были забыты многие другие вещи. Я накоротке переговорил с организатором — рыжим веснушчатым парнем по имени Дуайт. Действовал он из наилучших побуждений, но, будучи студентом, переведенным сюда по обмену из Род-Айленда, не знал, как делаются дела на Юге.
Даже я смог бы указать ему на ошибки. Во-первых, не выбрали королеву гонок, победитель не совершал круг почета по кампусу, во-вторых, после мероприятия не устроили празднества с выпивкой, в-третьих, не заготовили футболок с надписями «Первые ежегодные велосипедные гонки „Сигма-Дельты“» — я мог бы продолжить этот прискорбный список. Вместо всего этого устроили просто гонки, на которых не было никого, кроме участников и их близких друзей. Даже сами члены братства «Сигма-Дельта» не пришли дружными рядами болеть за своих. Я, например, не увидел здесь своего бывшего студента, который рекламировал гонку в союзе. Было субботнее утро, раннее утро, и большинство потенциальных болельщиков еще не пробудились после вчерашней выпивки.
Но мне все равно было любопытно, и вот я здесь, стою один, от холода переминаясь с ноги на ногу. Сьюзен сказала, что тоже пойдет, но потом так сладко уснула, что у меня не хватило духа ее разбудить. Думаю, правда, что она не пошла только из-за того, что не хотела видеть Макса. Было здесь несколько студентов-правоведов — только для того, чтобы развеять монотонную скуку зубрежки, тем более что маршрут гонки проходил мимо юридической библиотеки. Я слышал, что несколько студентов юридического тоже приняли участие, а один из них — в полосатом свитере — всерьез обсуждал с встревоженным Дуайтом вопрос о долговых платежах. Заметил я и даму-юриста, крутившую роман с Джоном и Джозефом. Вид у нее — в обтягивающих черных джинсах — был на редкость спортивным. Она послала воздушный поцелуй одному из гонщиков-правоведов, разминавшихся у рощи. Потом она подмигнула мне, и я ответил тупой радостной улыбкой.
Была среди болельщиков и Холли. Определенно эта девочка была рождена для того, чтобы носить свитера; надетый сейчас на ней зеленовато-голубой образец очень выгодно подчеркивал ее щедрые округлости. Увидев ее один раз голой, пусть даже и полускрытой высокой травой, я стал испытывать к ней более дружеские чувства; во всяком случае, мое отношение к ней стало почти интимным. Я помахал ей забинтованной рукой, и она легкой иноходью подкатилась ко мне.
Холли восхищенно взглянула на мою руку:
— О-о, что это с вами случилось?
Очевидно, Макс забинтовал рану слишком основательно для такого пустяка.
— Пробил кулаком стекло входной двери Макса. — Я с жеманной стыдливостью спрятал руку за спину. — Все не так плохо, как кажется.
— С Максом надо поосторожнее, — серьезно сказала она. — Вы знаете, что он сегодня участвует?
— Ну да. Поэтому я здесь.
— Я тоже. — Она обхватила себя руками. — Надеюсь, он вышибет дух из других ездоков.
— Угу. — Я давно собирался спросить ее о той злополучной вечеринке у Нэнси Крю и о нашем ночном столкновении, но с тех пор прошло уже несколько недель. Но как постоянно твердит мать Сьюзен, лучше поздно, чем никогда. — Э-э, Холли, я давно хочу спросить насчет той вечеринки у Нэнси. Я тогда был здорово пьян…
Она не слишком скромно захихикала.
— Да, это точно.
— Ну, я прошу прощения за то, что толкнул вас тогда, я имею в виду, во время танцев.
— Ну, да что там. Вас здорово качало, но на меня вы не налетели. Во всяком случае, я этого не припоминаю. Кроме того, — она усмехнулась, — на меня не стоит налетать, у меня неплохо поставлен удар. — С этими словами она чувствительно толкнула меня, едва не сбив с ног. — Пойду на стартовую линию. Помните, болеем за Макса!
Я кивнул, испытывая далеко не полное облегчение. Может быть, Холли в последний момент увернулась. Но тогда куда же я влетел? В стол Нэнси? Лучше всего вообще забыть об этом деле. Я огляделся. Единственным человеком, которого я здесь знал, помимо Холли, был отсутствовавший гость Нэнси — Эрик. На нем был неизменный твидовый пиджак, теннисные туфли, а под мышкой он держал пачку листовок. Вероятно, на этот раз он решил использовать место старта как импровизированную трибуну. Рядом с ним стоял высокий, мощного телосложения черный мужчина с замкнутым, смутно знакомым лицом, наполовину спрятанным под старомодной клетчатой кепкой. Приглядевшись, я понял, что это Натаниэль, бывший сокамерник Эрика. Склонность Эрика вербовать себе учеников и последователей была поистине волшебной. Чтобы, не дай бог, не получить листовку, я перешел на другую сторону трассы.
Участники все еще разъезжали по дороге, разминаясь перед гонкой. Они не спеша делали повороты, разгонялись на прямых участках, а потом повторяли все сначала. Среди них не было высоких профессионалов, хотя у некоторых были потрясающие велосипеды. Сверкающая краска, устремленные вперед стремительные линии, педали, подогнанные точно под подошвы туфель. Колеса блестели в неярком утреннем свете, шины выделялись на фоне этого блеска двумя узкими черными полосками. Эти машины были похожи на обычный раздолбанный велосипед не больше, чем «мазерати» на потрепанный «шеви». Но управлять ими было несравненно труднее. Любопытно, но ездить на таких велосипедах труднее всего, когда скорость минимальна. Седоки начинают качаться, а один и вовсе потерял равновесие, когда женщина-правовед послала ему очередной воздушный поцелуй.
Я вдруг заметил, что наш помощник Трейвис тоже участвует в гонке — он был на видавшем виды «швинне» с разболтанными крыльями. Для кафедры английского вполне хватит и этого. Но я не видел Макса, хотя было уже 8.25. Гонка должна была начаться в 8.30. Дуайт уже протягивал ленту по линии старта. Став у линии, он начал объяснять участникам маршрут. Старт у факультета журналистики, поворот за домом женского Студенческого союза, потом длинный спуск с холма мимо женского общежития «Кросби». Потом за спуск участники должны были расплатиться длинным подъемом к общежитию спортивного факультета, где вообще не ходит никто, кроме самих спортсменов и тренеров. Все знали, что обитатели этих корпусов не общаются с остальными студентами и получают на завтрак по куску сырой конины. Во что бы превратилась гонка, если бы они приняли в ней участие, можно только гадать.
На полпути к общежитиям дорога резко забирала вверх, и этот крутой подъем продолжался четверть мили, до поворота у здания Корпуса подготовки офицеров резерва. Затем следовал плоский участок, по которому участники должны были вернуться к роще и факультету журналистики. Круг составлял около двух миль. Участникам предстояло пройти пять кругов. Несколько лучших гонщиков уже по нескольку раз прошли маршрут, чтобы вжиться в него, так, во всяком случае, сказала Холли. Она неожиданно оказалась кладезем разнообразных сведений, очевидно, ее неплохо проинструктировали. Сам Макс в это время был еще в пути — очевидно, проходил последний этап.
— Если он не приедет вовремя, — тихо прорычала Холли, — то я лягу поперек старта.
В 8.27 появился Макс в черных обтягивающих брюках и сине-белом свитере с надписью MIYATA. На левом бедре был приколот листок бумаги с номером два. Он мощно нажал на педали, но от его стараний покраснела Холли. Увидев его, я понял, что отличает настоящего велосипедиста от любого другого дурака, научившегося крутить педали. Он гладко обогнул угол и плавно проскользнул последние сто ярдов. По его позе и посадке можно было сказать, что он родился в седле; стремительный желтый велосипед чутко откликался на каждое движение Макса. В движениях этих не чувствовалось ни малейшего напряжения, да и сами движения были скупы, в них не было ничего лишнего. Макс помахал Холли и встал передним колесом на линию старта. Углом глаза я заметил, что в последний момент к участникам присоединился еще один гонщик, но в это время Дуайт поднес ко рту мегафон, и я не стал отвлекаться.
Один из членов братства протянул Дуайту стартовый пистолет, но он ошарашенно посмотрел на него и вернул.
— Пять кругов. Перед последним кругом мы ударим в гонг. Участники готовы? На старт, внимание, марш! — При слове «марш» он подскочил вверх на добрый фут, и не оттого, что сильно разволновался, а потому, что в это время один из студиозусов все же выстрелил у него за спиной из стартового пистолета. Каждый теперь знал, что Дуайт не до конца пропитался суровым и выдержанным духом студенческого братства «Сигма-Дельта».
Большинство участников рванулись вперед с места в карьер, но несколько человек сразу же отделились от основной группы. У первого поворота Макс был впереди, на хвосте у него висели трое или четверо других участников. Разрыв между ними и остальными был поначалу не больше двадцати футов, но увеличился, когда Макс покатился с холма, превратившись в сине-белую точку.
Они вернулись меньше чем через восемь минут. Их было четверо: Макс, долговязый правовед, кадет из КПОР и гонщик, присоединившийся к остальным еще позже Макса. Они ехали стройной линией: Макс впереди, а второй сильно нажимал, чтобы догнать лидера. Правовед тяжело дышал; у кадета был презрительный вид, словно думать о дыхании настоящей военной косточке не полагается. Макс кивнул Холли, показывая, что он тяжко работает, но не умирает. Номер девять не спешил, идя замыкающим в группе лидеров.
Я не понял, с какой скоростью был пройден первый круг, но кто-то быстренько посчитал и сказал, что они идут со скоростью около двадцати пяти миль в час. Было бы интересно посмотреть, как они преодолевают подъем, но я боялся пропустить финиш. Основная группа показалась через минуту; выглядела она неважно. Более того, обреченно и печально. Один из гонщиков братства, я слышал это своими ушами, обещал подруге легко победить. Женщина-участница опережала его на два корпуса. Трейвис едва держался. Заднее крыло обвисло и высекало искры из асфальта. Вся группа походила на арьергард отступающей армии. Как и многое другое здесь, это зрелище почему-то напомнило мне о Гражданской войне.
На втором круге страдавший одышкой парень отстал от группы лидеров, но нагнал ее у линии старта. Этот маневр он будет повторять на каждом круге. Гонщик из КПОР твердо держался в середине. На этот раз впереди оказался неизвестный номер девять, хотя Холли прошептала мне, что положение во втором круге ничего не значит. Ее полные губы были в дюйме от моего уха, дыхание, вероятно по случаю гонок, отдавало сладким медом. Я же думал о великом разнообразии плоти: у Холли она гладкая, но в мелких ямочках. Ее груди едва не уперлись мне в ребра. Я отвернулся и увидел, что женщина-правовед пристально смотрит в нашу сторону.
— Надеюсь, с ним ничего не случилось, — пробормотала Холли.
Эта мысль до сих пор не приходила мне в голову — сам не знаю почему, так как я всегда думаю о возможных несчастьях. Все велосипедисты были в шлемах, но я уверен, что при падении с велосипеда на такой скорости можно легко сломать себе шею. Особенно если налететь на встречную машину. Правда, полиция перекрыла все близлежащие перекрестки, но на маршруте было полно припаркованных автомобилей. Я подумал о Вилли Таккере, но постарался отогнать это ненужное воспоминание.
После третьего круга с небольшим отрывом лидировал студент КПОР. У него были мощные бедра, он наклонил вперед голову и рвался вперед, как разъяренный бык. Макс и номер девять крутили педали быстрее, но с меньшими усилиями и скоро догнали лидера. Задыхавшийся снова умудрился не отстать, замкнув группу лидеров. Основная группа показалась через две минуты. Когда она добралась до поворота, на дорогу со стоянки факультета журналистики выехал ярко-красный БМВ.
Раздался громкий крик и визг множества велосипедных тормозов. К счастью, участники группы шли друг другу в затылок, и эта линия обогнула машину, как змея. Женщина-водитель, осознавшая свою ошибку, остановила машину посреди дороги. Но один незадачливый ездок не смог вовремя затормозить и по какой-то причине не свернул. Все происшедшее напоминало мастерски снятый стоп-кадр. Переднее колесо стукнулось в левое крыло машины. Удар мгновенно остановил велосипед. Велосипедист вылетел из седла и грациозно пролетел через капот. Одна рука была протянута вперед, словно он предлагал даме букет. Водитель, худая блондинка в розовом свитере и шарфике, неподвижно сидела, уставившись на всю эту сцену. Женщина была сильно накрашена, ее ярко-красные губы сложились в идеально круглую букву «О».
Дуайт рысью бросился к велосипедисту. Тот оказался невредим и вел себя весьма скромно. Еще один пример южной галантности. Любой житель Нью-Йорка начал бы орать на блондинку или требовать ее страховые данные. Вместо этого парень, спрыгнув с капота, сказал так, что его слышали все:
— Простите, мадам, если я повредил вашу машину. — Он похлопал по крылу БМВ так, словно это была норовистая кобылка.
Женщина все еще пребывала в ступоре, но умудрилась повернуть голову и кивнуть. Когда ее речевой центр обрел наконец некоторую свободу, то ее южный говор оказался столь плавным, что казалось, по нему можно было съехать на коньках.
— Ну, я прошу меня простить… Я не думала… У вас правда все нормально?
Дуайт посмотрел на велосипедиста, велосипедист, пожав плечами, посмотрел на Дуайта. Дуайт махнул рукой, и блондинка уехала. Велосипедист присел на корточки и осмотрел переднее колесо, принявшее какую-то невероятную форму. Колено у парня начало кровоточить, но он отказался от протянутого Дуайтом носового платка, откатил велосипед к обочине и до конца соревнования превратился в зрителя.
Гонка закончилась быстро. Перед началом последнего круга Дуайт ударил в гонг, а потом попросил нескольких человек отмечать финиширующих. Мне было нечего делать, и я вызвался помочь. Через некоторое время на заключительном отрезке появилась лидирующая четверка. Самое забавное заключалось в том, что все они, казалось, из последних сил, еле-еле, крутили педали. Холли толкнула меня в бок и сказала, что никто из них не хочет пока вырываться вперед. Или, лучше сказать, почти никто: парень из КПОР летел впереди, по-прежнему наклонив голову вперед.
— Смотрите, что будет, — шепнула Холли.
За сотню ярдов до финиша Макс рванулся вперед, обойдя долговязого и кадета и резко ускоряясь. Он привстал с седла, изо всех сил нажимая на педали. КПОР даже не поднял головы, долговязый с одышкой отстал. Опережая остальных на десять футов, Макс несся со скоростью не меньше тридцати пяти миль в час, велосипед мощно раскачивался в такт движениям ног. Оставалось сто ярдов. Судьба гонки, казалось, была решена.
В этот момент номер девять обошел Макса. Это произошло как-то буднично и настолько просто, что, казалось, не стоило девятому номеру никакого труда. Этот велосипедист просто сделал то же, что Макс сделал немного раньше. Он летел так быстро, что было впечатление, что Макс еле ползет. Велосипед девятого рванулся вперед, и гонка закончилась. Победитель проехал через линию финиша, профессионально вскинув руки вверх. Макс финишировал через секунду, усталый и злой. В последний момент к юристу, видимо, пришло второе дыхание, всплеск энергии — и он финишировал третьим. Армия замкнула четверку лидеров.
По инерции все они проехали еще пару кварталов, а потом, развернувшись, медленно поехали назад. Всем хотелось поближе посмотреть на победителя. Когда номер девять снял шлем, он показался мне похожим на моего школьного учителя физики. Оказалось, что это преподаватель с кафедры акустики, значит, я был недалек от истины. Люди, всю жизнь имеющие дело с физическими законами, несут на себе их неизгладимый отпечаток.
— Фред Пиггот, — объявил Дуайт — естественно, неправильно — имя победителя. Один из двоюродных братьев Сьюзен носит такую фамилию, и южане произносят ее Пайгат.
Макс, объехав нас, затормозил и остановился. Холли выглядела озабоченной, и мне было ясно почему. Надо ли поздравить его со вторым местом или посочувствовать по поводу упущенной победы? Макс был парень с характером. Холли выбрала компромисс — она просто подошла к Максу и от души его обняла.
Очень любопытный факт: округлости полных женщин всегда идеально приспосабливаются к формам другого тела. Выпуклости сглаживаются, плотно прилегая к прижатому к груди человеку, даже если он сидит на велосипеде. Макс вытянул руку в перчатке, чтобы найти обо что опереться, но так как рядом был только один устойчивый предмет — Холли, то он нашел опору в ней. Ее обширное тело буквально утопило в себе Макса. На мгновение они слились в некое животное о двух ногах и двух колесах. Она не могла отереть пот с его бровей и принялась гладить по шлему. Я не слышал, что она шептала ему, но он в ответ подавленно кивнул и указал рукой на номер девять.
Прочие гонщики финишировали разрозненно и беспорядочно, по большей части они выдохлись настолько, что у них не хватило сил на финишный рывок. Я зафиксировал четвертого и пятого из них. Женщина-участница сошла с дистанции где-то посередине, и ее нигде не было видно. Еще через несколько минут показался последний участник заезда, лицо его было искажено болью. Это был Трейвис, ехавший со скоростью идущих бодрым шагом девочек из женского Студенческого союза.
— Но я финишировал! — объявил он всем, кто хотел его слышать.
Было ясно, что на следующей неделе нам на кафедре будет о чем послушать.
Как только гонки закончились, Эрик принялся раздавать листовки, в особенности велосипедистам, слезшим со своих машин. Они были настолько усталыми, что у них просто не хватало сил отказаться. Натаниэль оккупировал противоположную сторону дороги. Он говорил меньше, чем Эрик, но вид у него был более угрожающий, и листовки расходились лучше. Я тоже взял одну. Текст начинался с жирно набранного заголовка: «В ОКСФОРДЕ НЕТ ЧЕСТНОГО СУДА». Я от души понадеялся, что ни один из копов, патрулировавших гонку, не подъедет к нам слишком близко. Они бы снова взяли его за нарушение — не важно чего.
Макс остался в одиночестве, на минуту оторвавшись от Холли. Он долго тяжелым взглядом рассматривал велосипедиста, похитившего победу у него из-под носа. Макс до крови закусил губу и теперь слизывал кровь кончиком языка. Наконец он сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух, очевидно вместе со злостью. Потом, надо отдать ему должное, Макс подъехал к Фреду Пигготу и представился. Позже я узнал от Макса, что Фред выступал за команду Миссисипи, которую спонсировала какая-то газовая компания в Джэксоне. Фред отличался хрупким телосложением, но таких накачанных и рельефных мышц бедер и голеней я еще не видел ни у кого. С того дня Макс начал время от времени тренироваться вместе с Фредом. Я часто видел, как они вместе выходили из лаборатории физической акустики. Не имею ни малейшего представления, что именно они обсуждали, проезжая вместе двадцать-тридцать миль. Я бы начал ревновать, если бы не понимал, что у них едва ли хватало дыхания на разговоры.
Еще через пятнадцать минут Дуайт вручил призы — литые металлические кубки с выгравированным золотом изображением велосипедиста. Холли снова обняла Макса, но было видно, что этот жест не вызвал у него ничего, кроме раздражения. Он велел подержать ей велосипед и отправился за кубком, ковыляя к столу на шпунтованных велосипедных туфлях. Дуайт поздравил его после Фреда Пиггота и, естественно, неправильно произнес и фамилию Макса, назвав его Фанстером. Так как награды полагались только трем победителям, вся остальная армия осталась ни с чем. Макс понес кубок к тому месту, где оставил Холли.
Но Холли там не оказалось. Она разъезжала по кругу на велосипеде Макса, плохо справляясь с рулем. Ноги ее были слишком коротки, зад целиком проглотил седло; она неуклюже развернулась и, медленно крутя педали, виляя из стороны в сторону, покатила в обратном направлении. Я мог понять порыв Холли, особенно ее впечатляли гладкие движения Макса во время разминки. Но на Макса упражнения Холли не произвели должного впечатления. Она не смогла закрепить свои туфли в зажимах, и они болтались, задевая землю при каждом обороте педалей. Макс не мог бежать за ней в шпунтовках, поэтому он наклонился и стал снимать шпунты.
— Ю-ху, Макс! — Холли попыталась помахать рукой, но это усилие заставило ее съехать с дороги на лужайку.
— Эй, слезь с велосипеда, он тебя не выдержит! — Макс снял одну туфлю и лихорадочно занимался другой.
Холли снова оказалась на дороге, но теперь, когда гонки закончились, на ней возобновилось движение и снова появились машины. Холли петляла по двойной сплошной линии, когда рядом показался уже знакомый всем красный БМВ. Водитель попытался проскочить мимо, но в это время Холли вынесло на проезжую часть прямо под автомобиль. Раздался жуткий металлический скрежет. Дуайт промычал нечто невнятное и бросился к месту происшествия. Фред, который так и не потрудился спешиться, просто подъехал. Макс, бросив снимать туфлю, поскакал в том же направлении на одной ноге. Я последовал за Максом.
— О боже! Я думала, что теперь могу проехать здесь без опаски. — Это была все та же худая, как палка, блондинка с тем же огорошенным взглядом.
— Не везет вам сегодня, леди, — сказал, подойдя, парень, с которым она столкнулась чуть раньше. Он едва ли не сочувственно покачал головой.
— Но полицейский сказал — я спрашивала. И он сказал…
— Не важно, что он, черт возьми, сказал. Может быть, вы для начала выйдете из машины? — К месту происшествия подошел Макс.
Блондинка была явно оскорблена, но подчинилась. Холли лежала в нескольких футах от велосипеда, глядя в небо, ее толстые руки и ноги неуклюже распластались по мостовой. Из разбитой головы текла кровь, штанина джинсов была сбоку разорвана. Свитер задрался, обнажив мягкий белый живот, который выглядел как сливки между двумя коржами пирожного. Губы были слегка приоткрыты, словно Холли хотела продемонстрировать кому-то французский поцелуй. Выставленная напоказ плоть была одновременно уязвимой и свободной и даже слегка непристойной. Но она не пыталась прикрыться; Холли была без сознания.
Второй раз за последние две недели я вызвал скорую помощь.
17
Холли отделалась легким сотрясением мозга и тремя швами на голове. Женщина из красного БМВ, обладательница мозга полудохлой курицы, отделалась всего лишь легким испугом — ее отпустили с миром на все четыре стороны; в самом деле, нельзя же наказывать курицу. Максу пришлось заменить в велосипеде несколько запчастей, но рама осталась цела. Этот велосипед явился больным вопросом в отношениях Макса и Холли, обвинившей его в том, что велосипед ему дороже возлюбленной, которая могла умереть. Макс действительно прямо из госпиталя поехал в магазин за деталями для велосипеда. Она говорила, что Максу не было никакого дела до того, что с ней случилось. В этом она была не права. Я стоял за спиной Макса и видел, как он выглядел, когда смотрел на лежавшую на дороге истекавшую кровью Холли с вывалившейся из одежды плотью.
Он был в восторге.
Возможно, я что-то преувеличиваю. Никто, кроме меня, этого не заметил, и, как бы то ни было, выражение восторга в глазах Макса тут же сменилось озабоченностью и сочувствием. Именно поэтому только я мог отправиться вызывать скорую помощь: Макс был занят поддержанием озабоченности, а Дуайт мог только клясть себя за то, что ему вообще пришла в голову эта несчастная идея — организовать гонки. Когда я вернулся из здания факультета журналистики, откуда звонил в скорую, на месте происшествия собралась целая толпа. Эрик и Натаниэль раздавали листовки местным обывателям. Вернувшись домой, я изложил Сьюзен всю историю в отредактированном и урезанном виде — это уже вошло у меня в обычай. Я чувствовал, что мне хочется обелить Макса, и не понимал, какой эффект это производило на Сьюзен. Это непонимание было частью проблемы, но тогда я думал, что это всего лишь недостатки моего характера. Как бы то ни было, в тот момент я тоже был занят.
Конец семестра не обещал ничего особенного, за исключением собственно конца семестра и долгожданного отдыха. Но для того, чтобы пережить последние две недели семестра, надо было преодолеть препятствие в виде потока студенческих сочинений, принять экзамены и пережить омерзительную погоду — пережить буквально и фигурально. Дождь шел без перерыва с утра до ночи — во всяком случае, мне так казалось. Для осени характерен один извращенный феномен — чем короче становятся световые дни, тем длиннее кажутся дни рабочие. На второй неделе декабря на моем горизонте маячили восемьдесят выпускных тестов и объемистое сочинение от каждого из пятнадцати выпускников с моего семинара по модернизму. Оценки я мог выводить, следовательно, всего лишь за несколько дней до того, как мне предстояло их написать.
Я бросил взгляд на первый реферат в стопке, пятнадцатистраничник, озаглавленный «Это видят глазами: зрительная образность у Конрада». Этот опус принадлежал перу Бреда Сьюэлла, человека весьма благонамеренного, но отличавшегося самыми очевидными трактовками любого произведения. «Глаза — прежде всего и самое главное, суть средство, с помощью которого мы видим, — победоносно вещает он в самом начале. — Что бы стали мы делать без них?» Он делится этим потрясающим наблюдением с таким же видом, с каким преданный пес приносит хозяину самую сладкую косточку и заглядывает в глаза, ожидая вознаграждения. Сегодня у меня нет настроения пинать собак. Я откладываю реферат и наугад выбираю следующий.
Этот оказывается трактатом не меньше чем на двадцать страниц. Озаглавлено сие сочинение так: «Отображение политического всевластия в „Леде и лебеде“ Йитса». Это Лора Рейнольдс, серьезная выпускница, получившая специальное разрешение посещать мой семинар. Очевидно, она уже давно пришла к выводу, что все в жизни пронизано политикой — от еды до секса включительно. Но так на мир смотрят многие знаменитые феминистки, Лора не одинока, и мне не на что жаловаться. Эссе Рейнольдс открывалось так: «Наиболее заметным аспектом сонета Йитса „Леда и лебедь“ является воплощение фаллической власти над подчиненной материей». Это достаточно верно, так как в сонете речь идет об изнасиловании. Я бегло просмотрел реферат и скоро уперся в следующий пассаж: «Даже то, что лебеди объединяются в стаи, есть проявление политически подавленной деятельности, сочетающейся, как мы видим, с насильственной изоляцией от социальной группы и с особо неэффективной формой межвидового сохранения. Мать становится чужой (см. Ходоров, 59)».
Самое ужасное заключалось в том, что Лора обещала стать подающим надежды профессиональным критиком. Откройте любой литературно-критический журнал, и вы поймете, о чем я говорю. Следовательно, читать этот реферат надо с ясной головой. При выставлении оценки мне придется подавить подозрение, что она на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что такое в действительности сексуальное рабство. Но это не теперь. Сейчас я не в том расположении духа и состоянии ума. Я встал, подошел к эстампу, снял его и праздно проверил затычку. Ничего — была лишь середина дня. Черт! Я установил это устройство неделю назад, все это время промучился чувством вины, но пока еще не смог никого ничем удивить. В последние дни я редко видел Макса и думал, что большую часть времени он проводит у Холли. Я бросил еще один взгляд на комнату Макса, на представлявшую его кровать, но я уже устал от метонимии. Я вставил затычку на место, повесил на гвоздь эстамп и снова сел за стол. Развернув вращающийся стул, я отвернулся от рефератов, но зато уперся взглядом в груду толстенных талмудов, громоздившихся на столе, как грозящая вот-вот рухнуть башня. Я резко встал со стула и вышел из кабинета. Мне нужен воздух!
Внезапные припадки клаустрофобии — неотъемлемая часть жизни ученого; раз за разом в голову приходит отчаянная мысль: хорошо бы стать водителем грузовика и гонять этот тарантас по дороге номер пятьдесят пять. У Джона Финли, специалиста по культуре Юга, тоже бывают приступы такого рода. Когда запах мела и книжной плесени становится невыносимым, он летит в Новый Орлеан со скоростью восемьдесят миль в час, что неплохо для его потрепанного «шеви». Не знаю, что говорит в этих случаях его жена детям, вероятно, что-нибудь вроде «Папочка уехал в деловую командировку». В этом нет ничего удивительного, Джон — страстный поклонник Керуака и преподавал «На дороге» в битовской литературной секции. Но нельзя вечно вести призрачную жизнь, питаясь чужими фантазиями. Это все равно что вечно прижимать нос к витрине — в конце концов сломаешь нос.
Обычно я переживал такие состояния с помощью Сьюзен. Это она показывала мне рой мотыльков, повисший марлевой завесой над колючим хвойным кустарником, или одинокого черного рыбака, удившего рыбу в канале — в пяти минутах ходьбы от кампуса. Но Сьюзен уехала на весь вечер — заниматься своей вечной общественной деятельностью. Работа в госпитале показалась ей докучливой, и теперь она трудилась в приюте для животных. Я был предоставлен сам себе. Сначала я подумал было съездить в Тупело и навестить Черил. Она медленно поправлялась и до сих пор не смогла понять, почему это приключилось с ней или за что была наказана. Следуя какой-то извращенной логике, родители запретили ей выходить на улицу. Теперь же, в довершение всех бед, ее охватила невыносимая тоска, которую родители ошибочно приняли за моральные переживания. Девушке было необходимо общество других людей. Но я навещал ее на прошлой неделе и не хотел быть назойливым. Можно было пойти в «Книжный червь», покопаться в книгах, но я и так уже устал от текстов. Будь я Максом, убил бы время ездой на велосипеде. Но меня зовут Дон, и я — пешеход. Я решил просто прогуляться.
Временами я впадаю в перипатетическое настроение, но иногда бывают случаи, когда мои блуждания должны иметь определенный пункт назначения. Сегодня у меня как раз было такое целенаправленное настроение, и я пустился по тропинкам кампуса, которые на самом деле суть не что иное, как вымощенные тротуары, окружающие университетские постройки, в надежде наткнуться на что-нибудь стоящее внимания. Но для этого мне надо было положиться на свою интуитивную прозорливость и везение. Сначала я прошел мимо обсерватории Барнарда, старого кирпичного здания с высокой круглой башней, соединенного длинным переходом с Центром изучения культуры Юга. С людьми из этого здания я встречался только во время ежегодных фолкнеровских чтений, приходил и получал талон на бесплатный обед. Потом я миновал рощу — разросшуюся купу деревьев на довольно обширной лужайке, заставленной загородными столиками и пересеченной многочисленными тропинками. По ночам здесь собирались парочки. Некоторые из их тайных действий в Миссисипи преследовались по закону.
Вдоль Университетской авеню стояли здания, в которых я вообще не бывал ни разу в жизни. То были постройки из мощного серого камня, в большинстве естественно-научные и инженерные факультеты. Я двинулся дальше мимо административного здания, известного под названием лицей, образца солидной архитектуры, дома с шестью колоннами с каждого края фасада, похожего на довоенный Парфенон. Здесь я каждый год возобновляю контракт и сюда ношу свои отчеты с оценками. Я быстро прошел мимо и свернул за библиотеку Джона Дэвиса Уильямса.
Неподалеку от библиотеки стоял ее двойник, с таким же бежевым кирпичным фасадом, ступенями и окнами. В первый год моего пребывания здесь я иногда путал здания и, только взойдя на середину лестницы, понимал, что здесь не выдают книги. Постепенно до меня, как водится, с большим опозданием дошло, что этот дом все же чем-то отличается от библиотеки. Среди прочего отличительным знаком была большая надпись, высеченная по всему фасаду: «ДОМ ДЖОРДЖА ПИБОДИ». Затем я долго думал, что здесь находится геологический факультет, — сам не знаю почему.
Прошел дом Пибоди, и ноги понесли меня влево. Вскоре я понял, что поднимаюсь по серым каменным ступеням. Началась сессия, и студентов в кампусе было мало. Либо они сидели в аудитории, пытаясь найти ответ на вопрос номер пять, или уже нашли все ответы и преспокойно ехали домой на Рождество. Я отчетливо слышал шарканье моих подошв по камням.
Но, как только я подошел к загадочной двойной двери, на меня снизошло прозрение. Не знаю, почему я не приходил сюда раньше. «ДИРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА» было написано белыми накладными буквами на черном фоне под стеклом. Было такое впечатление, что буквы за последнее время сильно сдвинулись со своих исходных мест. Например, в третьей строке сверху я прочитал: «СТЭН ЛИ ПИ СОН. КАФ ДР З ВЕ УЮ ИЙ 310Д». Почему бы мне не зайти сюда?
Я чувствовал себя первооткрывателем, этаким Бальбоа на неведомом бежевом континенте. Стенли — мне было известно это по бесконечным жалобам Джины — все время пропадал в своей лаборатории, и теперь я знал, где он работает. На волне охватившего меня энтузиазма я решил нанести ему визит. Нажимая кнопку лифта, я придумывал первую фразу. «Вот был тут неподалеку, так вот где вы экспериментируете. Могу я одолжить у вас пару банок стероидов?»
В лифте не было указателя этажей, и мне показалось, что он движется слишком долго. Двери открылись, и я увидел все тот же скучный цвет беж, решив, что ошибся кнопкой, я снова нажал на цифру 3. Так как двери немедленно открылись, я понял, что третий этаж выкрашен точно в такой же бежевый цвет, что и первый, и вышел. Я сразу увидел 310 на притолоке двери. Она была приоткрыта. За дверью оказался холл с множеством кабинетов — от А до Д. Все двери были заперты, но в номер 310Д я решил постучать.
За дверью послышался шуршащий звук, словно крупное животное скребло лапами по газетам.
— Минутку, — воскликнул Стенли. — Кто там?
Номер со стероидами не пройдет. Стенли просто одарит меня уничтожающим взглядом или скажет, что у него нет лишних гормонов, и закроет дверь перед моим носом. Через десять минут до него, быть может, дойдет, кто у него был.
— Это Дон Шапиро. Я был в вашем здании и решил зайти.
Дверь резко распахнулась, едва не разбив мне голову.
— Дон, что вы здесь делаете?
— Ничего особенного. — Выражение его лица было сродни приоткрытой двери, поэтому я уточнил: — Я никогда прежде не был в этом здании. Вот решил зайти посмотреть.
— Почти все двери закрыты и опечатаны. Безопасность. — Он посмотрел на свои часы — увеличенную имитацию «ролекса». — Да и вообще в это время здесь уже мало народу. Хотите, чтобы я вам показал лабораторию?
— Э-э… да. Спасибо, мне, если честно сказать, не приходилось видеть… такие учреждения.
Я вспомнил, как Джина рассказывала, что Стенли вводит крысам в мозг какие-то пептиды, но ни разу не потрудилась сказать зачем.
— Ладно, подождите секунду. Я только закончу здесь. — Он на минуту вернулся в свой кабинет, нажал несколько клавиш на компьютере и дождался ответа. Выйдя, он запер кабинет на ключ. — Осторожность не повредит. Эти активисты из Лиги защиты прав животных просто охотятся за мной.
Я сочувственно кивнул, вспомнив недавнюю колонку в «Дейли Миссисипиэн» о наших бедных братьях меньших из семейства псовых, «этих христианских мучениках нашего времени». Учитывая, что самым популярным занятием в этих местах является охота, я, помнится, удивился, что такая статья вообще могла появиться.
— Полагаю, вам не понравилась та статья на прошлой неделе.
Стенли покачал головой.
— Статья — это ерунда. Вы не видели список мероприятий на пятницу? — С этими словами он достал бумажник и извлек оттуда вырезку, которую протянул мне.
«Встреча организации УППЖ» — гласил заголовок. «Ученые против прав животных. Первый ежегодный кинофестиваль памяти маркиза де Сада в Пибоди-Холл. Искалеченные мыши, удушенные голодом голуби, гильотинированные кошки… Если вы любите пытки животных, не пропустите это зрелище!» Было указано место проведения мероприятия: «Пибоди-Холл, третий этаж».
Я, нисколько не удивившись, отдал ему объявление. Когда сатира становится слишком злобной, она обжигает, как мне кажется, самого автора. Тем не менее я бы не хотел, чтобы юмор такого рода был обращен против меня.
— Это поместили в список мероприятий?
— Там в комиссии по отбору сидят тупицы, не понимающие шуток. Кроме того, там нет подписи, поэтому никто не знает, кто это написал. — Он снова покачал головой. — Уверен, что эти люди ни разу не были в лаборатории.
Теперь я понял, почему Стенли предложил мне экскурсию. Ему надо было кому-нибудь показать, что он невиновен. На самом деле я был скорее на стороне Стенли, чем на стороне его противников. Я люблю животных, но в конечном счете предпочитаю все же особей моего вида, поэтому восторгаюсь вакцинами, полученными и усовершенствованными в опытах на животных, даже если жертвами этих исследований пали сотни тех, кого П. Г. Вудхаус назвал «нашими немыми друзьями». К тому же я не мог не заметить, что многие активисты движения за права животных ненавидят людей. Помнится, много лет назад, когда я еще жил на Севере, мои соседи приклеили такой стикер на бампер своего автомобиля: «Внимание: я торможу перед животными». Соседи с другой стороны прилепили к своему «фольксу» другой стикер: «Внимание: я торможу перед людьми», и я с ними полностью согласен.
Но выступил бы я в поддержку косметической компании, ослепившей сотни кроликов для того, чтобы выпустить новую краску для ресниц? Нет, так как я не думаю, что чьей-либо жизнью можно распоряжаться столь легкомысленно. Но если опыты на животных помогают победить рак или просто позволяют нам жить дольше, то я — за такие опыты. Мысленно повторяя эти аргументы, пока мы со Стенли спускались по лестнице, я понимал, что едва ли стоит отстаивать эту позицию перед ним. Но я часто готовлю такие мысленные лекции и антилекции, целые речи, блистающие риторикой, хотя и никогда не доношу эти речи и выступления до трибуны. Думаю, что это одна из черт, вообще присущих что-то неразборчиво бормочущим ученым. Хотя быть может, это просто черта моей личности.
— Здесь мы содержим большинство лабораторных животных. — Стенли отпер дверь подвала, уставленного рядами проволочных клеток, в каждой из которых сидела мохнатая белая крыса с голым розовым хвостом и красными, как у робота, глазами. Сами клетки походили на выпотрошенные обогреватели, от которых остались только решетки и задние стенки. Над каждой клеткой как приложение висела большая бутыль с водой. В комнате пахло животными, хотя Стенли уверил меня, что помещение очень хорошо проветривается и очищается.
— Иначе мы не смогли бы загнать сюда наших студентов, — сказал он, обнажив в улыбке два ряда безупречно белых, как будто эмалированных, зубов.
— Что они едят?
Стенли порылся в шкафчике и достал оттуда нечто похожее на собачьи бисквиты в форме бутылочных пробок.
— Вот. Один из наших лаборантов как-то предложил эту штуку своим гостям на вечеринке — ради шутки. Хотите попробовать?
Надо было это сделать. Байрон говорил, что один раз надо попробовать все, однако романтизм — не моя стезя.
Кроме того, Байрон прожил всего тридцать шесть лет, моя же душа робкая и боязливая, хочется протянуть до пенсии, если, конечно, меня утвердят в должности.
Я молчаливо отклонил предложение, задав следующий вопрос:
— Часто ли они едят?
— Всего один раз в день. Для некоторых животных, например для собак, это наилучший режим. Он их дисциплинирует.
Стенли убрал крысиный корм в шкафчик.
Крысы суетливо бегали по своим клеткам. Сказать правду, все они выглядели на редкость дисциплинированными и весьма довольными. Если бы среди них провели опрос, то процент довольных был бы наверняка выше, чем среди ученых. Ближайшая ко мне крыса, как мне показалось, смотрит на меня так, словно это я — подопытное животное.
Стенли легонько ткнул крысу ручкой.
— Эта особь своего не упустит. Конечно, можно вообще сделать так, что они перестанут есть. Для этого достаточно разрушить клетки латерального гипоталамуса. Возникает афагия.
Я смутно припомнил иллюстрацию из своего учебника психологии, на которой была изображена безобразно ожиревшая крыса.
— А есть ли процедуры, приводящие к противоположному эффекту?
— Есть такая штука — вентромедиальный гипоталамус. Разрушь его — и получишь гиперфагию. Такие крысы будут есть до тех пор, пока не потеряют способность двигаться. Иногда их вес увеличивается в четыре раза. — Он нахмурился. — Один из моих экспериментов заключается в том, чтобы поставить этот процесс под измеримый контроль.
Я не смог удержать улыбки.
— Я знаю множество людей, которые с удовольствием стали бы участвовать в таком эксперименте.
— Мне ли этого не знать. Знаете, в нашем кампусе много случаев булимии — столько же, сколько случаев ожирения. Но я не могу экспериментировать на людях.
— Можно мне посмотреть, где вы проводите свои опыты? — Я представил себе своего рода крысиный кафетерий. Или там будут лишь вязки и электроды?
Стенли смерил меня оценивающим взглядом. Должно быть, я прошел фейсконтроль.
— Пойдемте, я покажу вам кое-какую аппаратуру.
Лаборатория была здесь же, на противоположной стороне холла, и отнюдь не напоминала лабораторию Франкенштейна. Это была обычная комната, заставленная рядами ящиков, похожих на серые холодильники. Стенли открыл дверцу одного из них, и я увидел две камеры Скиннера, соединенные с какими-то проводами, выведенными наружу через отверстие в задней стенке.
— В соседней комнате находятся компьютеры. По ним мы следим за ходом исследования.
— Как долго крысы находятся в этих ящиках?
Стенли пожал плечами:
— Это зависит от конкретного исследования. Если изучают аппетит, то несколько месяцев. Ну а если исследуется поведение, то до одного года.
— Влияет ли увеличение веса на поведение?
Стенли почесал затылок.
— Это хороший вопрос. Ожирение усиливает половое влечение. — Он пальцем стер пятнышко пыли с люцитовой передней стенки ящика. — Мы постараемся исследовать этот вопрос на днях, если получим деньги. Когда исследуешь поведение, требуется масса времени для наблюдения.
Мне вдруг захотелось спросить, получают ли крысы отпуск за хорошее поведение, но я понимал, что ответом мне будет недоуменная насмешливая улыбка. Я вспомнил тюрьму графства Лафайет и Натаниэля, потевшего над какой-то книгой Эрика. Они, конечно, уже не в тюрьме; их общественный эксперимент закончился. Был ли от этого эффект — вопрос другой. Рецидивизм представляется мне физическим принципом, чем-то сродни энтропии.
В другом помещении Стенли показал мне весьма усложненную клетку, огромный ангар с подвесными корзинами, колесами для упражнений и какими-то крысиными гимнастическими снарядами. Две с виду совершенно нормальные крысы сидели на мелкоячеистой сетке.
— Они легко взбираются по этой сетке — у крыс великолепное чувство равновесия. Но знаете, если они не приучаются к лазанью в детстве, то потом становятся беспомощными. Они просто съеживаются в углу; кажется, что все это оборудование их пугает.
Я вдруг понял, что ощупываю ладонью затылок. Когда мне было пять лет, я упал с качелей. Я разбил голову, и мне наложили на рану швы. Теперь шрам был почти не виден под копной волос. Когда я первый раз спал со Сьюзен, она обнаружила его, гладя меня по голове.
Стенли неопределенно кивнул.
— Я бы показал вам еще машину, в которой мы моем клетки, но она похожа на обычный автоклав.
Внезапно мне пришло в голову довольно странное желание.
— Могу ли я увидеть ожиревшую крысу?
Он отрицательно покачал головой:
— Я уже говорил вам, что мы этим не занимаемся. Мы пытаемся регулировать рост, а не давать ему выходить из-под контроля. У нас было несколько случаев, когда пептиды вызвали ожирение, но мы забили этих крыс. — Он снова нахмурился. — Хотите посмотреть что-нибудь еще?
— Гм, о нет, спасибо. То есть спасибо за потраченное вами время. — Я попытался сочувственно подумать о забитых крысах, но правда заключалась в том, что я просто проголодался — наступило время обеда.
Мы молча поднялись наверх, и я распрощался со Стенли у дверей его кабинета.
Остальную часть своего странствования я посвятил блужданию вокруг Тернеровского рекреационного центра Бондурант-Холла. В Бондуранте я услышал, как в пустой аудитории раздается стук пишущей машинки, и увидел в заднем ряду печатающего Роя Бейтсона. Он был, должно быть, трезв и сидел склонившись над столом. Рядом стояла пластиковая чашка кофе. Тук-тук, тук-тук-тук. Бум! Он был похож на беспутного студента, пытающегося в рекордный срок закончить курсовую. Так вот, значит, как он пишет: возвращается в школу. Самодисциплина. Я на цыпочках покинул аудиторию.
Я пытался что-то объяснить самому себе, обдумать увиденное, но в голове не было ясности, холодный декабрьский ветер выдувал все мысли. Когда я вернулся, Сьюзен была уже дома и сидела за кухонным столом. Я спросил, не хочет ли она прогуляться.
— Нет, мне что-то не хочется.
Я положил руку на ее плечо и начал гладить, спускаясь все ниже и ниже.
— Может, займемся чем-нибудь дома?
Последнее время мы перестали любить друг друга в постели — мы даже нечасто прикасались друг к другу, — но она движением плеча стряхнула мою руку.
— Мне надо приготовить обед, — заявила она.
Полчаса спустя я вернулся на кухню, чтобы съесть отвратительные, пахнущие холодильником и фольгой остатки пиршества на День благодарения и увядший салат. За едой мы почти не говорили. После обеда меня ждали семинарские рефераты. Я ухитрился просмотреть пять из них. Бред Сьюэлл просто доказывал, что зрение в литературе важно, так как позволяет видеть происходящее. Лора Рейнольдс, в несколько усложненном виде, отстаивала тезис о том, что главная поэтическая неудача Йитса заключается в его сознании мужского превосходства, хотя и признавала, что такое поведение диктовалось социально-экономическими силами, не подвластными Йитсу. Между этими полюсами был обычный набор интерпретирующих экзегез, включая вдумчивый анализ влияния ландшафта на настроение в творчестве Томаса Гарди. Единственная проблема заключалась в том, что в этом семестре мы не касались Томаса Гарди. Я вспомнил эту студентку — молоденькая девочка по имени Элизабет Харт, которая мало выступала на семинарах, отделываясь нервными улыбками. При втором прочтении стало ясно, что все мысли заимствованные и в целом реферат неудачен. Но я не люблю скоропалительных решений. Надо позвонить Элизабет и узнать, что она сама скажет по этому поводу.
Постепенно я начал думать о рефератах как о скопище тел — потрепанных, сильных, неуклюжих, стройных, — домогавшихся моего внимания. Я же вставлял ручку: щупал, гладил, правил. Стена кабинета равнодушно взирала на мои действия. На той стороне ничего не происходило. В десять часов я прервался, чтобы взять из холодильника кусочек сыра. Почему обед был так плох? В одиннадцать я, шатаясь, выбрался из-за стола, принял ванну и прокрался в постель. Крысы Стенли переживают неприятности не в пример легче. Сьюзен лежала лицом к стене и спала в островке темноты. Я прижался к ней и подсунул плечо ей под голову. Что-то было не так, но я не сразу сообразил, в чем дело. Через минуту я понял, что голова Сьюзен не давит мне на плечо. Она мне не доверяла. Не доверяла мне свой вес.
— Сьюзен.
Нет ответа. Я вспомнил о холодном обеде.
— Сьюзен, в чем дело?
— Ни в чем.
Я вздохнул.
— Ну же, говори.
— Я не хочу говорить об этом сейчас. — Она откатилась подальше от меня.
— Не хочешь говорить сейчас о чем?
— О твоем романе с Мэриэн.
— Что? — Я включил ночник. — О романе с Мэриэн? Кто тебе это сказал?
— Один человек в убежище для животных. Не важно кто.
— Сказал, что у меня роман с Мэриэн? — Кажется, у меня началась эхолалия.
— Да. Это правда?
— Сьюзен, ты сошла с ума?
— Пожалуйста, ответь на вопрос.
В тусклом свете ночника я заметил, что она дрожит.
— Нет, у меня нет и никогда не было романа с Мэриэн Хардвик.
— А что ты делал днем у нее дома?
Вот оно что. Эрик сказал об этом кому-то, этот кто-то еще кому-то, и моя частная жизнь закончилась в собачьей клетке. Великолепно. Чудесно.
— Послушай, — заговорил я и рассказал ей, как было дело, опустив некоторые детали, касающиеся Макса. Это был не совсем ночной разговор по душам. — Вот так. Можешь позвонить Мэриэн, если не веришь мне.
— Хорошо, пусть так, но ты иногда просто куда-то исчезаешь. В прошлую субботу…
— В прошлую субботу я навещал Черил. Помнишь ее? Думаю, тебе будет приятно узнать, что ее челюсть быстро заживает. Я не стал тебе об этом рассказывать, так как думал, что ты расстроишься.
— О!
— Сьюзен, я не любитель подобных развлечений и не бабник.
Говоря это, я вдруг осознал, что это действительно так. И не то чтобы мне не хватало воображения, скорее, мне не хватало духа. Понимание было досадным, но Сьюзен хотела услышать именно это. По крайней мере, я был в этом уверен. Через мгновение она прижалась ко мне и, помолчав, сказала:
— Иногда я чувствую, что тебя нет здесь.
— Но я провожу дома массу времени.
— Я имею в виду не это.
— Я постараюсь быть более отзывчивым.
Она вздохнула. Наверное, мне надо было сказать «более страстным». Я приник головой к ее груди, все еще досадуя на свою несклонность к романам. Эта досада невыносимо свербела где-то в затылке. Я целовал груди Сьюзен, тыкался носом в ее шею. Постепенно она начала делать то, что я хотел, но о чем не хотел просить. Она крепко обняла меня и, тихо дыша в ухо, принялась гладить мне волосы своими длинными белыми пальчиками.
18
— Но какой в этом смысл, если все это чистая гипотеза? И какое, скажите на милость, отношение ваши вывернутые запястья имеют к ее расщелине?
— Это игра ума. Она заставляет осознать приоритеты, понятно?
Мы с Максом сидели за учебными столами на стульях, спинки которых формой абсолютно не соответствовали человеческому позвоночнику. Такие стулья заставляют человека чувствовать себя пуританином: прямым, честным и испытывающим неудобство. Но в данном случае это не имело значения, так как мы оба подались вперед, не обращая внимания на толпу, собиравшуюся послушать лонгестовскую лекцию. Мы тоже явились сюда для этого, свободные от всяких обязанностей по отношению к нашему старому доброму факультету свободных искусств. Преподаватели должны были показывать студентам пример, посещая открытые лекции, хотя, конечно, куда приятнее было бы остаться дома. Сьюзен сидела дома и смотрела телевизор. Макс сказал, что Холли сегодня вечером работает.
— Но предположим, что сделка неравная? Что, например, вы делали раньше — кажется, зажимали пальцы дверью? Или с хрустом ломали их, как ирландцы в своих тайных обществах?
— Правильно.
В университете регулярно устраивались открытые лекции — об изменении роли золота в эпоху Возрождения, о взаимоотношении христианства и культуры, о роли физики в современном мире, вообще о том, что тот или иной именитый пандит[9] захочет поведать с кафедры. В этом году мы пригласили профессора английского языка из Гарварда, даму, известную своими работами по драме Возрождения. Сегодня она решила поговорить о зверстве в Шекспировской «Буре».
— Но разве это не зависит от предпочтений женщины?
— Конечно, но я же это знаю и всегда могу представить себе остальное. — Макс сделал очередную запись в блокноте.
В таких лекциях в принципе нет ничего необычного. Их читают во всех университетах. Но только в университете штата Миссисипи их так топорно называют: лонгестовские лекции[10] названы в честь профессора классической филологии Кристофера Лонгеста. Альтернативой в прошлом весеннем семестре были лекции (храни меня Бог!) Сэвиджа[11] в память недавно усопшего профессора английского языка. Эти ляпсусы преподносились публике без малейшего юмора, что превращало «Оле Мисс» в минное поле потенциальной издевательской иронии.
— Отлично, я понял идею, но почему с сексом обязательно должно быть связано некое физическое насилие, даже травма?
— Но разве не в этом заключается вся суть секса?
Я пришел на лекцию, потому что она касалась моей специальности — английской литературы, а Макс пришел из любопытства. Явились многие наши коллеги. Была здесь и Джина, она внимательно смотрела на кафедру, но в глазах ее читалось: «На самом деле я думаю о Фолкнере». Грег сказал, что недавно она напала на новый след, на старого фармацевта, снабжавшего Фолкнера наркотиками. Рядом сидел Стенли, часто поглядывавший на часы явно не из научного любопытства. Кэи сидели в первом ряду (недавно я слышал, что они используют студентов-выпускников Мэри в качестве сиделок). Джон Финли (увиденное вызвало у меня легкое потрясение) сидел впереди рядом с приникшей к его плечу опасной дамой-правоведом. Ее длинные темно-рыжие волосы, позаимствовавшие цвет из модного флакона, вплетались в свитер Джона, оставляя на нем компрометирующие следы. Даже Уэстоны были здесь — Роберт заслонял сцену по крайней мере трем слушателям, а Лора в награду развлекала их своими серьгами в виде рыбьей чешуи. Только после лекции я заметил Мэриэн, она сидела в трех рядах позади нас. Я от души понадеялся, что она не слышала ни меня, ни Макса.
— Вы когда-нибудь слышали о сексе по взаимному согласию?
— В этом нет никакого удовольствия. Где, спрашиваю я вас, чувство опасности?
— К чему вообще весь этот риск? Что случилось с добрым чистым сексом?
— Если секс не грязен, он не возбуждает. — Макс произнес эту фразу негромко, но с чувством.
Я уловил его точку зрения, но не был уверен, что соглашусь с ней.
Вся эта дискуссия началась, когда мы вместе отправились в аудиторию. На верхней губе у меня красовался пластырь — я здорово порезался, бреясь опасной бритвой.
Макс, никогда не отличавшийся тактичностью, спросил, не свела ли Сьюзен ножки слишком рано. Он хотел пошутить, но, не выдержав, разразился одним из своих патентованных монологов. Когда он был подростком с потеющими от вожделения ладонями, то любил меняться. Он говорил об этом, когда мы вошли в Фэрли-Холл, поднялись по ступеням и заняли два свободных места. Он продолжал свой рассказ до тех пор, пока я не начал вставлять междометия, а председательствующий не представил лектора. Но я постараюсь по мере сил реконструировать этот монолог.
Вообразите, что вы — подросток с потными ладонями. Вообразили? Отлично, а теперь представьте себе, что лежите в кровати и думаете о сиськах Целии. Целия — это девочка из класса, этак тридцать восьмого размера, носящая прозрачные блузки, сквозь которые видны бретельки лифчика и чашки, кладущие предел плоти. Когда у нее встают соски, они выглядят как носы, расплющенные о плотную ткань. Чего вы не сделаете, чтобы справиться со своими чувствами, укротить их? Как насчет того, чтобы периодически зажимать руку в тисках? Возможно. Надо внести свою долю. Как насчет того, чтобы Целия всадила всю вашу голову в свою щель? Чем вы хотите отделаться — сломанным носом? Как далеко вы хотите зайти? До сотрясения мозга?
Если вы хотите удовольствия, то вам придется за него платить. Какова подходящая цена для Марджори, которая обхватывает ваше лицо своими крутыми бедрами? Вывихнутая челюсть, временный паралич? Некоторые наказания анатомически никак не связаны с удовольствием, но не в этом, подчеркнул Макс, суть. Суть в том, чтобы решить, что вы готовы перенести, что можете принять.
Именно в этом месте я принялся бомбардировать Макса вопросами, и он ответил на них.
— Я так понимаю, что в то время вы не встречались с девушками.
— Нет. Хотите глянуть на картинку? — Он достал бумажник и извлек оттуда дешевую пластиковую карточку с пожелтевшей фотографией.
На меня смотрело лицо с круглыми пухлыми щеками, почти лунообразное, увенчанное стрижкой под горшок и, по правде сказать, довольно глупое.
— Кто это?
— Я.
— Когда это было?
— В средней школе. Я был уродливым толстым подростком. Я ненавидел школу.
Об этом стоило подумать, что я и сделал. Я думал об этом и позже — здесь крылось объяснение многому. Действительно, стоит прибегнуть к обобщению: большинство ученых были изгоями в школе, поздними цветами, отыгравшимися в колледжах и университетах. У меня были друзья и коллеги, посвятившие период своей профессиональной карьеры восполнению упущенного в средней школе. Никчемные подростки, мы начали бегать по утрам на третьем десятке. Наши скучные занудные речи вдруг стали востребованными и приобрели в колледже важность и ценность. Те из нас, кто был в школе уродливым и нескладным, прыщавым и угреватым, постепенно превратились в почти привлекательных мужчин. Мы как раз разогревали эту тему, когда председательствующий начал произносить речь.
Аарон Таннер, ректор «Оле Мисс», был достойным ответом университета на проблему современного президента факультета. Сложенный как юный мальчик, с копной умело подкрашенных волос, Таннер сочетал в себе свойства проповедника-фундаменталиста и аукционера из Джорджии. В другую эпоху он мог бы торговать змеиным маслом в псевдоиндейском вигваме. Но в «Оле Мисс» он продавал связи с общественностью, и делал это чертовски хорошо и умело. Большинство из нас имело о нем двоякое мнение: боже, пусть он будет и, боже, как ловко он умеет заставлять бывших студентов раскошеливаться. Представление выступающего лектора, Беатрис Вандом, было вполне предсказуемым. Половина выступления посвящена ее достижениям, половина — той выгоде и тому счастью, по воле которого мы имеем возможность лицезреть и слушать ее в этот торжественный вечер. Мысленно я представлял себе, как круг за кругом вертится заезженная пластинка. Он закончил речь, и мы с Максом отложили на потом дальнейшее обсуждение.
Когда профессор Вандом вышла на сцену, я узнал ее по фотографии, виденной мною на вкладке суперобложки. Но эти портреты никогда не дают представления о цельном человеке, а цельность Беатрис Вандом оказалась весьма солидной. Она была одета в свободный синий пиджак и юбку, эта одежда странным образом как бы обливала ее фигуру с удобной талией и выступающим задом. Выглядела она здоровой и веселой, над пухлыми щеками виднелись умные карие глаза, словно две изюминки, брошенные в пудинг. Кожа отличалась здоровым румянцем. Мне захотелось увидеть взгляд Макса, но он не отрываясь смотрел на трибуну.
Я не стану углубляться в суть выступления, скажу только, что оно было хорошо подготовленным и умным. Лекция была тщательно скомпонована, что встречается очень редко в наше время, пропитанное постструктурализмом. Основным тезисом было утверждение, что на деле главным героем «Бури» является Калибан, слуга Просперо, тупая гора мяса, ходячее обжорство, но и лояльная рабочая сила, но только до тех пор, пока его не предали. Эрик, сидевший впереди нас и умудрившийся каким-то образом затащить на лекцию Натаниэля, делал какие-то торопливые пометки на программке. Натаниэль больше смотрел по сторонам, нежели на трибуну. В душе его, очевидно, происходила нешуточная борьба с самим собой.
В конце лекции первым зааплодировал Эд Шемли — именно ему пришла в голову идея пригласить Вандом. Bечер оказался многолюдным, кофе — крепким, печенье с пралине шло нарасхват, особенно среди студентов-старшекурсников, посетивших лекцию. Мой будущий литературный критик Лора Рейнольдс сунула несколько штук в сумочку. В центре внимания, естественно, была Беатрис Вандом. Она блистала, как пчелиная матка, окруженная жужжащими трутнями. Да, она находит Оксфорд просто очаровательным; нет, телесная сосредоточенность, как она ее понимает, всегда поливалентна; да, печенье великолепно, да, не откажусь, спасибо. Макс оказался умелым маркитантом — именно он вручил Беатрис заветное печенье. Даг Робертсон, наш выпускник, поклонник дзен-буддизма по совместительству, только что умыкнул последнее пралине, но Макс сумел убедить его, что оно куда нужнее Беатрис, нежели ему, Дагу.
Когда Макс вернулся, Эрик уже проложил дорогу сквозь толпу, воспользовавшись широкими плечами Натаниэля. Я понял — роковой ошибкой Беатрис Вандом стало ее пренебрежение марксистской перспективой, и кто-то должен был напомнить ей об этом прегрешении. Вопросы Эрика, собственно, никогда не были вопросами, они всегда начинались словами «Вы не думаете…». Эти вопросы всегда были красноречивы, безукоризненно вежливы и пусты.
— Не думаете ли вы, — победоносно начал Эрик, — что диалектическое взаимодействие между Калибаном и Ариэлем предвосхищает марксистский тезис об опасности гуманизма? Я хочу сказать, что если проанализировать замечание о пролетарии и эльфе, то в конце концов создается впечатление…
— Последнее печенье для вас. — Макс церемонно вручил завернутую в салфетку драгоценность Беатрис Вандом.
Она приняла дар с величественной улыбкой, начавшейся где-то в области живота и постепенно поднявшейся выше. На какой-то момент они с Максом составили совершенное единство. Потом Беатрис обернулась к Эрику:
— Простите, вы говорили?..
Эрик слово в слово повторил сказанное.
Нахмурившись, Беатрис вонзила зубы в печенье. Она была, как принято говорить, ширококостна, и само ее физическое присутствие умаляло и Эрика, и его аргументы. Натаниэль же куда-то таинственно исчез.
— Ну да, вы правы, Шекспир тоже озабочен тем, чтобы повенчать тело и душу, — признала она, прожевав кусок. — Но классовый уровень — это только один из аспектов этой извечной борьбы.
— Но разве вы не согласны с тем, что… — Эрик воспользовался второй своей уловкой, несколько более настойчивой. Третья заключалась в коронной вступительной фразе: «Но разве вы не видите сами…» Эта последняя обычно сопровождалась энергичным жестом. Для социалиста он был мастером частной монополии. На самом деле единственное, чего ему в действительности не хватало, — это ящика из-под мыла и уютного места где-нибудь в углу Гайд-парка. После последней публичной лекции Эрик так замучил лектора своими вопросами, что Эду Шемли пришлось срочно послать его за выпивкой в «Тед и Ларри».
Беатрис вполне серьезно ответила на один из его вопросов, но он сразу нашел два возражения. С Эриком всегда так: беседы с ним не то что отвратительны — они нескончаемы. Вандом допила кофе, когда Макс что-то шепнула ухо Эрику.
Тот вдруг встревожился:
— Вы уверены?
Макс в ответ пожал плечами с видом: «Знаешь, это твое дело, парень». Потом он сам пустился в разговор с Беатрис о Томасе Киде. Он читал ее первую книгу. Я тоже, однако Возрождение мало интересовало меня на старших курсах; а для Макса это был и вовсе чуждый предмет. Этот Макс — противоречивый эрудит. Или великий очковтиратель.
Эрик в это время кинулся куда-то с видом человека, у которого расстроился мочевой пузырь. Последнее, что я успел заметить, — это его твидовый пиджак и сверкающие пятки. Он выбежал через боковой вход в Фэрли-Холл и исчез в темноте. Я снова посмотрел на Макса, который вполне удачно беседовал с Беатрис. Они вспомнили каких-то общих знакомых в Кембридже и теперь живо обсуждали одного из них. Это был разговор равных во всем, кроме одного: Беатрис смотрела Максу в глаза, а он разглядывал ее тело. Расстояние между ними постепенно уменьшалось, но я не мог понять, кто из них его сокращает. Я стоял рядом, как второстепенный компаньон, и послушно кивал в нужных местах.
Через пять минут показался ее муж. Это был представительный мужчина в мятом деловом костюме, с седеющими волосами и грустным лицом. Рейс задержали в Атланте, он очень сожалеет, что не смог присутствовать. Он виновато сжал руку жены. Она представила ему меня и Макса, но нашлись и другие люди, желавшие с ней поговорить, и нас оттерли на периферию толпы, подальше от пиршественного стола. Было такое впечатление, что это Макс сдерживал толпу сколько мог, но потом сдался и открыл шлюзы.
Я не смог удержаться от вопроса:
— Вы разочарованы?
— Разочарован? Нет. — Он внимательно посмотрел на то место, где стояла Беатрис. — Лучше сказать, что я неудовлетворен.
Мы вместе вышли в давно ожидавшую нас ночь. Когда мы отошли довольно далеко от Фэрли-Холла, он пробурчал:
— Рука, зажатая в автомобильной двери, нет, сломанная рука за возможность приласкать эту пухлую округлость. — Он обернулся, словно хотел на прощание обнять само здание. — Подумайте, сколько еды влезло в эту талию!
Макс снова вышел на охоту, но я вдруг подумал о другом.
— Но что от всего этого получает она?
— Она? — Он удивленно воззрился на меня, потом с силой ударил кулаком в ладонь. Именно так он часто щелкал костяшками пальцев. — Она получает меня. Мою боль.
О чем он говорит: о садизме или мазохизме? Я понимал, что Макс — это тип, который может намеренно всадить перочинный нож в живую плоть, но я не мог понять — в свою или в чужую. Неужели я никогда не увижу его в действии, воочию, собственными глазами? Он шел впереди меня, наклонившись вперед и размахивая руками, словно разгребал темноту, вставшую на его пути.
— Макс?
— Угу.
— Вы поддерживали когда-нибудь стабильные отношения?
— Стабильные отношения? — Он передразнил мой тон. — Здесь мы имеем противоречие в понятии. Отношения должны быть нестабильными, иначе где будет опасность, где будет удовольствие?
Я не сразу нашел, что ответить. Все возможные ответы явились мне позже: безопасность, надежность, взаимное уважение, доверие в постели. Но очевидно, эти доводы не возымели бы на него никакого действия. Макс излагал свои взгляды как непоколебимые истины. Я пожал плечами, но едва ли он заметил этот жест в темноте, тем более идя впереди меня. Правда, я не думаю, что он ждал ответа. Он пошел медленнее, мы поравнялись и дальше шли рядом.
Мы подходили к кварталу Нортгейт, когда услышали протяжный британский вопль:
— Черт возьми! Дерьмо собачье! Ублюдок! Где ты?
В следующий момент тощее жилистое тело в твиде выскочило из-за угла и налетело на Макса. Оба упали на землю. Но никакой возни и драки не последовало. Макс встал первый, словно ловкое четвероногое животное. Другой же, оказавшийся Эриком, так быстро подняться не смог.
— Проклятье, я, кажется, вывихнул голеностоп — аааах!
Мы одновременно нагнулись, чтобы помочь ему встать, но стоило Эрику наступить на поврежденную левую ногу, как он вздрогнул от боли. Макс немедленно взял руководство на себя:
— Вам нужен лед на сустав, и чем скорее, тем лучше. Иначе сейчас нога опухнет.
— Вы действительно думаете…
— Да. — Макс был тверд, как скала. — Ваша квартира где-то недалеко?
— Да, точнее, то, что от нее осталось. Знаете, что сделал этот ублюдок Натаниэль?
— Нет, это вы расскажете нам позже. Дон, дайте мне руку. Две. Вот так. Отлично, а теперь садитесь.
Мы сделали замок для переноски раненых, составленный из четырех переплетенных рук. Я делал такой замок, когда в последний раз был в бойскаутском лагере. Макс взялся за мои запястья с неожиданной силой. Я постарался превзойти его, но у меня сразу же заболели пальцы. Эрик сидел в полузабытьи, как путешествующий раджа, пока мы несли его домой. В квартире горел свет, создавая впечатление бушующего внутри пожара. Макс открыл дверь ногой, и мы ввалились внутрь.
Мне никогда не приходилось бывать в доме Эрика, поэтому сначала я не понял, что здесь не так. Маленькая прихожая была украшена портретами Маркса и Энгельса на фоне какого-то лондонского пейзажа. Основоположники смотрели на зрителей сурово и непреклонно. Остальная часть квартиры отличалась большим дружелюбием — здесь была стереосистема, удобный диван, по обе стороны которого, как престарелые стражи, стояли две деревянные напольные лампы. Везде лежали записи и магнитные ленты, на разболтанном стуле стопкой громоздились книги. Мы посадили Эрика на диван, и я растер натруженные запястья. Макс пошел на кухню искать лед.
— У вас есть пластиковый мешок? — донеслось с кухни.
— Посмотрите в шкафчике… под раковиной. — Эрик обхватил голову руками. — Боже, что за ночь. В спальню вообще лучше не входить.
Я заглянул туда через полуоткрытую дверь. Матрац был распорот и брошен в угол, ящики письменного стола были выдвинуты. По полу были разбросаны вперемешку одежда и листы бумаги. Самое трогательное зрелище являла старая пишущая машинка Эрика — она была перевернута и выглядела беспомощно, как лежащий на спине жук.
— Вы думаете, это сделал Натаниэль?
Эрик сокрушенно кивнул:
— Отчасти это моя вина. Мне не надо было спускать с него глаз. Он был так хорош некоторое время. Но сейчас он нарушил слово и разорил мою квартиру.
Макс вернулся с пакетом, набитым льдом.
— Давайте положим это на сустав. Какой — левый?
— Нет, правый.
Естественно, Эрик, как всегда, решил валить все на правых. Он задрал штанину. Сустав уже припух и сравнялся с икрой.
— О! Отлично, спасибо.
— Подержите лед некоторое время. Если завтра не сможете встать на ногу, то лучше покажитесь врачу.
Эрик и не думал возражать Максу, так же как и я. Макс хорошо усвоил, что ореол абсолютной власти должен окружать генералов и хирургов. Он очистил от книг стул, поправил его и сел.
— Итак, что случилось? Что он сделал?
— Я на самом деле не уверен. Когда я думаю!.. — Он выругался, потом тяжко вздохнул. — Спасибо, что сказали, что он ушел. Должно быть, он улизнул, когда я разговаривал с этой женщиной, Вандом.
Я взглянул на Макса, но он отвел взгляд. Так вот какая причина заставила Эрика так быстро ретироваться. Думаю, это была своего рода угроза.
— Он был очень беспокоен во время лекции. Я тоже нервничал, анализ этой женщины творчества Шекспира…
— Бросьте думать об этом, — резко перебил его Макс. — Итак, он вернулся сюда и перевернул все вверх дном. Вы знаете, что он искал?
Эрик вскинул руки, что плохо отразилось на его лодыжке.
— Кто знает, о-о-о! Я думаю, — продолжил он, взяв себя в руки, как подобает марксисту, — что, конечно, деньги, но у меня их нет.
— Вообще?
— Таких денег, о которых стоило бы говорить. Вы же знаете, какая у нас зарплата. Едва хватает на бензин.
Это было похоже на правду, квартирка была отнюдь не роскошной. Это была дешевая холостяцкая берлога, как ее и описывал Эрик. Вероятно, Натаниэлю она казалась роскошной.
Макс наклонился над согбенной фигурой Эрика. Он покончил с ролью врача и теперь вживался в роль офицера полиции.
— Что он взял? Есть у вас какие-то мысли на этот счет?
— Да ничего. — Эрик снова всплеснул руками, но осторожно, чтобы не потревожить лодыжку. — Я хочу сказать, что он не взял ничего, но обыскал все, что мог. Представляю, что он при этом чувствовал.
— За что он сидел?
— Простите?
— За что он сидел в тюрьме? Какое преступление он совершил?
— О, думаю, за воровство.
— Угу. Вы ответили на мои вопросы. — Макс отступил на шаг и скрестил руки на груди.
Я почувствовал, что здесь, во всей этой сцене, чего-то недостает. Я выглядел, конечно, тупо практичным, когда предложил:
— Вы не хотите вызвать полицию?
Оба — Макс и Эрик — посмотрели на меня так, словно я святой Иоанн, изрекающий откровение. Апостол здравого смысла. Я подошел к телефонной книге, лежавшей на полу возле одной из ламп, и нашел номер. Потом я направился к телефону, снял трубку, зацепился за ножку стола и набрал номер. Господи, почему это всегда делаю я?
19
Конечно, тот простой телефонный звонок ничего не решил, как ничего не решило и прошедшее с тех пор время, если не считать зажившего растянутого сухожилия Эрика. К тому моменту, когда мы все вернулись с рождественских каникул, произошли некоторые события или не произошли, в зависимости от того, как на них посмотреть. Одно такое событие заключалось в том, что Натаниэль до сих пор не был арестован. Полиция раскинула сеть, развесила объявления во всех общественных местах, или, может быть, начальник полиции просто позвонил шерифу соседнего графства и попросил того не вмешиваться — я просто не знаю, как работает полиция. В Оксфорде, как мне представляется, она по субботам патрулирует бары и отлавливает оказавшихся под хмельком водителей. В будние дни в обеденное время патрульные машины паркуются возле «Топ-Дайнер», а люди в синей форме насыщают свои желудки жареной едой. Если бы я захотел совершить преступление, то сделал бы это в полдень.
Добавьте ко всему этому тот непреложный факт, что Эрик и его дела не особенно волновали местную полицию, и вы перестанете удивляться тому, что грабитель, разворошивший квартиру Эрика, так и не был арестован. За это время Эрик успел поставить себе кодовый замок, что запрещалось университетскими правилами, и ему пришлось его снять.
Ничего не произошло и с Вилли Таккером, продолжавшим мучиться в почти полном параличе; между тем его фонд распух до впечатляющих размеров. К январю он достиг полумиллиона долларов, и университет уже планировал построить для него в Оксфорде персональный инвалидный дом. Свитер с его номером был закреплен за первым подающим команды «Оле Мисс», а сам он был избран почетным капитаном in absentia[12]. «Дейли Миссисипиэн» напечатала его стихотворение, из которого мне запомнились четыре строчки: «Вот я лежу здесь на кроватке, / Вода мне капает на пятки. / Скажите девочкам, что я не скис, / Бог, сохрани друзей из „Оле Мисс“». Позже выяснилось, что эти вирши сплел за него баптистский священник, но добавил при этом человек в стихаре: «Чувства целиком принадлежат Вилли. Я послужил для них лишь орудием».
Макс был просто в восторге от этой фразы. «Их орудием — это хорошо. — Он похлопал ладонью по газете. — А газетка — это орган. Обожаю подобные формулировки».
Мы встретились в студенческом союзе — пришли туда одновременно забрать почту. Наступил январь, на улице было около минус восьми — такое здесь случается, — и я не слишком торопился в библиотеку. Макс только что вернулся после совместной трудной тренировки с Фредом Пигготом. Закутанные по самые глаза, они на своих велосипедах выглядели снежными людьми. У Макса, видимо, очень сильно болели ноги — он пожаловался на боль, что было для него нехарактерно. Он сказал, что сегодня днем ему вообще не хотелось двигаться. Кроме того, сегодня у него не было группы.
Это главная проблема преподавателей высшей школы; если не считать занятий и периодических кафедральных совещаний, они нигде не обязаны быть. Значит, появляется склонность не быть вообще. Для меня такие моменты возникали в первой половине дня, если я не был в это время в библиотеке. Мне надо было почитать что-нибудь по «Дивному новому миру» Хаксли, который мы начнем проходить в следующем семестре; но я понимал, что рано или поздно я доберусь и до Хаксли. Но пока я разговаривал с Максом — как всегда. Наши самые интересные разговоры начинались здесь, в полной анонимности студенческого союза. Вчера разговор был посвящен мебели и женскому гнездовому поведению. Холли настаивала, чтобы Макс переехал к ней.
— Хочет меня приручить, — пожаловался он.
Сегодня мы плавно перешли с катания на велосипеде к физическим упражнениям, с них перескочили на отказ от упражнений, ожирение и неподвижность.
В несчастье Таккера было нечто, сильно занимавшее Макса. Как, впрочем, и меня: бессмысленное течение жизни, общественные деньги и усилия, громоздящиеся ненужным балластом на личной трагедии. При этом я не мог избавиться от воспоминаний о Ленни Сегале с его железными легкими. Ленни все еще преследовал меня в моих самых страшных и отвратительных сновидениях. Может быть, Макса тоже мучили сновидения. Но, послушав, что он говорит, я понял, что у него иной взгляд на эти вещи.
— Представьте себе, — сказал он, глядя на газету. — Вот этот жеребец, футболист. Его призвание ломать чужие тела, и вдруг ломают его собственное. Он привык бегать, прыгать, кувыркаться. А теперь он не может даже пожать плечами.
Я согласно покачал головой:
— Понимаю, это ужасно. Это даже в какой-то мере абсурдно.
— Полностью обездвиженный, он лежит на спине и смотрит в потолок. — Макс запрокинул голову. — Он зависит от сестры — она кормит его, моет, убирает за ним дерьмо. Подумайте об этом.
— Стараюсь не думать.
— Вытирать текущую изо рта слюну, обрабатывать пролежни — вероятно, медсестры теперь знают некоторые части его тела лучше, чем он сам. И половина всех этих услуг сохраняет ему жизнь, между прочим. Как же после этого он может себя уважать? Одновременно со слезами благодарности его, должно быть, душат слезы бессильной ненависти.
— Это никак не связано с тем, что Вилли черный? — спросил я.
— Почему нет? — ответил Макс. — Это всего лишь еще одна форма отчуждения от самостоятельности.
— Но он теперь очень богат. — Я всего лишь пошутил — мне не понравилось направление, какое принял разговор.
— Конечно, деньги у него есть, но что он может на них купить? Более дорогое инвалидное кресло? Портативный дыхательный аппарат? Подумайте об этом. Вы можете ударить его, и он не сможет вам ответить. Вы его бывшая подруга, но он теперь не более чем кукла. Живая кукла. Вы можете потрогать его рукой в любом месте, где захотите. — Макс судорожно облизал высохшие губы. — Черт, возьмите его руку и положите себе на шею. Или вставьте головку его бывшего х… себе между ног. Если ему это не понравится, накажите его.
Стыдно признаться, но я в этот момент ощутил легкое возбуждение. Макс умел говорить таким обволакивающим тоном — медленно и чувственно. При обучении ведению новостных программ это называют помещением в картинку, но способ Макса был куда более соблазняющим. Это я неподвижно лежал на больничной койке, и ко мне приближалось обнаженное пространство между раздвинутыми ногами, готовое меня оседлать.
— Он абсолютно повязан, — шептал Макс. — Ребенок может легко взять над ним верх — шестилетняя пампушка может сесть на него своей жирной попкой и лепить куличики у него на груди.
Я всем сердцем жаждал, чтобы кто-нибудь подошел к нам, и такой человек нашелся. Как раз в тот момент, когда Макс сладострастно описывал ощущение гладкой девичьей плоти, устроившейся на его груди, мимо прошел Стенли. Вид у него был отсутствующий; видимо, он сейчас мысленно находился в клетке с крысами. Я совершенно непроизвольно помахал ему.
Он краем глаза уловил мой призывный взмах и повернулся к нам, чтобы поздороваться. Думаю, он тоже не спешил туда, куда, как ему казалось, должен был идти. Макс заканчивал свое описание, и Стенли, так сказать, поймал его за хвост.
Стенли согласно кивнул:
— Обсуждаете агрессивное поведение женщины, да? В определенных условиях оно проявляется и у крыс.
— Мне нравятся богомолы, — тихо и мечтательно произнес Макс. — Их самки после копуляции съедают партнера.
— Богомолы не одиноки. Иногда то же самое делают скорпионы. — Стенли оказался в своей стихии. — Но это не доминирующее поведение — в нем не участвует мышление. Это всего лишь биологический рефлекс.
— Откуда вы знаете? — спросил я только затем, чтобы вступить в разговор.
— Ну, по числу синапсов, вовлеченных в действие. Это число слишком мало.
— А как насчет крыс? — Макс говорил жестко и серьезно.
— У них достаточно нейронов. Вообще, самки более покладисты, но когда им приходится защищать детенышей… Мне приходилось видеть очень злобное поведение.
Макс подался вперед.
— Так что делает женщину садисткой?
— Нейронные разряды, происходящие не в той последовательности. — Стенли неопределенно улыбнулся. — Я не знаю, они же не дают сажать себя в клетку.
От входа внезапно потянуло холодом. Крепкий футболист галантно держал дверь, впуская в холл двух белокурых особей в куртках с надписью «Гамма-Дельта». Они ответили ему сексуальными улыбками. Дверь с грохотом захлопнулась, когда к ней подошла полная девица, моя прошлогодняя студентка из группы введения в литературу. Она пожала плечами и, надавив всем телом, открыла дверь сама. Отчего на ее лунообразном лице отразилась злоба и недовольство? В нашем мире неважно относятся к хромым, увечным и жирным. Девушка выглядела как Холли, раздавшаяся в стороны. Внезапно я пожалел, что не подошел к двери и не открыл ее перед толстухой. Макс, я это отчетливо видел, уловил направление моего взгляда.
Стенли тем временем продолжал говорить, объясняя, что бы он сделал, если бы получил достаточно большой грант от Национального научного фонда. Сумм, какие он называл, хватило бы десяти ученым — гуманитариям на десять лет, но, правда, мы не имеем дело с крысами. Внезапно до меня дошло, что я уже давно должен быть в библиотеке; не знаю, что это было: какой-то внутренний толчок или академический рефлекс, — я махнул рукой, попрощался и двинулся к выходу.
Холодный ветер ударил мне в лицо и закрутил опавшие листья под ногами. Впереди меня шла та самая студентка — ее широкие ляжки нисколько не мешали ей идти против ветра. На ней была тяжелая куртка, но не она грела ее тело, а его могучий объем. Думаю, что ее не свалил бы с ног даже смерч. Хорошо бы устроиться у нее за спиной, но я сдержался и сохранял дистанцию в пятьдесят футов до тех пор, пока наши пути не разошлись. До меня вдруг дошло, что я не помню ее имени. Это почему-то показалось мне милостью, позволившей выбросить толстуху из головы.
Проходя мимо лицейского круга, я увидел знакомую мне университетскую женщину-полицейского. Она ездила по кампусу в поисках нарушителей, но машин сейчас было очень мало. Мы обменялись короткими, но дружескими кивками: однажды она простила мне какое-то прегрешение и не выписала штраф. Она остановила машину и неловко выбралась на тротуар. Я заметил, что она до сих пор прихрамывает — после инцидента, произошедшего два года назад, когда ее бывший муж погнался за ней по роще с пистолетом 22-го калибра. Он успел прострелить ей бедро, прежде чем кто-то вызвал настоящих копов. Из газет я потом узнал, что она даже не подала иск — из страха, тем более что у нее был ребенок. Тонкая курточка полицейского «Оле Мисс» не защищала ни от холода, ни от прочих неприятностей. Сырость и холод пронизывали сейчас все и всех.
В библиотеке было жарко и уютно. Войти сюда с улицы было истинным наслаждением. Два принесенных мною тома я сунул в чрево книгохранилища через специальную щель и улыбнулся блондинке за круглым столом, а она улыбнулась мне. Южный обмен ничего не значащими улыбками. Эта блондинка вечно раздражала меня тем, что бесконечно долго проверяла взятые мною книги, а она — если вообще меня помнила — думала обо мне, вероятно, как о книжном черве, который набирает столько книг, сколько нормальный человек не смог бы прочесть, будь у него даже две жизни вместо одной.
Я перешел в зал каталогов, где бессменно дежурила Рита Пойнтц, подтянутая и толковая — именно такая, каким должен быть библиотечный консультант. Она много помогала тупым студентам, рассказывая им, как пользоваться указателем «Нью-Йорк таймс», и обучая алфавиту — некоторые наши студенты нуждаются и в такой помощи. Рита, с которой я познакомился на второй день после моего приезда сюда, нравилась мне тем, что всегда знала, где и что искать. Только она смогла отыскать какой-то неведомый указатель и найти нужный мне, но никому не известный журнал. Она знала, когда надо воспользоваться базой имен, а когда справочником «Кто есть кто». Кроме того, она умудрялась откликаться на все просьбы с неизменной вежливостью, если даже человек в десятый раз спрашивал ее, где мужская комната. Она казалась мне какой-то бесполой, но это очень подходило ее работе.
Сегодня я не нуждался в советах Риты, но мне надо было найти кое-что в «Книгах, находящихся в печати», а этот пухлый справочник стоял у самого ее стола. Я стоял там и просматривал указатель увесистого тома, когда к каталожному шкафу откуда-то подкатился Рой Бейтсон и рывком выдвинул один из ящиков. Движения Роя всегда были каким-то сочетанием толчков и плавности. Судорожными его движения были, потому что он сам был нервным субъектом, а плавными, потому что он пил, чтобы успокоить натянутые нервы. Он полминуты порылся в карточках, выругался и задвинул ящик назад. Точнее, попытался задвинуть, но, видимо, он нажал на него не под тем углом. Рой нажал сильнее. Ящик сначала не поддался, но потом передумал и с треском влетел на место, одновременно прищемив Рою большой палец.
— Сучий сын! — Он подпрыгнул так, словно прищемил не руку, а ногу. Потом взгляд его остановился на Рите, которая, выпрямившись, невозмутимо сидела на стуле. — Почему в этой чертовой библиотеке никогда не найдешь, что нужно?
Рита постаралась куртуазно улыбнуться.
— Что вы ищете?
— Вам-то какое дело? — Рой внимательно разглядывал прищемленный палец.
Джина, продолжавшая свое психоаналитическое изучение Фолкнера, усмотрела бы в этом символический страх кастрации. Я потерял нужное место в указателе тома A-G и начал поиск сначала.
Рита промолчала.
Рой подошел к ней и облокотился на стол.
— Э, я не хотел никого обидеть, мне сейчас просто очень больно. Я не о пальце. — Он сунул руку с травмированным пальцем в карман. — Это сугубо личное. — Он устало качнул головой.
Рита едва заметно кивнула. Это воодушевило Роя продолжить:
— Иногда мне кажется, что если бы я не высказывал все это, то давно бы взорвался.
Хорошо, что Рой не записывает собственные диалоги, подумалось мне.
— Знаете, вы похожи на понятливую женщину, — продолжал нести Рой. — Такая красивая женщина, сидит за этим столом, одна… — Предложение осталось незаконченным, а когда он подался вперед, над столом повеяло тяжким пивным духом.
Я снова потерял нужное место.
— Как насчет того, чтобы пойти после работы выпить в одно милое место? — Он тяжело дышал перегаром в лицо Рите.
— Я не думаю, что стоит туда идти.
— Ну что вы, пошли. — Он протянул руку, чтобы коснуться ее плеча, но Рита увернулась.
Когда же он упрямо обошел стол, чтобы подойти к ней поближе, Рита встала, положив руки на свои стройные бедра.
— Рой Бейтсон, — сказала она совершенно спокойным и невозмутимым тоном, — если вы не прекратите ко мне приставать, я разобью вам яйца. — Она выставила вперед ногу, приняв боевую стойку.
Только теперь я заметил то, чего не видел раньше: у Риты были потрясающе красивые ноги.
Рой медленно отступил. Он постарался улыбнуться, но улыбка вышла кривой.
— Простите, если я обидел вас, мисс Рита. — Он нервно огляделся, и я попал в поле его зрения. — Я этого не хотел.
Он притронулся к полям воображаемой шляпы и выкатился за дверь.
Я с треском захлопнул том.
— Может быть, мне надо было что-то сказать? — промолвил я. Во всяком случае, надо было извиниться за весь мужской пол. — Иногда Рой бывает невыносимо груб.
— Рой? — Она пренебрежительно махнула рукой. — Он пристает ко мне каждую неделю.
Она улыбнулась, и, хотя я считаю себя знатоком улыбок, эту улыбку расшифровать не смог. К тому же она оказалась весьма мимолетной. Рита снова приняла вид библиотекаря.
— Я чем-то могу помочь вам, доктор Шапиро?
Я улыбнулся, сказал, что не думаю, и отправился искать книгу. Мне было интересно, как повела бы себя Рита в гипотетическом опыте Стенли или как повела бы себя женщина из университетской полиции, но Стенли не было, и поэтому я рассказал об этом Сьюзен. И знаете, что сказала Сьюзен? Она предложила свое решение проблемы, показав мне, что моя милая женушка более практична и тверда, чем я мог о ней думать. Она сказала что-то о перилах и бритве. Когда я вспоминаю это замечание, то мне хочется опасливо скрестить ноги.
20
Натаниэля поймали ровно через месяц. Он прятался от полиции в доме своего друга, но в конце концов пребывание в четырех стенах ему опротивело, и копы взяли его, когда он шел по улице. Мне непонятно, почему он не уехал в Мемфис. Вообще, мне непонятно, почему половина черных не уехала на Север? Правда, половина уехала, но я имею в виду ту, которая осталась. Наверное, Натаниэль не желал покидать родной город.
Эрик навестил его в тюрьме — не из мстительного чувства удовлетворения, но для того, чтобы задать вопрос, мучивший его все последнее время. Эрик хотел знать, зачем Натаниэль сделал то, что он сделал, и рисовал себе благостную сцену — он поможет заблудшему выйти из тюрьмы, а потом… Потом Натаниэль не стал отвечать на вопрос. Когда Эрик проявил настойчивость, Натаниэль раскрыл книгу и демонстративно углубился в чтение. Эрик не знал, злиться ему или радоваться, — Натаниэль принялся читать том Маркса и Энгельса, украденный из его квартиры. Когда полицейский спросил Эрика, какое обвинение тот хочет выдвинуть, наш профессор, после долгой и мучительной паузы ответил, что не будет выдвигать никаких обвинений.
— Простите, не понял? — произнес сержант. Он был на голову выше Эрика и похож на отца, который видит, как его сын проигрывает решающий матч по крикету. Во всяком случае, так об этом нам рассказывал он сам.
Но Эрик снова повторил ту же глупость. Сержант округлил глаза и выразительно посмотрел на остальных присутствующих — клерка и патрульного. Посмотрите на этих профессоров. Он красноречиво пожал плечами — слишком усердное чтение книг иногда сильно вредит голове.
— Но тогда мы его отпустим, — сказал сержант. — Какой смысл держать в тюрьме человека, не совершившего никакого преступления?
Это на мгновение остановило Эрика. Сама мысль о том, чтобы оставить Натаниэля на милость социально-экономических сил, познавать которые он только начал, показалась ему кощунственной. Но его тревожили мысли и более общего порядка.
— В конце концов я сделал так, что его отпустили, — сказал мне Эрик. — Если я и сотворил чудовище, то, по крайней мере, это марксистское чудовище.
В это время на другом конце города университет ускоренными темпами возводил специальный инвалидный дом для нашего парализованного героя Вилли Таккера. Город Оксфорд пожертвовал для этого участок земли, и я думал, что это очень благородный жест, до тех пор пока Эд Шемли не сказал мне, где он находится: сразу за железнодорожными путями, прямо в центре черного квартала. Конечно, там Вилли будет уютнее, чем где бы то ни было, слышал я сочувствующие голоса. Но, честно говоря, эта ситуация не вызывала у меня восторга — я чувствовал себя неуютно.
Апофеоз наступил в начале февраля, сразу после начала следующего семестра. Дома я наводил последний глянец на статью о Джойсе, неожиданно зазвонил телефон. Я отреагировал не сразу, но Сьюзен, видимо, была в убежище. В последнее время мы каким-то непостижимым образом почти не виделись, хотя и спали в одной постели. Я стремглав бросился на кухню и схватил трубку на седьмом звонке.
— Это Джейми? — нервно поинтересовался мужской голос.
— Нет, Джейми уже довольно давно не проживает по этому номеру.
— Неужели? — В голосе прозвучало ехидное недовольство. — Если вы его встретите, передайте, что он до сих пор должен мне двести долларов.
Он отключился. Я был на полпути к компьютеру, когда телефон зазвонил снова. Я снял трубку в надежде, что это звонит сам Джейми.
— Это доктор Шапиро? — спросила какая-то женщина.
— Да, слушаю.
— Доктор Шапиро, это миссис Мэтт, мать Черил. Вы, случайно, не встречали ее в последнее время?
— Ээ, нет, а в чем дело?
Последний раз я навещал Черил больше месяца назад, когда она тоскливо спросила, почему нигде не делают операций по восстановлению девственности. Родители упорно внушали ей, что она падшая девушка.
— Она сбежала. Мы не имеем никакого представления о том, где она. Мой муж подумал… он подумал, что, может быть, она у вас.
— Мне очень жаль, миссис Мэтт. Могу понять ваше горе, но никакими сведениями я не располагаю.
Тон мой был светским и твердым, хотя я не был вполне уверен, что сказал бы ее родителям, где она, если бы даже Черил спала в соседней комнате. Я повесил трубку, радуясь, что девочка сбежала из Тупело. Я надеялся также, что ее не изуродуют в Мемфисе или еще где-нибудь.
В довершение всех бед начался весенний семестр. На Юге весна приходит рано и несет с собой массу сильных переживаний. В то время как на Севере людям приходится довольствоваться мокрыми и грязными дорожками и набухшими крокусами, здесь распускаются магнолии, а озорной свежий ветерок обдувает голые ноги студенток из женского союза. В растительном царстве начинают бурлить соки, но гормоны начинают играть и в соках прочих обитателей кампуса. По лицам первокурсников «Оле Мисс» видно, что они томятся желанием потерять невинность, можно увидеть гоняющую по городу стайку девушек в красном кабриолете с опущенным верхом. Весной я с повышенным вниманием слежу за своими студентами, чего нельзя сказать о моем преподавательском рвении. Весна накатывает неудержимой волной, сексуально возбуждает по утрам, придает упругость каждому самому ничтожному шагу. Если вы хоть немного похотливы, то весна вселит в вас легкое безумие.
Я и сам столкнулся с нешуточным искушением, когда Элизабет Харт явилась ко мне в кабинет обсудить реферат. Она была ослепительна: безупречный макияж и открытое платье, с голыми плечами, которое сползало все ниже и ниже во время разговора. Кожа ее не имела ни малейшего изъяна и казалась нереальной, а салонный загар прослеживался до самых кружевных трусиков — Элизабет умело позаботилась о том, чтобы я их видел, скрестив свои стройные ножки. Каждый год со мной пытались флиртовать одна-две студентки, но ни одна из них не была столь откровенной. Все это было бы пленительно, если бы в игре Элизабет не чувствовалась невыносимая фальшь. Наверное, это следствие углубленного изучения литературы, но я питаю непреодолимое отвращение к клише, если, конечно, их не употребляют для усиления комического эффекта.
Я повернул крутящийся стул так, чтобы не смотреть Элизабет в глаза.
— Речь пойдет о вашем реферате, Элизабет.
— Да, я слушаю вас, доктор Шапиро. — Она устремила на меня наивный взгляд своих синих, как у младенца, глаз.
— Ну… — Я взял в руки обличавший ее документ, испещренный брызгами красных чернил моей профессорской ручки. — Этот реферат не похож ни на одну из ваших прежних работ.
— Не похож? — Она подкатила свой стул поближе к моему. В ноздри мне ударил аромат «Шанель номер 5».
— Нет. Во-первых, мы не читали в прошлом семестре Гарди.
— Нет… но я читала его на другом курсе, в прошлом году.
— Но почему вы вспомнили Гарди именно для этого семинара? — Я ткнул ручкой в третью страницу. — Вы приводите здесь цитаты из источников, которые — мне понятно откуда — известны…
— О, здесь мне помог один мой друг. — Рот ее приоткрылся в улыбке, и между двумя рядами белоснежных зубов стала видна манящая карминовая глубина.
— Но вы же понимаете, что должны писать реферат самостоятельно, без посторонней помощи.
— Но он просто помог мне найти нужные книги. Ведь это можно, правда? — Левая грудь уперлась мне в плечо, голова послушно склонилась к реферату, лежавшему у меня на коленях.
Я получил очередную порцию «Шанели», на этот раз из глубокого выреза платья. Я попытался найти опору в подлокотнике, но он уже был занят рукой Элизабет. Меня раздирали желание и невероятное раздражение. Я попытался представить себе Сьюзен, но единственное, что мне удалось, — это пересадить Сьюзен груди Элизабет.
Меня спас Макс ex machina. Он постучался в дверь:
— Дон, вы здесь или это запись?
Элизабет отпрянула с такой поспешностью, словно ее ужалили в самое чувствительное место. Чары рассеялись. Беседу, если ее можно так назвать, можно было считать оконченной. Я испустил профессиональный преподавательский вздох.
— Подождите, Макс, я занят со студентом. — Теперь путь к отступлению был открыт. Так как я не мог сказать Элизабет ничего конкретного, то решил дать ей срок. — Вы же понимаете, не хуже, чем я, что это неприемлемо. Я мог бы поставить вам неуд. Скажите, почему бы вам не попробовать написать реферат заново, но только самостоятельно, а?
— И вы меня не накажете?
— Нет.
Почему? Ради кого? — подумал я. Что у тебя на уме? — подумала злобная часть моего «я», но я подавил этот голос.
— Пока придется написать, что вы не полностью раскрыли тему. Постарайтесь сдать работу до начала следующего семестра.
— Доктор Шапиро, вы прелесть! — Она вскочила с места и чмокнула меня в щеку.
Макс в тихом изумлении наблюдал, как она мгновение спустя вылетела из моего кабинета.
— Обсуждение оценки?
Я напустил на себя скромный вид.
— Да, что-то вроде. — Я пододвинул Максу только что освободившийся стул. — Садитесь. Как дела?
Максу просто хотелось поговорить. Такое стало случаться чаще и изрядно мне льстило. Что касается темы, то носившаяся в воздухе эротическая пыльца не обошла и Макса. Правда, его весенняя лихорадка понуждала избавиться от Холли. Полагаю, это было неизбежно, но все же казалось грубым. Думая о ней, я всегда представлял себе мягкое беззащитное тело, распростертое на дороге. Разрыв облегчался тем, что Холли сменила работу, устроившись официанткой в Джексоне. Такое расстояние само по себе было достаточным поводом для расставания, но Макс сказал ей иное.
— Я сказал, что мы несовместимы. Женщины всегда покупаются на это клише. Они выучивают его в журналах.
— Но почему вы порвали с ней?
— Отношения износились. Настало время двигаться дальше. — Он пожал плечами.
Я заметил, что одет он сегодня небрежно — джинсы и спортивный пиджак, протертый на локтях.
Мне кажется, что поведение Керуака не очень идет такому яркому человеку, как Макс.
— Но что тогда говорить о браке? Несколько лет и — «двигаться дальше»?
Макс поднялся со стула.
— Во-первых, брак, по сути, невозможен с такой, как Холли. Вы никогда не пробовали поговорить с ней подольше? Так вот, я вам скажу: ирония отлетает от нее, как от стенки, а тонкие нюансы тонут в ней без следа. — Он прошелся по кабинету. — Что же касается брака… Да, брак устраивает большинство людей. Но я не похож на большинство людей — говорю это на случай, если вы сами еще этого не заметили.
Если бы так высказался кто-то другой, то это вызвало бы у меня сильное раздражение. Есть множество людей, особенно в Нью-Йорке, свято уверенных в том, что они отличаются от всех прочих смертных. Они культивируют свою эксцентричность и оттачивают свои неврозы, пытаясь цвести пышным экзотическим цветом. Невыносимая для них правда заключается в том, что на самом деле они всего лишь рядовые представители вида Homo sapiens, и их средненькая сущность обнажается тотчас после того, как облетает приживленная шелуха. Но в Максе действительно что-то было — его эксцентричность и внутреннее напряжение были неподдельны. Конечно, в этом заповеднике конформизма, в этом библейском поясе, до ужаса легко быть яркой индивидуальностью. Я и сам чувствовал себя здесь странным и чудаковатым северянином. До того, как познакомился с Максом.
— И чем же вы займетесь теперь? — спросил я.
Макс хищно осклабился, протянул вперед руки и агрессивно набычился.
— Поищу, в кого бы мне вонзить зубы.
Когда я, опустив жесты, рассказал об этом Сьюзен, она не стала скрывать свою радость по поводу того, что Макс бросил Холли, которая ему совсем не подходила.
— Но Макс тоже неподходящая пара, — добавила она, и, хотя я понял, что она имеет в виду, разговор стал меня раздражать.
Мы читали лежа в постели. За вечер мы едва перекинулись парой слов. После обеда я ушел в кабинет, а Сьюзен пошла в кино и посмотрела фильм, название которого успела забыть по дороге домой. Впрочем, мы не так уж много времени проводили врозь, вместе мы проводили гораздо больше времени, но это отнюдь нас не сближало. Нам просто не о чем было больше говорить, разве только о Максе, но даже и тут я многого недоговаривал. Эта скрытность вызывала у меня чувство вины и еще больше увеличивала отчуждение.
Секс в наших отношениях тоже стал исключительной редкостью. В тот день я снова мастурбировал в кабинете, представляя себе молодых особ женского пола. Проделанное мною отверстие в стене осталось нетронутым, так как у соседа не происходило ничего интересного. Много позже я думал: слышал ли меня Макс? Правда, один человек производит не так уж много шума. Подслушивала ли Сьюзен, что творится за стеной, когда меня не было дома? Я не решался спросить об этом, ибо сам вопрос мог бы навлечь обвинения с ее стороны.
Если вы уже поняли, что я за человек, то, естественно, понимаете, что я не стал спрашивать. На Сьюзен была прозрачнейшая ночная рубашка, обнажавшая одно плечико, но я не двигался. За последние несколько месяцев я еще больше раздался в поясе и теперь чувствовал себя толстым и глупым в ставших мне тесными трусах. Подспудно я ждал, что Сьюзен проявит инициативу и первой меня обнимет, но ничего подобного не произошло. Тогда я для затравки упомянул Макса, но это еще больше охладило Сьюзен.
— Слава богу, что ты не похож на Макса, — сказала Сьюзен и натянула рубашку на плечо.
Теперь должна последовать моя реплика.
— Интересно, похожа ли ты на Холли? — Я потянул с нее ночную рубашку.
Сьюзен отпрянула, но я держал ее довольно крепко, и тогда она сорвала с меня трусы, и мне пришлось отыграться на ее рубашке, которую я с нижайшими извинениями порвал. Мы были на верном пути, но в решительный момент моя плоть воспротивилась. Не помогли никакие ласки — с равным успехом можно было теребить шею обезглавленной индейки. Я чувствовал себя паршиво, и Сьюзен сказала, что это не имеет никакого значения, отчего мне стало еще хуже.
Мы выключили свет, но мне потребовался еще час, чтобы уснуть. Потом мне приснилось, что я стою перед толпой баб, каждая из которых так и норовила пнуть меня по яйцам. Режиссер — статуя толстого Приапа — с дешевой сигарой во рту наблюдал за сценой, отпуская критические замечания.
Сьюзен решительно не была настроена знакомить Макса с кем бы то ни было, но на этот раз он не стал ждать милости. Следующей подобранной им женщиной оказалась необъятных размеров певица по имени Элен Клаус с кафедры музыки. Элен, исполнявшая партии сопрано в Мемфисском оперном театре, обладала тем тяжеловесным достоинством, для обозначения какового немцы пользуются словом Bleibtheit, а французы, умеющие элегантно называть любые особенности тела, даже двумя — avoirdupois и embonpoint. Это была мощная колонна в женском образе, вполне способная подпереть крышу какого-нибудь довоенного особняка. У нее были величественные, словно у императрицы, манеры, но это не остановило Макса. Он сказал, что много месяцев ждал, что кто-нибудь сможет его с ней познакомить, но не дождался и решил взять инициативу в свои руки. Элен понравилась сама идея — стать предметом поклонения издалека. Макс был великим сценаристом.
Был он также и изрядным хамелеоном. С Мэриэн он вел себя как интеллектуал, как этакий художник manqué с чувственными порывами. Он льстил ее чувству собственного достоинства — до тех пор, пока ее не бросил. Для Холли он совершенно преобразился, превратившись в грубоватого мужика, не лезущего за словом в карман, в мужика, который стал ученым по чистой случайности. Именно в то время он начал носить ковбойские рубашки. С Элен он стал ценителем музыки, отполированным до полного совершенства. Он снова начал носить твидовые пиджаки. Поскольку же Макс действительно был эрудитом, то он многое знал об операх и романсах.
Я был в кабинете, когда в уши мне ударила оперная ария. Стереосистема Макса — пара динамиков «Айва», поставленных на ящик из-под молочных пакетов, — такой мощностью не обладала. Когда же за стеной перешли от Верди к Вагнеру, я понял, что поют живьем. Прошло еще несколько минут, и я услышал, как открылась дверь спальни.
— Простите, — услышал я извиняющийся голос Макса. — Я просто не могу наслушаться.
— Хочешь послушать еще что-нибудь из «Тристана и Изольды»?
— После антракта.
Последовал гортанный смешок. Вероятно, Макс сопроводил свое замечание подобающим — или, наоборот, неподобающим — жестом. Может быть, он, погладив ее руку, пощекотал ей шею? «Их надо щекотать, — говорил Макс, когда еще встречался с Холли. — Это самый простой способ установить физический контакт. Если они отстраняются, то это всего лишь уловка».
Смешок перешел в певучий вздох. Именно этого я и ждал. Сгорая от нетерпения, я встал и подошел к заветному отверстию, но замер, взявшись за проволочную затычку. Что, если они заметят? Что, если я попадусь? Но прощу ли я себе, если упущу такую возможность? Медленно, беззвучно, я вывернул затычку из отверстия. Звуки за стеной поминутно меняли тональность — Макс искал наиболее эффектную.
Я приник глазом к отверстию. Элен была в высоких кожаных сапогах, скрывавших ее непомерно толстые икры. Но зато Макс великодушно освободил ее от синей шелковой блузки. С непередаваемой скрупулезностью он аккуратно сложил ее и повесил на спинку стула. Потом он снова обернулся к Элен и положил руки на ее широкие плечи, под которыми высились две покрытых снежными шапками горы, с которых, словно горные ручьи, стекали голубоватые вены. Все было мягким и трясущимся, как будто Мемфисский театр отливал свои сопрано из желатина. Груди неизбежно рухнули бы в безбрежное море живота, если бы она расстегнула лифчик. Может быть, именно поэтому она, когда Макс завел руки ей за спину, направила их к верхнему разрезу черной бархатной юбки. Есть ли на свете что-нибудь более соблазнительное, чем звук расстегиваемой «молнии» на женской одежде? Бедра Элен были под стать всему остальному телу — пухлые, бледные и странно беспомощные без оков тесной юбки. Стали видны две объемистые подушки, беспощадно стянутые розовато-лиловыми трусами.
— Нет, — сказала она, когда Макс протянул руки к поясу трусов. — Нет. — Она взяла его руки и отправила их куда-то под разлив лилового цвета. — Еще ниже, — сказала она спустя мгновение. — Да, вот здесь. М-м-м-м…
Он ласкал и гладил ее, подбираясь к середине бедра, когда из-под трусов показались буйные иссиня-черные заросли. Это было странно, ибо всему свету Элен представлялась светлой блондинкой. Но Макс вел себя так, словно обнаружил неоценимое сокровище, начав исступленно ласкать эти заросли, что-то при этом ласково мурлыкая. За это время Макс успел одной рукой стянуть с себя рубашку. Теперь он одним плавным движением выскользнул из штанов, которые на какой-то момент стали похожи на две стоящих ноги, пока не сложились и не распластались по полу, как две змеи. Макс вдруг извернулся, и голова его оказалась у певицы между ног. Плоть сомкнулась вокруг его лица, когда он занялся вожделенным предметом.
— Но я не… я хочу сказать…
— Все нормально. — Голос Макса звучал приглушенно. — Я просто хочу показать, как высоко я ценю великое искусство.
Язык у него, видимо, был цепким, как обезьяний хвост, и верхняя часть Элен исчезла из поля моего зрения. Я едва не растянул мышцы шеи, стараясь изогнуться под нужным углом, не говоря о том, что у меня возникла эрекция, тоже требовавшая внимания. Макс неутомимо сновал по Элен вверх и вниз, и у меня от одного только наблюдения заболела челюсть. Он снова вклинился между ее ног, обхватив загорелыми руками ее бока. Голова, окруженная водами дрожащей плоти, — Макс казался тонущим моряком, потерпевшим крушение, а Элен — то ли спасительным плотом, то ли губительной пучиной. Наконец, по ее телу пробежала волна, и она произнесла каким-то тевтонским голосом:
— Ты мне нужен.
Теперь я увидел, как Макс надевает презерватив на свой член. Он оказался длинным, с выбухающей веной у основания, но был таким бледным по сравнению с остальным телом, что казался искусственным. Бежевый презерватив только усилил это впечатление. Но чувствительность у члена оказалась восхитительной. Хватило одного прикосновения пухлой руки Элен, чтобы член стал твердым и несгибаемым, словно крючок вешалки. После этого с груди Элен, словно рухнувший мост, слетел бюстгальтер, и желеобразные груди распластались по бокам. Макс принялся сосать жирный сосок и делал это до тех пор, пока Элен не застонала, после чего нырнул головой между грудями. Вот откуда исходит ее вокальный дар. Правда, один певец говорил мне, что голос идет из живота; в этом случае Элен можно считать звездой. Когда же он, наконец, овладел ею, то было такое впечатление, что он наполовину исчез. Ягодицы его напрягались, когда он совершал движение вверх. Одна моя рука была в кармане и тискала член. Думаю, что я кончил одновременно с Максом — Элейн Добсон назвала бы это мужской солидарностью.
Это было превосходное знакомство с Мемфисским оперным театром. В течение следующей недели я посмотрел еще два подобных спектакля — Макс ухитрился влезть во все дырочки и отверстия, какие только есть у женщины: носом под мышку, языком в ухо, пальцем в попу — список можете продолжить сами. Она, правда, ни разу не села верхом на него, да и вообще она сама почти не двигалась. Правда, она тряслась и дрожала, но там было чему дрожать.
Незадолго до весенних каникул Макс привел ее на факультетскую вечеринку. Не имея никаких дел с кафедрой музыки, я на самом деле до сих пор видел Элен только в ее голой плоти и через стенку. Это было в какой-то степени ошеломляюще — видеть ее одетой, более того, это было еще более непристойно, так как я знал, что находится под одеждой. А она и в самом деле была хороша. У Макса был дар выявлять в женщинах их сексуальные черты или заставлять их чувствовать себя сексуальными, что в конечном итоге одно и то же. На вечеринке, которую устраивал Грег Пинелли, расплачиваясь за свое уклонение от этой обязанности в течение семестра, она появилась в наряде оперной дивы — в облегающем длинном красном платье с неумеренно открытой грудью. На ней были высокие, до колен, тесные сапоги, плечи были обнажены, а на золотистых волосах, помогай мне бог, красовалась тиара. В ней было что-то невероятно чувственное, особенно на фоне других гостей, одетых в слаксы и отдающих должное колбаскам, наколотым на зубочистки.
Элен оценивающим взглядом обводила комнату. Это была моя идея — пригласить Макса, с которым Грег был почти незнаком. Но идея взять с собой Элен целиком и полностью принадлежала Максу, хотя ее Грег не знал вообще. Но Грег был способен приспосабливаться к любым обстоятельствам. Он сразу же выяснил имя гостьи и представил ее гостям. По мере этих представлений ранг Элен повышался: от преподавателя музыки и любительницы пения до артистки. Она с достоинством кивала каждому следующему гостю, и на лице уютно, как мурлычущий кот на диване, устроилось донельзя довольное выражение.
Макс вел себя как полноправный собственник, как продюсер, представляющий на суд публики новую звезду. Не думаю, чтобы Элен это заметила. Если бы она обратила на это внимание, то ощутила бы раздражение. Есть разница между менеджером и импресарио, и эта разница касается умения отдавать должное искусству, ценить его достоинство. Макс играл роль импресарио, выходя из нее только в те моменты, когда оказывался в непосредственной близости от Элен — флюиды ее тела производили на него поистине странное действие. В этой непомерно вздутой груди, огромных оголенных руках было действительно что-то смутно угрожающее. Икры Элен походили на ножки рояля, втиснутые каким-то непостижимым образом в высокие сапожки, абсурдно изящные для ее необъятного размера. Когда она кивнула нам со Сьюзен, а потом повернулась к нам своим затянутым в платье задом, Сьюзен шепнула:
— Платье ей, наверное, застегивали плоскогубцами.
— Тсс.
Должен признаться, что эта женщина вызывала во мне трепетное, смешанное с ужасом благоговение. Но было и нечто другое, какое-то желание выставить ее в смешном виде, высмеять ее, ткнуть пальцем в ее толстое брюхо или увидеть, как трещит по швам ее платье. Думаю, такое же чувство бывает у человека, рассматривающего памятник: некоторые склоняют голову в благоговейном почтении; некоторые изо всех сил сдерживают желание бросить в монумент камень. Есть еще третьи, одержимые неизлечимой склонностью к передергиванию и иронии, — их при таком созерцании обуревают оба противоположных чувства. Что есть такого в толстой женщине, что буквально вопиет «ПНИ МЕНЯ!», когда она наклоняется?
Грег радушно суетился, ставя новые тарелки с зубочистками, наполняя бокалы и непрерывно тараторя. Среди нас было с полдюжины гостей, прямо не приглашенных, и Грег чувствовал себя обязанным занимать их всех беседой. Один раз зазвонил телефон, и Грег пошел на кухню, чтобы ответить. Он вернулся немного сконфуженный.
— Здесь есть кто-нибудь по имени Джейми? — спросил он.
В Юге, как и в телефонных сетях, есть что-то для меня полностью непостижимое. Каким-то образом неверное соединение номеров перешло к Грегу, и с тех пор кредиторы Джейми перестали нас тревожить.
Ближе к концу вечера Элен согласилась спеть. Для этого не понадобилось ее упрашивать — на самом деле, думаю, она давно к этому привыкла. Макс посовещался с Грегом, и в комнате освободили немного места для стереосистемы. Немного позже Макс шептался с гостями, добросовестно рекламируя певицу, как и положено импресарио. Он усадил Элен на диван, вручив ей бокал красного вина, и так как я оказался рядом, то мне, волей-неволей, пришлось о чем-то с ней говорить. Сидели мы теснее, чем принято у обычных собеседников. Элен своим весом создала в подушке дивана глубокий каньон, и я беспомощно скатился к ней по склону этого оврага, столкнувшись с ней на дне.
Поначалу она милостивым кивком дала понять, что заметила мое присутствие, но ничего при этом не сказала. Так как меня уже представили, я не мог протянуть ей руку и представиться снова. Я испытывал неловкое чувство оттого, что слишком интимно знал женщину, с которой ни разу в жизни не разговаривал. Я мог бы нащупать какую-нибудь нейтральную тему о погоде (капризная), о времени года (начало марта), об университете и его сплетнях (это было рискованно, так как я не знал, к какой партии принадлежит Элен). Сам не знаю, почему я испытывал такие затруднения и не мог начать болтать, ведь я уже больше трех лет прожил на Юге, где каждый ребенок знает, как поддерживать очаровательную беседу ни о чем. Но стоило мне посмотреть на эту сидевшую рядом со мной римскую царицу, как всякие глупости насчет ранней весны застывали у меня на губах. Моя попытка отодвинуться от нее привела к тому, что я увяз в расселине еще глубже; теперь и мои ребра оказались тесно прижатыми к ее покрытому теплыми подушками боку. Какая же она была мягкая. Мне явилась сумасшедшая мысль: она ничего не чувствует и заметит, что что-то не так, только если я наполовину окажусь под ней.
— У дивана Грега замечательно скроенные подушки, не правда ли?
Признаюсь, это было не слишком воодушевляющее начало, но отдайте мне должное — я констатировал почти очевидное; кроме того, мною овладела навязчивая мысль об упругих деформациях.
— Диван? — Слова были произнесены глубоким и мелодичным голосом, как будто предмет Греговой мебели был вступлением к арии. Она величественно вскинула брови.
— Мне кажется, что я мог бы утонуть в нем навсегда. Я хочу сказать, что на нем очень удобно. — При этом я изо всех сил постарался выбраться к спинке этого злосчастного дивана, но снова сполз вниз к обильным бедрам Элен.
Мы начали оживленно обсуждать, чем набивают подушки; она оказалась весьма сведущей в этом деле. В Японии, сказала Элен, подушки набивают сушеными бобами, в Индии люди подкладывают под голову деревянные поленья. Единственный достойный вклад в этот разговор я смог внести, пользуясь услышанным от Макса фактом, что иногда подушки набивают человеческими волосами. Элен предпочитала гусиные перья, на них просто восхитительно лежать. При этом она пожала своими молочно-белыми плечами, еще сильнее обозначив промежуток между грудями, похожий на бездонный провал в подушке дивана. При каждом дыхании эта масса вздымалась над животом, как мясистые белые облака над горным ландшафтом. Вид был головокружительный.
К моему счастью, ее позвали петь. Когда она встала, диван принял свою обычную форму и меня резким толчком снова выбросило на плоскую равнину. Сьюзен, которая до этого болтала с Элейн Добсон, встала и заняла освободившееся место, как только был объявлен номер. Скромная попка Сьюзен почти не повлияла на контур дивана. Она слегка подалась вперед и положила руки на колени — села как следует в добрых шести дюймах от меня. Настало время концерта.
Выступление Элен произвело неизгладимое впечатление и подвело вечеру черту. Как говорится, ничто не кончается, пока поет толстая женщина. На самом деле ее голос оказался не таким убедительным и сильным, как обещала ее фигура. Она выбрала Un bel di из «Мадам Баттерфляй» — драматичную, звенящую, сильнейшую арию. Временами казалось, что в теле Элен находится несколько маленьких женщин, заточенных под слоями плоти. Мэриэн говорила мне, что у нее было такое чувство, — вероятно, именно поэтому она до сих пор упорно сидит на диете.
Я оглядел комнату. Франклин Форстер рассеянно присутствовал, попеременно гладя то свою бороду, то волосы жены, как всегда сидевшей у него в ногах. Если есть граница между обожанием и унижением, то именно на ней находилась Джейн — словно арестованный подозрительный иммигрант. Лицезрение женщин Макса приводит мой ум в скабрезное состояние, и я от нечего делать стал думать, как выглядит половая жизнь Форстеров. Много ли Джейн действовала руками, или Франклин сам снисходил до ручной работы? Садилась ли она на него верхом, чтобы поберечь его больную спину, или эта поза казалась ему недостойной? Играла ли какую-то роль его патрицианская борода, или такое входило в противоречие с антисодомитским законодательством штата Миссисипи?
Джон Финли, прямой как палка, сидел на плетеном стуле, а его жена Кэрол — в такой же напряженной позе — занимала кресло. Они выглядели точь-в-точь как в кадре «Американской готики», только у Кэрол не было в руках вил. Судя по всему, Кэрол знала о неверности Джона; другого объяснения леденящей отчужденности между ними у меня нет. Они выглядели настолько отчужденными, насколько могут быть муж и жена, но в то же время очень близкими друг другу. Выражение лица Джона напомнило мне старые рассказы Джона Ликока — о том, каково быть глубоко приниженным. Не знаю, где сейчас парил его дух, — вероятно, в студии нимфоманки-правоведа, уже названной в честь Форстера и компании «гнездом любви». Выражение лица Кэрол читалось легче: оно было мрачным. Элен продолжала петь.
«Музыка обладает колдовской властью умирять сердца дикарей», — писал Поп. Насколько я знаю, Поп никогда не жил половой жизнью.
Отрешенно не замечая никаких плотских течений, Бенджамин Дальримпль, словно мертвый Будда, сидел прямо напротив поющей Элен. Его узловатые руки покоились на коленях, глаза закрыты — он внимал только музыке Пуччини; по крайней мере, так казалось до тех пор, пока Элен не сделала паузы после особенно высокого крещендо и не послышался тихий храп, подчеркнувший паузу. Я посмотрел на Сьюзен — она прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Жаль, что она не может заодно прикусить губу и мне.
Опытная актриса, Элен продолжала петь, несмотря на отвратительную акустику маленькой комнаты с грубыми половиками и комнатными растениями в кадках, несмотря на падение толстенного тома Уордсворта с полки на середине арии и невзирая на Дальримпля, который все это время, закрыв глаза, исполнял носом какую-то свою музыку. Она закончила под рассыпчатые — лучше сказать жидкие — аплодисменты, холодно поклонилась и села. Точнее, она подошла к дивану и обнаружила, что ее место уже занято. Я тотчас встал, уступая ей свою долю дивана. Элен села. Диван испустил свистяще-шелестящий звук, и Сьюзен начала скользить в пропасть. Но женщины Юга обладают удивительной способностью выпутываться из стеснительных ситуаций. Сьюзен подалась вперед и, согнув колени, обхватила ногами край дивана. Она даже, как примерная школьница, сложила руки на коленях, приняв вполне приличную позу. Утвердившись, она принялась хвалить удивительный голос Элен. Я улизнул на поиски новых впечатлений, вернее, на поиски Макса. На кухне мы обсудили, почему у оперных див так много плоти. Мы сошлись на том, что все дело, видимо, в резонансе, но Макс сказал, что на следующей совместной тренировке поинтересуется акустикой этого дела у Фреда Пиггота.
Но долго Элен не продержалась. С другой стороны, я могу сказать, что не продержался Макс — ведь это он ее оставил. Макс — кочующий любовник, Макс — донжуан Оксфорда. Франклин, этот старый сплетник, взял на себя труд сообщить мне, что Элен Клаус никогда не простит Максу Финстеру той ужасной, унизительной вечеринки у Грега Пинелли. Но это была ложь во спасение гордости Элен. Мэриэн, с которой мне случилось снова выпить кофе в союзе, что-то сказала насчет унижающего сексуального поведения и добавила: «Я слышала, что он стал еще хуже», но не стала развивать эту тему. Она также заставила меня поклясться, что я не передам Максу ее слов. И я не стал — ее тон меня почти напугал. В следующий раз, когда мы с Максом брали почту, я спросил его только о последствиях вечеринки. Ответ его был краток:
— Я мог бы все уладить. Но не стоит этого делать.
— Мне казалось, что тебе нравится Элен.
— Нравится — это не самое подходящее слово. — Он ногтем большого пальца вскрыл большой конверт. В своем ящике я нашел всего лишь листовку из «Уол-Марта», и я сунул ее под мышку, чтобы донести до ближайшего мусорного ящика. Как всегда, разговаривая с Максом, я испытывал зависть, ощущал какую-то свою неполноценность, но надеялся, что часть его жизненных соков прольется и на меня.
— Итак, чего мы теперь ищем?
— Каталога почтовых заказов. Он должен вот-вот прийти.
— Нет, я имею в виду, чего вы ищете в отношениях. Почему вы, например, сблизились с Элен?
— Потому что она подвернулась под руку.
— Нет, я серьезно.
Макс отвернулся — у дальней стены, в дюйме от моей шеи, он видел рассекающую горизонт тяжеловесную девицу в шортах. Живот ее нависал над поясом под каким-то умопомрачительным, неестественным углом. Выпирающие груди растянули футболку в две одинаковые меркаторские проекции полушарий. Жирное лицо радостно улыбалось чему-то невидимому. Когда Макс наконец заговорил, голос у него был почти жалобным.
— Потому что я вообще люблю женщин такого типа. Этого достаточно?
— Конечно, но мне кажется, что вы их не слишком любите.
— Это только половина правды. — Он посмотрел на меня с таким видом, словно хотел оказаться где-то в другом месте. Через мгновение я понял, что он выглядит так, будто он уже где-то и через мгновение уйдет. Я уже не раз становился свидетелем таких неожиданных его исчезновений. Но на этот раз он остался стоять, глядя, как мимо снова продефилировала толстуха в шортах с выпирающим огромным животом. Руки ее казались растопыренными — прямо висеть им мешал жир на том месте, где обычно бывает талия.
— На самом деле думаю, что я люблю их слишком сильно.
— Слишком сильно для чего?
— В ущерб себе.
Я подумал о бедной Мэриэн, о том, как он ее бросил, о том, как он использовал Холли ради своих прихотей из-за ее большого зада, этих ягодиц размером с пляжный мяч, привлекавших его, как плотский маяк. Я вспомнил Блума из «Улисса», преследовавшего служанку в широкой юбке. Я подумал об Арабелле из «Джуда незаметного», о толстых женщинах из «Дивного нового мира» Хаксли. Почему? Да потому, что я — профессор литературы, в конце концов, и все мои ассоциации должны, обязаны быть литературными. Литература призвана воскрешать в памяти реальность. У меня же, наоборот, реальность напоминает о книгах.
Не отступничество ли это? Все это имеет отношение не ко мне, а к Максу. Но это мои ассоциации, а поскольку я не телепат, то не могу перенести их на Макса. Единственное, что я смог сказать, — это «Щ!», но этого междометия было недостаточно, чтобы вернуть его в состояние откровенности. Толстуха ушла, почту мы забрали. Дни снова стали длиннее. У меня осталось всего две группы, а это делало дни еще длиннее. Я стал больше есть, и это произвело абсолютно предсказуемый эффект. Курсы, которые я теперь преподавал, были такие же, что и в прошлом году, поэтому времени на подготовку к занятиям уходило мало. Я старался хоть немного продвинуться в научной работе. Брак мой все в большей степени становился теоретическим. Мы с Максом кивнули друг другу и разошлись — я в библиотеку, а он продолжать свою частную битву, разрабатывать планы новых завоеваний и героических одиночных восхождений на холм Венеры.
21
Жизнь университетского ученого — в противоположность жизни нормальных людей — может радикально и весьма причудливо измениться за какую-нибудь неделю. Ну, во-первых, Элейн Добсон нашла мужчину. Учитывая ее интересы — литературу XVIII века и феминизм, — никто в Оксфорде не питал в отношении ее никаких иллюзий. Одно время она всерьез рассматривала кандидатуру Эрика Ласкера, но его единственной и верной любовью был марксизм. Помимо Эрика, единственным холостяком на кафедре был Грег Пинелли, но она решила, что он гей, так как не интересовался ее персоной. Одно время она даже подумывала обо мне, полагаю, из-за недоразумения на вечеринке. Мне действительно нравилась Элейн, но я был женат. Кроме того, меня не привлекают женщины, похожие на меня — книжные и немного близорукие. Мне нужна такая женщина, которая могла бы время от времени вытряхивать меня из рутины академического бытия. Наверное, поэтому я нашел для себя даму противоположного типа.
Элейн нашла Натаниэля.
«Нашла» в данном конкретном случае — самое подходящее слово: через неделю с небольшим после его освобождения она увидела его лежащим почти без сознания в придорожной канаве. Она остановила свою «тойоту» и вышла, на что решится не всякая женщина. (Джина подумала, что Элейн сошла с ума.) Натаниэль мог быть опасен; он мог броситься на нее. Но единственное прегрешение Натаниэля состояло в том, что его вырвало на туфли Элейн. Осознав это, Натаниэль принялся бессвязно извиняться, говоря, что он сегодня не в себе. Более того, он сказал, что купил бы ей новые туфли, но у него куда-то пропал бумажник. (Эрик сказал Элейн, что у Натаниэля никогда в жизни не было даже кошелька.) Действительно, у него пропало все, если не считать грязной одежды и левого ботинка — половины пары обуви, купленной ему Эриком, когда они вышли из тюрьмы. Он смотрел на нее снизу вверх — она все еще стояла на краю канавы — карими умоляющими глазами. Черные, жесткие и курчавые волосы космами свисали на вымазанный грязью лоб, делая Натаниэля похожим на интеллигентное дитя неизвестных родителей. (Франклин, интеллектуальный расист нашей кафедры, вообще утверждал, что Натаниэль — это особь иного биологического вида.) Вообще выглядел он побитым, словно кто-то хорошенько отдубасил его резиновой дубинкой.
Элейн прикусила губу. Она протянула ему руку и помогла выбраться из канавы, едва при этом не свалившись туда. Потом она предложила подвезти его. Когда она узнала, что его некуда подвозить, то отвезла его к себе домой, чтобы вымыть и вычистить. Что произошло дальше, можно лишь гадать, хотя и можно сделать по этому поводу вполне достоверные предположения. В течение недели по Оксфорду разнесся слух, что профессор Добсон взяла квартиранта. Женщины любят исправлять грешников — в этом сказывается сидящий в глубине женской натуры инстинкт Армии спасения. Когда об этом услышал Эрик, он попытался отговорить ее от этой затеи и выставить Натаниэля прочь, но не смог ее ни в чем убедить. «История повторяется дважды, — мрачно процитировал он. — Сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса».
Несмотря на множество самых ужасных предсказаний, они, как кажется, неплохо поладили. Натаниэль ухаживал за лужайкой, а днем откуда-то возвращался в кузове пикапа. Они практически никуда не выходили, но время от времени я слышал, как Элейн что-то мурлычет себе под нос в коридоре кафедры. Несколько недель спустя мы со Сьюзен встретили счастливую парочку на выходе из «Уол-Марта». Они шли, нагруженные тонной всяческих товаров. Натаниэль был в просторном костюме поверх рабочей рубахи и в полном комплекте обуви. На Элейн — я клянусь — была надета блузка с оборками и юбка.
— О, кого мы видим! — Сьюзен, солнечно улыбаясь, помахала рукой.
Я ограничился кивком. Мы до сих пор делили свои социальные функции — Сьюзен отвечала за приветствия. Они поставили свою поклажу на землю, и Натаниэль твердо пожал мне руку, а Элейн улыбнулась во весь рот, словно ей вставили туда надежную распорку. Я уже забыл, насколько громаден Натаниэль, его предплечье, состоявшее из могучих мышц и переходящее в здоровенную кисть, было похоже на бревно.
Никто не знал, что говорить дальше, и Сьюзен принялась болтать:
— Какой сегодня чудный день, правда? Я вижу, вы столько всего накупили!
Элейн пренебрежительно отмахнулась от трех здоровенных сумок:
— Так, купили несколько мелочей.
Сьюзен повернулась к Натаниэлю:
— Вы вселились?
Натаниэль пнул одну сумку.
— Можно сказать и так.
— Разве это не мило?
Элейн согласилась, что это мило. Пока они о чем-то болтали со Сьюзен, я спросил Натаниэля, что он теперь читает. Он сунул руку в необъятный боковой карман и извлек оттуда потрепанную Библию.
— Больше Новый Завет, — пророкотал он.
Эрик заклеймил бы его за отступничество.
Я тоже не смог удержаться:
— С Марксом покончено?
— Все одно. Первое, что сделал Христос, — это выгнал торговцев из храма.
Неожиданно для себя я согласно кивнул. Парень оказался себе на уме. И это он не заимствовал у Эрика. Если у Эрика был взвинченный, почти визгливый голос, то у Натаниэля был низкий, магнетический голос прирожденного проповедника. Мы коротко поговорили о том, что имел в виду апостол Маркс, говоря: «И последние станут первыми», и настало время попрощаться. Мы заметили, что, когда они садились в «тойоту» Элейн, Натаниэль наклонился и открыл ей дверь.
Должно быть, любить такого — это все равно что заниматься сексом с деревом, подумалось мне. С твердым красным деревом.
— Он хорош, — сказала Сьюзен. — Надеюсь, это продлится долго.
Это было в начале марта. Но и следующие недели месяца были полны неожиданностей. Вот некоторые из событий, изложенные без особого порядка.
Бейтсон впал в трехдневный запой, в течение которого только и делал, что писал. Никаких дисциплинарных мер не последовало, так как начальство официально было не в курсе. Пока Рой пил, одна из его студенток написала рассказ о больших южных писателях и маленьких южных членах.
Моя статья о Джойсе очень быстро вернулась обратно с письмом рассерженного читателя, утверждавшего, что я не обратил должного внимания на роль пола. Я выбросил письмо в корзину и отослал статью обратно.
В кампусе начали появляться фотографии разыскиваемой Черил Мэтт с обещанием награды в пятьсот долларов и телефоном в Тупело. В середине марта сумма вознаграждения подскочила до семисот пятидесяти долларов.
Джина познакомилась с профессором южной литературы из Ноксвилла, который был убежден, что Фолкнер умер не своей смертью. Началась переписка, которая резко оборвалась, когда выяснилось, что профессор из Ноксвилла полагает, что Фолкнер был убит.
Сьюзен оставила работу в убежище для животных, после того как трое красношеих в пикапе взяли двух доберманов, поставили на них в собачьем бою, а потом привезли их, полумертвых, к дверям убежища. Теперь Сьюзен ищет какую-нибудь работу в офисе.
Вернон Ноулз перенес тяжелый инсульт, от которого теперь медленно выздоравливает. Движения его восстановились почти полностью, но речью он пока не владеет. В один из его мартовских воскресных вечеров он, как мог, объяснялся жестами.
Кто-то вломился в лабораторию Стенли и выпустил на волю половину крыс. К счастью, говорил Стенли, большинство из них не были еще объектами опытов, но неудобства были большими. С тех пор белых крыс с розовыми хвостами часто видели в Студенческом союзе, где они рыскали в поисках еды.
Элизабет Харт сдала мне переделанный реферат, на этот раз он касался творчества Д. Г. Лоуренса. Теперь это была ее собственная работа — надо сказать, довольно жалкая, и я поставил ей тройку. Она не стала опротестовывать оценку.
Франклин застукал Джона Финли и даму-правоведа в кабинете Джона, куда вошел, как водится, без предупреждения. «Они были еп flagrante»[13], как рассказывал он потом всем и каждому. Жена Финли Кэрол взяла детей и отправилась в гости к своим родителям в Северную Каролину.
Что же касается Макса, то он с непоколебимой неизбежностью, можно даже сказать, фатальностью нашел себе следующую партнершу. Ее зовут Биби Биббер, что подтверждает, что ономастическую поэзию нельзя считать утраченным искусством. Она была новым клерком в университетском казначействе, и ей пришлось его обслужить, когда он явился в кабинет казначейства вносить ежемесячную плату. Над столом возвышалась лишь верхняя часть ее туловища, но и этого было достаточно. Тело ее имело почти сферическую форму, дополнением к чему служили две пухлых круглых щеки, агатовые глазки и каштановые волосы для завершения композиции. Для ее совращения Макс выбрал безошибочную тактику, сказав, что современные женщины напоминают ему палки. Биби пробормотала что-то насчет того, что она старомодная девушка. Думаю, что, дождавшись этого признания, он перегнулся через конторку и обласкал ее своими честными синими глазами. Фрейд недвусмысленно сравнивает глаза с тестикулами[14], и, вероятно, в этом сравнении есть зерно истины. Кроме того, этот взгляд… Я знаю силу этого взгляда. Иногда он околдовывает даже меня.
Не знаю, как именно он за ней ухаживал, меня в это время несколько дней не было в городе, так как я ездил на литературную конференцию. К моему возвращению знакомство перестало быть чем-то эфемерным, но стало fait accomplit[15]. То же самое верно и в отношении его романа с Мэриэн, решающую стадию которого я пропустил, так как был в это время в гостиной. Подсматривание за ним и Элен было очень познавательным, но как он завлекает их? Он что, просто садится за руль и везет их к себе? Кстати говоря, Биби ездила на «форд-эскорте», явно прогибавшемся под местом водителя. Может быть, он бесстыдно им льстит, и если да, то как? «Знаете, до вас я не встречал женщин, которые были бы мне так близки», «Покачивания вашего зада просто сводят меня с ума». В чем секрет его неотразимости? Теплая сильная рука, ласкающая изгиб локтя. Нежное пожатие.
Простой ответ, если это вообще ответ, заключается в том, что просто это Макс. Макс и его непреодолимое вожделение. Один только взгляд его глаз отчетливо показывает женщине, что он всецело поглощен ею, и также ясно намекает на то, что он пойдет на все, на любое сумасшествие, сделает все, чтобы ее добиться. Но когда она сдается, он располагает ею как своей собственностью.
Он тискал Биби на людях. Я не хочу сказать, что он ее обнимал или откровенно ласкал. Нет, он пощипывал и лапал ее. Когда я впервые увидел их вместе, он шел рядом с ней и небрежно поглаживал ее по толстым плечам. Я был зачарован. Это выглядело приблизительно так, словно он накачивал ее велосипедным насосом. Было трудно сказать, где заканчивается ее бюст и начинается живот, она была просто кругла, раздутые руки топорщились в стороны. Пояс — на том месте, где должна быть талия, — выглядел как монументальный экватор, для пересечения которого старинным мореплавателям требовались многие месяцы. Ее живот незаметно переходил в таз и бедра. Кроме того, роста в ней было не больше пяти футов, и это делало общий вид еще более впечатляющим. Она не раскачивалась, когда шла. В ней было что-то пневматическое. Было такое впечатление, что если прыгнуть ей на живот, то отскочишь от него, как на батуте.
Я глазел на эту парочку, когда рука Макса спустилась ниже и оттянула эластичный пояс юбки. Она с довольным видом шлепнула руку Макса, и та, в отместку, ущипнула сферический зад.
— Прекрати. — Судя по голосу, она была раздражена.
Тогда он пощекотал ее под мышкой, а она прижала его руку, взяв ее в плен своего мясистого плеча. Так они шли некоторое время, а потом она отпустила его на волю, и рука, тотчас обвив пояс, так и осталась на нем. Она взяла его за руку.
Они находились в этом положении, когда заметили меня на углу.
— Дон, — сказал Макс, — это Биби.
Биби извлекла свою руку из ладони Макса и протянула мне. Рука была розовая и мягкая, но рукопожатие оказалось крепким.
— Очень рада познакомиться с вами, — объявила она. Лицо было чрезмерно накрашено. Румяна делали его похожим на яблоко. Помада была того же цвета, каким пользовалась моя мать, но в те времена вся помада была кирпично-красного цвета.
— Биби, — продолжал Макс таким тоном, словно она находилась в соседней комнате, — работает в казначействе и подворовывает деньги из пожертвований.
— Не говори так, — буркнула Биби. — На самом деле мне еле-еле хватает на еду.
Я удержался от совершенно очевидного комментария.
— Я ее кормлю, — сказал Макс и погладил ямочку на локте Биби. — Я обнаружил этого брошенного ребенка в столовой с пустым подносом и пригласил ее домой отведать настоящей еды.
— Это ложь, Макси.
— Ладно, пусть так. Там стояла целая очередь мужчин, предлагавших Биби деньги. Когда дело дошло до меня, то я пригласил ее на обед.
— Вот теперь это правда, но мне не нравится, как ты ее рассказываешь. — Она толкнула его широким бедром. Потом повернулась ко мне. — Я хочу сделать из него честного человека. Как вы думаете, у меня есть шанс?
Я решил, что мне нравится Биби. В ней чувствовалась какая-то основательность. Я имею в виду не только ее физические данные. Я почувствовал, что она сможет управлять Максом, несмотря на то что называет его Макси. За ее строгостью угадывалась игривая доброта. Биби напомнила мне человека, которого я когда-то знал, но имя которого теперь забыл. Ассоциация не уходила, хотя я и не мог ничего вспомнить. Только после того, как они ушли, я вспомнил, как будто воспоминанию мешала полнота Биби.
Когда я был еще маленьким, у меня была одна страдавшая ожирением родственница — тетя Клара. Единственное, что я помню, — это как она щекотала меня, когда ложилась отдохнуть, сняв туфли. У нее были поразительно маленькие ножки для такого грузного тела, и они из-за этого постоянно болели; поэтому-то она часто принимала горизонтальное положение. От этого ее похожий на гору живот превращался в бескрайнее озеро, а обширный тройной подбородок распластывался по подушкам. Она ставила меня между своими огромными коленями и принималась щекотать своими коротенькими толстыми ручками, которые ползали по мне, как два пятифутовых розовых животных. Если я начинал визжать, она сжимала меня коленями. Спустя минуту она выдвигала ящик ночного столика и доставала оттуда сладости — одну для меня, другую для себя. Такой она и осталась для меня — сладкой леди. Я так и не познакомился с ней ближе, потому что она умерла от инфаркта, когда мне было всего три года.
Я не вспоминал о тете Кларе лет двадцать пять, если не больше. Она вернулась благодаря Биби, точнее, ее таким же пухлым щекам. Нельзя сказать, что в Оксфорде не было тучных женщин. Их называли большими или полными, но все понимали, что это эвфемизм. Можно было видеть этих женщин в магазине Крогера, где они своими задами, обтянутыми тренировочными штанами, непреднамеренно блокировали подход к прилавку. Эти женщины показывались и в оксфордском торговом центре — вместе с мужьями и угрюмыми детьми. Можно было видеть, как они ездят на машинах, обхватывая руль своими непомерно раздутыми руками. Были ли они толстыми всегда или жирели после замужества? Как Биби дошла до такой жизни? Каково это — прибавлять фунт за фунтом, беспомощно становясь все толще и толще? В чем здесь дело? В неправильной работе желез? Стенли Пирсон высмеял эту идею, заявив, что огромное большинство людей — или большинство огромных людей — стали такими из-за того, что много ели и мало двигались.
Это была статистическая информация, в которой Стенли был очень сведущ, но как насчет других факторов? Может быть, некоторые женщины просто хотят быть большими, чтобы чувствовать себя уверенными, сильными. И разве сила не есть основа сексуальности? Кинси когда-нибудь включал в свои анкеты вопросы о весе? Некоторые люди любят, когда их супруги имеют небольшой избыточный вес. Например, именно поэтому Сьюзен откармливает меня. Но здесь речь идет о крайности и о другом поле. Я часто ставлю себя на место женщины — Сьюзен говорит, что это одно из моих ценных качеств, но здесь я могу только гадать. Каково это — превосходить своего партнера весом на пятьдесят фунтов или больше? Каково торчать сзади и выступать впереди — грудями размером в дыню, необъятной промежностью, ягодицами с дирижабль — и иметь такие вылезающие наружу эрогенные зоны, какие не может удержать самый тесный купальник?
Эти мысли не давали мне той весной покоя, так же как сновидения, продолжавшие мучить меня, когда я спал рядом со Сьюзен. Однажды ночью, глядя сквозь кружевные занавески, как по небу плывет луна, я лежал, выдохшись, в позе «после совокупления» — животом вверх, с ногами разведенными, как у лягушки, и руками под головой. Секса, правда, не было, была попытка — и Сьюзен, наконец, устала выказывать мне свое сочувствие. Когда она спросила, о чем я думаю, я что-то ей ответил — кажется, о ее волосах, короче, нечто подходяще льстивое. Но это нисколько не соответствовало действительности. На уме у меня было совсем иное.
Перед тем как прийти в спальню к Сьюзен, я был в кабинете. Там я отчасти работал, отчасти прислушивался к звукам, доносящимся из-за стены. В квартире Макса было много вещей, стучавших и издававших по ночам резкие звуки, но ни с чем нельзя спутать шлепки плоти о плоть. Потом раздался звук, напоминающий свист пылесоса, и я, наконец, не выдержал и подошел к заветному отверстию. Мне захотелось посмотреть на голую Биби, но она оказалась полностью одетой, когда я заглянул внутрь спальни. Макс суетился вокруг ее торса, обтянутого безрукавной блузкой, и распалял подругу поцелуями, которыми покрывал ее загорелые руки, — он целовал их взасос, как будто хотел высосать ее плоть ртом и ноздрями.
— Прекрати, Макси, мне щекотно.
— Ты порозовела от щекотки? Ну-ка, посмотрим. — Он расстегнул верхние пуговицы блузки проворными пальцами.
Она не особенно сопротивлялась, но лишь передергивала плечами, выставляя их вперед. Когда он начал массировать ее грудь, она оттеснила его своим весом. Он не стал упорствовать и отступил.
Она поправила лифчик.
— Не сейчас, — сказала она.
— Во времени всегда есть только сейчас. — Он обнял ее за плечи. — Я люблю тебя чувствовать.
— Гм. — Это было все, что она произнесла, но когда его руки возобновили попытки, она не стала противиться.
Обхват талии Биби был столь огромен, что я потерял из виду руку Макса, когда он принялся ласкать ее. Другая рука скользила по животу, а все его поджарое тело прижалось к необъятному боку.
Надо ли дольше ласкать такую обильную плоть, чтобы пробиться сквозь непомерную полноту? Мне так и не довелось об этом узнать, потому что, как только рука скользнула к бедру, Биби рывком отшвырнула ее в сторону.
— Ну же, — жалобно произнес Макс, — мы же не в детском саду.
— Мне все равно. Ты ничего не получишь до тех пор, пока…
— Пока что? Пока смерть не разлучит нас? — Его сарказм был буквально виден даже сквозь узкое отверстие, а разговор этот был уже, видимо, не первым.
— Ты знаешь что… — сказала она.
Дух брака витал в воздухе. Она аккуратно застегнула блузку.
Макс не произнес ни слова, лица его я не видел. Я чувствовал его раздражение; более того, я и сам был донельзя расстроен. У меня даже дрожали пальцы. Я заткнул отверстие и лег на ковер. Потом я принялся мастурбировать, вспоминая Элен и ее мягкое белое тело, ощупывая свое пухлое брюшко и еще неистовее терзая член. Что была Сьюзен по сравнению с этим чудовищными образами?
Теперь, лежа в постели, я представлял себе Биби со всеми ее округлостями. Я слышал горловой рыдающий стон женщины, которую проняло до самых сокровенных глубин, хотя Макс, это молчаливое хищное животное, издавал очень мало звуков. Я представлял себе, как он занимается сексом — также как тренируется, — обдуманно, эффективно, извлекая максимум пользы. Все было под контролем. Разработано до последнего рывка.
Как выяснилось, я ошибался. Но откуда я мог знать это тогда?
22
Макс Бродяга обрел, кажется, пристанище в Биби. К этому склонилось общее мнение, но я знал, что это далеко не так. Биби всего лишь возбуждала Макса больше, чем все другие его женщины, а все окружающие принимали это за влюбленность. Сам Генри Клей Споффорд, встретив парочку в коридоре Бишоп-Холла, соизволил сойти с белого коня и пригласил ее на ужин. Нэнси Крю попросила их пожаловать к ней на вечер со шведским столом. Пирсоны изъявили желание встретиться с ними за обедом. Слух о Максе и Биби дошел даже до Вернона Ноулза, любопытство его было столь велико, что он поручил своей жене Айрис передать приглашение на воскресный вечер, но Макс — он сам сказал мне об этом — отклонил приглашение.
— Мне нужна живая беседа, — объяснил он, отводя взгляд.
Мэриэн, когда я встретил ее на Оксфорд-сквер и спросил, видела ли она Биби, в ответ лишь поджала губы. В то время она изо всех сил пыталась стать полной противоположностью Биби. Мэриэн уже сбросила больше сорока фунтов, но, по злой иронии судьбы, чем больше плоти она теряла, тем меньшим становилось ее значение в тесном мире Оксфорда. Лицо ее заострилось и сморщилось, став каким-то обветренным. Худея, она не трудилась покупать новую одежду и буквально тонула в старой. Из коротких рукавов летних блузок ее руки теперь торчали словно жалкие палочки. Как личность, она стала тоньше и, одновременно, резче. Настанет день, когда она превратится в высохшую мумию, пугливую тень, которая будет, испуганно озираясь по сторонам, покупать в полночь в магазине Крогера низкокалорийную еду, чтобы пополнить свои запасы. Теперь никто не рисковал приглашать ее на кофе, опасаясь реакции на пирожки и печенья.
— Не хотите перекусить? — спросил я ее как-то днем, во время перерыва.
Она отрицательно покачала головой:
— Спасибо, я уже ела сегодня утром.
Биби, напротив, ничем не стесняла свои пищевые инстинкты и ела за троих. Она была крайним выражением типичной женщины Юга, южной ротондой, пухлой и дерзкой.
— Дон, я не могу поверить, что вы действительно читали все эти книги, — сказала она, когда они с Максом явились к нам на ужин.
Мне потребовалось две недели, чтобы уговорить Сьюзен пригласить их к нам. Увидев Биби, Сьюзен окончательно удостоверилась в грубости и неотесанности вкусов Макса. Биби ткнула рукой в полку книг моего кабинета, где было все от Олби до Вульф.
— Это для оформления окна, да?
На полках в холле были другие книги — от Дугласа Адамса до Роджера Желязны. Моя иллюзорная жизнь.
— Ну, знаете ли, это моя работа… — скромно заметил я.
Она схватила «Странствия пилигримов».
— О чем это?
— Это о грехе и заблуждении. Религиозная аллегория.
Она мило сморщила носик.
— А это что? — Она выхватила с полки «Влюбленные женщины» Лоуренса. — Это что-то неприличное? — Биби игриво толкнула меня бедром.
— Да, — признался я. — Каждый семестр я преподаю это своим студентам.
Ее агатовые глазки расширились в непритворном изумлении.
— Преподаете студентам? Доктор Шапиро, вы меня удивляете.
Черт! Я неправильно истолковал ее поведение и ухитрился оскорбить. Нам, северянам, всегда следует этого опасаться. Я смутился и принялся излагать стандартную апологию литературы — в ответ Биби фыркнула так, словно между ее грудями взорвалась бомба.
— Не надо грузить меня всей этой профессорской чепухой. Это была проверка.
— Я выдержал экзамен?
— Да.
Я облегченно улыбнулся, почувствовав себя одновременно уязвленным и польщенным. Иногда Сьюзен пробует на мне тот же прием. Позвольте мне сделать здесь одно отступление: женщины Севера знают, как выжить с мужчиной, женщины Юга умеют им управлять. Пусть Биби была жалкой карлицей с жирным задом, но и она в совершенстве владела этой нахальной манерой. Она могла бы шуткой заставить меня вычистить выгребную яму. Нет ничего удивительного, что Биби сумела так долго продержать Макса на коротком поводке, не потеряв при этом себя. В следующий миг она бросилась к Максу, который пристроился на диване, и сделала вид, что хочет приземлиться к нему на колени. Она промахнулась всего на несколько дюймов, но я не мог удержаться и живо вообразил, как этот круглый зад будет выглядеть на мускулистых мослах Макса. Как мяч, балансирующий на бите, если не считать того, что мяч — это надутая воздухом прорезиненная ткань, а Биби являла собой сплошную теплую плоть. Кстати, интересно, сколько она весит? Я никогда не умел точно прикидывать вес, но подумал, что Биби, пожалуй, потянет не меньше чем на двести тридцать фунтов. Студентки «Оле Мисс» в среднем весили фунтов по сто пятьдесят, следовательно, Биби выглядела точно так же, как две студентки, сложенные вместе.
Несмотря на все эти фунты, она была удивительно подвижна на своих маленьких ножках. Было такое впечатление, что она без труда может станцевать вальс на десятицентовой монете. Кроме того, у нее начисто отсутствовали комплексы, мучающие большинство полных женщин, страдающих от груза общественного мнения, которое заставляет их сутулиться и изо всех сил затягивать живот. Биби была гладкой, лоснящейся и жизнерадостной; внешне — безупречна. Макс выглядел рядом с ней как маленький мальчик, получивший громадный подарок, к которому не знал, как подступиться.
Пришли к нам Грег Пинелли и Элейн Добсон — чтобы создать иллюзию вечеринки. Грег почему-то сильно нервничал в присутствии Биби; он изо всех сил обходил ее стороной, как будто он был моряк, а она — айсберг и он страшно боялся столкнуться с ее подводной частью. Думаю, что присутствие Макса его тоже стесняло, особенно после той почти провальной вечеринки с Элен. Это был и наш провал, потому что Грега мы пригласили исключительно из-за его редкой способности — способности к посредничеству. В иной ситуации, мне кажется, он смог бы стать посредником на переговорах между ку-клукс-кланом и ассоциацией по прогрессу цветного населения. Он всегда был готов примирить и согласить всех и вся.
Сегодня Грег решил испробовать свою способность к утешению на Элейн, которая пришла без Натаниэля. Она не стала пускаться в объяснения, сказав только, что он не смог прийти, но в том, как она это сказала, не было ничего оптимистического. Франклин Форстер говорил, что слышал, как они на прошлой неделе ругались на площадке перед магазином Крогера, — иногда мне кажется, что Франклин регулярно прослушивает Оксфорд с помощью какого-то волшебного устройства. Весь вечер Элейн выглядела утомленной и печальной, не говоря о том, что на шее у нее красовался багровый кровоподтек. Можно было что-нибудь сказать по этому поводу, но у Макса на шее тоже было нечто вроде царапины, так что удивляться было нечему. Все нормально — просто Макс всегда ходил с царапинами, а у Элейн тонкая кость и тонкая, почти прозрачная кожа, чувствительная к любой травме. Как бы то ни было, она быстренько проглотила два джина с тоником, почти не притронувшись к еде. Все пары ее раздражали, особенно та, ради которой, собственно, мы и устроили эту вечеринку.
Биби, напротив, была в отличной форме, если не сказать в ударе. За время ужина она дважды попробовала каждое блюдо, включая суфле «сладкая картошка». В рецепт входят две пачки масла, чашка коричневого тростникового сахара, пакет пекана и чашка «Амаретто». Я знаю: наблюдал, как Сьюзен его пекла. Весь день, пока я работал в кабинете, надо мной вился аромат, доносившийся из духовки. Компьютер всосал этот аромат лопастями вентилятора и, видимо, тоже испытывал муки искушения. В половине седьмого, не в силах дольше терпеть эту пытку, я совершил дерзкий налет на кухню, ухватив ломтик ветчины, фасоль с лаймом и несколько обжигающих, с пылу с жару, картофелин.
Говорят, что единственная не основанная на предвзятой мифологии часть культуры Юга — это его кухня. Несмотря на свое предубеждение в отношении Макса и Биби, Сьюзен все же решила хорошо всех накормить. Грег съел все, что было на тарелке, похваливал, но сокрушался по поводу калорий. Макс съел две порции суфле, заявив, что это блюдо возродило в нем веру в корнеплоды. Макс ел старым мотыжным способом, отрезая куски и накалывая их на вилку; Биби управлялась быстрее, откусывая от картошки мелкие куски своими острыми зубками. Последовал традиционный, шутливо-издевательский вопрос: «Куда все это вмещается?» Что касается Биби, то ответ был очевиден. На ней было пурпурное платье с бретельками, обнажавшее круглейшие и белейшие плечи, какие мне приходилось видеть, а столешница делила живот на две вместительные полки.
— Это суфле для меня — сущее мучение, — пожаловалась Сьюзен. — Я никогда не могу решить, как его подавать — с ветчиной или на десерт.
— Мы попробуем его и так и эдак. — Макс в третий раз подцепил с блюда ломтик ветчины. — Биби, хочешь еще? Или тебе уже хватит?
Биби кивнула в ответ на первый вопрос и отрицательно мотнула головой в ответ на второй. Она потянулась к блюду, цитируя:
— «Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится». — Она победоносно оглядела стол. — Матфей, 13: 12.
— Угу, — буркнул Макс. От неожиданности он перестал жевать. — «И будете есть жир до сытости». Иезекииль, 39: 19.
Биби была уязвлена, но ветчину взяла. Макс положил ей руку на плечо. Этим жестом он хотел, видимо, сказать, что все в порядке, но в данной ситуации это была ошибка. То, что приемлемо в будуаре, бывает недопустимо за обеденным столом. Защищаясь, Макс напустил на себя вид непогрешимой респектабельности. Элейн прикусила губу. Все промолчали, продолжая делать вид, что увлечены едой.
Молчание нарушила Сьюзен:
— Вы интересуетесь Писанием? — Она не обращалась к Максу, который, как она знала, интересуется всем на свете.
Биби так энергично пожала плечами, что рука Макса отлетела в сторону.
— В детстве я постоянно его читала. Мой дядя был проповедником баптистской миссии.
— Правда? — Брови Грега взлетели на немыслимую высоту. — Он учил вас?
— Да. До тех пор, пока его не посадили в тюрьму за уклонение от налогов. — Биби мило хихикнула. — Теперь в нашей семье его считают паршивой овцой.
Сьюзен тоже воспитывалась на Писании и может временами разыгрывать набожность. Однажды отец даже отправил ее на лето в библейский молодежный лагерь, но она взбунтовалась и вернулась домой через неделю. Что касается меня, то я изучал Библию как литературу и, подобно Максу и дьяволу, цитирую Писание только ради своих корыстных целей. Я не считаю ее откровением всемогущего автора, хотя мне и нравится эта поэзия. Мне думается, что Библия открывает массу вещей — главным образом, о моральной слабости рода человеческого и тех, кто написал Книгу.
Когда тема Писания иссякла, разговор перешел на развод Джона Финли. Здесь были неуместны никакие недомолвки. В прошлый понедельник Джон окончательно решил дело тем, что переехал к даме-правоведу. Ее имя было Дороти, хотя большинство из нас называли ее не иначе как «та женщина». Это было не совсем честно, ведь участников было двое — но, в конце концов, вероятно, у Дороти были знакомые, называвшие Джона «тот мужчина». Но теперь все было окончательно решено, за исключением официального развода и вопроса о содержании детей.
— Надеюсь, Кэрол возьмет все, что у него есть, — с яростной озабоченностью произнесла Элейн.
— А что у него есть? — полушутя поинтересовалась Биби.
Грег добросовестно нахмурился.
— Не так уж много, насколько я знаю. Все это такая неприятность, такая неприятность.
Элейн повернулась к нему, словно полевая гаубица.
— Он сам все это сделал. Он свинья.
Это тоже было не вполне честно. У Джона была, наверное, масса недостатков, но он не был свиньей.
— Он не был таким до того, как познакомился… с той женщиной, — сказал я.
— Ради бога, перестаньте обвинять женщину. Это было его решение, верно? — Элейн положила руки на стол с таким видом, словно собиралась смести нас всех в угол. — Вы говорите так, словно он мученик. Скорее он похож на Мартина Бормана. Или на Иуду.
— Может быть, он и был Иудой — я имею в виду в прошлой жизни. — Биби подалась вперед с такой силой, что мне показалось, что столешница вот-вот разрежет ее пополам.
— Что это ты имеешь в виду? — резко спросил Макс.
— Реинкарнацию, ты же понимаешь. Я чувствую ее в отношении многих людей.
— Неужели ты в нее веришь? — Макс тряхнул головой. — Я уверен, что у Джона хватает проблем и без того, чтобы делать из него мифическую фигуру.
— Это не миф!
Макс собрался ответить, но в этот момент в разговор вмешался Грег Примиритель:
— Ну, в конце концов, кто может знать это наверняка; я хочу сказать, что сам я не верю в реинкарнацию…
— Грег…
— …но каждый волен выбирать себе веру. Мир был бы скучнейшим местом, если бы все думали одинаково, — пусть же расцветают сто цветов. Я всегда это говорю…
— Грег…
— …в особенности если учесть, что мы часто не можем договориться в определении основ — возьмите, например, факультетское совещание на прошлой неделе, когда надо было голосовать по учебному плану. Я точно знаю, что все, кто за этим стоял, что все мы…
— Грег!
Все было бесполезно. Поэт бы сказал, что Грег потерял цезуру. Подгоняемый угрозой раздоров за столом, он очертя голову ринулся примирять, примирять во что бы то ни стало, пренебрегая собственной безопасностью. Я видел, как побелели от напряжения кулаки Макса. Элейн была раздражена: ее тему смело водоворотом словесного поноса Грега. Мы так и не решили, кем и чем был Джон, а Грег закончил свой экскурс минуту спустя в десяти милях от исходного пункта.
Ужин закончился кофе с цикорием и печеньем пралине. Элейн раскрошила в тарелке одно печенье, так его и не отведав. Когда Биби высказала опасение по поводу питья крепкого кофе перед сном, Грег пустился в подробное объяснение свойств цикория. Макс перебил его только один раз, заявив, что зелень вообще-то хороша только в салате, за что был удостоен обожающей улыбки Биби. Все было прощено. Она оказалась гибкой во многих отношениях.
То, что случилось две недели спустя, было каким-то несчастьем, в котором было к тому же нечто мистическое. Может быть, даже сверхъестественное и божественное. Кто-нибудь мог бы сказать, что это был промысел Бога, так как не обошлось без одного из его служителей. Его звали брат Джим.
В наши дни слово феномен призывают на службу для обозначения всего на свете — от поразительных совпадений до полузащитников. Это срам, потому что слово это должно беречь для обозначения вещей поистине уникальных и необъяснимых, как, например, космические лучи или Большой каньон. Или странствующих проповедников, которые околдовывают верующих и неверующих, а также всех, кто находится посередине. Когда я впервые столкнулся с братом Джимом, то единственное, что я сначала увидел, — была огромная толпа студентов и преподавателей на площади перед Студенческим союзом. Фокусник, решил я, или мим. Мимов вытеснили на Юг, и с тех пор их никогда не видели на Севере. Я шел на вторую пару и просто обошел толпу. Я не поклонник мимов.
Внезапно откуда-то из самой середины этого скопища раздался голос, напоминавший членораздельный гром.
— Ведомо ли вам, — прогремел голос и сделал короткую паузу, — что женщины студенческих союзов — суть орудия дьявола?
Редкая периферия толпы разразилась криками и рукоплесканиями. Две девушки, стоявшие неподалеку от меня, залились краской до самых щиколоток.
— Скажите, на что это похоже, брат Джим! — выкрикнул высокий мужской голос откуда-то справа.
— Вы сами орудие! — крикнул еще кто-то голосом гермафродита.
— И оно превращает… всех членов братств… в торговцев плотью.
Крики стали громче, послышались меткие ругательства. Я остановился у какой-то припаркованной машины и стал слушать дальше. Забравшись на бампер, я смог разглядеть звезду, собравшую народ и набиравшую в грудь воздух для следующей тирады. Человек был невысок ростом, но коренаст и мощен, как дуб. На голове копна светлых волос, под копной — жесткое чистое лицо. На человеке была застегнутая на все пуговицы белая рубашка и черные брюки, похожие на печные трубы. Брюки держались на старомодных подтяжках, которые он иногда теребил, как струны банджо. По большей части он держал руки за спиной, наклонившись так, что создавалось впечатление, будто он вещает с горы. В одной руке он держал большую черную Библию, которой громко хлопал о ладонь другой руки, когда хотел что-то выделить.
— Есть четыре вещи, от которых я хочу предостеречь вас… — провозгласил он и сделал великолепную паузу. — СЕКС И АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ И РОК-Н-РОЛЛ!
На этот раз толпа неистово поддержала его, присоединившись к лозунгу и повторив его, как рефрен. Брат Джим медленно кивнул, а потом пустился в проповедь о зле пития. Текст касался его юности, тех дней, когда свет еще не явился ему.
— Когда я учился в средней школе, то был настоящим… исчадием ада.
— Потревожь ад, брат Джим! — прокричал парень, на футболке которого значилось: «ПОГИБШИЙ В „СИГМА-ПСИ“». Для лучшего обзора он взгромоздился на парапет ограды.
Улыбаясь, брат Джим снисходительно-жалостливо тряхнул светлыми волосами.
— Когда-то я был таким же, как вы… по утрам я вставал поздно, а по дороге в школу успевал проглотить добрую пинту водки! — Он запрокинул голову и рукой показал, как он держал бутылку.
Мне даже показалось, что у него в такт глоткам задвигался кадык.
— ПОЗОР! — закричали девушки из «Мю-Хи» — дружно, словно по команде.
— Давай, Джим! — Это был какой-то снайпер с лестницы Союза.
Брат Джим слушал все — и хорошее и плохое, он веселился и злился, ноне был равнодушен. Говорил он при этом безостановочно.
— А перед тем как войти в класс, я выкуривал косячок…
— МАРИ-ХУАНЬР. — Почти все приняли участие в этом вопле, задавшем тон всей остальной проповеди.
— Верно! Но в один прекрасный день меня поймали и чуть не бросили в самое тесное узилище тюрьмы графства…
— ПОЗОР! — закричали сами знаете кто.
— Но, к счастью, я был знаком с сыном мэра…
— ГЛАВНОЕ НЕ ТО, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ, А КОГО ТЫ ЗНАЕШЬ! — На этот раз команду, видимо, дали девушкам из «Альфа-Хи», которые прокричали эту фразу на редкость дружно.
Брат Джим продолжил ровно с того места, на котором его прервали, и рассказал до конца жалостную историю своего грехопадения. Видимо, раскаяние было уже где-то за углом, но пока не наступило. Это была классическая старомодная проповедь с диалогом мистера Бонса и мистера Тамбо, в перипетии которого вовлекаются все присутствующие. Брат Джим прерывал повествование, чтобы процитировать Писание, замолкал, чтобы дать высказаться аудитории, останавливался, чтобы ответить на вопросы. В большинстве своем реплики были доброжелательными, но один парень был настолько оскорблен высказываниями брата Джима о женщинах Юга, что его едва удержали товарищи по братству.
Тем временем брат Джим покончил с прегрешениями высшей школы и начал наступление на рок-музыку. Только обращенный грешник мог в таких тонкостях владеть языком дьявола — у этого человека была потрясающая память на лирику прошлых лет. Позже мне сказали, что спасение снизошло на него во время концерта Ван Халена. Я спросил женщину, стоявшую впереди меня, часто ли он так проповедует. «Дважды в год», — ответила она благоговейным шепотом. Когда я, наконец, взглянул на часы, то понял, что опаздываю уже на целых десять минут. Я стремглав бросился в аудиторию, но, на мое счастье, половина ее явилась вслед за мной. Студенты тоже задержались в толпе. Все время, пока я объяснял им художественные принципы Мильтона, я едва сдерживал искушение подражать интонациям брата Джима.
С тех пор я взял себе за правило посещать проповеди брата Джима. Мнения относительно того, как называть эти действа, разделились. Одни называли брата Джима знамением небес, а другие считали колючкой в одном месте (думаю, оба мнения были в какой-то мере верными). Третьи говорили, что он эстрадный фигляр. Слышал я и то, что он получает стипендию от какого-то экуменического совета на проповеди в колледжах. Меня абсолютно не интересовала терминология — я ходил послушать феномен.
Конечно, не все радовались, когда фургончик брата Джима — один раз в полгода — появлялся в кампусе. После одной, особенно агрессивной проповеди четверо парней из «Эта-Пси» схватили брата Джима и сунули его в зеленый мусорный контейнер. Но для брата Джима это стало мученическим подвигом. Соединение покорности и силы — вот что притягивало к нему людей. «Как Иисус Христос», — кисло заметила Сьюзен, послушав однажды вместе со мной проповедь брата Джима. Она слушала его тогда в первый и последний раз. Думаю, он пробудил в Сьюзен неприятные евангелические ассоциации.
В пятницу в половине первого брат Джим приехал в кампус на своем фургончике. Он любил начинать проповеди после обеда, потому что, как остроумно заметила по этому поводу Джина Пирсон, сытая толпа испытывает большее чувство вины, нежели голодная свора. Мне было удивительно это слышать, и не потому, что это было не так, а потому, что означало, что Джина тоже слушает его проповеди. Еще одна зарубка на поясе брата Джима. Сегодня ее не было видно, но зато из кафетерия вышел Грег Пинелли с подносом и направился к площади. Я помахал Грегу, подошел к нему и упомянул о теории Джины.
— Не знаю, как насчет вины — наши студенты не слишком страдают от этого чувства, — он пренебрежительно взмахнул пластиковой вилкой, — но на сытый желудок легче стоять на одном месте.
На пластмассовом блюде, поделенном на отсеки, лежали горох, ломтики репы и белый хлеб. Блюда студенческого кафетерия представлены в широчайшем диапазоне от возвышенного до весьма земного, но главное достоинство заключается в том, что здесь подают блюда только южной кухни.
— Хотите, поделюсь? — предложил он.
Я хотел — мне вдруг страшно захотелось есть, — но щедрость Грега всегда побуждает отказаться. Сам не понимаю почему. Вероятно, оттого, что эта невинная щедрость настолько обезоруживает, что немедленно хочется вооружиться. Я поблагодарил Грега и сказал, что как раз сам собирался поесть и сейчас зайду в кафетерий. Почему бы и нет? Тем более что Сьюзен не было дома. Она, наконец, перестала заниматься благотворительностью — к вящему неудовольствию Эммы Споффорд — и нашла место машинистки у местного адвоката.
В здании союза я заметил толпу меньшего размера — люди сгруппировались вокруг черного студента в моторизованном инвалидном кресле. Сначала я не понял, кто это, но потом до меня дошло, что это Вилли Таккер — его вывезли подышать воздухом. Я знал, что дом для него был недавно построен и его открытие сопровождалось церемонией разрезания ленточки, о чем подробно сообщила «Дейли Миссисипиэн». Увидев сейчас Вилли, я испытал ошеломляющее тоскливое чувство. На открытках фонда Таккера он был запечатлен здоровенным парнем в футбольной форме, но шесть месяцев мышечной атрофии превратили его в страшную помесь дряхлого старика и беспомощного младенца. Руки и ноги выглядели как тонкие щепки, которые ничего не стоит переломить через колено. Жесткая стойка поддерживала его костлявую спину и немощную шею, голова держалась прямо только благодаря специальной подставке, укрепленной под подбородком. Кожа была пепельно-серой. Что он делает теперь, когда не может больше бегать с мячом? Что он делает, когда ему хочется почувствовать себя полновластным хозяином своей судьбы? Что он делает в бесконечные часы бодрствования? Но вот он улыбающийся, или, во всяком случае, показывающий зубы.
Я встал в очередь к стойке. Когда я вышел на улицу с тем же набором еды, что и Грег, то увидел Макса и Биби, устроившихся на проволочных стульях на краю площади. Они выглядели как Джек Спратт и его жена, вышедшие погреться на солнышке. Я приветственно взмахнул рукой и направился к ним, потеряв из виду Грега.
Биби толкнула Макса ногой:
— А вот это очень хорошо пахнет.
Видимо, до этого они говорили о чем-то зловонном.
Жестом девицы, предлагающей прохожему попробовать новые сигареты, я протянул Биби поднос:
— Хотите что-нибудь попробовать?
— Конечно хочу! — Биби вспорхнула со стула, как Венера-переросток. — Можно?
— Конечно, — не слишком охотно откликнулся я, в конце концов, это был мой обед. Правда, я всегда мог вернуться в кафетерий и взять еще, и, кроме того, было что-то невероятно привлекательное в том, чтобы кормить Биби, — чувство, что совершаешь весьма приятное преступление.
Она откусила добрые куски от всех трех порций и погладила себя по исполинскому животу.
— О, как вкусно-то. — Она сознательно не смотрела в сторону Макса.
— Ну ладно, ладно, — примирительно произнес Макс спустя мгновение. Он встал и похлопал себя по заднему карману в поисках кошелька. — Обед на двоих?
— Ну конечно же, Макси, спасибо. Это будет просто здорово. — Она похлопала ресницами. Этот мимический жест одни мужчины находят соблазнительным, другие — отталкивающим. В обоих случаях прием срабатывает.
Макс церемонно поклонился и зашагал в кафетерий.
Тем временем брат Джим выгрузился из фургончика и стал устраиваться.
Впрочем, больших приготовлений ему не требовалось. У него не было ни микрофона, ни кафедры. Выглядел он так же, как в прошлом году и в позапрошлом, — сутулый, но со свежим лицом, готовый вынести все на службе Господа.
Выйдя на середину площади, он принял подобающую позу и громко провозгласил:
— Граждане!
На ступенях уже расположилась группа студентов, но теперь подоспели и другие — некоторые бегом. Брат Джим здесь! Время слушать глас!
Биби слегка встревожилась и принялась озираться.
— Что это? Митинг?
— Да, что-то вроде.
Я коротко объяснил ей, кто такой брат Джим, и рассказал о его притягательной силе.
Она решительно встала со стула.
— Пойдемте туда, я хочу послушать.
— А как же Макс?
Она небрежно отмахнулась:
— Ничего, он нас найдет.
Первые несколько рядов слушателей уже оформились, и нам пришлось обойти их, чтобы найти свободные места. Я заметил Трейвиса, нашего работающего студента, который толком и не работал, и не учился. Был здесь и Рой Бейтсон; это было просто невероятно — Рой на проповеди о воздержании! Углом глаза увидел я и Элейн с Натаниэлем, мрачно державшихся за руки. На этот раз синяк цвел на правом предплечье Элейн — как будто кто-то по неосторожности слишком сильно сдавил ей руку. Натаниэль был, похоже, с похмелья — во всяком случае, выглядел он слегка помятым. Биби и я поздоровались, но у этой пары, кажется, не было никакого желания поддерживать разговор.
Мы как раз нашли свободное место, когда брат Джим наддал обороты.
— А теперь внимайте мне! Студенты, беда ваша заключается в том, что вы ступили на стезю греха! — Глаза брата Джима распахнулись так широко, словно в них упало синее южное небо.
— Кого вы называете грешниками? — Высокий баскетболист, у которого были явные нелады с гипофизом, небрежно развалившись, сидел на ступенях, поигрывая мячом.
— Все мы грешники, брат мой, — покаянным тихим голосом произнес брат Джим. Голос, накаляясь скорбным плачем, стремительно окреп. — Но многим из нас еще предстоит раскаяться.
— Эй, почему бы тебе не упаковать свои манатки и не убраться подобру-поздорову?
Джим раскинул руки и склонил голову, пародируя распятие. Он даже вывалил язык, став окончательно похожим на покойника. Это вызвало смех аудитории. Брат Джим снова заговорил:
— Напасть, о которой я буду говорить сегодня, обозначается словом, начинающимся на букву «с».
— ССССС…
— Правильно, о сексе! О влечении, превращающем мужчин в животных, о вожделении, превращающем женщин в жалких шлюх!
Раздались восторженные крики и свист, хотя слышались и неодобрительные возгласы. Один студент начал, извиваясь, кататься по земле, очевидно изображая змею. Он ползал по траве до тех пор, пока на него кто-то не наступил.
На этом месте проповеди появился Макс с двумя порциями жареной курятины. Ее начали подавать, когда мы с Грегом уже ушли. Порции были здоровенными, как и куски орехового торта.
— Что здесь происходит? Волшебное представление?
— Да, что-то в этом духе. — Я вкратце пересказал Максу то, что уже говорил Биби, но в более язвительных тонах. Макс, как я знал, не был отягощен верой.
Макс кивнул и принялся за курятину, ухватив грудку. Биби была поглощена проповедью, погрузившись в нее всем своим большим телом, и к еде не притронулась. Когда Макс дружески приобнял ее, она стряхнула его руку.
Брат Джим в это время расхаживал по площади.
— Совершили его Адам и Ева! Они были свободны от боли, свободны от смерти! И что погубило их?
— СССЕКС!!!
— Да, первородный грех! Именно из-за него мы рождаемся в мир полный боли и страданий — все потому, что кто-то однажды не смог воздержаться! — Брат Джим скрестил руки, словно рефери на ринге, фиксирующий нарушение правил.
— На самом деле первородный грех — это совсем другое, — недовольно буркнул Макс. Биби его не слушала, поэтому он заговорил громче: — Первородный грех явился после обретения знания — почитайте вашу чертову Библию.
Кто знает, быть может, он обращался ко мне? Краем глаза я видел Вилли Таккера, из задних рядов внимающего посланию свыше. Надеялся ли он на волшебное исцеление? Но думаю, что даже брат Джим не взялся бы за такое исцеление. Где-то вдалеке, за толпой я заметил человека, который плавно, как на коньках, перемещался за спинами слушателей. Это был Фред Пиггот на велосипеде. Солнце отражалось от защитных очков в стальной оправе.
Теперь брат Джим разошелся вовсю. Он рокотал и ревел, точно выбирая время для рефренов толпы. Люди откидывались назад и наклонялись вперед вместе с Джимом и выкрикивали «аминь!». Тело Биби, опершейся на низкий каменный парапет, качалось, как большая лодка. Подкравшись сзади, Макс буднично вытер руки бумажной салфеткой и обхватил Биби за пояс. Она не обратила на него никакого внимания. Святой дух пребывал с нею.
— Это же чистой воды насилие! — Брат Джим снова принял позу рефери, и многие студенты последовали его примеру. — Тело — это храм!
— Мусорная свалка.
Макс положил на землю остатки обеда. Одна рука у него уже была занята, а второй он принялся круговыми движениями гладить Биби по животу. Она попыталась стряхнуть его руки, потом смирилась и прижала их ладонями. Теперь Макс и Биби раскачивались вместе. Было видно, что она не в настроении продолжать игру, но это только подстегивало Макса. К остаткам обеда из кустов шмыгнула белая крыса. Она была, судя по всему, умная и даже ручная, а двигалась так, словно до сих пор находилась в лабораторной клетке. Явно одна из бывших питомиц Стенли. Какой-то парень пнул крысу ногой, и она убежала.
— Очищением духа обретете здравие! Чистый дух в здоровом теле! А Христос… Вы знаете, кем он был?
— ХРИСТОС БЫЛ ДЕВСТВЕННИК! — закричали девушки из женского союза.
Биби судорожно всхлипнула.
Макс нежно ткнул Биби коленом в округлость ее зада, отчего она едва не потеряла равновесие. Она резко обернулась, но этим движением только крепче прижала его к себе. Руки Макса скользнули по ее животу, упершись в плодоносную дельту. Судьба моя неумолима: я снова видел то, чего не замечали другие, поглощенные проповедью брата Джима. Он же в этот момент раскрыл Библию, чтобы что-то процитировать, но, как мне думается, для того, чтобы выдержать очередную паузу, — цитату он наверняка помнил наизусть.
Руки Макса то взлетали вверх, то опускались вниз, и он и Биби качались в унисон, словно в каком-то забытьи. Биби сладко застонала, одновременно пытаясь вырваться. Брат Джим снова прошелся по кругу и, завершив его, возвращался на место. Толпа, как завороженная, неотступно смотрела на него. Биби пришла в смятение. Она выглядела сейчас как толстый беспомощный ребенок, накрепко пристегнутый к сиденью карусели.
— Макси! — Биби попыталась вывернуться, но он словно прилип к ней. Биби была охвачена нешуточным страхом, хуже того, она была в неподдельном ужасе. — Макс! Уйдем отсюда, прошу тебя.
Следовало бы мне ударить его по плечу? Оттащить его в сторону? Сказать ему, чтобы он отпустил Биби или, по крайней мере, перестал щупать ее? Я не сделал ничего.
Брат Джим дошел до края своего круга, оказавшись в пяти футах от слившихся в экстазе Макса и Биби. Он резко наклонился вперед, черные помочи натянулись, как струны. Биби, охваченная подлинно религиозным страхом, умоляюще смотрела на проповедника. Огромная грудь, только что порывисто вздымавшаяся в такт судорожному дыханию, вдруг замерла в неподвижности.
Брат Джим смотрел на них не больше секунды. Но это была бесконечно долгая секунда.
— «Разве не знаете, что вы храм Божий и дух Божий живет в вас?» Коринфянам, 3: 16.
Он повернулся и снова направился к центру. На полдороге он оглянулся. «СГНИЕТЕ В АДУ!» Глаза его, помоги мне Бог, сверкнули красным пламенем.
Биби упала на спину, словно ее толкнула рука Провидения, упала прямо на своего соблазнителя, «…и споткнутся друг на друга, как от меча». Левит, 26: 37.
23
При падении Макс получил травму — перелом левого запястья. Перелом наступил и в их отношениях с Биби. Она порвала с ним сразу после того, как отвезла его в госпиталь. Причина была понятна: она считала, что ее публично изнасиловали. Вероятно, в толпе было всего несколько человек, понявших, отчего она упала, но если уж на то пошло, то многие ли из птиц и зверей райских знали, чем собираются заняться Адам и Ева? Биби считала, что ее предали — как духовно, так и физически. В ней было так сильно сознание греха, что требовалось очищение. Пусть даже ее дядя-проповедник на деле оказался мошенником, пусть даже она сама давно покинула лоно баптистской церкви, Биби все равно, так или иначе, верила. Символ веры Макса, если таковой вообще существовал, был чужд всему этому, хотя, как мне кажется, этот символ все же питался иллюзией всемогущества. Макс верил в самого себя.
Биби непостижимым образом удалось поколебать эту веру. Макс не привык к тому, чтобы его вели. Он не привык, чтобы им пренебрегали. Добавив насилие к оскорблению, Биби, в довершение всех бед, еще и сломала ему руку. Косвенно и сама этого не желая. Когда Биби рухнула на него спиной, Макс вытянул руку, чтобы смягчить падение. Он, как это называется у врачей, сломал в типичном месте лучевую кость; как он сам сказал мне, это называется переломом Коллеса. Такой перелом бывает, когда человек, падая на асфальт, вытягивает перед собой руку, чтобы не удариться лицом. Если бы Макс падал один, то рука бы выдержала, но на нее выпала дополнительная нагрузка в двести с лишним фунтов. Когда я увидел Макса на следующий день, левая рука его была в гипсовой лонгете.
— Перелом без смещения, — объявил он, — но для полного выздоровления потребуется от четырех до шести недель.
Мне было интереснее знать, сколько времени потребуется для исцеления его эго, но вместо этого я спросил о Биби. Она оставила работу в казначействе и вообще уехала из Оксфорда. Любопытно, но все женщины Макса исчезали, когда заканчивались их с ним отношения. Разрыв как будто убивал их. Даже Элен объявила, что увольняется в конце семестра. Оставалась только Мэриэн, но было похоже, что такое упрямство лишь убивает ее.
— Биби была моей ошибкой, признаю. Религия!..
В подтверждение он стукнул кулаком по ладони другой руки и поморщился от боли. Лонгета едва ли была рассчитана на такие нагрузки. В то утро Макс уже ездил на велосипеде, вопреки рекомендациям врача, положив на руль руку в гипсе.
— Мне не нужна такая одержимая. Это противоречит моей собственной одержимости.
Он замолчал, словно обдумывая смысл произнесенного.
— Знаете, вам следовало бы немного успокоиться.
— Успокоиться, черт побери. Я не собираюсь успокаиваться из-за такой мелочи.
Он резко взмахнул сломанной рукой и снова скривился от боли. Он не мог смириться с самим фактом, что у него что-то сломано. Естественно, он должен был превозмочь и превзойти себя и свою боль. Он начал наматывать на тренировках больше миль, чем Пиггот; лицо его заострилось. Он купил себе подержанную «мазду» — вот так! — и стал регулярно ездить в Мемфис. Впервые увидев Макса за рулем, я едва его узнал. Макс за рулем выглядел непоследовательно и нелогично — он просто не вписывался в эту тонну металлических деталей. Покупка машины не означала, что он отказался от своих тренировок, иначе это был бы не Макс, но теперь мы привыкли, что рядом с нашей «хондой-сайвик» стоит ярко-красная «Мазда-323».
Не знаю, что он делал в Мемфисе, — могу об этом только догадываться. В отверстие я несколько раз видел пустую спальню, зато «мазда» стала постепенно приобретать вполне обжитой вид. В то время я начал проводить занятия по «Люсидасу», и в моей голове неотвязно звучала строка: «С утра ему опять в луга и в лес». Он сказал мне, не изменившись при этом в лице, что купил «мазду», потому что у нее большое заднее сиденье. Что я должен был на это ответить? Думаю, что я просто кивнул. На этой фазе Макс потерял всякие приличия. Правда, студентки-выпускницы оставались для него табу. Обжегшись на молоке, дуют на воду. Нью-йоркский опыт, каким бы он ни был, послужил Максу уроком. Но Биби стала последней женщиной, которую Сьюзен не побрезговала бы пригласить к нам на ужин. После этого я не припомню таких приглашений. Но думаю, что Макс и не желал никаких милостей. Он хотел одного — продолжить свое падение. Было такое впечатление, что силу всех своих мышц, ранее употребленную на то, чтобы сдерживаться, он теперь использовал для освобождения всех своих инстинктов. Макс остался тем же, но импульс стал противоположным.
Я не могу практически ничего сказать вам о Гарриет, или Мэгги, или о других женщинах Макса того периода — они приходили и уходили, словно квартира Макса превратилась в автобусную остановку. По ночам я слышал, как кто-то громко пукал, а скрип дивана день ото дня становился все громче. И, как назло, мое смотровое отверстие как раз в это время оказалось заблокировано! Затычка входила и выходила свободно, но видел я одну лишь черноту. Проклятье, видимо, от всей этой возни картина немного сдвинулась и загородила дыру. Я оказался во тьме — в прямом и переносном смысле. Сила моего воображения иссякла. Стоны, шлепки и треск какого-то адгезивного материала наподобие медицинского пластыря раздавались с умопомрачительной регулярностью. Однажды я в шутку сказал Сьюзен, что Максу следовало бы установить на входе в квартиру вращающуюся дверь (правда, некоторые женщины через нее просто не пролезли бы). На худой конец, он мог бы использовать соседнюю пустующую квартиру как зал ожидания. Другой сосед Макса — замкнутый компьютерщик, и без того редко бывавший дома, окончательно выехал больше месяца назад.
Я уже подумывал о том, чтобы вломиться в квартиру Макса и поправить картину. Я даже хотел просверлить через нее еще одно отверстие. Иногда, просто ради любопытства, я вынимал затычку и смотрел. Один раз оно оказалось свободным. Я вновь прозрел! Я увидел мощную мускулистую женщину, совершенно голую, которая наступила ногой на кровать, словно на животное, которое она собиралась укротить.
— Еще, — сказала она.
— Я дам тебе еще двадцать, — сказал невидимый Макс.
— Пятьдесят. — Она положила руку ладонью вверх на свое толстое бедро.
Рука Макса протянула ей сорок, но женщина буркнула: «Ладно». В поле моего зрения появился Макс с мотком эластичного шнура. Женщина тяжело легла на спину, раскинув руки и ноги. В глаза мне бросилась неправдоподобно огромная промежность со звериным влагалищем. Выражение восторга на лице Макса то и дело сменялось маской ужаса. Вид шнура поверг меня в смятение, я чувствовал себя приблизительно так, будто на моих глазах безобидная кухонная утварь превращается в демонические орудия пыток. На мгновение я отвернулся. Когда я, собравшись с духом, снова припал к отверстию, Макс уже привязывал свои и ее лодыжки к изножью кровати. Потом он связал запястья. Когда женщина прогнулась, он взлетел вверх, словно поднятый на живой дыбе.
Я вцепился ногтями в стену и едва не сломал проволочную затычку. Женщина принялась сгибать и крутить Макса движениями тела и, наконец, напрягая мощный таз, буквально вогнала его член в свое звероподобное лоно. Еще интереснее все было оттого, что шнуры натянулись до предела, готовые лопнуть. На следующий день в отверстии опять было темно. На третий день вид снова открылся. На этот раз я видел, как Макс вылизывает гигантскую бритую подмышку, а розовая, как молочный поросенок, жертва, соблазнительно и призывно попискивая, мяла и жевала его своими круглыми коленями, как тупыми ножницами. Потом я снова остался в темноте почти на неделю. Эти циклические перемены изматывали и выводили меня из себя. Женщины, однако, шли непрерывным потоком. Полагаю, что он им платил. По меньшей мере некоторым из них. Сьюзен угрожала, что пожалуется в полицию, но я не позволил.
— Черт возьми, оставь его в покое. — Я сам был немало удивлен своей горячностью.
Сьюзен бросила на меня странный взгляд.
— Ты и правда так печешься о нем?
— Что ты хочешь сказать? Я пекусь о его праве на частную жизнь, и все.
— Иногда мне кажется, что этот ублюдок интересует тебя больше, чем я.
Мне следовало бы горячо возразить, но в тот момент я не нашелся что сказать. И в этой тишине Сьюзен отвернулась от меня. После этого она больше не заговаривала на эту тему, и я решил, что инцидент исчерпан. Я знаю за собой грех многословия, и мне поэтому никогда не приходило в голову, что молчание — тоже ответ.
В остальное время я очень активно занимался делами Макса. Как-то раз я долго утешал одну из его объемистых «подруг», которая без всякой видимой причины яростно ругалась у входа в его квартиру. Внутрь она возвращаться не хотела и желала только одного — добраться до ближайшей автобусной остановки. В другой раз, когда Сьюзен была на работе, я пригласил одну из женщин Макса на кухню и угостил ее чашкой кофе. Я забыл, как ее звали — Мэгги, Хэтти или Гарриет. Сидя за столом, она угрюмо молчала, внимательно разглядывая свои огромные ступни в плетеных сандалиях. Ногти на ногах были окрашены в цвет спелой травы. Я преградил ей путь на крыльце, сказав, что Макса нет дома. Я знал, что он дома с другой, и решил избавить его от неловкого положения. Это была моя ошибка — он действительно в тот момент был связан с другой женщиной, а вечером ожидал еще одну, а Мэгги или Хэтти должна была заполнить промежуток… или стать третьей, кто знает? И что он имел в виду под словами «был связан»? Дырка в тот день была блокирована. Я мастурбировал по памяти, воображая аппетитные сцены и ритмично ударяясь всем телом об пол.
Не думаю, что эти женщины подвергались какой-то реальной опасности. Иногда на Максе были видны багровые отметины. Объяснения были смутны и неправдоподобны. «Ранние и упорные упражнения пальцев настоятельно вам необходимы», — говорил он, цитируя наблюдавшего его ортопеда; но почему при этом он прищемил пальцы здоровой руки? С тех пор я старался не встревать в его проблемы, и по большей части мне это удавалось. Но я же жил в соседней квартире. Нельзя же прожить всю жизнь с закрытыми ставнями, не видя белого света. Кроме того, Сьюзен теперь работала у адвоката почти каждый день. Но даже с блокированной дырой в стене я все же иногда наслаждался умопомрачительными перлами.
Сначала, кажется, это была Александра, милая толстая черная коротышка, которую Макс каким-то образом тоже сумел затащить в свое логово. Женщине было под тридцать, но она еще не утратила часть своего младенческого жира, а одежда на ней выглядела так, словно она еще в прошлом году выросла из нее. Макс и эта женщина мелькнули в щелях венецианских жалюзи моего кабинета раз тридцать. Наконец, я не выдержал и открыл окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. После этого Макс представил меня своей новой подруге. Впрочем, представление было весьма кратким и поверхностным, похоже, Макс торопился затащить, использовать и выпроводить негритянку до обеда. Поначалу я восстал против такого беззастенчивого совращения младенца: Александра действительно выглядела как тринадцатилетняя девочка-переросток с большим коричневым животом, полоса которого виднелась между не сходящимися на поясе брюками и футболкой, и с мощными короткими ляжками. У нее и голосок-то был детский, и я принимал это за жеманство до тех пор, пока не услышал фразу, произнесенную таким же елейным тоном: «Ну-ка, трахни это дерьмо». Может быть, она дала ему покататься на своем животе, а он расплатился с ней розовой пузырящейся жвачкой. Кажется, она больше не появлялась.
Потом была Сильвия. Она выглядела как та пресловутая жена из Вичиты в штате Канзас, но увеличенная в полтора раза. Она носила до немыслимого предела растянутые свитера и практичные туфли. У нее были толстые мраморные икры, но совершенно отсутствовали щиколотки. Она показалась мне, как говаривал мой отец, основательной и способной женщиной, женщиной, которая может заштопать носок, забинтовать порезанный палец, приготовить обед и толково натереть мазью больную спину. Ее рукопожатие было теплым, и на мгновение я ощутил, как меня обволакивает теплая, крупнозернистая плоть. Интересно, что бы я чувствовал, если бы она обволокла меня до самых пяток. Макс подмигнул мне, и я с ужасом ощутил себя его соучастником. Мне посчастливилось увидеть Сильвию через отверстие. Она была в кружевном переднике размером с небольшую салфетку; завязки глубоко врезались в плоть. Макс насильно кормил ее чем-то мягким и ноздреватым, вероятно хлебной мякотью. Количество мякоти было огромным. Думаю, Макс выпотрошил несколько батонов. Было видно, как прямо во время кормления раздувался ее живот. Откусив последний кусок, она повалила Макса на кровать и принялась жевать. Во всяком случае, она изрядно его покусала. Думаю, что именно от нее Макс получил заметную ссадину на подбородке. «Я разошелся во мнениях с тем, что меня гложет», — ответил он, когда я спросил, откуда ссадина.
В поведении своем он был непредсказуем. Иногда бывал скрытным, иногда же его тянуло на откровенность. Между тем женщины, за которыми он ухаживал — если здесь уместно это слово, — поистине могли считаться выдающимися в своем естестве. Марджори, например, была очень пропорционально сложена, если не считать далеко выступавшего зада, который, круто поднявшись, как прибрежный шельф, резко обрывался вниз. Зад, как явление уникальное, требовал особого пристального рассмотрения. Мне посчастливилось увидеть Марджори при свете ясного дня; однажды днем она с грохотом вывалилась из квартиры Макса совершенно голая. На ней было столько плоти, что она выглядела в два раза более обнаженной, чем любая другая голая женщина выглядела бы на ее месте. Непомерно огромные ягодицы тряслись над короткими и мощными, под стать нагрузке, бедрами. Избыток плоти спереди прикрывал лобок фартуком дряблых мышц. С упертыми в бедра руками она была похожа на насылающую порчу болотную кикимору.
Ей просто приспичило, и она выскочила. Не думаю, что она понимала, что делала. Спустя мгновение на крыльцо выскочил жилистый голый Макс и схватил Марджори за руку. Велосипедный загар стал еще темнее, предплечья и ноги до середины бедра были цвета какао, пах — мертвенно-бледным, если не считать вспухшего красного члена, обвитого венами и увенчанного багровой головкой. Член показался мне длиннее и тоньше, чем обычно, словно его вытянули щипцами. Ребра торчали, волосы на голове свалялись и стали похожи на лобковые.
Марджори была чем-то сильно напугана, и Максу стоило немалого труда затащить ее в дом. Вероятно, мне надо было кого-нибудь позвать — например, старого, доброго, разумного Дона, — но я не стал этого делать. Макс влепил ей несколько пощечин, а когда это не помогло, то встал впереди нее и оттеснил в квартиру, как толкач баржу. Он слегка прихрамывал, на лодыжке виднелась свежая ссадина. Оба были с ног до головы покрыты потом. Раздвижные двери с оглушительным треском захлопнулись за двумя телами, но уцелели. После этого я видел Марджори только однажды — она была в джинсах с заклепками. Было удивительно, как она смогла их на себя натянуть. Макс называл ее телосложение стеатопигией[16] — можете себе представить, каково приходилось ее джинсам.
На некоторых его женщин было смотреть больно до смешного или наоборот. Одна дама по имени Донна с пышнейшим бюстом имела обыкновение обильно душиться между грудями, и Макс называл эти духи оделанфер. Мне кажется, что именно она разбила статую Приапа, хотя я и не знаю, каким образом. Макс склеил скульптуру — я давал ему эпоксидный клей. У другой женщины были руки как у портового грузчика, она заставила Макса отвезти ее в город, в пивную Фланагана, где подавали вареных раков. В тот вечер там был Бейтсон, и на следующий день он рассказал в факультетском холле целую историю.
— Клянусь, она победила в армрестлинге двух здоровенных футболистов! Этот Макс Финстер все время обнимал ей живот, чтобы чувствовать, как он наполняется. Она кидала раков в свою утробу, как мелкий попкорн! — Бейтсон восторженно покачал головой. — Ну и парень этот Финстер! Знаете, что я вам скажу — он отхватил стоящую бабу ни за что.
Самая потрясающая сцена, однако, произошла однажды днем, когда, случайно выглянув в окно, я увидел поднимавшуюся вверх по холму Холли. Она здорово прибавила в весе, особенно поправилось ее туловище, — Сьюзен и ее мать называют этот жир отложениями. Холли решительно постучала в дверь. Макс в это время был дома один. Он открыл дверь и впустил женщину. Я решил, что настало время раскаяния, время примирения. Я бросился к отверстию, но в спальню они так и не вошли, дверь осталась закрытой. Слышались возбужденные голоса и звуки от падения каких-то предметов; потом голоса стихли. Визит продолжался десять минут. Дверь со страшным скрипом раздвинулась, и Холли вышла на крыльцо, злобно сгорбившись. Сделав несколько шагов, она обернулась.
— Ты, — обратилась она к закрытой двери, — ненасытен!
В ответ дверь еще раз жалобно скрипнула. Через минуту, выезжая со стоянки, Холли поцарапала борт «мазды» Макса.
Приблизительно в эти же дни кто-то взломал дом Грега Пинелли. Большого ущерба жилищу не причинили, но все в квартире перевернули вверх дном и вывернули наизнанку, как носок. Пропали стереосистема и телевизор. Грег, как и подобает законопослушному гражданину, поставил в известность полицию, где приняли заявление и сказали, что будут искать похищенное. Грег был скорее обижен, чем разозлен, и все время горестно покачивал головой, вспоминая об инциденте.
— Не могу понять, кому могло прийти в голову сделать такое, — тихо говорил он всем сотрудникам кафедры, которые были готовы его слушать.
— Потому что многие люди злобны и отвратительны по натуре, — сказала Элейн, забрала почту и ушла. В последние дни у нее появились круги под глазами, а сама она стала очень вспыльчивой и раздражительной. Естественно, все сваливали вину на Натаниэля, но, также естественно, никто с ним об этом не говорил. Правда, его в эти дни никто и не видел.
— Это понятно, но почему это приключилось именно со мной?
— Все дело в деньгах, — сказал Эд Шемли, приоткрыв дверь своего кабинета. Высказавшись, он снова закрыл дверь.
Эта мысль очень обрадовала Грега.
— По крайней мере, это было сделано не по злобе.
Потом обчистили дом Споффордов. Эмму Споффорд особенно бесила глупость грабителя.
— Он не тронул уотерфордский хрусталь, — фыркала она.
Уцелела также коллекция шелковых галстуков Генри Споффорда. Правда, чета лишилась телевизора и видеомагнитофона, но этим потери и ограничились. В полиции сказали, что примут все меры и так далее.
Приближалось окончание следующего семестра. Оно не было повторением декабрьской катастрофы, скорее, это было предчувствие мчащегося к станции поезда, гудки которого становились все отчетливее. Осталось три недели, потом две. Перелом Макса заживал медленно, но доктор не имел ни малейшего представления о чересчур активной жизни своего пациента. Постепенно меня стало обуревать беспокойство: не проникнут ли сведения о бурной личной жизни Макса Финстера в студенческие аудитории? Но как, вообще, все это влияло на стиль его преподавания, да и как он преподавал? Я как раз думал об этом, когда однажды в апреле проходил по коридору Бишоп-Холла и увидел, что дверь одной из аудиторий приоткрыта. Я услышал зычный голос Макса и конечно же немедленно подошел и прислушался. Он говорил об английских суфражистках начала XX века и при этом писал мелом на доске что-то для меня невидимое. Тридцать заключенных в аудитории студентов слушали Макса с различной степенью внимания.
— Наше общество всегда в какой-то мере было пронизано мизогинией, — вещал Макс. Он сделал паузу и задал вопрос: — Вообще, кто скажет, что такое мизогиния?
Отвечать вызвалась какая-то студентка с первого ряда.
— Мизогинист — это женоненавистник.
— Да, буквально это так и есть. Но…
— Вы имеете в виду гомосексуалистов? — выкрикнул с задних рядов парень в надетой задом наперед бейсболке.
Кто-то шумно перевел дух — может быть, даже я. Конечно, такие вопросы надо обсуждать в студенческой аудитории, но обычно никто этим не занимается. И не занимается только потому, что студенты могут по ошибке отождествить преподавателя с предметом, который он объясняет. Я не завидовал положению, в каком очутился Макс.
— Нет, это не одно и то же, — ответил он. — Гомосексуалист любит других мужчин. Но мизогинист, или женоненавистник, может любить женщин.
— Но вы же только что сказали…
— Позвольте мне закончить. — Макс ослабил узел галстука. — Давайте для примера возьмем какого-нибудь среднестатистического парня с женой и детьми. Он приходит домой, пропустив с друзьями пару-тройку рюмок. Он хочет поужинать, может быть, выпить пива и посмотреть по телевизору футбол. Он входит в дом. Дети смотрят по телевизору какую-то чепуху. Жена только что завила волосы и ходит в бигуди и, мало того, начинает придираться к мужу.
Все глаза были устремлены сейчас на Макса. Он словно подсмотрел их семейную жизнь.
— Она говорит, что он должен был явиться домой еще час назад, ужин сгорел, и почему он не позвонил и не сказал, что задержится? Может быть, он тоже огрызнется в ответ, назовет ее тупой толстухой или отволтузит ее немного. Вы понимаете, о чем я говорю. — Макс ударил кулаком в ладонь и скривился от боли. Гипс был уже снят, но перелом еще полностью не сросся. — Потом он проведет ночь без сна, а в следующий раз пойдет спать с другой женщиной. Вы спросите его, женоненавистник он или нет. И он ответит, что конечно же нет. Он любит женщин. Так любит, что иногда эта любовь причиняет боль.
Парень в заднем ряду шлепнул себя по губам и согласно кивнул. Некоторые студенты принялись что-то записывать в своих тетрадях. Макс снова вернулся к своему историческому предмету, и я на цыпочках отошел от двери. Я бы постоял и дольше, но побоялся, что меня заметят, и поскорее зашел в лифт, размышляя, любит ли женщин Макс, и если да, то согласно какому определению. В лифте кто-то повесил новое объявление о пропаже Черил Мэтт. Фотография была, видимо, сделана, когда Черил училась в последнем классе средней школы. «ПРОПАЛА В ФЕВРАЛЕ, — гласил заголовок. — ПРОСЬБА СООБЩИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИЛОЖЕННОМУ ТЕЛЕФОНУ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ — ТЫСЯЧА ДОЛЛАРОВ».
В канцелярии кафедры английского я немного поболтал с миссис Пост. Это был светский разговор, типичный для штата Миссисипи, если не считать того, что я родом с Севера, а миссис Пост однажды призналась, что вообще-то она из Техаса. Такое вот распределение ролей, в котором южане повинны не меньше, чем северяне. Иногда мне кажется, что Соединенных Штатов не существует вовсе. Я знал, что конфедерат Трейвис подслушивает в коридоре, но единственными секретами, какими мы поделились с миссис Пост, были погода на завтра и цены в магазине Крогера.
Когда мы дошли до заключительных любезностей, в канцелярию вошел Франклин. Он извлек из своего почтового ящика студенческий реферат и принялся просматривать его, недовольно шевеля губами под бородой. Так как он держал реферат перед глазами, как газету, то я не удержался и прочитал имя автора: Элизабет Харт. Ну, ну, ну — как часто бормотал Франклин.
— В прошлом семестре Элизабет была у меня в группе, — сказал я. — Как у нее дела?
Франклин явно насторожился. Он торопливо сунул реферат в портфель, решив, видимо, что дочитает его потом.
— О, она очень старается, и, в общем, у нее все в порядке.
— Правда? На моем семинаре она особенно не блистала.
— Гм, да. Она несколько раз заходила ко мне и просила помочь, это было. Но она очень восприимчива и открыта для помощи.
Могу держать пари, что так оно и было. Франклин вышел, бодро насвистывая. У него, скорее всего, тоже все было в полном порядке. Интересно, любит ли Франклин своих студенток? Судя по тому, что о нем говорили, он был тиран и деспот, поэтому обвинять его в любви было бы, пожалуй, сущей нелепицей. Но, заключил я, возвращаясь в кабинет, все дело конечно же в формулировках.
Сцена в аудитории Макса крепко засела в моей памяти. Думаю, что и его студенты запомнят ее надолго. Был ли Макс женоненавистником, верил ли он сам в то, что говорил, и какое все это имело значение? У меня нет готовых ответов на эти вопросы. На своих литературных семинарах я пытаюсь учить студентов на трудных примерах и на запутанных темах. Я стараюсь не ограничиваться простым пересказом сюжета (студенты справляются с этим самостоятельно) и не навязывать трактовку событий (я искренне считаю, что интерпретаций может быть множество). Поэтому я не стану досаждать вам подробными описаниями всех шалостей Макса. Можете экстраполировать их и сразу перейти к Максине, которая появляется в нашей истории в тот момент, когда все мы уже были до предела истощены весенним семестром, каковой должен был вот-вот закончиться.
К тому времени все мы уже привыкли видеть Макса в обществе женщин намного больших, чем он сам. Нам примелькались пухлые щеки и толстые лодыжки, большие бюсты и огромные зады. Макс, помнится, еще мог протиснуться во входную дверь Бишоп-Холла одновременно с Мэриэн, но это ни за что не удалось бы ему с Мэгги (или ее звали Хэтти?). Широкозадая Марджори, когда шла по улице, не вписывалась в тротуар. Это были женщины, воплощавшие собой и своим весом такие понятия, как «толстушка» или «пикник» (Макс собрал целую коллекцию синонимов). Но ни одна из них не смогла бы помериться своими достоинствами с Максиной. Она была женщиной совершенно иного класса.
Очень трудно описать Максину, не прибегая к эпическому слогу. Росту в ней было четыре локтя. Живот был огромен, как оставленное под паром поле, зад ее торчал, словно мыс, который отбрасывал собственную тень. Ноги ее были подобны узловатым древесным стволам, груди величиной с полновесные арбузы поддерживались бюстгальтером, способным нести на себе полотно подвесного моста. Плечи в обхвате превосходили бедра средних женщин, на локтях были ямочки, а утолщения предплечий переходили в маленькие, но чрезвычайно изящные ручки.
Шея ее была толста и монументальна, как колонна, прикрытая несколькими подбородками. Кожа была бела и совершенна, каштановые волосы — шелковисты, с естественным оттенком хны. Улыбка казалась шириной в несколько ярдов.
Она не была уроженкой Юга. Ее завезли в Миссисипи из Висконсина, чтобы она написала дипломную работу по курсу «Изучение Юга», к коей Максина должна была приступить летом. Я не знал, как отреагирует Макс, когда увидит ее прокладывающей путь по холлу, но посчитал, что это будет достойное зрелище. Это женщина из страны молока и меда, словно сама земля, тучная Брунгильда, вышедшая из самых сокровенных глубин фантазий Макса без всякой ретуши.
На самом деле случилось так, что именно я представил их друг другу.
24
Поговорив с Джиной у дверей кабинета, я выслушал рассказ о последней версии обстоятельств смерти Фолкнера. Санаторий Райта, где Фолкнер последний раз лечился от алкоголизма, более не существовал. Сначала его превратили в хоспис для раковых больных, а в конце шестидесятых здание снесли. Из двоих врачей, наблюдавших Фолкнера, Райт уже умер, а Маккларти отказался что-либо говорить о мистере Билле. Но Джина ухитрилась найти какую-то старуху, миссис Гар, ей было теперь под девяносто, которая жила недалеко от санатория. Место было неважное, туда часто забредали жаждавшие выпить больные; в поисках алкоголя они частенько ломились в дома местных обывателей.
— Она рассказала мне, — произнесла Джина с таинственным видом, — что тело Фолкнера нашли в лесу. Мне осталось только спрашивать. Она в ответ сообщала такие подробности, словно все происходило только вчера.
— Может быть, у нее уже не все дома? — неосмотрительно поинтересовался я. — Во всяком случае, что это доказывает?
— Это неопровержимо доказывает, что он добровольно свел счеты с жизнью. Разве вы не видите? Он ушел в лес умирать. — Обычно мечтательный взгляд Джины стал твердым и на редкость сосредоточенным.
— Но может быть, он ушел из санатория для того, чтобы добыть выпивку?
— В лесу?
— Ну, может быть, он хотел пройти его насквозь?
Мы долго блуждали вокруг этого леса, и Джина в конце концов сказала, что попробует более подробно расспросить миссис Гар. Я взглянул на часы, понял, что опаздываю на экзамен, побежал по коридору и тут же налетел на Максину Конклин.
Это было почти то же самое, что столкнуться с Мэриэн — какой она была много месяцев назад, — но то же самое, возведенное в энную степень. Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться на бегу с огромной женщиной? Забудьте о том, как эти столкновения изображают мультипликаторы, — от таких женщин не отскакивают. На самом деле это тягучее и одновременно пружинистое ощущение, не сравнимое ни с какими другими ощущениями. Это нечто среднее между погружением в надувной матрац и столкновением с наполненным водой резиновым баллоном. Но матрацы и баллоны не живые, поэтому ни один, пусть даже самый чуткий надувной матрац не даст такого ощущения, как живая плоть. Я налетел на необъятный живот и громадные груди Максины и погрузился в них на добрый фут, если не больше. Сама она едва ли сдвинулась с места. В какой-то момент наши тела слились в единое целое. Прошло, наверное, несколько секунд, прежде чем я смог отделиться от Максины и обрести дар речи.
— Я… я прошу прощения. Извините меня. Я не видел вас из-за угла, — произнес я, забыв, что поблизости нет ни одного угла.
— Ничего страшного.
Женщина не выглядела оскорбленной. Кажется, происшедшее вообще не произвело на нее никакого впечатления. Естественные столкновения обладают некоторыми преимуществами. Она покровительственно улыбнулась.
— Мне было очень приятно… э-э… познакомиться с вами. — Я едва не сказал «налететь на вас», но вовремя удержался на краю бездны.
— Максина Конклин. — Она с некоторым интересом взглянула на меня.
— О, простите. Дон, Дон Шапиро. Вы здесь недавно?
Она кивнула, третий подбородок растворился в шее.
Я заметил, что на огромной клетчатой блузке не было пуговиц, а фестончатый ее край, словно вымпелами, прикрывал широкий пояс джинсов.
— Я пишу работу по программе «Изучение Юга». Решила начать пораньше, с лета.
— Хорошо, очень хорошо. Я специалист по современному британскому, но мы всегда готовы оказать посильную помощь одаренным студентам. — Я вошел в привычную мне роль преподавателя и мог теперь продолжать в том же духе, но вовремя вспомнил, почему я так стремительно бежал по коридору. Я демонстративно посмотрел на часы. — Еще раз прошу прощения, но я опаздываю на экзамен. Уверен, что мы с вами еще столкнемся… то есть, я хотел сказать, увидимся.
— На меня часто налетают, — рассмеялась она, пожалуй, чересчур звонко для ее размеров. Она посторонилась, чтобы я смог пройти.
Войдя в лифт, я не удержался и, обернувшись, проводил взглядом ее удаляющуюся фигуру. Это был зад школьного автобуса, обтянутый грубым хлопком. Такого мне еще видеть не приходилось. Двери лифта закрылись, и он пошел вниз.
Я нервно прошелся по аудитории, раздав темы студентам. Они принялись писать. Сьюзен всегда удивлялась тому, что я нервничаю на экзаменах больше, чем те, кто их сдает. Я же всегда испытываю тоску от предчувствия расставания с группой, с людьми, многих из которых никогда больше не увижу. Я сел за стол и попытался почитать Эудору Велти, книгу из собрания которой принес с собой, но скрип перьев мешал сосредоточиться. Я встал и прошел по аудитории, взглянуть на каракули моих студентов. Одна девушка из первого ряда уронила монету, покатившуюся по полу к моему столу. Она бросилась за ней следом.
— Это мой счастливый четвертачок, — сказала она, подбирая свои двадцать пять центов.
Какой-то парень в заднем ряду так долго смотрел в потолок, что я тоже поднял глаза, но не увидел ничего, кроме белых, под цвет линолеума, плиток. Тогда я снова принялся рассматривать тела студентов, отмечая про себя их формы и размеры. Все было почти так же, как у студентов группы предыдущего семестра, хотя на этот раз не было женщин, которых я мог бы назвать большими. Это плохо. Я попытался почитать. Мне казалось, что экзамен длится вечно, и я был счастлив, когда он все же закончился.
Я пришел домой с растрепанной стопкой тетрадок, которые небрежно бросил на стол.
— Мне кажется, сегодня я нашел подходящую женщину для Макса, — сказал я за обедом, поглощая пожаренную ломтями баранину с горошком.
Сьюзен округлила глаза.
— Что случилось? Макс остался один? Ты видел его последнюю, ту, с татуировкой?
Я видел. Обсуждаемая татуировка изображала пятнистую бабочку на пятнистом толстом плече. Всем своим поведением дама намекала, что у нее есть татуировки и в более интимных местах, и вообще вела себя невероятно жеманно. Мне не пришлось увидеть, насколько манерно она вела себя в доме, потому что картинка снова закрыла отверстие. Естественно, ничего этого я не мог рассказать Сьюзен. Вообще в эти дни я мало что мог ей рассказать. Наше общение стало напоминать разговор по телефонной линии, на которой то и дело случаются перебои.
— Во всяком случае, она лучше, чем та, у которой на улице случился припадок, — ответил я. — Кажется, ее звали Джейн.
— Я забыла. — Сьюзен, вопреки собственному желанию, хотела услышать что-нибудь из ряда вон выходящее. — Так что с ней случилось?
— Не знаю, она вдруг начала швырять в него какие-то книжки.
Такие вещи происходили чаще, чем я рассказывал Сьюзен. Умение знакомиться с женщинами — это не одно и то же, что умение избавляться от них. Как бы то ни было, но женщины Макса устраивали сцены регулярно.
— Ему надо застраховаться от несчастного случая, — сказала Сьюзен, сделав в последнем слове ударение на «а». Сам я ставлю его на «у». Когда-то эта разница казалась мне очаровательной. — Так на что похожа та, которую ты видел?
— Она большая. — Я развел руки в стороны, как рыбак, хвастающийся своим уловом, но этот жест не давал реального представления о величии этой дамы. — Нет, ее надо видеть. Она не женщина, а какой-то природный феномен — вроде Большого каньона или Маунт-Рашмора[17].
— Маунт-Рашмор — не природный феномен.
— Не придирайся к словам. — Я ущипнул тонкую руку Сьюзен. — Маунт-Рашмор — это гора, имеющая человеческие очертания. В этом смысле я и назвал ее.
— У нее есть имя? Как зовут эту женщину-гору?
— Максина. Я забыл ее фамилию.
Сьюзен возмущенно фыркнула:
— Макс и Максина! Ты меня разыгрываешь. Всему есть границы.
Я пожал плечами. В действительности мне было не важно, как отнеслась к этому Сьюзен. Остаток ужина я посвятил детальной разработке планов их соединения. Костюмированный бал, обед на двоих, подстроенная случайная встреча. Я подсчитывал, сколько Макс должен мне, как первооткрывателю, денег и бесплатных обедов. Мэгги и Хэтти, Джейн и Берта — все они остались в прошлом, вытесненные беспощадным конкурентом.
Мы превосходно провели ту ночь, копируя Макса и Максину. Сьюзен развеселилась настолько, что начала покачивать ягодицами так, словно это были груди. Я не знал, как мне имитировать Макса, и поэтому принялся крутить в постели воображаемые педали. Потом мы поменялись: я стал исполнять роль Максины, а она — Макса, насколько смогла. Она ездила на мне верхом, немилосердно сжимала в объятиях и издевалась надо мной до тех пор, пока я не подмял ее под себя всем своим весом. Она рванулась вверх, и мне стало необычайно приятно, когда мне в живот уперлись ее гладкие твердые коленки. Руки ее успевали всюду — она гладила, тискала и даже била меня. Никакой эякуляции не произошло — по моей инициативе за прошедший день у меня их уже было две, но я вылизал Сьюзен клитор, похоронив голову в ее паху. Как бы то ни было, судя по стонам, ей было хорошо.
Пока Сьюзен наслаждалась истомой, я встал и пошел в ванную ополоснуть лицо. Напольные весы, на которые я встал, показали сто семьдесят фунтов. Я стал еще толще. Перспектива догнать Максину ужаснула меня. Кто знает, может быть, страх обуял меня не из-за нее, а из-за Макса? В ту ночь мне снилось, что я поставил Максину на пути едущего на велосипеде Макса, чтобы она с помощью эластичного шнура устроила ему крушение. Но Макс вовремя разглядел ловушку и наехал прямо на Максину. Сцена эта повторилась во второй половине сна и почему-то так меня напугала, что я проснулся в холодном поту.
Случилось так, что ни один из моих с такой тщательностью разработанных планов сватовства Макса не понадобился. На следующий день я встретил Максину в коридоре у дверей кафедральной канцелярии. Она рассматривала объявление о поэтическом конкурсе. На Максине была необъятных размеров футболка и тренировочные брюки слоновьего серого цвета. Эластичной резинки, охватывавшей ее чресла, хватило бы на пять обычных поясов. Увидев меня, она ткнула пальцем в объявление:
— Вы что-нибудь знаете об этом?
Сначала я даже не понял, что она обращается ко мне. Большинство наших получивших южное воспитание студентов называли меня исключительно «сэр» или «профессор», и я привык к этой форме обращения. Я понял, в каком далеком и невозвратном прошлом остались те дни, когда я, слыша обращение «сэр», невольно оглядывался, думая, что зовут кого-то другого. Но сейчас в коридоре не было никого, кроме нас, и она смотрела прямо на меня. Я пригляделся. Объявление оповещало о маленьком поэтическом конкурсе — одном из тех, что обычно устраивают разные журналы вроде «Гибискуса», «Золотой рыбки» или «Обзора пятого измерения». В данном случае журнал назывался «Желтый кот». Победителю обещали сто долларов. Вторая премия составляла пятьдесят долларов, третья — двадцать пять. Все стихотворения должны быть отправлены не позднее 1 июня (по почтовому штемпелю); рукописи становились собственностью журнала. Правда, журнал не брал денег за публикацию.
— Здесь время от времени действительно появляются подобные объявления, — опасливо сказал я. — Это объявление выглядит достаточно солидно. А что, вы хотите участвовать?
— Не знаю. — Она снова нахмурилась, отчего мне показалось, что ее лицо вывернулось наизнанку. — Мне не очень нравится то, что пишу, и я не слишком охотно демонстрирую другим мои стихи.
Это было похоже на завуалированное приглашение. Мысленно я тяжело вздохнул. Университет изобиловал непризнанными чердачными писателями и поэтами. В большинстве своем это были обидчивые и страдающие люди; некоторые были талантливы. Когда-то я и сам грешил рассказами, но давно подавил в себе это патологическое влечение. Я понял, что критика мне удается лучше — это была наилучшая месть моему прошлому «я» и всем подобным мне.
Краем глаза я увидел, что в противоположном конце коридора появился Макс и направился в комнату отдыха. Я ощутил прилив нечестивого вдохновения.
— Знаете что, я вряд ли смогу быть вам чем-то полезен, но зато я знаю человека, который непременно вам поможет. Правда, он преподает на кафедре истории, но он чертовски сведущ в поэзии.
Кроме того, он может возбудить поэтические чувства, добавил я мысленно.
— Я не совсем…
— Как бы то ни было, вам следует встречаться с сотрудниками факультета. Некоторые из них удивительно человечны. Идемте, я вас представлю.
С этими словами я повел ее в комнату отдыха. Было видно, что она сомневается, но я был профессор, а она — студентка, и это склонило чашу весов в мою сторону. Да и как еще я мог переубедить ее?
— Здесь мы пьем кофе и сплетничаем о наших студентах.
Мне самому было удивительно, как я смог набраться духу привести сюда эту женщину. Еще удивительнее было то, что я и заговорил как Макс.
Сам он в тот момент, когда мы вошли, наливал себе бурду, называемую нами домашним напитком. На днях или раньше, если позволит бюджет, мы собирались купить кофе-машину. Но до этого — то есть в течение вечности — нам предстояло обходиться перколятором, издававшим странные звуки и цедившим в чашку коричневую жидкость, которую мы из самоуважения называли кофе. Макс как раз делал первый глоток, когда в поле его зрения попала Максина.
Внешне с ним не произошло ровным счетом ничего, но он, вероятно, слишком сильно вдохнул, засосав в себя изрядную порцию горячего кофе. Надо отдать ему должное — он не забрызгал пол этим благородным напитком, несмотря на то что тот был чертовски горяч. Мышцы его шеи судорожно сокращались в попытке проглотить жидкость.
Я — непонятно зачем — хлопнул его по плечу.
— Максина, это Макс Финстер. Макс, это Максина. Максина…
— Конклин. — Это было утверждение, а не вопрос, столь характерный для женщин Юга, которые произносят «меня зовут Элла Сью?» с такой интонацией, словно считают невежливым настаивать на этом факте.
— Максина будет писать дипломную работу на нашей кафедре. Я сказал ей, что вы можете поговорить с ней о поэзии. — Я отступил на пару шагов, чтобы лицезреть выражение глаз Макса.
Он ничем не выдал своего удивления. Он кивнул — конечно же каждый просто обязан посетить Финстера, записного поэта нортгейтских апартаментов. Он крепко (она сморщилась) пожал ей руку, и лицо его озарилось поэтической улыбкой.
— Что вы уже успели рассказать ей о нас? — спросил он.
— Факты, одни только факты.
— Знаете, никогда не угадаешь, где похоронены тела.
Определенно нет, если речь идет о телах, по которым ты прошелся за последний месяц, подумал я. Лучше бы ты позвонил сегодня Хэтти и Мэгги и сказал им, чтобы они больше не беспокоились. Мы продолжали болтать ни о чем, а Максина испытывала все большее неудобство, неловко переминаясь с ноги на ногу всем своим немалым весом. Я попытался вернуть разговор в русло поэзии, но Макс заговорил о каких-то факультетских делах, совершенно неизвестных Максине. Я помню, как мне, когда я был выпускником, приходилось иногда присутствовать на таких профессорских дискуссиях. Я тогда чувствовал себя одновременно привилегированным и брошенным на произвол судьбы. Очень легко впасть в заблуждение и предположить, что большие женщины велики во всем, но в действительности это не всегда так. У Максины, видимо, была весьма низкая самооценка. Что она вообще здесь делает? Зачем она здесь стоит? Скорее всего, это был всего лишь расчетливый ход Макса, который вдруг остановился на полуслове и взглянул на Максину так, словно только что ее заметил.
— Простите, но, кажется, все это не имеет никакого отношения к поэзии, не так ли? — Он посмотрел на часы, которые, по невероятному стечению обстоятельств, показывали ровно полдень. — Я хочу пойти пообедать. Как вы, Максина? Не хотите перекусить?
Максина начала, как положено, отказываться, говоря, что она не голодна, но в этот момент мы явственно услышали мощный рокот, доносившийся из ее желудка. Греки называли этот шум борборигмосом, но они были известные мастера давать названия чему угодно. Эта реакция сильно смутила саму Максину. Розовый румянец сначала залил ей щеки и уши, а потом — шею и руки. Мне было любопытно, порозовели ли груди и живот.
Макс выдержал паузу и нарушил тишину мастерской репликой:
— Бедная Максина. Вы совсем оголодали. Идемте со мной.
Она благодарно улыбнулась, потом кивнула. Сказала, что это было бы неплохо. В какой-то момент мне показалось, что он сейчас предложит ей руку, но он лишь встал и уступил ей дорогу, пропуская ее вперед. Приглашение явно не относилось ко мне. Максина шествовала по коридору, как океанский лайнер, таща на буксире крохотную лодчонку Макса. Если бы у меня был белый платок, то мне непременно следовало бы помахать им вслед.
— Я работаю над этим, это все, что ответил мне Макс, когда я неделю спустя спросил его о Максине. Он и правда выглядел как человек, занятый тяжелой работой и чувствующий раздражение, когда его отвлекают.
Съела ли Максина в кафетерии семь порций жареной курятины, дала ли она свой телефон, пала ли в ваши объятия или, наоборот, пали вы? Как вам удалось избавиться от Хэтти и Мэгги со товарищи? Мне очень хотелось задать все эти вопросы, но я воздержался. Для этого будет еще много времени, подумал я. Тем временем поток женщин, проходивших через квартиру Макса, иссяк. Одновременно стал пустеть и кампус. Студенты разъезжались на летние каникулы.
Церемония вручения дипломов состоялась в субботу. По кампусу, куда ни кинь взгляд, расхаживали нарядные выпускники, поменявшие джинсы на слаксы, а слаксы на юбки и летние брюки. Мои студенты, проходившие весь семестр в шортах и драных футболках, явились в синих блейзерах и белых платьях. Лора Рейнольдс, мой авангард общественного сознания, писавшая работы о сексуальной политике лебедей у Йитса, появилась на площади Студенческого союза в ярко-красном платье и на высоких каблуках под руку с кадетом КПОР в парадной форме. Я помахал ей, но она сделала вид, что не заметила приветствия. Должно быть, испытываешь неловкость, когда внешняя сторона жизни встречается с теневой.
В течение недели все живые души, оставленные студентами дома, непрерывным потоком прибывали в Оксфорд всеми видами транспорта — от потрепанных фургонов до шикарных БМВ. Родственники до отказа забили местный «Холидей-Инн», «Юниверсити-Инн», «Джонсонс-Мотор-Инн» и мотель «Оле Мисс», а также все окрестные гостиницы и постоялые дворы. Поесть в городе было равносильно катастрофе, во всех, даже самых затрапезных харчевнях, вроде «Полька-Дот», выстраивались неслыханные очереди. Конечно же каждый университетский город располагает хотя бы одним рестораном высшего разряда для богатой публики, но даже в «Оксфорд гриль» по ночам собиралась такая толпа, что заведение было вынуждено нанять дополнительно нескольких официантов и официанток, чтобы не уронить качество обслуживания.
На заброшенных железнодорожных путях пышно произрастала кудзу, она заполнила канавы под мостами и подбиралась к дорогам. В нескольких милях от Оксфорда, ближе к Тейлору, кудзу завоевала акры в пойме, обвивая по пути деревья, валуны и, может быть, даже ленивых коров. Тот факт, что кудзу начали сеять здесь для того, чтобы остановить эрозию почв, очень характерен для многих явлений южной жизни, — то, что начинается вполне пристойно, со временем выходит из-под контроля. Всякий раз, когда в аудитории мне была нужна метафора для обозначения прогрессирующего паралича, я приводил в пример кудзу. Студенты из других штатов показывали эту траву своим пораженным родителям.
Другой почтенной метафорой был Роуэн-Ок, дом Фолкнера. Университет купил его и превратил в музей. Смотрителем стал весьма эксцентричный человек по имени Генри Бернс. Генри был одним из наших. Он закончил университет по кафедре английского языка, в прошлом был летчиком, воевал во Вьетнаме и был завзятым холостяком. Он никак не мог закончить свою диссертацию об авиации в романах Фолкнера, но никто больше не торопил его с работой. Действительно, став смотрителем музея Фолкнера, он превратился в его неотъемлемую часть. Если вы видели галстук, небрежно брошенный на зеркало туалетного столика, то это был штрих, нанесенный мастерской рукой Генри; то же самое касалось полбутылки лошадиной мази на дальнем столе или подборки книг в гостиной Фолкнера. Осмотреть музей приезжали туристы даже из Токио.
Полагаю, что во время выпуска Оксфорд превращался в одну грандиозную выставку. Факультет точно превращался. Я достал из чулана свою академическую мантию и тщательно осмотрел эти полосы мудрости, выполненные из темно-синего бархата. Н-да, следовало бы добавлять по одной лычке за каждое посещение церемонии выпуска. То был единственный раз в году, когда я входил в Мемориальный колизей Теда Смита, этот памятник университетской расточительности. Колизей мог бы вместить целый город, если бы жители согласились одновременно не пользоваться санитарно-гигиеническими удобствами. Само это место оживлялось только во время баскетбольных матчей и рок-концертов, но в остальное время здание погружалось в спячку. В актовый день дом становился свидетелем парада академических мантий, по большей части черных — взятых напрокат. Но некоторые мантии были получены в собственность их обладателями во время выпуска из обиталищ высокой учености и с гордостью демонстрировались в этот торжественный день. Присутствовать, по уставу, должен был весь факультет, эта строгость обеспечивала тридцатипроцентную явку. Церемония продолжалась несколько часов, и самые умные профессора брали с собой что-нибудь почитать, пряча книги в широких рукавах мантий. В прошлом году Франклин, например, умудрился прочитать целый викторианский порнографический роман, традиционно пряча его под бархатом. Родители и студенты терпели: на Юге люди в большинстве своем ожидают, что будут скучать. Если не скучно, значит, это не настоящая церемония.
Макс тоже был в Колизее в своей колумбийской серовато-синей мантии. Он стоял вместе с преподавателями кафедры истории и что-то записывал на клочке бумаги. Какие-то мысли о церемонии, о том, как смешно выглядят коллеги в мантиях, или впечатления от каких-то своих радостей? «Я записываю все, что приходит мне в голову», — сказал мне как-то Макс, когда я спросил его об этом. Он делал множество записей. Но в конце концов, Максу было что записывать, в отличие от большинства профессоров и преподавателей.
Моя кафедра присутствовала, к сожалению (или, наоборот, к счастью), в весьма неполном составе. Эд, наш заведующий, надумал уехать из города. Грег до последнего момента тянул с прокатом мантии, а когда надумал, их уже не было. Это обстоятельство он использовал как оправдание своего отсутствия. Джина, вероятно, колесила по дебрям Миссисипи в поисках миссис Гар, но Элейн Добсон была здесь, в мантии цвета фуксии, его в Гарварде почему-то называют алым. Эрик Ласкер щеголял в настоящей горностаевой мантии из настоящего Оксфорда. Медиевист Мелвин Кент в своей накидке был похож на монаха, каковым он в какой-то степени и являлся; а Франклин явился в просторной мантии, скрадывавшей его просторную фигуру.
Присутствовали еще несколько ученых с факультета — работающих и вышедших на пенсию, — которые просто не имеют отношения к рассказываемой мною истории. Присутствовал, например, Милтон Флинт, и если я до сих пор не упомянул о нем, то только потому, что он был таким непритязательным и обходительным, что словно и не существовал. Делая вид, что преподает Спенсера, он в действительности интересовался лишь женой и собакой. В этом году он вышел в отставку, хотя, быть может, это случилось год назад. Его накидка, сшитая из какого-то фланелевого материала, пожалованная фланелевым университетом, практически целиком скрывала в своих складках его невидную фигуру.
Я задумался о том, как будет выглядеть Максина в развевающейся мантии — среди присутствующих не было ни одной женщины таких размеров. Мне приходилось видеть женщин-певчих из баптистской церкви, женщин весьма внушительной комплекции, которых накидки делали похожими на качающиеся на поверхности воды поплавки. Но Максина являла более впечатляющее зрелище. Думаю, Макс испытывал в отношении ее некоторую робость, как альпинист перед Эверестом. Наверное, это самая верная аналогия из всех возможных.
Как бы то ни было, все мы или, скажем, некоторые из нас ожидали начала церемонии или церемонии начала. В этом году главное выступление обещало стать настоящим антиаттракционом. Ожидалось выступление политика, настолько далекого от образования и высших идеалов, что его выбор так и остался для меня какой-то мистерией или карикатурной комедией. С другой стороны, что-то было в том, что тебя будет приветствовать вице-президент Соединенных Штатов Дэнфорт Куэйл. Что ни говори, а это событие. Многие даже возлагали большие надежды на это представление, как иногда ждут веселья от чего-то совершенно неуместного. Люди из службы безопасности были уже на местах, жилистые тренированные тела в безупречных костюмах, словно змеи в платьях. Их головы были одинаково наклонены влево — они прислушивались к звукам, доносившимся из наушников электронных передатчиков. Помост президиума уже заполнили eminences grises[18]. Публика немного развлеклась, когда у стола президиума обнаружилась одна из перекормленных крыс Стенли. Она в спешке скрылась, когда за ней бросился агент службы безопасности.
Мы расселись по раз навсегда заведенному распорядку. Кафедра английского языка заняла места впереди кафедры истории. Сиденья с высокими деревянными спинками стояли очень близко друг к другу. Я втиснулся между Элейн и Эриком. Еще до того, как мы сели, Элейн раскрыла мистерию П. Д. Джеймса. Я тоже принес с собой книгу, роман Аниты Брукнер, а Эрик перелистывал «Книгу шуток Дэна Куэйла», что немало меня заинтриговало. Для человека, читающего юмористическую книжку, Эрик выглядел недостаточно веселым.
— Отвратительно, — бормотал он, перелистывая страницы, а один или два раза произнес даже: — Какая мерзость!
Он был похож на оксфордского Дона, просматривающего последние методички кафедры.
Макс сидел сзади нас и разглядывал толпу. Он принес с собой старинный театральный бинокль — странную помесь бинокля и лорнета. Бинокль висел на элегантном черном шелковом шнурке, помеченном инициалами Д. Э. Ф. — Дороти Эльмира Финстер? Дэвид Эванс? Макс был настолько сам по себе, настолько загадочен, что я никогда не задумывался о том, что у него есть родственники. Мне стало интересно, как выглядит его мать. Была ли она полной, была ли она огромной? Пользовалась ли она этим биноклем, когда ходила на «Летучую мышь»? Самое смешное, что Макс рассматривал в бинокль не президиум, а публику.
Я попытался, как делал это много раз до того, проследить его взгляд. Набор человеческих существ, собранных в колизее, согрел бы сердце любого христианского мученика, оказавшегося бы сейчас на арене. Места были заполнены матерями и отцами, совершающими жертвоприношение; младшими сестрами, братьями, двоюродными братьями и сестрами, тетками и двоюродными тетками, подружками и женами и всеми прочими, связанными с выпускниками узами крови, брака или социальных обязательств. Макс, как я понял, искал подходящих женщин.
Бинокль медленно описывал дугу, а потом остановился приблизительно на тридцати градусах. Я толкнул Макса.
— Насколько она велика? Кто это, Макс?
— Откуда я знаю? — огрызнулся он. Видимо, я сбил наводку. — Черт, я, кажется, ее потерял.
— Ничего, найдете другую, не волнуйтесь.
Ты всегда их находишь, подумал я. Он все еще возился с Максиной, но это его не останавливало. Я внезапно представил Макса в возрасте восьмидесяти лет, охотящегося за женщинами с клюкой. Иногда одно только наблюдение за Максом заставляло меня чувствовать себя престарелым дядюшкой. «Вечно пыхтящий и вечно молодой». Но что мог знать Ките о среднем возрасте? Полагаю, многие люди отнюдь не стремятся его достигнуть.
Я обратил взгляд на подиум, где канцлер Таннер был готов начать вступительную речь.
— Мы переживаем сейчас весьма приятное событие, — начал он тоном, не предвещавшим ничего приятного. Почему все обращения по поводу выпускного акта так похожи на застольные спичи в местном Элкс-клубе? Но мне опять-таки думается, что оттого, что этого ждут все присутствующие. Я скосил взгляд влево: Элейн перевернула страницу своей мистерии. Справа Эрик, жутко гримасничая, произнес весьма едкое словцо в адрес писаний Куэйла. Эрик приходил во все большее возбуждение. Такого возбуждения не ждешь от человека, читающего собрание шуток. Я открыл роман Брукнер и попытался сплести свою судьбу с судьбой несчастной женщины — главной героини, страдавшей двойственным отношением к пище.
За вступительной последовала другая речь, произнесенная лысеющим румяным мужчиной, постоянно благословлявшим аудиторию. Я заглянул в программу, лежавшую под книгой. «Благословение университетского капеллана». Я до сих пор не знал, что у нас есть капеллан. Потом священник сошел с трибуны, и на нее взошел Куэйл. Агенты секретной службы незаметно сомкнули ряды. Я заметил, как Элейн перевернула очередную страницу, слышал, как скрежетал зубами Эрик.
— Когда я всматриваюсь в ваши лица, — начал Куэйл с непосредственностью человека, читающего заранее подготовленный текст, — то вижу свет надежды.
Вся речь была выдержана в подобном стиле: страсть к совершенству, вершители собственной судьбы, преодоление препятствий — последняя фраза относилась к нескольким выпускникам, страдавшим физическими увечьями. Мы называли их неполноценными. До этого мы называли их калеками. Среди них был молодой человек из Язу-Сити, родившийся без рук, и местная девушка, страдавшая рассеянным склерозом, и девочка из Джорджии, родившаяся в семье, имевшей двенадцать детей. Последний случай впечатлял сам по себе: администрация впервые публично признала, что нищета равносильна инвалидности. Эрик пробормотал какую-то вежливую непристойность. Кроме того, с трибуны прозвучало упоминание о Вилли Таккере, который собирался осенью вернуться в аудиторию. Я оглянулся и посмотрел на Макса. Он опустил бинокль и что-то записывал.
В конце речи Куэйл произвел решающий выстрел — рассказал о пятидесяти миллиардах долларов на образование, обещанных президентом несколько дней тому назад. После этого в ход снова пошли возвышенные выражения — на этот раз о звездах. Если бы вице-президент знал начатки латыни, он мог бы провозгласить что-нибудь вроде Ad astra per aspera, но латинского он не знал, и поэтому сказал что-то о том, как трудно стать звездой. Большая часть аудитории пребывала в состоянии сонной апатии.
Тут-то все и случилось.
Эрик перевернул последнюю страницу книги и с отвращением ее захлопнул. Встав во весь рост в своих академических оксфордских регалиях, он вытянул вперед руку, словно держа пистолет, и крикнул «Паф!».
Один из агентов службы безопасности, стоявший в президиуме, мгновенно пригнул впавшего в панику Куэйла и спрятал его под массивный стол. Другой агент возник вообще ниоткуда. Он проломился через три ряда сидевших в зале профессоров, скрутил Эрику руки и повалил его на пол. Для того чтобы это сделать, агенту пришлось перекинуть Эрика через спинку стула и швырнуть его в проход, то есть прямо на Макса, который сидел возле этого прохода. Еще два агента пробились сквозь наши ряды и с поразительной быстротой увели Эрика. Все произошло так стремительно, что мы поняли, что Макс пострадал, только после того, как он громко произнес:
— Сукины дети!
Элейн и я попытались помочь ему встать на ноги, но, когда она потянула его за руку, Макс сказал, что не надо этого делать.
— Думаю — черт! — думаю, я опять сломал руку. — Он неуверенно встал, когда в конце его ряда появились два парамедика. — Нет, нет, все в порядке, я могу идти сам, — оповестил он всех тихим, но решительным тоном.
Он нетвердой походкой направился к ожидавшим его людям в белом, словно на свидание с незнакомкой. Он ушел с ними, махнув нам на прощание здоровой рукой.
Но самое худшее было впереди. Куэйл опасливо поднялся с карачек и решил продолжить речь с того места, на котором его прервали. Публика оживилась, отчего я почувствовал себя подавленным и одиноким.
— То, чему вы сейчас стали свидетелями, друзья мои, еще раз показывает… что в нашей великой стране…
Элейн снова стоически взялась за свою мистерию. Я заглянул в промежуток между двумя стульями и заметил там предмет, забытый обеими противоборствующими сторонами. Воспользовавшись всеобщим восторгом, я подобрал «Книгу шуток Дэна Куэйла» и начал читать.
25
Итак, Максу снова сломали руку — на этот раз агенты правительства Соединенных Штатов. В Баптистском мемориальном госпитале сделали рентген и выяснили, что перелом произошел на старом месте. Ортопед снова наложил Максу гипс. Никаких нагрузок и резких движений, что для Макса было сущей пыткой, правда, от этой он не получал никакого удовольствия. Так или иначе, он уговорил врача сделать ему что-то вроде жесткой косынки, чтобы он мог ездить на велосипеде. Самым трудным делом было залезать и слезать, говорил мне Макс. Думаю, что он при этом имел в виду велосипед. Он определенно добился большой симпатии Максины, но до секса дело пока не дошло. В Максине было не меньше четырехсот фунтов, но я до сих пор не слышал протестующего скрипа кровати. Мое отверстие в это время закрылось окончательно. Я постарался отпихнуть картину с моей стороны стены с помощью тонкого железного стержня, но ничего не вышло — наверное, Макс намертво приклеил Магритта к стене.
Инцидент в колизее закончился весьма плачевно для Эрика. В первые два дня никто ничего не знал. Обвинения были легкими; в Службе иммиграции и натурализации посмотрели его досье и решили, что он нежелателен в стране из политических соображений. Зеленая карта была аннулирована, контракт на работу не возобновлен. Сами по себе обвинения были тривиальными: нарушение общественного порядка — это единственное, что они могли ему прилепить. Но канцлер Таннер был в ярости. Он лично пригласил в университет вице-президента Куэйла и поэтому тоже заслужил немилость.
— Таннер сказал мне, что я самым постыдным образом обесчестил и опорочил доброе имя «Оле Мисс». Мне понравились эти выражения: обесчестил и опорочил. Скажите, почему в Америке так любят использовать самую возвышенную лексику для характеристики самых низменных ее учреждений?
На следующий день после получения известия от большого начальства Эрик протестовал против решения, сидя в «Полька-Дот». На столе перед ним стояла кружка с горячим травяным чаем. Вокруг стола сидели мы со Сьюзен, Кэи, Нэнси Крю и несколько студентов-выпускников, включая Дага Робертсона. Это было похоже на дежавю — опять защита Эрика от обвинений. Но разве это дежавю, если то, что произошло раньше, имело место в действительности? Может быть, Эрик стал жертвой мании преследования, так как думал, что весь университет теперь ополчился против него? Вопрос спорный. Вся эта встреча была задумана для выработки тактики, но Нэнси сразу остудила наш пыл, сказав, что шансов на смягчение решения нет никаких.
— Черт, Эрик, тебе крупно повезло, что тебя не линчевали. — Это было сказано с неподдельным южным акцентом, несмотря на то что Нэнси была уроженкой Калифорнии.
Элейн не было, хотя она говорила, что хочет прийти. Bероятно, она в это время находилась в тюрьме графства. Во время церемонии выпуска Натаниэль попал в настоящий рай. Он бродил по площадке, где были припаркованы автомобили, и брал все, что плохо лежало. Все бы сошло ему с рук, если бы, на его беду, не начал накрапывать дождь. Один из патрульных полицейских обнаружил массу грязных следов одних и тех же ботинок и решил проследить, откуда они начинаются. Он поймал Натаниэля за попыткой взломать замок «ауди» куском листового железа. Подозреваемый пытался избежать ареста — так, во всяком случае, утверждали полицейские. Должно быть, с ним грубо обошлись — у него распухла нижняя челюсть, и он берег левую руку, когда Элейн пришла в тюрьму. Большинство из нас жалели Элейн, но никому не пришло в голову заступиться за Натаниэля. По какому-то злосчастному совпадению он посадил ей пару синяков, и она вышвырнула его из дома, а через два дня он попался на парковке.
Натаниэль, правда, и сам не думал ни защищаться, ни оправдываться. Он сознался в том, что ограбил дом Споффордов и квартиру Грега. Осталось невыясненным, куда он дел краденое. «Это было перераспределение богатства». Вот все, что он сказал на следствии. Элейн не стала выдвигать против него никаких обвинений. Она даже немного всплакнула, чего, как сказала Сьюзен, мне никогда не понять. Приговор был вынесен без проволочек. В тот день, когда мы собрались в «Полька-Дот», Элейн попрощалась с Натаниэлем, которого отвезли в Парчмен, в одну из тюрем штата, где заключенных до сих пор сковывали одной цепью.
Естественно, отсутствовал и Макс, но никому не пришло в голову упрекать его за это. Конечно, не Эрик сломал ему руку, но все же, пусть даже и косвенно, именно он был виноват в случившемся. К несчастью, Эрик совершал множество поступков, казавшихся нам правильными, но как же часто он ставил нас перед необходимостью защищать его, в то время как каждый из нас с удовольствием дал бы ему за это хорошего пинка. Даже сейчас мы считали себя обязанными выразить, пусть даже символический, протест. Обсуждались разные варианты — от петиций до маршей, но в конце концов сошлись на том, что надо распространить декоративные пуговицы с протестующей надписью.
— Как насчет «Вот наше мнение: Таннер, отмени решение!», — предложил Даг Робертсон, который, кстати, стал недавно ассистентом кафедры. Чтобы окончательно войти в роль, он отпустил жидкую бороденку и, наверное, каждый вечер изо всех сил дергал ее, чтобы она лучше росла.
Мэри Кэй энергично тряхнула сережками.
— Это слишком по-британски, а это нужно Эрику меньше всего. Надо придумать что-то ясное, четкое и чисто американское.
— «Пересмотрим в суде ситуацию — отменить незаконную депортацию», — эту неплохую строчку предложил Джозеф, но, к сожалению, он произнес ее без всякого выражения — он вообще всегда так говорил.
Мне думается, что если бы Джозеф вдруг заорал от боли, то и вопль вышел бы у него монотонным. Монотонным показался нам и его лозунг.
Владелец заведения Энди, на голове которого красовалась бейсболка с надписью «Аардварки[19], объединяйтесь», внимательно слушал нас, расположившись за стойкой.
— У меня есть старые пуговицы «Свободу Хьюи Ньютону». Если надо, берите, — сказал он.
Наконец, мы согласились на прозаический лозунг: «Поддержи Ласкера». Магазин канцелярских принадлежностей, где выполняли подобные работы, принял у нас заказ на сто сине-белых пуговиц. Начиная с понедельника мы принялись распространять их в кампусе по доллару за пуговицу и продали семь штук. Думаю, что из-за того, что большинство студентов давно уехали на лето. Макс тоже купил одну пуговицу, но написал на ней «Поддержи Финстера». Ему стало лучше, но он продолжал злиться. Теперь он находился в таком положении, что не мог делать некоторые вещи самостоятельно — приходилось прибегать к посторонней помощи. Он просил ее у Максины, и она с удовольствием делала ему эти одолжения. Думаю, это соединение магнетизма и уязвимости делало его соблазнительным в куда большей степени, чем неприкрытое проявление силы. Максина стала часто бывать в его квартире, и у меня появилась возможность лицезреть ее в больших дозах — во всех смыслах. Тело Максины было таким большим, что его не могла ограничить никакая одежда, тем более шорты и футболка. Плоть выпирала во все стороны, стремясь обрести свободу.
Выздоравливая, Макс дважды в неделю плавал в бассейне, пользуясь дощечкой и пластиковым пакетом, чтобы не замочить гипс. Когда июньская жара стала невыносимой, я тоже пошел в бассейн, чтобы освежиться, а заодно и поддержать форму. Когда-то, в далеком и туманном детстве, меня учили плавать кролем, но я так и не научился правильно дышать. Поэтому я плавал, как и мой отец, этаким стариковским брассом. Это было не слишком эффектно, но зато надежно. Кроме того, такое плавание оказалось и нешуточной нагрузкой. Я сделал всего около сорока гребков, но чувствовал себя так, словно меня вздули резиновым шлангом.
Определить, каким стилем плавал Макс, было невозможно, так как он был в косынке. Все, что я помню, — это стремительные движения руки и напряженный взгляд, с которым он рассекал воду. Максина плавала по дополнительной дорожке; ее обширное тело покоилось на поверхности, как корпус океанского лайнера. Пловцы обычно режут поверхность, но от плавания Максины впечатление было противоположным. Ее руки — огромные и толстые — создавали странную иллюзию: казалось, что она отталкивает весь бассейн назад, чтобы двигаться вперед.
Никакое бикини никогда и ни за что не смогло бы удержать такую массу, но даже самый большой из закрытых купальников не мог прикрыть такое количество плоти. Усиленные эластичные бретели едва удерживали гигантские груди, а ткань купальника, словно вторая кожа, обтягивала необъятный живот, на котором, как немигающий глаз, отчетливо выделялся глубокий пупок. Когда она шла по мелкой части бассейна, то казалась величественной нереидой. Вода пенилась на ее гладкой коже, а выступавшие над поверхностью груди и ягодицы делали Максину похожей на резвящегося кита.
Покончив с плаванием, парочка принималась за игры. Максина садилась на облицованный край бассейна, протягивала вперед руки, а Макс плыл к ней, словно поклоняясь богине. Иногда он утыкался в нее, и тогда Максина захватывала его своими монументальными ногами, исполинскими мясистыми колоннами, каждая из которых была в обхвате толще талии средней женщины. Когда Максина расставляла ноги, в промежности были видны завитки иссиня-черных волос. Я ощутил затаенную опасность и постарался держаться от них подальше, но остался в пределах видимости.
Впрочем, я не могу быть объективным рассказчиком. Я знаю, что он в ней видел.
Что же касается того, что она видела в нем… Как и большинство его поклонниц, она видела обдуманно выбранную маску. Максина от души хотела быть поэтом, и Макс стал экспертом по просодике, а я — его соучастником; вскоре после того, как я познакомил его с Максиной, он одолжил у меня книгу о поэтических формах и размерах. Он также жадно, в свойственной ему манере, выпытывал у меня сведения о некоторых литературоведческих терминах. Я чувствовал, что мои знания становятся его собственностью, что не могло не вызывать у меня беспокойства; правда, с другой стороны, это любопытство мне льстило. Макс когда-то опубликовал несколько стихотворений в малоизвестных журналах, но к этому факту своей биографии он относился с такой же небрежностью, как и ко всем остальным. Он писал Максине любовные сонеты в стиле Петрарки — от таких стихов девушки обычно краснеют. Макс показал мне это творение, и я понял, что их отношения достигли кульминации. Мне стало ясно, что он ночует в ее квартире.
Но он был не только поэтом, он был еще и критиком, причем весьма терпимым и снисходительным. Он брал поэтические опусы Максины в руки, ласкал, холил и лелеял их, выдерживал, как доброе вино, с пафосом их декламировал и в конечном счете делал так, что они казались вполне достойными заучивания. Он намекал Максине, что, возможно, устроит ей публичное выступление. Втайне от нее он показывал мне ее стихи, отпуская по их поводу гнусные, но остроумные шутки. Мне было жаль Максину, но что я мог поделать? Отвести ее в сторонку и объяснить, во что она влезла? Она бы мне не поверила; ее пожирала безумная страсть. Или мне надо было отвести его в сторону и сказать, чтобы он прекратил этот «роман»? Это было бесполезно, он был поглощен завоеванием плоти; она, как метко выразился по этому поводу Бейтсон, по-жир-ала его. И я делал то, что умел делать лучше всего, — стоял в сторонке и ничего не делал; наблюдал чужие страсти, будучи некурящим гостем на тусовке наркоманов, тянущих марихуану.
Бывали дни, когда я мастурбировал по три-четыре раза. Иногда я занимался этим в туалете, иногда осмеливался онанировать в рабочем кабинете, но лучшим местом был мой домашний кабинет, так как он находился рядом со спальней Макса. Несмотря на то что смотровая щель была закрыта, если даже действо происходило в каком-то другом месте, все равно эту стену окутывала какая-то сексуальная аура. Я спускал тесные штаны, обнажая солидное брюшко, и ложился на ковер. Задрав рубашку, я принимался массировать себе грудь, распускаясь телом и возбуждаясь душевно. Руки мои постепенно спускались все ниже, я погружал пальцы в глубокую складку на животе и принимался немилосердно месить свою плоть. Потом руки постепенно смещались к гениталиям.
Чем больше я этим занимался, тем большая стимуляция мне требовалась для возбуждения и оргазма. Часто я вслух произносил имена Максины или Макса. Для того чтобы еще больше себя возбудить, я прижимался всем телом к холодной стене. Именно за этим занятием однажды и застала меня Сьюзен.
— Дон? О боже!
Вот дьявольщина! Обычно в это время Сьюзен была на работе, и я не закрыл дверь. Я пытался натянуть штаны, но они оказались слишком тесными. Пояс штанов застрял на середине бедер, и я неловко прыгал по ковру, упрямо стараясь подтянуть их выше.
Фраза, которую я выдавил из себя, тоже оказалась не вполне удачной:
— Что ты здесь делаешь?
— Я? Скажи лучше, что делаешь ты! Так вот чем ты занимаешься, пока меня нет, — ты онанируешь, как подросток!
Она была одета на выход, каблучки стучали по полу у двери кабинета. Она не стала заходить, да, кажется, и не собиралась это делать. Ее удерживала брезгливость — так в зоопарке нормальному человеку не хочется входить в клетку с обезьянами.
— Прости, это… это совсем не то, что ты подумала. — Я извернулся, чтобы прикрыться. — Подумай, в последнее время у нас были проблемы.
— Из-за твоего Макса.
— Оставь в покое Макса!
— Ты очень изменился с тех пор, как познакомился с ним!
— Прекрати! Дело не в этом, я и сам не понимаю, что со мной происходит. — И тут меня озарило: надо давить на женскую жалость. — Я только…
И здесь я сломался. Это было нетрудно, я действительно был выбит из колеи тем, что Сьюзен меня застала за мерзким занятием.
Сьюзен смягчилась. Во всяком случае, она не выбежала из квартиры. Я плакал, я протестовал, я говорил, что пойду к сексопатологу, но она в ответ бормотала, что это не обязательно, чем очень меня обрадовала, так как в действительности я не собирался ни к кому обращаться. Я знал, что мне нужно, и это находилось по ту сторону стены. Или будет находиться, в чем я нисколько не сомневался.
В ту ночь, во искупление греха, мы робко и неуверенно занялись любовью, и у меня хватило эрекции, чтобы совершить то, чего я не делал никогда, — имитировать оргазм. Макс однажды сказал мне, что женщины не чувствуют эякуляции. Сьюзен была насторожена, но проявляла терпение, пока я не общался с соседом. Я сказал ей, что со мной происходят какие-то странные вещи, не вполне понятные мне самому, но я изо всех сил стараюсь в них разобраться. Полуправда всегда лучше, чем голая, неприкрытая истина.
Однажды, в начале июня, проезжая мимо широкого поля, посреди которого стоял ржавый грузовик с платформой, загруженной покрытыми конфедератскими флагами тележками из супермаркета, я вдруг решил, что в мире есть масса вещей, недоступных моему пониманию. Дело было не в сексе; я подумал, что во всем виноват Юг. Я так и не понял великую загадку южной культуры. О, я знал о выбеленных изгородях из автомобильных покрышек, о добрых стариках и бутылочных деревьях, о жареной курятине и барбекю, о баптистах и блюзе, но знать о какой-то вещи не значит понимать ее суть. Поверхностное знание есть лишь начало. Это большая проблема — жить в культуре, отличной от той, в какой ты вырос и воспитывался; это источник интереса, но не объяснение. Если бы рядом была Сьюзен, я мог бы пристать к ней и спросить, что означают эти магазинные тележки в чистом поле, и удостовериться, понимает ли она это сама.
Но что сказать о людях, выросших в том же регионе, что и я? Макс был моим земляком, что особо подчеркивали некоторые мои друзья. Жители Миссисипи считают всех северян на одно лицо, по крайней мере всех ньюйоркцев. Я могу понять эту страсть к классификациям, но умонастроение региона — это еще не облик каждого его уроженца, особенно такого противоречивого, как Макс. «Надо всегда быть чуть-чуть невозможным», — писал Оскар Уайльд, и, кажется, Макс усердно следовал здесь этому предписанию. Правда, в последнее время его стало опасно заносить. Что-то в атмосфере Юга заставило его забыть об осторожности. Кажется, я начинаю идти по его стопам. Сами южане великолепно чувствуют себя на Юге, но приезжих он зачастую калечит и уродует или просто усугубляет природные свойства. По крайней мере, я объясняю это так, пусть даже это утешительная рационализация. Я помню, что случилось в Лондоне с ирландцем Оскаром Уайльдом, и меня сильно тревожило благополучие Макса. Мне хотелось предостеречь его, поговорить с ним, узнать, что у него на уме. Если, конечно, он скажет.
В конце концов я решился на нечто дерзкое и для меня вовсе не характерное. Я пригласил Макса на выпивку. «Место выбора за вами», — с жаром произнес я. Он довольно легко согласился. Мы решили встретиться в пятницу — без жен и подруг. Зная, как Сьюзен относится к Максу, я солгал. Не знаю, что говорил Макс своей Максине, но я сказал Сьюзен, что Эд Шемли устраивает ночные кафедральные посиделки в «Теде и Ларри». Такое однажды уже было, поэтому ложь сошла за правду.
В половине десятого мы сели в «мазду» Макса и поехали в один из простых городских баров под названием «Скотти». Он находится на склоне холма, на полпути к «Полька-Дот». Большая зеленая дверь в обрамлении обшарпанной дранки. По пятницам и субботам здесь всегда полно припаркованных пикапов, а изнутри доносится народная музыка в стиле рок. Мне ни разу не приходилось бывать в этом баре.
Макс припарковал «мазду» рядом с каким-то «доджем» с разбитым ветровым стеклом. Дверь распахнулась, и изнутри пахнуло табачным дымом и пивом. Было еще довольно рано, но за поцарапанной стойкой уже сидели люди, а несколько парочек расположились в отдельных кабинках. Мы заплатили по три доллара за оркестр и пробрались в зал. Некоторые посетители окинули нас взглядами, но потом отвернулись. В таких местах я чувствую себя неюжанином больше, чем где-либо. На Максе были тесные старые джинсы и потрепанная спортивная рубашка с короткими рукавами. Не важно, во что был одет я, скажу только, что мой наряд начинался с бежевых слаксов.
Макс, видимо, неплохо знал это место, потому что сразу повалил к стойке бара. Барменша выглядела как женщина, когда-то мечтавшая стать моделью, но павшая жертвой слабости к жареному. Талия ее мягко обвисла, но полуоткрытую грудь она выставляла вперед весьма напористо. Она кивнула Максу, Макс кивнул ей.
— Как дела, Джоан?
— Ни шатко ни валко. Чего будете брать?
— Две бутылки.
Я ждал, что Макс назовет сорт, полагая, что есть выбор. Но его не было. Мы взяли «Будвайзер», пиво, которое я ненавижу всеми фибрами своей души. Но на улице было жарко, и нас обоих мучила жажда. Мы немедленно опустошили обе бутылки несколькими жадными глотками, сразу же заказали еще, а потом еще. В алкогольном эквиваленте мы были похожи на курильщиков, прикуривающих следующую сигарету от предыдущей. Наконец, Макс поставил начатую бутылку на стол.
— Здесь в подвале есть пул, — сказал он мне. — Там две лесбиянки играют ручками от швабр и выставляют любого мужика, который рискнет с ними сыграть.
— Я не играю в пул, — сказал я. — А вы?
Он подмигнул мне:
— А я притворяюсь.
В двух столиках от нас сидел какой-то мужик с брюхом, на которое мог бы усесться другой мужик. Он держал в руке бутылку легкого «Будвайзера», которую только что заказал.
— Кто может сказать, отчего это пиво называют легким, — проговорил он, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Мне кажется, что оно весит как обычное пиво, разве нет?
Другой мужчина в черной футболке и с крепкими ручищами млел от собственных бицепсов, но в это время за его столик тяжело уселась женщина с еще более толстыми руками. Мне показалось, что дело запахло армрестлингом, но мужчина преспокойно забрал пиво и переместился в кабинку.
Ночь была спокойной. Оркестр тихо наигрывал «Ты так тщеславен», но из присутствующих не нашлось ни одного тщеславного настолько, чтобы потанцевать. Бутылка «Будвайзера» шла здесь по одному доллару. Если человек есть то, что он пьет, то сегодня мы с Максом были солодовой головой. Мы сели спиной к стойке вовсе не для того, чтобы демонстративно игнорировать барменшу — пусть даже она была отнюдь не Холли, — но лишь для того, чтобы наблюдать за входящими телами. Посетители, как и говорила барменша, шли вяло. Две костлявые тетки, в которых я узнал кассирш из магазина Крогера, говорили о каком-то мужике, как мне показалось, о своем общем любовнике.
— Ты захвалишь Дэна в задницу, вот что ты сделаешь, — говорила одна, с волосами сожженными перекисью, хотя, может, я ослышался, и она сказала «завалишь». Другая, жилистая брюнетка, неразборчиво бурчала что-то насчет задниц. Разговаривали они в одной из кабинок, и слышно было неважно. Вскоре они расплатились по счету и ушли.
Я обернулся к Максу и спросил, какие у него виды на будущее. Он принялся расписывать какую-то телку, которую он видел здесь на прошлой неделе, девку с огромной задницей, ее пропитанные кислотой грубые шорты едва не рвались по шву, а голые коленки напоминали булыжники.
Я отпил пива из последней бутылки и подался вперед.
— Я имею в виду Максину. Что у вас происходит?
— Ничего особенного, во всяком случае, для меня.
Клеймить Макса за то, что у него был постоянно ищущий взгляд, было то же самое, что обвинять Макиавелли в прагматизме, и поэтому я промолчал. Но я все же вслух поинтересовался, чего он ищет, если Максина его удовлетворяет.
Он взглянул на меня, немного кося вправо, как будто за моим левым ухом вдруг возник перекресток.
— Цена свободы — вечное бодрствование, — объявил он и прикончил бутылку. — Сказано Джоном Филпотом Кареном, Томасом Джефферсоном или Максвеллом Финстером. Пейте.
— Что это значит?
— Значит, что я должен искать, чтобы сохранить независимость. Прекращение движения — это смерть.
— Вы изумительны. — Я вздохнул. Но «изумительны», как я понял много позже, очень хитрое слово. Надо иногда вспоминать об этимологии.
— Нет, я не изумителен, — раздраженно ответил Макс. — Я просто знаю, чего хочу. Вся проблема в других людях.
— Если вы не часть проблемы, то вы часть ее решения. — Мое мышление было сильно заторможено пивом, и пауза немного затянулась. — Я думаю по-другому.
— Кто не со мной, тот против меня.
— Малкольм Икс.
— Иисус Христос.
— Нет, я имел в виду себя.
— Ты хочешь сказать, что сам ничего не пишешь?
Чтобы выиграть время, я сделал еще глоток. Я находился в той стадии опьянения, когда пиво становится похожим на чужую мочу. Я толкнул бутылку по столу зигзагом, как шахматного коня.
— Скажи, чем ты занимаешься с Максиной в постели?
— Воспроизвожу непорочное зачатие. Достигаю небесного блаженства. — Он почесал почти зажившее запястье. На руках не было синяков, во всяком случае, их не было видно. — Может быть, мы сидим друг у друга на лицах. Гоняем друг друга пастушьими кнутами. А какое тебе до этого дело, кстати?
Я обдумал вопрос.
— Но я же твой друг.
— Ты — мой друг. — Макс послушно кивнул. — Ладно. Отлично. Так или иначе, в один из следующих дней я дам тебе знать, как у нас все происходит. Но не сейчас. — Он вытащил из кармана листок бумаги и что-то записал.
Я попробовал другой подход. Язык стал толстым и неповоротливым, слова выходили неловкими, изуродованными и корявыми.
— Слушай, — я подался вперед, едва не опрокинув стол, — где ты… каким ты был в Нью-Йорке, на что ты был похож?
Он закончил писать и поднял голову.
— На что я был похож?
Я сделал неловкий жест.
— Я хочу спросить, ты тогда… ты был… ты всегда…
— Всегда ли я был поражен са-ти-ри-азом? — Он говорил спондеически, вжившись во взятую на себя роль, но скорее всего под влиянием алкоголя. Он тоже подался вперед, и мы едва не столкнулись носами. — У меня всегда были фан-та-зии, если это то, что ты силишься сказать. Ты это хотел сказать?
Я подумал. Я подумал о своих основанных на слухах догадках.
— Нет, у меня тоже есть фантазии. Я имею в виду их воплощение.
Он хлопнул себя по лбу, едва не хлопнув меня.
— Так. Это требует мужества. Очень упорного и стойкого мужества. Я мало что делал. С другими. О, я потерял девст-вен-ность, когда получил водительские права и все такое. Но я не бегал на всякие там свидания. — Он посмотрел мимо меня в зеркало на стене бара, словно увидев там Нью-Йорк. — В колледже у меня был период без-бра-чия. Ты можешь в это поверить?
Макс Целомудренный. Гм, да. Это я мог понять, в то время меня тоже обуревала страсть к физическим нагрузкам.
— Естественно, я не говорю о мастурбации, — добавил он. — Но я взял свое, и с избытком, на выпускном курсе, едва не поимел кучу неприятностей, не спрашивай каких.
Я кивнул, словно это была данность: неприятности и не важно какие.
— Но почему большие женщины? — Я понял, что это дурацкий вопрос, только тогда, когда он уже сорвался с моих губ.
— Почему бабы с большими сиськами, почему блондинки, почему шестифутовые образцы с выпирающими скулами? Мне нравится, когда есть за что подержаться. Если бы мне нравились тонкие бедра и плоские груди, то я бы встречался с мужчинами. — Он изобразил в воздухе рубенсовские формы. — Поиск занял у меня довольно долгое время, но зато я точно знаю, что мне нравится. И наконец, я знаю, как этого добиться.
— И как?
— Надо показать им, что ты отчаянный. — Он хищно посмотрел на барменшу, и она, улыбнувшись, ответила ему таким же плотоядным взглядом.
— Но…
— Но — что? — Он допил пиво из последней бутылки и с грохотом поставил ее на стол. — Прекрати этот допрос, ладно?
Я понял, что ничего больше от него не добьюсь. Но это не помешало нам в ту же ночь посетить еще один бар. В Оксфорде, по пуританским деревенским законам, бары прекращают работу в полночь, и тот, кто хочет выпивку, форсирует речку Таллахатчи и переезжает в соседнее графство. Обычно такие любители идут к Фреду, в ковбойский бар, где парни обращаются к женщинам всего с двумя словами: «Замужем?» и «Пива?». Я думаю, что идея поехать туда принадлежала Максу, а Макс думал, что мне, хотя на самом деле получилось так, что он спросил, был ли я там, я ответил, что нет, но он решил, что я сказал: «Да, поехали». Так мы и поехали.
Бар Фреда оформлен в стиле пакгауза времен первых поселений — каменный пол и множество кое-как сколоченных столов и стульев. На деревянной сцене какой-то оркестрик непрерывно и плохо играл рок. Пиво и кока-колу берут из холодильника — вот и все, что там подают. Все, что я могу сказать о «Скотти», вдвойне относится и к «Фреду», возможно, потому, что здесь была та же клиентура, только в более глубокой стадии опьянения. На этот раз мы поставили машину между двумя пикапами; к бамперу одного из них был приклеен стикер следующего содержания: «ПОКОРЕЖИШЬ МОЙ ПИКАП — ПОКОРЕЖУ ТЕБЯ САМОГО».
Внутри мы нашли пару свободных стульев, сели и купили два пива. Я предусмотрительно отдал пиво — неизменный «Будвайзер» — Максу, а сам заказал кока-колу. Макс медленно вращал головой, как орудийной башней, обозревая собравшихся. Один из местных завсегдатаев громко рассказывал, как на спор проглотил живую рыбину, но потом сблевал ею.
— Тут, на х… нет никакого чуда, — проговорил его закадычный дружок, прибегнув к типично миссисипскому тезису, — просто ее надо глотать головой вперед, чтобы плавники прошли.
Последовала холостая демонстрация. Макс встал и вернулся с двумя бутылками пива и колой.
Мимо нас прошел какой-то парень с мясистыми предплечьями, и я понял, что уже видел его сегодня в «Скотти». Действительно, оглядевшись, я, несмотря на полумрак, заметил здесь мужика с огромным животом и еще пятерых самых колоритных из «Скотти». Были здесь еще двое студентов, учившихся у меня в прошлом семестре; они выглядели то задиристыми, то испуганными. Ковбои, крутые парни в крутых джинсах и высоких ботинках, вовсю обрабатывали теток, сидевших за столом возле оркестра. Одна из них, яркая высоченная блондинка, около шести футов роста, все время порывалась танцевать, но стоило ей встать, как она снова падала на стул. Ковбои не знали, как ее утихомирить.
— Посмотри-ка на нее, — сверкая голодными глазами, сказал один из студентов своему приятелю, — она уже зажарена, ее остается только съесть.
— Иди и пригласи ее на танец, — ответил дружок. — Иди, иди, приглашай.
— А почему ты сам ее не пригласишь?
— Она слишком высокая. Мне больше нравится вон та, рыжая.
— Думаю, что она уже занята.
Дружок прищурился.
— Наверное, ты прав.
У меня было такое чувство, что разговор может длиться всю ночь. Но именно у Фреда постоянно случались какие-то происшествия. Танцующие пары постоянно сталкивались, женщины задирали мужчин, а матч по армрестлингу, так и не состоявшийся в «Скотти», материализовался здесь. После напряженной борьбы победила женщина, но мужчина тотчас вызвал ее на повторный поединок. На стол посыпались зеленые. В пуле, в заднем помещении, я действительно увидел женщину, гонявшую шары ручкой от швабры — интересно, она носит швабру с собой или в каждом заведении находит новую? Макс был прав, играла она изумительно хорошо. Я пригляделся и понял, что это Рита Пойнтц, консультант из библиотеки. Через несколько минут она вышла из бильярдной под руку с одной из женщин, на которых ковбои положили глаз.
Я потерял Риту из виду, когда о край нашего стола тяжело ударилось какое-то женское тело.
— П-простите, — успела произнести она, прежде чем заорать диким голосом: — Ё… сука.
Кто-то из дам толкнул ее в зад.
— Убери свои вонючие руки от Дэна! — Это уже выясняли отношения две кассирши из магазина Крогера. Теперь это не были уже две выпивающие подружки. Обожженная перекисью блондинка напустилась на брюнетку, а все мужики повскакали с мест и окружили их.
— Так, так, ну-ка, зубками ее!
— Дай ей по сиськам!
— Ну ладно, детки, на сегодня хватит, — произнес один из ковбоев, мужчина с висячими усами. Думаю, что это и был Дэн.
Но женщины продолжали рвать друг друга и в промежутках награждать увесистыми тумаками. Да, они не только царапались: брюнетка изловчилась и ударила блондинку в живот. Блондинка была крупнее; она ухватила противницу под мышки и с силой притиснула ее к столу, но тут брюнетка пнула ее по голени. Блондинка, как лошадь, встряхнула головой и снова прижала брюнетку к столу, надавив ей коленом на грудь. Потом обтянутое грубой тканью бедро поползло к горлу. Брюнетка, хватая ртом воздух, извивалась, как выброшенный на берег краб. Наконец, она ухитрилась дотянуться до грудей блондинки и крепко их сжала. Блондинка дернулась и ударила брюнетку по лицу. Макс даже встал с места, чтобы лучше видеть, но в это время толпа ковбоев неохотно растащила дерущихся. Блондинка растирала грудь и злобно плевалась. Брюнетка показала ей неприличный жест. Никто из них даже не повернулся в сторону Дэна.
Едва мы снова уселись за стол, как начали драться два ковбоя, только что разнимавшие женщин. Я не видел, с чего началось у этих. Должно быть, что-то носилось в воздухе. Или виной всему было пиво. Драка быстро превратилась во всеобщую потасовку, и я начал вспоминать, как мы сюда вошли.
— Ну, Макс, — сказал я, — давай выбираться отсюда.
— Но здесь только начинается самое интересное. — Затуманенный пивом взгляд Макса с неподдельным интересом уперся в эпицентр драки, где какой-то здоровенный сукин сын только что получил удар стулом по голове. В отличие от подобных сцен в вестернах стул и не подумал развалиться, зато сукин сын как-то осел и распластался по полу. Из пробитой головы потекла струйка крови.
— Тогда дай мне ключи, — сказал я. — Я не собираюсь сидеть здесь и ждать, когда мне вышибут зубы.
— Погоди, я… — Но он не успел закончить фразу, потому что в это время всем по ушам ударил пистолетный выстрел.
Менеджер бара выстрелил из револьвера в потолок. Драчуны застыли на месте, как, впрочем, и все остальные посетители. Я схватил Макса за здоровую руку и, как упирающегося ребенка, потащил к двери, над которой горели красные буквы ВЫХОД. На улице потребовал у него ключи и без промедления их получил, мы отъехали очень быстро, хотя в этом не было никакой необходимости — за нами никто не гнался. Я испытывал двойственное чувство: облегчение оттого, что выбрался оттуда, и сожаление по поводу того, что не принимал в свалке участия. В ней все же было что-то романтическое.
Такими же романтическими были и названия на номерах машин штата Миссисипи: Тишоминго, Язу, Санфлауэр, Итавамба, Чикасо, Юнион, Хамфри, Коагама, Понтоток, Санатобия, Таллахатчи, Чокто… Набери их побольше — и можно писать поэму. Но что означают эти названия? Как чувствует себя человек, родившийся в Начезе и смотрящий свысока на парней, имевших глупость родиться и вырасти в каком-нибудь Гринвилле? На шоссе «Колледж-Хилл» стоит продуктовый магазин с прачечной самообслуживания. На табло всегда горит предсказание исхода следующего матча «Бунтарей», сопровождаемое приличествующей цитатой из Библии. «Победа над „Зверями“ 15: 2. „Бунтари“ разгромят их». На шоссе номер шесть есть заведение «Фонсбис-Хэйр-Уорлд», с огромным волосяным шаром на рекламном щите. Когда я научусь любить Юг? Или хотя бы что-то понимать и прощать?
Я включил автомагнитолу Макса и прослушал конец какой-то древней блюзовой песенки. В большинстве известных мне блюзов поется о мужчине, покинувшем свой дом. Запись была плохая, лиричность песни воспринималась плохо, но кое-что я все же уловил: «Когда я чувствую себя одиноко, ты слышишь, как я стенаю… кто водит мой „Терраплан“ с тех пор, как я ушел… я откину капот, мама… я проверю масло». Следующая песня называлась «Блюз молочного теленка». Пелось в ней о теленке, потерявшем маму-корову. Я оглянулся на Макса, но он вырубился. Я ехал по темной деревенской глуши.
Среди всей этой чуждой мне растительности я чувствовал себя одиноко, подобно скитающейся Руфи. Потом со мной произошло нечто необъяснимое. Я ехал под пятьдесят миль и испытывал муки совести, потому что летевший из-под колес гравий немилосердно колотил по ярко окрашенному кузову «мазды». Мне же казалось, что камни эти летят в нас. Проклятые деревенские дороги. Если увидел на дороге плакат «Начинается дорога штата», пиши пропало. Значит, начинается отвратительная дорога. По обочинам ползет кудзу. Эта темно-зеленая в лучах фар трава забирается на деревья и душит их в своих смертоносных объятиях. На половине этой дороги я вдруг увидел движущееся нам навстречу облако пыли. Оказалось, что это старенький, заржавленный пикап-«шевроле» с покореженными крыльями. На багажнике лежало какое-то непонятное фермерское оборудование, тускло отражавшее мой дальний свет.
Я непроизвольно помахал рукой человеку, склонившемуся над рулем старенькой машины. Он помахал мне в ответ, и я вдруг почувствовал себя необыкновенно хорошо. Я почувствовал себя частью этой жизни, хотя, может быть, виной всему был «Будвайзер». Гравий продолжал лететь в машину, ну и что из того? Мы всегда можем заехать в местную автомастерскую, и если даже машину плохо отрихтуют и покрасят, то у Макса будет очень колоритный автомобиль. Мы и сами станем от этого куда более колоритными. В этой мысли было что-то освобождающее. Я чувствовал себя так, словно какие-то чувства к Югу просто растворились во мне, вместо того чтобы силой пробивать себе безнадежный путь. Наверное, то же самое чувствовал бы космический пришелец, которого местные жители уговорили снять скафандр; и этот гость из космоса вдруг понимает, что вполне может дышать здешним воздухом.
Всю обратную дорогу Макс полулежал на сиденье, прижавшись головой к стеклу, похожий на одинокого туриста. Как всегда, я не знал, о чем он думает. Мне было отчасти жаль его, но это была особая жалость — обычно ее испытывают по отношению к бродягам. На шоссе царил стигийский мрак, но я знал дорогу. Мы ехали домой.
26
Пылкое желание приобщиться к южной жизни улетучилось, как только мы подъехали к дому. Пленка с блюзами кончилась. Было уже поздно, мы оба были пьяны и находились в штате Миссисипи. Макс спал, уткнувшись носом в стекло, и мне пришлось толкнуть его, чтобы разбудить.
— Х-хто это? Хэтти, Дарлин? — Он говорил одним углом рта, как гангстер или как человек, у которого рот залеплен скотчем. Для полноты картины он еще ссутулил плечи.
— Нет, Макс, это я. — Я взглянул ему в лицо. Кости, обтянутые тонкой кожей. Образ жизни в последнее время сдирал с него слой за слоем.
— Я хочу спать здесь. — Он откинулся на спинку сиденья и стал устраиваться поудобнее.
— Не надо этого делать.
Если он останется в машине, часа в три ночи его грубо растолкают университетские копы — посветят фонариком и решат, что это бродяга, спящий в чужой машине. Я вышел из машины, открыл правую дверь и обнял Макса за плечи.
— Идем, здесь недалеко. Я тебе помогу.
— Я устал.
— Знаю. Я тоже устал.
— Я устал от всего; я устал от жизни.
Алкоголь может вознести на вершину, но может и сбросить вниз, и Макс сейчас был в самом низу. Я не стал больше ничего спрашивать, приподнял его и вытащил из машины. Макс оказался на удивление легким. Или, может быть, все дело в том, что я сам за последние месяцы изрядно растолстел. Таща его на плече, я ухитрился пинком закрыть дверь машины и принялся медленно подниматься по ступенькам к крыльцу. На полпути я остановился, чтобы перевести дух. Пару раз он начинал сползать на землю, и мне приходилось удерживать его на весу, прижимая к груди.
Добравшись до двери, я вспомнил, что мне нужны ключи. Я стал рыться в карманах штанов Макса и только секунду спустя сообразил, что ключи от квартиры на одной связке с ключами от машины. Получилось, что я лапаю его за бедра, но он не протестовал. Не знаю, был ли он настолько пьян или просто не желал просыпаться. Оказавшись в квартире, Макс неудержимо двинулся в спальню и поволок меня за собой. Кровать была убрана очень небрежно, из-под покрывала торчали полосы матраца. Пять разбросанных по кровати подушек были измяты самым непристойным образом. Ни один из нас не потрудился включить электричество, но ущербная луна заливала комнату своим молочно-белым светом.
Макс плюхнулся на кровать и раскинул руки и ноги. Я присел на краешек кровати и стал ждать, сам не знаю чего. Когда мои глаза привыкли к темноте, я разглядел эластичный корд, привязанный в изголовье и изножье кровати. Одни концы были стянуты в тугие узлы, другие болтались свободно, как щупальца осьминога. Рулон хирургического пластыря щерился круглой пастью с одной из подушек. На туалетном столике валялась фотография какой-то толстухи, игравшей роль самодеятельной стриптизерши — Хэтти, Мэгги или Дарлин. Я опасливо разглядывал все вокруг, как будто эти вещи вот-вот начнут двигаться. Макс неподвижно лежал на постели в каком-то дюйме от меня. Я дернул один из шнуров, а потом посмотрел на стену. Мне показалось, что Магритт прилеплен к стене скотчем. В какой-то момент мне стало интересно, слышно ли отсюда, что происходит в моей комнате.
Потом я снял с Макса ботинки, аккуратно поставил их на пол и на цыпочках перешел из его квартиры в мою. Сьюзен, свернувшись калачиком, спала у стены. Я разделся и как можно тише заполз под одеяло.
На следующее утро, проснувшись и открыв глаза, я обнаружил, что Сьюзен пристально меня разглядывает. Губы ее были сжаты в тонкую нитку. Потом она открыла рот.
— Ночь с пятницы на субботу. Я сижу дома одна и читаю книгу. Надеюсь, вы оба, ублюдки, получили массу удовольствия.
— Что значит «вы оба»?
— Я видела, как ты садился в машину Макса. И я видела, как вы вернулись. — Она усмехнулась. — Вот уж действительно сладкая парочка.
Я пожал плечами.
— Но он же был совершенно пьян.
— Угу.
Мы все еще лежали в кровати, где на ум приходят самые веские аргументы, но она вдруг встала и принялась нервно расхаживать по спальне.
— Знаешь, я хотела сегодня ночью уйти от тебя.
— Почему?
— Я устала соперничать с Максом…
— Что ты имеешь против Макса?
— Это ты что-то к нему имеешь. Я просто…
— Но Макс не…
— Дай мне закончить.
Стоя, она казалась выше меня, и, несмотря на то что на ней была свободная новоорлеанская футболка и пляжные трусики, выглядела она весьма уверенной и неприступной. Она подошла к краю кровати.
— Я не знаю, что происходит между тобой и Максом, мне нет до этого никакого дела, понятно? Но либо ты будешь обращать на меня больше внимания, либо со всем этим надо кончать. — Она смотрела на меня сверху вниз, ее бедра находились всего в нескольких дюймах от моего лица. У меня было такое ощущение, что она хочет меня либо поцеловать, либо задушить. Я почувствовал себя маленьким и беззащитным.
Может быть, это и есть любовь, подумал я.
— Прости, мне действительно жаль, что так получилось. Все последнее время меня что-то расстраивает. — Я продолжал извиняться и протестовать, оправдывая охвативший меня дурман.
Сьюзен присела на край кровати. Наконец, я вернулся к событиям ночи пятницы.
— Ты не получила бы от этого никакого удовольствия. Думаю, что и нам от всего этого было мало радости. Может быть, так, немного развлеклись.
— И как же именно?
Я вкратце рассказал ей, что происходило в тот вечер, но рассказал с пропусками. Часть вместо целого.
— Я знаю о Рите Пойнтц, — сказала она, когда я дошел до этой части своего рассказа. — Это вообще все знают.
Она взяла меня за подбородок, словно собираясь поднять мне голову и при свете рассмотреть мое лицо.
— Дон, иногда мне кажется, что ты неважно себя чувствуешь. Эта близость с Максом тебе вредит, а не помогает.
— Он — мой друг. — Как всегда, мне было странно слышать в собственном голосе такую напористость.
— Я знаю, — нежно ответила Сьюзен и погладила меня по щеке. — Но как же я? Я же твоя жена, ты помнишь? — Она крепко поцеловала меня в губы.
Я обнял ее, говоря, что с этого дня буду уделять ей больше внимания.
Эта ссора в спальне потрясла меня больше, чем я поначалу думал. Наверное, я действительно проводил непропорционально много времени, наблюдая поведение Макса. Или, наоборот, проводил непропорционально мало времени со Сьюзен. Теперь, когда она работала полный день, мы стали видеться меньше, и это было вовсе не плохо. Проблема тесного, каждодневного и непрерывного общения с другим человеком заключается в том, что при этом требуется тратить массу времени на банальности, по сто раз в день говоря об утреннем кофе, заметке в сегодняшней газете и о необходимых покупках. Макс был резок, но не скучен, а его душевные свойства поднимали навязчивость и одержимость на иной, более высокий уровень.
Итак, я наблюдал и слушал Макса, околдовавшего меня, но старался при этом и не пренебрегать Сьюзен, которая, как ни крути, была мне женой. Иногда я сначала видел одну только Максину, шествующую в чудовищной величины шортах и напоминающей армейскую палатку в футболке, и только потом из-за ее спины скромно появлялся Макс. После того как он убедил Максину в том, что обожает ее тело, она позволяла любовнику делать с ним все, что тому заблагорассудится, иногда на публике. Он похлопывал ее по животу, как по своему собственному; он провожал ее из Бондурант-Холла в библиотеку, держа за ягодицы. Однажды, когда они входили в Бишоп-Холл, он ухитрился так вжаться ей в бок, что они втиснулись в проход одновременно — грудь с грудью.
— Мы сделали это, чтобы создать более совершенное наше единство, — саркастически заметил Макс по этому поводу.
Я присутствовал при этой сцене, и у меня случайно оказался с собой фотоаппарат, и я запечатлел их, прижатыми друг к другу, слившимися в одного зверя с двумя спинами. Когда пленку проявили, я дал им два снимка. У меня до сих пор где-то лежат негативы.
Некоторое время их отношения были проникнуты влюбленностью, но для Максины это был не просто секс. Макс должен был непрерывно хвалить ее художественную натуру, ее артистизм, выражать обожание ее женственностью и вообще холить и лелеять ее эго — по крайней мере, это можно было бы так назвать, будь Максина мужчиной. Что касается женщины, то мне кажется, отношение к ней должно ублажать ее чувство собственной ценности, каковое может съеживаться и расти, как Алиса в Стране чудес. Максина была свято убеждена в том, что она — поэтический самородок, и ее следовало постоянно уверять в этом. Она считала себя блестящей поварихой, но Макс говорил мне, что сам готовит все блюда. Она позволяла себе шутки по поводу плоскогрудых женщин, но я помню, как она однажды, охваченная неподдельным возмущением, выбежала из канцелярии, когда кто-то из наших женщин высказался насчет того, чтобы установить в холле шлагбаум с весами.
Толстые люди, как правило, имеют гениальный или шутовской вид. Вспомните, что говорил Юлий Цезарь по поводу людей, которых он хотел бы иметь в своем окружении. А теперь вспомните, что сталось с Юлием Цезарем. Максина не была интриганкой, но характер у нее был. Однажды, с подачи Макса, она дала мне три своих стихотворения.
— Макс сказал, что вы — талантливый читатель, — решительно сказала она мне.
Никаких извинений за вторжение в чужой дом. Предположение о том, что я талантливый читатель, означало, что я с радостью буду читать хорошие стихи, и вот я их получил. Пришлось читать их исключительно из хорошего отношения к Максу. По большей части стихи Максины представляли собой набор сентиментальных тошнотворных клише, изложенных в форме, которую один из моих бывших профессоров называл пастельной пасторалью. Чудеса природы, внезапная разлука — эклектика, спутанность, иногда претензия на высокий стиль. Единственными интересными строчками мне показались те, которыми Максина описывала свое тело, сравнивая его с пейзажем. Это были и в самом деле до странности трогательные стихи.
Так как я не желал никакой конфронтации, то на обратной стороне написал весьма выдержанный отзыв, на манер тех, какие я писал, оценивая рефераты моих студентов:
«Максина.
Я думаю, что некоторые ваши строчки действительно очень хороши, особенно касающиеся телесных образов; но я бы пожелал вам не останавливаться и двигаться дальше. Мне думается, что вы часто злоупотребляете избитыми штампами, не затрудняя себя выбором подходящего слова. Например, для весны: цветы, солнечный свет и возрождение — все это прекрасно, но этими словами уже пользовались бесчисленные поэты до вас. Вам было бы неплохо почитать Вордсворта.
Думаю, что у вас есть потенциал, и буду счастлив прочесть то, что вы захотите мне дать».
Последние две строчки я вставил для умиротворения. Но Максина ухватилась за упоминание о Вордсворте и пожаловалась Максу, что профессор Шапиро считает хорошими поэтами только мертвых поэтов. И какой прок говорить человеку, что у него есть потенциал, если думаешь, что он уже поэт? Максу потребовалась целая неделя, чтобы убедить Максину в том, что у меня есть одна подкупающая черта, хотя я сейчас не могу припомнить, какая именно. Максина приходила в ярость от любой, самой мягкой и завуалированной критики. Она так и не могла простить Франклину его невинного замечания по поводу жиреющих бездельников, хотя он позже объяснил, что имеет в виду компанию «Юнтон Карбайд».
Макс бодро подхватил эту ложь, отчасти потому, что любил актерствовать, но главным образом потому, что обожал гиперболы, касающиеся объема талии Максины. Но есть другие тропы, способные испортить любую гиперболу, например ирония. Макс мастерски владел и этим жанром, или этот последний владел им, что в конечном счете одно и то же. Но Макс мог лишь контролировать свою иронию, но ни в коем случае не умел останавливать ее поток. Если бы ему дали время, он бы сделал подкоп и под самого себя. Статус Макса на факультете был таким прочным, что он мог позволить себе многое. Но Максина являла собой большую и поэтому особенно беззащитную мишень.
Позвольте мне объясниться. Для Макса целью было не ее тело, но ее сознание. Скажите на милость, сколько раз вы можете послушно принимать всякую дрянь за поэзию? Как часто сможете вы хвалить то, что надо даже не ругать, а просто игнорировать? Однажды я своими ушами слышал, как Макс сказал ей, что ее поэзия ведет в никуда; это заявление немедленно превратило Максину в чудовищного обиженного ребенка. Даже Макс встревожился. Правда, потом он отыграл назад и сказал, что ни один человек не может прыгнуть выше головы и взлететь выше апогея тоже невозможно, но слово было сказано, и оно больно ранило Максину. То была недопустимая небрежность. Когда несколько минут спустя Макс попытался пощекотать ее под мышкой, она захватила его руку, зажав ее между грудью и плечом. Максу пришлось униженно просить отпустить руку на волю.
Летняя сессия ничего не изменила к лучшему. Дела Максины у Джона Финли на кафедре литературы Юга шли не блестяще. Рой Бейтсон отказался взять ее на свой курс писательского творчества. Так как Рой сильно заботился о миловидности своих студенток, то это скорее был плевок в лицо, нежели пренебрежение к писательскому дару. Более того, я слышал, как он признался Элейн Добсон, что вообще не читал писаний Максины. Элейн назвала Роя свиньей, а сама Максина жаловалась, что Джон с головой ушел в свои бракоразводные дела и не обращает на нее того внимания, какого она заслуживает. Большинство из нас испытывало к Максине ту же смесь чувств, что и по отношению к Эрику. Так как их дело было правое, а положение уязвимо, то мы старались их защитить. Но временами казалось, что эта задача весьма неблагодарна. Кстати, Эрик, который 1 июля вернулся в Англию, оставил в доме двенадцать коробок с книгами, предоставив кому-то другому вывозить их из квартиры.
Шестнадцатого июля Максине исполнилось двадцать шесть лет, и она решила отпраздновать день рождения в рыбном заведении «Дарли». Поскольку в Оксфорде она мало кого знала, половина приглашенных были знакомыми Макса. Мы со Сьюзен привезли Элейн и Грега на заднем сиденье. Джина и Стенли сделали большое одолжение, откликнувшись на приглашение, так как Джина испытывала непреодолимое отвращение к низким южным традициям, воплощением коих считала и заведение «Дарли». Как бы то ни было, Джина надела темно-синюю юбку и шикарную шелковую блузку, хотя Грег неоднократно предупреждал ее, что в кафе стоит жирный чад. Были здесь и пять или шесть выпускников, с которыми уже познакомилась сама Максина, включая Дага Робертсона и Бреда Сьюэлла, хотя они сидели в углу, пили чужое вино и весь вечер перемывали косточки Франклину Форстеру. Ни одну из своих бывших женщин Макс не пригласил, но по странному совпадению, когда мы приехали, я заметил там Мэриэн, которая сидела за дальним столом и нянчила в руках чашку кофе. Выглядела она как дух смерти, прячущийся в полумраке. Не думаю, что ее увидел кто-нибудь, кроме меня, а когда я спустя несколько минут оглянулся, ее уже не было.
Максина восседала в центре большого стола, окруженного длинными скамьями, занимая одна по меньшей мере два места. Макс уселся напротив. Единственное, что напоминало о его травме, это немного странный угол, под которым изгибалось его лежащее на столе предплечье. Перелом неправильно сросся. Остальные гости заняли первые попавшиеся места. Мое оказалось рядом с Максиной. За столом была дюжина гостей, и сидели они довольно тесно. Сидели не столько щека к щеке, сколько окорок к окороку. Наши ягодицы образовали нечто вроде одного большого зада. Тело Максины было податливым, но под этой податливостью ощущалась непоколебимая твердость. С такого близкого расстояния она являла собой поистине устрашающее зрелище; ее бедра в два раза толще моих. Она стала еще больше с тех пор, как я в первый раз ее увидел. Я улыбнулся Максине, а она с тревожной улыбкой посмотрела на Макса. Я понял значение ее улыбки и мысленно пожалел Максину. Если женщины Макса начинали так волноваться, это значило, что роман подходит к концу.
С заказом блюд проблем почти не было. В «Дарли» вы можете получить либо порцию рыбного филе, либо блюдо с тремя целиком зажаренными рыбинами, либо все остальное. Для протокола хочу заметить, что в «Дарли» можно было также получить измятые креветки, стейк на косточке и жареные болонские сандвичи, но никто не опускался в эти глубины. В графстве Лафайет существуют непреложные гастрономические законы: у Джеки Пита вы заказываете барбекю, а в «Дарли» вы едите рыбу.
Большинство гостей заказали филе, за исключением Грега, заказавшего целую рыбу, объяснив это тем, что рыба приобретает особенно нежный вкус, если ее жарят с костями. Макс и Максина заказали все, что можно есть. Джина отказалась рассматривать меню — правда, в заведении отродясь не было никакого меню — и объявила, что ей все равно. Когда подошла официантка, Джина поманила ее к себе и попросила принести маленькую порцию салата.
— Тебе не понравится приправа, — предостерег жену Стенли.
— Я знаю.
Вино понравилось ей только потому, что они со Стенли принесли его с собой, правда, бутылкой вскоре завладели наши выпускники. Почти все принесли выпивку с собой, хотя на столе стояли галлонные кувшины с белым зинфанделем, который, на вкус Джины, отдавал крем-содой. Стараясь игнорировать окружение — чем она занималась все последние пятнадцать лет, — она весь вечер тянула из бокала свое шар доне.
Так как это была праздничная вечеринка, то перед тем, как приняться за еду, мы выпили. Прозвучали многочисленные тосты в честь Максины или Макса и Максины, что вызывало у обоих улыбки, хотя и не равно искренние. Макс что-то записал в блокноте, что вызвало явное раздражение Максины. Он велел ей выпить еще стакан вина и сам налил ей и себе. К тому времени, когда принесли филе, выпускники были уже здорово навеселе. Макс пил четвертый или пятый стакан вина «Северная Каролина», привезенного им и Максиной. Они принесли четыре бутылки. Я попробовал, но оно подходило за этим столом только к самому себе. Максина, при всей ее емкости, никогда много не пила, но в этот вечер она напилась, и это дало себя знать.
Алкоголь — очень забавное вещество. Есть множество лекарств, обладающих специфическими свойствами: кофеин пробуждает, валиум успокаивает, но дайте выпить двум разным людям — и вы увидите две совершенно разные реакции. Мало того, алкоголь в разное время оказывает разное действие даже на одного и того же человека. Например, Макс, обычно веселый выпивоха, начал язвить после четвертого стакана, а Максина, которая, будучи трезвой, держала глухую оборону, стала огромным отупевшим десятилетним ребенком.
— У нашей поэтессы сегодня отменный аппетит, — начал Макс.
Максина неуверенно кивнула, не понимая еще, куда он клонит.
— Она съедает по одной рыбине зараз, — добавил он.
Она застыла с вилкой, не донесенной до рта.
— Ты, между прочим, тоже заказал все, что сможешь съесть.
— Давайте я налью вам еще вина, — пробормотал я и наклонил горлышко ближайшей бутылки к стакану Максины.
Эта сцена могла бы вызвать неловкость, не будь мы все изрядно отупевшими сами. В нескольких местах от меня Грег пустился в дискуссию с Элейн. Они обсуждали форму и размеры южного картофеля фри. Выпускники превратились в студентов-первокурсников и вели себя соответственно. Джина мрачно мяла кочанный салат, нервно глядя, как ее муж разделывает рыбью тушку.
— Я сегодня написала новое стихотворение, — храбро объявила Максина.
— Вот четверть века миновали… и в пропасть канули времен. — Макс произнес это профессионально-декламаторским тоном.
— Где ты это прочитал? — Она была обескуражена. — Я его еще никому не показывала.
— Такие стихи пишет каждый, кому миновало двадцать пять. Это стихотворение из нортоновской антологии хорошо выдержанных образов.
Упершись в стойку стола, Максина принялась рыться в сумочке.
— Я думала, что положила их сюда…
— Чтобы оплакать то, что было… скажи, разве это преступление?
— Куда я его дела? — Она жестко посмотрела на Макса. — Куда ты его дел?
Он встал, чтобы декламировать.
— Отдай же мне свои усталые, несчастные, зарифмованные стихи — они заслуживают того, чтобы выпустить их на свободу! — Он обошел стол и оказался за широкой спиной Максины.
Она повернулась к нему, что было равносильно подвигу на такой скамье. Ее груди упокоились на моем плече, давя на него своим невероятным весом.
— Где мое стихотворение?
Макс сунул руку в задний карман, извлек оттуда блокнот, а из блокнота сложенный лист бумаги.
— Это и есть то, что ты ищешь?
— Отдай! — Она протянула свою коротенькую толстую руку, но он отпрыгнул, оставив ее с протянутой рукой и в очень неустойчивом положении. Какой-то момент казалось, что она сейчас опрокинется, но Максина сумела зацепиться своими икрами за мои ноги. Я ухватился за стол, и общими усилиями нам удалось усидеть на месте.
Она резко встала, рычаг ее исполинского бедра едва не опрокинул стол. Качающейся походкой она направилась к Максу, прислонившемуся к деревянной стойке, поддерживавшей потолок.
— Ты — вор и… и плагиатор!
— Плагиатор? Неужели цитата из этого… есть плагиат? — Он, дразня Максину, помахал в воздухе листком.
Когда она на этот раз потянулась за стихотворением, Макс спрятал его за стойку, рассчитывая, что она не дотянется до него своей короткой рукой. Но она просто прижала Макса к столбу всей своей гигантской массой. Ее огромные груди поглотили его крохотную грудную клетку, торс исчез в немыслимом объеме ее живота. Они боролись — как всем показалось — довольно долго, хотя на самом деле прошли какие-то доли секунды. Наконец, Максу удалось выпростать руку, и он пощекотал Максину под мышкой.
Она тотчас отпустила его, и он снова приник к ее спине и звонко поцеловал в щеку. Потом протянул ей стихотворение.
— Я прошу прощения, — остроумно произнес он.
— Поцелуй меня в жопу.
Я не могу передать, с каким выражением это было сказано — я обернулся с такой амплитудой, что едва не упал сам, — но Макс присел на корточки и дважды чмокнул титанический зад — в обе ягодицы поочередно. Он задержался в согбенном положении, щедро лаская толстые, как секвойи, бедра. Вид его угловатого лица, прижатого к чудовищным мягким «щекам», вероятно, пребудет в моей памяти вовеки. Потом он сложил листок со стихотворением и сунул его в задний карман ее джинсов, едва не застряв там пальцами.
«Не обижайся. Я ворую только то, что мне нравится», — сказал он ей, и это немного смягчило Максину.
Он наполовину солгал: он воровал и то, что было ему ненавистно. Но теперь ему удалось снова усадить ее за стол, и вскоре появился торт, испеченный Элейн и принесенный в старой шляпной коробке. Это было ангельское кулинарное творение, украшенное апельсиновым мороженым и буквами М и М — Макс и Максина. Его подарок, намекнул Макс с похотливой улыбкой, ждет Максину в его квартире. У нас еще осталось немного вина, включая одну бутылку, о которой мы совсем забыли, и поэтому мы выпили еще. Теперь звучали вполне приличные тосты с пожеланиями на следующий год.
Потом Макс, наконец, заметил Мэриэн, сидевшую где-то в глубине зала. Должно быть, до этого она надолго отлучилась в комнату отдыха. Он остекленело уставился на нее, а потом приветственно поднял бокал. Она ничего не сказала; она просто смотрела на него всевидящим и всезнающим взглядом. Посмотри, от чего ты отказался, красноречиво говорили ее глаза. Посмотри на себя, чем ты стал. Посмотри, что с тобой происходит.
Никто не произнес ни слова. Казалось, притих весь ресторан. Макс резко повернулся к Максине, словно только теперь приняв окончательное решение. Он снова поднял свой полупустой бокал.
— За богиню плоти, — провозгласил он, похлопывая ее по ее пухлости, — чьи глубины до сих пор не изведаны ни одним мужчиной.
Максина покраснела от такой похвалы, а Макс принялся возносить новые пространные хвалы ее физическим чарам и достоинствам. Тост был увенчан тем, что Макс предложил им заняться любовью здесь, на столе, и Элейн, не выдержав, назвала Макса тупым ублюдком. Это была ошибка, ибо она спровоцировала его на то, что он начал рассказывать любопытные факты из жизни ее бывшего любовника Натаниэля, чем весьма удивил всех нас, в особенности знанием финансовых аспектов той связи.
— По крайней мере, я получил Максину бесплатно! — кричал он на весь зал. Выпускники несколько оживились. Мэриэн молча наблюдала происходящее.
Кто-то должен был заткнуть Максу рот, но кто? Сьюзен позже рассказывала мне, что то и дело пинала меня под столом по ноге, но я либо не почувствовал этого, либо подумал, что кто-то толкнул меня случайно. Как бы то ни было, но Макс знал обо всех все и был намерен злобно все это выплеснуть. Он сорвался с цепи. Он вещал о связи между вдохновением и эякуляцией, постоянно щупая при этом толстую руку Максины, словно перезрелую дыню. Было трудно сказать, на кого он больше злится — на нее или на себя, но оскорблял он мастерски. Он был пьян, они оба это понимали, и это вызывало у него растерянность. Но ее покорные телячьи глаза, видимо, распалили его окончательно, и он снова принялся рассуждать о поэзии. Особое внимание он уделил тому, что назвал школой стихосложения Максины Конклин.
— Я всегда понимаю, что я вижу, — объявил он. — Эти стихи находятся где-то на полпути между посредственностью и ничтожеством.
Максина оцепенела на скамье — это совершенно особое состояние у таких толстых людей.
— Это твое настоящее мнение? — медленно выговаривая слова, спросила она.
Макс, взлетевший в выси за пределами всякой иронии и притворства, ответил просто и незатейливо:
— Да.
Максина встала из-за стола и взяла его за травмированную руку.
— Мы идем домой, — спокойно произнесла она.
— Боже, конечно, домой! Пойдем ко мне домой и займемся сексом, гигантским, исполинским сексом!
— Там ты будешь в полной моей власти.
С этим они ушли. Максина толкала Макса перед собой к жирной раздвижной двери, а он шатался и кричал:
— Поберегитесь! Дорогу!
Это было около полугода назад, но я до сих пор помню плотоядный взгляд Макса и выпяченную нижнюю губу Максины, одна его рука в ее ладони, а другой он пытается обхватить огромность ее пояса. Я до сих пор слышу хруст гравия, когда Макс и Максина отъезжали в ночь.
— Ну что ж, счастливого дня рождения, — пробормотал один из выпускников, приканчивая последнюю бутылку вина.
Было ясно, что пора домой. Мы вскоре уехали, предварительно развезя по домам Элейн и Грега. Я сам устал и чувствовал, что много выпил, но сознание у меня было ясное и озарялось одной-единственной мыслью: невероятной сценой сексуального сношения между Максом и Максиной. Мне уже грезилась эта обнаженная плоть, перекатывающаяся, как студенистый шар, по пружинному матрацу. Когда мы вернулись домой, я сказал Сьюзен, что мне надо кое-чем заняться в кабинете. Она настороженно взглянула на меня, но ничего не ответила и принялась стелить постель. Я закрыл дверь и приник к стонущей стене. Я был слеп, но не глух.
— Подними руки вверх, — услышал я голос Макса, потом раздался неразборчивый ответ Максины, а потом контрприказ Макса: — Нет, вот так.
Кровать противно заскрипела. Я знал, что это бесполезно, но заглянул в дырку.
О боже, она оказалась открытой. Макс, без рубашки, стоял перед Максиной, стараясь снять с нее лифчик и блузку одновременно. Задача не из легких, даже если женщина изо всех сил этому помогает, а движения Макса были весьма вялыми. Наконец, ему удалось расстегнуть пуговицы блузки и все три крючка лифчика, но у него не хватало длины рук, чтобы сделать последний рывок. Блузка разошлась впереди, обнажив живот — такой огромный, что казалось, он мог держаться самостоятельно, независимо от остального тела. Но блузка застряла под мышками и никак не хотела сниматься. Тогда Макс обошел Максину кругом и сдернул блузку сзади. Груди, больше похожие на две горы, сдерживаемые до того бюстгальтером, скользнули вниз, как бесшумная снежная лавина. Макс взасос поцеловал ее в левую грудь, а Максина потянула его к себе, на себя, в себя.
В последний момент он отпрянул.
— Рано! — огрызнулся он.
— Перестань распоряжаться. И — ой! — прекрати щипаться!
Макс ущипнул ее за бок.
— Не нравится? Но ты же знаешь, что делать. — Он самодовольно ухмыльнулся, снова ущипнул ее и сильно толкнул.
Максина сморщилась, переместилась к изножью кровати и подобрала что-то — я не видел что.
— Дон… Дон!
Я оторвался от отверстия. Голос раздавался из спальни. Моей спальни. Меня звала моя жена.
Я ничего не ответил. Что я мог сказать: что боюсь что-то упустить? Меня могли неправильно понять по обе стороны стены. И я не сказал ничего. Через мгновение раздался стук в дверь. Я вставил на место затычку, поправил картину и взял со стола несколько листов какого-то текста.
На пороге стояла Сьюзен в голубой ночной рубашке.
— Ты идешь спать? — Она уперла руки в бедра. — Или я лишаю тебя какого-то удовольствия?
— Нет. — Я вышел из кабинета и плотно прикрыл за собой дверь. Показать нерешительность было смерти подобно. — Я как раз собирался идти к тебе.
— Отлично, — холодно произнесла она, ведя меня по холлу.
Сначала мне трудно было двигаться. Ноги мне не повиновались, они не желали идти в спальню. Дух моего тела покинул меня — черт, даже не он, а мое либидо, которое осталось витать в кабинете. Но, как ни странно, стоило мне войти в спальню, как мною овладела страшная сонливость. Мне казалось, что передо мной опускается тяжелый, непроницаемый серый занавес. Я натянул пижаму, ничего перед собой не видя. Я даже не помню, как лег. На следующее утро я проспал до девяти часов. Помню, это был ясный солнечный день.
Вот и все. Это история Макса, какую я знал сам. Остальную часть его истории я узнал из доклада следователя.
27
В полиции Максина сначала отказалась говорить. Но когда Элейн навестила ее в камере, она, рыдая, рассказала, что произошло той ночью. Они занимались сексом, занимались как всегда. Ритуал предусматривал связывание Максу рук за спиной липким медицинским пластырем и стягивание лодыжек эластичным шнуром. Оба они в это время были чрезвычайно пьяны. Она притянула Макса к груди и сильно прижала, а потом стала вести его лицо вниз, по своему мягкому животу, а потом зажала его голову бедрами. Она удерживала его лицо ягодицами, сидя верхом на голове, а он кричал: «Еще!» Потом она отключилась.
Придя в себя, Максина увидела, что задушенный Макс все еще лежит под ней. Раздавленный. Церемонно пригвожденный к кровати сотнями фунтов женской плоти, не давшей ему ни высунуться, ни даже отодвинуться в сторону. Он пьяно брыкался, слабел и в конце концов лишился жизни под этими скользкими, раздутыми ляжками… Омерзительное торжествующее распятие.
«Преподаватель истории умер от несчастного случая» — таким был заголовок заметки в «Дейли Миссисипиэн», как всегда изобиловавшей опечатками, без фотографий и короткой, как надпись на могильной плите. В это время Максина проходила психиатрическую экспертизу в Джэксоне, где ее время от времени навещали несколько человек. Один из них Грег — он католик и поэтому чувствовал себя виноватым в случившемся. Ездила к ней и Элейн, которая была склонна считать Максину жертвой. Максина была немногословна с Грегом, больше говорила с Элейн, которая старалась найти ей хорошего адвоката. Но именно Грег испек для нее арахисовое печенье и убедил ее поесть, как только к ней вернулся аппетит. У меня он, кстати, тоже пропал, и вообще чувствовал я себя чертовски плохо.
Я решил, что навещать Максину — свыше моих сил, учитывая все обстоятельства и мои отношения с Максом. Хотя я так и не поехал к ней, она сама являлась мне довольно часто — во сне. Она сидела верхом на мне, сверкая, как полная луна, сжимая меня своими бимсами всякий раз, когда я пытался выбраться из-под нее и убежать. Бывали ночи, когда я просыпался с подушкой на лице. Я стал спать отдельно от Сьюзен, так как не мог ни простить ее, ни рассказать, что она сделала. Если бы я досмотрел сцену до конца, если бы я увидел, что происходит, я бы смог что-нибудь сделать до того, как стало слишком поздно. Но все «если» остались в прошлом, осталось настоящее, которое я с трудом переживал. Оставалось глубоко дышать и ждать, когда пройдет время, которое, как известно, все лечит.
Следователь в своем рапорте указал, что у Макса было сломано предплечье. Учитывая состояние Макса, это обстоятельство вызывало вопросы. В этом деле вообще было много неясного. Сначала правосудие штата выдвинуло обвинение в преднамеренном убийстве в пылу страсти. Для установления вероятных поводов были назначены предварительные публичные слушания. Обсуждались следующие варианты: непреднамеренное убийство, преступная небрежность, а также принуждение к самоубийству. Максина не могла или не хотела говорить, но до предъявления обвинения дело так и не дошло. Обвинение было снято за отсутствием улик и отчасти, как мне кажется, из простого смущения. «Отвратительное и омерзительное преступление законов природы». Так гласит антисодомитский закон штата Миссисипи, и в этом есть нечто нематериальное. Была даже мысль посмертно обвинить Макса в сексуальном насилии. Особенности этого дела, какими бы туманными они ни были, весьма странно подействовали на многих людей.
Через две недели после того, как с Максины были сняты обвинения, я встретился с Мэриэн, выходившей из Брайант-Холла, где она преподавала летний курс по искусствоведению. Она вновь обрела часть прежней живости — во всяком случае, с тех пор, как я видел ее в последний раз. Была ли эта живость обусловлена духом или плотью, я сказать затрудняюсь. По крайней мере, за это время она не похудела. Было излишним спрашивать, знает ли она о Максе: инцидент, связанный с этой смертью, не мог вечно оставаться под спудом. Но в университете были мощные силы, которые были заинтересованы в его сокрытии — от канцлера до многих более мелких администраторов. Постепенно дело это приобрело характер замятого скандала.
— Полагаю, вы слышали о Максе? — зачем-то спросил я.
— Конечно. — Она изменилась в лице. — Два дня назад я была у Максины.
— Вы у нее были? — У меня, как говорит Сьюзен, опустилась челюсть. — Зачем?
— Я должна была это сделать.
Кивнув, я сделал вид, что понял.
— Вы узнали, что хотели.
— В какой-то степени да. Но ей не разрешают много откровенничать.
— Но сильно ли она нуждается в этом?
— Вы не уловили сути, Дон. Ее подталкивали. — Она положила руки мне на плечи, и я подумал, что она хочет меня обнять. Хватка ее усилилась. Она приблизила ко мне свое лицо. — Если вы будете толкать человека слишком сильно, он в конце концов толкнет вас, и толкнет сильно. — Она оттолкнула меня, но не отпустила мои плечи. Для женщины такого роста и комплекции у нее были сильные руки, но, конечно, это была далеко не та Мэриэн, какую я знал раньше. В прежние времена она была куда больше.
— Так вы думаете, Максину подтолкнули?
Да, конечно, таки было, но что из этого? Многих людей в этой жизни подталкивают, но не все совершают убийство. Или принуждают к самоубийству.
— Или вы думаете, что Макс подтолкнул ее специально?
— Вы знаете это не хуже, чем я. — Она отпустила мои плечи. — Как вы думаете, почему ее отпустили?
— Вам нисколько не жаль Макса?
— Было жаль. Но это было давно и прошло. Сейчас я думаю, как был счастлив этот сукин сын. Он получил то, что хотел, верно?
Я не нашелся что ответить, и она, потрепав меня по волосам, пробормотала:
— Бедный Дон.
Произнеся это, она ушла.
Что еще могу я вам рассказать? Все, что угодно, но не цельную историю. Проблема заключается в том, что критики называют позицией рассказчика, а позиция эта имеет свои ограничения. Она ограничена тем, что рассказчик делает, видит, чувствует, или тем, что он хочет описывать, а что — нет. Я занимаюсь этими аспектами литературы, зарабатывая себе на жизнь. Я могу распространяться на эту тему на двухчасовом семинаре, а могу написать двадцатистраничную статью, смотря по тому, что мне закажут сначала. Но совершенно иное дело — рассказывать историю самому. Что я знаю и когда я ее узнал; как можно полагаться на это, если ретроспективно я с самого начала знал ее омерзительный конец?
Думаю, мне нет нужды вдаваться в подробности этого случая. Полицейские допросили всех нас, и некоторые старались отвечать то, что знали. Но я не стал этого делать. Все, что я могу сказать, — это то, что после всех попыток прокуратуры штата выдвинуть формальные обвинения все они были внезапно сняты. Возможно, это связано с бывшими женщинами Макса, которые наведывались потом в его квартиру и привлекались для допроса. Допросили, в частности, некую Донну, ту самую, которая душилась духами оделанфер и привязывала мужчин к титанической щели между двумя своими грудями. Или, например, Хэтти, которая засовывала во влагалище конфеты, а потом заставляла мужчин их есть. Я не скажу, что в сексуальном плане Макс был больше унижен, чем его добровольные партнерши. Максина прошла курс психотерапии и, насколько я знаю, продолжает лечение у себя дома, в Висконсине. Элейн, видевшая Максину перед ее отъездом из Джэксона, говорила, что та потеряла семьдесят фунтов и вырабатывает свой новый имидж. Я сам этого не видел.
Кафедра истории наняла нового ассистента, и со временем квартиру С-7 занял бородатый, желтоволосый мужчина по имени Оливер Энфилд. Это был вежливый и приличный человек, с особой приветливостью обращавшийся к Сьюзен. Он был настолько любезен, что я думал, не ухаживает ли он за ней; я думал так до тех пор, пока Сьюзен не сказала мне, что он гей. Кажется, женщины разбираются в этих вещах лучше, чем мы, мужчины, но, может быть, это и не так, потому что вскоре с ним стала ходить Элейн. Ходить — такой фигурой речи мои студенты часто обозначают узловую проблему всей мировой литературы.
В качестве сноски: наняв частного агента, Мэтты, наконец, выследили свою дочь Черил, которая все это время жила в Мемфисе. Она не поступила в бордель и даже не жила во грехе, а устроилась работать официанткой. Родители настаивали, чтобы она осенью вернулась в университет, и отец позвонил мне, чтобы я помог ему убедить Черил. Боюсь, что я был груб с мистером Мэттом, но думаю, что он это переживет.
Вилли Таккер вместо университета попал в августе в госпиталь. Как раз перед самым началом осеннего семестра. Сиделка одела его для прогулки и на время оставила одного. В этот момент в сосуды легких попал кровяной сгусток. Вилли начал задыхаться, потерял сознание и упал. Сиделка обнаружила его в таком состоянии десять минут спустя, и больного тут же отправили самолетом в Мемфис. «Вилли — настоящий боец, — заявил в интервью „Дейли Миссисипиэн“ его бывший товарищ по команде. — Он преодолел одну беду, преодолеет и другую». Парня прооперировали и удалили сгусток, и в течение недели наша газета печатала бюллетени о состоянии его здоровья. Но сознание к Вилли так и не вернулось, и он умер от легочной инфекции на следующий день после своего двадцать первого дня рождения. Так как фонд Вилли Таккера стал известен в общенациональном масштабе, его смерть была достойна колонок новостей, и даже «Нью-Йорк таймс» опубликовала некролог. Эта смерть вызвала массу разговоров, затмив жалкий конец Макса.
Так Макс был вычеркнут из памяти города. Никаких больше новостей. Но смерть не останавливает литературоведов (если не считать их собственной кончины, но даже и в этом случае многие из них умудряются публиковаться посмертно). Действительно, только после смерти писателя можно написать его полноценную литературную биографию, то есть тогда, когда открываются его частные архивы. Несколько месяцев назад произвели уборку в кафедральном кабинете Макса. Там было немного вещей: несколько книг, экзаменационные работы и ежедневник, такой же, какие администрация университета раздавала всем преподавателям. Я видел, как швейцар в присутствии Генри Клея Споффорда укладывал эти вещи в большую картонную коробку.
Страницы ежедневника были девственно чисты — я объяснил, что Макс вообще редко работал в кабинете. Споффорд взял ежедневник двумя пальцами и бросил в коробку. Он все делал так, словно на нем были белые перчатки. Он подозревал Макса с самого начала и никогда этого не скрывал. В конце они занялись ящиками стола, нашли в них блокнот, варган и связку резиновых жгутов. Ящики разбухли от сырости и открывались с трудом, а средний ящик не открылся и после неоднократных попыток его выдвинуть. Было решено, что покойный им никогда не пользовался.
Швейцар собрался закрыть кабинет.
— Вы хотите остаться? — спросил он у меня.
Я колебался, сам не знаю почему. Споффорд посмотрел на швейцара и пожал плечами, тот посмотрел на Споффорда и тоже пожал плечами.
— Ладно, я просто прикрою дверь, а вы потом ее запрете.
Они вышли из кабинета, волоча между собой ящик, который едва ли весил больше пяти фунтов. Медленные шаги удалялись в сторону Бишоп-Холла. Я подсознательно надеялся, что найду в этом кабинете что-нибудь, какой-нибудь знак, какой-нибудь сигнал Макса с того света. Было жарко. В воздухе висела нестерпимая духота. Я смотрел на стол до тех пор, пока мне не показалось, что он тоже на меня смотрит. Я очень хорошо помнил, что однажды видел этот средний ящик наполовину выдвинутым. Я решительно шагнул к столу и рывком потянул ящик на себя. Он не поддался. Когда я попробовал открыть его еще раз, то заметил, что он не задвинут до конца, а значит, его можно подтолкнуть снизу и одновременно потянуть снаружи. Я опустился на колени и толкнул. Как только я это сделал, ящик поддался и выкатился из стола легко, словно на колесиках. В нем лежала тетрадь, скрепленная красной спиральной проволокой. На обложке было крупными печатными буквами написано «ЗАМЕТКИ».
Меня всегда интересовало, что делает Макс со своими записями на листочках бумаги. Написанное всегда должно быть зафиксировано и сохранено. Правда, зная Макса, я думал, что он вообще не оставил после себя никаких заметок, полагаясь на вдохновение и память. Он был странным психологическим сочетанием анальной экспульсивности с анальной ретенсивностью; человеком готовым испускать энергию, бросаться на стенку, но одновременно держал себя на коротком поводке, концентрировался и тщательно готовился к подходящему моменту, который мог никогда и не наступить.
Я видел в Максе сексуального художника.
Заперев дверь, я сел на стул Макса и начал читать. Не знаю, как назвать эти записки; они представляются мне смесью наблюдений, эпиграмм, интерпретаций, каламбуров — чистых и двусмысленных, вступлений к эссе и даже нескольких изобретательских идей, например программируемый бамперный стикер, содержание которого можно менять, в зависимости от настроения. Это была пестрая смесь, всякая всячина, винегрет, мешанина. Короче говоря, заметки. Именно то, что Макс все время записывал на клочках бумаги. Но теперь Макс был мертв. Я чувствовал, что вступаю в права наследства.
Вот часть его записей:
И Слово стало плотию. Иоанн, 1: 14.
И вот я снова здесь, сижу и жду, когда свалюсь кому-нибудь на голову.
Здесь много силы, связанной религией. Часть этих сил имеет сексуальную природу. Идеальный пример: непорочное зачатие: noli me tangere[20]. Если бы я был Богом, то трахнул бы Марию так, что из нее полезли бы кишки.
Сатириаз неизлечим. Но в чем суть болезни?
Что бы случилось, если бы все люди стали одинаковы анатомически?
Bleibtheit. Embonpoint. Zei-niku.
Мне нравится Юг. По-настоящему нравится. Нет лучшего места, где можно было бы скрывать столько разных вещей за набором хороших манер. В этом отношении Миссисипи — самое соблазнительное место, какое я когда-либо видел.
Мэриэн — отработанный пар. Она неправильно ест и отличается неверным отношением к жизни. Не стоит переживать: посмотри на нее как на хорошее начало.
Дон умен, но слишком академичен. Он такой, каким я поклялся не быть никогда. Мои чувства по отношению к нему очень трудно выразить. Пожалуй, это мое одетое в черный костюм суперэго. Я никогда не могу знать наперед, сколько времени я могу с ним говорить, но Бог видит, что разрушил множество барьеров. Но не все. Примечание: не знаю, замечает ли Дон, что полнеет, или понимает ли он, зачем Сьюзен его откармливает. Или здесь проявляется моя злокозненность?
Можно ли пыткой принудить душевнобольного признать что-либо осмысленным? Можно ли заставить психопата ощутить эмоции или разбудить кататоника болевым стимулом? Что случится, если столкнуть двух душевнобольных?
Перед тем как заняться этим прошлой ночью, я нанес на лицо немного макияжа Мэриэн. Это заставило меня почувствовать себя рабом. Она сказала, что это извращение, а я ответил, что в этом-то вся суть.
Часть вместо целого: определение фетиша.
Трибадизм: сексуальный акт между лесбиянками, удушение — вот полезное слово. Попробовать его на Доне?
Как может быть плоть столь бесчувственной и одновременно столь соблазнительной?
В праздники Холли носила тесный пурпурный пуловер. Она в нем выглядит как рождественский пудинг, а я рядом с ней как длинная ложка.
Когда меня связывают, я чувствую себя уверенно и надежно. Я люблю шпунты на педалях велосипеда, ремни безопасности в «камаро» Мэриэн, пеньковую веревку, которую я однажды дал Холли, чтобы она ею воспользовалась. Но нет ничего лучше эластичного шнура, он позволяет ощутить рывки к свободе.
Причина того, что мои коллеги с кафедры истории столь скрытны, заключается в том, что им нечего скрывать. Если спрятать свечу в кувшин, она даст немного света, поэтому я и отказываюсь это делать.
Историки, которые сравнивают, проводят более интересный анализ, чем историки, которые выделяют контрасты. В конце концов, и яблоки и апельсины в равной степени фрукты.
Традиционно гениями считают людей, пораженных одной-единственной манией, они способны сконцентрироваться только на одном предмете, совершенно отключаясь от других. Шахматный гений ничего не смыслит в бейсболе, поэт не утруждает себя хождением на выборы, а Эйнштейн привычно не знал, куда он дел свои очки. Но что сказать о другом роде гениев, о людях, талант которых постоянно перемещается в поисках энциклопедического знания? Или, например, о редчайшей породе, о тихих и спокойных людях, которые в юности, обнаружив, что они записные гении, просто решают не пускать под откос свою жизнь и не реализуют гениальность. Очень плохо, что историки признают только первый тип.
Кто сломал шею Таккеру? Мне очень хотелось бы это знать.
Проехать тридцать тяжелых миль на велосипеде — это очищение, обнажение, искупление, испытание, которое тело предлагает духу. Но тем не менее этот способ легче, чем старые рецепты умерщвления плоти.
Все обманывают. Но каковы этические следствия этого?
Мужчина: «Я никогда никого не целовал». Женщина: «Меня никогда никто не целовал».
Толстуха; см. Пикник.
Преследую ли я свои сны, или они преследуют меня? Куннилингус до невозможности приближает к повторному рождению. Я бьюсь головой в ворота.
«Не волнуйся, у меня чистый нос».
«Я волнуюсь отнюдь не за эту часть твоей анатомии».
Никогда, никогда больше никаких дел со студентками. Запретный плод, может быть, и сладок, но он смертельно опасен. Как преподаватель «Оле Мисс», я не собираюсь делать ту же ошибку, какую совершил, будучи ассистентом в Колумбийском.
Уверен, что вместо этой ошибки я сделаю какую-нибудь другую.
Идея: создать кафе, где готовили бы кофе из обжаренных при клиенте зерен и продавали по достойной цене. Стоит ли поговорить об этом с Энди из «Полька-Дот»?
История чарует меня, потому что это длинный список мерзостей, злодеяний и жестокости. То же самое верно в отношении литературы. Добродетель — предмет детских сказок.
Воин выискивает слабые места противника и атакует их.
Любовник выискивает уязвимые места возлюбленной и ласкает их.
В чем разница?
Адам из «Потерянного рая» вначале чувствует себя Богом, а потом ощущает себя как в аду. Мы все испытываем подобные чувства, но не считаем себя героями, достойными эпоса. Что-то в этом роде мог бы, пожалуй, сказать Дон.
Дон слишком озабочен тем, чтобы дать точное определение тому, чем он занимается. Литература — очень туманная область между языком и реальностью.
Потогонное: для озабоченных отсутствием пота.
Она научилась танцевать, чтобы трахаться в общественных местах.
В Карвилле, Луизиана, существует последний лепрозорий в Соединенных Штатах. У меня есть фантазия: поехать туда с Холли и заняться с ней сексом в одной из палат.
Единственный способ, каким люди могут причинить мне боль — такую, какую я хочу, — это если я первым причиню ее им. Не думаю, что это оставляет мне много шансов. «Делай другим то, что хочешь, чтобы другие делали тебе».
Почему Элен пользуется одним и тем же естественным отверстием для того, чтобы есть, и для того, чтобы петь? Все же в человеческом организме явный дефицит естественных отверстий.
Я просто чрезмерно растянут любовью.
Некоторые люди хотят интима и поменьше разговоров; другие хотят иметь супругу и двоих детей; некоторые хотят проводить жаркие ночи по субботам. Моя идея о совершенных отношениях абсолютно не выразима словами.
Vagina dentate, влагалище с зубами — прабабушка всех страхов кастрации. Итак, снова туда, в пасть льва.
Если юмор агрессивен, то почему мы смеемся чужим шуткам?
Внутри каждой худой женщины прячется толстая. Она стремится вырваться наружу, явить свою фактуру, свое естество. Я сказал об этом Мэриэн, но она подумала, что я пошутил.
Недостаточно только прижиматься и тереться друг об друга. Слияние плоти — вот в чем суть эротики. Я мечтаю стать частью живота Мэгги, заполнить собой бедра Сильвии. Сложить зверя с двумя спинами — это только первый шаг в верном направлении. Я хочу быть внизу, внутри. Я хочу раствориться полностью.
Как только Биби выключает душ, я заползаю в ванну и во весь рост ложусь между ее сильными жирными бедрами. Однажды она устроила мне золотой дождь, но это так смутило ее, что я был вынужден обратить все в шутку. «Знаешь, ты меня действительно как кипятком обдала», — сказал я.
Продолжаю совершенствовать технику щекотки.
Если бы я был суеверен, то попросил бы брата Джима наслать на меня ведьм. Или захотел бы этого. Но что еще можно ожидать от богобоязненного христианина? Как бы то ни было, он заблуждается. Лучше сгореть, чем жениться.
Огромная задница Марджори — это одно из естественных чудес света. Я испытываю почти непреодолимое желание выбить на ней надпись «КОНЕЦ».
Отказ перенести намного легче, чем принятие; например, это касается возврата посланной в журнал статьи. Вот оно — ты сделал, а теперь попытайся еще раз. Принятие, напротив, тянет за собой массу хлопотливых переговоров.
Афоризмы — это легкие крупицы человеческого опыта, но я все же нахожу их привлекательными.
Дон:
а) потрясающе наивен;
б) крайне чувствителен;
в) и то и другое из перечисленного.
Она — моя с коровьими икрами, толстобедрая, мягко-податливая, широкопоясная, жирнопузая, большезадая, грудастая и мягкоплечая ладья мечты.
Сильвия, 215 фунтов; Марджори, 223 фунта; Александра, 157 фунтов; Мэриэн, 169 фунтов (в свои самые пышные времена); Холли, 187 фунтов; Элен, 214 фунтов; Биби, 230 фунтов (?); Хэтти, 267 фунтов. Я должен преодолеть барьер 300 фунтов. Я мечтаю о женщине, которая была бы такой тяжелой, что едва могла бы двигаться.
Разница между женским и мужским мазохизмом та же, что разница между пассивным страданием и голосом вопящим: «Выпори меня!»
Идея рассказа: мальчик растет в пригороде Нью-Йорка, хорошо упитан, хорошо воспитан и неплохо образован. Во время перемены на него набрасывается толстая девчонка. Она догоняет его, хватает и садится на него верхом. Пять лет спустя он начинает неистово качать мышцы в спортивном зале.
Слишком прозрачно и очевидно? Нет, это просто автобиографично.
Правда заключается в том, что я, несмотря на то что непрестанно думал об этом, никак не могу понять, почему полнота и изобилие плоти вызывают у меня такое сильное сексуальное влечение. И почему это влечение стало непреодолимым здесь, на Юге? Правда, в таком влечении больше смысла, чем в страсти к нехватке. Избыток сексуален; недостаток разочаровывает.
Распухшие дни, тяжелые ночи.
Для начала я легонько пробежался указательным пальцем вверх и вниз по ее голой руке, миновал сгиб локтя, каждый раз забираясь все выше и выше. Это немного щекочет, но при этом воспринимается очень чувственно. Когда я добираюсь до пухлой плоти между плечом и грудью, она начинает дышать как паровой двигатель. Я веду ее к постели, мои руки ласкают ее необъятную грудь. С этого момента она моя. Я могу наступить на нее, и она будет лишь слабо стонать в ответ. Наклонившись, я нежно снимаю с нее рубашку и штаны, словно снимая покрывало с огромной скульптуры из живой плоти. Мне приходится обхватить ее руками, чтобы снять бюстгальтер и трусы. Звук эластичных шлепков резинки по ее бесконечным бокам сводит меня с ума.
С этого момента я в ее власти.
Она устраивается в кровати, тихим рокотом просит меня приблизиться, прийти в ее объятия. Я повинуюсь. Потом она захватывает меня. Иногда она трет мою щеку о свою руку, а потом, как ребенка, прижимает меня к своим большим, как горы, грудям. Если я при этом начинаю щекотать ее носом, то весь ее живот сотрясается от смеха, а если я начинаю ей всерьез досаждать, то она наказывает меня, пряча мою голову себе под мышку. Обычно, отсосав, она переворачивает меня на себя и медленно смещает вниз, чтобы я вылизал ее. Это похоже на то, как если бы я языком прокладывал себе путь в туннель. Я чувствую себя беспомощным, как зыбучий песок, когда она, как над жертвой, склоняется надо мной. Я достигаю вершины, проталкиваясь вверх под ее задом, когда она сдавливает меня своими бедрами. Вот он я, с телом наполовину утонувшим между ее необъятными ягодицами, когда она садится на меня всем своим весом. За это я начинаю толкать ее, иногда мне приходится кусаться и бить. Что-то срабатывает. Я планирую устроить в матраце аварийный люк для отхода.
Японские письмена на стене читаются так: «Иссун саки ва ями» — «Мрак в дюйме перед тобой». Несколько человек просили меня перевести надпись, но никто не спросил, что она означает.
Человеческое тело — чудо инженерной мысли. Человеческое тело — хрупкий сосуд. Как примирить эти два утверждения?
Завершение телесных манипуляций так сексуально, что я иногда кончаю, когда Мэгги просто туго скользит.
Во вторник собираюсь на совместную тренировку с Пигготом. Меня тревожит не то, что он уже дважды катался без меня, но то, что я мог его достать, но не достал. Думаю, что причина проигрыша не в моих ногах, но в моей голове.
Женщины с большим выпирающим животом и большим задом подчас возбуждают меня больше, чем женщины с общим ожирением, потому что гигантские женщины уже обездвижены, и видно, как эти луноликие тщетно борются с плотью, которая неизменно берет верх. Как кудзу, обвивающая древесный ствол.
Я никак не могу решить, что развлекает меня больше — удовольствие или боль.
Я начинаю уставать от множества вещей, особенно от самого себя.
Пугающее послание я нашел сегодня в печенье с сюрпризом: «Твое самое сокровенное желание будет исполнено».
* * *
Я мог бы продолжить, записки Макса не исчерпывались приведенными мною выше. Это записки одержимого человека, но человека интеллигентного. Я настаиваю на этом.
Некоторые заметки касались меня и Сьюзен, и подчас они были не слишком лестными, но я все же считаю, что Макс был мне другом. В одной из последних заметок он пишет о безлунной ночи, о скучных женщинах и о внезапном желании постучать в мою дверь. Я был тронут этим, несмотря на то что он так этого и не сделал. Лучше бы он постучал.
Здесь позвольте мне рассказать то, что я пропустил.
Вскоре после смерти Макса приехали его родители, они хотели посмотреть его имущество, то немногое, что осталось в его квартире. Некоторые вещи я забрал сам до их приезда, включая весьма непристойную статую. Но в день приезда родителей я снова был в С-7, помогая им в осмотре, и осторожно отвечая на их вопросы, и стараясь одновременно удовлетворить и собственное мое любопытство. Они были хрупкой низкорослой парой немного за пятьдесят — отец Макса и его мачеха. Мистер Финстер был болезненной немощной копией Макса: то же жилистое сложение, но потрепанное годами, те же синие глаза, только более тусклые. Когда я спросил, каким Макс был в детстве, мистер Финстер пожал плечами.
— Трудным, — ответил он. — Он много читал и любил показывать всем свои знания, но он не терпел критики.
Он прикусил губу, горе буквально сочилось из его глаз.
— Он был впечатлительным, — произнесла мачеха, непривлекательная худенькая женщина с серо-стальными волосами.
Они показали мне фотографию Макса, когда он был подростком — толстым и хмурым. Он был толстым лет до двадцати пяти, сказала мачеха. Именно тогда он пристрастился к велосипеду и выиграл свою битву с плотью. Она так и сказала: «битву с плотью». Мать Макса, как я узнал, умерла от рака яичников, когда мальчику было восемь лет. Показали мне и ее фотографию; она не была толстой, по виду это была добрая миловидная женщина, которая тихо угасла от болезни. Макс не поддерживал отношений со старшей сестрой, которая даже не потрудилась приехать. Не знаю, сказали ли им правду об обстоятельствах смерти сына, но я не спрашивал их об этом. Думаю, что не мне было сообщать им такие подробности.
— Скажите, — произнес мистер Финстер, неловко откашлявшись, — он ничего не говорил о нас… перед тем, как умер?
Перед тем, как умер? Перед концом? Что они знали и когда они это узнали? Преподаватель английского во мне принялся анализировать манеру выражения: не было бы еще более странно, если он что-нибудь сказал после того, как умер? На самом деле Макс никогда не упоминал о своей семье, что говорило само за себя. Но мистер и миссис Финстер жаждали услышать не это, и мне пришлось импровизировать. «Он сказал… он сказал, что любит вас», — произнес я, чувствуя, как вокруг меня сгущается воздух. Мне вдруг стало трудно дышать.
В этот момент мы были в спальне, и я оглянулся, ища какой-нибудь знакомый предмет, в котором я смог бы найти точку опоры. Я увидел картину Магритта и увидел, что мачеха Макса неловко отвела взгляд и смотрит в другую сторону. С художественной точки зрения с ее грудями вместо глаз и лобком вместо рта, картина эта и правда выглядела непристойно. У меня поднялось настроение, когда миссис Финстер демонстративно покинула спальню. Мистер Финстер последовал за ней.
Я подошел к картине. Дырку со своей стороны я заделал и зашпаклевал ее белой замазкой, решив, что этого достаточно. Я присмотрелся к картине и понял, что она снова висит криво, хотя мог бы поклясться, что Макс едва ли не при мне приклеил ее к стене в нормальном положении. Я легонько потянул картину на себя и, когда она поддалась, увидел, что Макс прикрепил ее к стене несколькими эластичными петлями клейкой ленты. Картина смещалась в любом направлении, правда, ненамного. Я отодвинул картину влево и увидел едва заметное отверстие.
Дырка была обведена карандашом.
У меня захватило дух. Я вдохнул, но воздуха мне все равно не хватило, и я вдохнул еще раз. Значит, Макс знал. Но что он знал и когда он это узнал? Допуская, что Макс — это Макс, можно было предположить, что он знал с самого начала и до самого конца. «Так или иначе, — сказал он, — я дам знать, что происходит».
И та последняя ночь — я выдохнул, не в силах больше удерживать воздух. Что он хотел мне показать? Бычий глаз выглядел так, словно его намалевал неумелый любитель. Может быть, это ошибка?
Черта с два это была ошибка.
Я смотрел на даму Магритта до тех пор, пока она не начала мне подмигивать. Наконец, я на цыпочках вышел из спальни, присоединился к Финстерам и вскоре ушел. Я не знал, что говорить и что думать. О Максе, о себе, о том, что происходило между нами.
Но с тех пор я начал размышлять, и вот к чему я пришел: вопиющее поведение Макса и унижения, которым он себя подвергал, не были средством приблизить развязку и конец. Они и были его концом. Женщины, в большинстве своем, не терпят мазохизма такой степени в мужчинах — почитайте Леопольда фон Захер-Мазоха, его «Венеру в мехах», основную работу по этой теме, которую я увидел на книжной полке Макса в первое же посещение. Позже я взял эту книгу в библиотеке. Одним из основных постулатов Захер-Мазоха было утверждение, что большинство женщин находят сексуальными властных мужчин, женщины не любят раболепства, не любят рабов. Если вы предпочитаете узнать мнение женщины, то почитайте Сильвию Платт, которая пишет, что женщины любят фашиста. Да, мне думается, что Макс одновременно был и палачом и жертвой. Или змеей и червем, рыцарем и конем — метафору можете выбрать по своему усмотрению. Вот почему весь этот феномен называют садомазохизмом: унизительное поведение, самонаказание мазохиста может в одну прекрасную ночь обернуться самым зверским садизмом. Это не более парадоксально, чем причудливая смесь любви и ненависти большинства супружеских пар. Так мне кажется. Максу нужны были зрители, и что в этом ужасного?
Я перечитывал записки Макса несколько раз и наконец положил их в ящик своего стола. Литература овладела мною; она воздействует на меня так, как никогда не сможет воздействовать реальная жизнь. У меня было такое впечатление, что я впитал эти записки в себя, в свое сознание, в свое тело. Я не стал показывать их Сьюзен. Она говорила, что я стал еще более отчужденным после смерти Макса. Мы поговорили о нашем браке и наконец решили расстаться. Она уехала в Мейкон и увезла с собой половину моей жизни. Мне было чертовски больно, но признаюсь, что одновременно я испытал большое облегчение, как бывает после ампутации, необходимой для спасения жизни. Это сравнение я встретил в одной из заметок Макса.
Сначала масса свободного времени подействовала на меня оглушающе, а поскольку я не склонен к пьянству, то не мог убивать время за бутылкой. В то время я много раз перечитывал записки и каждый раз находил в них что-то новое. В моей жизни начали происходить перемены. Я купил подержанный велосипед с десятью скоростями и начал на нем кататься. Кстати, Сьюзен забрала машину. В первый же месяц я сбросил пятнадцать фунтов. Я до сих пор езжу на велосипеде, ускоряя темп и испытывая себя на прочность. На днях миссис Пост сказала: «Вы выглядите как совершенно новый доктор Шапиро». Это было приятно, но далеко не так приятно, когда три девушки из женского Студенческого союза въехали мне в зад на своей «тойоте» и сделали непристойное предложение. Знаете ли вы, сколько зрелых женщин бродит по здешним окрестностям? Они просто ждут, когда кто-нибудь накинет на них узду. На следующий день я увеличил расстояние. Мои ноги стали сильнее. Если они начинают болеть, я езжу еще больше, еще быстрее.
Я не могу в подробностях представить судьбу других персонажей моего рассказа, скажу только, что они живут как жили: толкают они, толкают их. Стенли экспериментально исследует связь между половым поведением и ожирением у грызунов. Тем временем освобожденные из его лаборатории крысы до сих пор шныряют по кампусу. Выглядят они активными и весьма упитанными, способными великолепно о себе позаботиться. Как писала в одной статье «Дейли Миссисипиэн», некоторые из этих крыс стали гостями на недавнем вечере в женском Студенческом союзе. Главный редактор опубликовал письмо, в котором призвал истребить крыс, но я не думаю, что это произойдет. Крысы всегда были и всегда будут.
Джина продолжает расследовать обстоятельства самоубийства Фолкнера. Когда она, наконец, снова добралась до миссис Гар, старуха отказалась от всего, что наговорила при первой встрече, и Джина оказалась на исходных позициях. Недавно она съездила в Виксберг к человеку, отец которого был в одном санатории с Фолкнером. Я не говорил с ней об этом деле. Я больше не верю, что самоубийство — категория, поддающаяся определению.
Фред Пиггот снова тренируется в одиночестве. Я видел его несколько раз. В первый момент я принял его за Макса. Думаю, что теперь он может получить нового партнера для поездок. Со дня на день я собираюсь ему позвонить.
Натаниэль отбывает двухлетний срок в Парчмене. Джон Финли снова женился, мнения окружающих насчет того, как долго продлится этот брак, разделились. Джейн Форстер надеется, Франклин ожидает. По странному совпадению Элизабет Харт выбыла на целый семестр и поехала в гости к тете в Виксберг. Она пробудет там до тех пор, пока не разрешится от своего преходящего недомогания. Жизнь цветет вечно, как мог бы сказать Вернон Ноулз. Он живет теперь в доме инвалидов в Хэттисберге, где каждый предыдущий день похож на следующий. Однажды в выходной день Грег и Дальримпль навестили старика, но эра воскресных вечеров навсегда канула в прошлое. Недавно Сьюзен прислала мне письмо, в котором сообщила, что начала ходить в церковь.
Свою веру, как бы мала она ни была, я исповедую индивидуально. Я продолжаю преподавать, по-прежнему несу бремя обыденного повседневного существования. Но теперь жизнь моя стала осмысленной и целенаправленной. У меня есть планы, я стал вести дневник. В эту пятницу я автобусом уеду в Мемфис, откуда не собираюсь возвращаться раньше воскресенья. Я обрел уверенность в себе. Тем не менее меня продолжают преследовать тревожные сны. На днях я отыскал фотографию Макса и Максины, которые, тесно прижавшись друг к другу, почти слившись, одновременно проходят в дверь. Я всматриваюсь в его глаза: кто он — обладатель или одержимый? Или и то и другое вместе? И что случается, когда мужчина встречает женщину, которая является одновременно неподвижным предметом и непреодолимой силой? Единственное, что я могу сказать со всей определенностью, — это то, что Макс сам сделал свой выбор. Я надеюсь, что мне хватит мужества сделать мой.
Воспоминание об этих строчках позволяет мне лучше и крепче спать, особенно теперь, когда я поставил склеенную статую Приапа возле моей кровати. Но тем не менее бывают ночи, когда мои руки, лежащие на груди, вдруг невероятно тяжелеют — это на меня давит невыносимое бремя сновидения. Я поднимаю взгляд и вижу похотливого призрака — не Макса ли? — и над ним огромное тело, неотчетливо нависающее, но массивное, готовое принять меня в недра своей плоти.
Примечания
1
Структура личности по Фрейду: ид (оно) → эго → супер-эго. (Здесь и далее примеч. ред.).
(обратно)2
Пейсли — индийско-персидский орнамент в виде огурца.
(обратно)3
Бигл Питер — автор популярных романов в стиле фэнтези: «Песня трактирщика», «Последний единорог» и т. д.
(обратно)4
Игры природы (лат.).
(обратно)5
«Молль Флендерс» — роман Даниеля Дефо.
(обратно)6
Кудзу — растение из семейства бобовых, употребляется в лекарственных целях.
(обратно)7
В середине дела (лат.).
(обратно)8
Причина появления (фр.).
(обратно)9
Пандит (санскр.) — ученый, мудрец, брахман в Индии.
(обратно)10
Дальше будет ясно, что речь идет о профессоре по фамилии Лонгест, но по-английски получается забавная игра слов: Longest lecture (самая длинная лекция). (Примеч. пер.).
(обратно)11
Savage — дикарь, жестокий варвар.
(обратно)12
Заочно (лат.).
(обратно)13
На месте преступления (фр.).
(обратно)14
Тестикулы — мужские яички.
(обратно)15
Свершившийся факт (фр.).
(обратно)16
Стеатопигия — скопление избыточного жира на ягодицах.
(обратно)17
Маунт-Рашмор — уникальный национальный мемориал, символизирующий первые 150 лет истории Америки.
(обратно)18
Серые кардиналы (фр.).
(обратно)19
Аардварк — трубкозуб, Orycteropus afer, млекопитающее, единственный представитель отряда, семейства и рода трубкозубов. Водится в Южной Африке, питается муравьями и термитами. Название было дано голландскими колонистами — aardvark (земляная свинья) — из-за чисто внешнего сходства этого животного со свиньей.
(обратно)20
Не прикасайся ко мне (лат.).
(обратно)








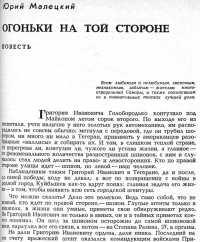



Комментарии к книге «Плоть», Дэвид Галеф
Всего 0 комментариев