Игорь Ягупов Записки офисной крысы
Записки офисной крысы
Вместо предисловия
Драгоманы, чичероне, толмачи, интерпретаторы, переводчики – у нас много имен. Мы помогаем людям общаться. И наши длинные языки свешиваются из наших ртов до колен.
– Вы кто по профессии? – спрашивают меня.
– Офисная крыса.
– Кто, кто?
– Офисная крыса.
Из всего перечисленного выше множества названий моей профессии мне лично не нравится ни одно. В основном я сижу в офисе у компьютера. Так как же мне себя после этого называть?
– А точнее? – настаивают незнакомцы.
– Я переводчик.
– И что же вы переводите?
– В основном бумагу.
Это чистая правда, ибо львиная доля контрактов, деловой переписки и инструкций, над которыми я просиживаю днями, идет в мусорную корзину.
– А какие языки вы знаете? – не унимаются доброхоты.
– Я никаких языков не знаю.
– То есть?
– Я работаю на трех языках.
Это профессиональная обида всех переводчиков. Знать можно все что угодно. Мы все, например, знаем ядерную физику. Мы учили ее в средней школе. Но это вовсе не означает, что нам можно доверить лабораторию в Дубне. Знать и работать – понятия, которые не имеют между собой ничего общего.
– И на каких же языках вы работаете?
– На английском, итальянском и финском.
– Интересно…
По-разному бывает. Профессия переводчика малооплачиваема и бесславна. Но помогает набить чемодан памяти диковинными житейскими историями, способными снискать вам в старости славу барона Мюнхаузена. Вот лишь несколько из них.
Котел брата Вениамина
Шведы приехали! Шведы! Партнеры, голубчики, кормильцы! Мы сидим в кабинете директора нашего торгового холдинга – моего непосредственного шефа.
– Ларе! Эрик! – фальшиво радуюсь я, кривя рот в улыбку, которая должна казаться добросердечной.
Хотя, по правде говоря, добросердечность давно закончилась. Слезы умиления обсохли на щеках. И разговор предстоит не из легких. Шведский партнер хочет найти следы своих денег, вложенных в наш холдинг. Совместный проект реализуется уже семь лет, но так и не заработал. Последний конфуз вышел с подачей пара, необходимого для технологического процесса. Специально закупленный для этих целей в Швеции котел таинственно исчез в позапрошлом году прямо с охраняемого склада предприятия, куда скандинавы вложили свои денежки. Шведы долго искали объяснение сему феномену, но к разумному выводу так и не пришли.
К счастью, спустя почти два года после похищения котла, когда они впервые забили тревогу, на складе уже не осталось ни одного очевидца этого происшествия. Кладовщиков и грузчиков меняли не реже одного раза в квартал. И шведы, таким образом, застали там уже седьмое или восьмое поколение, никак не отвечавшее за дела предшественников. Как говорится, не сторож я брату своему…
Помню, как-то мы с Ларсом приехали на склад часов в десять утра, но никого там не застали, кроме сторожа.
– Часикам к двенадцати соберутся, – уверил он нас.
Мы сели в машину и стали грызть орешки. Действительно, к полудню на дорогих иномарках начал съезжаться народ.
– Эти люди приехали сдавать ягоду? – не понял швед.
Дело в том, что организованная нами со шведами фирма должна была заниматься закупом у населения дикорастущих ягод. Собственно, для их последующей переработки в варенье и джемы как раз и требовался пар от котла.
– Нет, нет, это наши кладовщики, – уточнил я.
Швед удивленно заморгал глазами. Очевидно, он просчитывал, сколько же ягод надо было закупить, чтобы так щедро раскормить кладовщиков. Получилось очень много.
В середине первого у нас закончились орешки. А в начале второго на монструозном джипе подрулил Анатолий Степанович, директор. В отличие от кладовщиков, которые не обратили на нас решительно никакого внимания, он знал Ларса в лицо и с распростертыми объятиями кинулся к нашей машине:
– Пойдемте, пойдемте в офис. Там у меня коньячок, шампанское…
Мы прошли через склад. Кладовщики мрачно шатались по гулким пустым помещениям. Мы поднялись наверх.
– Коньяк? Кофе? – радушие Анатоля не знало границ.
– Спроси его, Игорь, спроси его, где котел, – умолял меня Ларе.
Ситуация была весьма пикантна. Если честно, то для ее разрешения вовсе не надо было ехать на склад и пытать директора. Ия, и Анатолий Степанович прекрасно знали, что котел величайшей патриаршей волей Вениамина Львовича, нашего общего босса, в свое время был погружен на машину и увезен в Ставропольский край, для отопления сауны на личной даче директора, чья распаренная и отмытая после очередного отпуска физиономия явно давала котлу самые лестные рекомендации.
Мы с Анатолем посмотрели друг на друга масляными глазками.
– Анатолий Степанович, – скашивая глаза на коньяк, поинтересовался я, – наш гость спрашивает, не знаете ли вы, куда подевался его котел?
Нам обоим было стыдно. Но Анатолий Степанович вынужден был вступить в игру. Для непрофессиональных актеров мы смотрелись совсем не плохо. Особенно, если учесть тот факт, что нам пришлось импровизировать на ходу.
– А что с ним случилось, с котлом? – слегка краснея, довольно натурально удивился Анатоль. – Разве он не на складе? Я сейчас же спрошу у секретарши.
– Наташа! – позвал он по внутренней связи.
– Он выясняет судьбу котла, – улыбнулся я Ларсу. – Очень обеспокоен, очень.
В кабинет заскочила Наташка.
– Наталья, – строго сказал Анатоль, – сходи на склад и проверь, там ли паровой котел, что привезли нам наши шведские партнеры два года назад.
Наташка растерянно заморгала:
– Так его ж еще позапрошлой весной к Вениамину Львовичу на дачу…
– Веньямьин Львовьич? – встряхнулся Ларе.
– Она говорит, что Вениамин Львович уже интересовался судьбой этого котла, – пояснил я. – Тоже очень беспокоился.
А Анатоль тем временем, как из базуки, испепелил глупую Наташку огненным взглядом.
– Котла на складе нет, – констатировал он после истребления секретарши.
– Она говорит, что его нет на складе, – перевел я Ларсу трагичную новость, бессильно пожав плечами.
У шведа начала подергиваться щека. Наверное, он счел нас полными идиотами.
– Но мы сделаем все возможное, чтобы его найти, – гордо заявил Анатоль.
– Котел будет найден, он обещает, – утешил я Ларса, и мы отбыли восвояси.
Похищение котла переполнило чашу шведского терпения. На нас посыпались аудиторские проверки. Анатоль ходил мрачнее тучи, хотя его вина была минимальна. Он был третьим по счету директором (его взяли из какой-то котельной) и пришел сюда, когда все основные фонды были уже украдены предшественниками.
Первый директор, Пузанов, уйдя «с позором» через три года после своего назначения, тут же зарыл позор в землю и прорастил из него за одну ночь, как мечтал Буратино, собственный банк. Второй директор продержался еще три года и уехал отсюда с гордо поднятой головой прямо в трехэтажный особняк с видом на залив. Анатолю достались пустые склады и разжиревшие кладовщики. На предприятии торжествовал парадокс, когда у директора была более дешевая машина, чем те, на которых ездили кладовщики.
Анатолю ничего не оставалось, как украсть джип. Кладовщики тут же ответили двумя «фольксвагенами». Анатоль завел себе золотой браслет граммов на сто. Кладовщики стали шушукаться в каптерке, строя планы мести. Сложилась революционная ситуация, из которой бывший истопник вышел с честью, уволив всю стаю кладовщиков вместе с грузчиками. Новое поколение, заселившее каптерку, хотя и воспитывалось Анатолем в строгости и воздержании, подержанными иномарками через пару месяцев все же обзавелось.
Короче говоря, война велась не на жизнь, а на смерть. О ягодниках все давно и думать забыли. И похищенный еще при его предшественнике котел стоял у Анатоля, как кол в горле, не давая развернуться и упрочить победу. Вот и сейчас он бродит по директорскому кабинету в томлении духа.
– Здрасьте, Анатолий Степанович, – приветствую я его.
Анатоль вздрагивает и опасливо косится на Ларса и Эрика. Толстая тетка в углу – очередная аудиторша, нарывшая кучу компромата, закуривает длинную сигарету и шепчется о чем-то с Борей Лыжниковым, личным представителем концерна Ларса в России.
За последние несколько месяцев Борино чувство справедливости обострилось катастрофически. Во всех бедах совместного проекта он склонен винить наш холдинг и лично директора, который сидит тут же и разговаривает по телефону. А ведь еще полгода назад Боря раболепно бегал к Вениамину Львовичу на поклон. Теперь Боря роется в бумагах аудиторши и сокрушенно цокает языком.
Директор кладет трубку и приглашает всех к столу.
– Брат Вениамин! – архаически (это обращение осталось у шведов с прежних романтических времен) произносит Ларе. – Как могло так получиться, что вы заложили имущество нашей совместной фирмы в трех банках одновременно?
Я перевожу, а аудиторша, стряхивая пепел в гостевую – шеф не курит, и у него аллергия на табачный дым – пепельницу, поднимает бровь и гневно сверкает глазами. Боря ерзает на стуле. Это он, видать, подковал шведов насчет результатов аудита.
– Брат Ларе? – хмыкает директор.
Он не совсем понимает проблему. Анатоль смотрит на него преданными глазами.
– Закладывать одно и то же имущество сразу в трех банках – разве это морально? – перевожу я слова вступившего в разговор Эрика.
– Брат Эрик? – опять теряется в догадках Вениамин Львович.
– А что здесь такого? Что здесь такого? – сдают нервы у Анатоля, и золотой браслет звенит кандалами на исхудавшей от тревог руке. – Это обычная практика, обычная практика.
– Он говорит, что все так делают, – вяло бросаю я братцу Эрику.
Тот теряет дар речи и бессильно разводит руками. Отдышавшись, он задает сакраментальный вопрос:
– Так куда ж тогда делись все эти кредиты? От трех банков?
Вопрос повергает директора в глубокую задумчивость, Анатоль исступленно звенит цепью.
– Может, чайку? – неожиданно просыпается во мне хозяйственность, и я выглядываю в приемную. – Валечка, кофе и чай нам, пожалуйста.
Мы пьем чай, аудиторша закуривает очередную сигарету, а шведы обсуждают что-то на родном языке – чтобы я, значит, не понял. После чаепития разговор со стороны шведов приобретает характер грязных домогательств. Их интересует, куда подевались их денежки, кто вообще разрешил брать банковский заем под арендованное имущество, нашелся ли злосчастный котел (а он никуда и не терялся, родимый), как идет закуп у населения дикорастущих ягод и куда испарились ягоды, якобы закупленные в прошлом году…
Через два часа Анатоль вышел из председательского кабинета чисто физическим и крайне изможденным лицом. Управление совместным проектом возложили на Борю Лыжникова, который, казалось, так и рвался стать под седло.
Месяца через полтора меня занесло к нему по делам. Чтобы не подниматься зря наверх, я спросил у толкущихся на складе грузчиков:
– Шеф у себя?
Грузчики в ответ только заулыбались и показали руками на уши – не понимаем, мол.
Я перешел на английский. Потом вспомнил несколько слов по-шведски…
– Игорь, зря стараешься, – окликнул меня сзади мой шофер Дима. – Это не турмалаи. Это Борька глухонемых нанял, чтобы налоги скостили.
Не имея более вопросов, я поднялся к Лыжникову в офис и отдал ему пакет с бумагами от «брата Вениамина».
Тебе какого Сеппо надо?
– А Сеппо когда приедет? – гнусавит в трубке противный женский голос.
Я уже привык к подобным звонкам, а потому не удивляюсь:
– А какой Сеппо?
Чувствуется, что женщина немного растеряна.
– Ну, он такой симпатичный, из Финляндии… – просящим голосом, растягивая гласные, добивается она.
Она не знает, что Сеппо – чуть ли не самое распространенное среди финнов имя. И я вовсе не издеваюсь, выясняя подробности.
– Ау нас все симпатичные и все из Финляндии, – бросаю я в трубку. – Сеппо Лехтонен приезжает в среду, а Сеппо Перхеентупа – на следующей неделе. Твой какой?
– Ой, я не знаю, – женщина чуть не плачет. Действительно, финские фамилии не схватишь налету. К тому же финны не очень охотно щеголяют ими перед своими русскими подружками.
– Подожди, – снисхожу я, – сейчас посмотрю.
Я достаю заветную книжечку, где у меня записаны – какой стыд, однако! – имена подруг всех моих финских партнеров.
– Так, – тоном секретарши в собесе произношу я в трубку, водя пальцем по засаленной от частого использования страничке, – у Сеппо Лехтонена – Галя, а у Сеппо Перхеентупы – Таня… Ты у нас кто?
– Ой, я Галя, – радуется трубка.
– Тогда твой будет в среду. Часам к восьми можешь подойти в гостиницу, – бесцеремонно распоряжаюсь я женским телом.
Это, собственно говоря, не гостиница, а гостевые комнаты – первый этаж жилого дома с отдельным входом, который держит наш холдинг для заезжих партнеров. Здесь финны устроили настоящий дом терпимости.
– В восемь? Приду, приду обязательно, – радуется Галя. – А вы там тоже будете?
– А я-то вам зачем?
– Поговорить чтобы… – волнуется женщина в трубке.
– Говорунья ты моя, – умиляюсь я. – Буду, конечно, буду.
Подружки моих финнов всегда готовы болтать до одури. И мне приходится часами переводить истории их жизни. Они достают из косметичек фотографии детей и суют их под нос финнам. Финны вежливо улыбаются и давят водку рюмка за рюмкой. У них дома, в Финляндии, сидят такие же несчастные женщины – их жены. А их бумажники полны фотографиями их собственных детей.
Финны ездят к нам совершать адюльтер. Дома это исключено. О какой супружеской измене может идти речь в их родном городишке с трехтысячным населением? Да через час все, включая жену, будут знать, возле чьего дома Ари, Сеппо или Юсси запарковал машину и для чего он туда приехал.
Мурманск для них – огромный и развратный город со скопищем пороков и опасностей. Что-то вроде Нью-Йорка, каким нам показывали его когда-то в «Международной панораме». Всего пять часов на машине, и они вне досягаемости надоедливых детей и опостылевших жен. Более того, в их распоряжении все, как им кажется, блага свободной жизни, непозволительной в их пуританской стране.
Наше начальство в ответных визитах руководствуется древним принципом улитки: все свое вожу с собой, и всякий раз озадачивает меня оформлением виз своим многочисленным подругам.
– Ух, ты! – умиляются финны, принимая странные делегации, где каждого партнера сопровождает личный референт женского пола. – Чтоб нам так жить!
Где его кейс?
Мы с Андреем, Мананниковым, Анатолем, Юсси и Сеппо сидим в ресторане и пьем водку. Сеппо никогда не пьянеет. Перед тем как выпить, он всегда съедает бутерброд, обильно смазанный маслом. Но на этот раз развезло и его. Он разминает в руке сигарету и начинает рассказывать про то, как вчера познакомился здесь же с толстушкой.
Я перевожу. Ресторан дорогой. С живой музыкой. Причем местный оркестр имеет скверную привычку резко обрывать свои оглушительные мелодии. И ты по инерции все еще кричишь последнюю фразу почти в полной тишине. Когда пауза приходится на иностранный отрывок – это терпимо. Ибо никто ничего не понимает. Но когда на русский…
– Сеппо говорит, что вчера он встретил здесь такую толстую и низкорослую девицу, что она могла бы стоять под этим столом, но не могла бы под него лечь! – ору я под легкий скрежет ножей по тарелкам.
По залу прокатывается легкий шорох. Все заглядывают под столы с явным скептицизмом.
– Что, неужели настолько толстая дама? – раздается из дальнего угла недоверчивый и пьяный мужской голос.
– Не знаю, – огрызаюсь я. – Сеппо так говорит.
Вечер летит вперед, Сеппо таки закуривает сигарету. Все хмелеют и начинают нести какую-то чушь.
– А наши снегоходы лучше ваших. У наших две лыжи и один трак… – вдруг начинает Юсси.
– А у наших – одна лыжа и два трака, – включается в беседу Андрей.
– Вот именно.
– Что «вот именно»? Я на своей одной лыже – раз-раз, – Андрей демонстрирует рукой между рюмками. – А ты – раз, бум, и все.
– Ая тоже – раз-раз, – обижается Юсси, «мчась» между тарелками. – А твой «Буран» – бум, и все.
– Не согласен в корне, – возмущается Андрей. – Ты своими лыжами так и сяк, – он показывает. – А если береза?
– Что «береза»?
– А береза растет, – Андрей ставит на роль березы бутылку вермута.
– Ну?
– Что «ну»? Береза так, а ты двумя-то лыжами – тык, а я на своей одной – брык вот так, – Андрей разыгрывает оба маневра руками.
– Нет, Андрей, ты не прав, – удивляется Юсси. – Это я вот так – трык и дры-дры-дры. А ты – хрясь и бум.
– Никакой не бум.
– Бум, бум.
Разговор приобретает напряженный характер. А я уже запутываюсь в переводе всех этих «дрык», «тык» и «дык». Но тут Андрей уходит в туалет. После его возвращения спор, к счастью, не возобновляется.
– Андрей, у тебя целых пять детей, – сокрушается неугомонный Юсси, дернув еще стопку водки.
Андрей, когда я ему это перевожу, выкатывает на меня подозрительный взгляд.
– Я ему ничего подобного не говорил, – развожу я руками.
– Так объясни ему, идиоту, что у меня, как ты и сам знаешь, один сын, – злится Андрей.
– Один сын у него, – говорю я Юсси.
А Андрей показывает палец – один, мол.
– Так, так, так, – горюет Юсси. – Один сын. Стало быть, четыре дочки у него.
И он тяпает еще стопочку.
Уж полночь близится… Мы спускаемся в холл. Мананников зачем-то сует ключи от машины Юсси и идет с номерками брать всем пальто. Одевшись, мы бредем к выходу, когда Мана вдруг спохватывается:
– А где мой кейс?
Мы все оглядываемся.
– Где мой кейс? – не унимается Мана. – Кейс, кейс.
– Я схожу, посмотрю возле столика, – предлагает единственно бодро ворочающий языком Юсси и делает движение к лестнице.
– Не надо, – останавливает его Андрей. – Не было у него никакого кейса.
– Кейс, мой кейс! – ходит Мана по холлу и вдруг кидается к Юсси, выхватывая у него ключи. – Так вот же мой кейс!
– Дебил! – разжигает свой гнев Андрей. – Ключи по-английски «киз», а не «кейс»!
– А пишется как? – возмущается Мана, ища у меня поддержки.
– Пишется «кейс», – вздыхаю я.
– Вот, вот, – мудро качает головой Мана. – И кто из нас дебил: я или эти англичане с их дурацким языком?
Мы разъезжаемся. Мана везет финнов в гостиницу. Андрей везет меня домой. Анатоль тоже садится с нами.
– Ну и дебил! – никак не успокоится Андрей.
Фонари горят тускло. Подметает. Дорога пустынна. Метель усиливается. Машина ерзает по дороге.
– Андрей, Андрей, ты держись этой, как ее, правой стороны, – пугается Анатоль. – Как бы не было кого навстречу.
– Хо-ро-шо, – по складам соглашается Андрей. – А где она, правая сторона?
И тут мне тоже становится страшно.
Большие жирные МакДаки
Ханхи! Ханхи! По-фински это значит «гусь». Я точно это знаю. И буду помнить до конца моих дней. Я не очень хорошо говорю по-фински, но это слово забыть не могу. После того ужина в ресторане с финской делегацией…
Мы отработали весь день без обеда и приехали в ресторан ужинать часов в восемь вечера – усталые и разбитые. Мы сразу тяпаем водочки. И настроение за столом мало-помалу поднимается. Вечер становится приятным, разговор, который мы ведем, – доверительным. Жизнь, как выясняется, не такая уж и плохая штука.
Все идет великолепно ровно до того момента, когда Андрей решает пригласить финнов на гусиную охоту.
– Ну, – говорю я, – он предлагает вам съездить завтра на охоту.
В глазах финнов появляются вопросительные знаки.
– Охота, охота, – повторяю я.
– Да, – говорят они. – Мы понимаем, что такое охота. Но мы хотели бы знать, на кого мы будем охотиться.
– На птицу, – нахожусь я.
– Так, – они явно ждут дальнейшей конкретизации.
– Это птица, большая птица, – уточняю я.
Но мои финны – Ари, Сеппо и Юсси – очень дотошные люди. Более того, они заядлые охотники. И действительно не прочь принять предложение Андрея. А потому хотят выяснить абсолютно точно, на кого же они будут охотиться. А я, как ни силюсь, не могу вспомнить, как по-фински будет «гусь».
– Где она, эта птица, живет? – спрашивает Юсси.
– Ну, знаешь ли, я не ее дворецкий, – огрызаюсь я. – Сейчас проконсультируюсь со специалистом.
И я выясняю у Андрея, что гуси живут в лесу.
– В лесу, – говорю я.
– На дереве? – звучит следующий вопрос.
– Нет, – это уж я точно знаю и сам.
Наши закуски стынут на тарелках. И лед тает в бокалах с водкой. Все – кроме финнов, конечно – желают поскорее закончить гусиную тему и вплотную заняться ужином.
– Скажи, что у него большие красные ноги, и он плавает, – советует мне Мана.
– Его ноги – большие и красные, – сообщаю я. – И он все время плавает.
– Где?
– Что «где»?
– Где он плавает? В океане?
Тут я немного смутился.
– Вообще-то я не орнитолог, – говорю я финнам. – Но я сейчас выясню.
И я выяснил. Андрей и остальные «наши» уже настолько разозлились, что ответили мне откровенно. О да, они ответили мне все хором. Я перевел их ответ слово в слово.
– Они говорят, – горжусь я, – что эти наши русские птицы – такие смелые парни, что, в принципе, могут плавать там, где только захотят. Даже в океане. Автономно. Как ядерные подлодки. Но у них нет на это причин. Зачем им плавать в океане? Поэтому они плавают исключительно в реках и озерах.
– А какого они размера?
Да, финны действительно решили поохотиться.
– Скажите им, что это большие утки, – мудро советует мне официант, следящий за поединком.
Это было бы выходом, если бы я знал, как по-фински будет «утка». Но к этому моменту я тоже изрядно разозлился. И мой ум обострился. Меня внезапно осенило: диснеевский мультик, дядюшка Скрудж МакДак! Все на свете его знают!
– Дисней! – выпаливаю я. – Американский мультик о
Скрудже МакДаке! Вы его знаете?
– О да! – кивают финны.
– Так вот, вы будете охотиться на больших мистеров Мак-Даков! – ору я. – Теперь понятно?
– О да, – смеются финны, – конечно. Ханхи!
– Пусть будет так, – вздыхаю я.
Обстановка разряжается. Все улыбаются, и мы принимаемся за нашу теплую водку с остывшими горячими закусками. Часа через три, когда мы собираемся уходить, Вениамин Львович, ковыряя во рту зубочисткой, замечает:
– Да, два раза я здесь был. И два раза мне не понравилось…
А финны таки поехали на следующий день охотиться на гусей. Без меня, конечно. Нет, я не был занят. Просто я ненавижу убивать птиц. А еще через день мы встретились снова.
– О, Игорь, эти большие МакДаки были такие жирные! – взревели финны.
– Ханхи, – поправил я их, – ханхи.
По-фински гусь будет «ханхи»! Я теперь этого никогда не забуду…
Заначка, сэр!
Гуся хотя бы можно было попробовать описать. Куда более злокозненный случай как-то раз вышел у меня с русским словом «заначка». Я работал с заезжими англичанами, повадками и манерой одеваться напоминавшими наших отечественных бомжей. И все же это были представители самого настоящего бизнеса с берегов Туманного Альбиона.
За обильным обедом Андрей в деталях живописал гостям эпизоды своих позиционных боев с женой. Разгорячившись, он стал рассказывать о страшном случае, когда супруга обнаружила в потайном кармане его пальто заначку.
– Zanachka, – довольно бодро сообщил я гостям, для убедительности снабдив это слово дружеской улыбкой.
– И что это такое? – поинтересовались иноземцы.
Вот тут и началось самое страшное. Вы сами, прежде чем читать дальше, попробуйте объяснить, что такое «заначка». Хотя бы по-русски.
– Это та часть денег, которые он спрятал от жены, – пояснил я.
– Он ворует у нее? – изумились англичане и посмотрели на Андрея с явным неодобрением. – Это ее доходы? И он хитростью завладел ими?
– Нет-нет, – замахал я руками. – Это его собственные деньги. Но жена о них не знала.
– А! – «догадались» островитяне. – Он украл, но не у нее. И прятал, чтобы она не заявила на него в полицию.
– Нет-нет, – опять возмутился я. – Он их заработал. Он долго и много работал. Целый месяц. Честно, очень честно трудился. И ему дали зарплату. Часть этих денег он отдал жене, а часть спрятал.
– А почему он их прятал, если они и так его? – англичане явно ничего не понимали.
– Чтобы жена не нашла, – огрызнулся я, чувствуя, что мои объяснения пошли по кругу.
– Ага! – обрадовались туземцы, но тут же понурились и сочувственно уставились на Андрея. – Жена у него пьет. Она заберет все деньги и пропьет. А семья будет голодной.
– Да нет же, – прервал я их гнусные домыслы. – То, что он спрятал, называется заначкой. Жена не должна знать об этих деньгах. И вовсе не потому, что она их пропьет. Нет. Она может потратить их на вполне благие цели. Например… – я скептически посмотрел на собеседников. – Да хоть бы даже и пожертвовать церкви. Да, она запросто может пожертвовать их церкви. Или купить себе губную помаду. Но Андрей этого не хочет…
– Он атеист? – возмутились бизнес-бомжи, очевидно, пропустив помаду мимо ушей.
– Да как вы такое могли подумать? – разозлился я. – Андрей, он, знаете ли, истовый христианин. Просто он хочет потратить эти деньги сам. Хоть бы даже на ту же самую церковь. Или на водку, например. Но сам.
– Так пусть тратит, – замотали от бессилия кудрявыми головами англичане. – Зачем прятать-то?
– Но… – растерялся я.
– Нет, мы тебя не понимаем, – взял беседу в свои руки главарь закордонной делегации. – Теперь вопросы буду задавать я.
Я покорно кивнул. И гость тут же пошел в атаку.
– Деньги чьи?
– Его, – промямлил я, кивнув на Андрея.
– Тратить он их на кого хочет?
– На себя.
– Его жена склонна к воровству и разврату?
– Нет.
– Он ей должен?
– Нет. Вовсе нет. Наоборот, это он кормит семью.
– Так в чем тогда проблема? Почему просто не сказать жене: «Не трогай эти деньги»? Зачем он их прячет? И что будет, если жена их найдет?
– Если жена их найдет, – устало доложил я, – она будет долго кричать, будет кидаться на него, чтобы драться. Возможно, даже будет бить его. Может быть, даже больно. Потом она будет плакать, а он будет ее утешать.
– А потом? – не выдержал особо оборванный островитянин. – Что будет потом?
– Они помирятся, – предположил я.
– А потом?
– Что потом? Лягут спать, наверное.
– Тогда я понимаю, что такое «заначка», – радостно захлопал в ладоши оборванец. – У меня кошка. Недавно носили ее на случку. У них все точно так же. Сначала драка, шерсть клочьями. А потом – секс. «Заначка» – это русский вариант эротической прелюдии.
Рогатый бизнес
У нас деловая встреча. Я, Анатоль, финская братия и менеджер по закупкам одного из наших супермаркетов Анна Ивановна сидим в кабинете директора и пьем кофе.
Шефа нет. Он уехал с Мана перенимать опыт в Лондон. В прошлом году он уже был в Лондоне. И ему там, очевидно, понравилось. А позапрошлой зимой он летал перенимать опыт в Австралию – там, как вы сами понимаете, как раз было лето – и привез оттуда много полезного: бронзовый загар, воспоминания на всю оставшуюся жизнь и твердое понимание того, что кенгуру в Мурманске не приживутся.
Анатоль прихлебывает из чашки и нервно поглядывает на финнов. У него тоже богатый опыт делового сотрудничества. Так, совсем недавно он продал партию песцовых шкур в Штаты. В Америке шкуры тут же уценили и отказались платить контрактную стоимость. Сборы были недолги. Через три недели Анатоль и наш неизбывный директор вылетели в Нью-Йорк. Вернулись они спустя еще две недели – довольные до чертиков. О шкурах больше никто не вспоминал. И денег от их продажи, даже с учетом уценки, никто не видел.
Анна Ивановна вертит в руках банку сухого концентрата апельсинового сока, привезенного финнами в качестве образца и выставленного на стол. Она, как все женщины, более откровенна в своих желаниях.
– Игорюша, – спрашивает она меня, – а они нам подарят по банке такого концентрата?
– Это с какой же радости, Анна Ивановна? – изумляюсь я.
– А ты спроси у них, Игорюша, спроси, – не унимается Анна Ивановна.
– Да не подарят они.
– Это почему же? Я вот в прошлом году была с делегацией в Норвегии. Так нам, как только приехали, сразу выдали по пятьсот крон. Да, вот так.
– Так это ж с делегацией…
– А ты все же спроси, Игорюша. Чего тебе стоит.
– Да перестаньте вы, Анна Ивановна!
– Нет, ну как же. А дай я сейчас сама спрошу.
И Анна Ивановна пускается в дебри английского языка:
– Ай тейк? – показывает она на банку. – Возьму, да? Тейк?
– Да, – кивают финны в ответ.
– Сколько тонн она возьмет? – спрашивают они меня.
Я краснею и объясняю, что мадам хочет взять именно
одну эту банку. Так сказать…
– Для образца? – «догадываются» финны.
Им в голову не может прийти, что человек в норковой шубе может клянчить двухдолларовый порошок.
– Да, да, для образца, – облегченно выдыхаю я.
Финны еще раз кивают.
– Берите, Анна Ивановна, – разрешаю я.
Анна Ивановна засовывает концентрат в сумку, ее лицо светлеет.
– Я же говорила, что подарят, – торжествует она.
– Угу, – бурчу я и жду самого главного.
Самое главное заключается в том, что Анатоль, разжившийся где-то по дурости спилками оленьих рогов, хочет втюхать их финнам.
– Это такой ценный товар, – убеждал он меня. – Иностранцы отрывают с руками.
И вот Анатоль дергает щекой, достает из портфеля грязный опилок сантиметров десяти длиной, протягивает его Ари и ожидающе смотрит на меня. Ари брезгливо берет огрызок двумя пальцами.
– Олений рог, – гордо уточняю я. – Товар просто уникальный. Только для вас Анатолий Степанович может поставить… Сколько у вас там есть? Может поставить триста килограммов.
Ари недоверчиво вертит чудо-товар в руках.
– Качество отменное, – перевожу я Анатоля.
– А зачем они нужны? – удивляется финн.
Анатоль выглядит растерянным, когда я переадресовываю вопрос ему.
– Зачем – не знаю, – разводит он руками. – Но иностранцы так берут охотно…
Птица Феликс
Мы с Ари целый день ездили по мелким мурманским фирмешкам. Финны ищут новых партнеров для сбыта своих товаров. Я заранее прозвонил несколько адресов. И сегодня мы сделали набег.
Сначала заглянули к толстому дядьке. Я как-то встречал его в Финляндии. Он плавал в аквапарке Саарисельки кверху брюхом, как дохлая протухшая рыба. И на его груди красовались пятна какого-то экзотического лишая. Рядом плескались две его подружки.
Мы сразу узнали друг друга и обменялись рукопожатием, как родные. Вспомнив о лишае, я внутренне содрогнулся, но виду не подал. Поговорили «за жизнь». Финны предложили ему торговое оборудование. Он как раз собирался открыть новый магазин. Лишай повертел в руках фото и ткнул пальцем в дату (финны по глупости сервировали снимки датой):
– Прошлый март. Если его за полгода никто не купил, кому оно нужно?
Ари, когда я ему сообщил об этом, зацокал языком. И мы убрались восвояси.
Следующим номером в нашей программе был Феликс. Я знал его давно. Еще с тех пор, когда он заведовал овощным магазином, проворовался и был уволен. Мне рассказывали, что, когда его вызвало начальство, чтобы вручить «черную метку», он чуть не плакал и умолял не передавать дело в суд. Его пожалели, и он отделался статьей «по недоверию».
Прошло несколько лет, и Феликс возродился из пепла. Он открыл несколько магазинов и арендовал оптовые склады. Обзаведясь всем этим, Феликс зажил в свое удовольствие. И тут же приобрел себе под квартиру весь первый этаж новенькой высотки в центре. Высотка – я знаю это, потому что мой шеф имел несчастье проживать именно в ней, – считалась элитной и раскуплена была на корню «новыми русскими», что превратило для шефа жизнь в ней в сущий ад.
Начнем с того, что на седьмом этаже жил Акоп Оганесян – строительный король города, который, кстати, этот дом и построил. Дядя Акоп любил бастурму и готовил ее сам по старинным рецептам с использованием особых специй, за которыми специально периодически посылал гонца в Турцию.
Он закупал килограммов двадцать мяса, обмазывал его этими самыми специями и вывешивал на кухне. Ядовитая перечная вонь разъедала глаза уже при входе в подъезд. А слабый запах чувствовался за два квартала.
– Дядя Акоп готовит бастурму, – говорили жильцы соседних домов, принюхиваясь в своих квартирах.
Шеф, с его аллергией, истерически чихал и проклинал свое богатство, которое закинуло его в этот чертов дом.
На последнем, десятом этаже жил рыбопромышленник с утраченной для истории фамилией. В морозную зиму, как раз когда отвоняла Акопова бастурма, он решил устроить на чердаке сауну и для этих целей зациклил там отопительный стояк. Отапливаться стали исключительно его квартира и чердак с сауной.
Три дня девять нижних этажей клацали зубами, спали прямо в норковых шубах и кляли на чем свет стоит городские власти. На четвертый день кто-то случайно узнал, что в соседних домах тепло есть. Стали докапываться до истины. И уже на пятые сутки делегация из женщин в помятых от спанья норках и стая сопливых детишек молотили посиневшими руками в двери рыболова.
– Что ж ты, сукин кот, творишь! – взревела, как Ярославна на валу, жена Акопа Оганесяна – Изольда Оганесян. – У нас уже бастурма заморозилась!
– А чтоб ты сдохла со своей бастурмой! – визгнул из-за двери рыболов, но на следующий день отопление все-таки разомкнул.
Шеф тихо балдел, оглушительно сморкался, пил чай с малиной и грозился съехать в спальный район, к народу.
Вот в эту-то воронью слободку и въехал Феликс, приобретя, как я сказал, весь первый этаж. Четыре месяца дом сотрясался от грохота перфораторов. На пятом месяце ремонт был закончен, и Феликс пригласил соседей на новоселье.
Когда Акоп, рыбный король, мой шеф и их жены вошли в Феликсову берлогу, их прошиб холодный пот. Хозяйской волею на этаже были снесены все стены и перегородки, кроме наружного контура. Абсолютно все. Девять верхних этажей держались на четырех стенах и добром слове. Один громкий чих или неосторожный возглас – и мой шеф рисковал очутиться вместо шестого на первом этаже вместе с Акоповой бастурмой и сауной рыболова. Торжества были скомканы, Феликса прижали в углу и потребовали немедленно принять меры. Еще три месяца потребовалось ему на возведение арок и колоннад.
Шеф тихо плакал, проклинал свою деловую хватку и искренне завидовал обитателям одноэтажных бараков. Следующее новоселье Феликса прошло без осложнений, не считая того, что несколько гостей, отправившись на поиски туалета, чуть не заблудились в аркадах.
Вот к этому-то Феликсу мы с Ари вломились в офис с предложением о сотрудничестве. Феликс тут же проникся важностью ситуации и сразу пошел на контакт.
– Есть у меня идея, – сказал он мне. – Хочу построить шестиэтажный гипермаркет с подвальным гаражом. Есть все: чувства, мысли, фантазия и добрая воля. Не хватает малого – ста сорока миллионов долларов. Все окупится через каких-нибудь двадцать лет. Да ты переводи, Игорь, переводи.
Но я не стал это переводить. Я просто посмотрел Феликсу прямо в глаза и откровенно сказал:
– Феликс, неужели вы думаете, что, если бы у меня были знакомые, готовые без всяких гарантий вложить куда бы то ни было сто сорок миллионов долларов, я сидел бы сейчас здесь перед вами? Да если бы у меня были такие знакомые, я давно жил бы в Ницце на вилле стоимостью три миллиона баков и имел в Швейцарии счет еще на сто тридцать семь миллионов. И этот финн, – я указал на Ари, – имей он таких знакомых, поступил бы точно так же.
Такая вот птица этот Феликс.
По законам военного времени
Чтобы понять дальнейшую неразбериху, нужно немного углубиться в лингвистические дебри. Фраза «katso, please: military laki» состоит из смеси английских и финских слов. «Katso» по-фински означает «смотри». «Please» по-английски – «пожалуйста». «Military», тоже по-английски, – «военный». А вот с «laki» в нашем случае вышла несуразица.
Дело в том, что в финском языке есть долгие и краткие согласные, которые выполняют и словоразличительную функцию. Проще говоря, одно слово может отличаться от другого только одним этим долгим или кратким согласным звуком. На письме долгота обозначается удвоенной буквой, а на слух почти незаметна. Так вот, «lakki» по-фински означает «фуражка», a «laki» (с кратким «к») – «закон». Отсюда и значение всей двуязычной фразы меняется кардинально.
А теперь сама история.
Мы выходим с Юсси и Пертти из бара, где мои приятели по финской традиции купили на дорожку водки, и идем к машине. Когда мы уже готовы в нее залезть, к нам подбегает маленький человечек, достает из кармана офицерскую кокарду, сует ее финнам под нос и говорит задушевно ту самую замечательную фразу:
– Katso, please: military laki.
Плохо зная финский, я не обращаю внимания на злосчастное «laki». И без того все понятно: мужичок хочет продать иностранцам эту самую кокарду с военной фуражки, которую, не зная слова «кокарда», он и упоминает. Посмотрите, мол, пожалуйста. Я вежливо улыбаюсь в ответ и отмахиваюсь. Тем большее недоумение вызывает у меня реакция моих финнов. Они бледнеют, потом сереют. Трясущимися руками Юсси отмыкает машину. Косясь то на меня, то на субъекта с кокардой, Пертти спрашивает:
– Можно ехать?
– Конечно, – недоумеваю я.
Мы трогаемся с места. Финны все время воровато оглядываются. Они, в отличие от меня, поняли ситуацию совсем по-другому.
– Это из-за водки? – спрашивает Юсси, его глаз нервно подергивается.
– Что из-за водки?
– Проблемы с военными.
– У вас проблемы с военными? Какие проблемы? Вас что, пограничники задержали при въезде?
– Нет, но вот этот товарищ…
– Какой?
– Да вот только что. Из ЧК. С полицейским значком, который он нам предъявлял. Это из-за водки? Мы не имели права столько покупать, да? Это стратегический русский продукт?
Тут я начинаю понимать, о ком идет речь, и пытаюсь выяснить, что же такое произошло. Через пять минут ситуация проясняется. Финны сияют от радости:
– Мы думали, что в лучшем случае нас отправят на двадцать пять лет в Сибирь. А в худшем – вывезут за город и расстреляют без суда и следствия.
Гармонь, моя любимая
Ари опостылела жена. Но он очень любит свою семилетнюю дочку Аниту. Это я знаю от него самого. И вот во время очередного приезда он проедает мне плешь просьбами достать для Аниты гармошку. Бизнес ему не в бизнес.
– Когда закрываются магазины? – теребит он меня с обеда. – Мы успеем? Я должен ее купить во что бы то ни стало.
– Успеем, успеем, – утешаю я его.
Задача оказывается элементарной. Все полки в салоне музыкальных инструментов уставлены гармошками, баянами, аккордеонами всех размеров, цветов и фасонов. Ари пробует пару инструментов. Играть он не умеет, поэтому звуки извлекает душераздирающие. Вдруг его блуждающий взгляд устремляется на балалайку.
– Игорек, как ты думаешь, что играет громче – гармошка или балалайка? – ищет он моего совета.
– Думаю, что гармошка, – теряюсь я. – А твоя дочка на чем хочет играть?
Ари хмурится:
– Да ей, собственно говоря, все равно. Она ни на чем играть не умеет. Я целыми днями на работе. А жена все время дома. Так хочется, чтобы дочка играла как можно громче. Я гармошку беру. Пусть играет. Чтоб у жены голова раскалывалась.
По две курицы за страницу
Ко мне в кабинет заявляется директор птицефабрики по
фамилии Булыга. Он держит в руках бумажный сверток. Из свертка капает.
– Готов контракт, Игорюша?
Булыга – друг моего шефа. И мне пришлось взять на перевод его контракт.
– Угу, готов.
Булыга сует сверток мне в руки.
– По две курицы за страницу, Игорюша. Как и договаривались.
– Угу, – говорю я.
А что мне еще остается сказать? Денег у птицефабрики нет. А куры пока есть. И был еще один трактор. Какой-то новый, иностранный. Но его судьба уже решена переведенным мною контрактом. Булыга продает его шведам, а взамен получает для себя бэушную легковушку «вольво».
Я держу в руках сверток, и куриная кровь капает мне на туфли.
– Не тяжело вашим птичницам будет без трактора, Василий Сергеевич? Последний ведь он у вас? – спрашиваю я.
– Ай, – отмахивается Булыга, вытирая платком пальцы, – справятся! Не ходить же мне пешком на работу. Спасибо, Игорюша.
Неуверенный Егорыч
– Мы обязательно найдем вам хорошего переводчика с финского. Есть у нас такой человек. И за ним уже послали, – обещает Мана.
В директорском кабинете тесно. Мы учреждаем автотранспортное предприятие. И финны собираются продать нам седельные тягачи вместе с фурами. Разговор серьезный.
Чтобы порадовать Сеппо, Мана послал за своим знакомцем Петром Егоровичем.
Пока Егорыч не появился, мы приступаем к переговорам. Технические термины для меня трудноваты. Разговор идет медленно. Однако в течение часа мы все же выясняем модель тягача, грузоподъемность фуры и объем кузова, количество осей, в том числе ведущих, нагрузку на грунт, нагрузку на ось, тип рефустановки, расход топлива ведущего дизеля и дизеля рефустановки и подходим уже к температурным максималам рефустановки…
В это время в кабинет заходит мужичок с папочкой в руке.
– Егорыч! – приветствует его Мана.
Мужичок достает из папочки русско-финский словарик, что сразу меня настораживает, и приветствует наших партнеров:
– Терве! (Здрасьте!)
Финны склабятся в ответ и жмут Егорычу руку.
– Теперь дело пойдет, – радуется Мана. – Сейчас выясним максималы.
– Я немного потренируюсь? – спрашивает наш новый друг. – Давно, знаете ли, не общался.
Шеф мрачно кивает:
– Приступайте. Только быстрее.
Егорыч изрыгает на финнов, подбирая слова, какую-то тираду. Я ничего не понимаю. Но в глазах Сеппо и Юсси тоже сквозит напряженное внимание.
– Митя? (Чегось?) – переспрашивают они.
Мужичок повторяет заход. Наверное, это и есть тренировка. Юсси начинает втолковывать Сеппо смысл сказанного.
– Сеппо что, по-фински не понимает? – бурчит шеф.
Тем временем для Петра Егоровича наступает момент истины. Финны наконец-то разобрались с его вопросом и начинают что-то объяснять. Теперь уже Егорыч поминутно спрашивает: «Чегось?» – и финнам приходится начинать все сначала.
Проходит минут двадцать. Финны взмокли. Егорыч издергался. Он нервно мусолит словарик. Шеф выпил уже три чашки чая. Мана скурил пять сигарет. Андрей, директор будущего предприятия, ерзает на стуле. Я злорадствую.
Еще через двадцать минут Юсси начинает рисовать в блокноте машинку, объясняя что-то Егорычу на пальцах.
– Ну что, натренировались? – бурчит шеф.
– Про максималы спросите, про максималы, – торопит Андрей.
– Максималы? – удивленно поднимает бровь Петр Егорович. – Насколько я понял, здесь речь, кажется, идет о какой-то машине. Но я еще не уверен, хотят ли они ее продать или купить…
Терве, терве, негодяи!
Наше автотранспортное предприятие рождалось скоропостижно и в муках. Из-за спешки в его уставе можно было вычитать подобные перлы: «В правление делегируется по одному человеку от каждой из двух сторон-учредителей – итого три человека». Но вот финны привезли нам первую подержанную «вольвушку», и работа закипела.
Как оказалось, на максималах Егорыча беды не закончились. За первые полгода работы на тягаче полетели кардан, коробка передач и двигатель.
– В этом есть и светлая сторона, – утешал я Андрея. – Теперь у тебя практически новая машина.
Андрей вертел в руках счета за ремонт и плакал крупными солеными слезами.
Последней каплей горя явился интернациональный экипаж. Финны настояли на том, чтобы одним из водителей был дальний родственник Сеппо – алкоголик Пентти, который тут же стал оказывать разлагающее действие на своего русского коллегу Петю.
Петр и раньше-то не был трезвенником. А теперь под руководством финского тезки и вовсе стал пошаливать. Расписание рейсов машины, как у парусной шхуны, целиком зависело от игры стихии. Чтобы выезд состоялся, требовалась ситуация, когда хотя бы один из водителей был трезв. А предсказать это заранее было непросто. Тем более что пили они почти всегда вместе.
– Заведи себе гадалку или астролога, – предложил я Андрею.
Андрей выругался матом, а потом извинился.
Даже при счастливом стечении обстоятельств, когда машина трогалась с места и без поломок доезжала до границы, ни один рейс не обходился без сюрпризов. Как-то раз наши «пентти» прикрепили сверху на фуру ящик водки, не зная, что таможенный пост оснащен видеокамерой слежения на мачте. Когда через пять часов мы с Андреем приехали на границу платить штраф, таможенники все еще хохотали.
В другой раз водилы умудрились потерять «матка лупа» (разрешение на проезд грузового транспорта по финской территории). Эту самую «матка лупа» им выдали в гараже в полиэтиленовой папочке. Через двести пятьдесят километров, когда они добрались до границы, она таинственно исчезла.
Мы с Андреем и девственно новой «матка лупой» прибыли, как всегда, через пять часов. Таможенники утирали слезы от смеха. Когда Андрей стал кричать на Петьку так, что с мачты упала видеокамера слежения, один из них подошел ко мне и попросил не наказывать драйверов.
– Самый прикольный экипаж, – сказал он. – Мы ждем каждого их рейса. Без них скучно работать.
– Я тоже каждого их рейса жду! – сказал Андрей демоническим голосом и положил под язык нитроглицерин.
В это время из кабины грузовика высунулся пьяненький Пентти.
– Терве, терве! – помахал он рукой нам с Андреем и задумчиво улыбнулся.
– Терве! Терве! Негодяи! – рявкнул Андрей и случайно проглотил нитроглицерин.
Капитанский капкан
Один знакомый сосватал мне английского шипчандлера (судового поставщика). И мы с ним отправились в Нижний Новгород для переговоров с Волжским речным пароходством. Весь день переговоры шли великолепно. Но вечером мы имели несчастье назначить встречу с неким капитаном.
Наши капитаны – народ особенный. Любой из них несет в себе богатую коллекцию дурных привычек. Одни слишком много пьют. Другие постоянно ругаются матом. Третьи…
Впрочем, все эти проблемы разрешимы. Особенно, когда вы путешествуете с шипчандл ер ом. Но одна из капитанских дурных привычек (ей инфицировано все поголовье отечественных капитанов) особенно зловредна: они считают, что умеют говорить по-английски. Наш капитан не был исключением.
– Моя есть говорить сама собой, – с порога обратился он на ломаном английском к моему другу.
Эта фраза сразу же зародила во мне некоторые сомнения относительно его лингвистических способностей. Но изменить что-либо я был не в силах – капитан просто рвался в бой. Совсем как старая полковая лошадь, вновь почувствовавшая себя под седлом. И я позволил ему мучить моего английского друга. Переговоры начались.
– Видите ли, капитан… («You see, captain…»), – начал несчастный шипчандлер.
Это «видите ли» было его любимой фразой. И он начинал ей чуть ли не каждую свою мысль. Больше он этого не делает. После той самой встречи с капитаном.
– Видите ли, капитан… – начал он.
– Спасибо, спасибо, огромное спасибо за комплимент, – прервал его капитан, зардевшись и озарив лицо стеснительной улыбкой. – Но я должен быть откровенен: я не морской, а речной капитан.
Дело в том, что в английском языке слова «морской» (sea) и «видеть» (see) звучат одинаково. Последовала долгая пауза, во время которой шипчандлер пытался понять, что пошло не так. Когда он сообразил, в чем дело, он начал снова (это был ложный шаг):
– Видите ли, капитан…
– Прошу прощения, – снова с улыбкой, – но я не морской капитан – я речной капитан.
Что можно сказать о нашем морском волке? Он был профессиональным моряком. И все его знания лежали в сфере его профессии. Он не был лингвистом. Он ничего не знал об омофонах, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково. И во фразе «you see, captain…» ему слышалось «you’re a sea captain…»
Сначала у меня было желание вмешаться. Но затем мне пришло в голову, что мы были гостями капитана. Следовательно, было бы абсолютно бестактным обращать внимание на его ошибки – он так гордился своим английским. Поэтому я хранил молчание.
Охваченный паникой шипчандлер бросил на меня дикий взгляд и сделал третью попытку. На этот раз без своего «видите ли». Капитан был счастлив поддержать разговор. Но уже второе или третье предложение мой друг начал со своей коронной фразы. Улыбка на лице капитана не оставила никаких сомнений. Шипчандлер замолк и обреченно выслушал получасовую лекцию о специфике речного судовождения и принципиальной разнице между морем и рекой. Да, наш капитан был большим патриотом своей профессии.
Они разговаривали более четырех часов. Я сожалел о потраченном напрасно времени. Шипчандлер сожалел, что вообще появился на свет. Капитан сожалел о тупости шипчандлера, но не мог предать свою профессиональную гордость.
Когда мы прощались, капитан заметил:
– Волга – это судьба моя!
– О да! – воскликнули мы с англичанином в один голос.
Только без макарон!
В городе суета: грянул международный форум. Я приезжаю в гостиницу забирать своего норвежца.
Первым, с кем я нос к носу сталкиваюсь в холле, оказывается Мартти – финн-переводчик. Одно время его таскал с собой Сеппо. Мартти был его идеей фикс. Когда я услышал Мартти в первый раз, то принял его за чеха или хорвата. Славянская суть языка, на котором он говорил, была очевидна. Но понять я не мог ни слова.
– Так это ж он по-русски шпарит, – гордо объяснил мне Юсси.
– Ага, понятно, – хмыкнул я.
Но, если честно, то понятного было мало.
Сейчас за Мартти, как цыплята за курицей, бегут его жена в ветхом пальтишке и куча ребятишек. Причем видно, что младшие донашивают одежонку старших.
Увидев меня, Мартти радостно улыбается и резко тормозит. Жена тыкается ему в спину. Ребятишки с писком сбиваются в кучу. Мартти оборачивается и гневно изливает на них какие-то финские проклятия. Семья испуганно перестраивается в шеренгу. Наведя порядок, мой друг приветствует меня:
– Пока!
– Привет, Мартти, привет!
Финн хлопает себя рукой по лбу:
– Да, конечно. Привет!
– Какими судьбами?
– Как?
– Чего, говорю, здесь делаешь?
– А! Я этот, как его, пред-се-да-тель «Суомийуусто».
– Ты – председатель?
– Ага.
– Свою фирму, что ли, открыл?
– Нет, я здесь как их пред-се-да-тель.
– Может, представитель?
– Ай, да, пред-ста-ви-тель. Конечно.
– Ну, давай-бывай.
И я несусь по холлу к лифту. Два лица южной национальности кидаются мне наперерез.
– Рэкет! – думаю я.
– Мы турецкие моряки, турецкие моряки, – объясняет один из них по-английски. – Скажите, пожалуйста, где здесь можно поесть?
– Бар вон там, – машу я рукой вдоль холла.
– Нет, нет, ради аллаха! – пугается он. – Там только водка и печенье.
– Турецкое печенье, – млеет второй.
– Понимаете, – объясняет первый, – у нас был переход Сингапур – Мурманск. Два месяца одни макароны.
– Я дома повешу жене над кухонной дверью табличку: «Никаких макарон!», – жалится второй.
– Мы нормальные. Я, например, радиоинженер, – продолжает первый. – Скажите, где здесь ресторан?
– На втором этаже, вон через ту дверь.
– Спасибо, спасибо.
Я поднимаюсь на этаж.
– Ах ты, басурманская рожа! – орет дежурная по этажу на съежившегося возле стойки индуса. – Ты что же, гад, телефоны тыришь, да?!
Стоящий рядом с индусом хохляцкого вида морской офицер смущенно переминается с ноги на ногу:
– От же лышенько. Воно ж прыихало авианосэць купляты. У нього ж контракт на тры мильярды долларив. А воно телехвон з кимнаты упэрло. От же лыхо-лышенько.
Я чувствую, что моя голова начинает помаленьку распухать. Когда я стучусь в номер Берта, ощущение такое, как будто я бью себя по лбу киянкой. Кривой от головной боли улыбкой я приветствую норвежского друга.
– Игорь, – говорит Берт с порога, – это невозможно. Завтрак стоит четыре доллара. Так? Вчера утром я отказался от булочки. Я сразу сказал девушке на раздаче, что булочку не буду. И я не взял булочку, понимаешь? Но мне никто не вернул часть денег. Никто. Как ты думаешь, Игорь, сколько она может стоить, эта булочка?
– Я спрошу, я сейчас спрошу, – скулю я и веду несчастного Берта с ежемесячным доходом в пять тысяч долларов на завтрак.
– И сегодня я тоже не хочу булочку, – втолковывает он мне по дороге. – Если я буду так сорить деньгами, то вылечу в трубу.
Американская гордость
Однажды я работал с неким янки. Сейчас я уже не помню, зачем его занесло в Мурманск. Деловая поездка, скорее всего. Да это и неважно. Его звали Боб. И он приехал из городишки (не то Ньювиллиджа, не то Дьювиллиджа), о котором я сроду не слыхал.
Боб, правда, тут же объяснил мне, что его Фьювиллидж расположен в каких-нибудь тридцати милях от Портвика (или Дортвика?) Так что, если вы знаете этот самый Портвик-Дортвик, то Кьювиллидж всего в получасе езды. Но в какую сторону? Не думаю, что портвикцы знают об этом. Равно как и дортвикцы.
Но вот если вам посчастливится встретить там кого-нибудь из Сьювиллиджа, он, несомненно, тут же укажет вам дорогу. Я уверен, что все они знают дорогу из Мьювиллиджа в Портвик и обратно, из Дортвика в Хьювиллидж. Во всяком случае, Боб ее знал, ибо собирался вернуться в родной город и никогда не выказывал ни малейшего сомнения по этому поводу.
Но я немного отвлекся. Итак, мы с Бобом влезли на смотровую площадку, и мой американский друг, прищурив глаза, окинул взором панораму города.
– Да, большой город, – сказал он. – Почти что с наш Бьювиллидж.
Сказать, что я был удивлен, было бы слишком слабо. Нет, я был в шоке.
– Но, – выдавил я, обретя дар речи, – но сколько же жителей в этом твоем Тьювиллидже?
– О! – протянул Боб задумчиво, и его глаза наполнились ностальгией. – О, ядреный у нас городище, очень ядреный. Большое яблоко, так сказать. Двенадцать тысяч!
– Двенадцать тысяч?
– Почти.
– Но население Мурманска превышает триста тысяч! – вскричал я. – Признайся, что это несколько больше двенадцати.
Боб выглядел удивленным и расстроенным. Но это продолжалось не более двух или трех секунд. Потом он посмотрел мне прямо в глаза. Американская гордость пылала в его взгляде.
– Но кажется, – сказал он, поджав губы, – с виду кажется, что Бьювиллидж гораздо, гораздо больше…
С тех пор прошло уже пять лет. Но я так до сих пор так и не нашелся, что же ему на это ответить. Впрочем, это, конечно, не имеет уже никакого значения: Боб уехал из Мурманска на следующий день после нашего разговора. Он вернулся в свой Льювиллидж.
И мое единственное желание заключается теперь в том, чтобы поехать в Штаты, найти этот чертов Дортвик или Портвик, проехать от него тридцать миль в нужном направлении и взглянуть собственными глазами на городишко с двенадцатитысячным населением, который способен затмить собой трехсоттысячный город.
Лихой паромщик
– Игорек? Здравствуйте. Это Лев с овощебазы, – звучит в трубке вкрадчивый голос.
Боже, надо ж так представляться.
– А я – кролик с мясокомбината! – так и подмывает меня на грубость.
Выдержка, главное – выдержка.
– Добрый день, Лев Владимирович. Слушаю вас внимательно.
– Игоречек, позвоните, пожалуйста, в Испанию. Опять они нам всю поставку сгноили на пароме.
– Конечно, – говорю я, хотя прекрасно знаю, что дело гиблое.
Овощи едут из Испании в Германию на испанском тягаче. Потом фура грузится на финский паром и идет в Хельсинки. На переходе электрическую рефустановку запитывают от сети парома. Для экономии – премию им, что ли, за это дают? – финские паромщики частенько вытыкают ее из розетки. Когда в Хельсинки фуру берут финские драйверы, овощам уже нанесен непоправимый ущерб.
Самописцы всякий раз фиксируют нарушение температурного режима во время морского перехода. Но излить праведный гнев не на кого. Испанцы валят все на паром, финские экспедиторы – на испанцев. А паромщики при этом клянутся римскими богами, что перебоя в электроснабжении у них быть не могло. Крайними, таким образом, оказываются самописцы и сами овощи, имевшие наглость сгнить, не проникшись духом солидарности с нашим холдингом.
Бывают, правда, и другие случаи. Иногда наши менеджеры по закупкам специально берут, скажем, слипшийся лук по цене кондиционного. Разница между фактической ценой и завышенной оплатой делится между финскими посредниками и нашими менеджерами по-братски и оседает на счетах в Финляндии.
Чуя свою нужность и партнерскую алчную заинтересованность, финны наглеют просто на глазах. И вот уже на вопрос, когда же у мороженого «Сникерс» заканчивается срок годности, Ари, глазом не моргнув, заявляет:
– А когда нужно?
Поставляемое мороженое пора отдавать в ясли – ему уже два годика.
– Выглядит, как новенькое, – обещает Ари.
Менеджер калькулирует в уме свои личные доходы с этой сделки.
– Сгрызут, – делает он вывод после некоторого колебания.
Я решаю оповестить о страшном мороженом друзей и порекомендовать его врагам. Все дело, однако, чуть окончательно не загубили кладовщики. Грузовик с мороженым пришел поздно вечером. Увидев в накладных слово «Сникерс» и приняв товар за шоколадные батончики, они разгрузили его вместо холодильника на обычный склад.
Только к обеду следующего дня, когда из ящиков закапало, кладовщики забили тревогу и позвонили мне. Я орал так, что меня, наверное, было слышно и без телефона. «Сникерсы» перегрузили и охладили. Я позвонил финнам.
– Разморозили? – ничуть не удивился Ари. – Ну и что? За эти два года их столько раз размораживали, что им уже ничто не повредит.
– Их есть-то хоть можно, Ари?
Ари замялся.
Не успели наши сограждане сгрызть пенсионное мороженое, как все тот же Ари предложил партию трикотажа.
– Очень дешево, – порадовал он меня по телефону.
– Опять какая-нибудь дрянь? – насторожил я уши.
– Приеду и все объясню, – заверил он.
Одежда конечно же оказалась некондиционной.
– Но процент брака очень невелик, – щебечет Ари. – Очень невелик. Не более трех-четырех процентов.
Очередной менеджер, его зовут Василий, морщится. Он явно не в восторге. Но тут искуситель Ари выбрасывает козырную карту:
– Спроси, Игорь, поменял Василий лобовое стекло на своей «вольво» или еще нет?
При упоминании о стекле Вася начинает жевать губами.
– Привезем тем же грузовиком, что и одежду, – гарантирует Ари. – Бесплатно. Бонус.
Это решает дело.
– Четыре процента брака, говорит? – воодушевляется Вася.
– Три. Век воли не видать: три, – горячится финн.
Василий вздыхает:
– Берем.
Одежда пришла через три недели. Ари не врал: брака в ней было не более трех процентов. Возможно, даже меньше. Ари только забыл сказать, что эти проценты равномерно распределены по каждому изделию: там на колготках упущена петелька, тут на кофточке дырочка, а на свитерке пятнышко. Зато Васино стекло дошло хорошо. Еще бы: ведь оно было укутано таким количеством трикотажного рванья!
Побег в рождество
1
Оттепель. И это двадцать первого декабря. Только в Арктике может быть такое. Не зря называют ее метеорологи кухней погоды. И жить на этой кухне не всегда приятно. То морозы уж совсем распояшутся и вожмут красный спиртовой столбик в колбочку термометра. То вдруг захлюпает под ногами жижа, казалось бы, в самое благоприятное для холодов время – накануне Рождества. Именно она, Арктика, нависающая со всех сторон над Кольским полуостровом, давит и требует к себе уважения – истеричная, как все женщины.
Вечно клубящиеся в этом углу Европы циклоны и антициклоны сдувают с неба то снежинки, то противную обледенелую крупу, то откровенно мокрые капли дождя. Земля вечной осени под вечно серыми облаками. Здесь с утра может быть минус двадцать, а вечером – плюс пять. И только стук дождевых капель по подоконнику расскажет о произошедшем катаклизме. Дождь да головная боль.
Мы бежим на Рождество в Финляндию. Там климат ровнее. Бежали от морозов. А получилось, что подгоняет нас вслед оттепель. Она пришла, как всегда, внезапно, постучавшись утром в окно падающими с отливов верхних этажей комьями снега. Этот стук нас и разбудил.
Если бы мы выехали сразу, то сейчас бы уже плескались веселыми рыбинами в тропическом бассейне Саарисельки.
Забыть на время обо всем – единственное мое желание. Забыть о переговорах с клиентами, о переливах телефонных звонков, о писке факса по номеру, от которого ждал уже ставшего почти родным голоса делового партнера.
В девять часов нас разбудили срывающиеся вниз комки подтаявшего снега. Собственно говоря, то, что мы не выедем раньше обеда, уже можно было предсказать по осмысленному и бодрому Тошкиному взгляду.
Это была моя ошибка. Надо было завести будильник на шесть утра, как я первоначально и намеревался, согнать очумевшую от такого жуткого недосыпа Тошку с кровати, наспех напихать ее бутербродами и засунуть в машину.
Узнав накануне вечером о подобной экзекуции, Тошка впала в депрессию, вспомнила о своем возрасте и постаралась уверить меня в том, что нет решительно никакой необходимости для такого подрыва собственного здоровья. Она смотрела на меня своими темными нахальными глазами и мостила золотыми кирпичами дорогу к моему чувству сострадания. И я дал слабину. Ее низкий, немного хрипловатый голос обладает гипнотическим даром убеждения. Наверное, это помогает ей в бизнесе.
Именно бизнеса я и опасался. Я предчувствовал что, задержись мы в городе до девяти тридцати, когда начинается рабочий день в офисе, Тошка обязательно поедет туда, чтобы дать последние указания опьяненным предстоящей недельной свободой сотрудникам.
Все, думая, что она уже далеко, будут попивать кофеек за неторопливой беседой или попискивать какой-нибудь новой, еще не освоенной до одури компьютерной игрой. И это совсем не будет означать, что персонал плохо работает. Просто людям нужна разгрузка. Им тяжело постоянно находиться под пристальным взглядом начальницы. Они выполнят всю необходимую работу, ни о чем не забудут и ничем ее не подведут. Но им хочется почувствовать себя хоть немного свободнее. И если нет телефонных звонков и назначенных встреч, то почему бы им не занять свое нечаянно освободившееся время чем-то более интимным и приятным, чем выяснение квадратуры кухни у одних клиентов с последующим убеждением других в самой что ни на есть объективной комфортности именно этой квадратуры?
И тут она влетит в офис. И полой шубы обязательно смахнет со стола чью-то недопитую чашку горького кофе. И чей-то виртуальный герой почти наверняка будет съеден из-за ее появления ужасным монстром. И застучат клавиши компьютеров, чтобы поскорее убрать с мониторов зловещие лабиринты подземного царства, вернув на них бланки договоров и таблицы с прайс-листами. И именно в этот момент – как будто он заодно с Тошкой – зазвонит телефон. Так, чтобы кто-нибудь поперхнулся печеньем и прямо под насмешливым взглядом начальницы закашлялся в трубку.
Потом Тошка будет сжимать Васькину руку, объяснять ему всю важность своего предстоящего недельного отсутствия и всю его необъятную ответственность по ее замене. Еще и еще раз напоминать ему номер своего сотового, который он и так знает наизусть, да который к тому же забит у него на смартфоне в быстрый набор. И будет просить его, не стесняясь, звонить ей в любое время при малейшем осложнении. Но какие могут быть осложнения? Веселые времена дилетантов прошли, и пришло скучное время профессионалов. Все сотрудники знают, что им делать. Но Тошка требует от них ежеминутного горения.
Отчасти ее можно понять: риелторская фирма создана ей с нуля. Она сама обставляла и обустраивала офис, который теперь окутывает клиентов уютом, создавая необходимую для их последующего пленения расслабленность. Из сетей их «кожаной» комнаты для особо важных гостей, пахнущей хорошим кофе и коньяком, вырваться почти невозможно. Когда VIP-клиентов нет, Тошка настаивает, чтобы сотрудники сами пили здесь кофе – комната должна все время быть обжитой. И атмосфера идеальной нетронутости интерьера только испортила бы впечатление.
Оставляя фирму, Тошка всякий раз переживает за нее так, как будто бросает грудного ребенка. И предчувствия пагубных последствий – по большей части ничем не мотивированные – ее пусть даже и недолгого отсутствия грызут ее еще до отъезда.
Именно поэтому соорудил я грандиозный план раннего выезда. Шестичасовой подъем, хоть сам по себе и нерадостный, мог спасти целый день наших рождественских каникул. Но Тошка встала на колени и, обвив мои ноги руками, клятвенно заверила меня в том, что в офис не поедет. Конечно, у Васьки все будет под контролем. А если что, он всегда сможет найти ее по сотовому. Да она и сама сможет ему названивать время от времени. И она полнейшая дура, что вечно так переживает за свою работу. Никакая работа не стоит и сотой доли этих волнений.
Тронутый такой самокритичностью Тошки, я смалодушничал и отказался от несусветно раннего подъема. Тошка от радости хлопала в ладоши. А я терзался смутными сомнениями: так ли уж милосерд я был по природе? Или это собственная лень заставила меня отложить отъезд? Тошка приписала уступку единственно моему добросердечию, не оставив мне выбора. Так что я лег спать, гордясь собой.
Утро, однако, все расставило по своим местам. Тошка, забыв о своих обещаниях, подчинилась инстинкту и сразу после завтрака уехала на работу. Ее твердые гарантии вернуться ровно через час не стоили и гроша. Я пытался, правда, навязаться ей в шоферы, чтобы поскорее вытащить из офиса. Но Тошка, сославшись на предстоящую мне дальнюю дорогу, уехала одна, что окончательно убедило меня в скверности ее замыслов. Так и получилось. Мы выехали из города только в четыре, когда полярная ночь уже полностью вступила в свои права над этим северным краем земли.
2
Мурманск отделяют от финской границы двести с лишним километров. Меньше чем за три часа их не преодолеть. Мрак вокруг машины нарушают лишь световые столбы фар. Места здесь дикие и необитаемые. Дорога плавными поворотами петляет между сопок. Когда-то ее в качестве времянки построили финны, возводившие неподалеку плотину ГЭС. По ней из Финляндии подвозились материалы. Финны даже временные дороги строят на века, по всем правилам, с профильной, как на треке, отсыпкой поворотов. Постепенно, уже после ухода финнов, наши ремонтники раз за разом проходили грейдером по лоттинской – она идет вдоль реки Лотта – грунтовке, все более и более выравнивая укосы на поворотах. Через несколько десятилетий подобного варварства дорога пришла в упадок и стала почти непроезжей летом. Зимой лед сковывает резвые ручьи, подгнившие сваи мостов и навезенные дорожниками за лето песок да гравий. Дорога прочищается все теми же грейдерами, накатывается большегрузами и лесовозами, приобретая обманчиво роскошный вид. Правда, на ней не стоит злоупотреблять быстрой ездой, дабы не пролететь мимо очередного крутого поворота.
Я держу восемьдесят. Перелески корявых берез сменяются болотами, которые лежат сейчас под снегом, как огромные футбольные поля. Потом березы сменяются сосняком или ельником, чтобы затем открыть случайному взгляду блестящую в лунном свете полосу какой-то речушки.
Темно. Темно везде: сверху, сбоку, в машине. Фары бессильно бьются об эту темноту. Их хватает только на то, чтобы оконтурить перед капотом джипа бесконечную ленту дороги. Да на бесчисленных поворотах ударить по ближним деревьям, закутанным, как привидения, в белые саваны. Деревья на мгновение, как в аттракционе «Комната страха», выступают, словно живые покойники, вперед и опять исчезают в темноте, как только луч света соскальзывает с них и несется вместе с машиной вперед.
Перевернутая чаша небес с продирающейся вслед за нами сквозь облака полной Луной давит своей огромностью. Наш джип кажется крохотным очагом жизни в безбрежном море пространства. Редкие встречные машины – как межгалактические корабли братьев по разуму, обнаруженные в глубинах мертвого космоса. Они проносятся мимо на сложенных встречных скоростях. И мы с Тошкой снова одни под этим черным небом.
В морозы весь пейзаж казался бы сине – фиолетовым. Снег, небо, деревья, тени – все играло бы оттенками от голубого до темно-лилового. Все укладывалось бы в прокрустово ложе этого узкого сектора цветового спектра. И только в ясную погоду небосвод время от времени переливался бы фосфоресцирующей зеленью северного сияния. Как будто кто-то включил на нем огромный осциллограф. Кроме синего, фиолетового и фосфоресцирующего зеленого, других цветов у холода не существует. И они тем ярче, чем морозы крепче.
В этом году они насели на Кольский полуостров с середины ноября, стали давить и выжимать влагу из всего живого. Все словно высохло: хрустящие иголочки снежинок, с воздушной роскошью улегшиеся в огромные сугробы – обманчиво прочные и массивные, режущий горло воздух, похожее больше на дым, чем на пар, дыхание, потрескавшиеся губы.
Мороз убыстряет все процессы. Мужчины носятся по
улицам, как сумасшедшие. Женщины в белых от инея шубах со стоящим дыбом мехом ходят огромные и волосатые, как белые медведи, закрывая варежками носы. Машины с особым хватким рвением скрипят шинами по обледенелым, но абсолютно не скользким при такой температуре дорогам. Да и сами дела, как кажется, решаются если и не лучшим образом, то, во всяком случае, быстро.
Мороз веселит и подзадоривает. Первую неделю. Восьмое утро и далее по календарю вы уже начинаете со скорбного моциона к окну, за которым висит термометр. Блестящими – то ли со сна, то ли от надежды – глазами вы, прищуриваясь, стараетесь рассмотреть в заоконной тьме долгожданные симптомы повышения температуры. Так больной ждет своего выздоровления. Вы робко проводите взглядом по позвоночному столбу измерительной трубки и не отыскиваете красный спиртовой наполнитель вообще. Растерявшись, вы делаете новый вираж глазами и проходите взглядом по термометру с особой тщательностью. Только с третьего захода вы наконец обнаруживаете красный штришок, забившийся где-то между двадцатью пятью и тридцатью градусами. Точность уже неважна.
– Не потеплело, – грустно констатируете вы и тут же подводите итог: – Черт бы побрал эту небесную канцелярию.
При таком отношении вряд ли можно рассчитывать на милость со стороны дирижеров матушки-Погоды. Кем бы они ни были: работниками ли чертовой, но по чьей-то ошибке обосновавшейся на небе канцелярии, или массами воздуха, страдающими гипертонией и несущимися на прием к своему лечащему врачу именно над тем самым забросанным ледниковыми камнями краем земли, где вы имеете счастье обитать.
Через месяц подобных холодильных температур мы с Тошкой окончательно оледенели. От постоянного клацанья зубами Тошка потеряла пломбу. Вынося свое роскошное тело из кабинета дантиста, она простонала (я находился в коридоре, ибо сопровождал любимую женщину для укрепления ее мужества):
– Мы уедем от этих проклятых морозов. Мы сядем сейчас же в машину и поедем на юг.
Здравые мысли покинули Тошку, как только улеглась боль после отошедшего укола. «Сейчас же» было отложено до Рождества, а «юг» поджался почти к самому полярному кругу, достигнув границ финской Лапландии. Но и это уже была победа: Тошку трудно оторвать от работы. Собранное по крупицам благосостояние требует ежедневного контроля.
Я позвонил Юсси, чтобы забронировать его загородный коттедж на рождественскую неделю. Сначала финн отказал мне напрочь:
– Как можно. Я сам буду справлять там Рождество. Со своей собственной семьей. И не лучше ли вам подождать немного и приехать на это ваше русское Рождество?
Я объяснил ему, что мы не можем ждать, что мы хотим убежать от морозов, что мы уже пять недель боремся с холодом и просто не доживем до русского Рождества. Юсси привык быть победителем. Потеря клиента не входила в его планы. Поэтому преимущества отсрочки нашего визита обрушились на меня с новой силой.
– Мы приедем, – сказал я. – Все равно приедем на следующей неделе. Нравится тебе это или нет. Я так решил. И мне удалось убедить Тошку в правильности моего решения. Мы забронируем отель. В отелях на Рождество всегда пусто. Все встречают этот праздник дома. Это только ты, Юсси, гонишь семью в засыпанный снегом коттедж. Что касается нашего русского Рождества, то мы, как и все нормальные люди, тоже хотим провести его дома.
Победительный дух Юсси при ближайшем рассмотрении был весьма похож на алчность. Иногда, говорят, их даже путали. Услышав о варианте с отелем, дух взбунтовался и заставил финна отказаться от своих видов на загородное празднество.
Собственно говоря, Юсси живет в отличном доме километрах в тридцати от своего загородного коттеджа. В доме есть камин и сауна. Вокруг ельник, рядом озеро. В чем отличие этих двух мест и почему одно из них называется городским домом, а другое – загородным коттеджем, я никогда не понимал. Наверное, исключительно смена обстановки и легкий флер предпраздничных сборов побудили финна собраться на Рождество за город.
Потеря клиента, однако, перевесила все преимущества – объективные или субъективные – выезда поближе к лону природы. И я получил коттедж под твердую гарантию своего прибытия…
И вот мы едем. Хотя мороз исчез. Получилось, что сбежал он, а не мы. Еще вчера вечером он выжимал из швов домов белый туман. А сегодня утром мы проснулись с легкой головной болью и ощущением великих перемен. Градусник завис немного выше нулевой отметки. И хрупкий сиреневый пейзаж рассыпался на разноцветные кубики, словно повернули тубус калейдоскопа. Все раскисло, снег набух влагой и стал похож на старое желтоватое сало, вытащенное из холодильника в теплоту квартирной кухни. И кажется, что мы – карлики – мчимся в своей крохотной машинке по огромному шмату соленого шпика с рассыпанными укропом ельничками и мясными прожилками скальных плит, торчащих кое-где из крутых укосов сопок.
В такую погоду краски кажутся особенно яркими и жирными, как если бы кто-то протер все предметы вокруг тряпкой, смоченной в глицерине. Может быть, тому виной влажные стекла машины? Они обледенели за ночь, теперь оттаяли, покрывшись мельчайшими капельками воды. Время от времени одна из них не удерживается на скользкой поверхности и катится вниз, попутно сбивая и увлекая за собой все новых и новых соседок. К нижней кромке стекла подкатывается уже весьма крупная и важная от собственной значимости капля, способная отразить на своей выпуклой напряженной поверхности трепещущие в дымке воздуха огоньки пролетающих мимо редких встречных машин.
Мне некогда разглядывать капли: я веду джип и чувствую себя одиноко. Темно. Полярная ночь. Канун Рождества. Тошка дремлет на заднем сиденье. И мне видно в зеркале ее усталое лицо. Она достаточно накрутилась за день и провела несколько часов на работе, оставшись глубоко уверенной в том, что все-таки забыла растолковать подчиненным что-то самое важное.
И только теперь Тошка умиротворилась и почувствовала, что впереди ее ждет отдых. Надеюсь, что у Васьки хватит сообразительности не трезвонить ей сейчас, чтобы выяснить, когда нужно поливать стоящий на ее столе кактус. Васька, как кажется, ценит в Тошке деловую женщину даже больше, чем сама Тошка себя таковой считает. Да, надо было отключить телефоны. Я бросаю взгляд на часы. Половина седьмого. Васька, наверное, уже ушел домой. Кто же будет задерживаться на работе в отсутствие начальства? Как все-таки быстро бежит время в этой безмолвной пустоте. Кажется, всего пару часов назад мы проснулись утром у себя дома – и вот уже вечер. Скоро будет граница. Машина покрывает километры мрака…
Хорошая машина. Я познакомился с ней при весьма интересных обстоятельствах и полюбил с первого взгляда. Я проработал в фирме чуть больше месяца. Финны приехали неожиданно и позвонили из гостиницы.
– Возьму такси, – сказал я Тошке.
Она разговаривала по телефону, но буркнула, зажав микрофон ладошкой:
– Какая дурость.
Да, ехать показывать квартиру за сто двадцать тысяч евро на такси – это дурость. Я сам это понимал. Те несколько встреч, которые я к этому времени провел, избавили меня от неловкости подобного положения. Либо я ждал иностранцев уже в квартире, либо они заезжали за мной на своей машине. Эти финны прилетели из Хельсинки самолетом.
– Дурость, – опять пробурчала Тошка и стала рыться в портфеле.
Потом она протянула мне ключи:
– Возьмешь мою машину.
– Какая?.. – начал было я.
Но Тошка, занятая телефонным звонком, только отмахнулась:
– Он сам тебя узнает.
К этому времени мы уже пару раз обсуждали с ней бизнес-планы и даже ходили в ресторан, но машины ее я не видел. Я вышел из подъезда и обвел взглядом парковку, забитую автотранспортом и смахивающую на прихожую, где гости, пришедшие на вечеринку, оставили свою обувь. Я ожидал многого. Но когда мне доверчиво подмигнул огромный «Рендж Ровер», я оробел. Мой новый знакомец приветливо заурчал четырехлитровым двигателем и охотно тронулся с места. Он явно симпатизировал мне как хозяину. И то сказать, для женщины он был тяжеловат. Почему Тошка выбрала именно эту машину? Может быть, она досталась ей от бывшего мужа? Я никогда ее об этом не спрашивал. Скорее всего, она отшутилась бы, сказав, что купила его специально для меня. Ведь я обожаю тяжелые мордастые машины. Они вызывают во мне страсть. И я влюбился в Тошкин джип с первого взгляда.
3
На часах уже начало восьмого. Полярная ночь смещает представления о времени. И если в городе, в гуще людей и машин, еще можно как-то ориентироваться, то на безлюдной дороге время неопределимо без часов. Можно выделить почти полуденный рассвет, за которым следует краткий световой период, который на Севере по традиции называют днем. Хотя это вовсе не день с астрономической точки зрения, ибо Солнце из-за горизонта в полярную ночь не показывается по определению. Далее, часов с трех, накатывают сумерки, быстро переходящие в глухую, непроглядную ночь. И все время кажется, что надо ложиться спать.
Пограничный пункт Лотта. Метрах в трехстах впереди – финская застава Райа-Йосеппи. Заспанная Тошка, зевая, тащится в каптерку. Таможенники осматривают машину. Впрочем, сложенные там вещи, кажется, мало их интересуют. Может быть, наши лица внушают им доверие?
Теперь Тошка садится рядом со мной на переднее сиденье. Ее сон перебили, а свежий воздух окончательно взбодрил ее голову. Женщина полна энергии, ей хочется есть.
– Через час мы будем в отеле и пойдем в ресторан, – утешаю я Тошку.
Вообще-то перед отъездом мы пообедали. Но дорога комкает время и убыстряет физиологические процессы.
Тошка находит в бардачке шоколадку.
– Ты перебьешь аппетит, дорогая, – говорю я ей.
Мы пересекаем границу. Похоже, Тошка нисколько не напугана моим предостережением. Она хрустит фольгой. Под этот праздничный веселящий шелест мы въезжаем в страну Рождества.
– Она в бардачке лежит от царя Гороха. Проверь срок годности, – не унимаюсь я.
Меня душит жаба, что я сам не догадался заглянуть в бардачок. Женские глаза округляются от испуга. Тошка – грамотный потребитель. В полумраке салона она ерзает носом по обертке, наклоняя плитку шоколада то так, то эдак, чтобы поймать на нее все время ускользающий куда-то свет Луны и рассмотреть злосчастный срок годности.
– До марта, – ликует она.
Запах шоколада будит во мне гастрономического террориста. И я провоцирую уже выделившую желудочный сок женщину:
– Это при соблюдении условий хранения.
Тошка подозрительно косится на шоколад.
– Если хочешь, я могу испытать его на себе, – предлагаю я.
Тошка скулит от негодования и откусывает гигантский кусок. Мои коварные планы и хитроумные подходы провалились. Мне достается лишь малюсенькая долька, один-единственный квадратик стограммового лакомства.
– Ты потом раскаешься в своей жадности, – угрожаю я.
– Это когда же? – интересуется Тошка.
– За ужином в ресторане, когда тебя после сладкого будет тошнить.
Тошка самодовольно хмыкает: она согласна. Еще бы. До Саарисельки больше часа езды. Любой согласится на какую-то далеко не безусловную, а только возможную в перспективе тошноту в обмен на заморенного червячка здесь и сейчас. Я очень хорошо понимаю Тошку. На ее месте я поступил бы точно так же. Жаль, ах, как жаль, что я забыл об этой шоколадке. А может, я никогда о ней и не знал? Интересно, кто и когда ее туда положил? Наверное, все же Тошка. Я бы никогда не забыл о такой вещи, особенно в условиях, когда голод обострил мои чувства.
Почему мне в дороге всегда хочется есть? Половина восьмого. Если бы мы не поехали в Финляндию, то сейчас только-только вернулись бы домой. И об ужине еще никто бы и не думал. Но дорога… Наверное, она поглощает энергию, требуя к себе повышенного внимания. А ведь Тошка не была за рулем. Шоколадка по всем законам гуманизма должна была достаться именно мне. Что, если я, потеряв бдительность и скорость реакции, сгоню джип в кювет? Кто будет виноват в этом, как не любимая женщина, укрепившая себя шоколадом без всяких на то веских причин?
– Давай от границы поведу я, – как будто читая мои мысли, предлагает повеселевшая от перекуса Тошка.
– Я не устал, – дуюсь я, мечтая об ужине.
Тошка замолкает. Она довольна жизнью и вовсе не хочет вести машину. Ее предложение являлось лишь долгом вежливости, моральной компенсацией за фактически единоличное съедение шоколада. И я полностью оправдал ее надежды.
В домике финской таможни нас встречает девушка с глазами хаски и ставит въездной штамп в наших паспортах. Возвращая их нам, она с вкрадчивой улыбкой интересуется целью нашей поездки. Это дежурная фраза. Должны же пограничники страны Суоми проявлять хоть какую-то бдительность? Вопрос задан по-английски. И Тошка бурчит сзади деловым тоном, не терпящим возражений:
– Отдых, отдых.
Тошка всегда болезненно реагирует на любой, даже самый формальный интерес ко мне со стороны других женщин. Ревность это или нечто другое – не знаю. Тошке сорок восемь. И мое тридцатилетнее тело является для нее в некотором роде категорией престижа. Меня, как редкую лесную тварь, надо стеречь и охранять от браконьеров.
– Мы приехали в вашу замечательную страну, чтобы встретить Рождество, – стараюсь я смягчить Тошкину надменность.
Мой финский не очень хорош. Но девушка все равно тронута ответом. Финны очень радуются, когда иностранцы обращаются к ним на их родном языке. Для большинства европейцев он слишком сложен. И мало кто балует северный народ его изучением.
– Хорошего Рождества, – тает девушка с раскосыми глазами. – Добро пожаловать в Финляндию.
И мы проезжаем.
4
Страна Рождества открывается перед нами. Совсем такая, какой представлялась она нам в детстве. С маленькими домиками, стоящими то тут, то там вдоль дороги. С мерцающими в них, как звездочки, огоньками. Со свечами, горящими прямо во двориках перед входными дверями. С украшенными гирляндами лампочек елками – то ли растущими прямо здесь, возле домиков, то ли привезенными из лесу и воткнутыми в снег, чтобы радовать не только обитателей дома, но и проезжающих мимо путешественников. Звезды на чернильно – синем небе соревнуются друг с другом за право быть Вифлеемской. Даже Луна здесь, по ту сторону границы, кажется какой-то принарядившейся и от этого более рождественской.
От границы до ближайшего финского городка Ивало около пятидесяти километров. И большую их часть приходится преодолевать по грунтовке. Слов нет, финская грунтовка прекрасно профилирована. Это как раз и добавляет пикантности всему маршруту. Дорога извивается во всех трех измерениях мягкими волнами. То вас ведет вправо вверх, то влево вниз. То нос автомобиля задирается, как у истребителя на взлете, то вы проваливаетесь вместе с машиной в темную пустоту.
Мы кувыркаемся по рождественской дороге. И звезды с Луной вращаются за окнами джипа. Полное ощущение космического полета. А мы – астронавты, которые преодолели сотни тысяч световых лет в поисках счастья. И мы рассчитываем встретить его здесь, в стране рождественского козла (именно так называют в Финляндии Деда Мороза), при свете далекой и непреклонной Полярной звезды.
В моей душе играет праздник. Я пилотирую наш астроджип по изгибам грунтового Млечного Пути. И радость готова вырваться из меня выпрыгнувшим из груди сердцем. Как будто мы едем на Рождество к самому имениннику. И именно здесь, в этой стране, в это самое Рождество он снова придет на Землю.
Тошка, похоже, не разделяет моей радости. Шоколад дал-таки себя знать. И во время качки ее явно растрясло. Она побледнела и, стоически стискивая пухлые губы, покачивается в люльке сиденья. Можно было бы позлорадствовать. Есть у меня такое моральное право после проявления Тошкиной жадности при поедании сладости. Но приподнятое настроение не оставляет места на подобные низменные инстинкты. И я гляжу на женщину блестящими от восторга глазами…
Тошка, тогда я звал ее Антониной Александровной, понравилась мне сразу, как только я ее увидел. Так ли уж она привлекательна? Не знаю. По отношению к ней я не могу проявить объективность. Мне всегда нравились ухоженные женщины старше меня. Я из тех мужчин, что ищут в спутнице жизни реальную альтернативу заботливой матери. Мне не нужна жена, которая будет висеть камнем на моей шее и только требовать, требовать, требовать. Чего? Да всего: помощи по хозяйству, заботы, советов, детей, денег. Как можно больше денег – на этих самых детей и это самое хозяйство. Скука! Я никогда не хотел так жить.
И я нашел Тошку. Я влюбился в ее насмешливые и злые глаза, в ее презрительный рот. Уверенность ее голоса не оставляла сомнений: такая женщина не будет ныть и вечно чего-то требовать. Интересно, а я произвел на нее впечатление при нашей первой встрече? Что она думала в тот момент и определила ли сразу пути нашего последующего сближения? Не знаю. Скажу одно: я был вовсе не против того, чтобы попасть беспомощной мухой в ее роскошно расставленные сети. Тошка дала мне так много, что я должен быть благодарен ей по гроб жизни. Так, наверное, и будет. Я предчувствую, что наш роман продлится долго.
– Пока у меня не закончатся деньги, – зло шутит Тошка всякий раз, когда я говорю ей об этом.
Она не права. Мои чувства к ней никогда не являлись лишь меркантильным расчетом. Она должна это понимать. Наверное, ей просто хочется лишний раз выудить из меня признание своей значимости в моей жизни. Это льстит ее самолюбию. К слову сказать, это польстило бы любому самолюбию…
Прямо перед нами на трассу выходит олень. Наверное, он просто хотел перейти дорогу, направляясь по каким-то одному ему ведомым, но, очевидно, весьма важным делам в ту часть мелкосопочника, что лежит к северу от грунтовки на Ивало. Растерявшись в пронзительной белизне дальнего света, он вдруг меняет направление и начинает неспешно трусить перед нами вдоль дороги. Такие ЧП случаются в Лапландии на каждом шагу. Оленей здесь множество. На дорогах повсюду стоят специальные знаки: «Внимание! Олени!» Финны и те, кто часто приезжает на машине в страну Рождества, давно к этому привыкли.
Я сбрасываю скорость – пугать оленей сигналом или ревом мотора в Финляндии не принято – и тащусь вслед за плавно покачивающимся перед нами белым оленьим зеркалом. Это еще не самое плохое развитие ситуации. Бывает, что олени ложатся на дороге. Какая-нибудь глупая мамаша с парой подруг и оленятами располагается на шоссе для ночлега. Тогда приходится ждать, сигналить, пытаться объехать безмятежную группу. Олени здесь наглые и подчас ведут себя скверно.
Наш красавец в свете фар с гордым видом шествует перед нами в Ивало. Иногда он вскидывает голову и трясет рогами. Может быть, ему не нравится шум? Или свет фар вызывает у него психологический дискомфорт? Как знать. Мне олень симпатичен.
– Смотри, – говорю я Тошке, кивая на белый тучный зад невольного попутчика. – Он похож на толстую тетку, которая с авоськами в руках догоняет автобус.
Тошка сначала кидает на меня подозрительный взгляд, пытаясь найти издевку. Но глаза мои чисты и невинны. Да Тошка и не толстая вовсе. У нее хорошая фигура. С годами ее формы, конечно, немного округлились, но это ее нисколько не портит. Она высокая, и у нее длинные ноги.
Удостоверившись, что никакого намека в моих словах нет, Тошка кривит рот в вымученную улыбку, почти гримасу. Во-первых, ее тошнит. Во-вторых, она явно не разделяет моих восторгов относительно северной коровы, виляющей задом перед ее носом.
Тошка любит хищников. В их глазах она видит горящий огонек жизни, ту жестокую теплоту бытия, которой нам самим подчас так не хватает. В хищниках есть преступное обаяние. Так говорит Тошка. Понаблюдайте, как огромная тяжелая собака – меховой бесформенный мешок – с легкостью, без всякого разбега берет препятствие высотой в собственный рост. Посмотрите, как плавно она движется, как без видимых усилий складывается пополам, чтобы почесать зубами крестец. Ей от природы дана пластика, на достижение которой у человека уйдут годы ежедневных многочасовых занятий у балетного станка. Хищники бегут дорогой жизни, по которой мы идем неспешным шагом. Они обгоняют нас на этом пути в вечность. От их горячих тел исходит энергия, притягивающая к себе озябшие души уставших от жизни людей. Примерно то же самое, должно быть, чувствует кролик, падая все глубже и глубже в бездну восторженных глаз удава.
Человечество вырождается. Так говорит Тошка. Благодаря развитию цивилизации и повышению уровня жизни у нас, считает она, нарушился естественный отбор. Слабые и больные особи стали выживать и приносить потомство. А это ведет к деградации биологического вида. Тошка всегда морщится при виде какой-нибудь маленькой прыщавой девчушки, из последних сил толкающей перед собой коляску, которая на фоне тщедушного тельца мамаши кажется несуразно громоздкой и тяжелой.
– Кого она может родить? – гневно спрашивает Тошка. – Такого же чахлого уродца, как она сама?
Меня несколько раз подмывало спросить, почему тогда у нее, такой шикарной во всех отношениях Тошки, нет детей. Но я всякий раз боялся ее обидеть и задеть что-то ранимое, что-то личное, чего я не знаю и, если честно, не очень-то хочу знать.
Олень наконец-то догадывается свернуть с дороги, и я прибавляю скорость. Тошка закуривает сигарету с явным желанием хоть как-то сбить тошноту. Сделав несколько затяжек, не принесших, очевидно, облегчения, женщина давит окурок в пепельнице и высоко запрокидывает голову на подголовник сиденья. Она измучена, и большие темные глаза смотрят на меня непонимающе и вопросительно.
У Тошки всякий раз такой вид, когда нужно поднимать зарплату сотрудникам фирмы или платить налоги. И мои замечания насчет того, что повышение зарплаты, равно как и уплата налогов, вовсе не возводят ее в терновом венце на Голгофу, не имеют на нее ни малейшего влияния.
Сейчас Тошка страдает по делу. Я замечаю, как она косится на часы. Времени – девятый час. Мы проезжаем
Ивало. Длинная главная улица со множеством магазинчиков залита огнями. Обманчивая яркость большого города. На самом деле в Ивало проживают чуть больше трех тысяч человек. Правда, один мой местный знакомый как-то раз с гордостью сообщил, что население «большого» Ивало, то есть Ивало с его пригородами, «зашкаливает» аж за… семь тысяч. Я восхищенно зацокал языком. Хотя, если честно, цифра меня не впечатлила. Тошка в такой ситуации обязательно сказала бы какую-нибудь гадость. Что-то вроде:
– Когда же у вас начнут строить метро?
Или:
– Не хлопотно ли жить в таком огромном городе?
Тошка любит говорить гадости. И это у нее всегда хорошо получается.
Нормальны ли наши отношения с ней? Наша разница в возрасте? Что держит нас вместе? Я задавался этими вопросами столько раз, что устал от размышлений. Я не хочу отвечать на них даже самому себе.
Тридцать пять километров, отделяющих Ивало от Саарисельки, мы проскакиваем минут за двадцать. Саариселька – одна из самых раскрученных курортных зон Лапландии. Мурманчанам она кажется близкой и родной, вдоль и поперек истоптанной и окончательно освоенной местными туристическими фирмами. Вообще же это центр зимнего отдыха мирового масштаба. О разбросанных по склонам нескольких невысоких сопок вблизи Ивало отелях и коттеджах, вместе именуемых Саариселькой, знают в Италии и Германии, Франции и Испании, США и Японии. Оттуда приезжают люди посмотреть на зиму, покататься на сноубордах с гор или походить на лыжах по укатанным равнинным трассам.
В Саарисельке на каждом шагу вас поджидают туристические искушения, опустошающие ваш кошелек, но добавляющие вам здоровья и, что не менее привлекательно, захватывающих впечатлений, которыми вы потом сможете поделиться с коллегами по работе и родственниками, оставленными дома. Даже мурманчан, чье впечатление во многом притуплено схожими природными условиями родного Кольского Заполярья, поражают развлекательные изыски финских мастеров хорошего настроения. Как же тогда можно себе представить, какими красками написать и в каких словах выразить тот восторг, что испытывают неаполитанцы или парижане от, скажем, прогулки на снегоходах по искрящемуся бескрайнему снежному простору?
Они едут по морозцу, одетые в специальные костюмы, выдерживающие самые скверные козни господина Климата, под бездонным темно-голубым небом. Такой насыщенный цвет бывает у неба только здесь, за полярным кругом. На небе само по себе, как бы отдельно от остальной природы, ничуть не разгоняя его сочную синеву своим светом, как какая-то незнакомая звезда из захватывающего фантастического фильма, сияет Солнце. Снежный наст искрится под лыжами снегоходов, как платье королевы, расшитое бриллиантами, которые в трудную для королевства годину заменяют стеклянными бусинами. Деревья, прогнувшиеся под тяжестью снега, похожи на белые вычурные кораллы.
А впереди, через пару десятков километров, их ждет привал. Прямо на снегу, среди бескрайней равнины, где кажется, что видно, как закругляется на горизонте Земля, на костре им поджарят куски парной оленины и нальют какао. А если еще плеснуть в жестяную, шершавую на морозе кружку капельку кристальной водки, а потом выпить ее одним залпом и зажевать обжигающим куском пахнущей дымом костра оленины, жизнь вообще покажется раем. И захочется ехать и ехать на вашем снежном коне все дальше, к следующему привалу, где путешественников ждет обед в настоящем саамском чуме: наваристый суп из все той же оленины и жареные на прутиках саамские колбаски.
И такие развлечения в Саарисельке повсюду. За каждым углом у деревянных домиков ждут вас снегоходы и гостеприимные хозяева, готовые поделиться с вами и конечно же за ваши деньги частичкой того дивного природного великолепия, которым они владеют веками. Здесь можно покататься на оленьей или собачьей упряжке, поесть медвежатины и попытать счастья старателя в Танкавааре – деревушке золотодобытчиков километрах в тридцати от сопок Саарисельки. Конечно, пик зимнего сезона приходится на март. Именно тогда со всей силой предстоящей весны вступает в свои права над Лапландией Солнце. Но и сейчас, в декабре, в Саарисельке немало народа.
Центром притяжения в любое время года, символом всего этого карнавального разнообразия развлечений является отель с тропическим бассейном. Огромным разлапистым саамским чумом затаился он коварным искусителем в самом центре курорта. В просторном бассейне с водными горками и джакузи воздух прогрет до тридцати трех, а вода до тридцати одного градуса. Нырнуть в этот заповедник жары, намерзнувшись несколько часов кряду на лыжной прогулке, – блаженство неописуемое. Контраст между дикой застывшей природой, укрытой толстым одеялом снега, и оазисной роскошью бассейна, знойного, как полуденный пляж где-нибудь на средиземноморской Ривьере, настолько неправдоподобен, что заставляет усомниться в реальности происходящего.
Ваш разум не может согласиться с тем, что такое может быть в природе. И вы не верите своему счастью. И только счет, который выставят вам при отъезде из отеля, заставит вас понять, что вы это счастье оплатили. Отель дорог в любое время года. Правда, Тошку это не останавливает. Она любит комфорт. И всякий раз перед нашей поездкой в Финляндию я звоню в Саарисельку и бронирую именно его. Это наш первый привал.
5
Мы оставляем вещи в номере и выходим в холл. На моих часах уже пять минут десятого. Я откручиваю стрелки на час назад – пора переходить на местное время. Ресторан отеля подозрительно пуст.
– Мы хотели бы поужинать, – обращаюсь я к даме за стойкой администратора.
Дама понимающе улыбается. Местный сервис блещет радушием и гостеприимством. И финка явно отдает должное моему праву набить желудок после долгой и утомительной дороги. Ей импонирует и мой финский. Она счастлива.
Я вопросительно улыбаюсь в ответ. Тошка, видя, что наши гляделки с дамой за стойкой ни на йоту не приближают ее к долгожданной трапезе, направляется в сторону ресторана.
– Мы бы хотели поужинать, – повторяю я даме.
– О, да, да, – говорит дама и улыбается еще шире.
– Плюнь на нее, – бросает мне из-за спины Тошка. – Ресторан работает до восьми.
Она, очевидно, вычитала это на вывеске.
– Ресторан работает до восьми? – скорее вслух повторяю я Тошкины слова по-фински, чем задаю вопрос даме за стойкой.
– Да, да, – кивает дама, и ее улыбка достигает чудовищной проникновенности.
Не разделяя энтузиазм дамы, мы возвращаемся в номер за верхней одеждой и покидаем отель в поисках пищи. Мы похожи на медведей, разбуженных охотниками во время зимней спячки в теплой берлоге. Нам хочется спать, но внезапно осознанное чувство голода гонит нас вперед между заснеженными домиками финского курорта.
Вскоре мы набредаем на маленькую избушку, по самые подслеповатые окошки заваленную снегом. Из окошек льется тусклый свет, отчего сугробы вокруг кажутся желтыми, как будто они сделаны из сыра. На бревенчатой стене висит на железном кронштейне резной деревянный кофейник.
– Это кофейня или закусочная, – решает Тошка. – Что же это может быть еще?
– Ничего, – соглашаюсь я. – Если только они не паяют чайники.
– Брось, какие еще чайники, – злится Тошка.
– А может, они торгуют антикварной бронзовой посудой? – не унимаюсь я.
Тошка бросает взгляд на меня, потом ненавидящим взором испепеляет избушку.
– Тем хуже для них, – цедит она сквозь зубы и решительно толкает обитую оленьей шкурой дверь.
Это действительно маленький бар. Тошка победно окидывает взором уютную обстановку. И без того крошечное помещение разделено на две равные части деревянной резной стойкой. На стойке покоится кофе-машина, которая выглядит здесь абсолютно инородной. Ее хромированные бока и пластмассовые обводы никак не вяжутся с остальным резным великолепием не то деревенского дома, не то старательской хижины позапрошлого века. Хотя нет, сзади, за стойкой, есть еще один предмет, который столь же вызывающе дисгармонирует с деревянной обстановкой. Это микроволновая печь.
На оставшемся между стойкой и дверью пространстве в восемь или десять квадратных метров приютились два узких и высоких деревянных стола на резных ногах-основаниях и десяток высоких табуретов, какие обычно ставятся перед стойкой бара. Табуреты вытесаны из цельных стволов дерева. Их сиденья идеально отшлифованы: то ли золотыми руками столяра, прошедшегося по ним сначала мелкой шкуркой, а потом и полировальной тряпочкой, то ли – эта версия понравилась бы голодной Тошке – задами побывавших здесь клиентов.
Густой, почти осязаемый запах какао пропитывает воздух крохотного оплота чревоугодия. Какао и что-то еще – может быть, лакрица? – безраздельно завладели здешним эфиром. Кажется, что их запах впитали в себя деревянные рубленые стены и сноровисто сработанная топором и рубанком мебель. Только теперь мы с Тошкой понимаем по-настоящему, как мы хотим есть.
А между тем наши взгляды продолжают блуждать по помещению. Лампы, скрытые за перекладиной под потолком, слабо и интимно освещают интерьер. Им помогают несколько коротких и очень толстых свечей, почти лампад, расставленных на столах и стойке бара. Из-за многочисленности источников освещения тени приобретают самые диковинные и причудливые очертания. Так что абсолютно невозможно понять, кому или чему каждая из них принадлежит. Вот эта, например, похожа на тролля, сидящего на высоком табурете за резным столом и потягивающего из железной кружки густое горячее какао с молочной кремовой пенкой. И только пристальный взгляд и атеистическое воспитание могут убедить нас в том, что это сам табурет, вытесанный из смолистой сосновой коряги искусными руками столяра-фантазера, отбрасывает эту странную тень. Что нет в кофейне никакого тролля. По крайней мере, сейчас. И вообще, как кажется, никого в ней нет.
Антураж этого крошечного мирка завораживает настолько, что мы далеко не сразу замечаем притаившегося за стойкой хозяина. Он похож на паука, подстерегающего добычу. Затаив дыхание, чтобы, не дай бог, не вспугнуть нас, он ждет, когда же мы освоимся в его маленьком заведении. Чтобы, как только мы присядем, сложив крылышки, набросить на нас сеть. А потом запутать нас окончательно в толстой паутине. Заставить принять жизнь такой, какой она была им здесь сотворена и обустроена. Заставить испробовать все лакомства, которые он придумал и изготовил для уничтожения голода – этого друга всех ресторанов, кафе, баров и закусочных.
Голод гонит к ним страждущие толпы. Ради него суетятся в радостном безумстве повара на огромных кухнях – центре этого веселого и озорного мира чревоугодия. Он заставляет сновать туда-сюда, сбиваясь с ног, официантов – курьеров и благодетелей, слуг и хозяев в одном лице. Голод – великий бог ресторанного мира. И здесь, в крохотном баре с резными табуретами и отражающей свечное пламя кофе-машиной, он свил себе уютное гнездышко, обосновался в каждом уголке, залез вместе с запахом какао и лакрицы в каждый стык между потемневшими от времени бревнами стен.
Зачарованные, мы теряемся мыслями в пространстве и времени. Так много ассоциаций наводит на нас этот крохотный островок жизни в безбрежной снежной пустыне с бескрайними грядами холмов и перелесками то хилых корявых берез, то неизвестно как выросших в таких суровых условиях рослых пахучих сосен.
И вот Тошкин взгляд случайно падает на хозяина. Тот сразу начинает улыбаться. Как будто он в чем-то виноват, таился и теперь, поняв, что его заметили и дальнейшее укрывательство бесполезно и просто глупо, решил пойти ва-банк. На самом деле, конечно же хозяин рад заполучить клиентов. И виноват он, виноват перед самим собой, а не перед нами, лишь в том, что его маленькое заведение пустует в этот довольно ранний час. Теперь он уверен, что заполучил нас, что мы уже оценили тот уют, с которым обустроил он свою кофейню, и уже не уйдем отсюда. А значит, можно открыться и постараться угодить нам. Постараться сделать нас постоянными клиентами. Это важно для него.
В душе он, конечно, понимает случайность нашего захода. Он знает, что мы – иностранцы. И что, быть может, мы никогда больше не будем в Саарисельке. Хотя, если честно, мы бываем здесь с Тошкой три или четыре раза в год. Но ему все равно. Он хочет быть уверен лишь в том, что если когда-нибудь мы еще разок остановимся где-то поблизости, то обязательно придем именно сюда. В его заведение с деревянным кофейником на стене и оленьей шкурой, прибитой к двери – то ли для утепления, то ли для экзотики.
Он ценит клиента и знает, как важно иметь постоянных посетителей. В обдуваемой всеми ветрами, насквозь транзитной Саарисельке очень важно уметь произвести хорошее впечатление, уметь доказать – иногда всего лишь самому себе – свою важность, свое умение быть лучше других. Эта уверенность в собственных силах дает кураж, способный сдвинуть горы.
– Вы открыты? – спрашиваю я хозяина, подкравшегося внешне неуловимыми движениями к нам поближе.
Мой финский, пусть и далеко не идеальный, ошарашивает его. Он, наверное, считает, что мы ниспосланы ему богом чревоугодия в качестве рождественского подарка. Такого не бывает: зимним промозглым вечером в вашу пустую кофейню вваливаются двое абсолютно бесстыдно голодных иностранцев, на лицах которых написана твердая решимость не уйти отсюда, не прикончив добрую половину вашего дневного запаса продовольствия. Да к тому же один из них обращается к вам на вашем родном языке, начисто снимая все языковые барьеры и позволяя вам подать товар лицом и насладиться при этом – если, конечно, гости не будут против – беседой.
Истекая добродушием и готовностью быть полезным, хозяин начинает перечислять свои кулинарные изыски. Если честно, разнообразия здесь мало. Все меню сводится к некому абстрактному «блюду», ингредиенты которого, как конструктор, можно варьировать в различных сочетаниях до бесконечности. Среди них картошка фри, поджарка из свинины, горошек, оливы, зелень, бобы, помидоры и что-то совсем непонятное, название которого я не могу перевести.
Мы заказываем всю эту вкусную мешанину, которую Тошка тут же называет «смерть желудку». Хозяин суетится возле микроволновки, разогревая полуфабрикаты, а мы садимся на высокие табуреты за стол, прихватив с собой от стойки розетки с ягодным киселем.
Тошка следит за фигурой. К киселю у нее, разумеется, претензий нет. Со свининой, которая истекает соком, будучи вынутой из микроволновки, и с картошкой фри с румяной корочкой дело сложнее. Тошку грызут сомнения. Хозяин приносит наш заказ, и женщина искушается самым беспощадным образом. Она мученически смотрит то на меня, то на блюдо, обильно сдобренное горчицей. Тошка думает еще секунду, когда я уже принимаюсь есть, и берет в руки вилку. Лучше умереть от ожирения, чем от голода.
Пока мы поглощаем пищу, хозяин робко стоит за нашими спинами. Он видит, что мы голодны, и не смеет мешать. Еда – дело интимное. Наевшись, мы явно веселеем, заказываем пиво и смотрим на хозяина с благодарностью. Обрадованный нашим интересом, владелец крохотного заведения рысцой несется за стойку и через секунду возвращается обратно с пивом, орешками и солеными хлебными палочками. Тошка, если уж она все равно гробит фигуру, предпочитает делать это за приятной беседой.
– А вы бывали в Мурманске? – обращается она к нашему хозяину по-английски.
Финн становится похож на одно большое ухо. Он весь полон внимания и силится понять, чтобы быть полезным. Английский ему явно не дается. Я перевожу.
– Да, да, – радуется он. – Много раз.
Общая тема найдена. Видя наше полное непротивление и даже одобрение, хозяин тоже наливает себе кружку пива и подсаживается за наш стол. Мы выясняем, что его зовут Тео, и он довольно хорошо знает Мурманск. И здесь у него людей бывает немало. Вот нам только повезло: никого сегодня как раз не оказалось. А вообще-то народу хоть отбавляй. Из разных стран. Настоящий интернационал.
– У вас есть русские деньги? – вдруг спрашивает он.
Мы не понимаем: у нас есть евро.
– Русские деньги, – повторяет Тео и показывает куда-то вверх, за стойку.
Только тут, следуя взглядом за его рукой, мы замечаем, что над микроволновкой, на большом деревянном щите, подвешенном к бревнам стены, у него целый иконостас из купюр всех стран и достоинств. Валюты в основном экзотические и малопригодные к практическому использованию: долларов, например, не видно. Зато есть вышедшие из употребления итальянские лиры с множеством нулей,
греческие драхмы, чешские кроны, венгерские форинты и еще множество совсем диковинных купюр, принадлежность которых может определить разве что нумизмат. Есть здесь и русская десятка.
Обычно прижимистая в отношении бесплатной раздачи средств, Тошка ни с того ни с сего впадает в благостность и дарит хозяину-коллекционеру сторублевую ассигнацию. Финн благодарит нас и ловким движением насаживает банкноту на гвоздик, торчащий из щита с деньгами. Он явно доволен и хочет сбегать еще за пивом. Мы отказываемся. Он настаивает. Побеждает компромисс: мы заказываем какао.
Через несколько минут Тео приносит его в больших жестяных – очевидно, для антуража – кружках. Какао пахнет шоколадом и лакрицей. Мы с Тошкой дуем на кружки, отчего на поверхности напитка появляется розоватая молочная пенка. Тошка на вершине блаженства. Ей нравится сидеть здесь на высоком табурете и дуть на какао, в то время как Тео при моем посредничестве рассказывает ей всякие интересные случаи из своей бытности владельцем этого замечательного – теперь уже абсолютно ясно, что оно замечательное, – заведения.
Подобная теплота уюта в этих бездонных снегах расслабляет вас, притупляет ваши инстинкты, убаюкивает и успокаивает. Так, наверное, заманивали людей в свои подземные норы тролли, чтобы потом сварить их себе на ужин. Я говорю об этом Тошке. Но ей все равно.
– Если так, то я согласна, – кивает она. – Пусть будет ужин.
– Из нас?
– Да.
Она – кролик, заглянувший в глаза удава. Она готова быть съеденной в темных и коварных пещерах подземных жителей. И если хозяин сейчас откроет подпол, и оттуда полезут в комнату мохнатые и голодные тролли, она даже пальцем не пошевелит, чтобы спастись.
Да, наш ужин стоит того, чтобы потом самому быть приготовленным со спаржей, и чесноком, и горчицей, и неизбывной лакрицей в огромном закопченном котле где-то глубоко под землей. Там, где подземный народ устраивает свои пиршества из заблудившихся и попавшихся ему на крючок безумных путешественников. Будь что будет. Тошка согласна на все. И, честно говоря, я ее понимаю. Нет, перспектива быть съеденным коварным Тео и его подземными друзьями меня вовсе не прельщает. Но у меня тоже нет сил воспротивиться этому. Так разморила меня уютная духота маленького заведения под бескрайней черной чашей саамского неба. Мы просим еще какао.
Тео рад услужить. Он суетится и снует между своей импровизированной кухней за стойкой и нашим столом. Мы чувствуем себя королевской четой, заглянувшей после долгих странствий в свое королевство. Мы пьем какао и все больше утверждаемся в мысли, что этот бар специально возник из-под земли перед нашим приездом. Чтобы насытить нас и обогреть изнутри теплым молочным напитком. И он исчезнет, уйдет под землю, будет засыпан сугробами невесть откуда свалившегося снега, как только за нами закроется дверь. Или как только нас утащат в темные лабиринты своих жилищ подземные жители. И что Тео – это вовсе не обыкновенный владелец маленькой харчевни, а тот самый тролль, которых, говорят, так много под покрытым пушистыми соснами лапландским мелкосопочником.
Если Тео и тролль, то очень добрый и угодливый: ведь в его хижине так тепло и уютно.
– Я никуда отсюда не уйду, – шепчет мне Тошка, и от ее губ пахнет лакрицей и шоколадом. – Я останусь здесь жить, пока хватит денег.
В ее голосе нет даже намека на шутку. Тошка серьезна как никогда. Представив, что нам сейчас придется встать, одеться и выйти в темноту, чтобы идти по снегу в отель, я готов с ней согласиться.
Если честно, до отеля каких-нибудь двести метров. Но сейчас, после обильного ужина и двух огромных кружек обжигающего какао, они кажутся абсолютно непреодолимыми. Легче пожертвовать постелью и прикорнуть прямо здесь в уголке на какой-нибудь оленьей шкуре, чем заставить себя, разомлевшего и отяжелевшего, встать и идти куда-то.
– Решено, – шепчу я Тошке в ответ. – Остаемся здесь навсегда.
Тошка кивает. Тео полон готовности исполнить любое наше желание. Но беда в том, что больше в нас уже ничего не лезет. Мы вкусили все прелести жизни и хотим спать. Мы хотим заснуть прямо здесь, за этим столом. Чтобы потом эльфы отнесли нас в отель, раздели и уложили в кровать. Это наш последний заказ гостеприимному Тео, который он вряд ли сможет выполнить, ибо не распоряжается эльфами.
Эльфов нельзя вызвать по телефону, как такси. Они сами решают, когда и где им появляться и кому дарить свое внимание. Скорее всего, они не станут помогать нам с Тошкой. Доставка в отели объевшихся и опившихся какао клиентов харчевен ни в коем случае не входит в их компетенцию. Эльфы помогают лишь тем, кто действительно нуждается в их поддержке. А наши с Тошкой проблемы со всей очевидностью, какой бы горькой она не казалась, не дотягивают до необходимости их волшебного вмешательства. Нам остается рассчитывать исключительно на собственные силы.
Здравый смысл берет верх, и мы собираемся уходить. Я подаю Тошке шубу.
– Думаю, я в нее уже не влезу, – бурчит Тошка, закатывая глаза от блаженной сытости.
Но она в нее влезает. Даже Тео не смог добиться того, чтобы Тошка не влезла в свою шубу. Но он старался, надо отдать ему в этом должное, он старался изо всех сил.
– Сколько с нас? – интересуюсь я у финна, доставая из кармана бумажник.
– Дай ему побольше чаевых, – щедрится довольная Тошка.
Пока я расплачиваюсь, она в последний раз окидывает взглядом избушку. Мы расстаемся с Тео большими друзьями и даем ему твердое слово обязательно зайти к нему отужинать в следующий свой приезд в Саарисельку. Честно говоря, я не совсем уверен, что уже утром смогу найти его кофейню среди множества других заснеженных избушек, разбросанных в округе, но все равно даю ему свое обещание.
Пока мы сидели в кофейне у Тео, небо затянули пуховые снеговые тучи. Звезды исчезли. Их как будто стерли тряпкой с черной грифельной доски Вселенной. Луна еще пытается пробиться сквозь стадо туч, выбрасывая то тут, то там дрожащий серебряный лучик, но звезды похищены навсегда. У меня только что украли звезды. Кто вернет мне их сию же минуту? Кто? Полцарства за пригоршню звезд! Я смел, ибо у меня нет царства. У меня есть только Тошка. И ее я не променяю ни на что на свете.
С неба сыплется легкий мягкий снежок, каким бывает он только в оттепель. Он подновляет дороги и тропинки, утоптанные сероватым от грязи настом. Все белым-бело, и не на чем остановить взгляд. Весь мир теперь – это королевство из снега, в котором исчезли все краски, кроме одной – белой.
Мы идем по этому молочному пейзажу. Мы устали и объелись. Поэтому хотим только одного – добраться поскорее до постели. Путешествия приятны еще и тем, что они когда-нибудь да кончаются. Вот и отель. Повалиться на кровать после сытного ужина – дело божественное…
6
На следующее утро мы встаем поздно, почти в десять. Тошка довольна – она выспалась. Двадцать второе декабря. Рождество все ближе. Праздничность предстоящего события передается и мне. Осознание того, что между мной и Рождеством не стоит уже никакой работы, а лишь приятные хлопоты и развлечения, добавляет радости в мою душу.
Мы идем завтракать. Разношерстная публика снует между столиками, таская со шведского стола салаты, ветчину, сосиски и неизбывный ягодный кисель. Тошка, помня о вчерашней свинине с картошкой фри, ограничивает себя хлопьями с молоком. Я набираю на тарелку более существенные яства. Диета – вещь хорошая, но невыносимая. Как только я убеждаю себя в ее необходимости, мне начинает сниться еда. С этим ничего нельзя поделать. Палки сырокопченой колбасы роями снуют передо мной, стоит мне только сомкнуть веки. Толстые сардельки кружатся в вальсе с затянутыми в целлофановые мундиры стройными сосисками. А сырные головы перекатываются по небосводу, как огромные желтые и красные луны. Глубокие тарелки призывно играют суповыми волнами, а пиццы и пироги изрыгают клубы пара.
Нет, диета для меня абсолютно неприемлемая вещь. А вот Тошка время от времени предпринимает поистине героические попытки насытить свой организм несколькими ложками безвкусных хлопьев, размоченных в обезжиренном молоке. Попытки эти всегда заканчиваются неудачей. Вскоре Тошка опять начинает есть мясо и пить пиво. Жизнь вновь приобретает для нее аромат. До следующего захода, когда она в очередной раз, испугавшись своего отражения в зеркале, начинает, морщась от отвращения, пережевывать размокшие хлопья.
Сейчас у нее как раз такой приступ похудания. Когда я молча киваю ей на подносы с мясной нарезкой, она только дует губы, а ее глаза темнеют от бессильной злобы на саму себя. Я должен понять, что она не может есть мясо! Такое уж у нее сегодня настроение. Я смиряюсь и добавляю еще один ломоть ветчины себе на тарелку. Тошка сглатывает слюну, но стоически продолжает заливать мисочку с хлопьями полупрозрачным голубоватым молоком.
Рядом немцы – по крайней мере, по их гортанной речи я решаю, что это немцы, – набирают сосиски, булочки и масло. На хлопья немцы даже не глядят. Они не боятся умереть молодыми от избытка холестерина. Шведский стол для того и предназначен, чтобы брать с него самое вкусное, стараясь при этом съесть продуктов на сумму, превышающую ту, которую вы оплатили. Я бросаю взгляд на немецкие тарелки и понимаю, что им это явно удается.
Тошка давится хлопьями, но держится стоически. Характер куется именно в такие трудные для индивида моменты. Не до конца еще размокшие в молоке хлопья хрустят под женскими зубами, как капсулы пенопласта. Я ставлю на столик свой завтрак. И его вид усугубляет Тошкино горе. Однако она непреклонна в своем стремлении не перебрать калорий. Немцам больше достанется, решаю я.
После завтрака я готов ехать. Но Тошка, раздосадованная нашими вчерашними мытарствами, идет в купальню. Собственно говоря, то, что мы не попали туда вчера, ее собственная вина. Это она не захотела вставать рано, а потом потратила уйму времени в офисе. Но упрекать в этом Тошку было бы сейчас слишком жестоко. Она бы молча собралась, и мы выехали бы в Кемиярви сразу после завтрака. Но мне жаль лишать ее удовольствия. В конце концов, мы приехали сюда отдохнуть и приятно провести время, а не участвовать в ралли.
Тошка тянет меня с собой в купальню, но я непреклонен. После тропической жары меня всегда клонит в сон. И у меня нет ни малейшего желания бороться с ним за рулем.
Тошка плещется в бассейне, а я сижу в баре, пью кофе и наблюдаю за ней через стекло…
Помню, как я первый раз пришел к ней в фирму. Васька, мой давний университетский знакомый, встретил меня у вахты охраны на первом этаже огромного здания, набитого офисами, и потащил куда-то по коридорам на знакомство с боссом. До этого я знал Тошку только с Васькиных слов. Он работал в ее риелторской фирме последние пять лет. Те пять лет, что я провел в Финляндии и Швеции.
На рынке услуг по купле-продаже недвижимости в Мурманске стало тесновато. И Тошка (Антонина Александровна) решила расшириться на Запад. В ее планы входила продажа мурманских квартир и офисов иностранцам – в первую очередь, конечно, скандинавам и финнам, – а также продажа недвижимости за границей нашим соотечественникам. Определенный спрос на это имелся. И Тошке нужен был человек, который возглавил бы весь проект. Я же проболтался последние несколько лет в финских и шведских фирмах. Бизнес-леди интересовали мои связи, знание языков и опыт общения с иностранцами.
Когда Васька рассказал ей обо мне, она сразу ухватилась за эту возможность. И через Ваську стала заманивать меня в свою фирму. Я начал кочевряжиться по всем правилам хорошего тона. В конце концов, Тошкино терпение лопнуло: она предложила мне воистину огромную зарплату и пригласила на встречу. Я как всегда опоздал. И Васька тащил меня по коридорам, проклиная мою дурацкую привычку везде и всегда приходить на полчаса позже назначенного. Босса он, похоже, побаивался.
Я шел за Васькой по коридору степенно и уверенно, осознавая собственные значимость и нужность. Кто, кроме меня, мог выполнить для еще не знакомой мне Антонины Александровны эту работу? Может, кто-то и мог бы, да только предложенная мне зарплата не оставляла никаких сомнений в том, что бизнес-леди его не нашла.
На первый взгляд Тошка показалась мне предельно наглой и уверенной в себе теткой. Мы поздоровались. Потом она попросила подождать несколько минут и вновь углубилась в изучение какого-то договора. Памятуя о своем получасовом опоздании, я не имел возможности надуться на такой прием, а потому молча опустился на стул и стал ее разглядывать.
В молодости Тошка скорее всего считалась дурнушкой. Одни люди расцветают рано, другие приобретают шарм с годами. Женщины, казавшиеся хорошенькими, когда им было двадцать, к сорока годам в лучшем случае сохраняют остатки былой красоты. А вот Тошка, ничем, наверное, не привлекательная в юном возрасте, сейчас вызывала явный интерес.
Высокая, с тонкой костью и хорошей фигурой. Нет, она, конечно, не худышка. Но если женщина хочет быть привлекательной, она должна после тридцати годков, что называется, войти в тело. И я сразу заметил, как аппетитно сидит костюм на роскошной Тошкиной фигуре.
Тошкины волосы были крашены в черный цвет и довольно коротко стрижены. Казалось, что она только что от парикмахера. Ее лицо было овальным, крупным, с несколько неправильным массивным подбородком, прямым длинным носом и широким ртом с пухлыми, брезгливо искривленными губами. Его никак нельзя было назвать красивым. Тошкины темно-карие глаза были настолько оценивающими, что, когда, дочитав договор, она подняла взгляд на меня, я решил, что в моей внешности что-то не так. Может быть, пиджак застегнут не на ту пуговицу или галстук съехал набок? Теперь я знаю, что это обычный Тошкин взгляд. Она и сейчас смотрит на меня так же. Правда, теперь в него добавилось довольное чувство обладания.
«Мой, – говорят мне Тошкины глаза. – Ты мой, зайчик».
Насмотревшись на Тошку через стекло бассейна и допив кофе, я иду в номер собирать вещи. Мы выезжаем из отеля в половине первого и берем курс на Рованиеми. Опять опаздываем. Шоссе несется нам навстречу бесконечной лентой. Если смотреть прямо на дорогу, кажется, что мы стоим на месте и колесами скручиваем под себя великанский рушник. Когда-нибудь он кончится, и тогда мы выскочим прямо на болото, заснеженное, но по-прежнему топкое. Светает, хотя полярная ночь и не дает надежды на то, что выглянет Солнце. Грех жаловаться на эту краткую возможность свободно оглядеться вокруг, не будучи скованным непроницаемым кольцом мрака.
Ездить по финским дорогам на хорошей машине – горе горькое. При чистоте и ухоженности трасс почти невозможно все время ограничивать себя в скорости. Ее превышение – главное нарушение, за которое финны штрафуют наших соотечественников.
Дороги в Финляндии при ее довольно больших размерах и малой заселенности – дело особой важности. Они связывают нацию воедино. Как и все остальное, финны строят их тщательно и добротно. В первое лето участок будущего шоссе отсыпается по всем правилам технологии, с прослойками песка и гравия для дренажа, канавами для талых и дождевых вод по сторонам, с проходами из труб большого диаметра для пересекающих дорожное полотно ручьев и мелких речушек. Особое дело – формирование профиля: на поворотах дорога обязательно отклоняется от поперечной горизонтали высоким краем по внешней дуге, как на треке. Только полного неумеху может занести на таком повороте.
Финны формируют дорогу, утрамбовывают ее тяжелыми катками и оставляют в виде грунтовки на год, открыв по ней движение. За зиму машины окончательно утаптывают грунт, дорога наезжается и становится привычной. На следующее лето на нее вновь выходят дорожные строители. Они подсыпают и утрамбовывают просевшие участки, исправляют, если надо, профиль и дренажную систему. Только после этого дорога покрывается асфальтом. Так строятся в стране Суоми все дороги – от общенациональных магистралей, как то шоссе на Рованиеми и далее на
Хельсинки, по которому мы сейчас едем, до отвороток к стайке летних домиков на берегу живописного озерца или весело журчащей между зеленых от времени валунов речушки. Такие дороги служат долго, а их асфальтовое покрытие практически не трескается. Ездить по ним приятно и комфортно.
Мы проезжаем городок Соданкюля. Его название по-фински означает «военная деревня». Я не знаю, откуда оно взялось. Может быть, городок стал строиться во время войны? У меня нет здесь знакомых. Так что спросить не у кого. Так или иначе, но как-то не вяжется столь мрачное имя с таким милым местечком. Какие ассоциации может вызвать подобное название населенного пункта? Мрачные серые казармы с наброшенной поверх крыш рябой маскировочной сеткой, БТРы на улицах, жители в комбинезонах цвета хаки.
Ничего подобного, естественно, здесь вы не встретите. Соданкюля мила летом и очаровательна зимой. Это коммуна, где компактно проживают саами. Так что это даже не совсем Финляндия. В местных магазинчиках нет числа всевозможным сувенирам саамских народных промыслов. Сейчас Соданкюля по уши завалена снегом и походит на декорацию к какой-нибудь саамской сказке. Мы едем по центральной улице, на которой расположены магазины и отделения банков. На площади стоит разукрашенная елка. Она как будто выросла здесь. Ее игрушки и яркие гирлянды присыпаны снегом, отчего вся она кажется белой. Белое здесь все, кроме серой нитки дороги, по которой мы едем.
Женщины толкают перед собой по заснеженным тротуарам санки на длинных полозьях. Эти саамские санки похожи на кресла-качалки. Все они, кроме полозьев, сделаны из деревянных реечек. На спинке – ручка, как у детской коляски. Женщины кладут на сиденье авоськи, берутся за ручку и толкают санки перед собой. На склоне или утоптанном участке можно немного прокатиться, поставив одну ногу на длинный полоз и отталкиваясь, как на самокате, второй.
Так женщины ходят за покупками. Возле каждого магазина видны стайки оставленных санок. По их количеству можно сразу определить популярность той или иной торговой точки. Одно меня всегда смущало: как женщина, выйдя из магазина, узнает свои санки из дюжины таких же, поставленных в ряд возле витрины? Но здешние хозяйки в таких вещах не ошибаются и не сомневаются ни на минуту, в какие именно санки сгрузить свои авоськи.
Соданкюля оставляет после себя чувство комфорта и беззаботности. Я замечаю, как Тошка с завистью косится из окна на неторопливо бредущих по улицам женщин. Ей, с ее бесконечными хлопотами и вечной спешкой, остается только мечтать о подобной жизни. Сама Тошка всегда занята. Но строга она только на работе. Так что мне с ней легко.
– Никогда не следует смешивать дом и работу, – часто говорит всезнающая Тошка и щурит глаза.
7
Полтора часа до Рованиеми проносятся почти незаметно. Уже половина четвертого, и начинает быстро темнеть. Сосны по сторонам дороги кажутся зловещими корявыми великанами, прикрытыми белыми шапками снега. Небо опять становится фиолетовым. И Луна показывается между первыми робкими, как будто они гости, пришедшие на званый вечер раньше времени и оттого чувствующие себя неловко, звездочками.
Километрах в восьми от города, на самом полярном круге, живет Санта Клаус. Сами финны называют его Йоулу-пукки – рождественским козлом. Когда-то давным-давно в рождественскую ночь главы финских семей надевали на себя козлиные шкуры и приносили своим детям подарки. Отсюда и название. Но в рекламных целях легендарному козлу официально присвоено здесь интернациональное имя Сайты.
Палаты козла-Сайты – это скопление деревянных домиков, сам вид которых уводит ваши мысли в сказку. Сюда на Рождество слетаются люди со всех сторон света. Небо над полярным кругом то и дело прочерчивают красные проблесковые огоньки самолетов. Обитатели южных стран садятся в них на своей жаркой родине и через несколько часов приземляются в стране Рождества. Они ведут своих детей на встречу с Сантой, фотографируются, снимают друг друга на видео и катаются на оленьих упряжках по снегу – ближайшему родственнику тех кубиков льда, что хранятся у них дома в холодильниках.
Они никогда не видели такую бездну снега и даже не могли представить, что такое бывает на самом деле. Они свято верят в рождественскую сказку. Чудом для них является уже сама эта страна, о существовании которой они ничего не подозревали еще пару недель тому назад, когда пошли покупать путевки в туристическое агентство, и в реальность которой не верили всего несколько часов тому назад, когда садились в самолет. Под жарким солнцем они не могли представить, что существуют эти засыпанные снегом поля, эти огоньки в окошках маленьких домиков и этот настоящий Санта Клаус – то ли языческий волшебник, то ли христианский святой (никто ведь им не скажет, что он – просто козел).
Южане впитывают в себя колючий воздух Севера, набираются впечатлений и через несколько часов улетают обратно. Они дремлют всю обратную дорогу, и им снятся олени и заснеженные сосны. Потом они выходят из самолета, окунаясь в лучи знойного солнца или подставляя лицо под капли дождя, и все произошедшее с ними за последние сутки кажется им сном.
Я сворачиваю с шоссе и паркую машину на огромной стоянке возле деревни Сайты. Я знаю, что Тошка не может миновать это место в канун Рождества. Я и сам люблю бывать здесь, где сказка столь явственно соприкасается с реальностью.
Мы идем между поставленными рядами автобусами. На площади перед домом Сайты – столпотворение. Из палат выходят гномы с колокольчиками. Они кружатся в рождественском танце. Осколками зеркала сверкают вспышки фотоаппаратов. Звучит разноязычная речь.
– Как будто Вавилонская башня только что рухнула, – шепчет мне на ухо Тошка.
Разница с древним Вавилоном в том, что здесь, как кажется, все друг друга понимают. Если не буквально, то, по крайней мере, душой. Все охвачены единым порывом предчувствия волшебства. Здесь царит сладкий запах чуда, которое вот-вот должно произойти. А может быть, уже и происходит где-то совсем рядом, в одном из этих причудливых резных деревянных домиков. Может быть, где-то там уже стоит люлька с младенцем Иисусом. И в следующую минуту одна из проступивших на небе звезд покажет нам своим лучиком дорогу к его колыбели. И волхвы, эти восточные мудрецы, уже, наверное, где-то рядом – бредут по глубокому снегу.
– Смотри, это, кажется, японцы, – шепчет Тошка, кивая подбородком на группу маленьких – на их фоне рождественские гномы кажутся рослыми – человечков с миндалевидными глазами, которые, поддавшись всеобщему тихому ликованию, записывают процессию гномов на видео, поминутно делясь друг с другом впечатлением от увиденного.
Гномы заканчивают выступление и убегают обратно в дом. Толпа сразу распадается, как разломившийся на реке весенний лед, и начинает беспорядочно перемещаться в разных направлениях. Тошка тянет меня на рождественский почтамт. Отсюда можно отправить своему ребенку открытку со штемпелем самого Сайты. У Тошки нет детей, и она грустно вздыхает. Сюда же стекается все море писем к Сайте. Целый зал отведен под разбор корреспонденции. За столами у компьютеров сидят такие же гномы, как те, что минуту назад плясали с колокольчиками на площади, и пишут детям ответы. Рядом с каждым столом стоят мешки с письмами. Когда один из гномов наклоняется, чтобы достать из своего мешка очередной конверт, мешок шуршит и кряхтит. Ему тяжело. Его бумажная душа набита таким количеством детских просьб, требований и признаний, что ему невыносимо ощущать себя простым куском грубой мешковины, не способным выполнить даже самые пустячные из них.
На почте Сайты людно. Вокруг круглой стойки посреди комнаты стоят люди и заполняют адреса, по которым Санта отправит их собственным детям или, что бывает чаще, ибо их собственные дети обычно стоят рядом – кто ж едет в гости к Сайте без детей? – детям их друзей и знакомых и друзьям их детей рождественские и новогодние открытки. Шуршит бумага, поскрипывают шариковые ручки – идет работа, неутомимый труд создания сказки. Кажется, что все эти тети и дяди, согнувшиеся над стойкой и старательно выводящие на бумаге хорошо или не очень хорошо знакомые адреса, – Андерсены, пишущие детям всей Земли сказки. Чтобы потом вложить их в красочные конверты со штампом «Почтовое отделение Санта Клауса» и отправить блуждать по свету, где к сказке не привыкли и где нет места чуду.
На почтамте пахнет хвоей, как и везде во владениях Сайты. Тошка ходит между стойками. Они стоят здесь в изобилии на своих вращающихся ножках – шестиугольные стойки со множеством ярусов и гнезд, в каждом из которых находится рождественская открытка. На одной – заснеженная равнина под синим глубоким небом. На другой – санки мчатся по снежному следу между сопок. А вот снеговик – почему-то в русской шапке-ушанке – стоит в окружении игрушек-подарков, и месяц в красном новогоднем колпачке улыбается ему с черного неба.
Тошка рассматривает открытки. Ягоды брусники лежат на медной тарелке. Рядом стоит медный подсвечник. Вокруг еловые лапы. Свечи зажжены и отражаются на блестящих самоварным золотом боках глубокой тарелки. И каждая ягодка горит маленьким красным китайским фонариком.
Умиротворенный пейзаж с темным лесом на горизонте.
На опушке стоит церковь с остроконечным шпилем. Люди идут к ней на праздничную рождественскую службу.
В долине, окруженной холмами, поросшими огромными соснами, стоит заснеженный замок. Вся картина выдержана в темно-синих тонах. Уже ночь, фиолетовое небо прорезают холодные лучи Луны. В замке горят огни. Там ждут кого-то. А из чернильной чаши неба валит густыми крупными хлопьями золотой снег.
Мы идем дальше вдоль стоек. Вот открытка, где дети с раскрасневшимися от мороза щеками катаются с горки на санках. Снег искрится, Солнце смотрит на ребятню из глубин бесконечного голубого неба.
Дальше, дальше… Праздничный стол, горят свечи, гости собрались. Видно, что это не столько трапеза, сколько ритуал, приобщение к тайне, к празднику Рождества. И вид у людей за столом заговорщический. Они тоже ждут. Все знают, кого, но никто не говорит об этом вслух.
– Смотри, – оборачивается ко мне Тошка, словно читая мои мысли, – они ждут рождения Христа.
Она набирает открытки целыми охапками. Таких открыток можно накупить в Финляндии на каждом шагу. Как, собственно говоря, и в Мурманске. Разница только в том, что здесь, на почте Сайты, они стоят в несколько раз дороже. Но Тошка хочет купить открытки именно здесь. Цена ее не интересует.
Мы покидаем рождественскую почту. В руках у моей спутницы большой бумажный пакет с открытками. Тошка тянет меня в палаты Сайты. Толпа становится все гуще. Одержимые, как и мы, жаждой чуда, люди идут по темному проходу туда, где в большой комнате гостей принимает сам хозяин всей деревни, да, пожалуй, и всей Лапландии, рождественский властелин детских умов половины нашей планеты. У него много имен. В разных странах называют его по-разному. (Молчу, молчу про козла!) Но все знают, кто он такой.
Рядом с нами идут японцы. Может быть, те самые, что снимали шествие гномов. И я шепчу Тошке на ухо:
– Что они, собственно говоря, тут вообще делают? Может, у них как раз грядет год козла?
Тошка фыркает и едва не разрушает благолепие одержимой рождественским духом процессии. Японцы недовольно на нее оглядываются. Тошка давит смех. Наверное, она думает о чем-нибудь грустном.
И вот мы поднимаемся на три ступеньки и оказываемся в святая святых всей Лапландии – комнате для приемов самого Сайты, единственного в мире материализованного и, я бы сказал, активно практикующего волшебника. Все мы знаем Мерлина, все читали о джиннах в бутылках и масляных лампах. Но кто может похвастаться встречей с ними? А Санта – вот, пожалуйста. Вы можете прийти сюда и познакомиться с ним лично.
Посреди темной комнаты с высоким потолком-куполом, под огромной, метра в четыре высотой свечей, сидит в кресле сам Санта. Стропила из огромных круглых стволов пересекают на большой высоте его чертоги. Выше – темнота, которая скрывает от любопытных глаз потолок или крышу. Кажется, что там бесконечность. И где-то наверху слышится шорох крыльев неведомых птиц в волшебном заколдованном лесу.
Вдоль деревянных стен стоят стеллажи с огромного размера книгами. На их синих, красных, зеленых переплетах написано: Африка, Америка, Европа, Азия, Австралия. Наверное, на их страницах Санта записывает просьбы детей всего мира о рождественских подарках. Совсем скоро соберет он свой мешок и отправится на юг, потом на восток, потом на запад разносить свои дары. Упряжка северных оленей уже ждет его.
Кроме книг, на полках лежат огромные зажигалка и свечи, стоит керосиновая лампа. Между ними копошится вездесущий гном. Деревянный пол слегка поскрипывает под ногами посетителей, к аромату еловых половиц, сосновых рубленых стен и хвои примешивается какой-то особый рождественский дух, составленный из смеси запаха оленей, свечного воска и еще чего-то, что мало поддается логическому осмыслению, но заставляет верить в чудо.
Дети по очереди подходят фотографироваться с Сантой. Снимки тут же выводятся на печать. И вот уже малыш бережно, как сокровище, держит в дрожащих от волнения руках свою собственную фотографию с Сантой. Даже взрослые невольно замирают и серьезнеют, когда их чадо идет к ним по поскрипывающим половицам.
И хотя Санта никаких чудес не совершает, для детворы со всех уголков планеты уже сам факт его существования, сама возможность сфотографироваться рядом с настоящим волшебником, о котором они раньше только читали в книжках, кажется чудом. Детские души парят где-то в поднебесье, где-то за огромными стропилами, прочерчивающими бездну над головой Сайты. Может быть, это они шуршат крыльями там, высоко над нашими головами, в черной пустоте не то неба, не то вечности?
Вот к Сайте робко подходит высокая девочка. Она старше обычных его гостей, которых сажает он к себе на колени, чтобы сфотографироваться. Девочка смущается, потом, превозмогая свою застенчивость, протягивает Сайте конвертик. Наверное, там написано ее самое заветное желание, которое она могла передать волшебнику только лично. Санта берет письмо и кладет его на столик возле своего кресла. Девочка совсем смелеет и, обняв Сайту за шею, что-то шепчет ему на ухо. Санта кивает. Потом сажает девочку к себе на колени, и они фотографируются на память.
Девочка плачет. Это видно по тому, как отблескивают в полумраке влагой ее глаза. Для нее эта встреча нечто большее, чем просто приобщение к чуду. Это начало новой жизни, точкой отсчета которой стал тот момент, когда она прошептала на ухо волшебнику свою самую сокровенную просьбу. Сначала она доверила ее бумаге, но не смогла выразить в письме всю полноту того, что переполняло ее душу. И тогда она сама рассказала обо всем волшебнику и получила от него заверения в том, что ее просьба будет исполнена, ибо она еще не выросла из того возраста, когда Санта выполняет все ваши желания.
Мы поднимаемся по деревянной лестнице на второй этаж, где притаился магазин сувениров. Открытки, брелоки, свечи, точеные подсвечники, безделушки из меха, резные лапландские фигурки из оленьего рога – на всем знак Сайты. Здесь продаются только фирменные чудесные вещи от самого владельца этих чертогов. Тошке нравится бывать здесь.
– Волшебная лавка, – говорит она о магазине всякий раз.
Сейчас она неторопливо выбирает нам подарки. Если честно, то цены поражают взор. Но о деньгах здесь никто не думает. Не для того все эти люди преодолели тысячи километров, чтобы экономить теперь на сувенирах. Нет, деньги теряют в деревне Сайты свою ценность. Причем и для продавцов, и для покупателей.
Тошка выбирает диковинные фигурки то ли людей, то ли троллей. Они вырезаны из оленьего рога и спрятаны в кожаные мешочки. Она сует их в пакет с открытками, и мы выходим на площадь.
Теперь Тошка тянет меня в торговые ряды. Этот бревенчатый мини-пассаж находится как раз напротив дома Сайты. Здесь полным-полно крошечных магазинчиков. Каждый уголок и закоулок пассажа освоен торговцами сувениров. Чего здесь только нет! Ровными нарядными рядами выставлены на полках остроносые валенки из ярко-красного войлока. Такие носят в своих лесных подземных замках эльфы.
Рядом такое же точно изобилие домашних мягких тапочек из оленьих шкур. Они оторочены мехом и украшены саамским шитьем. Кажется, что их просто оставили здесь на время проказливые тролли, которые побежали куда-то наверх, на чердак. Но они вот-вот вернутся и заберут свою обувку. Да еще и накажут того, кто посмел ее примерить в их отсутствие.
В соседнем отделе выставлены рождественские семисвечия: большие и маленькие, с золотой инкрустацией и без нее, из гладко оструганного дерева и из белой пластмассы, с высоким изгибом спинки и почти плоские. Все они горят, создавая, пожалуй, даже избыток предновогодней праздничности.
Следующий магазинчик – царство рождественских корзиночек и венков. Украшенные мишурой, шишками, еловыми и сосновыми ветками, они заполняют ярусы глубоких полок. В пассаже стоит многоголосый и многоязычный торжествующий праздничный гул. Дети с раскрасневшимися от всего этого переполоха личиками носятся от витрины к витрине. Родители с озабоченным видом идут следом. Они боятся забыть купить что-то самое главное, хотя купить им хочется все.
Туристические группы ходят гуськом, чтобы не потеряться. Они весело переговариваются, чувствуя себя самодостаточными и не выплескивая общение за круг знакомых им еще по родному Токио или Риму лиц.
Пока я отворачиваюсь на минутку в сторону, чтобы рассмотреть очередной прилавок с новогодними сувенирами, Тошка выскальзывает в ближайшую дверь на улицу. Я нахожу ее на площади. Здесь опять танцуют гномы. В руках у них то ли масляные лампы, то ли свечи под стеклом, чтобы не задувал ветер. Тошке улыбается семья каких-то иностранцев.
По торчащим вперед зубам я безошибочно угадываю в них американцев. Они полны впечатлений. И им столь явно хочется с кем-то ими поделиться, что в их улыбках сквозит мольба. Тошка снисходительно скалится в ответ. Американцы тут же завязывают с ней беседу. Они не вполне уверены, что их поймут, но полагаются на свою удачу и интернационализм английского языка.
Когда Тошка довольно связно вступает в разговор, радость ее новых знакомцев не знает границ. С навязчивой непосредственностью они начинают грузить Тошку информацией. Они из Флориды. Главу семейства зовут Нэд, жену – Барбара, а сынишку – Клод. Клод он потому, что так зовут двоюродного дядю Барбары. Вообще говоря, Барбара француженка. Вернее, она родом из Франции. Но никогда там не была. Если еще точнее, ее предки иммигрировали в Штаты из Европы.
Нэд рассказывает это Тошке, ничуть не сомневаясь в ее интересе. Я подхожу к ним поближе и обнимаю ее за талию.
– Это ваш сын? – тут же интересуется Барбара.
А Клод прищуривает на меня свои маленькие глазки, спрятанные под толстыми линзами очков. Тошка скрипит зубами. Вместо ответа я приветливо скалюсь. Дескать, это уж наше дело. Просто удивительна та бесцеремонность, с которой некоторые люди пытаются овладеть ситуацией.
– Нет, это мой шофер, – вдруг выдавливает из себя моя спутница.
Я, пониженный в статусе до обслуживающего персонала, незаметно убираю руку с Тошкиной талии и скалюсь еще более призывно.
– Мы из Флориды, – еще раз уточняет Барбара, как будто, превратившись из сына в шофера, я уже забыл об этом. – А вы откуда?
Наверное, нам с Тошкой одновременно приходит в головы мысль, что ни о каком Мурманске эти янки никогда и слышать не слышали, потому что мы в один голос отвечаем:
– Мы? Да мы-то с Севера.
Барбара вздрагивает и робко хихикает. Нэд перестает улыбаться и пытается натянуть короткую верхнюю губу на свои огромные желтые бобровые зубы. Очкарик Клод краснеет и гневно сверкает глазками из-под своих очков.
Мы с Тошкой переглядываемся, внезапно понимая, что мы натворили. Через секунду мы уже чувствуем себя полными идиотами. А еще через мгновенье начинаем дико хохотать. Ведь мы невольно осквернили саму идею места, где сейчас находимся, идею всей Лапландии. Мы плюнули в самую душу этим ни в чем не повинным американцам, которые потратили немалые деньги на поездку сюда.
Они думали, что где-то далеко-далеко, за синими холодными морями и чистыми сосновыми лесами, где-то там, в снегах Арктики, есть страна Финляндия. В этой стране, если ехать все дальше и дальше на север, можно найти ледяную избушку лапландки. А потом, если вы угодите маленькой старушке, она даст вам своих ручных оленей, запряженных в нарты. И только на этой упряжке можно добраться на самый край земли – засыпанный снегом и скованный льдом неведомый континент, где, отгороженная от всего мира обручем полярного круга, стоит деревушка Сайты.
И всю эту грандиозную идею мы осквернили. Они добрались до этой ледяной страны, чтобы встретить здесь нас – идиотов, которые приехали сюда… с Севера! Деньги американцев оказываются выброшенными на ветер. Опошлено самое святое – доллар.
То, к чему они стремились всю предшествующую жизнь, откладывая деньги и покупая теплую одежду, оказалось туфтой. Чуть ли не пляжем возле их дома, куда местные алкаши заезжают прямо на машинах. Они стремились на край Земли, а оказались неизвестно где. В месте, куда запросто ездят с какого-то уж совсем недоступного и непонятного настоящего Севера. Туристическая фирма обманула их в лучших и самых заветных ожиданиях. Но что же мы можем поделать, если Рованиеми расположен километров на двести южнее Мурманска? Мы сказали им чистую правду: для нас – это юг.
Американцы продолжают пребывать в шоке. Я, уже не таясь, обнимаю Тошку за талию и, продолжая хохотать, мы покидаем наших оцепенелых друзей. Мы садимся в машину, и я бросаю взгляд на часы. Ничего себе! Уже почти пять. Значит, мы протолкались у Сайты полтора часа.
– Заедем в Рованиеми? – предлагает Тошка.
8
Мы вновь на шоссе. Уже темно. Движение становится гуще. Дорога прямо перед нами расцвечена красными огоньками. А ее левая сторона слепит глаза белым светом встречных машин. Мы въезжаем в Рованиеми – столицу Лапландии.
По финским стандартам этот город считается крупным. Как и в большинстве здешних населенных пунктов, плотность застройки здесь крайне невелика. Рованиеми роскошно раскинулся во все стороны. Центр города – несколько пересекающихся под прямыми углами улиц. Здесь сосредоточены деловая жизнь и развлечения. Дальше, за пределы бизнес-сити, вынесены жилые районы и гипермаркеты. Еще дальше на десятки километров идет застройка маленькими частными домиками. Я слышал, что в войну город был почти полностью разрушен. Потом его отстраивали пленные немцы по проектам лучших финских архитекторов. И Рованиеми, как говорят старожилы, стал намного краше и комфортнее, чем прежде.
Рованиеми по-настоящему раскрылся, когда туристический бум свернул с проторенной дорожки фешенебельных белоснежных песчаных пляжей и обратил внимание на дикую, первозданную в своей красоте и не тронутую грубой рукой технократической цивилизации природу. Здесь Лапландии было что показать.
В этом краю гномов и троллей нет плохой погоды и мертвого сезона. Убожество зимних пляжей со стоящими на набережных почти пустыми отелями, в которых идет ремонт, пахнет строительным мусором и где коротают зимы престарелые семейные пары, так и не обзаведшиеся собственным кровом, свыкшиеся навек с кочевой гостиничной жизнью, незнакомо Лапландии.
Богатства северных бурлящих рек и хрустальную прозрачность озер дарит вам короткое северное лето. Не заходящее за горизонт полночное Солнце слепит путешественников, перепрыгивающих с камня на камень через ручей, чтобы добраться со старательским лотком в руках до его таинственного устья, где можно попытать счастье не хуже, чем в казино, и постараться собственноручно намыть несколько крупинок презренного желтого металла.
Осенью леса одеваются в великолепные яркие наряды. Кажется, что кто-то ночью окрасил их краской из распылителя. Стоят ярко-оранжевые осины и березы. Красным сигналом светофора горят ягоды рябины в сочном окружении все еще зеленых листочков. Фосфоресцирующим светом сполохов мерцает на камнях, занесенных сюда сотни тысяч лет тому назад свирепым ледником, мох. Сверху накрапывает мелкий дождик – как будто феи распыляют на землю одеколон из пульверизатора. Он совсем не мешает вам сидеть в лесу у потрескивающего костра под могучей сосной и жарить на палочке истекающую ароматным соком лопарскую колбаску. Дождь обостряет запахи прелой листвы, ягод и хвои, которыми наполнена эта сказочная земля.
Весна – лыжный сезон. И вам обязательно нужны темные очки. Потому что весной в Лапландии существуют только два цвета: слепящий белый цвет снега, искрящегося алмазными россыпями, и синий цвет бездонного неба. Если вы не хотите идти на лыжах – к вашим услугам снегоходы.
Зимой вся природа погребена под огромными лохматыми сугробами, Солнце не показывается вовсе. И нет в мире ни рассветов, ни закатов, а одна сплошная ночь, перемежающаяся с сиреневыми сумерками. Небо высвечивается северным сиянием, а олени лижут на лесных делянках соляные столбы, призывая Рождество.
И центром, властелином и олицетворением всей этой дивной красоты-красотищи является Рованиеми – столица Лапландии, город на полярном круге. Он раскинул свои руки для всех и весь мир готов принять в свои объятия. Сюда съезжаются круглый год люди всех континентов, стран, народов, вероисповеданий, языков и обычаев. Они ходят по его улицам, сидят в его барах и ресторанах, квартируют в его отелях и кемпингах, покупают совсем не нужные им товары в его магазинах и впитывают первозданность необжитой природы сразу за его околицей.
Мы подъезжаем к центру города. Справа от нас громоздится величественная стеклянная глыба музея «Арктикум». Здесь собраны материалы по истории Лапландии и Арктики. Собственно говоря, сам музей скрыт под землей – наверх выходит лишь крытая галерея. Некоторые острословы называют ее подлодкой. Она собрана из огромных стеклянных фрагментов и похожа на гигантскую теплицу. А сейчас, зимой, кажется, что она сделана из прозрачного сахарного льда.
Мне лично галерея «Арктикума» напоминает дворец Снежной королевы. Той, что никогда, как сказано у Андерсена, не остается на земле, а вечно носится на черном облаке. Она пролетает по улицам и заглядывает в окошки. Оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами. И только здесь, в Лапландии, она порой находит себе приют. Здесь, где вечный мороз и вечный снег, стоит ее ледяной дворец – как прозрачный айсберг среди бескрайней снежной равнины. И кажется, что совсем рядом, в одном из этих маленьких домиков, что окружают деловой центр Рованиеми со всех сторон, живет та самая финка, что может связать ниткой все четыре ветра. Она, как и тогда, во времена Кая и Герды, варит себе треску и читает кожаный свиток с удивительными письменами.
Я делюсь своими мыслями с Тошкой. У Тошки хорошая память, и она тут же начинает цитировать описание дворца Снежной королевы:
– Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись одна за другой…
Это в точности соответствует «Арктикуму». Наверняка это и есть ее сказочный дворец.
– И если ты сложишь из льдинок слово «вечность», – заговорщически продолжает Тошка, – ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков.
Она жмурится и лезет целоваться.
– Ты и так уже подарила мне весь свет, – шепчу я ей в холодные губы. – Дело осталось за коньками.
Тошка обещает.
– Знаешь, – говорит она, – мы с тобой, как Кай и Герда, которые спустя много лет едут навестить старых знакомых: принца и принцессу, старуху лапландку…
– Северного оленя мы уже навестили, когда чуть не поддали ему под зад возле границы, – ей в тон серьезно подхватываю я.
Тошка хохочет.
9
Мы крутимся по городу, проезжаем мимо вокзала. И вот я выруливаю на огромную парковку возле гипермаркета «Призма». Строго говоря, сейчас мы могли бы уже быть на полпути к Кемиярви, где обитает наш ненаглядный Юсси. Но Тошка хочет купить свечей. Местные свечи разительно отличаются от тех, что можно найти в мурманских магазинах.
Парковка перед «Призмой» забита до отказа. Мы оставляем джип довольно далеко от входа и идем между рядов машин. Отец семейства катит набитую всякой всячиной тележку к своему автомобилю. Рядом жена ведет за ручки двух маленьких девчонок-погодок лет пяти-шести. Девчонки наперебой озабоченно объясняют матери, почему им обязательно нужно было купить именно черничный йогурт.
– Даже не верится, – шепчет Тошка, хотя финны все равно не понимают по-русски, и она могла бы говорить свободно, – что такие малюсенькие детки уже умеют говорить по-фински.
– Они просят черничного йогурта, – тоже почему-то шепотом поясняю я.
Мы заходим в гипермаркет. Тошка быстрым шагом проходит между рядами одежды, подвешенной на плечиках на бесконечные вешалки. Минуем мы и сектор детских игрушек. Яркие упаковки переливаются в пронзительном, почти хирургическом освещении гипермаркета всеми цветами радуги. Огромные коробки с конструкторами и детскими железными дорогами дожидаются, когда их купят, чтобы через несколько дней подарить на Рождество их постоянному хозяину. Игрушки, как и собаки, обязательно должны иметь хозяина. Иначе их сердца разбиваются, и они погибают.
Как ни странно, в этом отделе очень мало детей. Хотя, если разобраться, странного здесь ничего нет: родители покупают рождественские подарки. А какой же это будет подарок от Сайты, от Рождественского Козла, от доброй феи или от какого бы то ни было еще представителя волшебного рождественского населения, если ребенок сам выберет его в магазине? Нет, в канун Рождества в отделах детских игрушек можно встретить исключительно взрослых. Они, как герои «Сказки о потерянном времени», с детским восторгом роются в коробках, украшенных разноцветными картинками, живописующими все то, что содержится внутри.
И вот мы на месте. Следующий сектор предстает перед нами империей свечей всевозможных цветов, форм, размеров и предназначения. Ими уставлены огромные полки, чьи очертания теряются вдалеке. Тошка, как зачарованная, идет вдоль стеллажей, принимая парад. Я качу тележку и готов складировать груз. Моя спутница не уйдет отсюда без доброго десятка самых диковинных представителей этого необыкновенного мира хрупких огненных душ. Здесь пахнет парафином, красками, навощенными фитилями и упаковочной бумагой. Так пахнет Рождество.
Свечи – самое странное создание рук человеческих. Они прекрасны и грациозны. Некоторые из них являются настоящими произведениями искусства. И весь этот блеск – только начальное па их огненного танца, в котором им суждено погибнуть. Но только в этом самоуничтожении и протекает краткая, но прекрасная жизнь любой свечи.
Люди отливают их в диковинные формы, раскрашивают вручную специальными восковыми красками, украшают позолотой и серебряной пылью. И все только для того, чтобы потом собственноручно уничтожить все это за несколько часов. Чтобы выпустить на свободу парафиновую невесомую свечную душу, которая на язычках пламени выпархивает из тесноты вещественных форм, сковывающих ее движения, и возносится прямо на небо. Туда, где она сможет присоединиться к миллиардам душ своих подружек, вырвавшихся когда-то до нее из земного существования в виде причудливой игрушки в мир воздушного блистательного бытия. И где только легкое дуновение эфира да едва слышимое отсюда потрескивание обгорающего фитиля говорят о материальном мире твердых непроницаемых вещей и грубых форм.
Сотни свечей глядят на нас с полок. Здесь есть толстые и короткие настольные свечи. Они двуслойны: внутри – легко испаряющийся белый парафин, снаружи – тугоплавкая цветная облатка. Такие свечи ставят на стол во время праздничных обедов. Внутренний слой выгорает быстрее внешнего. Горящий фитиль погружается вниз, и пламя просвечивает сквозь цветную облатку, превращая свечу в фонарик.
Рядом стоят шеренгами лампадки из венецианского стекла. Их тоже ставят на стол дома и в офисах. Колба в форме тюльпана, с расширенным низом и слегка зауженным верхом, что-то вроде рюмки без ножки, сделана из матового, как будто затянутого морозными узорами венецианского стекла – белого, красного, синего, зеленого. Внутри она на треть заполнена крупчатым, как мартовский снег, парафином, из которого торчит фитиль. Этот парафин очень легкоплавкий. Когда лампадку зажигают, пламя быстро растапливает его верхний слой, и огонек свечи начинает плавать по расплавленной магматической поверхности парафинового озера. Матовое стекло колбы озаряется изнутри неясным и трепещущим светом, как будто вы с улицы смотрите через замерзшее окно в комнату, где в печи горит огонь, неясными бликами играющий на стенах и морозных узорах на стеклах. В прошлое Рождество Тошка понаставила таких венецианских свечей в офисе, так что он стал похож на языческий храм огнепоклонников. Каждый сотрудник начинал рабочий день с чирканья спичкой, чтобы зажечь свечу на своем столе.
Следующий стеллаж уставлен большими толстыми свечами сантиметров сорок высотой и восемь-десять в диаметре, вставленными в целлулоидные патроны с железными рассекателями наверху. Такие свечи горят ровно семь дней. Вообще говоря, на каждой уважающей себя свече обязательно написано время горения – срок жизни, предопределенный судьбой. Например, красные и зеленые фонарики горят двадцать четыре часа. Венецианские свечи – в зависимости от размера – либо тоже двадцать четыре, либо двенадцать.
Белые толстяки горят ровно семь суток: с Рождества до Нового года. То есть с двадцать пятого по тридцать первое декабря. Их так и называют – семидневные. Такую свечу зажигают в сочельник и ставят в снег возле дома, чтобы своим светом, матовым из-под целлулоида, она приветствовала рождественские каникулы. Встретив Новый год, свеча умирает, выполнив свой долг и осветив путникам дорогу к дому в эту неделю сказки и праздника.
Рядом с семидневными свечами стоят смоляные светильники всех размеров и фасонов. Они похожи на обыкновенные большие банки из-под пресервов со срезанной крышкой. Источником горения в них является не парафин, а густая смолистая смесь. Она обладает довольно приятным, но резким запахом. Такие светильники горят сильным высоким пламенем и почти не коптят. Их ставят перед дверями магазинов, складов, гаражей, перед входом в бар или ресторан. Они стоят там бесшабашными гостеприимными привратниками, отгоняя нечистую силу своим пламенем.
Как и свечи, они созданы для праздника. И ничего не будут знать об этой жизни, кроме праздника. Собственно говоря, вся их жизнь, сверхзадача, ради которой они созданы, есть служение празднику, карнавальный танец огня во славу добра и чуда.
Следующий ряд стеллажей заставлен сувенирными свечами. Они представляют собой шары, покрытые слоем тугоплавкого цветного парафина, и расписаны поверх него особыми восковыми красками. Лишь на самом верху шар чуть-чуть срезан, открывая взору сердцевину из мягкого белого парафина, из которого робким ростком выглядывает, как черенок из яблока, фитилек. Шары-свечи разных размеров упакованы в картонные коробочки с затянутыми целлофаном передними стенками. Через эти окошечки можно разглядеть рисунок на свече и выбрать ту, которая понравится вам больше других.
Глаза разбегаются. На свечках пляшут гномы и забавные зверушки, тащит огромный мешок с подарками Санта, расправляет петушиный хвост комета, снеговик стоит под елкой и ждет детей, раскрывают лепестки диковинные цветы. Как можно выбрать что-то из такого великолепия? Вернее, как можно что-то не выбрать, оставив здесь, на полке, такую красоту? Двух одинаковых свечей просто не существует в природе. Тошка сгружает их мне в тележку целыми охапками.
– У тебя хватит силы их сжечь? – спрашиваю я.
Женщина смотрит на меня растерянным взглядом.
– Я не знаю, – говорит она. – Пусть стоят дома. Я не знаю. Я не могу их здесь оставить…
За расписными шарами следует стройная гвардия огромных свечей. На их ценниках написано: мраморные. На самом деле, они скорее радужные. Впечатление такое, как
будто замесили тесто из разноцветных парафинов, да так до конца и не домешав, не добившись однородного колера, отлили из этой массы свечу.
Разноцветные разводы не повторяются дважды. Одна свеча выдержана в красно-коричневой гамме. Другая представляет из себя богатство зеленых и желтых оттенков. Третья – вообще какой-то неистовый фейерверк цветов. Как будто на снегу расплылось бензиновое пятно, играющее на солнце всеми цветами радуги. Эти свечи огромны: сантиметров шестьдесят высотой и добрых пятнадцать толщиной. Тошка с трудом стаскивает одну из них с полки и осторожно, как туго спеленатого младенца, укладывает в тележку.
Свечному миру нет конца. За мраморными гигантами следуют целые штабеля «ангельских часов» всевозможных размеров и устройств. Этой игрушке, наверное, не одна сотня лет. Что может быть проще и гениальнее, чем поставить вокруг столбика на подносе четыре свечки, а сверху подвесить лопасти крылатки и ангелочков? Да еще добавить сюда колокольчики, по которым эти ангелочки, вращающиеся вместе с крылаткой под действием теплого воздуха, идущего вверх от пламени свечей, будут ударять крошечными молоточками, которые они держат в руках? Звук такой, как будто где-то очень далеко звонят церковные колокола. Хоровод ангелов отсчитывает небесное время, которое течет невидимым потоком и только в этих игрушках становится зримым и слышным в ровном пламени маленьких тонких свечей и мелодичном перезвоне ангельских колокольчиков.
Покинув свечной мишурный мир, мы неожиданно оказываемся в лесу из искусственных елок и сосен. Здесь есть маленькие полуметровые деревца и огромные трехметровые деревья. Есть елки темно-зеленые, а есть нежного салатного цвета только что вылупившейся из почки хвои. Елки иссиня-черные и серебристые, словно припорошенные сверху снежком или покрытые прозрачными кристалликами инея. Здесь есть сосны с шишками, выглядывающими, как новогодние свечи, из густой пушистой хвои. Есть авангардные серебряные и золотые деревья, как будто до них дотронулся своими волшебными пальцами царь Мидас. Мы с Тошкой бредем в этом сказочном лесу. И кажется, что где-то в капроновых ветвях слышен крик совы.
Наконец мы выбираемся из рукотворного ельника и подходим к кассам. Мы похожи на свечных фабрикантов, идущих на рынок сбывать свой товар. Наша тележка до отказа забита всевозможными парафиновыми светильниками.
10
Когда мы перегружаем все это богатство, сложенное кассиром в несколько полиэтиленовых пакетов, в багажник и садимся в машину, над Рованиеми уже висит огромная круглая и яркая Луна. Она кажется чистой и новой. Трудно поверить, что это та самая Луна, что неслась вчера вслед за нами над шоссе. И уж тем более странно предположить, что это та самая Луна, что светила нам своим усталым, бледным от хронического недосыпания светом позавчерашней ночью в Мурманске. Та самая Луна, под которой мы когда-то родились и под которой когда-нибудь умрем. А она все будет нестись по звездному небу – такая же чистая, юная и непорочная. Она будет светить следующим поколениям в их странствиях, благословляя их, быть может, на куда более отважные похождения и любовные приключения, чем наша с Тошкой рождественская поездка на дачу Юсси.
Кстати, Юсси ждал нас сегодня с утра. И сейчас, наверное, уже находится на точке кипения. Но Тошка не умеет быстро отдыхать. Быстро она умеет только работать. Именно в работе проявляется вся ее энергия. Что касается редких моментов отдыха, Тошка старается тратить их исключительно скупо, со смаком процеживая через себя каждую минуту драгоценного существования, когда никуда не надо бежать, ничего не надо улаживать, ни с кем не надо созваниваться и встречаться. В дни, часы и минуты отдыха Тошка считает себя хозяйкой времени, его повелительницей. Никто не вправе торопить ее. Никто не вправе становиться между ней и ее отдыхом. Никто не смеет напоминать ей о времени и каких-то договоренностях. Она все равно сделает так, как хочет сама.
Юсси это невдомек: он привык побеждать. Он ждал нас утром. Не заезжая к Сайте и в Рованиеми, мы уже давно могли быть у него. Но, если честно, меня не очень волнуют его амбиции и комплексы. В конце концов, мы приехали сюда отдыхать.
– Уже половина седьмого, – говорю я Тошке. – Пока доберемся до Кемиярви, будет около восьми. Я перезвоню Юсси.
Тошка щурит глаза. Она тоже привыкла побеждать.
– Мы заплатим ему за сегодня, – бросает она. – Скажи, что мы ему заплатим. Пусть не волнуется.
Я звоню Юсси. Оказывается, он уже дома. Он прождал нас в своем загородном коттедже с одиннадцати утра до пяти вечера, а потом вернулся домой. Я чувствую себя свиньей. Мне ничего не стоило позвонить ему утром и предупредить, что мы будем ближе к вечеру. Но я этого не сделал. А он сам не перезвонил из гордости. Юсси ворчит и наотрез отказывается снова ехать сегодня куда бы то ни было. Я убеждаю его образумиться. Но финн, гордый победоносный финн непреклонен. Максимум, чего мне удается добиться, так это его снисходительного разрешения заехать к нему домой и забрать ключи.
– Мы заплатим за сегодня, – говорю я.
Юсси только презрительно фыркает. Это само собой разумеется. Не будучи уверенным в этом, он не стал бы со мной даже разговаривать. Перспектива ехать к Юсси меня не вдохновляет. Где он живет, я не знаю. А рыскать по дорогам, отыскивая его дом, – занятие не для уставшей парочки. После долгих пререканий я договариваюсь с Юсси на завтра. Он будет ждать нас в своем коттедже ровно в десять.
Тошка приходит в ярость от этого известия. Ее глаза прищуриваются, сужаясь до щелочек, откуда, черные, как дула пистолетов, смотрят на меня зрачки, в которых пляшет злоба. Тошка порывается сама звонить Юсси, чтобы приказать ему, как она это умеет делать, собраться в пять минут и прибыть в коттедж. Наверное, у нее бы это получилось. Но, к счастью для Юсси, он не говорит ни на одном языке, кроме родного финского, которого не знает Тошка.
Мне стоит больших трудов убедить ее в том, что нам не придется ночевать на улице. В Кемиярви есть очень хороший маленький отель. И я даже знаю хозяина. Мы переночуем там, а утром Юсси встретит нас в своем коттедже. Тошка смиряется. Она любит гостиницы и в душе, наверное, даже рада познакомиться с еще одной. Мы приходим к взаимопониманию, и я вывожу машину со стоянки.
Кемиярви отделяет от Рованиеми девяносто километров шоссе, петляющего плавными, убаюкивающими путников поворотами между покрытыми густыми шапками лесов лапландскими сопками. Хотя нет еще и семи часов, ночь уже полностью вступила в свои права над этим краем земли, затерянным под беспросветным небом, укутанным ватными одеялами снегов, окруженным бесчисленными стеклянными озерами. Луна летит над нами. Это опять прежняя бледная и взволнованная Луна, которая сопровождала нас вчера из России. Кажется, что она тоже торопится в Кемиярви.
Дорога зажата узкой лентой между сопками. Время от времени сосны вплотную подступают к обочине – огромные и лохматые синие сосны, похожие на банду разбойников, подкарауливающих в безлюдных местах запоздавших путешественников. Синие великаны гнетут и наводят на мысли о доме, куда хочется поскорее добраться. Чтобы укутаться теплом, светом и комфортом, включить телевизор и почувствовать себя частью большого и сильного в своем единстве мира, а не песчинкой, затерянной в бескрайних пространствах мироздания, забытой и покинутой, ничтожной в своих поступках и тщетной в своих желаниях.
Дорога несет нас вперед. Именно она, а не джип кажется источником движения, в которое мы вовлечены. Мелькают белые огни встречных машин, рубинами горят фонари идущих впереди, проносятся мимо семисвечия, выставленные в окнах придорожных домиков. Как падающие звезды, обрушиваются на нас сверху и проваливаются куда-то вниз фонари возле мотелей, бензоколонок и придорожных кафе. Земля прокручивается под нами, как будто мы попали на огромное игровое поле какого-то немыслимого аттракциона, став фишками, участниками заезда, охотниками и жертвами, богами и героями ящика со стеклянной крышкой, где все перипетии нашего движения видны, как на ладони. И где приз будет разыгран не между нами – механическими лошадками, бегающими по расчерченному правильными квадратами полю, – а между действительными участниками игры, выставившими на старт свои фишки.
Небо черно, звезды открыты. Но при этом в свете фар рябит кружево легких снежинок. Они падают ниоткуда. Прямо из бездонного провала небесного купола. Как будто это материализуется человеческое дыхание, поднявшееся вверх. Или невидимые ангелы в черных балахонах вытряхивают небесный мусор, накопившийся у них наверху, из огромных черных полиэтиленовых пакетов.
Снежинки кружатся перед капотом. И опасная близость к его теплу сулит им гибель. Ветер от быстрого движения закручивает их винтом, бросает вдоль боковых стекол и назад, куда-то в сторону оставшегося за нашей спиной Рованиеми. Снежинки порхают, как ожившие мумии бабочек, как их души, пришедшие с небес полюбоваться зимой, которую они так и не дождались, заснув вечным сном дождливыми осенними сумерками.
Они печальны и мудры, эти комочки снега, летящие над бескрайними просторами Лапландии. Они знают все, что было и будет в этом мире под синими всклокоченными соснами и заполошной, суетливой, бледной от усталости и постоянного недосыпа Луной. Они кружатся, припадают к окнам машины, как будто пытаясь нам что-то сказать, объяснить то, чего мы так до сих пор и не поняли, не оценили, проглядели и не заметили в суматошной нашей жизни. Они рвутся внутрь, в гибельное для них тепло салона, но их сдувает ветром и уносит прочь. И наш джип галактическим странником пронзает время и пространство, чтобы доставить нас к месту нашего назначения.
11
Тем временем огоньки, проносящиеся мимо нас по сторонам дороги, становятся гуще. Мы въезжаем в Ке-миярви. Я сворачиваю с шоссе в проулок, где расположился маленький отель. Его хозяев – гостеприимных Ханну и Пертти – я знаю, потому что когда-то возил к ним группы туристов. В отеле десятка полтора номеров и небольшой ресторан, который днем служит столовой для постояльцев. После девяти вечера сюда начинают подтягиваться местные жители, желающие хорошо провести вечер. С Пертти мы сталкиваемся в дверях. У него в руках деревянная лопата. Ей он счищал снег с крыльца. Мы здороваемся.
– Почему не возишь группы? – спрашивает финн, и в голосе его звучит огорчение.
– Я привез тебе любимую женщину, – киваю я на Тошку. Тошка чувствует, что речь идет о ней, но она слишком устала, чтобы хоть как-то реагировать.
– Любимая женщина, – вздыхает Пертти.
Для хозяина отеля двадцать нелюбимых женщин были бы гораздо приятнее.
– Посидим сегодня в ресторане? – предлагаю я финну. Он кивает. Пертти частенько сам захаживает по вечерам в свой ресторан. Там весело, там кипит жизнь.
В небольшом холле отеля тихо и уютно. Я оплачиваю ночь в двухместном номере. И мы с Тошкой поднимаемся наверх. Добравшись до кровати, она падает на нее прямо в шубе и закрывает глаза.
– Я обещал Пертти посидеть с ним в ресторане, – сообщаю я ей.
– Угу, – отвечает Тошка.
– Ты пойдешь?
– Угу, – снова говорит она и открывает глаза.
Тошке нужно некоторое время, чтобы принять душ, переодеться и снова привести себя в полный порядок. Она ворчит, что с каждым годом на это требуется все больше и больше времени. Наверное, она ждет комплимента. Ноя, к своему глубокому стыду, не нахожу, что же ей ответить.
Я достаю из сумки бутылку водки, которую мы на всякий случай захватили с собой из Мурманска в качестве возможного подарка при какой-нибудь неожиданной и незапланированной встрече. Мы спускаемся из номера в ресторан. В большом отеле бутылка водки, которую я несу под мышкой, выглядела бы диковато. Но здесь можно все. Пертти нигде не видно. Я смотрю на часы: половина десятого. Наверное, Ханна еще не ушла домой, и Пертти боится направить свои стопы в ресторан. А может быть, у него еще есть какие-то дела в офисе?
Мы заказываем шикарный ужин, который полностью затмевает нашу вчерашнюю романтическую трапезу в Саарисельке. Да, в ресторанной еде есть та завораживающая негромкая и неброская прелесть, что делает из людей обжор. И никакая самая разухабистая хозяйка не может дома добиться того необыкновенного вкуса, который предлагает вам ресторан, где сам антураж, легкий запах сигаретного дыма, невнятная речь за соседними столиками и ни с чем не сравнимый скрежет столовых приборов по тарелкам, как кажется, уже прибавляют аппетита.
Вечер раскручивается сочно и неспешно, предлагая нам себя, как мягкий старый и удобный диван, в чьих продавленных и терпко пахнущих прошедшими временами подушках можно утонуть. Время, как торговец наркотиков на темной улице, незаметно заманивает нас в свои сети. Сначала оно с готовностью предлагает нам свои услуги, почти останавливая стрелки часов. И только потом, поняв, что мы уже полностью увязли в его паутине и расслабились, оно ударяет над нами своим гулким колоколом. И ошарашенные, мы замечаем, что уже половина первого ночи.
Тут появляется Пертти. И мне в голову закрадывается гнусное подозрение, что он отвез жену домой, почистил зубы, надел пижаму и лег в кровать. А потом, когда Ханна ровно и тихо засопела, погрузившись в глубокий сон, он тайком удрал из спальни, вновь оделся и выскользнул из дома, чтобы вернуться в ресторан.
Я спрашиваю его об этом, но Пертти только таинственно улыбается. Он, как тайный поверенный в государственные тайны, не говорит ни «да» ни «нет», а только делает заговорщическое лицо. Я угощаю Пертти водкой. Но он продолжает хранить тайну своего столь позднего появления.
Еще через час он приглашает Тошку танцевать, но та отказывается. Ровно в половине третьего Пертти, уже изрядно захмелев, падает перед ней на колени и бормочет что-то маловразумительное. Тошка смущается. И зря. Мне кажется, что финну нужна не она, а все еще недопитая водка. Тошка краснеет и жестами просит Пертти подняться с пола. Со стороны может показаться, что она тренирует собаку. Мне становится смешно. Я выливаю остатки водки из бутылки в рюмку и протягиваю ее Пертти. Тот ловко тяпает ее одним затяжным глотком.
Потом ему все же удается поймать Тошкину руку, которой та все еще машет перед его носом, и присосаться к ней губами. Тошка растерянно смотрит на меня. Но Пертти абсолютно безобиден. Он просто благодарит ее за угощение. Потом он поднимается с пола и нетвердым шагом идет к выходу. В дверях он машет нам рукой. Я машу ему в ответ. Тошка почему-то прячет руки под стол и лишь сухо кивает. Пертти уходит.
– Прямо, как их Санта, – бормочет Тошка. – Настоящий козел.
Нам тоже пора. Тошкины каблуки стучат по ступенькам. Все вокруг мне кажется призрачным и зыбким, звуки – резкими, а краски – непривычно яркими. Три часа. Ночь, это время между завтра и вчера, уже на исходе.
Мое единственное желание – добраться до кровати. Тошка еще возится, снимая макияж, когда я уже лежу под одеялом и пытаюсь заснуть. В голове моей гудит от выпитой водки, и по крови гуляет алкоголь, отгоняя столь долгожданный сон.
Утром к головной боли добавляется тошнота. Тошка, похоже, тоже не в форме. Мы переглядываемся: нет, о завтраке не может быть и речи.
– Сколько времени? – спрашивает Тошка, пакуя вещи.
Я гляжу на часы:
– Без пяти двенадцать.
И тут я вспоминаю, что договорился с Юсси на десять. Когда я испуганно напоминаю об этом Тошке, она разражается громким смехом. Юсси неприятен ей уже заочно. И она не хочет это скрывать. Ее смех заражает и меня. Я представляю разгневанного Юсси, второй день сидящего, как на работе, в своем коттедже, глядящего из окошка на дорогу в ожидании нашего приезда и складывающего, как бесконечный пазл, проклятья на наши головы.
Отсмеявшись, я звоню Юсси и заплетающимся после вчерашней вечеринки, негнущимся языком пытаюсь объяснить нашу задержку. Юсси стоически принимает мои объяснения, грешащие против логики и здравого смысла. Но он согласен ждать еще никак не более часа. Только мои полнейшие и ответственейшие гарантии того, что мы полностью оплатим вчерашний день и половину сегодняшнего, заставляют его немного оттаять. Но таймер остается включенным – тут Юсси непреклонен.
– Значит, час и не минутой больше? – злобно ухмыляется Тошка и начинает с особой тщательностью медленными движениями даже не красить, а нарочито прокрашивать губы.
В ответ на мои робкие мольбы она заявляет:
– Подождет. Еще один Санта нашелся.
Наконец губы окрашены и вещи собраны. Мы спускаемся в холл. За стойкой администратора Пертти нет. Там одна Ханна. Вид у нее расстроенный. Тем не менее, завидев нас, она улыбается. Мы прощаемся и покидаем ее гостеприимный отель.
– Тебе здесь понравилось? – спрашиваю я Тошку.
– О да, – цедит она сквозь зубы.
– А от коттеджа Юсси ты вообще придешь в восторг, – нашептываю я. – Это километрах в тридцати. Представь себе: огромный коттедж, стоящий прямо на берегу озера.
– Замерзшего озера, – уточняет Тошка.
– Мы будем там через полчаса, – добавляю я, садясь в машину.
Тошка злобно смотрит на часы: мы укладываемся в отведенный Юсси час, и это несказанно ее раздражает. Она бы предпочла опоздать.
– Там отлично и зимой, – отвлекаю я Тошку от дурных мыслей. – Представь себе: прогулки на снегоходе, а потом сауна. У Юсси там отличный бассейн. Тебе понравится. Огромный комфортабельный коттедж. Юсси называет его оазисом. Мы там прекрасно проведем Рождество, дорогая.
Токсичная улыбка
1
– Владка, – говорят ей все знакомые. – У тебя улыбка бультерьера.
Боже, когда-то она считала это комплиментом! Но потом ее соседи завели бультерьера. Уже щеночком он ей не понравился. Когда же он вырос и улыбнулся…
По дороге на работу она каждое утро сталкивается с ним возле лифта и улыбается в ответ. От ее улыбки пес тушуется и отходит прочь. Эти встречи возле лифта – просто рок. Она работает в газете. И ходит в редакцию тогда, когда встанет: от восьми утра до двенадцати дня. Но всякий раз она видит бультерьера возле лифта. Сергей, ее сосед, держит его на поводке. Раньше она сначала здоровалась с Сергеем, а потом уже улыбалась собаке. Но когда пес однажды чуть не укусил ее за ногу, Сергей сам попросил ее:
– Вы сначала ему улыбайтесь. Ваша улыбка его как-то дисциплинирует.
Так что теперь она сначала вгоняет пса в дрожь своей улыбкой, а потом уже приветствует Сергея.
«Интересно, – подумала она однажды, – а что, если мне попробовать улыбнуться и Сергею тоже?»
И она провела эксперимент. Но выбрала неудачное время. После работы. Эффекта не получилось. Очевидно, что кончина трудового дня и радость, трепетавшая в ее душе по этому поводу, смягчили оскал. Если вы хотите свалить человека наповал, улыбнитесь ему перед работой.
2
Ее папа – очень большой и серьезный начальник. И природа воплотила во Владке всю разговорчивость, которую недобрала в нем. Говорят, что природа на детях отдыхает. Чушь! На ней она постаралась от души. Утирая пот с утомленного лица, матушка природа наградила ее болтливостью, которая развеяла по ветру надежды отца направить дочь по своим стопам.
Она вообще почти во всем является прямой противоположностью своего отца. Поэтому, когда после окончания школы перед ней встал вопрос о выборе профессии, Станислав Сергеевич стал искать антонимическую пару.
– Летчик – подводник, – бормотал он, бродя по комнате и демонстрируя перед ней с мамой свою железную логику, – пожарный – пироман, акушер – гробовщик, инженер-строитель…
– Подрывник-диверсант, – уверенно подсказала мама.
– Ой, папочка, можно? – визгнула Влада с дивана.
Но на лице отца отразилась такая мучительная боль, что она не стала настаивать. Мама раздосадовано щелкнула пальцами и обиделась. Отец с дочкой пробились напрасно еще полчаса. Видя их полную неспособность найти свет в оконце, мама сжалилась и предложила искать описательно.
– Что характеризует инженера-строителя, тем более руководителя? – риторически вопросила она, скептически оглядывая мужа. – Серьезность, немногословность, обязательность и четкость в работе.
Отец зарделся от скромности.
– Значит, Владке нужна профессия веселая, болтливая и развязная, – рубила воздух рукой мама.
Из трех профессий, подходящих под описание и предложенных ей на выбор, а именно: таксист, гадалка на картах (это папа предложил, начитавшись классики) и журналист, она выбрала гадалку. Но папа тут же понял, что сглупил, и снял свое предложение. Так что ей пришлось идти на журфак. Хотя ежедневно, когда она утром видит редактора своего отдела, ей кажется, что надо было податься в извозчики.
Ее редактор, как ей кажется, даже ночует на работе. По крайней мере, он всегда приходит туда первым. И сразу же, по-видимому, начинает искать ее. Когда она на цыпочках прокрадывается в свой кабинет, он уже там. И в гневе. И перхоть сыплется пургой с его нечесаных волос на засаленный воротник пиджака. У него обо всем свое мнение, отличное от общемирового. Он – редакционный генератор идей. Они так и прут из Евгения Борисовича. Он одержим ими, как нечистой силой. И щедро перекладывает это бремя ответственности со своих седых от перхоти плеч на ее.
– Нам нужна проблемная статья о сути научно-технического прогресса, – сказал он ей позавчера.
По-видимому, он решил, что Владка слишком засиделась в своем кабинете. Ему хотелось погнать ее куда-нибудь на интервью. Он считает, что интервью можно брать у каждого встречного, как анализ мочи. Лично она думает, что право на интервью человек должен заслужить. Но Евгений Борисович, кажется, уверен прямо в обратном. Все люди, по его мнению, интересны. И каждый имеет полное право излить что-то сокровенное на ее диктофон. Потом она должна эту чушь затранскрибировать и выплюнуть на его стол.
– Факты, мне нужны только факты! – кричал когда-то Генерид (сокращенное от генератора идей), тряся ее первым в жизни интервью, которое начиналось так:
«Словно корабль с открытыми кингстонами, погружаюсь я в пучину кожаного кресла в кабинете директора Культяпина. Огромная муха, похожая на Бэтмена, мрачно нарезает круги под потолком и явно не разделяет мой живой интерес к хозяину апартаментов…»
А ее первый репортаж! Перхоть кружилась тополиным пухом:
«Я иду на презентацию трескового филе акционерного
общества «Золотая рыбка». Кто бы мог подумать, что сказочная обитательница морей на деле оказалась обычной треской…»
После этих перлов Евгений Борисович взял над ней шефство и сделал все возможное, чтобы вытравить, как он выражался, литературщину из ее материалов. Он решил на ее погибель вылепить из нее хорошего журналиста, поверил в нее, стал панировать перхотью, как котлету сухарями, и давать самые трудные задания для воспитания нечеловеческой воли.
Вот и с этим техническим прогрессом в пятницу вышла беда.
– Владислава, вам нужно будет поговорить с директором какого-нибудь НИИ, – сказал он ей. – Или проектного института. А может, завода…
– Да чего ж я к ним попрусь? – возмутилась она. – И о чем я с ними буду говорить? Я не инженер. Кульман для меня – всего лишь немецкая фамилия!
– Мы должны уметь писать и о том, чего не знаем, – парировал Генерид. – Идите и подумайте.
Ну, знаете, она не так много зарабатывает, чтобы еще и думать на работе. Но всякий раз, когда она об этом заикается, Евгений Борисович советует ей больше писать. Это каверзная отговорка и ханжество. С их гонорарами и Лопе де Вега не смог бы заработать на бутерброд с маслом. Да, работа – это тяжкое бремя, которое нужно нести до пенсии…
3
– Влада, иди завтракать! – это мама забеспокоилась. Она домохозяйка и поэтому обо всех заботится.
– Поторопись, – кричит из кухни мама. – Ато кофе уже, как Данькин нос.
Данька – их собака. Папин сослуживец упустил овчарку с водолазом. Плодов свободной любви оказалось четверо. И он раздавал их знакомым по работе. Чтобы у папы не было шансов отказаться, сослуживец принес ему щенка прямо в офис.
– Когда Владка выйдет замуж, будет с кем скоротать старость, – убеждал сам себя папа в целесообразности своего приобретения.
Владка замуж до сих пор так и не вышла. И папин довод оказался подмочен. Он вполне мог бы коротать старость и с ней. Более того, если она и дальше еще какое-то время не выйдет замуж, то уже сама сможет коротать старость с ним, мамой и Данькой, который вырос в огромную собачину, все темное происхождение которой недвусмысленно проглядывает в ее внешности.
– Это ландсир или сенбернар, – спрашивают ее периодически во время их с Данькой вечерних моционов.
– Мальтийская болонка! – огрызается она.
Утром с Данькой гуляет папа. Наверное, в том, чтобы вставать на полчаса раньше и бежать с Данькой трусцой вокруг микрорайона, и заключается коротание старости. Некоторое время тому назад (раз уж она все равно не вышла замуж) папа пытался привлечь к утренней пробежке и Владку, но она наотрез отказалась от этого группового коротания папиной старости.
Ее мама сделала карьеру очень рано. Уже в двадцать два года она нашла папу. На этом, собственно говоря, ее карьера и закончилась. Она никогда не работала и посвятила себя семье, которая, как кажется Владке, повела себя по отношению к ней в высшей степени неблагодарно. Папа удумал коротать старость с диковинной расцветки собачиной. А дочь, как ни старалась, так и не смогла найти себе мужа.
– В твои годы, – говорит мама всякий раз, когда Владка отказывается мыть посуду или убирать в квартире, – я уже была домохозяйкой с немалым стажем!
– Мамочка, – отвечает ей дочь, – но я же еще и работаю!
– Но не могу же я быть тебе служанкой всю жизнь? – резонно возражает мама.
После этого Владка всякий раз закатывает глаза и говорит страшным голосом:
– Так ты меня гонишь, мама?
И тогда мама (неизменно со слезами на глазах) заключает ее в объятия и долго извиняется за свои грубость и черствость, объясняя, что дочь совсем не так все поняла. Приняв на грудь этот поток нежности, Владка идет на диван читать книжку. После подобных сцен маме лучше не мешать: любая уборка для нее в такие минуты – чистое наслаждение. Да, с мамой им с папой повезло. Такой пример хозяйственной домовитости, однако, полностью отвратил Владку от желания завести себе мужа.
Впрочем, пора идти завтракать. Сегодня воскресенье. И не надо отправляться на работу. Так что Владке необходимо как-то убить время. Если вам тоже нечего делать, она может взять вас в соучастники: вы убьете его вместе.
4
Теперь вся семья в сборе. Как любая семья, будь то львы или кролики, они собираются вместе у источника пищи. Папа читает газету, запивая ее чаем. Влада наскоро запихивает в рот котлету и наливает себе кофе.
– Ты представляешь, мамочка, – восклицает она, – у эскимосов еще сто лет назад не было сахара, и им приходилось пить кофе без него!
Эта мысль пришла ей в голову внезапно и удручила настолько, что она не могла не выплеснуть ее в общество. Потерянная, она грызет печенье.
– По-моему, у них и кофе-то не было… – не вполне уверенно замечает мама.
– Как? Мамочка, ты только подумай: если бы у них не было кофе, чем бы они тогда запивали тосты?
– Ну не знаю, не знаю, – сомневается мама.
Папа хмыкает из-под газеты. Мама, проникшись тяжкой судьбой эскимосов, кладет себе в чашку еще одну ложку сахара. Дочь поедает печенье. Семейная картина, достойная воплощения если не маслом, то, по крайней мере, маргарином по холсту.
– А вы знаете, – продолжает Владка светскую беседу, – что День космонавтики праздновался на Руси с восемнадцатого века? Приказчики надевали белые жилеты, бабы пекли куличи в форме ракет, а крестьяне в этот день не пахали.
Папа с шелестом перелистывает недочитанную полосу. Мама смотрит на дочь с подозрением.
– Папа, – опять начинает Влада, – и все-таки ты должен признать…
– Не доставай отца, – предупреждает мама. – Тебе лишь бы что молоть. В твои годы я уже была домохозяйкой с немалым стажем.
– Мама, учитывая ничтожность моей зарплаты, меня тоже можно считать домохозяйкой.
– Так найди себе что-нибудь более высокооплачиваемое, – это папа из-под газеты.
– Мужа, например, – вставляет мама.
– Папа, ты сам на корню загубил мою карьеру гадалки, – подчеркнуто не заметив мамину реплику, охотно включается в полемику с отцом Владка. – А между тем профессия оказалась весьма перспективной. Представляешь, как бы мы разбогатели, если бы ты стал колдуном, мама – медиумом, а я бы перебрасывала картишки, предсказывая судьбу? «Вас ждет успех, большой успех и большие деньги. Каждый рубль, отданный мне сегодня, вернется к вам в ближайшем будущем денежным дождем!» Никто ведь не знает, когда наступит ближайшее будущее. Кто вообще когда-нибудь видел ближайшее будущее? С геологической точки зрения и миллион лет может считаться ближайшим будущим. Так вот: «…в ближайшем будущем – денежным дождем. А если вы мне не верите, можете спросить у Теодора Рузвельта. Мама-медиум – в соседней комнате, она все устроит». И тут, мамочка, выходишь из-за ширмы ты и говоришь: «Я – Теодор Рузвельт. Я выучил на том свете русский язык по методу Илоны Давыдовой. Кто звал меня? Уж не тот ли гражданин, которого ждет денежный дождь в ближайшем геологическом будущем?» Если и после этого у клиента останутся сомнения, мы пригласим папу-колдуна. И он основательно прочистит ему ауру, выведет заклинаниями ду-ха-искусителя и приворожит куриной лапкой на успех.
– Если ты сейчас же не перестанешь, отец тебя выпорет.
– Это явный перебор, мама. Меня не пороли даже в детстве.
– И зря не пороли, – вставляет папа.
– Согласись, что в тридцать два года я уже сформировалась как личность, и мне поздно заводить новые привычки. И в чем я не права? Скажи, в чем? Я девять лет работаю в редакции и до сих пор не могу себя прокормить. Если бы я столько времени угробила на карты, то стала бы уже второй Кассандрой. А не получилось бы с предсказаниями, резалась бы в покер на турнирах – тоже дело доходное.
– У тебя неприятности на работе? – вздыхает мама.
– Вся моя работа – одна большая неприятность. Ты помнишь мой жизненный принцип?
– Как можно меньше работать и как можно больше получать?
– Правильно. А помнишь, кем я мечтала стать в детстве?
– Помещицей?
– Да, помещицей. И жить оброком и барщиной.
– Увы, это вряд ли осуществимо, – вставляет папа свою ложку дегтя.
– Сама чую, что вряд ли. А значит, мне завтра нужно искать инженера и разговаривать с ним на предмет научнотехнического прогресса. Генерид озадачил.
– Ну и что здесь такого? – удивляется папа. – В молодости я тоже был инженером.
– И что с того? – возмущается Владка.
– Гнал журналистов поганой метлой, – задумчиво произносит папа.
Мама тихо ойкает.
– Вот! – разводит руками Владка. – И без того тошно, а ты усугубляешь, отец! Я уже брала как-то интервью у одного инженера. Он начал ругаться такими словами, которые я считала последними!
– Он оскорбил тебя, доченька? – ужасается мама.
– Когда прочитал интервью, – хмыкает папа.
– Ты жесток, отец, – обижается Владка. – Ты жесток и несправедлив. Что ж я там такого написала, что надо было меня так материть?
– Да ничего особенного, – злорадствует папа. – Ты только сказала, что до встречи с ним думала о людях лучше.
– Это было мое видение проблемы, – оправдывается Владка.
Мама не выдерживает и начинает хохотать.
– И вот теперь я снова должна искать представителя технической интеллигенции. И снова рисковать получить ведро помоев в лицо, – строит козью морду Владка.
Она жалеет себя. Но завоевать сочувствие мамы после абсолютно некорректных замечаний отца ей больше не удается. Мама продолжает смеяться. Дочь надувает губы.
– Что же, ты уже взрослая, – садистски замечает папа. – Будет трудно – плачь, страшно – кричи.
– Все равно никто не поможет, – констатирует Владка.
– Но ведь в твоей работе есть и преимущества, – впрягается в разговор мама.
– Это какие же?
– Встречи с интересными людьми, – хрестоматийно начинает мама, – свободный график работы…
– Дурак начальник! – подхватывает Владка. – Вся моя работа – одна большая навозная куча преимуществ!
В кухню заходит Данька и зорким взором с прищуром оглядывает стол.
– Данюшка, – говорит ему Владка и гладит собаку по макушке, – на, скушай печенюшку.
Она отдает Даньке последнее печенье. Данька с печенюшкой уходит в комнаты. Владке становится скучно.
– Собака, – не выдерживает она, – несомненно, наиболее близко стоящее к человеку живое существо после клопа. Но клопы – это отдельная история и судьба. Трагичная, между прочим. Они обречены на гонения и поношения. Хотя делают ту же важную с медицинской точки зрения работу по оздоровлению организма, что и, скажем, пиявки. Однако пиявки пользуются заслуженным почетом и всеобщим уважением, я бы даже сказала – любовью, а клопы преследуются.
Полное отсутствие реакции со стороны родителей.
– А я хотела бы вести собачью жизнь, – прилагает Владка титанические усилия по увеселению общества, – есть одно мясо и спать целыми днями.
Просто несуразица. Даже ее искрометности не хватает.
Она затихает.
– Спасибо за завтрак и содержательную беседу, – проникается она собственной обидой и идет искать Даньку, чтобы порадовать его дневной прогулкой.
5
Улица встречает их сильным ветром и гололедом. Вчерашний заморозок превратил дороги в сплошную ледяную корку, по которой, как по голландским каналам, лучше всего передвигаться на коньках. Жаль, что у нее нет коньков. Хотя, даже если бы они у нее были, она все равно не умеет на них кататься. Какое жуткое упущение со стороны родителей, которые не удосужились отдать ее в детстве на фигурное катание. Она могла бы стать чемпионкой мира и сейчас уже вышла бы в тираж, писала мемуары, купалась в лучах былой славы, отбивалась от поклонников и жила на проценты с прошлых гонораров.
Но, с другой стороны, она могла бы упасть на льду, сломать обе ноги и ковылять уточкой за пенсией по инвалидности. Опять же, упасть на льду и сломать обе ноги ей никто и теперь не мешает. И даже без всякого фигурного катания. Конечно, это будет не такой почетный перелом, как, скажем, на чемпионате мира, но от этого ничуть не менее болезненный.
Данька рвется вперед, и Владка похожа на сержанта полиции, идущего на задержание. Или на пограничный наряд. Если бы она родилась мальчиком, то могла бы стать офицером-пограничником. И носилась бы сейчас с Данькой, ополоумев от важности заданий, по пересеченной местности вдоль контрольной полосы.
Как яхтсмен, стремящийся овладеть парусом в ветреную погоду, она перехватывает поводок, подбираясь все ближе и ближе к Данькиному загривку. Наконец ей удается дотянуться до ошейника и отстегнуть карабин. Почувствовав свободу, Данька резко теряет интерес к бешеной гонке и начинает исследовать в подробностях, кто и когда справлял нужду в близлежащих кустах, с видом уролога анализируя последствия. Мимо проходит какой-то субъект. Он пристально вглядывается в Даньку, как будто силясь узнать в нем свою покойную тещу, умершую два года назад под Тамбовом от разрыва аорты.
– А чем вы кормите вашу собачку? – не выдерживает он, обращаясь почему-то к Даньке.
– Мясом, рыбой, творогом, – огрызается Владка.
Субъект обиженно поджимает губы, как будто в ее ответе заключено глубоко личное для него оскорбление.
– Да я сам мяса не ем, – укоряет он ее.
– Извините, – Владка тут же входит во вкус. – Но вас я взять не могу: двоих мне не прокормить. Понимаете, я ничего лично против вас не имею. Но моя зарплата просто не позволяет мне завести второго любимца. Согласитесь, не могу же я пойти к своему начальнику с просьбой о прибавке к жалованью только на том основании, что взяла вас на содержание? Нет, пойти и попросить я, конечно, могу. Но нам ведь важен в данном случае не сам факт моего обращения с запросом, а конечный результат этого самого запроса. Так ведь? А в нем-то я и сомневаюсь. Боюсь, что после подобной просьбы меня выгонят с работы. И что мы тогда будем иметь? Не только вы так и не получите свой кусок мяса и рыбу с творогом, но и я с моей, как вы изволили выразиться, собачкой останемся без средств к существованию…
Ошарашенный субъект отворачивается и, бормоча что-то себе под нос, идет прочь.
– Улучшит ли это экономическую ситуацию в стране? – кричит Владка ему вслед. – Очень, очень сомневаюсь. Скорее даже наоборот: эта ситуация хоть и не существенно, но все-таки ухудшится. Может ли страна сейчас это себе позволить? Нет. И еще раз нет.
Она не любит, когда начинают придираться к собаке.
– Данька, домой! – кричит она и направляется к подъезду.
6
Она заталкивает собаку в квартиру, хватает сумку и намеревается бежать.
– Влада, ты уходишь? – высовывается из кухни мама.
– Да, мамочка. Пора бежать. Мне надо заскочить к Таньке. И еще в тысячу мест. Боже, как все это хлопотно, но необходимо. Куда ж деваться? Хочется тебе или нет. Как бы я желала быть борцом за независимость. И чтобы меня поймали и посадили под домашний арест. Представляешь, какое это классное наказание: сидеть дома с гордым независимым видом, никуда не выходить и, главное, ничего не делать? Я так давно об этом мечтаю, но никак не могу осуществить…
– Ты об этом мечтаешь? – изумляется мама. – Да на тебе все время как будто штанишки с пропеллером. Где ж тебе усидеть под домашним арестом?
– К тому же ты не борец за независимость, – ехидно добавляет из комнаты папа.
– Это еще как сказать, – охотно огрызается дочь. – Независимость – штука тонкая, не каждому, знаешь ли, заметная. И не можешь ли ты предположить, отец, что я – тайный борец за независимость? Следи за газетами. Вдруг когда-нибудь где-то грянет независимость – хотя бы даже и в нашем доме, – и окажется, что именно я была ее тайным организатором и духовным отцом. Вообще-то, конечно, я должна стать духовной матерью…
– Ты бы лучше обычной матерью стала, – проговаривается мама о своем тайном желании.
– Но бывают ли вообще духовные матери? Не уверена, очень не уверена. Духовными обычно бывают отцы. Они испаряются, как утренняя роса. И лишь духовно общаются с детьми посредством алиментов. Но может ли быть духовной мать? Я никогда не задумывалась над этим. А это, знаете ли, проблема, я бы даже сказала – проблемища, которую надо поднимать. Архиважная проблема. И архисложная…
– Ну, хочешь, отец посадит тебя под домашний арест? – неуверенно предлагает мама.
– Нет! – строго отвечает дочь. – Нет, такую жертву я принять не могу! Да и с кем же тогда будет работать наш Генерид? Кого он будет посылать на самые трудные участки журналистского фронта? Из кого будет лепить хорошего журналиста? Он работает надо мной, как Пигмалион, уже девять лет. Еще лет двадцать, и я стану писать так же скверно, как он сам. А что может быть сокровеннее для творца, что может служить ему большей наградой, чем увидеть свое отражение, как в зеркале, в лице своего ученика? Он – мой духовный отец. И фразой: «Вчера состоялось очередное заседание областной думы» – я обязана именно ему.
– Иди, иди, доченька, не трещи, – устало машет руками мама. – Дай отдохнуть в тишине.
7
Как черт из табакерки, Владка выскакивает из подъезда и несется через двор в сторону цивилизации. Если из ее двора идти все время в южном направлении, то сначала будет Турция, потом Сирия, а потом Саудовская Аравия. Но Владкины планы, конечно, не столь грандиозны. Чуть не доходя Турции – так уж спланировали их двор – находится остановка троллейбуса. К ней-то она и направляется.
На улице так скользко, что все вокруг ходят с видом людей, только что потерявших какую-то мелкую, но очень дорогую для них вещь.
Дама поскальзывается и обрушивается прямо в ее объятия.
– Ой, спасибо, что поддержали! – охает дама.
– Не за что, тетенька, – отдувается Владка. – Я просто не успела отскочить в сторону.
Дама фыркает и уходит. Но ведь она же сказала правду: тетке следует благодарить лишь ее плохую реакцию. Если бы реакции продавались в аптеке, она бы уж не пожалела папиных денег и купила себе самую быструю. В нашей жизни человек с заторможенной реакцией обречен на вымирание. В этой тетушке было не менее восьмидесяти килограммов живого веса. Плюс два килограмма золотых колец и кило макияжа.
А если бы на нее поскользнулся мужчина? Это ж еще опаснее. Что могло бы произойти. Просто страшно подумать. Кто бы пошел завтра с диктофоном на инженера?
Или ей послать Генерида подальше вместе с его идеями? Да, она такой человек: ее, конечно, можно убедить, но до известных границ. У нее штаны всегда были протерты на заду, а не на коленках. Понимаете? Она не любит прогибаться. И не будет она постоянно подстраиваться под чужие вкусы. Было бы ради чего. Всякий раз, когда она получает зарплату, ей кажется, что она расписывается в собственной неполноценности.
Так что от работы она не фанатеет. Никакого энтузиазма! Что в нем хорошего? Для кого? Скажем, энтузиаст в любви – это сексуальный маньяк. Она не любит энтузиастов. Исключение могли бы составить разве что эти самые маньяки. Но где их взять в достаточных для всех женщин количествах? Проблема конечно же не одного дня. Можно ли их выращивать? И если – да, то чем кормить? И вообще, какое количество маньяков на, скажем, одну тысячу незамужних женщин является оптимальным? Вопросище! Матерый вопросище, господа вы мои.
А вот и остановка. Кто так строил микрорайон? Ей-богу, отсюда до Турции ближе, чем до ее дома. А это кто там ползет вдалеке, шевеля усиками, как таракан? Правильно – троллейбус.
– Уступайте места пассажирам с детьми, лицам преклонного возраста и инвалидам… – гнусаво сообщает динамик, когда она втискивается на площадку.
Интересно, а если она, к примеру, дитя-инвалид преклонного возраста? Ей что, три места полагается? Проблема требует дальнейшей проработки. Во-первых, может ли считаться инвалидностью злокачественная улыбка? Во-вторых, детский ли возраст – тридцать два года? В-третьих, не родился еще такой инвалид, который добился, чтобы ему уступили место в наших троллейбусах. Что же, за свое место надо держаться, как учат нас на бизнес-тренингах, руками и зубами, ногами при этом отбиваясь от всяких там назойливых инвалидов, лиц преклонного возраста и их детей.
Так вот, о незамужних женщинах, число которым легион. Что же, мужчина – это всегда роскошь. Не каждой женщине под силу его завести. Столько всего надо знать и уметь, чтобы держать его в доме. Она поняла это, когда в первый раз не вышла замуж. Эх, сколько раз она туда не выходила!
Одно время у нее был друг, у которого не было никаких достоинств. Просто никаких. Наверное, он опоздал к раздаче. Когда она с ним познакомилась, у нее екнуло сердце. Зная свою невезучесть, она была уверена, что именно ему суждено стать ее мужем. Когда она представила, как будет коротать с ним долгие зимние вечера в старости, ей стало плохо. Можно сказать, что она сбежала из-под венца…
– Оплатите проезд, молодой человек!
Ага, это кондуктор. Она требует исполнения закона от субъекта с бутылкой водки в руке.
– Денег нет.
– На водку есть, а на проезд нет?
– Ну, то ж дело святое!
Троллейбус весело хмыкает. Молодого человека явно поддерживает большинство.
– Где ж тут без водки-то, на таком-то морозе? – вываливает в партер тайную мысль многих кто-то из массовки.
Да, он прав: в троллейбусе так холодно, что средневековая пытка с обвариванием в котле с кипящей смолой могла бы здесь показаться просто благодеянием.
Кстати, о троллейбусах. Только позавчера она встретила здесь та-а-а-а-а-кого мужчину! А потом, представляете, он подошел к ней и спросил интимным баритоном, выходит ли она на следующей остановке. И она конечно же сказала, что да, выходит. И они вышли вместе. А потом он пошел в одну сторону, а она – в другую. Да, отличный был мужчина! Как говорил классик, в человеке все должно быть прекрасно: и мозоли, и перхоть, и кариес, и лысина…
8
Владка мысленно вновь возвращается к своим женихам.
Сбежав из-под венца недостойного, она завела себе друга-режиссера. Вернее, учитывая его амбициозность, это он ее завел. Как она потом поняла – для коллекции. Может быть, он хотел поставить спектакль ужасов? И ему приглянулась ее улыбка? Кто знает.
Он считал себя вторым Станиславским. Даже, пожалуй, первым. В этом он искал поддержки в родственных душах. Таких душ было явно недостаточно для того, чтобы снискать ему мировую известность. Их было пять или шесть за раз. Все они были женского пола и больше напоминали гарем, чем восторженную толпу почитателей его таланта. Владка состояла одной из них и прощала ему все.
Вот за него она готова была выйти замуж. Вы думаете, они поженились? Нет, конечно, вы так не думаете, потому что уже знаете, что она так и не вышла замуж. Но если бы вы этого не знали, вы бы подумали, что они поженились? Так вот: нет!
Каждые полгода он говорил ей:
– Завтра. Завтра мы поженимся, дорогая.
Он только забывал добавить, что сегодня ему еще надо успеть забежать к двум или трем другим пассиям. В конце концов, ей это надоело, она сделала горькое лицо и ушла от него.
На этом ее злоключения не закончились. Танька, ее лучшая подруга, видя ее полную неспособность выковать себе счастье, присоветовала отдаться иностранцу – денежно, престижно. И после свадьбы можно уехать за границу, чтобы тосковать по отечеству и общаться с диаспорой на ломаном русском языке. Не знаю, как это произошло, но она смогла инфицировать Владку этой идеей. И та пошла по следу.
«Отдаться» оказалось не так просто. Возможно, попадавшихся ей под руку иностранцев страшила ее улыбка. Правда, к ней в друзья долго набивался юный молдавский цыган, работавший каменщиком на стройке. Но после мучительных раздумий и самых скверных искушений она все же не смогла посчитать его за иностранца. Хотя паспорт у него был на румынском языке.
Через восемь месяцев ревностных поисков она все же смогла приобрести себе подержанного немца. Они познакомились в Гельмутом на интервью, и ей пришлось заплатить за его кофе в баре. Он скверно говорил по-русски, торговал рыбой и часто приезжал в их город по делам. Раз в месяц они встречались у него в гостинице.
– Евро потекут к тебе рекой, – уверила ее Танька.
Как бы ни так. За полтора года знакомства она не увидела ни одной самой мелкой купюры. Один раз, правда, Гельмут покатал ее на такси. У него через три часа был самолет. И он провез ее через весь город – из редакции в гостиницу, где удовлетворил свою предполетную похоть.
– Аллее, мин херц! – сказала она ему и ушла прочь.
Он долго тосковал и даже пару раз позвонил из Германии, потратив, наверное, кучу денег. Но она была непреклонна.
– Ты наступаешь на горло своему будущему! – угрожала ей Танька.
Они с Гельмутом так насели с двух сторон, что у Владки возникла сумасшедшая идея их познакомить. Танька оробела, но была готова на все. Дело почти сладилось. Но тут рыбный бизнес Гельмута накрылся медным тазом. И он перестал приезжать. Танька хотела травиться.
– Давай отравимся вместе, – предложила Владка.
Они купили литровую бутыль водки, за распитием которой Владка рассказала подруге всю правду об экономности Гельмута.
– Бог отвел, – сделала вывод Танька.
– Аллее, – подтвердила Владка.
И вопрос был закрыт раз и навсегда.
После Гельмута у нее был финансист. Их роман продолжался всего три месяца. Близость к деньгам привлекала. Но полная непричастность к их тратам отталкивала. К тому же финансист был вял в постели. Слишком много работал, что ли? При этом он зорко следил за ее личной жизнью вне стен его спальни. В конце концов, она решила, что нет хуже мужа, чем ревнивый импотент. Они расстались врагами.
Ее следующий друг, Володя, всем был хорош, кроме одного: уж слишком он гордился собой. Он, кажется, считал себя неотразимым. Что тут сказать? Может быть, ему и было чем гордиться. Но уж слишком утомительно было постоянно восхищаться каждым его шагом.
– Ради мужа нужно идти на жертвы, – сказала ей на это мама.
– Но не на такие же! – возмутилась она в ответ. – Может, мне еще свою почку ему отдать?
– Может, – гордо произнесла мама.
– А ты отдала бы мне свою почку? – тут же спросил у мамы папа.
И разговор как-то сразу скомкался.
Сразу за Володей ее подобрал Валентин. Они жили вместе около года. В конце этого периода Владка выяснила, что все его мечты были черного цвета: «роллс-ройс», смокинг и африканская рабыня-наложница. К сожалению, материальная несостоятельность не позволяла ему реализовать их в полном объеме. Он ездил на ржавой «пятнашке» и носил турецкие джинсы. А вместо наложницы – африканки вынужден был довольствоваться В л ад кой. Его усилия превратить ее в рабыню и таким образом хоть в чем-то приблизиться к осуществлению своей мечты были весьма похвальны. Но, на ее взгляд, излишне навязчивы. Так что она попросила его начать с «роллс-ройса». Он бросил ее, сочтя себя оскорбленным.
9
Владка высаживается из троллейбуса возле рынка и огибает обшарпанный Танькин дом. Танька переехала сюда после развода со своим последним мужем. Они с Владкой во многом похожи. У обеих, как выражается Танька, очень покладистые в постель натуры. Но есть и различия: Танька выходила замуж примерно столько же раз, сколько Владка туда не выходила. Если бы Танька рожала от каждого из своих мужей, то наверняка стала бы уже матерью – тер оиней.
На самом деле у нее только одна дочь – десятилетняя Ирка. А так как трудно предположить, чтобы Танька, с ее пофигистскими настроениями, уделяла серьезное внимание контрацепции, малочисленность детей можно списать только на определенную несостоятельность ее мужей. Справедливости ради нужно заметить, что Владкина подружка так плохо готовит, что после ее кормежки мужчинам, наверное, трудно прилагать усилия к производству детей. Последний Танькин муж – Ирка называла его папой Валерой № 2 (один папа Валера у нее до этого уже был) – унес от нее свое отощавшее тело года полтора назад. От голода он даже забыл про свою двухкомнатную квартиру, в которой они с Танькой проживали. Забыл он, но не забыла его мать.
Нарыдавшись всласть, Танька собрала вещички, отдала ключи наседавшей на фамильную недвижимость бывшей свекрови и заявилась с Иркой, как и во все предыдущие разы, к матери с отчимом. Тешившие себя надеждой, что им удалось пристроить дочь, старички были явно не в восторге. Помаявшись с месяц, они собрали семейный совет, на котором у Таньки явно не было права голоса, и решили купить ей однокомнатную квартиру.
Чуя, что за этим последуют финансовые санкции, Танька робко возразила против разъезда и акцентировала внимание на своей дочерней любви и полной готовности посвятить себя уходу за родителями. Не нуждающиеся ни в каком уходе Танькины предки-торгаши в весьма недвусмысленной форме намекнули ей на то, что хотят скоротать старость, не спотыкаясь ежеминутно о внучкины коньки. И что, вообще говоря, к тридцати годкам надо уже самой научиться зарабатывать себе на жизнь. Танька ужаснулась от предчувствий, но деваться ей было некуда.
Ей купили квартиру возле рынка и выделили из семейной мебели кухонный стол, диван-кровать и четыре табуретки. Через неделю подобревший от радикальности принятых мер отчим припер ей телевизор и сколько-то там денег. На этом финансовые и товарные вливания в Танькину жизнь были прекращены. Танька с Иркой спали на диван-кровати валетом, смотрели телевизор и использовали кухонный стол как письменный, обеденный и журнальный одновременно.
– При такой жизни, – жаловалась подруге Танька, – придется, видать, работу искать.
При ее специальности это выглядело весьма проблематичным. Технологу молочной пр омышленно сти, Таньке в Мурманске оставалось разве что начать доиться самой. Даже чудодейственные связи Владкиного отца оказались бесполезны. После нажимов дочери он признался, что ему легче будет кормить Таньку самому, чем найти ей работу.
Между тем единственным источником поступления средств для Таньки стали алименты на дочь. И краски стали сгущаться. Тратя все на Ирку, сама она ела одну путассу, где много фосфора. И скоро глаза у нее стали гореть в темноте зеленым огнем.
Напуганные подобным феноменом, мать с отчимом возобновили кредитование приобретшей девическую стройность зеленоглазой дочери. Но деньги выдавали мелкими траншами и деспотически нерегулярно. Каждое экономическое вливание обставлялось настоятельными требованиями найти работу. Это было излишне, ибо Танька, привыкшая в период безденежья искать не работу, а нового мужа, и так уже с ног сбилась, носясь по знакомым в надежде хоть кого-нибудь подцепить.
– Мне бы сейчас хоть того Славика из автосервиса, что был у меня три года назад, – делилась она с Владкой сокровенным. – Сейчас не до жиру. Хоть как-то перекантоваться.
Владка предложила ей холостого Генерида.
– Сколько? – загорелась Танька.
– Сорок восемь.
– Да на что мне его возраст, – огрызнулась она. – Зарабатывает он сколько?
Владка сказала.
– Ты что, дура? – обиделась Танька, решившая, что подруга смеется над ее горем. – Ты хочешь, чтобы мы на Иркины алименты втроем, что ли, жили?
– Я еще меньше получаю! – рыкнула оскорбленная Владка.
– У тебя отец, а у меня отчим. Мне надо самой выживать, – резко провела водораздел между их судьбами Танька и разревелась.
Обрыдав плечо подруги, она почувствовала себя лучше. Они помирились и оставили Генерида в покое.
– Ты меня извини, – сказала Танька. – Просто жизнь такая, что хоть травись.
Владка поняла мгновенно. Сбегала, как и при отпевании Гельмута, за бутылью водки. И они сгоряча так урезали, что ей пришлось ловить такси, чтобы добраться домой и не ночевать вместе с Танькой и Иркой на их единственном диване. Всю дорогу она убеждала таксиста жениться на ее подруге. Но таксист почему-то хотел жениться на ней, пока она ему не улыбнулась.
Помыкавшись еще месяца два и найдя у себя на голове седой волос, Танька взревела:
– Боже, я старею! Я никогда больше никого не найду! Травиться, только травиться!
К счастью, Владка с литровкой водки была уже на подходе.
– Знаешь, тебе все-таки надо искать работу, – сказала она, куря на Танькином балконе и задумчиво стряхивая пепел на головы рыночных торговцев.
– Сама чувствую, что ничего лучшего не предвидится, – вздохнула в ответ подруга. – Так и издохну вся в трудах и мозолях.
– Ты всегда видишь в жизни один негатив, – заметила Владка.
– Дорогуша, – обрезала Танька, – у меня нет микроскопа, чтобы найти в ней позитив.
Да, у Таньки определенно есть комплекс Дездемоны: время от времени ее так и хочется придушить.
– Послушай, – не выдержала Владка в тот раз, – иногда мне кажется, что ты одноногая. На моей памяти ты еще ни разу не встала с «той» ноги.
В ответ Танька расплакалась, сослалась на свой седой волос, который тут же выдрала и предъявила ей в качестве живого укора, и попросила прощения за свой срыв.
Через месяц она нашла работу уборщицы в тресте стальных конструкций. Отчим прослезился, принес ей килограмм икры и немного денег. Но от дальнейших инвестиций стал воздерживаться. Танька перешла с путассу на куриные окорока и окончательно потушила леденящий душу зеленый взгляд.
– Жизнь налаживается, – сказала ей Владка.
– Отчим, гадюка, повез мать в Объединенные Арабские Эмираты, – закатила глаза в бессильной злобе Танька. – Чего ж я его раньше своей мамочки-то не нашла?
– Ты еще молода, – успокоила ее подруга. – У тебя таких отчимов еще будет и будет.
– Типун тебе на язык! – замахала Танька руками. – Мне нужен один и навсегда. Чтобы как лебеди. Или вороны? У кого там браки крепкие?
Владка не знала, поэтому ничего не ответила.
– Я тут уже присмотрела себе одного в тресте, – продолжила мысль ее подруга. – Ничего особенного. Но нужно же мне как-то обставить квартиру?
– Безусловно, – согласилась Владка, оглядывая пустые углы Танькиной комнаты. – А то хоть травись.
И она тут же побежала в магазин.
Так вот Танька и жила последнее время. Мужик из треста оставался непоколебимым, хотя она каждые две недели подрезала полы своего рабочего халатика.
– Отрастает он у тебя, что ли? – съязвила как-то Владка с улыбкой.
Танька заледенила ее взглядом. Но после утраты фосфора эффект был недостаточен. И не шел ни в какое сравнение с Владкиной улыбкой. Получилось один ноль в пользу бультерьера.
– Я скоро кудахтать начну от этих куриных окороков, – жаловалась вчера по телефону Владке подруга. – Когда же он соблазнится? Ты бы хоть зашла, что ли? Поболтали бы.
– Травиться будем? – спросила Владка, лихорадочно пересчитывая в уме скромные финансы, оставшиеся в ее кошельке с аванса.
– Нет, – Танькин голос дрогнул. – Я с предыдущего раза еще не отойду никак. Не хочу я травиться. Я пришла к выводу, что по отношению к смерти пословица: лучше поздно, чем никогда, недействительна.
– Ясно, – сказала Владка. – Я зайду завтра.
Сегодня – это вчерашнее завтра. И вот она дает в Танькину дверь два долгих гудка.
10
– Ой, у тебя кожа на синтепоне, что ли? Как ты не мерзнешь в такой курточке? – встречает ее Танька. – Проходи. И тут же убегает на кухню.
Владка вешает куртку на гвоздь в прихожей (трестовский спец так и не пожелал обставить Танькину квартиру), ставит сумку на посылочный ящик в углу и разувается.
– А Ирка где? – заглядывает она в комнату.
– Что? – орет Танька. – Иди ко мне на кухню. Я тут обед готовлю.
– Ирка, говорю, где? – повторяет Владка, входя на кухню и убеждаясь, что под обедом понимаются все те же неизбывные куриные окорока, которые Танька, злобно прищурившись, заливает водой на сковородке.
– На рукопашном бое.
– Где?
– На рукопашном бое.
Таньке это явно не интересно. И она актуализирует тему разговора.
– Эта курица такая старая, – Танька грубо тычет вилкой в желтую шкуру. – Наверное, она была несушкой. А уж потом, когда перестала нести яйца, ее зарезали.
– Вот видишь, чем опасен климакс, – подводит итог Танькиной эпитафии Владка. – Так ты Ирку еще и на рукопашный бой отдала?
– Что значит «еще»? Пусть научится правильно вести себя в обществе.
Нет, Владка, конечно, не Герасим. Но такую Му-Му ей иногда хочется утопить: «Что значит – «еще»?» Да то и значит.
– Она же, – говорит Владка, – у тебя на фигурное катание ходит, в музыкальную школу, на испанский язык…
– Ив изостудию, – гордо добавляет Танька.
– В изостудию?
– Ну и что ты так удивляешься?
– Да я же видела ее рисунки!
– Ну и?
– Мне кажется, если человек умеет рисовать, это должно быть видно.
– Подумаешь, – просыпается в Таньке материнское чувство, – Марк Шагал тоже уродов рисовал. А помер, подозреваю, не с последним рублем в кармане. Окорока не жевал куриные. На диване с дочкой валетом не спал.
– Значит, теперь она у тебя будет рисовать, как Шагал, играть на скрипке, как Паганини, и драться, как Ван Дамм?
– И очень даже хорошо, что будет драться. Не будет, как я: муж приходит домой в два ночи, а у меня все губы искусаны, все пальцы изломаны, все больницы и морги обзвонены. Прилетел, мой ангел? Сыт ли ты? Не ослаб ли? Не устал? А надо сразу в морду. Ногой.
– Это какого ж из своих мужей ты так обихаживала? «Сыт ли ты, мой ангел?»
– А что ты иронизируешь?
– Да я не иронизирую. Просто много их было. Как у тебя, кстати, с твоим начальником из треста?
– Пока никак, – расстраивается подруга.
И Владке становится неловко за свой вопрос.
– У меня уже из-под халата стринги видны, а он хоть бы взгляд бросил, – вздыхает чудо-уборщица.
– Не переживай так, у меня вон тоже в последнее время…
– У тебя каждое время – последнее, – чуть не плачет Танька. – Ау меня халат уже…
И Танька опять начинает рассказывать о своем многострадальном халате и черством начальнике. Прямо Гауф какой-то. Она садится на табуретку и забирается в дикие дебри соблазнения непоколебимого начальника. Потом переходит на что-то другое. И вскоре Владка полностью теряет нить повествования.
– Я ведь ему говорила: если вы позволите одевать свою жену кому-то другому, то и раздевать ее вы будете вместе, – заплывает куда-то за буйки Танька. – Правильно, нет?
– Угу, правильно, – поддакивает Владка.
– Да ты не слушаешь, подружка, – возмущается мать будущей каратистки-художницы. – Пришла называется поболтать. Ты в последнее время совсем никуда не годишься, матушка. Может, тебе мужичка завести? Хотя, конечно, с ним тоже хлопот хватает: стирка, глажка, готовка…
Владка отмахивается.
– А что здесь такого? – возмущается Танька. – Тебе проще. Ты можешь себе позволить даже малоимущего. Это мне надо кормильца, чтобы обставить квартиру и не дать пропасть ребенку. А тебе, с твоим-то папой…
– Ну, знаешь, мой папа тоже деньги не кует.
– А мой отчим кует, – трясет крашеными рыжеватыми патлами Танька, что делает ее похожей на плохо кормленную афганскую борзую, у которой болят уши. – Только толку мне от этой кузницы никакого. Всю жизнь, что ли, с Иркой на одном диване спать? В школе у нее тоже одни неприятности, – Танька совсем расстраивается. – На собрании мне их училка преподнесла: ваша Ирочка, говорит, совсем не хочет заниматься…
– Танька, успокойся, – утешает Владка подругу, уже хлюпающую носом. – Не обращай внимания. Она ведь педагог. У нее профессиональная ненависть к детям.
– А когда ж ей заниматься, – травит душу Танька, – когда у нее утром коньки, после школы испанский, а вечером изостудия? Когда ей заниматься-то?
– И рукопашный бой еще. Она у тебя прямо Леонардо да Винчи…
– И поведение, говорит, плохое, – не слушает ее Танька, но тут же возвращается на круги своя: – Я тебе серьезно насчет мужичка. У тебя есть кто на примете?
– Нет.
– Если мне подвернется кто-нибудь безденежный, я тебя с ним познакомлю, – щедрится Танька.
– Да хватит уже, – Владка надувает губы.
Танька начинает колготиться над плитой, что-то напевая вполголоса.
– Курицу будешь? – делает она шаг к примирению.
– Нет, спасибо, – отказывается Владка.
Ей хочется есть. Но Танькино финансовое положение настолько катастрофично, что объедать ее куриные окорока было бы просто свинством.
– Чай?
– Давай чай.
Они окончательно оттаивают и чаевничают мирно и дружелюбно.
– Слышишь, мамочке-то моей в Эмиратах не понравилось, – вспоминает Владкина подружка. – Вот уж, воистину, хоть овсом корми.
– А чего не понравилось-то?
– Да ничего, говорит, интересного. Теперь ей в Париж хочется.
– Путешествовать надо в юности, – многозначительно замечает Владка.
– Это точно. А то шляются везде одни пенсы, а потом рожи кривят – аж зубы сводит.
– Кстати, о зубах, – глотнув чайку, делится Владка с подругой трезвыми мыслями. – Хотела я тут как-то зуб подлечить. Собрала всю волю в горстку, помянула святых угодников, пришла в клинику. А меня там записали на конец недели. Я, конечно, больше не пошла. Как можно второй раз так себя насиловать.
– Да, – философски замечает Танька. – К стоматологу не должно быть очередей.
– Именно, – радуется Владка. – Два дюжих мужика должны дежурить возле входа и затаскивать тебя внутрь, как только ты бросишь взгляд на дверь.
– А потом – наручниками к креслу, – визжит в восторге Танька.
– И расширитель в рот. Только так можно улучшить зубовное здоровье нации, – поддакивает Владка.
– И довести уровень зубовного скрежета до мировых стандартов, – добивает Танька тему. – Знаешь, тут Оксанка как-то пошла зубы лечить…
Они начинают перемывать косточки общим подругам. Но запах, идущий от утомленных на Танькиной сковороде куриных окороков, окончательно разжигает во Владке чувство голода и гонит домой.
– Что ж ты так быстро уходишь? – огорчается подруга, когда Владка начинает откланиваться. – Сейчас Ирка должна прийти. Они в изостудии как раз портрет проходят. Хочешь, она твой нарисует, сангиной?
– Зачем же с ангиной? – пугается Владка. – Нет у меня ангины.
– Да это мелки такие, – успокаивает ее подруга.
– Нет, знаешь ли, я себя и в зеркале-то боюсь…
– Портрет иногда открывает в человеке его лучшие стороны, – задумчиво изрекает Танька.
– Так это же иногда. Знаешь, Тань, я пойду. Пора мне. Пусть Ирка лучше тебя нарисует.
– Да рисовала уже. Сто раз, – загорается Танька, бежит в комнату и притаскивает стопку листов измалеванного картона.
– Без комментариев.
– Что-то ведь есть общее, – Танька рассматривает рисунки.
– Что-то, конечно, есть…
– Знаешь, – воодушевляется Танька. – Здесь ведь главное не прямое сходство.
– Конечно, – утешает ее Владка.
– Это же не фотография. Здесь главное – неповторимость стиля. Как у Шагала, например.
– У Ирки есть стиль, и он неповторим, – резюмирует Владка, вглядевшись для пущей важности еще раз в Иркины каракули.
– Да брось ты, – кокетничает Танька.
– Я серьезно.
– Думаешь? – в голосе подруги появляется надежда.
– Я тебе говорю.
Танька млеет от удовольствия. А Владка выскакивает на лестничную клетку.
11
В троллейбусе царит давка.
– Разрешите мне пошевелиться! – рявкает Владка и протискивается во чрево ада.
В кошачьем аду, должно быть, заправляют собаки. А тренажером для человеческого может служить троллейбус в час пик.
– Дайте мне сесть! – продирается по Владкиной груди какая-то дама, забивая ей нос шерстью со своей лысеющей шубы.
– Вы на меня верхом хотите сесть? – отплевывается Владка лисьим пухом.
Дама не отвечает, стараясь поскорее добраться до уцелевшего пустого местечка.
– Тетенька, в вас столько силы, что вы могли бы и постоять, – пищит подросток, которому лысеющая лиса отдавила ногу.
Дама плюхается на диванчик.
– Что ж вы сели так раскидисто? – хрипит придавленный к стеклу сосед. – Это же двухместное сиденье.
– Это Россия, сударь: здесь любят женщин больших масштабов, – многозначительно изрекает чей-то бас.
Владка убеждает себя в необходимости смирить свой дух и воспринять поездку в рамках отпущенных ей на этом свете испытаний. Но аутотренинг не помогает.
– Да не накладывайте вы на меня, пожалуйста, свои руки! – взрывается она, по-цыгански передергивая плечами. – Если вам некуда их девать – наложите их на себя!
Троллейбус, покачиваясь на ухабах, несется по дороге. Владка пытается усмирить свой дух, в то время как толпа, насевшая со всех сторон, усмиряет ее плоть. Да что они там, размножаются делением, что ли? Их все больше и больше.
– Что ж вы меня так ощупываете? – снова вырывается из темницы ее неусмиренный дух. – Ладно, я уже не в том возрасте, чтобы стесняться того, что снаружи! Но печень, позвоночник, почки… Должно же у меня быть что-то личное?
Троллейбус весело гудит в ответ.
– Извините, – старается отлипнуть от ее спины пристыженный субъект, намертво прижатый к ней человеческими массами.
– Что вы дергаетесь? У вас что-то зачесалось? – добивает его Владка под рев в трибунах. – Так ведь не во всех местах можно чесаться прилюдно!
Субъект выпускает воздух, как проколотый воздушный шарик, и его смывает толпой.
– Ты гляди, какая нежная, – комментирует уже знакомый ей бас.
У Владки такое чувство, как будто она Змей Горыныч о трех головах. И все ее три языка чешутся для ответа. Баса спасает только то, что ей пора выходить. Титаническим усилием воли она загоняет свой мятежный дух в темницу смирения и процарапывается к выходу. Дух молотит в дверь ногами и скверно матерится в самой глубине ее души.
– Вы сейчас выходите? – спрашивает ее сзади дребезжащий старческий голос, дополняя вопрос увесистым ударом по ее спине.
Дух тут же просовывает из-под двери лапу:
– Нет, не сейчас – на остановке!
– Ой, а какая сейчас остановка? – искушает судьбу бабулька.
Владкин дух снова на свободе: дверь взломана, стража перебита.
– Сейчас – никакой, – злорадствует беглый дух. – Сейчас мы едем.
– А какая будет?
Владка не понимает, как можно было дожить до старости с таким любопытством.
– У «Родины», – подсказывает кто-то сзади.
– Вы выходите у «Родины»? – рискуя быть искусанной, допытывается бабка.
– Сами вы уродины! – загробным голосом одержимой бесом произносит Владка, чувствуя, как внезапно отросшие клыки начинают царапать ей губы.
Но тут двери троллейбуса распахиваются. Это спасает старуху. Владка, измятая, изорванная, взбудораженная и недовольная собой, выскакивает на тротуар. Да, это жуткое зрелище. Это жизнь! Еще один день прошел.
Об авторе
Игорь Ягупов родился в городе Мариуполе. С 1980 года живет в Мурманске.
После окончания историко-филологического факультета местного педагогического института работал переводчиком в различных коммерческих структурах.
С начала девяностых стал печататься в областной прессе в качестве внештатного автора. Профессиональную журналистскую деятельность начал в 1998 году в должности корреспондента газеты «Вечерний Мурманск». Длительное время работал в газете «Мурманский вестник». Член Союза журналистов России.
Писать прозу начал с институтских времен. Игорь Ягупов – автор романов «Валькина жизнь» и «Обманувший дьявола», повестей «Записки офисной крысы», «Токсичная улыбка», «Факультет», «Побег в Рождество». В литературной копилке автора также сказочные повести для детей о волшебнике Иги Муре – «Единорог» и «Апостарэлла», рассказы, сборник городских легенд.





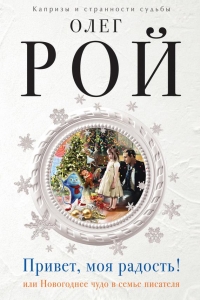


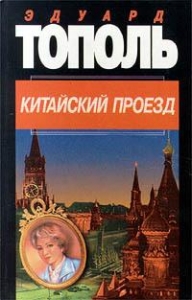

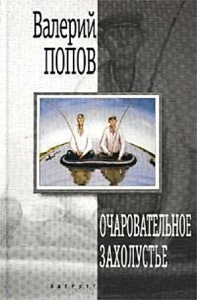

Комментарии к книге «Записки офисной крысы», Игорь Ягупов
Всего 0 комментариев