Владимир Фомичёв Человек и история. Книга вторая «Шахтёрские университеты» и «хрущёвская оттепель» на Северном Урале
Я не случайно в руки взял перо,
Доверил мысли пишущей машинке,
Не соблазнился ставить на зеро -
Пошёл путём неспешным, по старинке.
Я впитывал тончайший строй цветка,
Глаза от цвета неба голубели.
Дорога жизни будет нелегка -
Я это понял в детской колыбели.
Пытаюсь сшить лоскутья всех времён
Посредством мне доступной, скромной лиры
И, кажется, доволен, что клеймён -
Клеймом трагикомедий и сатиры!
Предисловие
В человеческий характер, в его сущность, природой, а может Богом, заложена склонность к подвижничеству, а если конкретнее – к подвигу. Подвиги бывают разные. Есть подвиги мелкие, незначительные, но из-за моды на них – распиаренные. Они тянут на премию, медаль, а то и орден, служат для примера, для назидания обществу. Есть подвиги крупногабаритные, так что они не вмещаются даже в одно тысячелетие, получают статус мифа, становятся незыблемыми столпами вечности. В основном же подвижничество состоит из постоянных мелких, средних, больших подвигов. Они не отмечены в истории, не получили вознаграждение, так что их свершители растворились и исчезли в вечности без следа. Справедливо ли это? История об этом умалчивает, а слава – девка непостоянная, иногда просто продажная.
Глава 1. Воз дров
Так уж получилось, что я в семье стал основным заготовителем дров на зиму. Конечно, я ещё не мог конкурировать с мужиками по этой части. Взрослые мужики зазывали к себе в дом лесника, угощали его самогонкой до полного умиротворения, и тот выдавал карт-бланш на заготовку настоящих берёзовых дров. Потом эти толстые, хорошо высушенные поленья были аккуратно сложены в поленницы в сараях. Я тогда ещё не достиг такого возраста, чтобы иметь возможность общаться с лесником на подобном уровне. Лесник, попуская мужикам, жестоко отыгрывался на подобных мне ребятах. Узнав, что кто-то привёз дрова, он заглядывал во двор, ворошил привезённый хворост и пьяно угрожал: вот составлю сейчас акт за незаконную порубку.
Это вызывало уж если не испуг, то омерзение к этому охранителю лесных угодий. Как говорится: волк собаки не боится, но не любит лая. А поэтому мне приходилось в родной свой лес ходить «на цыпочках», тихо срубать подгнивший сухостой под самый корень, разравнивать листву, чтобы и следа от срубленного дерева не было заметно. Толщина же этого полугнилья у самого корня была едва ли толще топорища. В принципе, это была санитарная чистка леса, необходимая и оттого очень полезная. За это не ругать нужно было, а поощрять и даже платить деньги. По справедливости, надо заметить, что лесных пожаров в ту пору не было. Лес был очищен от сухостоя, всякого горючего хлама. Сухой травы не было. Она вовремя скашивалась на корм скоту. А живое здоровое дерево попробуй поджечь!
Однажды уже поздней осенью я заготавливал дрова на грядущую зиму. Нашёл и срубил сухостойные деревья. Ветки не обрубал, так как и они пригодятся на топливо зимой и лес не будут замусоривать. Стащил это всё в кучи поближе к лесным тропинкам, взял лошадёнку и за несколько приёмов привёз это всё домой. Возле хаты образовалась, по моему тогдашнему мнению, – огромная гора дров. Теперь оставалось всё это порубить и аккуратно сложить, чтобы было зимой чем печку топить. Дровяного сарая не было. Тут я проявил изобретательность, даже немного с художественным вкусом. Одна из стен хаты имела направление на северо-восток. Вот к этой стене впритык я и организовал поленницу, которая, по моему соображению, должна была являться дополнительным щитом от самого свирепого, особенно в зимнее время, северо-восточного ветра.
Когда была переработана эта «гора», в основном хвороста, то вся стена по длине и высоте под самую крышу украсилась поленницей. Технология такова: рубился ствол этого полузасохшего деревца по размеру, годному для печи. Толстые поленья раскалывались пополам. Укладывались эти поленья, более или менее похожие на дрова, вдоль всей стены, образуя некий слой. Потом по той же длине укладывался слой из веток, которые были больше похожи на метлы. Итак, слой на слой, слой за слоем – под самую крышу. Белый слой из поленьев, тёмно-коричневый из веток – образовали многослойный «пирог». Проходящие мимо соседи качали головами, цокали языками и льстиво насмехались: ну это ж надо!
Но, как говорится, в сердце лесть всегда отыщет уголок. Так что я, окончив работу, сидел на колоде, на которой рубил дрова, и тешил своё самолюбие, сыпавшимися от соседей восторженными похвалами. Оно и в самом деле, такого объёма заготовленных дров лично я не помнил, поэтому, глядя на это громадьё, тешил себя мыслью, что эта зима – под контролем! Моя малоопытность извинялась тем, что необходим не только объём, но и качество топлива. В печке эти прутики-веточки сгорали быстро, как порох, не давая нужного жара. Мужик полагает, а погода располагает. Так оно и получилось. Зима в том году пришла ранняя, и не только ранняя, но и морозная, и очень снежная. Этот свирепый северовосточный ветер, от которого я посчитал надёжной защитой свою поленницу, словно насмехаясь, показал ничтожность и наивность моей самонадеянности.
Зимой во всех хатах ставились небольшие временные печки, называемые «трубками». В мягкие оттепельные зимы достаточно было раз-другой протопить печку-грубочку, и этой прибавки к теплу русской печи вполне хватало. А тут зима как взбесилась! Морозы были настолько лютыми, что даже подрезали крылья летящим птицам и те, прерывая полёт, шлёпались в сугроб. Снегопады, а то и бураны, чередовались с морозами и столько нанесли снега, что пути сообщения между хатами были похожи на траншеи. «Грубки» в хатах дымились постоянно, давая только время на топку большой печки. А раз так, то дрова очень быстро расходовались, то есть сгорали. Календарная зима подходила к концу, был месяц февраль, его последняя декада, но дрова закончились ещё раньше.
Закончились дрова – это выражение, скорее, фигуральное. На отопление была израсходована вся изгородь, а от хвороста, заготовленного мной, так уж и дыма давно не осталось. Угроза замёрзнуть всей семьёй стала реальностью. Что там песенный ямщик, который замерзал где-то там в степи. Тут ведь лесная сторона, кругом леса, а в лесах дров немеряно. Но как говорится, близок локоть, да не укусишь. Как добраться до этих дров? Бывали случаи, когда во время тотального голода люди поглядывали друг на друга, кого бы съесть, чтобы другим выжить. Виновником за нехватку дров на всю зиму я считал себя, а не зиму. Только нерадивые люди стараются всё списать на стихию, природные катаклизмы.
Был ясный морозный день, во всяком случае, не мело. Я оделся не по погоде легко, так как достаточно тёплой одежды не было. Матери и старшей сестры дома не было, младшей сестре и брату я ничего не сказал. Взял в сенях топор, верёвку, закрыл за собой входную дверь и направился на колхозный двор. По дороге я размышлял: какую мне взять лошадь? Но не брать же мощного Кудряша, которому только и таскать орудийные лафеты. Он в сугробах, к тому же, быстро выдохнется. Нет, здесь не сила нужна, а ловкость и маневренность. В итоге мой выбор пал на Пегую лошадь, так называлась не крупная, но достаточно опытная и бойкая кобылка.
Был как-то в гостях у своих родственников в нашей деревне мальчик из Грузии. Привозила его огромная чёрная тётя. Она объявила: нужно, чтобы бичико стажировался на русском языке.
Так вот этот бичико, увидев Пегую, направил на неё указательный палец и с очень умным видом сказал: это очень небольшой лошадь. И после паузы:…или это большой ишак.
На колхозном дворе я ориентировался не хуже, чем на своём. Знал, где находится дежурная упряжь, где и какая находится лошадь. Кони в своих станках стояли задами к проходу. Есть мудрое правило: обходи лошадь спереди, а быка сзади. Уговаривать лошадь, чтобы она в своём станке повернулась передом, разумеется, глупо. А лезть к ней в станок сзади, кто знает, что у неё на уме.
Лошадь, даже самая мирная, не всегда понимает, кто там крадётся к ней в её станок, и может лягнуть, то есть ударить копытом. А это не только больно, но чревато! Так что зайти к такой, даже сугубо мирной кобылке, нужно было соблюсти определённый этикет. Я надёргал из существующей здесь скирды наиболее ароматного сена и уже с этой охапкой пошёл в гости. Пока я шёл по проходу, лошади оборачивались, ржали, как бы приглашая зайти к ним, но я осчастливил только свою избранницу. Я постоял, немного подождал, пока Пегая насладится угощением, на зависть другим лошадям, затем надел уздечку на услужливо подставленную голову. Захватил с собой принесённое угощение, и… вместе пошли на дело, на работу. Сани я выбрал более лёгкие, но прочные. А я знал толк в этих санях.
Куда ехать, я уже давно определился. Ехать в те места, где я обычно заготавливал дрова, не представлялось возможным. Туда не было никаких дорог, ни даже намёка на них. Поехал же я по хорошо укатанной дороге, которая вела на центральную колхозную усадьбу. По этой коммуникации осуществлялись все необходимые связи деревни с внешним миром. Как только я выехал на эту дорогу, так тут же сразу лицом к лицу столкнулся со свирепым северо-восточным ветром. Мне кажется, что он этого только и ждал. В его посвисте как бы слышалось: ага, попался, голубчик!
– Не понимаю, с чего ты меня так невзлюбил? – мысленно ответил я ветру. Я даже имя ему ласкательное придумал: «Сева».
Так я доехал до глубокого оврага, но туда не полез, повернул направо, прямо к лесу. Правда, и здесь никакой дороги не было, но по какой-то случайности на этом участке поля снег не задерживался. Он пролетал с курьерской скоростью прямо над полем. Поле оставалось чистым, то есть с не глубоким, но плотным снегом, так что по нему хорошо скользили сани и легко бежала Пегая. Так мы добрались до самого леса. Нам и тут повезло. Вдоль самого леса сохранились участки зимней дороги, по которой вывозился строительный лес. Вот по этой дороге мы неспешно поехали. Я медленным взором обшаривал придорожное мелколесье, рассчитывая там отыскать что-нибудь пригодное на дрова.
Учитывая угрозы лесника, приходилось думать: берёзу рубить нельзя, рубить хвойные и в голову не приходило, сухостой здесь весь выбрали заблаговременно, такие же как я. Хуже всех в печке горит сырая осина. Это сущее наказание для хозяйки. И вдруг я увидел ольху. Ольха в реестре запрещённых деревьев не числилась, к тому же ольховника в лесу, в оврагах было немеряно, руби – не хочу. Вот и не хотели рубить ольху, если только кому-нибудь не понадобится что-нибудь закоптить: окорок, сало, рыбу, уж очень ольха годилась для копчения. Ольха не высокорослое дерево, так для чего она нужна, толстая и низкая?
Но вот эта ольха, которую я увидел, являлась отклонением от своей породы. Она была достаточно высокой и ровной по своей толщине, от комля до макушки. Сучьев на ней было тоже не много, только у самой кроны. Я остановил лошадь и осмотрелся. До нужного мне дерева было не далеко, с десяток метров. Но что это были за метры! Это были метры по глубокому снегу, как обычно говорят: по пояс. Но по чей пояс? Делать было нечего. Я положил небольшую охапку сена перед лошадью, чтобы ей было чем заняться, пока я буду работать. Кстати, надо заметить, что лес укрывал меня от северо-восточного моего неприятеля. Добравшись до ольхи, я утрамбовал снег вокруг неё, подрубил в самом низу так, чтобы дерево упало поближе к дороге. За временем я не следил, не было часов, да и не было желания и времени следить за временем.
Нужно было следить, чтобы срубленное дерево упало туда, куда мне было выгодно. И вот, наконец, оно, на всю свою длину, вытянулось в мягком снегу, да так, что почти и утонуло в нём. Второй этап работы был тоже не прост. Нужно было достаточно толстое для меня дерево разрубить на не очень длинные, почти по размеру саней брёвнышки. Когда и с этим было покончено, наступил третий этап моей работы. Нужно было перетащить эти брёвнышки к саням и уложить их на сани. Когда я попробовал приподнять комлевую, самую толстую часть, то понял, что без подъёмного механизма здесь не обойтись. Но так как единственным подъёмным механизмом являлись моя спина и плечи, то приходилось рассчитывать только на этот механизм.
Я подкапывался в глубоком снегу под брёвнышко, подлезал под брёвнышко, из всех сил пытался толкнуть его к дороге. Поначалу это было очень трудоёмко и малоэффективно, но понемногу я приспособился, стал работать ловчее, и работа пошла быстрее. Так или иначе, но будущие дрова вскоре были погружены на сани. Верёвкой, взятой из дома, я связал эти дрова с санями и зафиксировал скруткой, которая натянула верёвку, так что получился устойчивый воз. Я не зря выбрал эту лошадку, не зря на неё надеялся, она быстро и ловко преодолела небольшой участок глубокого снега и вытащила воз на поле. Здесь сани с дровами заскользили легко, и я мог себе позволить устроиться на возу, не обременяя своим весом тягу лошади.
Воз выкатился на дорогу и заскользил ещё легче, быстрее. Лошадка даже пробовала бежать, а то как же, стимул явный: бежать к дому, к теплу, к пище! Да и ветер дул не в лицо, а даже помогал, подталкивал. Я прямо по огороду, по неглубокому снегу, подъехал прямо к самой хате. На шум выбежала вся семья и устроила сцену: «не ждали». Моё отсутствие они объясняли тем, что я где-нибудь играю с мужиками в карты. Я уже считал себя героем дня и вознамерился легко и ловко спрыгнуть с воза, показав тем самым свою молодецкую удаль и что для меня такие поступки дело обычное, можно сказать, обыденное. Но тут я ощутил, что я не могу ни двинуть ногой, ни пошевелить телом. Немного вращалась голова на шее да рука, которая держала вожжи, управляя лошадью.
Я стал соображать, что это со мной? Первой догадалась мать: берите его, тащите с воза, несите в хату. Там с меня еле стащили смёрзшуюся, негнущуюся одежду. Пока я занимался с дровами, ползал в глубоком снегу, снег таял, и одежда промокла до нитки. А когда я ехал на возу в чистом поле, мороз сковал её и превратил в прочные доспехи средневекового рыцаря.
Я завернулся в одеяло и быстро забрался на печь, где и отогрелся душой и телом. На то она и существует, во всяком случае, существовала, русская печь, которую так возлюбил сказочный герой Емеля. Всё остальное делалось без моего присутствия. Брёвнышки скатили с саней, лошадь отогнали на место, и я, отогревшись, порадовал свой организм горячими щами. Дрова, даже из сырой ольхи, горели очень жарко и давали много углей, что говорило в их пользу. Тут как раз началась очень ранняя и бурная весна, так что дров хватило вполне.
Глава 2. Жажда познания
С момента рождения любого существа сразу же проявляется заложенная природой жажда жизни, включается инстинкт самосохранения. Заглянем в птичье гнездо, где только что вылупились из яичек птенцы. Вот птичка принесла им корм. В чей клювик она положит букашку? Да в тот, который ближе к ней и шире раскрыт. Стучите – и откроют вам. Просите – и дадут вам. Так, или примерно так, гласит Евангелие. Учитель любит заниматься с более способными учениками. А ведь способность – это дело наживное, и подталкивается оно жаждой познания. Скудость, отсутствие стремления к познанию очерчивает замкнутый круг интеллекта. Освоит подобный индивид необходимый ему набор функций и этим вполне удовлетворится.
А у этих – жадных – клювики всё шире и шире раскрываются. Потребность растёт. Природой заложено огромное разнообразие вкусов, желаний, стремлений. Когда я научился читать, я быстро понял прикладное значение книг. У взрослых, озабоченных добыванием средств, необходимых для существования, не всегда хватает времени для общения с детьми. А так как свято место пусто не бывает, то плодами просвещения «угощает» улица. Плоды эти не всегда съедобные, а горечь от них остаётся надолго. Правильные книги отвлекают от этого, корректируют мысли, стремления. Я так привык к книгам, что они мне, зачастую, заменяли общение со своими сверстниками. А то как же: книга умнее, интереснее, завлекательнее этих моих друзей.
Большинство ребят интересовало, где найти табак и укромное место, чтобы там покурить.
Первое время, по наивности, я не отделял художественную литературу от учебников. Был случай на уроке истории, когда проходили восстание Спартака. Я у доски при ответе нарисовал такую картину, которую почерпнул у Джованьоли, итальянского писателя-историка. Учительница, очевидно не читавшая этого романа, была явно заинтересована и даже не знала, как реагировать на мои подобные знания, которые я очень убедительно изложил. Одноклассники тоже внимательно слушали, и им, наверно, казалось, что я сам участвовал в этом восстании Спартака.
Что же касается учебников, таких как: География, История, Ботаника, Зоология, уж не говоря о Литературе, – то тут лишь бы никто не мешал мне вникать в их мир – мир умный, увлекательный, познавательный. Зоология и Ботаника лишь стимулировали меня внимательнее относиться к окружающей природе. Ну что может быть увлекательнее путешествия по географическим картам, где красными стрелочками были отмечены маршруты путешествий Магеллана, Колумба, Крузенштерна, Лазарева и других мореплавателей и путешественников-землепроходцев. Я даже стал отдавать предпочтение контурным картам, так как не было нужды в надписях названий.
С математикой, физикой, химией обстояло дело сложнее. Эти синусы, катализаторы, электроны, бегающие по проводам, не имели для меня прикладного значения. Не было лабораторий, где можно было бы проводить опыты: собрать электрическую цепь, что-нибудь поджечь в ретортах и этим вызвать интерес к предмету. Так что недополученные знания по этим предметам неприятно отразились на дальнейшей учёбе в техническом колледже. А пока в школе я пожинал лавры гуманитария и мечтал, что это надолго, если не навсегда.
Так что из вышеизложенного следует: природа являет собой абсолютное многообразие. Но, как это ни странно многим слышать, в ней отсутствует равенство. Случись в природе равенство, баланс, ещё какое-нибудь равновесие – и развитие жизни тут же прекратится, остановится. Ничто так не утомляет, как одинаковость. Только по этой причине каждый человек считает себя лучше других. Этим он раздражает своё окружение, провоцирует на соревнование с ним. «Мы тоже не хуже! Нас тоже не в крапиве нашли…» – примитивный пример, но точный и действенный, стимулирует прогресс. Приведём пример антагонизма города и деревни: горожанин поднимает планку самохвальства, самодовольства значительно выше уровня развития сельского жителя.
Вспомним, как стольный киевский князь обозвал Илью Муромца – «деревенщиной». И это нужно было понимать как оскорбление, а в итоге именно эта «деревенщина» и спасла стольный град Киев.
Я почитаю за счастье, что родился, провёл своё детство, отрочество и начало юности в деревне. Как говорится, «каждый кулик своё болото хвалит». С этим нельзя не согласиться. «Где родился – там и пригодился».
Нельзя не отметить, что деревня располагалась на очень бойком историческом месте. Война, конечно, дело скверное, но она даёт сильный импульс для развития. Я с детства понимал, что жить в деревне мне будет тесно, готовил себя для жизни в городе.
На лето в деревню к родственникам приезжали ребята из города, из Москвы. Я присматривался к ним. Их язык, их речь отличались от деревенского говора. Но я тут же отметил, что такой же язык в книгах, которые я мог легко озвучивать, то есть разговаривать. В деревне приходилось говорить по-деревенски, чтобы не вызывать насмешек односельчан: «Чего это он задаётся!»
Начитавшись книг, я для себя оправдывал себя: «С волками жить – по-волчьи выть» – или: «Вой не вой, а ходи серой». Так я себя утешал и старался ничем не выделяться – так спокойнее. Доступ к книгам по различным каналам у меня сильно возрос. Газеты, которые для меня выписывала сестра, тщательно прочитывал. Но самым большим достижением, как бы сейчас сказали, прорывным, для меня явилось радио, которое являлось в то время властелином эфира.
Первым обладателем радиоприёмника стал житель деревни Константин, или, как все его звали, Костик. Приёмник носил претенциозное название «Родина». По технической характеристике он отмечался как «супергетеродин». Но скорее всего, супером было то, что у этого радиоприёмника был диапазон коротких волн. А это, тут приложите палец к губам, взывая к молчанию, в ночной тишине можно было, пошарив по коротким волнам, поймать «Голос Америки». Стоило поймать этот «Голос», услышать несколько неясных прерывистых фраз, как тут же наваливались глушилки, кричалки, скрежеталки, как говорится: «поп своё – чёрт своё». Так и проходило это состязание.
Пусть по обрывкам фраз, отдельным словам, всё же появлялась другая пропагандистская картина, отличная от тотальной советской тенденциозной идеологии. Будничный эфир был заполнен новостями со строек, с полей. Праздники отличались большими праздничными концертами, воскресные дни иногда осчастливливались «Театром у микрофона». Самыми заядлыми радиослушателями оказались сам Костик и я. Пока мы с ним по ночам «обшаривали» эфир, его семья дружно спала, и никто никому, по всей видимости, не мешал. Заходили, иногда, и другие интересанты этого чуда техники, но их это быстро утомляло, и после их ухода Костик и я облегчённо вздыхали.
Глава 3. Выбор цели
Как широко известно, судьбу юных отпрысков решают родители, а то и семейный совет.
Я в этом смысле был предоставлен самому себе полностью. Никто не брал меня за руки белые, не сажал за столы дубовые, и, помимо повседневных житейских вопросов: что, где, когда? – появилась главная проблема: как, кем, куда? Так что, когда я находился наедине с собой и в руках у меня не было книги, я умом окунался в эту проблему. Начинал с того, что навеяли книги.
Вот я лётчик-истребитель, но уже не пропеллер перед глазами, а рёв реактивного двигателя позади, не гашетка пулемёта, а пушечка, а то и ракетки…
Бессмысленно летать, оставлять за собой белую полосу, когда нет войны и некого сбивать в голубом небе.
В детстве, правда, я мечтал стать шофёром, но, увидев, какие шофёры грязные, перемазанные, я задумался. Я не любил немытых рук, немытого лица и частенько в свой адрес слышал шипение: белоручка…
Всё же один случай вызвал во мне восторг. Однажды мы шли в школу, голосовали обычно бортовым машинам, но в тот раз их было мало, и они не останавливались, видимо, им было не до нас.
Как вдруг, к нашему неописуемому удивлению, остановилась легковая машина. Это была новенькая «Победа», по тем временам, почти несбыточная мечта всех автомобилистов. Ошеломлённые, мы стояли, не двигаясь, боясь прикоснуться к этой красавице. Тогда водитель открыл переднюю дверь и скомандовал: садитесь. Я оказался первым и уселся рядом с шофёром. Тогда он, перегнувшись через спинку сиденья, открыл заднюю дверь. На заднее сиденье уселось несколько ребят, заполнив его полностью. Остальные, не поместившиеся, робко топтались возле машины. Хозяин машины, а по всему было видно, что он хозяин машины, одет был в гражданскую одежду, на груди у него сверкал орден Героя Советского Союза, а это важнее медалей во всю грудь.
– Забирайтесь все, – теперь уже повелительно скомандовал герой. Так что все ребята поместились в машине, расположились сидя, стоя и лёжа пластом.
Когда мы у школы покидали машину, на наше возбуждённое «спасибо» герой протёр глаза платком и пробормотал: «только учитесь хорошо, ребятки».
Я тут же в грядущих своих планах сделал заметку: если уж за руль, то только уж в таком качестве.
В дальнейших рассуждениях о своей судьбе я решительно отмёл ещё две профессии: учителя и врача.
Единожды выбрать на всю жизнь профессию учителя, чтобы потом париться с этими шкодливыми ребятами, или врача, работающего с больными, кашляющими, харкающими, стонущими, да ещё и помирающими – ну что может быть хуже? Если учесть к тому же мою природную застенчивость, непереносимость чужой боли и вульгарную брезгливость…
Тут уместны вопросы: а что же мне в жизни больше всего нравилось? Чего жаждала душа? К чему стремился разум? На этот счёт у меня сомнений не было. Это была литература! Интересовали также философия и психология. Но это всё было в книгах, и я мог всё это постичь самостоятельно.
Разумеется, это всё что касалось духовной ипостаси. Но ведь необходимо было подумать и о хлебе насущном. Тут в дело вступала группа силлогизмов: «не потопаешь – не полопаешь». Теперь ещё включалась бытовая логика, и я начинал рассуждать. На долгую учёбу в учебных заведениях, на ничтожную стипендию рассчитывать было глупо. Надеяться на помощь родителей, не имеющих денег, было бы ещё глупее. Вот поэтому подобные мне ребята поступали в училища, где кормили, одевали, а после окончания обеспечивали работой, а стало быть и зарплатой. Служить в армию тоже шли охотно. Она вызволяла ребят из колхозного ярма и также кормила, одевала, давала иногда специальность, которая могла пригодиться на «гражданке».
Глава 4. Первая попытка
Однажды я поехал в город, чтобы продать собранные грибы, ягоды и для собственного удовольствия исполнить культурную программу, то есть посмотреть все кинофильмы, которые идут во всех кинотеатрах. Шёл только один новый фильм, который я ещё не смотрел, а фильмы, виденные мною ранее, я проигнорировал. Оставалась ещё уйма времени, и я стал бродить по городу, обращая внимание на вывески учебных заведений.
Моё внимание привлекла вывеска с надписью «Библиотечный». Сердце тут же откликнулось: уж не эта ли моя альма-матер! Я оттянул на себя пружину тяжёлой двери и зашёл в вестибюль этого старинного здания. В полумраке, особенно после дневного яркого света, я разглядел группу девушек. Они о чём-то оживлённо разговаривали, перемежая свою беседу смехом, очень похожим на кудахтанье кур. Многие их них поблёскивали стёклами очков. Неуютно мне всё это показалось…
Я услышал за спиной взрыв хохота, когда за мной закрывалась входная дверь.
«Курятник какой-то!» – подумал я.
Через некоторое время я снова набрёл на «Вывеску». Из её анонса я выяснил, что там можно получить специальность «технология силикатов».
Что такое силикаты, я не знал, вот именно это и привлекло моё внимание. Я изучил условия приёма и решил сюда непременно наведаться, с целью получения специальности «технология силикатов». Что-то в этом звуке обдало меня чуть ли не ветром романтики.
Я собирал необходимые справки для поступления, когда мать моего одноклассника Шурика полюбопытствовала: действительно ли я собираюсь ехать поступать учиться. На мой утвердительный ответ она попросила взять с собой Сюрика. Так как она присюсюкивала, то все и звали её Шурика Сюриком. Я, конечно, не мог отказать тёте Моте, как её звали за глаза, и согласился. Сказал, какие необходимые справки нужно собрать.
Я поработал над билетами для поступающих. Сюрика эта сторона дела не интересовала. Зато он показал мне маленький самодельный сундучок, изготовленный из фанеры, вымазанный чёрно-грязной краской. Закрывался он крохотным навесным замочком, таким же крохотным ключиком. Во всяком случае, по мнению Сюрика, сохранность предметов и вещей в этом сундучке надёжно гарантировалась. И он даже предложил часть объёма в нём мне. Приехали мы в город очень ранним пригородным поездом. Пришлось подождать, пока откроется это учебное заведение, чтобы подать свои документы. Нас предупредили, что допущенные к экзаменам будут проинформированы списками на «Доске объявлений».
А пока же нас как иногородних направили в общежитие. В большой комнате, которая скорее могла бы называться небольшим залом, стояли металлические кровати с панцирными сетками. Никаких спальных принадлежностей не было и в помине. Правда, это ничуть не смутило иногородних селян, явно не привыкших к городской роскоши. Панцирные сетки от долгой эксплуатации сильно провисли и были похожи на гамаки.
Абитуриентов это приводило в восторг, и они с металлическим лязгом покачивались, наслаждаясь городским комфортом. После обеда «списки» пригласили на письменный экзамен по литературе. Проштемпелёванные листки с работой принимала женщина.
Она брала листок, отмечала что-то в журнале, даже не взглянув на абитуриента. Пожалуй, она один раз посмотрела на автора работы, которым был я. Поразила её же с первого взгляда на листок необычно чёткая, красивая каллиграфия.
Я переписывался со старшими ребятами, которые уже служили в армии, и те с гордостью показывали мои письма своим сослуживцам. Их товарищи пророчили мне карьеру ротного, а то и полкового писаря. В армии тогда не было не только персональных компьютеров, но и обычных пишущих машинок.
После экзамена мы с Сюриком побродили по городу. В кинотеатрах шли фильмы, которые я уже видел, а Сюрика они нисколько не привлекали. Зато он вольно накурился всласть.
Это же надо, какая огромная привилегия курить открыто, не стесняясь, не боясь никого, сам себе голова. Но так как Сюрик имел очень маловысокий рост, то одна женщина всё-таки сделала замечание, есть же такие дамы, которые любят совать свой нос в чужую жизнь. Причём она адресовала это замечание почему-то мне, хотя я и не курил. Примерно в таких выражениях: почему я как старший товарищ позволяю курить малолетнему ребёнку!
Уже начинало смеркаться, когда мы разместились на заранее выбранных кроватях. Все приехавшие поступать были по двое – по трое из одной деревни или села, поэтому они общались пока друг с другом. Один, из наиболее продвинутых ребят, решил включить свет.
Почти во всех деревнях электричества не было, поэтому никто не знал, как это сделать, то есть включить свет. А этот парень знал. Он подошёл к выключателю и щёлкнул им: света не было, так как лампочка не загорелась. Парень решил идти дальше и показать свою техническую эрудицию. Он забрался на кровать и, опираясь на спинку, дотянулся руками до лампочки, до цоколя, до провода, питающего лампочку. И тут случилось это самое: «вдруг!». Что-то в руках парня сверкнуло, и он, дёргаясь, повис, держась руками за провод, ногами опираясь о кровать, которая другой стороной соприкасалась вплотную с батареей центрального отопления, а это, как известно, является отличным заземлением.
Друг пытался помочь ему. Он обхватил товарища поперёк туловища и пытался оторвать его от провода. Хорошо, что по случайности он сам не дотронулся до кровати. На шум вбежал проходивший мимо студент и, щёлкнув выключателем, отключил напряжение. До глубокой ночи шла суета. Скорая помощь зафиксировала «летальный исход». Оставшимся в живых абитуриентам выдали матрасы.
Товарища погибшего абитуриента уговорили съездить за родителями, а на его всхлипывания ему объявили, что он будет зачислен на учёбу без дальнейших экзаменов.
Пока я утром, плохо выспавшись, шёл к учебному корпусу, под градом вопросов о несчастном случае, Сюрик, уже успевший накуриться, встретил меня очень «свежей новостью»: в списках допущенных на следующий экзамен мы не значимся и он уже взял документы и идёт за своим сундучком, чтобы ехать домой.
После вчерашнего происшествия, как-то нехорошо было на душе, и я с облегчением пошёл за своими документами. В учебном корпусе меня окликнул один из сдававших экзамены в нашей группе.
– Ты чего пришёл? Мы сдаём экзамен после обеда.
– Какого обеда? – возразил я. – Мы же не допущены на второй экзамен, нас же с Сюриком в списке нет.
– Да ты чего, Сюрика твоего нет, а ты в списке на первом месте. Иди, вон, посмотри сам. – И потащил меня к доске объявлений. Да, действительно, моя фамилия возглавляла список лиц, допущенных к следующему экзамену. Правда, список допущенных абитуриентов был раза в два короче списка на первый экзамен.
У нас с Сюриком была договорённость, прямо надо сказать, джентльменская: если один не поступает, то и второй отказывается от поступления.
Когда я затребовал свои бумаги, секретарша только спросила: это у вас вчера произошло?
И на мой кивок сказала сочувственно: понимаю… – И отдала мне мои документы.
Какие чувства обуревали меня, когда мы приехали на вокзал?
Да никакие, примерно такие же, когда приезжаешь на вокзал с базара, после продажи даров леса. Лишь запомнилась мелодия и слова песни, доносившейся из репродуктора: «Ты плыви, наша лодка, плыви…»
Садясь в вагон пригородного поезда, я мысленно пообещал: Я ещё вернусь сюда.
Дома в деревне я ещё некоторое время говорил по-городскому, даже не стесняясь своих недоброжелателей на этот счёт. У меня было предостаточно времени, чтобы переосмыслить эту первую свою попытку, повлиять на свою текущую жизнь.
Стали обозначаться доступные мне планы дальнейшей своей судьбы, а именно: поступить в какое-нибудь училище, какое – не имело абсолютно никакого значения, лишь бы там кормили, одевали и дали специальность, чтобы я, пользуясь ей, смог зарабатывать себе на кусок хлеба, а лучше, чтоб ещё и с маслом. Обеспечив таким способом себе средства к существованию, я смогу в дальнейшем подумать о продолжении образования.
Оставалось только выбрать направление моих поисков того желанного училища, в котором я бы смог сытым и одетым получить специальность.
Глава 5. В дорогу дальнюю
Второй раз пытаться ехать в город мне не хотелось, да и не было там того, что мне нужно было. Я владел информацией от своих старших товарищей, которые уже прошли этот путь. Один из них рассказывал про шахтёрский городок, который располагался на Северном Урале. Он, с каким-то азартом, произносил названия шахт, посёлков, а то и речек, а для меня, проникновенно знакомого с путешествиями Пржевальского и других русских землепроходцев, подобные названия всегда были овеяны романтикой. Я нашёл на карте этот городок, определил, через какие малые и большие города был проложен туда железнодорожный путь, и понял, что это как раз то, что мне подходит.
Шурик, после нашей первой вылазки, далеко от меня не отходил и постоянно интересовался дальнейшей перспективой. Я уже даже привык к нашему тандему. Впрочем, это обычное явление в жизни, когда мелкий фактурой человек старается дружить с более габаритным другом, тем самым усиливая свою независимость и амбиции перед другими ребятами. К тому же Шурик был шустрее меня в ситуациях, где не требовалось необходимой рассудительности. Шурик без рассуждений согласился с моим маршрутом. Пришёл тот час, когда я и Шурик со своим сундучком отправились в дорогу – в дорогу для нас непомерно дальнюю, неизвестную и оттого необычайно привлекательную, особенно что касалось меня.
Какими Шурик располагал денежными средствами для этого путешествия, я не знал. Я никогда не интересовался чужими кошельками, точнее их содержимым. У меня же денег было только в один конец, как у японских камикадзе, которых отправили бомбить Пёрл-Харбор, заправив их самолёты горючим только до цели. Кстати, когда я отправлялся в дорогу, матери дома не было. Как позже выяснилось, она где-то пыталась раздобыть денег мне на дорогу.
В железнодорожной кассе мы проигнорировали мягкие, купейные, плацкартные вагоны, так как нас очаровал общий вагон своей доступной ценой. Так что у меня образовалась свободная от обязательных затрат мелочь. Шурик тоже остался очень доволен такой экономией средств, так как у него были финансовые обязательства перед табачной промышленностью. Да и о чём было беспокоиться: ведь едем на всё готовенькое, там нас накормят, оденут, предоставят удобное тёплое, чистое жильё. От этих благостных мыслей наши организмы источали флюиды восторга. В нашем купе, в которое мы ловко заселились, ехали довольно пожилые пассажиры, и тут мы поняли преимущества своего возраста. Третьи полки, под самым потолком купе, оказались не занятыми, и мы с Шуриком, подбадриваемые тяжёлыми на подъём пассажирами, забрались туда и удобно устроились там. В Москве мы с большой неохотой покидали это насиженное, а скорее налёжанное, уютное место.
В Москве, как оказалось, мы стали транзитными пассажирами и сразу же посредством метро, другого транспорта, переместились на нужный нам вокзал, где и закомпостировали свои билеты, теперь уж на очень дальнюю дорогу, аж на самый Северный Урал. За компостер, правда, пришлось доплатить немного денег. Так же экономно мы поели, даже что-то приобрели из пищи на дорогу. Что самое интересное, от необычности нашего дорожного состояния, голода не чувствовалось. Где-то что-то съели, ненадолго присели, и силы снова возвращались в организмы. Физическая мобилизация стимулировалась возбуждением.
Был уже конец лета. Прогулявшиеся, промотавшиеся отпускники возвращались на свои работы, на Урал-батюшку, кормильца их и поильца. Так некоторые их них выражались, глотнув, на последние отпускные денежки, водочки. В связи с этим в общих вагонах повернуться было негде. Так что никаких нам с Шуриком третьих полок не досталось. Там так плотно обжились, что с этих третьих полок свисала не одна пара ног, одухотворяя купе необычно убийственной вонью. Мы с Шуриком всё же успели занять сидячее место на нижней скамейке в уголке.
Прошло всего несколько часов, как поезд был в пути, а в вагоне уже нечем стало дышать. Вернее, дышать было чем, но эта смесь вряд ли годилась для нормального дыхания. Курильщики нещадно курили, озонировали также воздух давно не мытые тела, дыхание с водочным перегаром, а об одежде и обуви, пропотелой, прокопчённой, и говорить было нечего. Не знаю, это выдумка или исторический факт, но учёные утверждают, что человек на заре своего появления на земле источал трупный запах, а хищные звери, как известно, падалью не питаются. Завидев хищника, человеку достаточно было просто лечь, и он был надёжно защищен смрадным запахом. Так что отсутствие личной гигиены спасло в своё время человечество.
Нет-нет но и в наше время нередко проявляются инстинкты наших древних прародителей. Не знаю, как Шурику, но мне, привыкшему к свежему лесному, полевому воздуху, с ночлегами на душистых сеновалах, считай всё лето и до поздней осени, было дурно. Но не одному мне приходилось тяжело дышать этой смесью. Некоторые не выдерживали и пытались открыть вагонные окна, но если кому это и удавалось сделать, то в это отверстие сразу же залетал густой ядовитый паровозный дым, пожалуй, хуже, чем душный вагонный воздух. А ведь ехать нам с Шуриком до места назначения предстояло несколько суток и вот в таком дурмане.
Проводники обходили этот вагон стороной, в буквальном смысле этого слова. Они не проходили через наш вагон, даже если у них появлялась нужда попасть в другой вагон. Они обходили этот грязный вагон по перрону. Очень медленно тянулись дни, особенно ночи. Поезд, продвигаясь на северо-восток, оставлял позади малые и большие города. Количество пассажиров в этой душегубке понемногу уменьшалось. Примерно за сутки до окончания нашего пути в вагоне стало свободно настолько, что мы могли, удобно устроившись, отоспаться. Выбравшись на вокзал этого небольшого шахтёрского городка, мы поинтересовались, как и на чём нам добраться до училища.
Женщина, к которой мы обратились с этим вопросом, немного помедлила и, когда у неё в голове созрел ответ, достаточно лаконично проинформировала: прямо, до улицы Советской, направо по ней, до училища. «На чём» – у нас нет. Да тут и недалеко. Так оно всё и получилось. Не обременённые тяжёлыми, большими чемоданами, если не считать крохотного сундучка Шурика, мы очень скоро подошли к подъезду Горнопромышленного училища, о чём нам утвердительно сообщила большая вывеска. Пожилой вахтёр, узнав, что перед ним не шалопаи, а вполне солидные люди, к тому же желающие здесь обучаться, иначе зачем они бы приехали за сто вёрст «киселя хлебать», объяснил, как попасть к секретарю по приёму.
Секретарь объяснил, что комиссия по приёму и зачислению в училище будет работать через три дня. Экзаменов для поступающих ребят в училище – нет. Нужно только пройти медицинскую комиссию и получить справку «по форме», тем, у кого её нет. Разумеется, представить удостоверение личности, каковым должен являться паспорт. Мы с Шуриком были не единственными, у которых этот документ заменяли всевозможные справки с места жительства от сельсоветов, колхозов и других бесправных поселений. Так что секретарь, после непродолжительной беседы, направил нас на второй этаж, где находились спальни.
Что такое казарма в армии, я, по рассказам отслуживших ребят, имел представление. Так что вот эти училищные спальни были очень похожи на армейские казармы. Несмотря на многолюдство, в огромной спаленке мы отыскали две не занятые кровати. Взяли, по примеру других, из высокой стопки в углу матрацы. Таким образом, первый пункт нашего представления о гостеприимстве училища, так или иначе, был как-никак выполнен. Что же касалось питания, одевания, то с этим нужно было обождать. Так как мог быть отсев по каким-нибудь причинам, и только принятый в число учащихся мог иметь право на еду и одежду. Первый ночлег в этой училищной ночлежке мало чем отличался от общего вагона.
Пацанам, как себя называли обитатели этой ночлежки, спать совсем не хотелось. Почувствовав себя вольными казаками, они до одури курили, громко, не стесняясь, рассказывали похабные анекдоты, хохотали и ржали так громко, что стёкла в окнах дребезжали. Придумывали и другие аттракционы, такие, как прыгать с кровати на кровать, бросаться подушками, которые были в избытке, правда, без всяких наволочек. В этих подушках, когда-то набитых ватой, образовались комья, больше похожие на булыжники, отчего они стали более увесистыми. Шурик уже нашёл себе нового компаньона. Это был огромный верзила, то ли Стёпа, то ли Федя, а физический объём, в подобных коллективах, уже являлся авторитетом.
Шурик уже угощал его папиросами, подносил зажжённую спичку, и как говорят в подобных случаях, оформился в «шестёрки», получив за это опекунство.
Утром я прогуливался по дощатым тротуарам, смотрел, как ржавое, невысокое солнце купалось в дымных облаках. Все улицы из-за горной местности были наклонными, так что по ним можно было или идти в гору, или спускаться с горы. Заметил, как широкими шагами ступал по прогибающимся доскам тротуара то ли Стёпа, то ли Федя, а рядом с ним семенил Шурик, снизу вверх заглядывая тому в лицо. Меня это немного насмешило, но в то же время я испытал какое-то облегчение, так как отпала необходимость заботы о нашем тандеме. Я всегда любил пословицу: одна голова не бедна, а бедна, так одна.
Глава 6. Новый поворот
Поднимаясь выше в гору, по этой, как оказалось, центральной улице, я увидел здание, похожее на училище, такие же колонны украшали его фасад, только размерами оно было значительно больше. Свернув с главной улицы, я подошёл к этому зданию.
По правде сказать, я искал, где бы мне чего-нибудь поесть, сытнее и дешевле, если уж не совсем бесплатно. У входа в здание красовалась вывеска больших размеров, чем на входе в училище. Чем-то даже немного недосягаемым для меня повеяло от её содержания. В ней сообщалось, что это «Горный техникум» и какие специальности можно получить в этом учебном заведении. У входа несколько ребят, как я понял, собирались идти обедать. А так как это было очень актуально и для меня, то я у них полюбопытствовал, где они это собираются сделать. На мой вопрос тут же откликнулся симпатичный, одетый по моде юноша, примерно одного возраста со мной. Он сказал мне, что «это можно осуществить в нашей столовой», и пригласил идти с ними. Мы вошли в здание и по широкому длинному коридору дошли до столовой. По пути мы познакомились. Славка, как он отрекомендовался, с присущей ему коммуникабельностью, быстро разговорил меня. Узнав, что я приехал с дальнего Запада на этот Северный Восток, с целью поступления в училище, он как-то удивлённо посмотрел на меня, хмыкнул: а почему в училище?
Я объяснил, что, не имея материальных средств для продолжения образования в МГУ, не говоря уж об Оксфорде, я был вынужден выбрать училище, где кормят, одевают, предоставляют жильё и обучают специальности, которая мне может впоследствии обеспечить средства к дальнейшему существованию. Оценив разумный практицизм моего ответа, Славка тут же предложил альтернативу: а почему бы тебе не поступить сюда, к нам? Стипендия в «Горном» большая, после первого курса – практика, а это уже приличные деньги, и таких практик за время обучения несколько. Далее он с жаром продолжал рассуждать: я ничего не имею против рабочих специальностей, которые получают в училище, но всё-таки здесь можно получить инженерно-техническое образование.
С этим мне было трудно не согласиться. И я с сожалением произнёс: всё это правильно и хорошо, но ведь сроки приёма в такие учебные заведения давно прошли.
– Ну, это мы сейчас будем посмотреть, – как-то оживившись, сказал Славка и подсунул мне свою булку к чаю, увидев, насколько скудна моя трапеза, по сравнению с его обедом.
Сказав своим приятелям, чтобы они его не ждали, он завёл меня в аудиторию, где, как видно, шёл экзамен.
– Вот, Зоя Николаевна, – обратился он к женщине, сидевшей за столом и, как я понял, принимавшей экзамены, – привёл Вам абитуриента, который опоздал по своей занятости вовремя явиться на приёмные экзамены.
Зоя Николаевна посмотрела на меня через тонкие стёкла очков. Она по достоинству оценила наигранно-серьёзный тон Славки и пригласила меня сесть за стол напротив себя. Славка тем временем деловито обошёл сидящих в аудитории. Зоя Николаевна положила передо мной лист бумаги со штампом и предложила мне написать на нём то, что она сейчас продиктует. Я исписал под её диктовку чуть более половины листа, и этого, по мнению Зои Николаевны, было вполне достаточно, чтобы судить о моей грамотности. Она быстро пробежала написанное мной, и не знаю отчего, но мне показалось, что она немного порозовела.
– Здесь вот по правилу нужно ставить запятую, а по другому, более старому, – не обязательно, – как бы даже советуясь со мной, проговорила Зоя Николаевна. Она будет моей доброй Феей на весь период моего обучения.
– Если переписали, то подавайте ваши труды мне, – обратилась она к пишущей братии, которые, видно, уже справились со своим уроком. Отпустив ребят, Зоя Николаевна подала мне ещё один листок.
– Если я правильно поняла Вашего поручителя, – тут она взглянула на сидевшего тихо Славку, – Вы имеете желание поступить в наше учебное заведение? – И на мой утвердительный ответ она предложила написать мне Заявление и в нём указать, на какую специальность я претендую.
Тут Славка подсказал мне, что он поступил на специальность «Подземная разработка угольных месторождений». Тогда и я в своём «Заявлении» указал ту же специальность.
Покончив с этой формальностью, Зоя Николаевна повела меня в секретариат, для дальнейшего выполнения формальностей по приёму. Там Зоя Николаевна с секретаршей очень быстро всё оформили и мне выдали направление на заселение в общежитие. Славка довёл меня до нужного мне общежития, а их было более десятка двухэтажных деревянных домов. Сдав меня с рук на руки коменданту общежития, Славка попрощался со мной.
– Я при случае навещу тебя, – пообещал он. На мой немой вопрос он ответил: – Я живу в другом общежитии вместе с братом-старшекурсником.
Комендант, а это была женщина средних лет, привела меня в комнату, где стояли всего четыре кровати. Мало того, кастелянша тут же выдала мне постельное бельё.
Три кровати были уже заправлены аккуратно, и на каждой красовались по две пухленькие подушки. Я постарался так же заправить и свою кровать. Возле каждой кровати стояла своя отдельная тумбочка. Посередине комнаты был стол и четыре стула.
По пути к общежитию, Славка ввёл меня в курс дела.
Оказалось, что лезть в шахту, то есть в подземелье, даже в качестве начальника, мало кто желает, особенно юнцы. Здесь даже срабатывала не престижность профессии, а постоянно грозящая опасность, и не только за свою жизнь, а и за жизнь вверенных тебе горняков. Так вот и в этом году случился недобор, а Зоя Николаевна оказалась на острие этой проблемы.
Объяснил, что ребята, которые там что-то писали, на самом деле не писали, а переписывали свои же диктанты, которые исправила Зоя Николаевна. А почему Зоя Николаевна к нему так относится, Славка объяснил просто: она моя землячка, была чемпионкой области по лыжам, поэтому Славка и старался помочь ей с набором.
Вскоре пришли мои однокомнатники, которые поселились здесь раньше меня. Познакомились. Двоих из них звали Викторами, третьего звали Фёдором. Один из Викторов и Фёдор уже окончили Горнопромышленное училище и имели подземный стаж работ. Другой Виктор приехал даже из Туапсе и носил претенциозную фамилию Гречко. Спать легли не рано. Постель была удобная, чистая, но сон ко мне не шёл. Мозг чуть ли не закипал от нахлынувших проблем, забот. Ситуация обострилась и стала чуть ли не критической. Ещё бы! Из моего плана сразу выпали два основных звена: еда и одежда. Чем и как их заменить – было уму непостижимо. Я сразу же написал письмо в деревню матери, где объяснил создавшуюся ситуацию.
Память тут же услужливо подсказала вариант из «Кавказского пленника», где Жилин, находясь в плену, написал письмо своей престарелой матери, чтобы та выслала ему денег на выкуп, заранее зная, что таких денег ей взять будет неоткуда. Правда, я в письме никаких денег не просил. К тому же, рассуждал я, северо-восточная уральская зима уже не за горами и встречать её в полуспортивном костюмчике было бы не резонно. Беспечностью меня природа не наделила, и оттого все проблемы были ещё более угрожающими. Утром был сбор групп. Руководителем нашей группы, как не трудно догадаться, была Зоя Николаевна. Она всё же собрала полноценную группу. Да ещё какую!
В группе было много солидных ребят. Многие из них после окончания горнопромышленных училищ или школ уже успели поработать в шахтах. Были и отслужившие в Армии. Так что остальные юнцы старались держаться солиднее, как-никак – будущее начальство.
Зоя Николаевна объявила, что из всех групп первого курса будут организованы стройотряды. Они завтра будут отправлены в колхозы, которые имеют нужду в их помощи. Контингент первокурсников был, в основном, из жителей местных городских или ближайших шахтных посёлков. Так что они должны были успеть съездить домой за приличной делу экипировкой, то есть одеться по случаю.
Когда я шёл в общежитие, моим спутником оказался Лёшка Сафиуллин из нашего общежития.
– А ты где живёшь? Куда поедешь за одежонкой? – спросил меня Лёшка. Я объяснил, откуда приехал и что туда дорога не близкая.
– А в чём же ты поедешь на работу?
– А вот в том, что есть. Что на мне. Другого нет.
Лёшка посмотрел на меня и, видя, что я не шучу, замолчал. Только в его немного прищуренных татарских глазах мелькнула усмешка.
Утром ребята начали готовиться к отъезду. В комнату кто-то заглянул и тут же захлопнул дверь. Через небольшое время на пороге стоял Лёшка Сафиуллин.
– Я вчера не спросил, в какой ты комнате живёшь, так вот сегодня пришлось обежать все два этажа, пока не нашёл тебя.
Он положил на мою кровать ватную фуфайку.
– Не новая, но и не дырявая.
У кровати он поставил два «кирзача», так он назвал кирзовые сапоги.
– Портянки там, в сапогах.
Увидев, что мои глаза стали увлажняться, он что-то резко сказал и быстро вышел. Для меня дороже, а главное своевременнее, этих вещей вряд ли что было в последующей жизни.
Примечание. А что дальше?
Тут Автор задумался, как это ему и присуще, с его литературно-философским уклоном мысли: а что, если мемуары облечь в форму рассказов, естественно, с лирическими отступлениями, с насыщением сюжета персонажами, и как это водится, с некоторым флёром романтизма, хотя бы в этом конкретном случае: «Стройотряд».
Глава 7. Стройотряд
В конце пятидесятых годов, века двадцатого, весь наш первый курс, а это четыре группы по тридцать студентов в каждой, отправили на «подъём сельского хозяйства». Отправили, да ещё как! Без денег и кто в чём был. А ещё чуднее, в начале осени на «приполярный Урал». Рассудили: уж если ты пошёл в «горный», то рассчитывать на комфорт лучше не надо.
Билеты на весь отряд приобрёл руководитель нашей «экспедиции». Так или иначе, погрузились и поехали. Вскоре эта малознакомая друг с другом масса стала распадаться на группки, кучки по интересам, каким-то необъяснимым симпатиям.
Много было ребят, которые поступили в техникум, имея за плечами училище и рабочий стаж, подземный, разумеется. Они тут же начали приобщать «зелёненьких» к трудной жизни углекопа. Они ловко разливали водку, красиво её выпивали, и уж потом начиналось посвящение в тайны шахтёрской жизни.
Приехали в Соликамск. Наш руководитель обратился к местному начальству. Нас накормили прямо в привокзальном скверике: привезли бачки с едой, алюминиевые плошки, ложки и хлеб… приятного аппетита!
Уж чего-чего, а в аппетите не было дефицита. Ещё совсем юные маменькины сынки глотали это варево, очень похожее на лагерную баланду. Впрочем, почему «похожее»? Как потом выяснилось, это и была она самая! Нас, теперь уже сытеньких, погрузили на пароход, и мы пошли, как говорят истинные моряки, по северным уральским рекам. А какие названия: Кама, Чердынь, Усьва, Лысьва – сплошная романтика!
Вспомнился Мамин-Сибиряк, его «Зимовье на Студёной». Всю ночь пароход буравил мрачные воды реки, а уже утром мы его покинули, сойдя на деревянную пристань города Чердынь.
Пока местное начальство думало, что им делать, с внезапно свалившимся на них «счастьем», в образе более сотни студентов, прошёл день. Нас опять чем-то накормили и спать уложили, в пустую пока школу, где только что сделали ремонт. Было достаточно сыро и холодно, и, заботясь о нас, в школе протопили печи, недавно выкрашенные чёрной краской. Уставшие от дорожной романтики, мы улеглись на столы и на полы – не важно, лишь бы поближе к печкам. Проснувшись утром, я слез со стола, сделал несколько шагов и упал, потеряв сознание…
Придя в себя и не понимая, в чём тут дело, я встал и начал спускаться на первый этаж. Всё повторилось, только в этот раз я успел удариться о стену, а уж потом о ступени. Вот так, падая и вставая, я выбрался во двор, где стояли бочки с водой, как бы специально для такого случая. Здесь уже находились многие друзья по несчастью: их бледные до синевы лица, дрожащие ноги, рвота – всё показывало на наличие угара. Страшное дело этот угарный газ! А особенно в шахте, путь в которую мы выбрали. Да, урок получился качественный. Хорошо, что на сей раз пронесло.
Итак, поезд, пароход и теперь открытые кузова грузовиков. Поехали. Если кто не видел северных болот с их бездонными трясинами, не огорчайтесь: ничего в них хорошего нет, кроме разве добротного способа – убраться из этого мира очень скромненько, без могил и надгробий, не вводя своих близких в расходы на ритуальные услуги. Но прежде этих североуральских болот, с которыми судьба уготовила нам обязательную встречу, мы увидели бледные, как у нас – угорелых, испуганные лица местных начальников. Ещё бы! Гибель студентов, если бы такая случилась, по тем временам грозила им…
Так что местное начальство расшаркалось и не смело нас более задерживать.
Мы уже пришли в норму и веселились в потряхивающем кузове грузовика. Руководил нашим весельем староста группы Эдик. Это был самый бывалый из нас. При знакомстве он протягивал руку и представлялся: Эдик! Я – кавказец, из Орджоникидзе, бывший – Владикавказ. При более близком знакомстве он рассказывал, как там, при каком-то выступлении недовольного населения чем-то, милиционер толкнул его мать и он, на угрозу: разойдись – стрелять буду! – рванул на груди рубаху и предложил: на, стреляй, гад! Тот и выстрелил… тогда «блюстители» не церемонились.
А то, что Эдик не преувеличивает, – доказательством служили следы ранения: маленькое – на груди и побольше, рваное на спине, так сказать, навылет. Пуля пробила лёгкое, и это сказывалось на сипловатом дыхании. Эдик стоял в кузове, прислоняясь спиной к кабине и, перекрывая шум машины, декламировал: зашёл в аптеку сэр Гордон, чтобы купить себе… и, не обращая внимания на нашу дружную «рифму», продолжал: таблетки, но деньги он забыл в жилетке и тем был страшно огорчён! Его жена сидит, тоскуя, она не может жить без… (хор выдаёт рифму), а Эдик снисходительно продолжает: ласки, её голубенькие глазки закроются от поцелуя!
Так или иначе, но стресс был снят. А грузовичок тем временем покидал малоэтажную деревянную Чердынь. Вдруг кто-то сказал: тайга. Я поднялся в кузове и осмотрелся, но никакой тайги не увидел.
– Где тайга? – спросил я у Феди Пашнина, закоренелого уральца, предполагая розыгрыш. Федя пошевелил толстыми губами: по правде сказать – это ещё не совсем тайга.
– Ты хочешь сказать, что это совсем не тайга! – съязвил я.
Дело в том, что со смоленскими лесами я знаком не понаслышке, я там родился, а это – леса! К тому же много читал о тайге, о её непроходимых дебрях, а тут – насмешка одна: бугорки, кочки да жалкое редколесье.
Правда, понемногу растительность становилась всё гуще и выше, так что стала походить на настоящий лес, если уж не на тайгу. Проехали какой-то задранный кверху шлагбаум, и грузовик остановился. Шофёр вылез из машины, вернулся к шлагбауму и перекрыл им дорогу. Через несколько десятков метров дорогу продолжал узкий, в одну колею, деревянный настил. Вместо бордюра, по обеим сторонам его, были проложены толстые брёвна-брусья.
– «Торцовая дорога», – сказал Федя. Оказалось, что через эти непроходимые и весьма обширные болота «не проехать – не пройти», никакие обычные дороги устроить невозможно.
Но тут, без всяких конкурсов и тендеров, заключённые сталинских лагерей построили такую дорогу. Они спиливали дерево, обрубали сучья и макушку, потом этот ствол тонким концом вертикально вниз загоняли в болотную трясину до твёрдой земли. Толстую часть ствола выравнивали под уровень полотна дороги, скрепляли между собой. Правда, только одна колея – не разминуться, поэтому и придумали шлагбаум: въезжаешь на дорогу, шлагбаум за собой закрываешь. Долгая и длинная дорога через северные уральские болота. Да и что их не строить: кругом тайга, деревьев немеряно. А уж заключённых… кругом лагеря!
Конечно, это не пирамиды строить там, в тепле, тут гнус, мошкара, грязь, сырость, ну и лютые морозы – не курорт, однако. При выезде с этой дороги, назовём её «дорогой памяти», шофёр оставил шлагбаум открытым, так что с этой стороны въезжать на эту дорогу было можно. Дальше пошла обычная грунтовая дорога. Быстро темнело. Показались огоньки поселения, и вскоре грузовичок, нами нагруженный, въехал в деревню и остановился. Пока мы разминали утомлённые дорогой организмы, наш сопровождающий привёл высокого дядю, который отрекомендовался бригадиром деревни, с непривычным для этого края названием – «Лоборь».
Грузовик включил фары, развернулся и был таков, а наш дядя-бригадир повёл нас в темноту, по грязи, и вот мы уже дома. Домом оказался небольшой барак с нарами, дань лагерной моде, чтобы привыкало молодое поколение к прозе житейской и не забывало пословиц и поговорок старших поколений: от тюрьмы и от сумы не зарекайся и так далее. Пока мы чиркали спичками, скудно освещавшими наш сырой и холодный приют, дядька принёс две керосиновые лампы. Край таёжный, дровишек достаточно, соломы мы натаскали и стали жить…
Дядя-бригадир лицемерно посетовал, что его не предупредили насчёт нас, так что горячим питанием мы будем обеспечены только с завтрашнего дня.
Мы поели из «не горячего» – у кого что нашлось, покурили, даже те, кто отродясь не курил, и, зарывшись в солому, загадали сны на новом месте. Продрогшие за ночь, выбегали вчерашние пацаны из барака на сумеречный рассвет, чтобы отыскать место для…
Места дикие, кустов много, но уже без листьев, они плохо укрывали интим, так что аборигены всласть повеселились над нашим утренним моционом-туалетом. Вскоре явился наш дядя-бригадир, и не один, а с лошадью, запряжённой в телегу. Телега была нагружена провизией: бачком с кашей, хлебом и алюминиевой посудой, где гремели кружки, миски и ложки.
Прежде чем дать нам возможность приступить к столь вожделенной трапезе, бригадир просветил нас краткой вступительной лекцией. Суть её заключалась в том, что оставшиеся после завтрака продукты не следует оставлять где попало, а подвешивать как можно выше, дабы они не стали лёгкой добычей… ну, сами понимаете. А мы сами это поняли ещё ночной порой, когда отовсюду слышался писк и хруст чего-то грызущего, поняли и почему нары так высоко устроены. На наш вопрос: а что мы тут строить будем? – бригадир скептически заметил, что строить тут ничего не надо. Всё что надо они сами построили, а вот картошку убирать надо.
– Что-то поздно вы спохватились, везде картошку уже выкопали, – съязвил кто-то. Бригадир вздохнул: может, и везде, где климат позволяет, а тут мы картошку только в июне посадили…
После завтрака, повеселевшие, мы отправились на картофельное поле. Там уже были борозды с выкопанной плугом картошкой. Нам оставалось всего ничего, разрыхлить борозду лопатой или вилами, кому что досталось, собрать картошку в мешки, погрузить на телеги. План: по несколько борозд на пару студентов.
– Однако! – вдохновились мы и принялись за работу.
Дебют был весьма удачен. С уроком мы справились довольно легко.
Вчерашние пацаны даже позволяли себе порезвиться, побегать по бороздам, попасть картофелиной в согнувшегося приятеля. Результат нашей работы увезли с поля на телегах, и мы пошли в свой барак, на нары. Там нас ожидал обед и ужин – одновременно. Дежурные черпали из большой фляги и разливали по нашим мискам что-то мелко нарубленное с кусочками мяса. Чрезвычайно голодные, после работы на свежем воздухе, мы быстро опорожнили свои миски и подобрали остатки из фляги так, что и мыть, в принципе, было нечего – всё и так блестело. На плите дежурные заварили довольно крепкий чай.
Закурили махорочные сигареты из местного «сельпо», от которых, как определил Витька Гречко из Туапсе: кашель до половины расколет, а там дальше сам развалишься! Легли спать, но ещё долго резвились, рассказывали анекдоты, дружным ржанием перекрывая возню и писк крыс, которые себя считали здесь полноправными хозяевами, а нас, естественно, наглыми пришельцами, и если бы не высота нар, то они показали бы: кто в бараке хозяин! На другой день работа уже не казалась такой привлекательной и лёгкой. Болело всё, но особенно спина, руки и ноги в коленях.
«Легче найти: что не болит!» – ворчал Герка Плотников. К тому же похолодало, и мы разожгли костёр, даже два – по обеим сторонам очень длинного поля. А чтобы ещё чем-то компенсировать свой дискомфорт, стали в этих кострах печь картошку.
Зашёл к нам «на дымок» дядька-бригадир. На поле он казался ещё более высоким, и когда размахивал руками при разговоре, то походил на ветряную мельницу. Не в пример местным жителям, он был очень общителен с нами. Тут же выяснилось, что не такие они уж и «местные», так как завезли их сюда не так давно из западных районов Белоруссии.
После войны туда пришла советская власть. И чтобы они там не мешали этой власти строить новую, счастливую, колхозную жизнь как «чуждые элементы», их и перевезли сюда. Они и здесь не состоят в колхозе, а значатся как поселение под названием «Лоборь». Топонимика этого названия никому не известна. А так здесь кругом вполне нормальные колхозные деревни, с местным населением из кержаков, чалдонов и прочих аборигенов. Работая на поле, мы обратили внимание на дальние гулкие выстрелы в тайге и даже автоматные очереди. Мы тут же осведомились у нашего эрудита бригадира.
– А-а, так это «зелёный прокурор», – объяснил он, хотя от этой его реплики нам понятнее не стало. Видя наше недоумение, бригадир продолжил разъяснение: – Здесь же кругом лагеря заключённых.
У многих заключённых очень большие «срока намотаны», что их им и за сто лет не отсидеть, так что терять нечего – бегут в тайгу. Далеко тут не разбежишься, сами видели – кругом непроходимая тайга с диким зверьём и гиблыми болотами.
Пошатается такой беглец, где у местных что сопрёт, а если уж сильно повезёт, так где-нибудь какую-нибудь бабёнку приголубит… и если за лето его не поймают, то на зиму сам явится в лагерь.
– И что потом им бывает?
– А ничего, добавят ещё годков за побег, да и куда им ещё добавлять…
Прошло ещё несколько дней и ночей.
Наступила некоторая адаптация к этим некомфортным условиям нашего быта. Организмы тоже втянулись в работу. То, что выпал первый снег, сообщил Дима Ковалёв, вышедший на свой утренний моцион.
Он принёс большой ком снега и, как сеятель, разбросал его по нарам, вызывая недовольное ворчание и визг просыпающихся ребят. Кое-кто обрадовался, что работу сегодня отменят, но их восторг угас с появлением дядьки-бригадира:
– Ну что, хлопцы, борозды уже распаханы. Немножко похолодало, так от земли даже пар идёт.
Оно и до этого дня было не очень-то тепло, но даже сам вид снега не располагал к оптимизму.
– А что же это «местные» не поспешают на уборку? – задали мы давно вертевшийся у нас вопрос, наблюдая, как дружно и усердно трудятся они на своих огородах.
Бригадир, видать, тоже давно ждал этого вопроса:
– А вы знаете, то, что вы уберёте, всё тут же забирают и увозят. А жителям придётся, что они накопают на своих огородах, целый год есть самим, кормить свою скотину и оставить на семена.
Его обветренное лицо некрасиво скривилось. Он повернулся и медленно побрёл с поля.
Мы продолжили борьбу за урожай, теперь уже с ледяным дыханием севера, а уж если точнее, самого океана, причём Ледовитого.
Развели костры, визиты к ним стали более частыми и продолжительными. Проникновеннее звучали строчки самодеятельного пения: «Дело в том, что мыв субботу не выходим на работу, а у нас суббота каждый день. Если на работу мы придём, на костре все варежки прожжём…» – и всё это на блатной мотив, влияние лагерного окружения, наверно. Как-то не вязалось здесь «взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих», как и прочие вдохновляющие пошлости.
Вечером, в клубе-сарае, анонсировалось собрание поселян с последующими танцами. Уставшие от отсутствия развлечений, мы решили посетить это культурное мероприятие, кроме тех, кто предпочитал свой досуг отдавать карточному азарту. В клубе мы расположились на задних скамейках. Плохо освещенный зал был заполнен поселянами. Керосиновая лампа, свисавшая на проволоке с потолка, обнаруживала своим светом «президиум» за столом на сцене, если можно так назвать возвышение из грубо сколоченных досок. В ответ на краткое выступление ведущего собрания, в котором тот предлагал собравшимся выйти завтра всем на уборку картофеля, поселяне ответили дружным рёвом несогласия.
Тогда из тёмного угла, к «рампе», вышел, поскрипывая сапогами и кожаной курткой, коренастый мужчина. Поселяне, очевидно, его знали и сразу затихли. Оно и было отчего. Только от одного вида этого представителя власти, как говорится, «холодок бежит за ворот», а тут ещё лютый взгляд с искажённого злобой скуластого лица. Когда он заговорил, а точнее было бы сказать грубо залаял, даже нам, косвенным участникам этого сборища, стало не по себе. Сама речь его состояла из отрывочных фраз, похожих на винтовочные выстрелы.
Ему не было нужды до риторики, логики и прочих ораторских изысков. Вот перлы его, власть имущего, выступления: «Вы заклятые враги советской власти… лишенцы… завтра чтобы все как один вышли на уборку. Вы меня знаете. Пойдёте пешком все на север, в тундру, на сто километров отсюда. Кроме инструмента и еды с барахлом, что на себе унесёте, больше ничего не возьмёте отсюда». После такого вече народ разошёлся по домам, а молодёжь осталась развлекаться. В клубе было холодно и очень накурено. Однако молодёжь это ничуть не смутило.
Это были стройные и рослые, как на подбор, парни и девушки. Они сразу же сняли с себя свои нарядные дублёнки и, оставшись в расшитых сарафанах и рубахах, принялись за танцы. Их небольшой оркестр состоял из гармошки, украшенной бантом, раритетной гитары и бубна. Если ещё учесть ритмичный стук каблуков, то налицо был какой-то танцевальный ансамбль.
Да, чувствуется Запад! – подумалось нам. Мы участия в этом веселье не принимали, потому что танцевать так не умели и в таких «нарядах», как у нас, можно было показываться только среди картофельной ботвы или на лесоповале, среди заключённых. Дым костров и махорочных сигарет, которым мы изрядно пропитались, также не прибавлял нам обаяния. К тому же местные и не помышляли общаться с нами, они как бы нас и не замечали. Только Эдик, как всегда, оказался предусмотрительным. Он достал из своего вместительного рюкзака брюки, свитер и даже хорошо начищенные ботинки. Так что он ненавязчиво пообщался с местными и, впоследствии, поведал нам кое-что о поселянах. Оказалась, что этот грозный оперуполномоченный не зря называл поселян «лишенцами», они такими и были.
Из большого перечня «нельзя» вот некоторые: лишение всех избирательных прав, возможности покидать пределы района, без особых на то разрешений надзирающих властей, а молодёжи – выезжать на учёбу за пределы этого района. В свете всего рассказанного, мы представили весь ужас этих красивых молодых людей, и нам стало неуютно и жутко находиться здесь, среди этих болот и бесприютной таёжной беспредельности.
Наутро на противоположной стороне поля появились поселяне. Они работали так быстро и качественно, что нам так работать и не снилось.
Некоторое время мы как зачарованные глядели на это явление, как вчера на танцы их молодёжи. Прервал нашу идиллию бригадир. Он довольно радостно сообщил, что поселяне, благодаря нам, собрали свой урожай. Теперь, когда картофельное поле было атаковано с двух фронтов, неубранный участок быстро таял и вскоре совсем исчез, а вместе с ним и наша трудовая повинность. Нам дали немного денег и подали грузовик, скорее всего тот, на котором мы приехали сюда. Грузовик уже собирался отъехать, когда один из местных сообщил, по секрету, что нам скормили старого коня, которого зарезали только потому, что он сам был уже не в силах издохнуть.
Мы все дружно повернулись к Зинуру Ганиеву: ты, мол, татарин, чего молчал? Всю обратную дорогу мы уже не веселились, так как в кузове было холодно, и старались теснее прижаться друг к другу. Заснеженная Чердынь, как и весь этот край, казалась унылой и заброшенной. Правда, в ней мы почти не задержались и уже вечером погрузились на пароход, который пошлёпал по мутной воде, где в свете фонарей поблёскивали льдинки, предвестники скорого ледостава и конца навигации. Но это только казалось, что мы сели на пароход вечером.
На самом же деле было ещё послеобеденное время, а серая мгла вряд ли могла сойти за наличие дня. На пароходе был буфет, и мы, обременённые малыми деньгами, его непременно посетили. Я уже запивал последним глотком лимонада печенье, когда услышал голос Эдика: Фома, иди сюда! Вокруг круглого столика, вместе с Эдиком, стояло несколько мужчин.
– Земляк ваш, тоже смоленский.
Довольно крупный мужчина протянул мне руку:
– Николай, – но, заметив разницу в возрасте, поправился: дядя Коля.
Он тут же приступил к расспросам, и я понял, что такое «земляк». Его глаза, на дублёном северными ветрами лице, потеплели и смотрели по-доброму заинтересованно. Эдик тем временем деликатно разговаривал с другими мужчинами, очевидно, товарищами моего земляка.
Вдруг из пассажирского трюма послышался шум. Дядя Коля насторожился. Шум усилился, раздался быстрый топот ног, и вскоре на палубу выбежало несколько наших ребят.
Они шустро пробежали палубу и сгрудились в углу у канатов. Вслед за ними появилась ватага разъярённых людей. Они с глухим рычанием направились к перепуганным ребятам. Быстро надвигалась беда. Но тут перед ними выросла фигура моего земляка. Это был уже не тот «дядя Коля», с которым я только что мирно беседовал. Его угрожающая поза и особенно лицо, ставшее страшным, сузившиеся глаза, выступившая резко вперёд нижняя челюсть – всё это остановило ватагу, преследовавшую наших ребят. Несколько резких, как удар хлыста, команд с последующими фразами на непонятном мне языке, и группа преследователей повернула к себе в трюм. Мой земляк проводил их.
– Это наш «бугор», бригадир – по-вашему. Его сам начальник лагеря уважал, а для нас, зэков, очень большой «авторитет»!
– А на каком это языке дядя Коля с ними разговаривал? – полюбопытствовал я.
Эдик только снисходительно ухмыльнулся: он-то знал.
– Да это он по «фене ботал», – с готовностью объяснил мне товарищ дяди Коли, но, видя, что я так ничего и не понял, добавил: – Это язык такой – «блатной», или воровской, если так будет понятнее.
Вскоре вернулся мой земляк. Его лицо вновь обрело своё прежнее выражение, и только левое веко нервно подрагивало, да и внешне он был спокоен.
Он кивнул своему спутнику, и тот налил всем стоящим за столом водки в большие гранёные стаканы. Потом дядя Коля обратился к Эдику: «Скажи своим ребятам – пусть успокоятся. А в карты с моими ребятами они, я думаю, больше играть не сядут. Связался чёрт с младенцем…» – помолчав, прибавил он.
Выяснилось, что с нами на пароходе добирается до Соликамска партия бывших заключённых, только что получивших свободу, долгожданную, но ещё живущих по лагерным законам и инстинктам. Не случись в этой ситуации моего земляка, который был таким же «только что освобождённым», наши ребятки пошли бы на зимний запас корма местным рыбкам.
А по времени наш вояж по уральскому северу совпал с массовой «хрущёвской» амнистией. Опьянённые свободой, не будет преувеличением сказать, одуревшие от неё, эти получившие вновь гражданские права люди бесились, пьянствовали, вливая в глотки всё, что «лишь бы с ног сшибало», насиловали, проигрывали в карты всё, что можно было поставить на кон, даже человеческие жизни. Работники железной дороги «Соликамск – Москва» собирали на железнодорожных насыпях и в кюветах бесчисленные трупы исколотых, изрезанных и искалеченных людей.
Какое же это счастье: блага цивилизации! Мы получили сразу по две стипендии, а я ещё и перевод из дома, так что было на что совершить культпоход в баню, посетить и другие культурные «мероприятия», как парикмахерская, магазины, особенно продовольственные с их винными и водочными отделами. Я даже смог купить себе новую одежду. Странно и необычно было видеть своих товарищей по отряду: грязных оборванцев – теперь чистеньких и неприлично культурных. Что же касается нравственных и моральных последствий нашего посещения мест «не столь отдалённых», так это то, что мы дружно влились в пресловутое движение «шестидесятников»!
Глава 8. Оттепель
Все знают «оттепель» как явление климатическое, погодное. Вместо лютых морозов или снегопадов с метелями и вьюгами, что так свойственно русской зиме, вдруг как грянет оттепель, как развезёт всё вокруг, вмиг превратит сугробы в непотребную грязную жижу. Нехорошо это, а главное – для здоровья плохо, особенно ревматикам. Но не об этой «оттепели» пойдёт разговор в этом рассказе. Многие сразу догадались, что речь пойдёт о «хрущёвской оттепели», грянувшей в шестидесятые годы прошлого столетия и даже тысячелетия.
Этот период истории совпал с моей юностью, и хотя я не очень ностальгирую по тем временам, тем не менее время было интереснейшее, очень повлиявшее на дальнейший ход исторического процесса, а стало быть на судьбы людей. Главное, что случилось в это время: рухнула и рассыпалась в прах необоснованная вера в «светлое будущее», как и в лицемерных приспешников этой идеи. Разочарование народа было обвальным. Молодёжь на все эти события реагировала значительно острее – на то она и молодёжь! Вот об этом и пойдёт рассказ.
Глава 9. Товарная станция
Я лежал на кровати в общежитии и наслаждался чтением какой-то очень увлекательной книги. Это был «сопромат» или «теория механизмов и машин», не могу вспомнить. Разбудил меня, то есть прервал моё чтение, приход Володи Гладких. Это был мой однокурсник, здоровенный парень с Урала. Он придвинул стул к кровати, сел и, посмотрев на обложку книги, одобрительно заметил: очень хорошее снотворное! Закурив, продолжил:
– А ты не забыл, что первомайские праздники на носу?
– Нет, не забыл.
– А материальными средствами обладаешь на их проведение?
– Отвали, дядя! Если есть какие соображения, то поделись.
– Пожалуйста. Собираю крепких парней на товарную станцию, разгружать вагоны. Работаем по ночам, разгружаем всё что предложат. Платят наличными и сразу.
– Ну, ты, Вова, прямо Дед Мороз, жаль, что сейчас не Новый год.
– Такты что, отказываешься, не пойдёшь?
– Что ж я, дурак отказываться, если дело обстоит так, как ты сказал.
– Тогда будь готов, вечером зайду.
Ещё апрельское закатное солнце освещало ржавыми лучами закопчённые постройки, как мы были уже на товарной станции, где собирались обменять свою мышечную энергию на деньги, чтобы те, в своё время, обменять на пищу, которая даст энергию нашим мышцам, которую те затратили на добывание денег – примитивнее даже, чем рисунок дикаря.
Жаждущие этого пошлого обменного эквивалента были, в основном, спортсмены из студентов. Володя Пан, это его сокращённая фамилия, избранный из нас бригадир, уже общался с человеком в брезентовом плаще, из-под расстёгнутой полы которого высовывалась сумка на ремне. Пан вернулся к нам со стопкой рукавиц и пустых мешков.
– Разбирайте! Мешками укройте спины и плечи. Будем разгружать рефрижераторы с мороженой рыбой.
Рыба так рыба – легкомысленно подумалось нам – что ж тут особенного. А это «особенное» мы очень скоро почувствовали на своих спинах и плечах.
Было не важно, какой рыбой были заполнены эти рогожные кули, но их замороженные плавники и хвосты кололи так беспощадно через мешки и наши спортивные костюмы, что казалось, эта бывшая живность отыгрывалась на наших спинах за свою безвременную кончину. Мы на ходу обменивались эмоциями:
– Как же я с такой спиной пойду на тренировку?
– Прошлый раз овощи разгружали: морковки наелись, и капуста такая сочная была… животы, правда, сильно раздуло…
– Это что – овощи! Нам один раз довелось «катать» селёдку, так один бочонок оказался разбитый… Паровоз подошёл к водокачке заправляться, а там воды – ни капли: мы всю выпили!
Что нас подгоняло: рыба своими колючками или космический холод рефрижератора и морозильных камер, но работали мы бегом, без остановок и перекуров, так что предмайский рассвет и наш наниматель приятно поразились, что вагоны опустели, а их содержимое переместилось куда надо и там аккуратно уложено.
– Ну, ребята, да вы просто герои труда!
– Как бы ваша устная оценка нашей скромной работы не заменила или не повлияла на размер материального вознаграждения.
– Да что вы, дорогие мои! Я своих штатных грузчиков не могу дубиной заставить разгружать эту «колючую проволоку», как они называют мороженую рыбу. Так что получайте по высшему тарифу, да ещё и с премиальными!
Глава 10. Кабацкое застолье
Близость первомайских праздников волновала и заставляла ребят группироваться по интересам для проведения оных. Станислав Логинов, гитарист и комнатный песнопевец, Владимир Пьянков – мастер художественного чтения и конферансье нашей самодеятельности. Есть такой анекдот: почему милицейский наряд состоит из трёх человек? Ответ: один милиционер умеет читать, другой писать, а третьему очень приятно находиться в интеллигентной компании. Вот, примерно, таким «третьим» и был я. Хотя надо признать, что и физическая культура не была изгоем у интеллектуалов.
На экстренном совещании мы деловито обсудили наши финансовые возможности. Стасу, у которого родителей не было, прислала денежный перевод сестра, которая только что окончила медицинский институт, получила работу и вышла замуж за Кузьму. Стае с большой радостью принял деньги, но долго не мог успокоиться из-за «Кузьмы», что-то уж очень неблагозвучное слышалось ему в имени его нового родственника. Вовочку осчастливил денежкой его дедушка, так как его maman только что вышла замуж и ей было пока что не до своего, уже взрослого, первенца. Я же обрёл свою финансовую состоятельность «своим горбом». Рассудив, решили: кабак!
Ресторан. Куверты, белые салфетки. Действительно: рай для нищих и шутов. Втроём за столиком мы сидели недолго. Вскоре к нам подсел наш общий знакомец Юрий Аликин, редактор литературного отдела местной газеты. Запивать «заливной язык» – эту еду поэтов, шпроты и пельмени – потребовали коньяк. Сценарий народных гуляний прост и предсказуем. Сначала застолье проистекает нарочито церемонно, даже торжественно. Велеречивые тосты очень скоро становятся экономными по времени: ну, будем! Потом кто-то вспомнил, что сегодня праздник, и народ запел! Какой-то столик грохнул «Катюшу», кому-то захотелось излить душу в «Синий платочек».
Началось обычное в таких ситуациях состязание певческих коллективов: кто кого перекричит! Нашему столику эта самодеятельность не понравилась, точнее её репертуар, и мы завели свою, что-то из британских рейнджеров:
Помнишь «Южный крест», Накрашенные губы И купленный за доллар поцелуй? Осторожней, друг, Эти ласки очень грубы, И кровь свою напрасно не волнуй!Стае чётко и громко выбивал ритм о край стола, а наши молодые голоса, раскрепощённые коньяком, а оттого мощные, вскоре стали перекрывать потрёпанные табаком, водкой и окопами речитативы ветеранов.
На наш столик стали недружелюбно коситься, а затем и с неприкрытой угрозой: если вы не затихнете…
Закончив:
Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы В таинственной стране Мадагаскар!– мы не стали долее испытывать терпение своих соперников и, склонившись головами над столом друг к другу, стали общаться между собой.
Юра много читал Киплинга, этого певца колонизаторов, затем перешли к анекдотам:
– Слона можно завернуть в газету? Конечно, если в ней напечатана речь Хрущёва.
– А можно убить палкой лысого человека? Можно, если его охранять не будут.
– Террорист из пистолета промахнулся в Хрущёва, находясь в двух метрах от него. Особенно негодовал Будённый: нужно было саблей – оно вернее!
Когда мы, отягощенные съеденным и выпитым, вывалились из ресторации, был уже поздний вечер. Дойдя до телефона-автомата, Юра зашёл в него. Из всего, о чём он говорил, я расслышал только «такси… парк».
Мы немного постояли, покурили. Тут подкатило такси, Юра попрощался с нами, сел в «мотор» и уехал. Мне это так понравилось, что и самому захотелось такой лихости.
Я тут же забрался в кабину и стал накручивать диск телефона, а куда звонить, да не всё ли равно, лишь бы такси подали. Друзья к моей затее отнеслись скептически, но это только подогрело моё желание шикарной жизни. По теории вероятности, если обезьяна постучит по клавишам пишущей машинки несколько лет, то может написать роман.
Глава 11. Вытрезвитель
Так или иначе, но и я преуспел в своих дерзаниях. После многих диалогов с какими-то абонентами, я услышал доброжелательный мужской голос, который, узнав, что мне для полноты счастья не хватает лишь такси, осведомился: куда изволите вам подать? Ребята уже отошли по улице на приличное расстояние, когда скрипнули тормоза…
Блюстители порядка умело и быстро доставили меня туда, где, по их мнению, мне будет удобнее находиться, чем у телефона-автомата.
Тем более что в честь Первомая в медицинском вытрезвителе кровати были застелены чистым бельём, а мытьё в душе, чистка одежды и прочие услуги советского «навязчивого» сервиса были в эти сутки совершенно безвозмездные, как подарок совы ослику его же хвоста.
Работники учреждения, куда меня лихо доставили на машине, были приятно удивлены очередным гостем, который не куражился от выпитого в честь праздника, а вёл себя очень культурно и вежливо, говорил: пожалуйста, будьте так любезны.
Дядя или тётя врач, я не разобрал в полумраке, в белом халате определил: наш, принимайте. Мне предложили раздеться и защёлкнули за мной дверь душа. Тёплая водица вскоре сменилась ледяным душем. «Контрастный душ» – обрадовался я, большой любитель этой водной процедуры. Обычно, когда включали холодный душ, обливаемый издавал такой дикий вопль, что приводил в восторг работников вытрезвителя. А тут – только довольное похрюкивание! Это им не понравилось, даже как-то насторожило. Предчувствие их не обмануло. Когда меня вселили в огромную комнату, больше похожую на зал, я был в самом наилучшем расположении тела и духа.
Я присел на указанную мне кровать и осмотрелся. Обитатели, а их было около десяти человек, были разные и вели себя по-разному. Кто мирно спал, уютно устроившись на чистенькой постели, кто сидел на кровати, опустив голову и наклонившись вперёд, очевидно, что-то припоминая. Завидев новенького, некоторые приятно оживились и стали подходить и приставать с расспросами. А я как человек предельно коммуникабельный сразу же принял на себя роль заводилы.
– А вы знаете, какой сегодня праздник?
– А то!
– А раз знаете, то чего не гуляете?
– Это здесь-то гулять?
– А это почему же здесь нельзя гулять?
– Если можно, то как?
– Как-как… песни будем петь! В праздник петь песни никто не запретит!
Сначала тихо и нестройно, послышалось из нашей обители пение, да не простое, а самое актуальное – революционное, к тому же пение возрастало и ширилось:
Лишь мы, работники всемирной, Великой армии труда, Владеть землёй имеем право, А паразиты – никогда!Там, за дверью, заволновались. Начали заглядывать.
– Смело, товарищи, в ногу, Духом окрепнем в борьбе! В царство свободы дорогу Грудью проложим себе!Теперь уже пение угрожающе сотрясало это учреждение посильнее, чем пьяные выкрики отдельных обитателей.
Только теперь работники вытрезвителя поняли, кого они «пригрели». Меня попросили в коридор, там растерянный дежурный, прикрыв трубку ладонью, чтобы защититься от громкого пения, докладывал начальству о чрезвычайном происшествии. Закончилось тем, что нашу «капеллу» тут же выставили вон, на улицу. Я не стал принимать знаки благодарности и предложения – продолжить народное гуляние: с меня этого уже было предостаточно, и я побрёл к себе, в общежитие. Путь был длинный, и я подвёл итог дня, да и не только, а всей сложившейся житейской ситуации.
Я отчётливо почувствовал лицемерие власти, её передового отряда – коммунистов. Большевики превратились в коммунистов, и те стали стесняться тех дел, которые натворили их предшественники. Им захотелось, как царю Дадону, – отдохнуть от ратных дел. Даже революционные песни смущали их покой. Теперь у них была власть, и им хотелось покойно наслаждаться ею в своих креслах, кабинетах с солидной охраной от презираемого ими народа. Ничто не выводило их из гипнотического состояния: мы – навсегда! Для них как бы не существовало примеров исторических катастроф, а что бы им не вспомнить недавнюю гибель «Тысячелетнего рейха» вместе с Адиком Шикльгрубером. Развенчанный культ Иосифа Джугашвили также тяжким камнем потянет в преисподнюю жрецов ложного пути.
Глава 12. Культ силы
Как-то на улице столкнулся я со Славкой.
– Куда торопишься? – спросил он.
Я ответил почти по Гоголю: а так, куда ноги идут. А сам куда? – переспросил я Славку.
– На бокс в городскую секцию. Кстати, там сегодня набор. Не желаешь?
– А что? Можно попробовать, если примут, конечно. А ты что, тоже идёшь поступать?
– Да нет, – сказал Славка, – я уже занимаюсь там с осени. Брат меня туда затащил.
– Ну и как?
– Будешь заниматься, сам всё увидишь. И даже на себе почувствуешь, – как-то весело и даже злорадно пообещал Славка.
Здание городского спортивного общества, очевидно, было построено недавно. Все помещения внутри соответствовали назначению.
Особенно впечатлял большой спортивный зал. В одном углу лежали маты, сразу понятно – это секция борьбы, в другом о деревянный помост звонко стукалась штанга – это секция тяжёлой атлетики. В углу, куда меня подвёл Славка, глухо и коротко стучали перчатки, разумеется, не лайковые, а боксёрские. За небольшим столом сидело несколько человек, но к столу этому стояла очень длинная очередь, более похожая на толпу. С первого взгляда становилось понятно, что это кандидаты, жаждущие спортивных подвигов именно на ринге. Все они в разной степени были возбуждены, особенно будущие «мухи», «комары» и прочие «пух и перья». Претенденты на тяжёлые весовые категории вели себя солиднее, сдержаннее, снисходительно принимая восхищение легковесов.
Приём в секцию уже шёл, когда Славка оставил меня дожидаться своей очереди, а сам пошёл на занятия. По пути, когда мы шли, нам повстречался однокурсник. Он полюбопытствовал, куда мы идём, и на предложение Славки идти с нами ответил: там и без сопливых скользко. Стоя в очереди, я вспомнил это и подумал: а что, здесь действительно и без меня обойдутся, пока моя очередь подойдёт. К нашей очереди подходили тренеры других секций, оценивали опытным взглядом подходящих им кандидатов и ненавязчиво пытались соблазнить: не подойдёшь ты для бокса, даже если тебя и запишут в секцию. Набьют тебе морду раз-другой, и попросишься к нам. Так что не лучше ли сразу…
Руководители боксёрской секции ничуть не мешали этим вербовщикам, скорее даже поощряли их, тем самым подталкивая им облюбованных кандидатов. К всеобщему изумлению толпы, самого габаритного кандидата в боксёры комиссия забраковала. Тот обиделся, набычился и зловеще пробормотал: боитесь, что я вас тут побью всех.
– А что, хотите попробовать? – вежливо спросил его стоявший чуть поодаль, очевидно, тренер.
– Да хоть сейчас, – не унимался богатырь.
Как я впоследствии узнал, такие случаи были не редки, особенно во время приёма в секцию бокса.
Тренер подал ему боксёрские перчатки, помог их надеть, завязать. Надел и сам. Но силач, посмотрев на его не очень атлетическую фигуру, капризно запротестовал, что он стариков не бьёт, боясь, как бы не зашибить насмерть.
– Волков, – обратился тренер к одному из боксёров, который отдыхал после «разборки с грушей». Волков подошёл.
– А вот этот Вас устроит? – обратился он к детине.
– Хлипковат, но если других нет…
Бойцы подошли к отгороженному канатами и стойками рингу, пролезли туда, стали друг против друга, а тренер взялся исполнять роль судьи.
Вокруг ринга тут же организовалась толпа болельщиков. Подошли любопытные из других секций, узнав, в чём дело. Это ещё раз доказывало, что подобные испытания не редки в практике боксёрских поединков. Силач продолжал капризничать.
– Ты бей первый, я не могу бить, пока не разозлюсь. Волков тихонько стукнул в подбородок снизу. Клацнули зубы.
– Сожми челюсть и не разжимай, – посоветовал ему судья. Но тот уже, широко размахнувшись, наносил удар. Неизвестно, куда бы улетел бедный Волков, если бы соперник не промахнулся.
– Ах так, – заревел он. Тут слабонервным, пожалуй, следовало бы закрыть глаза или совсем отвернуться.
Претендент, подбадривая себя рычаниями, начал наносить удары, широко размахивая руками, медленно надвигаясь на своего шустрого противника, который то отступал, то нырял под руку, уклоняясь то влево, то вправо. Не прошло и несколько минут, как претендент выдохся. Он тяжело дышал и взмок от пота.
– Ну, я так больше не могу, – уже не так сердито пробормотал он.
– И то правда, я думаю, этого достаточно, – миролюбиво утешил его тренер-судья. Зрители-болельщики, не увидев ничего особенного, разошлись, так и не удовлетворив свою кровожадность.
Вскоре тренер борцов увёл незадачливого боксёра к себе, приговаривая: да ты же прирождённый борец, я из тебя чемпиона вылеплю.
Тут подошла моя очередь. Ни на что не надеясь, я подошёл к столу. Члены комиссии выглядели утомлёнными, но то, что за мной уже никого не было, немного их взбодрило. Тренер, который только что судил поединок, более похожий на пьяную драку, проявил ко мне особое внимание. Это не укрылось от членов комиссии, и они тоже стали внимательнее осматривать меня. Я не был широкоплеч и это считал своим физическим недостатком, но тренер, кажется, был другого мнения.
Грудная клетка была не плоская, а круглая, объёмная. Мышцы рук не имели большой массы, что я также почитал за уродство, но тренер их тщательно ощупал и как-то довольно крякнул. Он что-то сказал женщине-врачу, но я ничего толком не понял, так как речь шла о каких-то триплексах. Потом тренер обратился непосредственно ко мне: Представь, что у тебя в руке шило. Резко выбросив вперёд руку, постарайся уколоть. Тренер стал подбадривать меня.
– А ещё резче, ещё резче, быстрей руку возвращай к груди. Ну а теперь давай потанцуем… – неожиданно предложил тренер.
– Под музыку? – осмелев, пытался пошутить я.
– Без музыки, просто так попрыгай.
В зале было прохладно, да и я застоялся в очереди. Мне доводилось видеть, как ведут себя на ринге боксёры, хотя бы в кино «Первая перчатка». Я начал имитировать что-то подобное, всё ускоряя темп. Потом женщина-врач попросила меня сделать несколько приседаний, после чего измерила давление и пульс. Она осталась недовольна моим редким пульсом и заявила, что здесь или сердечная патология, или недостаточная нагрузка. Тренер, уже симпатизирующий мне, сказал: нагрузку мы сейчас устроим – и принёс скакалку.
Я ещё в детстве видел, как через верёвочки, бечёвочки прыгали девочки, но меня это никогда не интересовало. А тут на тебе – скакалка. Правда, скакалка была не верёвочка-бечёвочка, а настоящая с ручками, упругая.
Ну, если предлагает тренер, то что же здесь кобениться. И я начал пытаться прыгать через скакалку. Сначала у меня ничего не получалось: скакалка путалась в ногах, цеплялась за голову, но я быстро приноровился, и скакалка даже стала свистеть, разрезая воздух. Однако мне это показалось не лёгкой забавой. Но тут моё занятие приостановили, и я снова подсел к врачу.
Она снова повторила процедуру, но на этот раз осталась весьма довольна.
– Ну, вот это другое дело, пульс как пульс – тренировочный режим.
Тренер довольно улыбнулся, как будто его самого похвалили. Тут ко мне обратился, как я впоследствии узнал, председатель комиссии, он же директор городского спортивного общества, сам когда-то занимавшийся боксом, с просьбой рассказать о себе. Он со знанием дела уточнял: значит, с детства ходил пешком далеко в школу по неровной дороге… Значит, тренировал ноги… Постоянно ходил по лесу, а там ветки, от которых нужно было уклоняться, оберегаться. Рубил дрова. А это – лучшая тренировка для резкости мышц рук. Ну вот, рассудил он: все эти природные физические данные и условия жизни – способствовали постоянным тренировкам. Это и есть естественный отбор – подытожил председатель комиссии.
То, что меня записали в боксёрскую секцию, чуть ли не с распростёртыми объятиями, ничуть не вскружило мне голову. Скорее, наоборот. Это только аванс, а авансы нужно отрабатывать, что, возможно, потребует огромных усилий, с которыми нужно будет справиться.
Глава 13. Первая практика
И вот она, долгожданная, обещанная учебной программой первая практика. Почему долгожданная, да хотя бы потому, что появляется возможность заработать деньги. Немаловажно и то, что можно ознакомиться с подземельем, то есть с местом, где предстоит после окончания учёбы работать. Поэтому как только в конце августа собрались второкурсники, так сразу получили направление на практику, на разные шахты. Какая бы ни была спешка, но праздник День шахтёра, который отмечается в последнее воскресенье августа, отгуляли по возможности, у кого какая была.
А то как же? Это же наш профессиональный праздник – особенно топорщились юнцы, ещё не нюхавшие угольной пыли, да ещё с примесью газа. Совпадение или судьба, но я получил направление на шахту, о которой прожужжал уши Иван, ещё там, в деревне. Тогда это и повлияло на мой маршрут, на Урал, да ещё Северный. Вот что делает романтика с ещё не окрепшими юными душами. Несмотря на тревожное ожидание встречи с шахтой, проглядывалось и удобство. На практику можно было ехать в чём стоишь, так как предприятие обеспечивало рабочей одеждой. Кстати сказать, это была не просто рабочая одежда, а скорее всего форма, конечно, не такая привлекательная, как форма краснофлотца или десантника, но и она отличалась, ну, скажем, от нарукавников бухгалтера.
До нужного шахтного посёлка меня довёз рейсовый автобус. И это оказалось совсем недалеко от города. В отделе кадров комбината шахты всё очень быстро устроилось. Мне сразу же, по предъявлению направления для прохождения практики на этой шахте, выдали приёмный лист, «бегунок» в просторечье, с которым я в первую очередь посетил кабинет по технике безопасности.
Там мою фамилию поставили в прошнурованный журнал и дали направление на склад, для получения спецодежды. Потом была баня, где я приоделся во всё новенькое б/у. В табельной мне выдали жетон с номером. В ламповой я получил батарею, то есть аккумулятор, достаточно тяжёлый. От батареи тянулся метровый шнур, на конце которого была небольшая фара, чуть поменьше велосипедной и которую здесь называли «копытом». Ну «копыт так копыт», лишь бы не лошадиный и не лягался, а светил. Этот комплект довершался самоспасателем, так назывался противогаз, который мог спасти от угарного газа при пожаре, поэтому к этому аппарату нужно было отнестись как к своеобразному талисману.
В назначенное время, я в этой полной экипировке предстал перед инструктором по технике безопасности, которым была женщина. Шахта недавно открылась, и добыча угля шла пока только с первого и единственного горизонта. Наша инструкторша проигнорировала спуск в шахту по стволу, в клети, что почти тот же лифт, а повела нашу группу по поверхности, по очень неровной кочковатой поверхности, и привела, в конце концов, к «ходку», по лестнице которого мы и спустились на вентиляционный штрек. Ещё сначала, как только за нами закрылся тяжёлый люк, наша группа оказалась в кромешной темноте.
Ведь пока мы шли, ярко светило солнце, и хотя мы ещё на поверхности включили наши «копыта», светильники то есть, разглядеть мы ничего не могли, пока глаза не привыкли к темноте и стало хоть что-то различимо, неровная, корявая лестница, например. Я и мои спутники, которые впервые попали в шахту, как мне показалось, смутились немного, мягко выражаясь, а то и испугались. А тут ещё и наша инструкторша, увидев, что новички чрезмерно успокоились, попыталась возродить осторожность, припугнув негативными по случаю примерами.
Указывая на вагонетку, куда, перегнувшись через её край, заглядывали её подопечные, она противным, зловещим голосом одёрнула их:
– Вот так один нагнулся через край вагонетки, а тут сверху вывалился огромный кусок породы, и раз – на две половины его.
Потом нас, согнувшихся в три погибели, инструкторша провела, или протащила, по наклонной лаве. Мы попали на промежуточный, откаточный штрек, половину ширины которого занимал конвейер, или скребковый транспортёр.
Транспортёр в это время работал, скребыхая железом по железу, и качал уголь из лавы, по которой мы только что спустились и своими спинами даже немножко подшуровали уголь на него, чем помогли уже выполнять план этой шахтёнке. Транспортёр низвергал уголь в шурф, поднимая густое облако угольной пыли. Здесь же сидел машинист транспортёра, получая световые сигналы от лавы, когда включать, когда выключать. Когда он видел вертикальные световые сигналы, он включал транспортёр, когда горизонтальные – выключал и тут же обрабатывал почерневшее от пыли своё рабочее место известковой пылью, нейтрализуя угольную пыль.
Известно каждому, что облаку из угольной пыли достаточно искры, чтобы произошёл мощный взрыв. По длинному бремсбергу мы скоро добрались до основного откаточного штрека. Под кровлей штрека тянулась троллея постоянного тока. Неспешно катились, повизгивая, электровозы, таща за собой то составы порожняка, то гружёные углём или породой вагонетки. По этому штреку мы дошли до ствола, сели в клеть и мигом оказались на поверхности. Инструктор объяснила, что, прежде всего, нужно забрать свой номерной жетон, что и куда ставить из нашего оборудования.
Показала, как попасть в баню, и попросила зайти после бани к ней в кабинет по технике безопасности, для дальнейшего оформления допуска на подземные работы. Меня поселили в шахтёрское общежитие, в комнату, где я оказался третьим жильцом. Казалось бы, как удобно, всегда можно бы «на троих». Но пока я там работал и жил в этом общежитии, конкретно в этой комнате, мне ни разу не довелось видеть нашу компанию полностью в одно время. Причина одна: все работали в разные смены. Начальник участка, на который меня направили, предложил мастеру смены определить место, достойное моего положения.
«Только бы не место главного инженера шахты», – с ужасом подумал я.
Благодаря этой моей краткой молитве, мастер и подыскал мне достойное место. Судьба, как добренькая тётенька, притащила меня за шиворот, как щенка, именно на то место машиниста транспортёра, с которым я ознакомился во время прохождения экскурсии по технике безопасности.
Начальник участка выписал мне небольшой аванс, так что первая практика далась мне даже очень легко. Работа не напрягала, в комнате общежития я почти всегда был один, что создавало уют и душевный комфорт. Питался я в шахтёрской столовой, где еда была сытной и обильной.
Я совершенно не выглядел измождённым от непосильного труда на подземных работах. От нечего делать я сверстал отчёт по практике. Тщательно ответил на программные вопросы. Так что я даже радовался, что избрал эту профессию. Непосредственно на работе, в качестве машиниста транспортёра, когда не было угля и нечего было «качать», я шёл в лаву, или, как правильно, в очистной забой. Помогал, если что подворачивалось, ГРОЗ, то есть горнорабочим очистного забоя. Как я выяснил, помимо добываемого угля в этой лаве, какой-то институт разрабатывал здесь новую технологию при работе на сильно газоносных пластах.
Так что я оказался свидетелем, если не участником, этого процесса. А идея была такова: бурились длинные шпуры, в них вставлялись резиновые армированные шланги, которые могли выдерживать очень высокое давление. Посредством этих шлангов в пласт нагнеталась вода. Насосами создавалось очень высокое давление, и вода, проникая в пласт, разрыхляла его. При относительной тишине в забое, слышны были потрескивания разрушаемого угольного пласта. По замыслу авторов этого проекта, вода должна была вытеснить газ метан, так называемый гремучий газ.
Насчёт газа не знаю, но вот уголь после такой обработки почти не давал пыли. Кое с чем из этой технологии я встречался впоследствии. Так, опрессовка центрального отопления, для проверки его на герметичность, осуществляется таким же образом – увеличением давления воды в трубопроводе. А этот страшный в шахте гремучий газ метан, при соблюдении определённых правил, работает в бытовых газовых плитах, и никто его не боится. Хотя он и в этом случае не любит небрежности и потери осторожности. С полным карманом денег, не жалели тогда гербовой бумаги для ассигнаций, и даже с некоторым сожалением уезжал я после окончания практики, для продолжения учёбы.
Глава 14. «Матрос с «Кометы»
Вся жизнь земных существ, особенно человека, состоит из двух частей: теории и практики. Ещё с пелёнок, если только не с утробы матери, начинается эта теория и практика. И так у нормальных людей всю жизнь. Правда, отношение к этому дуализму бывает разное. Гёте через Мефистофеля урезонивает Фауста: скучна теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет – намекая на то, что теории у Фауста – хоть отбавляй, а вот практики, опыта, где обретаются радости жизни, – «кот наплакал». Что же касается меня, то и здесь имела место диспропорция теории и опыта с практикой.
В основном из книг, а также из других источников информации, у меня появились обширные теоретические познания о жизни.
Как-то свирепой северо-уральской зимой мой товарищ по комнате Федя Пашнин, с некоторым лукавством, предложил мне составить ему компанию, а проще сходить с ним в кино, на фильм «Матрос с Кометы». Почему с лукавством, выяснилось чуть позже, когда мы пришли в кинотеатр. Там его, оказывается, уже ждала девушка. Мало того, с подружкой. Я с укоризной посмотрел на Фёдора.
– Ну, ладно, ладно, – успокоил он меня, когда мы отвернулись, чтобы покурить. – Должны же мы выручать друг друга. Моя одна не хотела приходить. Пришлось мне соглашаться на этот вариант.
Тут сработал закон: сам погибай, а друга выручай. И я успокоился. Дружба всегда требует жертв, тем более что я не имел никаких обязательств перед другими особами женского пола. Кино оказалось фестивальное, разумеется, про любовь, с присущими ей капризами, ревностью и прочей дурью.
После сеанса, когда мы немного отошли от кинотеатра, Федя со своим «плюсом», по-английски, не прощаясь, свернули в какой-то переулок и растворились в ночной темноте, слабо освещаемой холодными звёздами, оставив меня попечителем зазябшего существа, одетого больше по моде, чем по погоде. Если и называли её имя в начале встречи, то я его не запомнил, а переспрашивать было как-то неловко. Но я тут же нашёлся и спросил: в честь кого она получила своё имя?
– В честь бабушки, – ответила она. Тут же последовал новый вопрос: а как звали бабушку? Она назвала имя своей бабушки, даже не заметив в моих вопросах коварства.
А меня назвали, и я с гордостью произнёс имя Стольного князя Киевского крестителя Руси, примазавшись, таким образом, к Великому имени, так сказать. А что? Эта косвенная связь, даже имён, иногда производит впечатление, а то и повышает авторитет. Пока мы так общались, подошли к калитке.
– Вот здесь я живу, – остановилась моя спутница. И хотя шли мы быстро, подгонял мороз, согреться нам так и не пришлось. Я сильно продрог, а ноги и руки совсем окоченели. Что же касается девушки, то только самолюбие и характер не позволяли ей уж если не расплакаться от холода, то только что не броситься со всех окоченевших ног в тёплый свой домашний уют.
Через несколько дней после встречи Фёдора со своей он насмешничал надо мной, что девушка на меня очень обиделась.
– Телёнок какой-то, не согрел ни словом, ни телом.
Впоследствии выяснилось, что эту тираду Федька вспомнил из своей юношеской практики. Какого же мнения обо мне была та девушка, я так и не узнал, потому что мы больше не встретились. Я же себе дал зарок, по наивности, конечно: зима не есть время для «амуров».
Глава 15. Общее житие
Библейский Адам был первый человек на Земле. Библейский Адам был самый одинокий человек на Земле. У Адама, первого человека на Земле, было всё для жизни на Земле. Питался Адам фруктами и травами, которые произрастали в саду Эдемском. Нужды в одежде не было, так как тепло было круглый земной год. Страдал ли Адам от одиночества? От недостатка общения с себе подобными? Впрочем, о себе подобных Адам даже не подразумевал, так как фантазировать не умел.
Его Эго и тело, данные ему Творцом, так роскошно уютно устроились в Эдеме, что ничего другого желать не приходилось. Напрасно некоторые умники богословы пытаются через Библию насаждать догмы, что Адам круто загоревал от одиночества. И это тогда, когда вокруг всё твоё, не нужно ни с кем ничем делиться, а насчёт недостатка общения, тут выходит полный вздор: постоянное прямое общение с самим Творцом! Всё человечество от начала своего появления на Земле и до сих пор только что и может, как мечтать об этом. Здесь разворот с другой стороны.
Не трудно представить, как ребёнок, научившийся ходить и говорить, терзает своих родителей, других близких, нянечек своими дотошными вопросами: почему, как, куда, отчего, зачем? А так как говорится: у Бога и других забот много, то и изготовил Вседержитель Адаму, из его же ребра, существо противоположного пола – Еву. И, увидев, как они стали обалтывать уши друг другу, порадовался и сказал: это хорошо! Так, раз и навсегда, на Земле закончилось одиночество. Теперь даже монах-затворник или заключённый в одноместное узилище не могут себя считать вполне одинокими, так как вокруг много людей.
Так иногда рассуждал я ночной порой, когда не спалось, лёжа на кровати, мягко покачиваясь на панцирной сетке матраса под мерное похрапывание троих моих сокомнатников. Немаловажно для каждого живущего на Земле – взаимоотношения с другими людьми, не говоря уж о взаимосвязи с близкими по духу. А уж что говорить об обязующих родственных связях. Но все эти взаимоотношения, взаимосвязи являются необходимыми и, стало быть, навязываемые, если не этикетом, то правилами общежития.
Такое понятие, как дружба, выходит за эти рамки, хотя бы потому, что там имеет место быть добрая воля. Дружбы по принуждению – не бывает. Насколько эти вопросы волновали моих сверстников, не берусь судить. Многие из них сбивались в компании, клялись в дружбе, чтобы через непродолжительное время уж если не стать заклятыми врагами, то, как они выражались: «терпеть друг друга ненавидели». Так жизнь тасует колоду судеб, житейский миксер постоянно взбалтывает, чтобы не было отстоя, но увеличивает муть, без которой в этом процессе не обойтись.
Я вырос в многодетной семье, так что коммуникабельности и толерантности мне занимать не приходилось. Почти бесконфликтно уживался с товарищами по комнате, общежитию, учёбе, каких-то особых дружеских отношений не заводил. То ли нужды в них не было, а может, и не предполагал, что такие могут существовать. По склонности моего интеллекта я был гуманитарий, практическая же сторона: учёба, товарищи – имела вектор технический. Такие науки, как литература, история, любезные мне, для очень многих были обузой, нисколько не лучше исторического материализма.
По сравнению с этими науками, даже сопромат имел какое-то прикладное значение. Имелась речёвка: сдашь сопромат – можешь жениться. Как-то, завершая семестр, группа писала итоговое сочинение. Я выбрал, как мне показалось, более абстрактную тему, что-то там про «луч в тёмном царстве», по мотивам «Грозы» Островского, полагая на этом поле острую полемику с надоевшими мне критиками Белинскими, Герценами, короче, провентилировать свежим воздухом это затхлое тёмное царство. Я придвинул к себе листок черновика, прицелился авторучкой и… Немного времени оставалось до конца сочинения, а листок так и не обзавёлся никакой мыслью, оправленной в предложение.
Ребята уже начали сдавать свои «труды». Тогда я отложил в сторону черновик, придвинул к себе бланк чистовика и быстро, в каком-то непонятном мне состоянии, что-то написал. Время поджимало. Даже не проверив, вложил туда чистый черновик и сдал свою работу. В своей группе я считался каллиграфом и грамотеем. Преподаватели подсовывали мне оформлять свои журналы. После этого злосчастного сочинения я понял, что авторитет мой на этом поприще раз и навсегда рухнул.
Прошло несколько дней. Наша группа собралась возле аудитории и ожидала преподавателя. К нам подошёл паренёк и назвал мою фамилию. Ему указали на меня. Он подошёл и стал рассказывать, что у них в группе только что закончился разбор сочинений. Он не договорил, так как появился преподаватель и мы гурьбой направились в аудиторию. В чём было дело, я понял на следующий день, когда у нас был урок литературы и разбирали сочинения. Зоя Николаевна методично, не спеша, отмеривала «каждой сестре по серьгам». Двоек, правда, не было, но у многих троек, как шпаги, торчали минусы. Были и «натянутые» четвёрки. Я припомнил рассказ Чехова, где извозчик извинительно говорил своей лошади, что они, мол, сегодня на овёс не наездили, только на сено. Вот и я даже на двойку не написал.
Закончив разбор сочинений группы, Зоя Николаевна взяла в руки листок, отложенный в сторону, и стала читать. Что-то в этом тексте мне показалось знакомым. Дело в том, что, когда мне пришлось лихорадочно писать сочинение, я был в каком-то полуобморочном состоянии и поэтому плохо запомнил, что я написал экспромтом. Зоя Николаевна даже раскраснелась от чтения:
– Эту работу я оценила в пять баллов.
Группа загудела: Кто это написал?
Зоя Николаевна произнесла мою фамилию. Группа зааплодировала. В моей жизни потом часто так бывало. Подумаешь, что сделал что-то не так, не хорошо, мучаешься, переживаешь, а потом окажется всё наоборот.
А бывает иногда совершенно по-другому: что-то сделаешь, радуешься, ждёшь уж если не наград, то похвал, а в итоге выставят тебя в дурном положении. Выяснилось потом, что Зоя Николаевна читала моё сочинение во всех группах курса. Паренёк, который ко мне подходил, очевидно, хотел мне об этом рассказать и заодно познакомиться.
Глава 16. Дружба по интересам
Я поднимался к себе на второй этаж общежития, впереди меня по лестнице медленно поднимались двое и о чём-то разговаривали. Один из них был из нашей группы, а второй был как раз тот, который подходил ко мне насчёт сочинения.
Обгоняя их, я услышал тему их беседы. Парень из нашей группы что-то горячо рассказывал, и я услышал слова: «кастильское мыло и Капервуд», обгоняя их, заметил: у Драйзера героя звали Фрэнк Каупервуд. Ребятки рассмеялись. Дима, паренёк из нашей группы, как-то особенно насмешливо, а его товарищ – благодушно, доброжелательно. Ребята оказались из одного уральского города. Тут мы познакомились. Мой новый знакомый учился на нашем курсе, на электромеханическом отделении. Звали его Владимир Иванович. Фамилия его была не Немирович-Данченко, как у знаменитого режиссёра, но всё же вызывала слышавших её всевозможные ассоциации.
Впрочем, полностью это произносилось так: Владимир Иванович Пьянков. Оправдывал ли мой новый знакомый, впоследствии ставший моим другом, свою фамилию: по общему признанию его близких товарищей – вполне. В шумной компании он пил наравне со всеми, но пьяным никогда не был, только глаза немного краснели.
А вот другой пример: после обильных возлияний, застольных друзей утром навещал тягомотный тошнотворный бодун, который не позволял оторвать голову от подушки. И вот, в этот критический момент, на пороге появлялся Пьянков, успевший сходить в магазин за похмельным снадобьем. При виде бутылки водки, которую он извлекал из кармана, головы страдальцев ныряли глубоко под подушки.
Пьянков же, налив похмельную дозу в стакан, обносил всех, предлагая принять «лекарство». Когда никто из лежащих не в силах был принять «микстуру» из-за полного отвращения к ней, Пьянков произносил какой-нибудь многозначительный короткий тост, примерно в таком духе: давай, ребята, выпьем без закуски, закусывая нижнюю губу. После чего отпивал глоток водки, но не проглатывал его сразу, сначала он водочкой прополаскивал рот, затем горло, издавая клокочущие звуки, и уж потом проглатывал с таким умилением, наслаждением, что на просиявшем лице появлялась довольная улыбка.
Всё это время страдальцы не отрывали от него глаз, смотрели на него как кролики на удава. Пьянков наливал новую порцию, подносил опять, но уж на этот раз отказа не было. Пьянков очень хорошо относился к индейцам, много читал про них, и мне иногда казалось, что в его жилах присутствует индейская кровь, может, небольшой процент, но всё же. И всё-таки я здесь не случайно привёл фамилию Немировича-Данченко, знаменитого устроителя театра, режиссёра. У Владимира Ивановича Пьянкова была тайная генеральная мечта, цель, можно сказать, в жизни, стать режиссёром.
У меня тоже присутствовало подобное стремление, правда, к литературе, но это так близко, так родственно: театр, литература, и вот это сразу же сдружило нас. То, что Пьянков не ринулся сразу овладевать театральным искусством, как я литературой, говорило о его рассудительности и, отчасти, играла роль материальная сторона. Здоровый практицизм является фундаментом духовного развития. Что может быть разумнее, как получить специальность, повысить образование, с жизнью не только познакомиться, но и повертеться в её омуте, иногда даже очень глубоком и оттого опасном. И вот всё это время цель жизни, как путеводная звезда, должна постоянно сиять впереди, заставляя постоянно трудиться, напрягаться, для достижения её.
Глава 17. Гитара плакала
Как-то на новогоднем бал-маскараде мне предложили костюм ковбоя. Правда, костюм этот состоял из сомбреро, сделанного из ватмана, да из яркой косынки-галстука. Придумщиком этого номера был Станислав Логинов, или, как его именовали, просто Стасик, или Стае. В группе должны были быть три ковбоя: Стасик с гитарой и двое подпевал. Но с одним из ковбоев что-то приключилось, то ли он «обезножел» после лишнего стаканчика, то ли постеснялся проявить свой вокал.
Я не заставил себя уговаривать, и вскоре наша троица, покачиваясь, под гитару горланила:
Хорошо в степи скакать, Свежим воздухом дышать, Лучше прерий в мире места не найти, Если солнце не печёт, И лошадка не трясёт, И пивные попадаются в пути…Таким образом мы получили полный букет успеха от своих почитателей. Нам это так понравилось, что мы продолжили это гуляние в общежитии и прогуляли всю новогоднюю ночь. Долго продолжать такое гуляние не позволяло стеснение в средствах, денежных, разумеется.
Общежитие опустело, все разъехались по домам, благо эти дома были не так далеко. Оставшихся в общежитии было немного: я, Стасик как круглый сирота да ещё несколько ребят, которым дом не улыбался из-за большой отдалённости. Подогревать продолжение праздника решили перцовкой, из-за её доступности. А для лихости решили наливать полный стакан «Перцовки» и выпивать её через трубочку пульверизатора, без передышки, причём наклонившись над стаканом, который стоял на столе. Гусарский аршин, из-за своей легковесности, попросту отдыхает по сравнению с придуманной нами экзекуцией.
Стае, как и многие в то время, был гитарист-самоучка. Эти пресловутые «три аккорда». В арсенале у него был небольшой репертуар очень популярных в то время песенок, а его негромкий, задушевный голос очень хорошо передавал настроение этих шлягеров. Треньканье Стаса на гитаре, видимо, не очень устраивало его однокомнатников, так что я очень кстати оказался почти единственным и благодарным слушателем. Моё внимание к его творчеству стимулировало расширение его репертуара, улучшало технику игры на семиструнной гитаре, которую он впоследствии долго и тщательно реконструировал, в итоге получилась у него классическая, строгая на вид гитара с глубоким мелодичным звуком.
Стае, сам составивший клей, кокетливо насмешничал над собой: сам Амати такого клея не смог бы составить. До сих пор я ностальгирую по тем задушевным концертам Станислава Логинова.
Глава 18. Что такое бар
На этот вопрос, кому его ни задай, сразу же ответят: это такое место, где наливают. А вот и не совсем так. Я в то время знал, что бар – это режущая часть врубовой машины или угольного комбайна. Эта часть, быстро вращаясь, колет, рубит, откалывает уголь, отделяя его от пласта. Как мне повезло с Пьянковым насчёт театра и литературы, а с Логиновым – с его песенным репертуаром, мне так же повезло и с технической частью, необходимой для моей специальности.
Эдик Ивченко, уже имевший специальность машиниста врубовой машины, организовал кружок по практическому изучению горных машин. В обширной полуподвальной лаборатории имелось несколько типов машин, серийно выпускаемых для горной промышленности. Одно дело пройти с преподавателем во время занятий с группой, где преподаватель, стуча указкой по корпусу машины, комментировал: это угольный комбайн, а вот это врубовая машина. Они созданы, чтобы облегчить труд шахтёра, частично заменив его ручной, опасный, тяжёлый труд. Эдику и нам, его кружковцам, этого было явно недостаточно.
И мы, под предводительством Ивченко, засучив рукава, разбирали, собирали, меняли резцы в клеваках. Посредством лебёдки и троса, учились перемещать эти агрегаты вправо, влево, вперёд, назад. Я тогда даже не предполагал, как это мне пригодится в очень недалёком будущем, на практике. Во время этих наших лабораторных занятий наш неофициальный руководитель Эдуард Ивченко чудесно преображался. Так уж ему нравились эти неуклюжие, грубые на вид машины, что эта страсть передавалась и нам, делая нас его добровольными, благодарными энтузиастами.
Одно дело – нарисованный на плакатах редуктор, схемы электрической цепи, другое дело – когда ты сам, своими руками, чёрными от масла, переберёшь валы, шестерёнки, которые значительно тяжелее, чем в наручных часах. После такого не очень лёгкого занятия подолгу сидели на разогретых корпусах машин, покуривали, благо что это ещё не в шахте, где курить было смерти подобно, и не только одному курильщику. Эдик увлечённо, с присущим ему азартом, рассказывал, как он подрубал пласты своей врубовой машиной, которую он ласково называл «Машенькой».
Не всем обучающимся нужна была такая романтика. Многие, не стесняясь, признавались, что им лишь бы диплом, а там уж если не мамки-няньки, как в сказке, то дядюшки, папочки найдут им тёплое местечко, не связанное с подземными трудными, грозными и опасными работами. Примеров тому было великое множество. Поступает, используя блат, в медицинский институт, оканчивает его, а идёт работать на эстраду, пописывает зубоскальные скетчи, юморески, чтобы смешить этими пошлыми хохмами туповатого посетителя концертов. Мало того, они ещё презирают тех, кто не смог увернуться от шахт, мартенов, а то и от священного долга служить в армии.
Глава 19. А как обстоят дела…
А как же с боксом? Тренер, который так радушно, учитывая мои данные, принял меня в свою секцию, очевидно, не ошибся. Он быстро поставил мой удар, похвалив, что я не делал этого ранее, как глупые самоучки, что потом очень трудно поддаётся исправлению. Видя моё усердие и настырность на тренировках, он ненавязчиво корректировал мои упражнения советами по тактике и даже обозначал стратегию боя. Всё чаще давал мне в спарринге более опытных спортсменов, уже разрядников и имевших соревновательную практику. Я терпеливо сносил пропущенные удары, исповедуя пословицу: за одного битого двух небитых дают.
Зато и мои удачные удары радовали не только моего тренера, но и моего более опытного спарринг-партнёра. Это был негласный кодекс: радоваться не только своим успехам, но и успехам своего товарища. Я быстро наглел, а в спорте наглость – отнюдь не отрицательное явление. Так что тренер, посоветовавшись со «старичками», включил меня в команду на очередное соревнование. Означало это то, что я был приглашён на сборы, где уже были усиленные тренировки и соответственная кормёжка, за счёт ДСО. На время сборов и соревнований меня освободили от лекций, что вызвало зависть моих добрых товарищей.
Никогда в жизни я ещё так сытно, калорийно не питался. И хотя мышцы быстро наливались какой-то неукротимой силой, вес совершенно не увеличивался, иногда даже сползал вниз, грозя покинуть мою весовую категорию. А чтобы этого не случилось, на моей тарелке появлялись дополнительные куски мяса или какой-нибудь другой белковой еды. Я однажды услышал, как тренер, с кем-то разговаривая, посетовал: как бы не перегорел. Уж больно строптив, как «норовистый конь». Не трудно было догадаться, что речь шла обо мне. Остальные члены команды, достаточно опытные, уже «мастерились», знали себе цену и вели себя достаточно солидно.
Я в своей весовой категории был не единственным в команде. Впереди меня шёл более опытный, поднаторевший в соревнованиях, боксёр. Тренеры команд, участвующих в турнире, были давно знакомы, хорошо знали опытных или перспективных боксёров из других команд, намечали планы, в которых предусматривалось не мешать друг другу, если в этом нужды нет. Этакие «договорники». Многоопытные члены команд понимали ситуацию, да и тренер доверял им вполне и мог намекнуть что, с кем, как и когда. Неуправляемый процесс порождает хаос. Я, хотя и был членом команды, как бы даже полноценным, полноправным, но тем не менее моё участие в боях не было обязательным.
Всё зависело от желания тренера. Я ходил, смотрел все бои и стал лучше разбираться в тактике и стратегии – этих слагаемых поединка. Тренер поощрял такое моё поведение. Как-то раз, после очередного дня турнирных боёв, разборки их, тренер стал намечать: кто и с кем завтра будет проводить бой. Ребята знали своих противников, которых называл тренер, и кому-то нарочито завидовали, а кому-то сочувствовали. Потом тренер обратился к парню из моей весовой категории, у которого я был дублёром: как у тебя рука? Тот ответил: да ничего, побаливает, но «отмахаю» как-нибудь. Кто там мне корячится?
Тренер возразил: как-нибудь – не надо. Отдыхай. Меня на этот счёт уже врач предупредила. А подраться придётся… тут он назвал фамилию. Ребята выдохнули. О-о!!! тут тренер повернулся ко мне: как ты себя чувствуешь? Не смандражируешь, если я тебя заявлю?
Нервы у меня всегда были в порядке, и я с нарочитой обидою ответил: обижаете…
После разборки все ребята, забыв о своих завтрашних поединках, только что и занимались мной и моим соперником. О себе я знал и сам. А вот о противнике я не знал ничего. И тут мне представили самую полную картину о нём, видать, и тренер посоветовал им это сделать, подготовить меня.
Они растолковали мне, что это очень перспективный боксёр, что его тренер, да и не только, пророчит этому дарованию быструю карьеру, да и сам этот парень считает себя будущим великим чемпионом, знаменитостью. Видя, что меня это ничуть не испугало, ребята, отворачиваясь, говорили друг другу: ох и влетит ему завтра. Обычно новички, особенно перед боем, да ещё серьёзным боем, не спят ночь, волнуются и выходят на поединок на полусогнутых, трясущихся ногах, бледные, дунь на него – упадёт сразу. Я же спал как убитый, меня даже потряс мой товарищ, чтобы я вставал.
Провёл лёгкую тренировку, покушал с аппетитом и стал дожидаться вечернего, первого в моей жизни официального боя. Тут я вблизи увидел своего противника. Был он выше меня ростом, шире в плечах, красивого физического сложения. В нём было что-то самодовольное, пренебрежительное к окружающим. Посмотрев презрительно на меня, он, не стесняясь, сказал громко своему секунданту: ну я по этому фейсу не промахнусь. Этот малый даже рукопожатие как следует не сделал, а просто ткнул руку в мою сторону и отошёл в свой угол, чтобы по сигналу судьи начать сближаться. У него была правосторонняя стойка, что в то время было не частым явлением. Это делало её немного неудобной для классической общепринятой левосторонней стойки. Я не был обременён опытом ни правой, ни левой стойки. Этот красавец решил со мной долго не церемониться, да очевидно, он и знал, был предупреждён, с кем имеет дело. Так, лёгкая тренировка, отработка какого-нибудь удара, а то и серии. Его левая рука была нокаутирующая, и он её берёг для заключительного решающего удара. Работал только правой, как-то вяло и небрежно. Я, уже имевший приличный опыт в очень интенсивных тренировках, даже не сразу понял, что это всерьёз. Разве можно бой проводить так вальяжно, небрежно. Ну и засветил ему прямым длинным ударом между глаз.
Он от неожиданности чуть капу не проглотил. Но как раз в это время закончился первый раунд. Секундант мне посочувствовал: ну, теперь только держись, видать, разозлил ты его. Оно и правда, как только прозвучал сигнал, он вскочил и быстро почти подбежал ко мне. Я принял на себя его злые двоечки, троечки, но защита моя выдержала, не дрогнула, не пропустила ни одного солидного удара, хотя он применил свою нокаутирующую левую. Я даже несколько раз огрызнулся, очень точными и, видать, болезненными ударами. Так закончился второй раунд. «А ты молодец, я даже не ожидал», – сказал мне секундант. Красиво держишься.
Третий раунд мой соперник начал не очень рьяно. Даже стал немного осторожничать. Прошла половина третьего раунда, когда противник, посчитав, что он подготовил нокаутирующий удар, нанёс его. Я знал, что такой удар будет, и готовился к нему, и не просто готовился, а готовил и свой ответ. Я уклонился от ожидаемого удара, и именно в это мгновение он получил удар снизу, так называемый апперкот, тысячекратно мной отработанный на занятиях. Этот резкий, молниеносный удар даже мало кто заметил, но зато все увидели, как мой противник остановился, даже не покачнувшись, стал медленно оседать.
Даже судья не сразу сообразил дать мне приказ отойти. Я сам, не дожидаясь, отошёл. Судья отсчитал положенные десять секунд. Секундант и тренеры, которые уже выбежали на ринг, сразу подхватили своего, так и не пришедшего в себя, парня. Врач стал приводить его в чувство. Всё обошлось, но больше он на этом турнире не выступал. Тренер его поберёг, объясняя, что после такого тяжёлого нокаута надо поберечь парня, восстановить психологически. Меня тренер тоже больше не выпускал, а стал уже ставить первый номер моей категории, у которого рука сразу же перестала болеть. Тем не менее мне был присвоен разряд, при единодушном одобрении комиссии, так как этот случай впечатлил многих. Мой незадачливый в том бою противник стал впоследствии довольно известным боксёром.
Глава 20. Вторая практика
Первая производственная практика для многих оказалась удачной. Для многих, но не для всех. Мой очень хороший приятель, игру на гармонике которого я часто ходил слушать, погиб в шахте почти на глазах своих братьев, которые там работали. И именно по их просьбе мой приятель и взял туда направление на практику. Мне до сих пор кажется, что душа его достойна ангельского чина, но это находится только во власти нашего Творца. Парню из нашей группы, с очень красивой фамилией Лебедев, оторвало нос. Подобные травмы, увечья, а то и смертельный исход не так уж и редки. Негативные эмоции от таких случаев преодолеваются или просто подавляются, иначе не сможешь нормально жить и работать в подземных условиях. А тут юность, весна, и сама практика начиналась в мае, рассчитанная на два месяца, после чего должны быть летние каникулы, конечно, если повезёт, не отвернётся удача.
Небольшая шахта, на которую я получил направление, находилась недалеко от города, куда я добрался рейсовым автобусом. В первой половине дня я уже был в отделе кадров этой шахты. Разумеется, я уже не согласился бы работать машинистом транспортёра, да и мне никто не собирался в отделе кадров предлагать эту детскую забаву. И я получил очень высокую должность ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя) в комбайновой лаве.
Угольный пласт был горизонтальный, средней мощности. Уголь каменный, малой зольности, не коксующийся. Работать я стал в бригаде навалоотбойщиков. Отбойщиком был комбайн, модель которого я хорошо изучил под руководством Эдика. Навальщики двигались за комбайном и грузили уголь на транспортёр. Тут, как шутили, ума не надо: бери больше, кидай дальше, то есть на транспортёр. Но я скоро убедился, что эта пословица здесь не вполне подходит. Мощность пласта доходила до полутора метров, не более, стало быть разогнуться в полный рост не представлялось возможным, если только ты не карлик. Поэтому навальщики работали, стоя на коленях.
Кто не пробовал, стоя на коленях, огромной лопатой поддевать тяжёлый уголь и бросать на транспортёр, лучше пускай и не пробует. Я в этом убедился сразу же после первой своей смены. По физической силе, натренированности моих мышц, я вряд ли мог уступать своим сотрудникам, но у них уже образовалась ловкость, выносливость и, что немаловажно, терпение. При становлении этих качеств у многих образовывался на коленях бурсит, этакая жидко-мозолистая подушечка. Сильных болезненных ощущений она почти не вызывала, немного уродовала вид ног, что иногда приходилось прибегать к хирургическим, можно сказать косметическим, вмешательствам.
Новичку от невыносимой боли в коленях так и хотелось продолжить работу, поменяв колени на мягкое место. Но в такой позе продуктивно работать было невозможно и просто позорно. Я стал присматриваться, к каким ухищрениям прибегали опытные работяги, как они себя иногда называли. Кто-то пришивал к коленям брезентовых штанов робы прорезиненные куски от ленты транспортёра. Я, после нескольких мучительных смен, тоже изощрился, на что пустил свою старую футболку, сделав из её рукавов наколенники. А из самой футболки изготовил толстые прокладки. Переодеваясь в спецовку, я сначала натягивал на колени это своё изобретение.
Если бы мощность пласта была чуть повыше, не мешала кровля, я бы попрыгал от радости, когда, встав на колени, я не ощутил боли. Я стал так шустро и мощно наваливать уголь, что кое-кто из бригады покосился в мою сторону: что это со студентом? Как раз в это время, согнувшись, по лаве проходил начальник участка. Увидев меня, он крикнул: зайдёшь в кассу, я там тебе аванс выписал. Бригада завистливо прореагировала. Дело в том, что аванс у них был давно, а до получки, как у них называли – додача, было ещё дней немеряно.
– Слушай, студент, а ты в промсоюзе не состоишь?
– Это в смысле в профсоюзе? Конечно, состою, – ответил я.
– Э-э, нет, парень, это совершенно другой союз.
– И что из этого следует? – насторожился я.
– А следует то, что ты должен вступить в промсоюз.
– А как это сделать? Писать заявление или что кому?
– Да, вот именно что? Ты ж сегодня богатенький будешь, вот и организуй нам поляночку.
– Да, да, – поддержали все.
– Сейчас солнышко снежок согнало, травушка подсохла, радуйся. Смена уже подходила к концу, лаву уже зачищали.
– Иди-ка ты, студент, в кассу, а то пока то да сё и останешься ты сегодня без денег.
– Хорошо, – сказал я и пошёл не по стволу, а вылез по ходку прямо на поверхность.
Светило майское солнышко, я стоял возле комбината, ожидая свою бригаду, с новенькими банкнотами в кармане. Новыми во всех отношениях, так как эти деньги были послереформенные, только что отпечатанные, и имели значительно меньший формат, по сравнению со старыми «портянками», как их называли. Номиналы их были на целый порядок, или, как говорят, на целый ноль меньше, и только монеты до пяти копеек сохранились и подорожали в десять раз. Правда, никто от этого сильно не разбогател, но забавляла эта игра. Так что в этот день я вступил в промсоюз, угостил ребят своей бригады и те остались очень довольные.
Правда, когда они получили додачу, собрали деньги и старались мне их сунуть – мы же твои… тогда… Я сделал обиженный вид, обругал их, как и полагается, на их же языке, чтоб отстали.
Пошла вторая неделя моей практики, и как-то перед сменой, зайдя в «нарядную», я увидел, как машинист комбайна Капитонов о чём-то оживлённо, даже сердито разговаривал с начальником участка. По пути в лаву мне объяснили, что Капитонов просится в отпуск, с семьёй хочет съездить, погреться на солнце, но так как он один машинист на всю лаву, то начальник ему резонно отвечает: а я что, должен лаву закрыть? Людей без зарплаты оставить?
– А что, действительно, – сказал я, – почему они не найдут ещё машиниста на смену Капитонову?
– В том-то и дело, что в лаву люди идут, а на комбайн желающих нет. Учебный пункт никак не может никого уговорить учиться на машиниста комбайна. Сложное это дело. Это не то что бери больше, кидай дальше. Тут ума не надо.
Пришли в лаву. Комбайн стоял на исходной позиции. Капитонов с помощником ушли ставить стойку, к которой крепится блок лебёдки. Бригада, пользуясь случаем, тут же прилегла отдохнуть. Возле комбайна лежала сумка с резцами и ключ. Я осмотрел бар, увидел многие стёртые резцы, взял ключ и начал менять их. Чтобы надёжнее закрепить резцы, я ложился на почву и ногой нажимал на край ключа. Время от времени я прокручивал бар, чтобы поменять следующие резцы. Тогда я нажимал соответствующую кнопку на пульте, мотор взвизгивал, бар поворачивался. В этом положении меня и застал Капитонов. Ещё подходя, он грозно крикнул: ну кому тут делать нечего, кто тут балуется? Заметив кучку затупленных резцов, он понял. «Поменял резцы?»
Я ответил: «Сколько было – поменял». Он помолчал, а потом с какой-то надеждой спросил: а ты что, в комбайнах уже разбираешься? «Во всяком случае, эту модель я знаю неплохо».
– А вот корочки у тебя есть?
– А вот корочек у меня нет.
– Ну, ладно, посмотрим, – и сунул мне пульт.
– Вот, на, попробуй, поработай немного.
– Я взял пульт в руки, какое-то смущение или волнение было, но я его тщательно скрыл, включил бар, погонял его на разной скорости, потом включил лебёдку на самую малую подачу. Комбайн двинулся вперёд и впился в пласт. Гидравликой регулировал подъём бара, сообразуясь с мощностью пласта. Где уголь был чище, без примазки, там я немного увеличивал скорость подачи лебёдки. Где примазка на кровле, то есть порода была толще, то я снижал бар, обходя её, молотя только чистый уголь, оттого резцы стираются не так быстро. Порода их съедала моментально.
Капитонов находился рядом и заметил это. Он даже восхитился: ловко ты это примазку обходишь. Молодец. Он забрал у меня пульт и дальше поехал сам. Я же возвратился в бригаду к своей основной специализации: «бери больше, кидай дальше». Бригада пока работала за того парня, то есть за меня, но никто не возмутился, скорее наоборот: а наш-то, наш… и уже перестали меня с некоторой долей презрения называть студентом. А то как же, в промсоюз они меня уже приняли.
Прошло два-три дня, в лаве шла нормальная работа. Капитонов работал на комбайне, бригада грузила нарубленный уголь на транспортёр.
В это время в лаве появилось несколько человек, которые, пригибаясь, добежали до работающего комбайна и остановились. Комбайн тоже замолчал. Через некоторое время Капитонов подозвал меня. Он сунул мне в руки пульт: возьми, поработай. Я, не спеша, как умел, всё сделал как полагается, плавно переключал скорости, где надо, немного опускал бар, когда проходил примазку. Визитёры ползли рядом, внимательно наблюдая за моей работой. Потом подали мне сигнал, чтобы я остановил комбайн. Это, как оказалось, была специальная комиссия. В этой комиссии были: начальник участка, механик и директор учебного пункта.
Они задавали мне вопросы по профилю, на которые получали точные, достаточно квалифицированные ответы. Они ещё о чём-то переговорили и быстро ушли. Когда я пришёл на работу на следующий день, начальник участка отстранил меня от работы и отправил в учебный пункт. Я не стал расспрашивать: начальству виднее. В учебном пункте меня почти сразу пригласили в кабинет директора, где был он сам и его инспекторы. Сразу бросилось в глаза, что кисти правой руки у начальника не было. Мне предложили присесть и стали терзать вопросами. Сколько я проучился, какие практики были. Наконец вопросы иссякли. Я расписался в журналах, начальник вышел из-за стола, протянул мне удостоверение.
Для рукопожатия он подал левую руку и добродушно добавил, что ему правую лапу оторвало в шахте. Потом веселее добавил, что я им очень помог с подготовкой очень нужного специалиста для шахты и что это может сказаться на их премиальных. Тут он посмотрел на своих инспекторов, и те благожелательно пожелали мне удачи в работе. Да, я был очень удовлетворён таким делом, так как привезти после практики такое удостоверение – это большая удача, но всё равно больше всех радовался машинист комбайна Капитонов. Начальник участка ему тут же подписал полный отпуск.
По неписаному закону на последнюю смену перед отпуском шахтёр не выходит на работу. Я был обязан взять жетон Капитонова, опустить перед началом смены в «Табельной», а потом забрать в конце смены. Сам Капитонов в это время приготовил угощение для бригады. Во время застолья он посадил меня рядом с собой, и казалось, он во мне души не чаял.
С работой я справился вполне. Даже на две недели я переработал положенную мне практику, так как Капитонов прислал телеграмму и попросил об этом начальника. Я, как истый тимуровец, отказать, конечно, не смог. В самой работе было много специфики, но она была интересна только для меня да для участка, на котором я работал.
Я со своим свежим взглядом что-то предлагал, но, оказывается, дельное, так как это после некоторого обдумывания принималось к исполнению. Так как я ловко обходил бугры примазки на кровле, помимо того, что уменьшилась зольность, стало легче работать с углём, при его погрузке на транспортёр. Уголь ведь значительно легче породы. Да и лава прорубалась быстрее. Резцы меньше тупились, лава крепилась органным щитом, состоявшим из чугунных тумб. Между тумбами ставились кусты. Несколько стоек вплотную друг к другу. При усилении давления кровли они начинали потрескивать, обостряя тем самым внимание к этому грозному явлению.
Когда я стал работать машинистом комбайна, я как бы получил статус внештатного надзирателя за техникой безопасности. Я тщательно проверил состояние каждой из чугунных тумб и выявил негодность около десятка их, из-за почти полного износа. Об этом я назидательно сообщил начальнику участка. Тот, разумеется, согласился, хотя и с оговоркой: это приличных денег стоит. Но была ещё очень свежа память, когда на одной из ближайших шахт, аналогичной нашей, кровлю обрезало по самый забой, раздавив всю бригаду. Как выяснилось, причиной была экономия на этих чугунных тумбах, срок эксплуатации которых давно вышел.
Глава 21. Стильная музыка
Приполярная весна была в самом разгаре. Днём и даже по вечерам окна общежития были широко раскрыты. Из одного из этих окон громко звучала музыка. Это крутил свои пласты Рудик Меньщиков, с которым я познакомился и даже подружился. Пластинки он доставал по тем временам самые стильные. Среди них были латиноамериканские самбы, румбы, была неплохая коллекция немецких шлягеров. Ещё бы, в жилах у Рудольфа текла немецкая кровь. Сам Рудик об этом старался умалчивать, но быстро понял, что со мной можно откровенничать на любые темы. Мало того, у Рудика был свой передатчик, этакая радиостанция, небольшого радиуса действия. Тогда очень многие увлекались подобным радиолюбительством, что повышало коммуникабельность среди «продвинутых». Были среди этого сообщества и радиолюбительницы. Настроит Рудик свою волну, общается с кем-нибудь, транслирует свои музыкальные шедевры, а его товарищ по комнате, Виктор, по прозвищу «Конь», следит за улицей, и как только появляется решётка радиолокатора, предупреждённый Рудик тут же сматывает удочки, то есть разбирает свою радиоустановку.
По сути это было очень несложное устройство, состоящее из нескольких ламп, проводков, диодов, сопротивлений, нужных в несложной схеме. Все эти части быстро рассовывались по чемоданам, и Рудик удовлетворённо хмыкал: лови Кондрата. Правда, были случаи, когда службистам и удавалось накрыть какого-нибудь зазевавшегося радиолюбителя. Это немудрящее оборудование изымалось органами. И бедолага, лишённый своей привязанности, как пьяница стаканчика, тут же принимался хлопотать об устройстве нового, подчас даже более мощного устройства. И очень скоро воскресал новый-старый хулиган эфира, как их обзывали блюстители порядка.
Вокруг Рудика группировались парни, компания, в которую и я включился. В этом шахтёрском посёлке быть одному было не только не модно, но и не безопасно. Вокруг были не только шахты, но и лагеря заключённых. После освобождения бывшие заключённые не сразу уезжали на прежние места, а оставались здесь, кто поработать на шахте, а кто и финкой, лишь бы обзавестись деньгами. Вечерами ходили на «танцульки», иначе это мероприятие и не назовёшь. Называли их ещё «пятачками», эти огороженные дощатые площадки, на которых имелась будка, где крутили пластинки, и на которых время от времени, как аттракционы, вспыхивали драки. Хорошо, если с обычным мордобитием, хуже, когда в ход шли ножи и особенно опасные шила, или заточки.
Моё пребывание на практике совпало с разгулом белых ночей. Когда совпадали смены, мы с Рудиком ходили к чепку, где продавалось вино и пиво. Укладывались на травушку на одеяльце, принесённое с собой, и, щурясь на солнце, общались на интересующие нас темы, промачивая запылённые угольной пылью глотки рябиной на коньяке и жиденьким местным пивком.
Стал я ещё и свидетелем забастовки шахтёров, в которой участвовала и наша бригада. А причина была в том, что на несколько дней задержали зарплату. Шахтёры, как полагается, оделись в спецовку, взяли свои «самоспасатели» и светильники, опустили свои жетоны, но в шахту не пошли, а улеглись на траву в скверике возле комбината.
Об этом сразу же доложили в комбинат «КОСПАШ-уголь», и его управляющий срочно прибыл для выяснения причины забастовки. Он переговорил с шахтёрами и пообещал, что, когда они поднимутся на-гора, в кассе их будут ждать деньги. Его знали и ему поверили. Когда первая смена поднималась на-гора, вторая, спускаясь, порадовала их: деньги дают, мы уже получили. Была уже первая половина июля, когда я, сдав с рук на руки комбайн Капитонову, отдохнувшему до неузнаваемости, распрощавшись с новыми друзьями-товарищами, покинул это место, нигде не отмеченное на обычных картах, географических, разумеется. Для меня наступило время, когда я мог впервые в своей жизни позволить ни в чём не отказывать себе.
В Москве в магазине «Мода», куда я зашёл уверенный в себе, а скорее всего в своём кошельке, я среди серенького ширпотреба узрел яркий костюм с претенциозным названием «фестивальный». Штаны этого набора были ярко-синие, клетчатый пиджачок имел общий тон коричневый, но с очень яркими клетками, различных интенсивных цветов. Третья деталь этого сокровища была представлена «рубашкой-расписухой», от которой у меня даже зарябило в глазах и немножко закружилась голова. Ещё бы, это всё после чёрно-серого ландшафта угольных копей.
Я, недолго раздумывая, изъявил желание тут же приобрести это сокровище, которое в этом магазине было представлено в единственном экземпляре. Магазин, очевидно, не спешил расставаться с этой своей яркой рекламой, но шуршание новеньких кредиток, моё многообещающее подмигивание совратило продавцов, и этот товар перешёл в мои руки.
Меня проводили к портному, который быстро подогнал длину брюк, перешил пуговицы по моему скелету, уж очень был я строен, если не сказать худ, в то время.
Глава 22. «Духовное образование»
У человека, как существа разумного, имеется две ипостаси, как и у всех животных, населяющих землю, – это физическая ипостась и психическая ипостась. Но есть ещё третья ипостась, дарованная человеку, это ипостась духовная, предоставляющая творческие возможности. Это и есть так называемое богоподобие человека. Прямо, косвенно или опосредованно, на развитие духовной ипостаси оказывала в основном влияние религия. Именно религия в той или иной форме отделила мир материальный, скоропортящийся и постоянно меняющийся, от мира духовного, вечного.
В то же время в этот материальный мир вцепились марксисты-коммунисты и, где только имели власть, стали уничтожать мир духовный. Измерить количество разрушенного ими духовного мира они не могли, так как этот мир – духовный и оттого невидимый. Пришлось измерять свои разрушительные деяния по материальным культовым сооружениям, а также по уничтоженным работникам этого культа. Результатом явилось духовное обнищание народа, целой огромной нации. Особенно это пагубно отразилось на подрастающих поколениях.
Первое, что сделали суетливые большевики, полностью захватив власть в России, – объявили войну безграмотности, о чём хвастливо протрубили на весь мир. Так братоубийственную гражданскую войну сменила «благородная культурная» революция. Не сразу, да и не всеми впоследствии, было замечено коварство этой «культурной революции». Маскироваться самим и маскировать свои деяния профессиональным подпольщикам, революционерам, было естественно, привычно. Эти международные бродяжки понимали, что влиять на умы многочисленного народа, к тому же расселённого на огромнейшей территории, не хватит никаких властных структур и тем более агитаторов.
И ежу понятно, что оставлять свободомыслие в головах разношёрстного народа – это очень даже чревато. А что проще: научи народ складывать по буквам слова да и подсовывай ему свои прокламации, газеты, с примитивной, своекорыстной информацией, и в результате на несколько порядков увеличишь количество добровольных, добросовестных, бесплатных агитаторов. Правда, это только одна сторона дела. Вторая сторона была также добротно продумана и очень даже организованно реализована.
Старые российские средства массовой информации, такие как газеты и журналы, были ликвидированы, закрыты. На их месте появились новые СМИ, революционные, очень скороспелые, полуграмотные, если не сказать, что примитивные, как рисунок дикаря. То же самое случилось и с книгопечатанием. Старые издания книг были изъяты повсеместно. Огромную часть их, особенно с религиозным содержанием, сожгли, испепелили, но особенно раритетные, ценные издания были заключены в грязные, полуподвальные архивные книгохранилища, или, как их брезгливо называли, «книгогноилища». Допуск в эти хранилища разрешался только по специальным пропускам и только ограниченному, доверенному кругу лиц. «Просветлённому» грамотностью простому народу было даже неизвестно о существовании таких книг, уж не говоря об их содержании.
Так что несколько поколений молодых людей даже не подразумевали о наличии «Ветхого Завета», «Нового Завета» – этих основ духовности, фундамента гуманного общества. Отказ от христианства, его культуры быстро привёл к морально-этической деградации молодёжи. Большевистская идеология была бы похожа на бандитскую идеологию, если бы не была таковой на самом деле. Постоянные доносы, поиски врагов везде и всюду и беспощадная их ликвидация с особой жестокостью. Верхом цинизма была ширма, творимая продажными деятелями от искусства, воспевающими этот «пир во время чумы».
Глава 23. Нам стоит клуб построить
В нашем учебном заведении было всё: просторные светлые аудитории с кафедрами, мастерские, лаборатории, оснащённые почти современным оборудованием, огромный, с претензией спортивный зал. Не было только… да чего там, самой малости, не было клуба. Его, правда, строили наши предшественники и добились немалых результатов, а вот честь достраивать и осваивать его, то есть обживать, досталась нашему курсу. Трудились мы на этом поприще без всяких отвлечений от занятий, только в своё свободное, как бы личное время. Никаких, разумеется, оплат за этот труд не было предусмотрено ни учебной программой, ни практическими занятиями, обычное дело на благо.
Работали аккуратно, как и полагается, без травм, только одному пареньку нашей группы, Толику Ряхову, который поленился сделать два шага, чтобы отключить растворомешалку, немного размяло пальцы ноги, которую он сунул в шестерёнки крутящейся растворомешалки. Прав был преподаватель по черчению, который посоветовал ему прибавить к его фамилии «не», чтобы он был Неряхов, это соответствовало бы истине. Так или иначе, но к какой-то дате клуб был открыт.
Какое участие в строительстве клуба принимал Владимир Пьянков, я не знаю, не помню, но в самой организации работы клуба проявились его незаурядные организаторские способности, не будет преувеличением сказать – его талант. Он разыскал ребят, владеющих музыкальными инструментами, и привлёк их в небольшой джаз-оркестр. А так как сам музыкальной грамотой не владел, нашёл и музыкального руководителя, такого, как и он сам, энтузиаста. Через небольшой промежуток времени существования нового клуба был подготовлен большой концерт самодеятельности под руководством Владимира Пьянкова, где на себя он взял весь конферанс. Участвовал и я в некоторых номерах парного конферанса, очень модного в то время на эстраде. Не знаю, кто придумал или подсказал применение технического новшества: микрофона. Обычно в залах весь расчёт делался на акустику этого зала, поэтому без сильного громкого голоса на эстраде было делать нечего. Микрофон помогал реализовывать вокальные данные голосам не сильным, но задушевным, этаким камерным. Концертировали в самодеятельности только одни ребята, контингент студентов был чисто мужской. Правда, была одна девушка, принятая на обучение, в виде исключения, как воспитанница детского дома. Она и училась в одной группе с Пьянковым. Для самодеятельности она оказалась полностью непригодной, несмотря на все попытки Пьянкова использовать её в разных амплуа эстрады, разумеется. Но Пьянков и тут нашёлся.
Во дворцах культуры на танцевальных вечерах часто разыгрывались призы на лучшее исполнение песни и танца, или другое какое проявление таланта. Вот такую исполнительницу Пьянков приглашал на танец и лукаво интриговал обеспечить ей успех при проявлении её таланта, при исполнении песен с использованием микрофона. Таким образом, Пьянков разбавил мужской коллектив женским вокалом.
Глава 24. Интересные люди
Так уж испокон века повелось в России, что энергичные люди, люди инициативные, креативные и свободолюбивые, заряженные романтизмом, авантюризмом, не согласные с властными структурами, покидали свои насиженные места и двигались в основном на восток, в места, по их мнению, совершенно не обжитые, дикие. Двигались они так до Урала, потом, перевалив через Камень Уральский, двигались дальше, по бескрайним просторам Сибири и так до самого Дальнего Востока, до берегов Тихого океана. Немного напружинившись, преодолели и этот Тихий океан и уткнулись в побережье Американского континента, где и уютно устроились в Калифорнии и на приполярной Аляске.
Но это всё, что касается добровольных покорителей материков, континентов, а ведь было ещё немало людей незаурядных, которые чем-то не угодили властям, и те упекали их на места ещё недостаточно обжитые, уж если не на вечное поселение, то на очень долгие времена. Все эти переселения, изгнания были детским лепетом по сравнению с огромными массовыми перемещениями обобранного обездоленного народа во времена большевицкого апартеида. Так что нередко можно было в этих медвежьих углах встретить представителей столичных элит.
Как-то раз, в морозную зимнюю пору, утром, едва рассвело, зашёл Пьянков и предложил мне прогуляться. Я знал, что Пьянков просто так прогуливаться не любил. В этом приглашении предполагалось что-то интересное. Раздумывать не пришлось, и вскоре уральский мороз надирал нос и уши. По пути Пьянков объяснил, что мы идём в гости к актёру местного драматического театра Евгению Соколову и что он работал в Московском художественном театре, где ему отказали от места из-за скандала, связанного с амурными делами со своей поклонницей, которая оказалась женой высокопоставленного лица. Его не только изгнали из Московского театра, но запретили работать даже в областных театрах.
Мы зашли в «Гастроном». Наскребли в карманах мелочи на бутылку водки. В гости, тем более к актёрам, с пустыми руками не ходят. Мы поднялись на второй этаж деревянного двухэтажного общежития для работников театра. Пьянков постучал в нужную дверь и на приятный баритон: заходи, открывая дверь, продекламировал, пропел: здравствуй, здравствуй, друг наш дорогой. Здравствуй, здравствуй, выходи, встречай. Под это приветствие хозяин приподнялся, сел в кровати.
– Я смотрю, этот день хорошо начинается, – радушно приветствовал нас актёр и, когда Пьянков поставил на столик бутылку водки, добавил: – и, кажется, не ошибся.
Насколько я мог судить, это действительно был, как в старину говорили, «столичная штучка». Фактура положительная. Само поведение, манеры, хорошо поставленный голос, немного наигранная снисходительная эрудированность. Я обратил внимание на расставленные вдоль стены картины, по запаху краски было ясно – недавно нарисованные. Заметив моё внимание к живописи, автор этих шедевров стал оправдываться: носил их вчера на базарчик, хотел пристроить в хорошие руки, так тот, кто смыслит что-то в этом, – не платёжеспособен. Потом, обратив внимание на бутылку, одиноко стоявшую на столе, оживился: сейчас закусочку организуем.
Порылся в чём-то, где-то, вынул алюминиевую мисочку и вышел за дверь. В комнату через непродолжительное время он вернулся с мисочкой, наполненной с горкой квашеной капустой.
– Вот, капустки раздобыл у соседей, они люди запасливые, заготовили целую кадку капусты на зиму. Я полагаю: «от большого немножко – не воровство, а делёжка».
Хотя пили небольшими дозами, растягивали удовольствие, всё-таки бутылка опустела. Кто по сусекам, а мы по карманам, так или иначе, собрали ещё на одну спутницу дружеской беседы. Зимний день, а особенно уральский приполярный, короче воробьиного клювика. Хотя за окном вечер свои брови насупил, времени было относительно мало, чуть больше послеобеденного летнего.
Уютная посиделка постоянно оживлялась монологами из различных спектаклей в исполнении Евгения Соколова. Когда очередная бутылка, исполнив свой реквием, звякнув, исчезла со стола, хозяин встал и начал собираться.
– Сегодня праздник, а у меня очень много хороших добрых знакомых. Вы даже не представляете, ребята, как они будут рады, когда мы явимся к ним в гости.
Так оно и случилось. Едва мы вваливались в чей-нибудь домашний уют, как там начиналось повышенное оживление. Соколов своим звучным голосом объяснялся: не мог не посетить Вас в этот праздничный вечер. А это мои друзья – будущие актёры. Евгений, разумеется, знал, куда можно наносить визиты.
В домах, где мы побывали в тот вечер, было полно всего. От закусок ломились столы, а выпивки было хоть залейся. За столом не было нужды показывать свои таланты, даже актёру Евгению Соколову, а уж нам с Пьянковым некогда было дух перевести, рта раскрыть, как только для очередного стаканчика да порции закуски. А тут ещё, пока мы переходили от дома к дому, свежий морозный воздух отрезвлял, приводил почти в норму, и мы опять были готовы к очередному весёлому, сытному застолью.
Глава 25. Лекторий
Новый руководитель партии и правительства, организовавший «оттепель», несколько изменил ход пропагандистской деятельности. Примитивизм старой сталинской пропаганды был очевиден, новые веяния требовали и новых подходов, так что старые лекторы, поднаторевшие в сталинских догматах, не сразу смогли перестроить своё профессиональное сознание при сложившихся обстоятельствах. Атак как в основном эти кадры были достаточно пожилого возраста, их массово отправляли на заслуженный отдых. В то же время обойтись без этой пропаганды было никак нельзя. Руководящая большевистская партия дала указания: организовать новые лектории, с привлечением свежих кадров.
По мнению Зои Николаевны, у меня была очень хорошо развита письменная речь, но потом, как оказалось, и устная была на приличной высоте. После небольшого собеседования со мной, меня направили в горком комсомола, где я был должен специализироваться на срочно организованных лекторских курсах. В небольшом зале горкома комсомола будущих молодых лекторов напутствовали представители горкома партии. Эти новые партийцы старались держаться демократичнее, даже как-то заискивающе. После краткого напутствия всех попросили подойти к длинной веренице столов, на которой лежали стопки сброшюрованных лекций на разные темы. Всё это варево, очевидно, делалось в спешке, уж если их оформление было неряшливо, то говорить об их содержании без насмешек было нельзя.
Один из бывших лекторов-ветеранов достал из своего обширного портфеля образцы лекций, иллюстрируя тем ничтожество новоизготовленных. Тем не менее неискушённые в лекторском искусстве новички быстро разобрали скреплённые листочки лекций с понравившимися им темами и, после небольших консультаций, начали расходиться. Я, вкратце ознакомившись с содержанием нескольких лекций, ничего интересного для себя не обнаружил, о чём тут же объявил организаторам нового направления в лекторском искусстве.
Совсем осмелев, я решительно добавил: если раньше чуть ли не по приговору суда, с дубинкой загоняли на лекции, на которых даже хорошо выспавшиеся люди задрёмывали, то на лекции вот с таким скучным содержанием, и я показал на листки одной из них, ситуация будет ещё хуже. Хотя куда уж хуже. Один из организаторов начал оправдываться: организовать лекторскую работу по-новому – указание получили, а вот когда поступят лекции с новыми материалами, ничего пока не известно. Тут вступил в разговор представитель из горкома партии: я вот смотрю, ты товарищ достаточно компетентный в этом вопросе, так почему бы тебе самому не взяться и не написать то, что ты считаешь приемлемым.
Я ответил, что попробовать можно, но я сейчас учусь и живу в общежитии, так что работа по написанию докладов и лекций для меня очень затруднительна.
Партийцы переглянулись: с вашим учебным руководством вопрос утрясём, а работать вы будете в городской библиотеке, куда мы пошлём отношение и где вам будут созданы нормальные условия для работы. Честно говоря, я не ожидал такого развития событий и даже смутился. Заметив это, они подбодрили: ничего, ничего – дерзай, а мы во всём тебе поможем. Я наведался в библиотеку и предъявил молоденькой библиотекарше письмо от горкома партии.
Та пробежала глазами этот документ и, взяв его, ушла: я сейчас, к заведующей. Вернувшись, она деловито спросила: что вас интересует, что вам подобрать?
Я, не стесняясь, рассказал, что сам не знаю, что мне нужно и что мне нужно подобрать. Она, кажется, всё поняла и повела меня по каким-то закоулкам, спустились по лестнице вниз и, наконец, подошли к двери, обитой металлом. Дверь была тяжела, и я с большим трудом открыл её. Это было большое полуподвальное помещение, сплошь уставленное стеллажами, имевшими между собой очень узкие проходы. Возле полуподвального окна находился стол, стул, а на столе стояла настольная лампа и лежала стопка бумаги.
– Если устроит – работать можно здесь, – сказала она, положив на стол ключ.
– Уходя, нужно закрыть дверь. Правда, она очень тяжёлая.
– Ничего, справлюсь, – успокоил я.
Когда девушка ушла, я осмотрелся. То, что я увидел, можно было назвать книгохранилищем, архивом, запасником, а точнее, это был закрытый фонд библиотеки. Простым читателям библиотека предлагала процеженные через сито большевистской цензуры книги, журналы, газеты. Нетрудно было представить, насколько эти общедоступные книги уступали богатству закрытого фонда.
Здесь работала аксиома: человек, владеющий информацией, – имеет преимущество. Мне это стало понятно, когда я изрядно переворошил стеллажи закрытого фонда.
Впоследствии я даже не мог представить себе своего мировоззрения, не помоги мне случай стать обладателем этой информации. Обладая незаурядной памятью, я как губка впитывал всё, что могло меня заинтересовать. А интересно было почти всё. Из духовной литературы я освоил в первую очередь «Добротолюбие». Узнал, что такое Афонский свет и его практическое извлечение, «Таинства святых отцов церкви», ознакомился с программами «Каменщиков» – масонов.
Ознакомившись с индуизмом, понял, какое влияние оно оказало на творчество и даже душу Льва Николаевича Толстого. Оттуда появилось это направление «непротивление злу насилием». Уж если не сотни, то десятки терминов, доселе мне неизвестных, я не только узнал, но и понял их глубинное значение. Почти каждый термин обозначал какую-нибудь школу, течение, науку. Насытил повышенный интерес своего возраста о взаимоотношении полов. Очень много откровений было на эту тему почерпнуто у индусов, китайцев. Достаточно добросовестно, академично, глубинно вторглась европейская цивилизация в психологию, современную философию и уж, кажется, не оставила никаких тайн в биологии, особенно человека.
Время от времени я присаживался к столу, включал лампу и выписывал цитаты, особенно те, которые изобиловали не очень ходовой в быту терминологией. Я не предполагал, как долго может продолжаться моя работа в библиотеке по сбору материалов для лекций, как вдруг меня пригласили на семинар лекторов. Проводили его те же организаторы пропаганды, новой, якобы. На них тут же посыпались жалобы от молодых лекторов. Они сетовали, что народ очень неохотно тянется на их лекции. Прочитаешь лекцию, спрашиваешь: какие у вас будут вопросы? Вопросов нет, и всех людей как ветром сдуло.
– А у тебя как дела? – обратился ко мне райкомовец. – Получается что-нибудь?
Я положил перед ним приличную стопку исписанной мной бумаги и сказал, что я ещё до конца не оформил, но здесь есть материал на несколько лекций.
– А ты мог бы что-нибудь показать из этих своих работ?
– Кому? – переспросил я.
– Да вот собравшимся лекторам, прямо сейчас. Рассаживайтесь, товарищи.
Я встал на трибуну для докладчика. Из зальчика тут же посыпались предложения и советы.
– Давай, только коротко.
Председательствующий поддержал их: Да так, ненадолго, конспективно. И посмотрел на часы. Я начал читать лекцию. Я, конечно, не был опытным лектором, который задаст тему «Есть ли жизнь на Марсе», поинтригует положенное на лекцию время. Все ждут, вдруг сейчас откроет тайну этот лектор, всезнающий, но так ничего не узнав, расходятся, досадуя, что зря потеряли время.
Посчитав, что этого будет достаточно, я остановился, спросил: будут ли какие вопросы? И внимательно посмотрел на своих слушателей.
Было такое ощущение, что я их загипнотизировал. У них были широко открыты глаза и полуоткрыты рты. Не слыша больше моего голоса, они зашевелились, оживились:
– О! Уже почти два часа прошло…
– Я, честно признаться, впервые такое слышал…
– Вот поэтому на наши лекции так плохо и ходят, что там ничего нового нет.
– Да я сам когда читаю лекцию, меня самого тошнит от такой пошлятины…
Вот такой резонанс получился от моего выступления, или лекции. Председательствующий увидел перед собой стопку моих работ и спросил: как же ты читал, если твои лекции здесь лежат?
– А зачем мне читать, если я и так всё помню, – похвастался я.
– Ну, ладно, я твои работы забираю, мы дооформим их сами.
Он знал, что из центра на периферию ринулась огромная лавина всевозможной агитационно-пропагандистской литературы, прилаженной к новому руководству.
Вскоре этот «лысый кукурузник» нанёс сильнейший удар по религии, то есть по храмам Божьим, церквам, восстанавливаться которым не воспрепятствовал даже Сталин.
Глава 26. Театр в нашем клубе
Существовали в то время заочные народные университеты с многочисленными факультетами. Кто желает – не ленись, учись, постигай. Пьянков таким способом заочно окончил первое отделение по художественному чтению. И уже постигал науку на режиссёрском отделении. Там он доучился до того, что с него стали требовать практические контрольные работы. Он уже руководил самодеятельностью, а теперь организовал театр, с присущей ему деловитой хваткой, энергией, собрал труппу и предложил поставить пьесу «Цыганы».
Было понятно, что Пьянков сценарий этого пушкинского произведения приготовил заранее. Исполнителей на эти роли он подбирал зряче, как говорится – по амплуа. Примером мог служить Фролов, которому тут же присвоили кличку Фрол. Он был невысок ростом, неказист, но плечист и сутуловат. Пьянков даже пошутил: ты можешь играть старика-цыгана даже без грима. Тебе даже перевоплощаться не потребуется. Фрол это пропустил мимо ушей. Ему очень понравилась представившаяся возможность актёрствовать. На мужские роли, на массовки кандидатур было хоть отбавляй. Но где было найти особу женского пола, а ещё на роль самой Земфиры, вот тут у Пьянкова проявился не только талант, но и гений.
Когда основной состав труппы собрался для распределения ролей, Пьянков, конечно же, заранее определившийся, назначил на главную роль Алеко – меня. Когда вся труппа одобрила его решение, он подошёл к девушке, стоявшей тихонько в сторонке, взял её за руку и подвёл её ко мне.
– А вот тебе и Земфира, прошу любить и жаловать.
– А в случае чего – и зарезать, – посоветовал кто-то, знавший поэму Пушкина.
В то время я был светловолосый, белокожий, голубоглазый. Земфира была чёрненькая, стройная, тоненькая, с тёмными глазами. Казалось, что Пушкин именно с неё рисовал свой поэтический образ цыганки. Ребята при ней как-то притихли, стали вести себя строже.
Когда мы с Пьянковым проводили Земфиру домой и пошли в общежитие, я спросил: где взял? Пьянков предупредил меня: ты только не пугайся, не смущайся. Это дочь главного режиссёра театра. Зовут её Галя, в этом году она оканчивает школу.
– Делово, – похвалил я Пьянкова.
– А то как же: реквизиты, бутафория, нужные консультации по ходу пьесы…
– А мы что? Каждый раз после репетиции будем провожать ей домой? – полюбопытствовал я.
– Не беспокойся. Это она только сегодня одна пришла, вернее не одна, а со мной. Потом она будет приходить со своими подружками, которым это занятие тоже очень нравится.
Начались долгие увлекательные репетиции. Пьянков превратился в такого крутого режиссёра, что сам Немирович-Данченко, его кумир, мог позавидовать его энергии. Много сил он потратил на мой вступительный монолог, с которым я обращался к Земфире. Он, как пыль из запылённого фрака, выбивал из меня нарочитость, наигранность, добивался от меня «моего» голоса.
Многие заступались за меня: «Да ладно, Пьяный, чего ты придираешься? Нормально сказал, даже сама Земфира довольна».
– А я не верю, – подражая Станиславскому, капризничал Пьянков, да так, что мне уже и самому стало казаться, что я это делаю не так как нужно.
Несмотря на достаточно молодой возраст, голос у меня был громкий, близкий к баритону, дикция была отменная. Сам Пьянков постоянно интересовался этим. Побушевав, Пьянков приказывал: монолог Алеко. И я, как-то отстранённо от текста, начинал:
Что шум веселий городских? Где нет любви, там нет веселий. А девы… как ты лучше их И без нарядов дорогих, Без жемчугов, без ожерелий! Не изменись, мой нежный друг! А я… одно моё желанье С тобой делить любовь, досуг И добровольное изгнанье!Тут даже цыган, отец Земфиры, не выдерживал:
– Ну, какого хрена ещё надо?
Пьянков его обрывал: ты уж грей на вешнем солнце свою остывающую кровь, а сюда не лезь со своими советами.
Были уже анонсированы сроки премьеры нашей пьесы. С каждой репетицией Пьянков мрачнел. Он уже почти не ругался, не сердился, сидел в центре зала, смотрел и слушал, как мы запинаемся, спотыкаемся. Кто-нибудь тщательно забывал вызубренную роль, кто-то выходил невпопад, не в свой черёд, хотя на предыдущей репетиции отлично это делал.
– Кавардак какой-то несуразный, – негромко реагировал наш режиссёр.
Ни шатко ни валко прошла генеральная репетиция, на которой присутствовала Зоя Николаевна. Ещё бы, это ведь была дань её любимому предмету – литературе. После репетиции Зоя Николаевна побеседовала с Пьянковым, отчего он стал более спокойным, уверенным в себе и в своей работе. Вдень премьеры клуб был не просто переполнен, он был наполнен до краёв. Да и как было не возгордиться: совсем недавно появился новый клуб, появился джаз, а с ним и самодеятельная эстрада. И вот теперь – свой театр! Городские девочки так и льнули к нашим ребятам.
И вот началось. Раздвинулся занавес. На ярко освещенную сцену Земфира вывела Алеко. Пьянков перемещался за кулисами, и его почти не было видно. Он очень легко, ненавязчиво что-то советовал, корректировал, хотя нужды в этом совсем не было. Репетиции сделали своё дело.
Старик цыган обращался к залу с какой-то затаённой тоской:
Я крепко спал, Заря блеснула, И, бросив маленькую дочь, Ушла за ними Мариула…Я, отвечая ему, медленно подходил к самой рампе. Её огоньки снизу отражались в моих глазах, делая их искрящимися и даже зловещими:
Когда бы я над бездной моря Застал бы спящего врага, Клянусь, и тут моя нога Не пощадила бы злодея, Я в бездны моря, не бледнея, Его б и спящего толкнул, И долго мне его паденья Смешон и сладок был бы гул.И вот финал. Почти экспромт: подружки поднимают Земфиру, её цыган-любовник сам бойко вскакивает. В одно мгновение ока вся сцена заполняется участниками.
Ах уж эти творческие находки режиссёра Пьянкова! Все участники исполняют стилизованную разудалую цыганскую песню, создают шумовой эффект кто во что горазд. Кто-то стучит в бубен, Алеко тренькает на гитаре.
Триумф полный.
Время идёт.
Часы тикают. Забывается безденежье, голодные дни, бессонные ночи…
Но вот такие мгновения, как звёздочки, светят в душе, согревают её.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ
Об авторе
Владимир Фомичёв родился в апреле 1941 года в деревне Приднепровье (неофициальное название «Тыкали») Краснинского района Смоленской области. Там же на Смоленщине в суровых условиях Великой Отечественной войны и послевоенного времени прошли первые годы жизни.
С раннего детства интересовался литературой, уже в четыре года научился читать и читал всё, что попадалось под руку. Юношеские годы прошли на Северном Урале, где окончил горнопромышленный техникум в городе Кизил. Работал горным мастером на шахте «Вторая капитальная».
Постоянно интересовался литературой, театром, писал сценарии для балов, праздничных вечеров. Заочно учился в Свердловском университете на факультете журналистики, окончил также заочные курсы иностранных языков (немецкий язык) и заочный факультет режиссёров.
В 1966 году покинул Северный Урал. Дальнейшая жизнь и работа проходит в Москве на АЗЛК, в Лужниках, в НИИ и др.
Литературное творчество привлекало на протяжении всей жизни, но первоначально писалось, что называется, «в стол». С развитием Интернета появилась возможность издания книг в электронном формате. Начиная с 2013 года издана авторская серия из одиннадцати книг под общим названием «50+ Мысли и чувства о жизни».
В настоящее время издаётся вторая мемуарная серия «Человек и история», где рассказывается о различных жизненных ситуациях, встречах с интересными людьми, переломных моментах в жизни автора на фоне истории страны. Первая книга из этой серии – «Послевоенное детство на Смоленщине», вторая – «Шахтёрские университеты» и «хрущёвская оттепель» на Северном Урале».








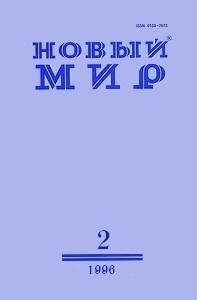
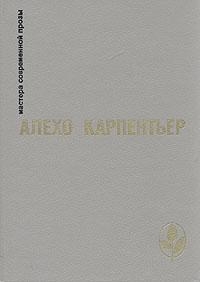
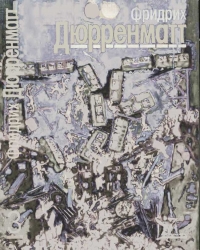
Комментарии к книге ««Шахтёрские университеты» и «хрущёвская оттепель» на Северном Урале», Владимир Тимофеевич Фомичев
Всего 0 комментариев