Владимир Фомичев Человек и история. Книга первая. Послевоенное детство на Смоленщине
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Предисловие
Я в грёзах, иногда, душой стремлюсь туда, В брегах крутых, где вьётся Днепр древний. Где детство и нужда, как вешняя вода, Ручьём бурлящим мчится вдоль деревни. Теченьем ветхих книг, к которым я приник, Впадал в миры волшебные, иные, А птичьей стаи крик, что в сердце мне проник, Зовёт в края далёкие и ныне. Я в радостных слезах хотел воспеть в стихах Поля, луга в канве лесных окраин. До темноты в глазах смотрел, как в небесах, Пасхальным утром солнышко играет. Там хлад рассветных рос, в июньский сенокос, С горячим потом единились пряно, А звон сталистых кос и хор младых берёз, С изока пеньем – партитура прямо. Жужжанье летних мух, без ветра знойный дух, Сорочий крик с украденным цыплёнком, Песок горяч и сух, лишь взбаламутят вдруг, Речную гладь резвящие мальчонки. Вечерняя пора сбирает у двора Жильцов усталых на ночлег обычный. И сон спешит не зря, ведь алая заря Поднимет рано всех на труд привычный. Уж скошены поля и вспахана земля, Дорога в школу через лес петляет, А в нём соблазна для, учёбу отдаля, Костёр брусники жарко полыхает. Всё ближе холода, вода под коркой льда, Взялись бетоном глинистые грязи. Пошла в дровах нужда и груз телег тогда С тяжёлым скрипом из лесу вылазит. Забрезжил свет в окне: О, выпал первый снег! И мать, ругаясь, печку затопляет. Всё чудно, как во сне, а руки, как в огне, Когда снежок в ладонях детских тает. О, русская зима! Красавица зима! — Овации срывает, как актриса. В сугробах вся сама, все в инее дома И ждут все новогоднего сюрприза. Как скользок санный путь и как морозом грудь С колючим кислородом распирает. И лес, ни как-нибудь, а посуровев чуть, Своих жильцов так снежно прикрывает. Вот детства эпилог: грядущий путь далёк, Всё радостно, что детство окружало, И счастлив, кто сберёг в чреде пустых тревог, Ту свечечку, что душу освещала.Глава первая. Место на глобусе
Сразу же можно начать с названия деревни, где по воле судьбы я родился и прожил свои детские годы. Но в этом рассказе будет отражена картина только нескольких дней, наиболее запомнившихся своей необычностью и яркостью.
Название деревни было действительно необычное, а в контексте названий окружающих деревень, так и вовсе выглядело неприличным. Называлась она «Тыкали». И никто из аборигенов не мог объяснить, откуда произошло это название. Мололи всякую чепуху: стычка тут была с Наполеоном, три кола, и прочая дурь. Из названий близлежащих деревень даже получилась шутка: «Козлы, Бежали, Глубоко, Тыкали». Много позже я объяснил топонимику названия своей деревни. Дело в том, что эта деревня находилась недалеко от границы Белоруссии, да и Украина была не за горами. Так что смесь языков была много диалектной, этакий коктейль. Поэтому, если перевести русское «ты когда» на «деревенский язык», как жители гордо называли свой диалект, то, как раз и получится название этой деревни – Тыкали. Жители деревни начинали свой диалог со слов: ты кали… (пойдёшь, будешь, купишь и так далее). Из-за этого их постоянного употребления: ты кали… и получилось название деревни – Тыкали (ты когда). Некоторые продвинутые молодые жители деревни, стесняясь этого названия, хотели поменять его на более благозвучное и даже преуспели в этом, но название «Приднепровье» прижилось только в документах, а название «Тыкали» запечатлелось в сознании местных жителей до скончания их века.
С исторической и географической точек зрения, местоположение этой деревни тоже крайне интересно. Расположена она на левом берегу Днепра, где он ещё не широк, как у Гоголя, но глубок, среди крутых и извилистых берегов вьётся. Смоленск находится в шестидесяти километрах выше по течению. А в двадцати километрах расположился город «Красный», где Наполеона крепко побили, провожая домой во Францию. Жители деревни слышали канонаду этого сражения. Маршал Ней, не доходя до этого побоища, навёл переправу по ещё тонкому льду на правый берег Днепра, недалеко от деревни и тем избежал разгрома.
А если ещё вглубь истории, то «путь из Варяг в Греки» пролегал по Днепру, мимо этой же деревни.
Глава вторая. Из тьмы на свет
Я родился перед второй Отечественной войной, причём, ровно за два месяца до её начала. Родители желали дать мне имя Михаил, в честь деда, но их уговорили назвать меня Владимиром, как бы по «новым советским святцам», в честь вождя. В церковных же святцах на этот день приходилось имя Вадим.
Первые два месяца моей жизни на этом свете, я проплакал. Правда, это мягко сказано, я не плакал – я орал! И ничто не могло меня успокоить: ни обилие молочной пищи, получаемой от матери, ни даже угроза отца, только что пришедшего с войны с Польшей и получившего там контузию, обещавшего взять меня за ножки и разбить мою голову об угол хаты.
Тайну моего плача я мог бы объяснить сам, но я ещё был не говорящий, а мой крик никто не понимал. Таким бывает, очевидно, глас вопиющего в пустыне. Тайна, которую я так настойчиво пытался открыть, была, если кратко: Вождь, бойся фюрера! А когда в четыре часа утра, земля застонала в чаду пожарищ начавшейся войны, я перестал плакать, но заголосили миллионы людей.
Отец мой, уходя на войну, наклонился над моей колыбелью и почти стихами, с рыданием в голосе, попрощался со мной: ухожу я от тебя, и не будешь ты знать меня. Он ушёл вместе с моими дядюшками и другими жителями деревни. Домой из них не вернулся никто!
А так как фронт есть фронт и на войне, как на войне, стало быть, это не то место, где можно лежать, сидеть, стоять, медленно ходить, неуверенно перебирая маленькими ножками. Здесь, чтобы выжить, или хотя бы повысить шансы на выживание, нужно бегать быстрее и хитрее самого зайца. К тому же, необходимо использовать всевозможные укрытия: окопы, траншеи, канавы, обычные ямы, заросшие кустарником овраги и, конечно лес. Во всяком случае, это то место, где можно разминуться с пулей, осколком бомбы или снаряда.
Деревня «Тыкали», как уже говорилось, располагалась в нескольких десятках метров от крутого берега Днепра. Метрах в двухстах на противоположной стороне проходила стратегическая железная дорога на запад: Москва-Орша-Минск и далее через Прибалтику, прямо на Берлин. От этой железной дороги, тоже через несколько сотен метров по болоту, пролегала тоже стратегическая, но уже шоссейная дорога Москва-Минск. В первые месяцы войны движение по этим транспортным артериям было, в основном, в восточном направлении. Почти друг за другом тянулись составы, окутанные чёрными и серыми дымами, а с шоссе слышался воющий лай покрышек машин, трущих асфальт. Небо постоянно гудело от крестоносных самолётов разной величины. Эти летали на восток и обратно. Изредка появлялись и самолёты с красными звёздами. Они торопливо и беспорядочно освобождались от своего груза, и бомбы летели куда попало, на территорию, где врагов ещё не было, но зато и вероятность быть сбитыми, тоже не существовала. Правда, один красный сокол оказался очень метким: он так ловко вывалил бомбу на хату Стефана, что на её месте оказалась огромная глубокая яма – наполняй водой и разводи карасей!
На лес, из-за его непроглядности, меньше всего сбрасывалось этого «добра». А уж в какую-нибудь хатку, сарайчик можно было прицелиться с самолёта, в отчёте же указать, что это был замаскированный танк, а оглобля телеги была его стволом.
На войну, в её общепринятом понимании, особенно в её первые месяцы, было мало похоже. Это было массовое убийство плохо вооруженных, а то и совсем безоружных людей. Да, именно, людей, так как назвать солдатом не вооруженного и не обмундированного человека – нельзя! Немцы были поражены не стойкостью и героизмом советских солдат, а огромным количеством пленных. Когда, о миллионах пленных, доложили фюреру, он задумался: а вдруг это какой-то тайный план этих хитрых азиатов? А если сдадутся сразу миллионов сто? А если прибавить китайских добровольцев? Их даже пересчитать не возможно! Да это же катастрофа! Тут вместо «блицкрига», эта масса в несколько недель поглотит тысячелетний рейх! Фюрер нервно захихикал, ломая руки!
Если по железной и шоссейной дорогам перемещались огромные количества людей и грузов, спасаясь от нашествия тевтонов, то через деревню торопливо проходили рассредоточенные, неорганизованные солдаты, по виду мало напоминавшие регулярную армию. Это были, скорее всего, те, которым вовсе не улыбалось попасть в плен. Да и солдатская одежда на многих из них, явно была с чужого плеча. Кто-то из жителей жалел их, кормил, а некоторые презирали, даже ненавидели, а то и просто не замечали. Потом всё затихло, как перед сильной грозой.
– Германец – силён, видишь, как прёт, – сказал мой дед Самуил, – он эту деревню перемешает с землёй вместе с нами, так что надо идти в лес и копать там землянки.
Кстати, лес отстоял от деревни всего в полукилометре. Сказано – сделано. Пошли строить землянки. Но не все. И как только пробежали последние советские солдатики, некоторые жители начали готовиться к встрече немцев. Достали из сундуков праздничные наряды, испекли каравай, выгнали самогон, поставили столы на дороге у крайней хаты, накрыли их и стали ждать гостей.
Вскоре подкатила на мотоциклах немецкая разведка. Увидев такой радушный приём, «освободители» быстро освободили столы от угощения, потискали разодетых «по случаю» баб и подъехали к колодцу с экзотическим журавлём, где раздевшись наголо, стали обливаться ледяной водой, истошно гогоча на всю деревню, привлекая внимание жительниц, истосковавшихся по мужской плоти, пусть даже немецкой.
После того, как прошли передовые части немцев, в деревню прикатили представители «новой власти», для организации «нового порядка». Довольно добродушный, приличного вида немец, к тому же хорошо говоривший по-русски, объяснил жителям деревни законы нового порядка, которые всем очень понравились. Немец в частности сказал, что если народ пожелает, то могут сохранить колхозы. А если нет, то могут распорядиться землёй и всем колхозным добром по своему усмотрению. Никакого налога, пока, во всяком случае, никому платить не надо, а продукты их будут покупаться за немецкие деньги по рыночным ценам.
– Отец родной! – возликовали жители деревни.
Тут же выбрали старосту из наиболее активных, радушно встречавших своих освободителей. Колхозы отринули единодушно, а землю и всё общее имущество быстро поделили. И даже через кондовую русскую недоверчивость и настороженность, проглядывала радость свободы: посеешь семечко и то твоё!
Осталось глубоко внедрённое в сознание, особенно русских людей, понятие «своих и врагов». Так выбранный народом, при немцах староста – это враг, немецкий холуй, а вот партизан – это герой, защитник, мститель. А так ли это? Дезертиры из той же «красной армии», прятавшиеся по лесам, как от немцев, так и от «советских», до поры, обирали окрестных жителей, забирая у них продовольствие, тёплую одежду, особенно искали самогон, не стеснялись отнимать последнее. А вот староста, радевший за избравшее его общество, знал, что его не помилуют «наши», если придут.
Так началась моя жизнь в оккупации или, как говорили: при немцах.
Глава третья. Ясельный период
Маленькие ножонки быстро бегали, а маленькие ручонки тянулись к взрослым игрушкам, к таким, как гранатки, пистолетики, автоматики, карабинчики, короче, недостатка в таких игрушечках не было, особенно в лесу. Собирают дети ягоды, грибы, заодно подбирают и понравившиеся вещицы, в виде бельгийского браунинга, полевой сумки, с её содержимым, указующим на воинскую принадлежность хозяина.
Очень нравились гранаты-лимонки и не только от их жизнерадостного жёлто-зелёного цвета, но и из-за своей лёгкости, а при взрыве, из-за отсутствия, противно жужжащих, осколков. Достаточно найти небольшую яму, устроиться в ней, и маленькими ручками ловко ввинтить детонатор, вытащить чеку и выбросить гранату, стараясь подальше от своей ямы! Съёжившись на дне ямы, лежать тихо несколько секунд после того, как встряхнуло землю, а уж потом, оценить дело рук своих и гранаты. Таким образом, получался выброс пресловутого адреналина, совершенно неизвестного в нежном возрасте. Подобные игры из-за их многочисленности и ординарности быстро забывались.
Помимо всего прочего, эта игровая практика давала некоторое образование.
Азы арифметики, а конкретно, её счёт, постигались через подсчёты патронов в рожках, дисках и обоймах. При взгляде на патрон или снаряд, сразу безошибочно определялся калибр. По воронкам в земле, могли сразу определить вес авиабомбы. Наземную и воздушную технику безошибочно различали по типам, сериям, названиям и прочим классификациям.
Тоже происходило с познанием грамматики, и не только русской, но и немецкой, так как они имели хождение примерно равное. Это были надписи на бортах машин, вещах, опознавательные знаки, а также листовки и газеты.
В сознании произошла переоценка привлекательности и достоинства сказочных, исторических и литературных героев. Взять, к примеру, рыцаря, богатыря в доспехах, на лошади, со щитом, с копьём. Ну что он мог бы сделать против карабина с обычной бронебойной пулей?! А индейцы, с их луками, стрелами, томагавками, против автоматной очереди? А их бесшумные лазутчики, против замаскированных противопехотных мин? А змей Горыныч, против зенитного пулемёта? – детский лепет!
Вот к примеру поэтический образчик из «Букваря» того времени:
Слышен рокот самолёта, В тёмном небе бродит кто-то: Если враг – он будет сбит, Если свой – пускай летит!Искусство, в частности живопись, была представлена самой природой, а её проникновение в душу, в сознание, было настолько велико и всеобъемлюще, что она своей благодатью оттесняла звериные чувства и инстинкты войны. Это то, что касается поэзии и живописи. Но, а как насчёт музыки? Она была основой тех страшных времён. Взять, к примеру, двух «Катюш»: одна из них выходила на крутой берег и от голоса которой, млели сердца бойцов. А вот от рыкающего голоса другой «Катюши», от её ослепительных дуг в ночных небесах, тут, как говориться, холодок бежал за ворот и мурашками бегал по спинам. А уж там, где рвались её снаряды, начинённые фосфором, этим предшественником напалма, биология спекалась с земным прахом.
Не нашлось композиторского гения, которой был бы в силах написать симфонию, отразившую вакханалию звуков войны. А ведь какой богатый материал! Очень низкие басы, исполнителями которых являлась канонада тяжёлых дальнобойных орудий, дополнялась баритонами тяжёлых самолётов бомбардировщиков, тенорами падающих бомб, свистом мин и дискантами, трассирующих, рикошетирующих пуль, напоминающих колокольчики воробьиных стаек. Здесь присутствовало всё: воспитание, обучение и духовное образование, как говорится, три в одном. Так что, пошлая тирада, о потерянном поколении времён войны, вряд ли справедлива. Это поколение – дорогого стоит!
Я жизнь земную начинал рыдая, Возможно, что в предчувствии беды… Виляя задом, девка молодая, Спешит к колодцу, чтоб набрать воды. Восходы дни меняли на закаты И я затих, вдруг сразу присмирев… И парня, провожая как солдата, Поникла девка, словно овдовев. Тряслось в схороне маленькое тельце, От взрывов и под канонадный вой… Убили парня – убивать умельцы, И девку, что спешила за водой!* * *
Что касается меня, то я мало вникал в эти мирские дела, ел, что дают и что мог усвоить, мой мало месячный организм. Не любил темноты и, чтобы не нарушать светомаскировки, мать меня укладывала под стол и накрывала его одеялом и туда же ставила зажжённую лампадку. Тогда самолётики, нагруженные «бомбочками», пролетали мимо, не беспокоя моё уединение.
Но война – есть война! Наши наступали, и немцы погнали всех жителей деревни на запад, но уже немецкий порядок был не тот, видать разладился на российском бездорожье. Так что, пока гнали, все и разбежались. Отогнали немцев. Пришли наши освободители.
Глава четвёртая. Детские игры
Мне было несколько лет, когда освободили Смоленщину и, стало быть, нашу деревню. Я уже уверенно ходил, даже бегал, если в том была нужда. Научился говорить и мог вести бесконечные беседы, было бы только с кем. А так как собеседников было трудно найти из-за их постоянной занятости делами, то приходилось общаться, с кем попало: с цыплятами, валенками и даже с дедовой собакой Жучкой, которая зарычала и ткнула своим носом в мой нос, когда я помешал ей лакать свою еду. Я завыл и решил больше с ней не играть, и не дружить.
Где-то в этом возрасте я уже познакомился с оружием. Нет, не с теми деревяшками, которые изображают ружьё или пистолет, а с самым настоящим.
В нашу хату пришёл на постой лейтенант. Он поставил свои вещи, повесил на крюк в стене кобуру и пошёл по своим делам. Какой подарок судьбы! Момент и я уже уединился на печи с офицерским пистолетом. А тут, как всегда некстати, вошла бабка и, увидев до зубов вооруженного внука, бросилась вон из хаты с криком: застрелился!
На крик появился лейтенант. Он вбежал как раз в тот момент, когда я пытался снять затвор, оказавшийся очень тугим для моих пальцев. Поняв, что меня могут сейчас разоружить, я попытался отпугнуть лейтенанта, направив на него его же оружие. Но этот нехороший дядя очень ловко подскочил ко мне и вырвал пистолет. Я поднял такой истошный вой, что лейтенант тут же выскочил из хаты, выстрелил, вытащил обойму и вернул мне оружие! Лучше всех ароматов на свете, был для меня в этот миг запах пороховой гари, только что выстрелившего пистолета!
Немцев отогнали, но не так далеко, чтобы жизнь была спокойной. После того, как жители деревни разбежались от незадачливой немецкой эвакуации и возвратились в свои хаты, мать перекрестилась на образ Николая Угодника: Слава тебе, Господи, что теперь мы дома и не надо никуда ехать! На эту её молитву я, глядя в потолок, как бы там что-то читая, проговорил: ещё поездим… и на телеге поездим и на машине. Мать обрушила весь гнев, смертельно уставшей женщины, на голову малолетнего прорицателя! Но через несколько дней подогнали машины, комендант кратко объяснил, что немцы могут прорвать нашу оборону…, погрузили и отвезли всех жителей подальше на восток. Были и ещё случаи, когда лепет малолетнего оракула сбывался, так что мать уже стала побаиваться моих прогнозов и заранее предлагала мне помолчать, если я не желаю получить незамедлительное вознаграждение в виде берёзового прутика.
Я же, как настоящий патриот, желал только одного: попасть на войну, так как не понимал, что нахожусь в самом пекле этой самой войны! В небе постоянно гудели самолёты, которые по принадлежности и типам чётко различал всякий порядочный фронтовой ребёнок. Лично мне оставалось выбрать только понравившийся род войск. Пехота мне нравилась мало из-за её обмундирования: какие-то портянки, обмотки и все солдаты какие-то замусоленные… нет, не смотрятся! Конечно: танки, машины, пушки, наконец! Тут и рассуждать не о чем…, но здесь пока научишься, так и война кончится. Понятно, что больше всех не хотели, чтобы война кончилась – дети, особенно те, кто уже научился ходить и говорить.
Всё же случай мне помог. Мы с матерью шли по лесной дороге, когда мимо нас проезжала кавалерия. Лошади одной масти, на которых сидели осанистые кавалеристы в красивых мундирах и высоких шапках. Я на миг раскрыл от восхищения рот, из которого тут же вырвалось громкое пожелание: хочу с вами на войну! Кавалеристы ехали неспешно, копыта их лошадей чавкали по торфяной грязи и на мой призыв сразу же откликнулись: ты подрасти немного. А то ты ещё очень мал. На помощь мне пришёл высоко спиленный пень: поставь меня на него, – попросил я мать: Ну, теперь видите, какой я большой! Теперь возьмёте меня на войну? Кавалерия проходила мимо меня, кто из всадников усмехался, кто отворачивался, вытирая слёзы, а один вытащил из сумки шапку-папаху и, подъехав ко мне, нахлобучил её мне на голову: будем ехать обратно, мы за тобой заедим, – успокоил он меня. Я долго пытал мать: когда за мной заедут, а та рассуждала, что фронт большой и пока они его весь объедут…
Однажды в нашу хату назначили на постой солдат из хозяйственного взвода. Их было трое, но сплошной интернационал: молдаванин, литовец и украинец. Занимались они починкой обуви и гордо себя величали: мы сапожных дел мастера. Босиком много не навоюешь! В нашей хате на постое и до этих сапожников, и после них, было немало постояльцев, но все они, получив свой паёк: концентраты там разные, консервы, высыпали это всё на общий стол и просили мать, чтобы она готовила на всех. Мать и готовила, иногда добавляя что-нибудь и из своих запасов.
Сапожники сразу же повели себя по-другому. Была зима и в хате стояла временная небольшая печка. Вот её и приватизировали новые постояльцы, так что доступ к ней был для нас детей закрыт. Им подвезли дрова, для топки печки и для сапожных нужд. Они отпиливали деревянные колёсики, сушили их на печке, кололи и получали деревянные гвозди. Шилом прокалывали подошву и вбивали туда этот деревянный гвоздь. Смачивали и сухой деревянный гвоздь, разбухая, не давал подошве какое-то время отвалиться. Правда, наряду с деревянными гвоздями, был и некоторый процент медных гвоздей, изготавливаемых из медной проволоки этими же умельцами.
Помимо изготовления гвоздей, сапожники использовали печку и для приготовления себе еды. Печка зимой для детей самый необходимый ареал обитания, которого нас лишили, загнав нас на печь большую, русскую. Мало того, эти остроумцы стали придумывать себе развлечения. Мать нам строго запрещала подходить к людям, когда они едят и особенно, просить чего-нибудь и это «вето» мы не нарушали. Сапожники же садились есть, демонстративно нарезали хлеб, намазывали его толстым слоем масла или американской тушёнкой. Затем начинали своё пиршество, преувеличенно чавкая, сопя и даже похрюкивая от сладострастия. Покончив с трапезой, они изощрялись новой проказой, на этот раз с доброй порцией садизма.
Они приманивали нашу кошку, засовывали её в голенище сапога и начинали закручивать край голенища. Вскоре воздух там кончался и кошка начинала задыхаться. Когда этот шутник отпускал завёрнутый край, кошка с диким рёвом, пробкой вылетала из голенища и долго безумно металась, вызывая истошный восторг у её мучителей. Все эти шуточки сапожников происходили, когда матери не было дома, а мы не привыкли жаловаться, так что ей не пришлось лишний раз расстраиваться.
Разрешилось это всё неожиданно и быстро. Было утро, когда мать ещё была дома. Один из сапожников, по фамилии Дзюба, потрясая своим вещмешком, подступил к матери: это ты украла наши продукты, твою мать! Этих своих ублюдков немецких кормить? Мать от неожиданности обомлела и не знала, о чём идёт речь. Она даже подумала, что может мы что натворили. Как раз в это время в хату вошёл начальник этого подразделения, делавший обход:
– Что за шум? – осведомился он.
– Вот она украла наши продукты. Я вчера только паёк на нас троих получил.
– Вы действительно взяли их продукты? – обратился начальник к матери.
– Я чужое никогда не беру, – с достоинством ответила мать, уже пришедшая в себя. Тогда он подошёл к куче вещей:
– Это ваши вещи? – и, не дожидаясь ответа, стал перебирать вещмешки:
– А это что? Чьё это? – начальник быстро развязал шнур вещмешка и высыпал на стол содержимое:
– Я ещё раз спрашиваю Вас, что это такое?
– Я наверно, по ошибке, взял не свой мешок, – забормотал Дзюба.
– Собирайся! – рявкнул на него начальник. Все растеряно молчали.
– Встать! Смирно! Быстро собрались и вон отсюда! Поживёте в палатке, вам не место среди людей. А Вы уж простите великодушно, хозяйка. Я боевой офицер, тут после ранения…, а продукты эти, Вы заберите – это Вам хоть какая компенсация за нанесённую обиду. Это не от них, это от армии, за беспокойство, – добавил он, предупреждая возражение матери.
И всё-таки война не обошла своей разрушительной силой нашу хату. Вернувшись после очередной и, кажется последней эвакуации, мы увидели, какой тут гость побывал и заодно порадовались, что нас в это время не было дома. Откуда прилетал этот посланник смерти: с самолёта, миномёта – неизвестно, но он был мал по своей разрушительной силе и только смог проткнуть соломенную крышу, потолок из тонких досок и взорвался в «красном углу», осыпав осколками всё, что попалось ему на пути в хате! Поэтому, когда мать это увидела, она только перекрестилась на оставшуюся висеть в целости икону Николая Угодника: Свят, Свят…
Глава пятая. Не тот уже немец
Уже не стала слышна канонада, которая несколько лет гремела с разной громкостью, то с запада, то с востока. А вот воздушные бои ещё случались над деревней. Вся деревня переживала, как наши маленькие, но очень юркие самолётики, вертелись вокруг больших крестоносных самолётов. Все болели за наших, так как побитых немцев уже никто не боялся и не уважал. В доказательство нашего превосходства, один большой немец задымил, завыл и потянул к земле, к лесу, к болоту. Из него тут же вывалилось несколько точек, превратившихся в парашютистов. Теперь жители деревни из зрителей превратились в дружный отряд по борьбе с немецкой авиацией, но уже в полевых условиях, куда и приземлилась эта авиация. Самолёт, правда, шлёпнулся в болото, а вот немецкие лётчики здесь, на поле, прямо возле деревни. Они подняли руки, гаркнули ординарный пароль: Гитлер капут! И протянули, желающим принять, своё оружие.
– Нет, не тот уже немец! – солидно рассуждали старики.
На восстановленных колхозных полях, были организованы «подсобные хозяйства» для фронта, где вместе с местным населением, трудились военные. Но это на полях, а вот в лесу под конвоем работали пленные немцы. Они пилили лес, возили его на лесопилку, а уж из пиломатериалов делали ящики для снарядов и всё прочее для нужд войны, которую они так незадачливо развязали. Ещё их пытались использовать на ремонте дорог. Ведь не зря же немцы, оправдываясь в своих поражениях, ссылались на две причины: мороз и бездорожье. Вот справляться с одной из этих причин и пришлось этим бедолагам. Просёлочные дороги и в самом деле малопроходимые в любое время года, а весной и осенью они совсем никакие. Колёсами машин выбивались глубокие колеи, так что машины ползли, почти цепляясь осями за землю, особенно американские с низким клиренсом. Исправлять ситуацию пригнали немцев. Эти специалисты напилили чурбаки по размеру колеи, уложили их и довольные, что справились с этой тяжёлой и донельзя грязной работой, стали наблюдать за результатом. По этому настилу сразу же двинулся, долго ждавший своей очереди на проезд, «Студебеккер»…, после его проезда раздался вопль отчаяния дорожных ремонтников: все их дрова были выдавлены из колеи и торчали, как противотанковые ежи!
Лагерь военнопленных немцев находился в лесу. Жили они в землянках, в которых было по их жалобам: дымно и…, тут немцы добавляли русское ругательство.
Как-то раз, возле нашей хаты остановилась машина с пленными, и пока охранник куда-то отлучился, один немец соскочил с машины и подбежал к нашему крыльцу. Он достал из кармана свёрток и затараторил на ломаном русском языке: мыло, мыло, картошка. Я ещё не был готов к торговым операциям, тем более к бартеру и сбегал за матерью. Немец повторил своё предложение и, отцепив от пояса котелок, протянул его матери. Та взяла котелок, сходила, насыпала в него картошку и протянула его немцу, а от протянутого свёртка с мылом, отказалась: сами мойтесь! С машины уже кричали немцу его друзья по несчастью, так как подходил охранник. Он обругал подбежавшего немца и помог тому залезть в кузов прикладом под зад. Но не все относились к этим военнопленным так жалостливо.
В деревне готовилась карательная операция по уничтожению немцев. Ясно, что операция готовилась в особо секретном режиме, а для её выполнения подбирались самые надёжные, самые смелые и отчаянные бойцы. Отбирал бойцов лично сам командир, которому было уже двенадцать лет! Его же гвардейцы были и того моложе. В вооружении недостатка не было, причём, всякого. Поля, овраги и особенно леса, прямо ломились от всевозможного стрелкового и не только, оружия. Ящики с толовыми шашками, гранатами, минами: стреляй – не хочу! И стреляли.
На берегу болота, в лесу, нашли миномёт и запас мин к нему. Была весна и лягушки, эти непуганые земноводные орали громче любого хора. Кому же это понравится, особенно, когда есть исправный миномёт! Начали посылать мины почти вертикально вверх, чтобы почувствовать прелесть настоящего боя. Мины, долетев до своей предельной высоты, возвращались назад с пронзительным свистом и, погрузившись в болото, громко лопались. Удивлённые лягушки на время затихали, чтобы возобновить свой концерт с новой силой. Состязание шло, пока не кончился запас мин. Ассортимент подобных развлечений был весьма велик и разнообразен.
К примеру: рыбу удочками или сетями никто не ловил, её глушили гранатами или шашками тола, потом собирали с лодки. Особой остроты в таком добывании рыбы не было, и изощрённый ребячий ум отыскивал более интересные варианты. Этакий двенадцатилетний снайпер, ложился на высоком крутом берегу Днепра с огромной для его фигуры винтовкой, вставлял патрон с разрывной пулей. Другой же малолетний боец или девчонка, бегали около самой воды и указывали ручонкой: куда стрелять. Раздавался выстрел, пуля разрывалась в воде и на поверхности появлялась рыба! Случалось, что пуля делала рикошет…, что же: на то она и война!
Так что, как видим, операция по уничтожению немцев, не была шуткой, её готовили профессионалы. Что из того, что малолетние, тут мышцы заменяют пороховые газы.
Для проведения операции выбрали время и место. Время назначили на утро, когда немцев повезут на работу, и чтобы было достаточно светло, а то в темноте и своего солдата-охранника можно было подстрелить. Место тоже выбрали не «без ума» а там, где лесная дорога делает крутой поворот. «Главнокомандующий» довёл свой план до своих армейцев: он даёт очередь из немецкого автомата над машиной с немцами, чтобы охрана, испугавшись, убежала или повалилась на землю, вот тогда-то и вступает в дело основная сила. План был настолько чётко разработан, что прошёл почти безукоризненно. Правда, двоих бойцов не пустили матери, предварительно отшлёпав их за какую-то провинность. Зато остальные были в очень воинственном состоянии и даже порадовались, что им больше достанется почестей за их отвагу.
Началась главная часть операции. Залегли в выбранном месте, приготовились, сняли свои «стволы» с предохранителей. Когда появилась машина, всё уже было готово. Как и предполагали, машина затормозила и тут же поверх голов немцев, просвистели пули, да к тому же ещё и трассирующие. Может быть и дальше пошло бы по намеченному плану, но у кого-то из атакующих «вояк» от восторга не выдержали нервы и раздавшееся писклявое «ура», провалило всё дело, так удачно начавшееся. Сержант, ехавший на подножке, сразу всё понял и с криком: Ах вы, мать вашу! Спрыгнул с подножки и сам бросился в контратаку. Малолетнее воинство очень даже резво отступило, даже можно сказать – панически бежало, побросав своё оружие.
Понимая, что подобные военные действия могут повториться, из охраны лагеря пришли в деревню представители, и долго объясняли мамашам и особенно малолетним воителям, что военнопленные – это уже не солдаты и их нельзя стрелять, что это сам Сталин запретил!
Глава шестая. Отголоски войны
О том, что война всё же закончилась, узнали от охранников лагеря военнопленных, у которых была рация. Они огласили лес такой неистовой стрельбой, но в которой не чувствовалось привычной боевой тревоги, так что жители сразу догадались, в чём дело! Все радовались концу войны, но у детей войны были свои понятия на этот счёт: почти все они остались без отцов, а плач матерей не добавлял причин для радости. К тому же, у них было спрятано много оружия, так что конец войны не входил в расчёты малолетних мстителей. Часто слышалось: кому война, а кому мать родна. Но это касалось только тех, кто что-то поимел от этой войны и не увечья, разумеется. На детях войны – война отыгралась по полной программе. Плохая пища, плохая одежда, полная бесконтрольность и забавы со смертоносными игрушками, как мины, гранаты всех систем и калибров, которые разрывали на куски и в прах детские тельца по одному и целыми группами. Голодно. Холодно. Тревожно. Бесприютно. И это в самые счастливые детские годы! До сих пор коробит душу: «счастливые детские годы…»
Стали открывать школы и первыми учениками этих после оккупационных школ, были ребята переростки. Пошла в школу и моя старшая сестра. А какие были учебники и учебные пособия! Для арифметики, для обучения «счёту», тут же нарезались палочки из ивовых прутьев, а один оригинал приспособил вместо палочек, обычные винтовочные патроны, чему никто не удивился: лишь бы считать научился, да выжил, чтобы ему этот счёт пригодился. Что же касается учебников, так «Букварь» выдавался один на несколько школьников. В свою очередь, принесла домой Букварь сестра и мать, закончив свои неотложные дела, стала ей помогать учить азбуку, с которой уже ознакомила учительница в школе и урок которой сестра успела тщательно забыть. Видно было, что эта премудрость её мало интересовала: вот что-нибудь испечь, сварить – пожалуйста, а буквы запоминать… Меня же этот процесс заинтересовал сразу, и я стал внимательно наблюдать за обучением. После незначительного времени обучения, сестра стала зевать и мать, обругав её, отправила спать. На этом и закончился первый урок, где я запомнил букву «З». Я в это время, считал себя вполне взрослым, да и было мне тогда уже четыре года и четыре месяца. После второго такого занятия матери с сестрой, я уже постиг все буквы алфавита и стал с большим удовольствием и интересом понимать, что если знакомые буквы одну за другой произнести, даже мысленно, «про себя», то получается: Ой, как интересно! Понятные слова: «мама мыла раму». Когда, ленивая на обучение грамоте, сестра оставила свои учебники, я ими завладел, не встретив возражений с её стороны. Несколько дней, если не часов, мне понадобилось, чтобы прочитать весь Букварь. Читал я тихо, «про себя», так что никому и в голову не пришло, что я научился читать, а сам я ещё не понимал, что то, что я делаю, и называется умением читать. Когда встречалось более сложное или непонятное слово, я его выговаривал вслух, но на это никто не обращал внимания: мало ли что там бормочет дитя. Ведь многие дети, взяв лист бумаги, подражают взрослым, что-то там бормочут.
Уже два года, как сестра училась в школе и научилась кое-какой грамоте. На меня, умеющего читать, никто не обращал внимания, что не мешало мне продолжать самообразование. Никаких книг, кроме учебников, в доме не было, да и я даже не догадывался об их существовании. Но зато Букварь и Родную речь я знал наизусть. Часто я голосом Лисы, как мне казалось, хвастался:
Терентий, Терентий, а я в городе была!
– Бу-бу-ла, так бу-бу-ла, – равнодушно отвечал с дерева Тетерев.
Или зловещим голосом цитировал:
Слышен рокот самолёта: В тёмном небе бродит кто-то! Если враг – он будет сбит, Если свой – пускай летит.Однажды мать отвела меня к деду, так как ей надо было отлучиться по делам. Дед не очень жаловал детей: будет лезть к его токарному станку, хватать острые инструменты…. Убедившись, что я веду себя вполне прилично, дед успокоился и стал точить свои ложки, плошки и прочие изделия, посвистывая на разные лады, подражая пению птиц. Я же нашёл газету и тоже стал заниматься своим интересным делом. Дед изредка поглядывал на тихого внука, ухмылялся: читает…, но его скепсис вскоре улетучился, когда он услышал от «мнимого» чтеца слово, которое в его малом возрасте он знать не должен. Дед подошёл, взял газету, нашёл то слово: ты что, читаешь? Я, разумеется, не понял вопроса и ответил, на всякий случай, отрицательно. Деда я побаивался. Дед достал из-за иконы «Псалтырь», раскрыл его: читай! Тут уж я сообразил, что надо делать. По обыкновению, я стал читать «про себя», но дед тут же приказал: читай вслух! Я стал читать вслух, но пропускал непонятные мне буквы, которые использовались до большевистской реформы. Где же были буквы мне знакомые, то я произносил слово чётко, даже с какой-то лихостью. Деду это понравилось, он понял, заодно, причину моих спотыканий при чтении.
Когда за мной зашла мать, дед её строго спросил: ты зачем так рано научила его читать? Мать даже растерялась: ты что, батя, тут старшая азбуку не может выучить…
Дед, с огромным чувством превосходства, как бы это была чисто его заслуга, произнёс: так вот, он у тебя – читает! Так я узнал, что я умею читать.
Матери, встревоженной словами деда, что меня так рано научили читать, моё рвение к познанию, очень не нравилось. Она часто приводила пример, как один человек очень много читал и «зачитался»! Его водили в церковь, ставили на колени и читали над ним «святое писание». Тогда психиатры и психологи не имели такого распространения и влияния. Тем не менее, я, пользуясь школьной атрибутикой сестры, научился писать карандашом и чернилами, и писал, не в пример ей, без клякс и помарок. Учебник «Арифметики» я тоже выучил наизусть, знал: сколько куда вливается, выливается, сколько и чего привёз купец, сколько продал, за сколько….
Когда мать с сестрой терзались над какой-нибудь задачкой, я не выдерживал и подсказывал им ответ. Конечно, кому это понравится!
На редкость эта послевоенная деревня была многочисленна за счёт своего малолетнего населения. Её даже стали называть «малый Китай». Шофера боялись ездить через деревню. Как только слышался шум подъезжающей к деревне машины, так из каждой хаты выбегали весьма шустрые детки и с криком бросались на машину. Они цеплялись за всё, что попало, их трясло, болтало, но они только радостно повизгивали, когда их обдавало грязью из-под колёс. Проехав деревню, шофёр поддавал газу и прокатившиеся «на халяву» детки, горохом ссыпались с машины. Проехав ещё немного, шофёр останавливал машину и осматривал её, а когда убеждался, что никого не задавил, крестился или облегчённо матерился. Да, возлюбили дети не только вооружение, но и всякую технику вообще. А техники всякой, как гражданской, так и военной, было вокруг – не меряно. За сараями стояли подбитые немецкие грузовики и их потихоньку растаскивали, если кому что приглянулось, а в хозяйстве, как говорили: и пулемёт пригодится.
Не избежал и я влияния технического прогресса. Я убедился, что без машины в деревне делать нечего. Я ползал, лазил по останкам бывших немецких машин и понял, что в них нет ничего сложного, что я и сам сделаю себе машину, лишь только соберу нужные части от неё. И стал собирать. Конечно, утащить карданный вал мне было не под силу, но и тех деталей, которые я мог унести, было предостаточно. Вскоре, возле хаты под окном, в садике, собралась приличная куча всевозможных деталей от автомобилей, были детали и от сбитого самолёта, кабина которого валялась неподалеку, и где мы часто играли. Кто-то забирался в кабину самолёта, а остальные бросали в неё камни, разные железные предметы. От такого обстрела стоял такой неимоверный грохот, что пилот долго не выдерживал и начинал дико орать, чтобы перекричать шум разрывов зенитных снарядов, прося его выпустить из самолёта.
Таскал я части будущей «бибики» в подоле своей холщёвой рубашки, отчего она приобретала цвет тех же деталей, то есть, масляно-грязный. Мать возмущалась: только что утром надела чистую рубашку! На что я гордо отвечал: а где это ты видела чистого шофёра?
Однажды, мимо хаты, проезжала машина и, не успели малолетние аборигены её облепить, как она остановилась. Все сразу же отцепились и быстро отбежали на почтительное расстояние, так, на всякий случай. Но шофёр и не думал их карать. Он обошёл машину, постучал ногой по колёсам, хотя сразу было видно, что проколото заднее колесо. Шофёр, без видимых эмоций, принёс домкрат, поднял конец оси, отвинтил гайки и снял колесо. Запасные колёса в те времена, редко у кого имелись и хозяин машины, вытащив камеру, принялся её клеить, а любопытные окружили его, наблюдая за работой. Меня это не заинтересовало, так как я и сам клеил резиновые сапоги и галоши. Моё внимание привлекла кучка гаек от колеса. Я их быстро собрал в подол и побежал домой. Шофёр, тем временем, закончил ремонт, поставил колесо на место: а где же гайки? Ребята переглянулись и не найдя меня, повели шофёра к нашей хате.
– Это ты взял гайки? – полюбопытствовал он у меня. Я молчал. На этот шум вышла мать, и хозяин гаек объяснил ей ситуацию. Мать повернулась ко мне: – Если ты взял, то отдай. Человеку ехать надо… Я тут же принёс гайки, которые успел аккуратно, как бусы, нанизать на кусок телефонного провода. Шофёр приятно удивился такой аккуратности:
– Так зачем тебе понадобились гайки?
– Я машину буду делать.
– Ты машины любишь?
– А какой же шофёр без машины…
– Ах, вот в чём дело! Ты шофёром хочешь быть. Пойдём со мной: поможешь мне.
Я снимал с провода гайки, подавал их шофёру, и мы быстро закончили ремонт, после чего хозяин машины прокатил нас всех до околицы. Я ехал в кабине и даже несколько раз посигналил не расторопным курам.
Я сидел на крыльце, когда по дороге Шурик гнал быков на пастбище. Это занятие для него было, что для Тома Сойера – красить забор. Увидев меня, он обрадовался, что в моём лице может приобрести компаньона. Он был года на четыре старше меня, но выбирать было не из кого. Подозвав меня, он задрал подол своей холщёвой рубахи и показал мне мину.
– Пойдём со мной, рванём мину….
Соблазн был очень велик, и я без колебания согласился. Мы выгнали быков на небольшое поле, где молодая весенняя трава ярко зеленела под чистым синим небом. Быки разбрелись по полю и стали насыщаться, а мы занялись своим делом. Шурик нашёл небольшую кочку и положил мину так, чтобы хвостовик с капсюлем был приподнят. Собрали кучку маленьких камней, и стали бросать их в мину, стараясь попасть по капсюлю. В мину попадали часто, но туда, куда стремились, никак не удавалось. Разбросав очередную порцию камней, я стал собирать новую, а так, как вблизи камешков уже не было, то я отошёл подальше от места нашего занятия. Тут я увидел кучку молодого щавеля и улёгся, чтобы его «пощипать», не всё же быкам. Вдруг, меня подбросило! Я оглянулся: на фоне чёрно-серого куста из земли и дыма, виднелась изогнувшаяся фигура Шурика…. Для нас подобные взрывы не были в новинку, но чтобы так глупо пострадать! Этого ещё не хватало! Я подбежал к Шурику и поинтересовался, как дела. У него и были всего две раны: один небольшой осколок врезался в кость правой руки, а другой, смешно сказать, разрубил «крайнюю плоть» вдоль, а если бы поперёк, то произошло бы «обрезание». Рубашка и штаны были пробиты в этом месте и окровавились. Мы быстро спустились к берегу Днепра и замыли пятна крови. Шурик был немного испуган, но в основном смущён тем, что так «лопухнулся». Он попросил меня, чтобы я никому не рассказывал о взрыве и о его последствии и обещал мне за это дать фабричных крючков для рыбной ловли, что было очень ценным призом. Я и так никому бы не рассказал, мы умели держать язык за зубами, но презенту, не скрою, был очень рад.
Глава седьмая. Последствия войны
Есть какая-то аналогия у войны с грозой: так, после сильной грозы ещё долго сверкает молния, громыхает гром, а то и налетит шквал ветра. Так и после войны…
Пашет молоденький тракторист, только что закончивший училище механизации, на стареньком допотопном тракторе колёснике. За плугами, сгорбившись, следит подросток прицепщик. Вдруг страшный взрыв потрясает поле. Из тёмно-бурого облака ещё долго падают части трактора и тракториста…
– На противотанковую мину наехали…
Бабы крестятся: Свят, свят…
У доски, с заплаканным лицом, старенькая учительница смотрит на пустые места, за партами: ребята сами пытались что-то разминировать, но…, где-то ошиблись.
Нередко в полях, в лесах, а то и самих деревеньках слышались взрывы, и через некоторое время начинала голосить чья-то мать. Тревога, сжимавшая горло с самого начала войны, так и не желала разжимать свои холодные, закостенелые пальцы. И всё же, несмотря на такой урон, у военкоматов – это было золотое время. Военком солидно выходил к большой толпе призывников, лениво, как бы делая одолжение, зачитывал списки фамилий: кого, куда и сколько, разумеется, уже заранее намеченных, и прошедших комиссию. После его ухода, помощник долго отбивался от призывников, которые не попали на этот призыв.
– Идите, хлопцы, пока по домам, – даже как-то виновато, утешал он оставшихся ребят.
Обычно, когда на фронт приходило пополнение из новобранцев, командиры ворчали: С кем же идти в бой? Они же и пороха ещё не нюхали!
Так вот эти призывники: нанюхались, наслышались, насмотрелись всего, чем богата война. Примерно, через пару десятков лет, офицерам военкоматов уже приходилось проявлять ретивость, чтобы обеспечить разнарядку на призывников. Мало того, что их численность резко сократилась, так что ещё хуже, по состоянию здоровья годных для службы в армии, значительно уменьшилось. Это аукнулось послевоенное «безмужичие» и голодные годы того же после военного лихолетья. Житейская мудрость гласит: от худого семени не жди хорошего племени. Что такое представляли носители этого семени?
Война, в первую очередь, пожирает молодых, здоровых, репродуктивных людей. Людей, прошедших через горнила войны и оставшихся в живых, можно было с большой натяжкой назвать здоровыми.
Редко кто из них не перенёс ранения, контузии и не человеческие психические перегрузки. А эти, ежедневные наркомовские «сто грамм», да для молоденьких ещё ребят, разве не алкоголизация? А табак? Курили все: старики – свой самосад, бывшие бойцы, в основном, махорочку, ну а их дети и детки – малолетки – всё что попадалось.
– Арина, а я видела, как твой Рома курит.
– Да ты что, Матрёна? Вот я ему всыплю! – нарочито испуганно возмущалась Арина.
На свадьбах на стол подавался, в основном, самогон и также деликатесный «Денатурат», на бутылках которого был нарисован череп и скрещенные кости. Но это никого не смущало: а нам всё равно, что спирт, что пулемёт, лишь бы с ног валило.
Бригадир, бывший фронтовик, набивал кисет табаком, и при раздаче нарядов заходил в хаты, где жили вдовы. Там он нещадно дымил, что очень нравилось хозяйкам: мужским духом пахнет. После раздачи нарядов, обхода, обкурившегося бригадира, даже иногда тошнило. Но что не сделаешь из гуманных побуждений, из жалости. Когда подросток, сначала украдкой, а потом и явно начинал курить, матери даже радовались: вот, мужик у меня в доме появился. Вырос!
Глава восьмая. Выживание
Тягостное впечатление, если не сказать страшное, оставляла картина этой части территории страны. Обгоревшая земля по виду могла сойти за чернозём. Простор для глаз представляли выгоревшие деревеньки, а оставшиеся печки, своими трубами показывали, как перстами в небо. То там, то сям из-под земли вырывались чёрные клубы дыма, сопровождаемые багровыми искрами – это так в землянках благоустроились погорельцы – жители. И как бы ни был убог и скромен комфорт этого прибежища, всё же его обитателям завидовали, мимо проходящие беженцы. Хотя уже и бежать было не от кого, и бежать было некуда, но к ним, оставшимся без кола и двора, тут же прилепились нужда с нищетой. Так и брели они вместе, куда глаза глядят, и пока ноги идут, и стимулировала их стремление лишь одна надежда.
Сказать, что власть не замечала трагедии этой территории, будет неправдой. В оставшихся неразрушенных домах организовывались сельсоветы, райкомы. Те, озадаченные, в свою очередь, быстро восстанавливали довоенные колхозы, в которые немедля спускались разнарядки, планы на поставки государству зерна, картофеля и прочих сельскохозяйственных продуктов. Способствовали демократизации выборов председателей, а те, в свою очередь, бригадиров, звеньевых и прочую структуру взаимодействия власти с народом.
А дальше во весь свой огромный рост, встал жилищный вопрос. Очень оригинально в решении этого вопроса поступили местные власти. Они, чтобы не осрамиться перед вышестоящим начальством, стали разрушать землянки.
Как это разрушать? Да, просто: выгоняли обитателей землянок с их скарбом вон и обваливали землянку. Ну, наверно, обеспокоились предоставлением другого жилища? Да ни в коем случае – это в их планы не входило. Мужики, бывшие фронтовики, ставили себе новые хаты, благо лес был рядом. Для вдов с детьми перестраивали чьи-нибудь баньки. Не хоромы, правда, но крыша над головой была.
Восстановленные колхозы, если что и производили усилиями тощей скотины и таких же колхозников – всё под метлу сдавали государству. Впрочем, не они сдавали государству, а государство забирало у них всё произведённое.
А люди, что же, как же? Да никак. Это, кроме самих людей, никого не беспокоило. А раз так, то весь приусадебный участок, огород то есть, засаживался картошкой. Вот и получалось: одежда – ватная телогрейка, обувь – резиновые сапоги, пища основная и единственная – картошка. От этой пищи росли животы, а мышцы слабели. Дети, с раздутыми животиками, выглядели рахитиками.
Время шло и некоторые обзаводились коровёнками, а то и просто козами. Эти животные, помимо молока, давали телят, козлят, а это как-то решало мясомолочную проблему. В то же время, картошка являлась пищей для свиней, а это, как известно, сало. Помогал и лес своими грибами, ягодами. Не у всех и не всегда был достаток, но теперь уж если и пухли, то от картошки, а не от голода. А как же хлеб, который всему голова?
О, это уже интересно! Люди, выращивая зерно, не могли использовать его для приготовления себе хлеба, так как всё это зерно забирали поставки, за соблюдением которых рьяно следили представители государства. Так что хлеб, который выпекали эти хлеборобы, более чем на половину состоял из картошки с небольшим добавлением муки, из грубо растёртых на жерновах отходов зерна, которыми побрезговало государство.
Глава девятая. Соцреализм
Иногда, властные структуры проявляли заботу о не совсем взрослых бродягах, эту мысль они, видать, почерпнули из произведения «Сын полка». Так в деревню прислали паренька, почти юношеского возраста, на кормление и воспитание. Деваться некуда и его определи на постой, стали выделять продукты на его пропитание.
К его имени Борис, тут же прибавили «колхозный». Так он стал Борис Колхозный. А так как он был не деревенский, то подобрать ему какое-нибудь занятие не представлялось возможным. Он сам себе его находил. Учил детишечек плавать. Возьмёт, этакого ученика на руки, отнесёт немного от берега и, как бы упав в яму, отпустит. Жертва такого экстрима, захлёбываясь, барахтаясь, добиралась до мелководья.
– А я в яму попал, – оправдывался Борис, – А ты, смотрю, герой, сам уже плаваешь! И на самом деле, эта льстивая методика обучения плаванию, давала свои результаты, так как ученик уверовал, что он уже умеет плавать. Ещё он предлагал детям свои услуги в искусстве, в частности в живописи.
– Ты, принеси мне лист бумаги, карандаш и кусок хлеба, а я тебе «отрисую» то, что ты захочешь.
Состоявшийся заказчик придирчиво осматривал заказанную им картину коровы.
– Так она совсем не похожа на нашу корову Милку. У неё даже хвоста нет.
Жуя горбушку хлеба, свой гонорар за картину, Борис втолковывал: рога есть, а хвоста не видно потому, что он там сзади.
Помимо того, что власть подсуетилась одеть свой простой народ в ватные куртки и обуть в резиновые сапоги, она цинично стала оглуплять его фильмами – сказами о счастливой жизни. Задавленный нищетой народ, посмотрев рекламный ролик «Кубанские казаки», пытался что-то применить в своей унылой беспросветной жизни.
Так от самогонного гулянья слышалось бабье пенье, более похожее на истошные вопли. Мужиков слышно не было. Они, склонив над столом свои нетрезвые головы, смрадно чадили самокрутками, да иногда, что-то припомнив, скрипели своими чёрными зубами.
Власть, разумеется, списывала все эти беды и несчастья на врагов, умело воспитывала ненависть к ним, усиливала страх перед войной. Этим она порабощала волю и сознание людей. На долгие годы пророс угнетающий душу стон, звучащий, как короткая молитва: Господи, только бы не было войны.
Власти отпускали деньги кинематографу, и тот угодливо стряпал рекламные фильмы, которые, по их замыслу, должны были воспитывать патриотические чувства в подрастающем поколении. Но реальность, со своими запретами, а подчас и репрессиями, вдобавок серый неприглядный быт, воспитывали негативные чувства по отношению к той же власти и даже к стране. Инстинкт самосохранения заставлял эти чувства скрывать и выкрикивать лозунги, угодные власти. Это породило в подрастающем поколении цинизм, лицемерие и страх. Тотальный режим был настолько самоуверен, что до поры не замечал перемен в настроениях. У власти кружилась голова от восторга: как эти сельские ребята рвутся в армию защищать страну, а стало быть, и их режим. На самом же деле было вот что. Гражданам, достигшим шестнадцати лет, полагалось по закону страны, выдавать паспорта. Так вот, в сельских районах, колхозах, молодым людям паспорта выдавать было запрещено. В разные времена, в разных государствах были разные классы, слои населения, были рабы, были граждане, были патриции, но вот эта власть, даже не нашла термина, как «обозвать» эту обезличенную, бесправную часть своего населения, которая была по статусу подлее подлого сословия и, как впоследствии скажут, ниже плинтуса. Поэтому молодые люди, призванные в армию, поступившие в училища, в основном горнопромышленные или другие, связанные с тяжёлыми условиями труда – в свои любимые пасторали, колхозы уже не возвращались. Приезжали они домой только на побывку, в отпуск, на каникулы – на зависть родственникам и землякам, оставшимся в колхозном ярме. Иногда, навещали эти колхозные просторы ловкие вербовщики, уговаривая молодых здоровых девчат ехать в Грузию на уборку чая. Те ездили убирать чай, возвращались домой, и оставались такими же бесправными, как и до поездки. Паспортов – этого бесценного документа, им получить так и не удавалось. Зато они восторженно, с огромной долей зависти, рассказывали, как там живут, какое там счастливое сегодня. Что, самое интересное, это перекликалось с тем, что рассказывали бывшие фронтовики, посетившие Европу во время войны. Правда, им самим начинало казаться, что это было или в бреду, или во сне, то, что видели они красивые дома, ровные дороги и жителей, немного испуганных войной, но исполненных чувства собственного достоинства. И всё это в очередной раз, заставляло колхозников, сравнивать услышанное со своим существованием.
Глава десятая. Что было дальше
Было лето, скорее, его конец. Я сидел возле хаты и осторожно выковыривал из бронебойной пули пробойник и селитру, которую если положить на кусочек рельса и ударить молотком, то получается безвредный взрыв, если не подставлять глаза. В это время, по дороге проходила стайка деревенских девочек и среди них была старушка, мало отличавшаяся от них своей комплекцией. Возле хаты эта группа остановилась: вот его запишите в школу, Зоя Александровна! – затараторили девочки, показывая на меня, – Он уже читать умеет!
Все подошли ко мне. Старушка оказалась учительницей Козловской школы. На вопрос: сколько мне лет? Я ответил: скоро семь, хотя мне было ещё только немного за шесть. Мне очень хотелось скорее стать взрослым, так как детство меня явно тяготило. Меня записали в школу. Мать возражать не стала, а вот моих сверстников в школу не пустили: маленькие ещё!
Первого сентября я бежал за сестрой, как Иванушка за Алёнушкой, в школу. Сестра вела себя очень гордо, ещё бы: она впервые почувствовала себя значительнее в школьных делах. Меня это не обижало, тем более что мать сшила мне, по случаю, новую рубашку и новые штаны, а бежать босиком было легко и весело.
В школе, в первом классе, я оказался самым молодым, так как остальные были на год-два, а то и более, старше меня. Были в классе и «второгодники» явно тяготившиеся нашим обществом и самой школой. Они не скрывали, что школа им просто мешает жить. Первоклассников в школе долго не задержали, объяснили правила поведения, когда вставать, когда садиться, как обращаться к учительнице. Потом выдали каждому по карандашу и по тетради с обложкой бежевого цвета. Я даже немного задохнулся от счастья: получить такой подарок! Школа для меня стала ещё более значительной и притягательной.
Первый класс тут же отпустили домой, под завистливые взгляды старших. Домой я пошёл с двумя девочками из нашей деревни. Они были старше меня и держались от меня особняком. Дорога от школы, проходила через лес, мне мало знакомый. Девочки шли впереди меня, разговаривая о чём-то своём секретном. Вдруг, они свернули в лес, и я машинально последовал за ними. Такое моё поведение не входило, очевидно, в их расчёты и они сделали вид, что свернули в лес только для того, чтобы поесть ягод, которых здесь было в изобилии. Я тоже определил себе большую купину с крупными красными ягодами брусники и так, как отсутствием аппетита никогда не страдал, стал пропускать большие кисточки брусники сквозь пальцы и, наполняя горсти ягодами, отправлял их в рот. Я так увлёкся трапезой, что когда оглянулся, то никого вблизи себя, никаких своих спутниц, не обнаружил. Я от одиночества не страдал, тем более без такого общества, какое образовалось. Я пошёл к дороге, тем более что она была рядом, но что-то это «рядом» никак не появлялось. Было очень пасмурно, и определиться было невозможно: в какую сторону идти и сколько прошло времени. Всё же я вышел на дорогу и пошёл, но только опять в сторону к Козлам, к школе. Это я узнал, когда навстречу мне попались две старшеклассницы: Дина и Нина. Это были уже не девочки, а девушки и им полагалось учиться где-то в классе седьмом, а то и старше, но – война! Увидев меня, они очень удивились: такое рвение к знаниям, к школе – очень похвально, но не до такой же степени! Тут я обнаружил, что я потерял карандаш и тетрадь. Я так безутешно разрыдался, что Дина с Ниной еле смогли узнать причину моего волнения. Установив причину, они открыли свои сумки, достали оттуда по карандашу, вручили их мне. Таким же образом я получил ещё две тетради. Я попробовал, согласно деревенскому этикету, отказаться, но эти добрые души просто меня напутствовали: только учись хорошо!
Бог свидетель: я всегда старался оправдать их напутствие.
На следующем уроке, я быстро и очень аккуратно начертал полагающие палочки, крючки и кружки. Со своими бывшими спутницами, я больше не общался и стал дожидаться, когда закончатся уроки у сестры, чтобы идти домой вместе. Я сел на свободное место в их классе и стал, не без любопытства, наблюдать за учебным процессом у старшеклассников. У них шёл урок «Родной речи» и у доски переросток мучительно пытался прочесть заданное стихотворение. Класс ему явно сочувствовал, понимая, что подобная участь может постигнуть каждого из них. Вдруг, чтец сотворил такую «отсебятину», что я легкомысленно и громко рассмеялся. Класс моей весёлости, конечно, не поддержал, а учительница, строгим голосом, пригласила к доске. Учительница, солидарная с классом, предвкушала моё посрамление. Стихотворение было о ниве, зрелые колосья которой, своей тяжестью склонили стебли к дороге. Я бегал по такой дороге, возле такой же нивы и даже, на бегу, вытянутой рукой, касался этих налитых колосьев. Когда я, стоя у доски, восторженно, видя перед собой эту картину, читал стихотворение, то я даже провёл рукой, как бы касаясь колосьев. В классе стояла такая тишина, как говорят: муха пролетит – слышно.
– Ставлю «пять», – разволновалась Зоя Александровна, глядя в журнал, – как фамилия?
Я назвал.
– Что-то я не нахожу твоей фамилии…
– Так он же не из нашего класса! – раздались голоса, – он же «первачок», пишет палочки, крючок!
Немного позже, я понял, что в «начальной школе» – мне было делать нечего, как минимум.
Проходил я в первый класс в том году только до холодов. В декабре ударили очень сильные морозы, да ещё с северо-восточным ветром. Большая часть дороги в школу и обратно, шла по лесу, где ветра не было, а вот, когда выходили на поле, то километр пути до деревни, превращался в тяжёлое испытание для детского тельца, плохо защищённого лёгкой одеждой, от лютого мороза да ещё с сильным ветром. По моим щекам текли слёзы от холода и боли, а мокрые щёки страдали ещё сильнее. Сестра приплясывала передо мною, стараясь хоть как-нибудь укрыть от ветра. Дома мать решительно сказала: в школу ты в этом году больше не пойдёшь! Я и сам уже немного разочаровался в «такой» школе.
Ко мне подходили ученики третьих, а то и четвёртых классов, протягивали какой-нибудь учебник: Говорят, что ты умеешь читать – вот, читай!
Я принимался читать, но меня тут же обрывали: Да кто так читает? Нужно читать вот так… – и показывали, как надо, по их мнению, читать, то есть «по складам».
Поэтому, когда мать меня не пустила в школу, я сильно расстраиваться не стал. Тем более что я узнал о существовании не только учебников, но и книг. Для меня это было счастливым открытием. Вот как это случилось. Через дом от нас жил комсорг Вася. Он был небольшого роста, худенький и больше походил на подростка, чем на парня. Может поэтому, он был доступен в обращении с ребятами моего возраста. Зная, что я умею читать, он предложил мне брать книги в его комсомольской библиотеке, которая состояла из нескольких потрепанных книг. Для меня же, увидеть столько «не учебников», которые можно читать, было огромной роскошью. Вася дал мне, на первый случай, тоненькую книжку и я, получив её утром, вернул прочитанную уже вечером. Вася очень удивился такому быстрому прочтению и выдал другую книгу, но уже значительно толще.
Глава одиннадцатая. Снова школа
К следующему учебному году, я был готов уже значительно лучше. Я подрос, окреп, да и мать приготовила одежду, сообразуясь с сезоном.
К тому же, пошли в первый класс и мои сверстники. Кроме одногодков, были ребята постарше и «второгодники», так что получилась довольно большая компания: шумная, резвая, не до конца понимающая своей цели и назначения. Старшие классы, где была моя сестра, учились во вторую смену. Мне же, по правде сказать, перспектива снова писать в «косую линейку» палочки, крючки и кружочки, вовсе не улыбалась. К тому времени, я был уже достаточно «развращён» чтением взрослых книг, которыми меня подпитывал Вася-комсорг, а впоследствии и моя вторая старшая сестра, которая работала почтальоном. Она получала почту в почтовом отделении на станции Гусино и разносила её по ближайшим деревням, заканчивая своей деревней. Дело случая, но она как-то зашла в сельскую библиотеку. Старенькая, худенькая, маленькая библиотекарша уговорила её взять книгу. У сестры не нашлось веских аргументов для отказа и я, таким образом, стал косвенным абонентом Гусинской сельской библиотеки. Конечно, сестре эта «благотворительность» была совсем ни к чему, но и отвязаться от моей настырности у неё не было ни какой возможности. Книги, которые давала библиотекарша, были довольно толстые, а в «походе и иголка тяжела», так что я иногда помогал разносить газеты в своей деревне и вообще, старался оказывать сестре посильные услуги. Из-за моего уважительного поведения, сестра даже выписала мне газету «Пионерская правда». Быстро расправившись с примитивным «домашним заданием», я находил укромное место, где бы меня никто не беспокоил и уходил в мир образов, навеянных книгой. Окружающее переставало существовать для меня. Эта идиллия продолжалась до первых летних каникул, а потом, как это часто бывает, произошло непредвиденное.
Когда сестра принесла сдавать очередную прочитанную книгу, а это оказался «Овод», старушка устроила ей небольшой экзамен о впечатлении от прочитанной книги. После этой пытки, сестра созналась, что она книги сама не читает, а берёт их только для брата. Библиотекарша тут же поинтересовалась: насколько брат старше её? Наверно, никогда старушке не было так страшно, как в тот момент, когда она узнала правду…
Я был поражён, несказанно удивлён, когда смущённая сестра подала мне в тот день три книги и что это были за книги! А ничего особенного: просто это были настоящие детские книжки большого формата, написанные крупным шрифтом, с цветными картинками и совершенно новые. Ещё сестра добавила, что Анна Павловна, так, кажется, звали эту добрую старушку, просила простить её и приглашала меня самого посетить библиотеку, чем я впоследствии воспользовался неоднократно, а побывать в окружении стольких книг – это был для меня большой праздник! Хозяйка библиотеки, а посетителей у неё бывало не так много, подолгу беседовала со мной о прочитанных книгах, удивляла её не только моя память, но и самостоятельные суждения.
Глава двенадцатая. Мал да удал
Я никогда не был ребячлив, не прыгал, не визжал от восторга, вёл себя солидно, не по-детски серьёзно. Мамаши советовали своим чадам дружить со мной. Мне же не нравилась непоседливость моих сверстников, и я предпочитал общество старших ребят, а учитывая мою «начитанность», и они не гнушались моего общества.
Как уже говорилось, во время войны здесь было не до школьной учёбы, тут «дай Бог ноги», чтобы во время укрыться в лесу, в землянке, а то и в погребе, овраге от свирепствовавшей войны с её минами, снарядами и бомбами, обильно сыпавшимися сверху. Так что, наравне с малышами, заставили учиться и переростков, почти мужиков. Пресловутая «дедовщина» терзает армию, но ведь она была всегда в бурсах, школах и везде, где сталкивались разновозрастные интересы. Конечно, не все и не всегда пользуются своим физическим превосходством, даже опекают младших, но есть нехорошие исключения.
Был таким исключением в нашей школе этакий верзила Коржаев. Когда он шёл, то младшие бойко сторонились, отбегали подальше. И вот был такой случай: шёл этот «дед» по школьному двору и перед ним была «зелёная улица». Я привык, что старшие ребята ко мне относились дружелюбно и не отстранился почтительно перед этим монстром, за что тут же получил мощный толчок! Когда я поднимался с земли, то моя рука нащупала небольшой, но увесистый сосновый сук…
Прозвенел звонок, и все бросились в классы. Мой обидчик уже солидно ступил на верхнюю ступеньку крыльца, когда сук, как томагавк, встретился с его затылком! Это было торжество справедливости! Ощупав свой затылок и увидев кровь, этот «герой» так страшно заревел от страха, что все, особенно младшие, подняли его на смех! Когда меня привели в «учительскую» на разборку, где уже был раненый Коржаев, то Алфёров, наш новый учитель, был искренне удивлён нашими очень разнящимися весовыми категориями: Ну, прямо Давид и Голиаф! Урок пошёл на пользу: больше Коржаев малышей не трогал.
От деревни до школы, было четыре километра, и, разумеется, – обратно столько же. Для семи – десяти летних это была большая физическая нагрузка, особенно учитывая плохое питание, а также состояние дороги, из-за погоды, времени года. Первый километр от деревни школьники шли по полю, а далее по лесу. В сентябре эта лесная дорога, в хорошую погоду была привлекательна. К тому же, школьники желали её ещё более украсить, для чего сгибали росшие по обеим сторонам дороги тонкие рябины и берёзы, связывали их верхушки, украшали яркими грибами, особенно «мухоморами», так что получались парадные аркады. Кстати, эту дорогу называли «Московская». Топонимика названия безмолвствует: от названия столицы, или от одноимённой водки. Зимой эта дорога защищала от ветра, поэтому снег падал вертикально пушистыми хлопьями, превращая деревья в сказочные существа. Под низким зимним солнцем снежинки переливались бриллиантовыми россыпями. Но это только было ранней осенью и зимой, а вот поздняя осень и ранняя весна, делали эту болотистую часть дороги непроходимой. Вот тогда и приходилось обходить эту «Московскую» дорогу, по «Казённой» дороге. Тут с названием хоть какая ясность, так как на пол – дороге от деревни до школы, стоял дом лесника, называемый «Казённый дом». В то время хозяйкой этого дома была женщина из Прибалтики, которая работала лесником. Она имела четырнадцатилетнего сына Карла, у которого имелся дефицит общения со сверстниками. Поэтому, он старался всеми ухищрениями заманить ребят, идущих в школу, на дорогу мимо своего дома. Он набирал ранней земляники, угощал печеньем своей матери.
В то утро Карл был особенно возбуждённо весел. Оказалось, что он, собирая в лесу весенние грибы и ягоды, нашёл мину, собирается извлечь из неё «взрывчатку» и пригласил нас идти с ним глушить рыбу. Мы тут же согласились, что после школы мы будем у него, тем более, подобные развлечения для нас не являлись особенной редкостью. После школы мы уже подходили к дому лесника, как вдруг окна дома, вылетели с дымом и грохотом! Нам не надо было объяснять, что произошло…
В большой комнате, куда мы зашли, пахло дымом, взрывчаткой и непоправимой бедой! Всё что осталось от Карла, было размазано, разбрызгано по стенам, потолку, по полу! Похоронили Карла на деревенском кладбище, на его самой западной стороне, как бы ближе к его родной Прибалтике. Вокруг могилы сидели мы, его друзья, его мать угощала нас: поминайте, поминайте, ребятки, моего Карлушу… он очень любил вас. Но я, даже сладкий творожок, не мог проглотить….
Взрослели мы рывками, которые поднимали нас на следующую ступеньку нашей биографии.
Глава тринадцатая. Испытание
К очередным летним каникулам, я подготовился более обстоятельно. Помимо книг, которыми меня снабжала библиотека, я обзавёлся учебниками для старших классов. Разобраться в содержании учебников, мне не составило большого труда, кроме математики. На лето я перебрался жить на чердак, где никто не посягал на мою свободу. Под толстой балкой я устроил маленькую нишу для книг. Там же был мой «склад» с продовольствием, где находились несколько корочек хлеба, как у Буратино, да «дары» огорода и сада, которые из-за их неимоверной кислоты, мог выдержать только мой детский желудок и то только потому, что очень хотелось есть. После такой подготовки, оставалось только наслаждаться жизнью, которая у меня заключалась в чтении. Чтение моё было особенное: медленно читая, я видел, ощущал, воображал то, о чём говорили буквы, слова, предложения. Воображение рисовало образы, события, действия. Многое из прочитанного я не понимал и тогда пытался разобраться, тщательно изучая примечания, сноски, а то и сам пытался додуматься. Иллюстрации, картинки, рисунки помогали строить образы парусников, обитателей фауны и флоры, океанов и индейцев, к которым в подобном возрасте особый интерес.
Любимым занятием моим было, чем попало метать, бросать, стараясь во что-то попасть. Летом это были засохшие комья земли, камни, палки в виде городошных бит, длинные палки-копья. Зимой же, естественно, снежки и кусочки льда. В этом занятии я так поднаторел, что когда на уроке физкультуры учитель показал, как надо бросать гранату, то я «по своему» забросил гранату далеко и точно, на что учитель, чтобы не уронить свой авторитет сказал: ты бросаешь далеко и метко, но неправильно!
На чердак, на котором я обосновался на летний период, из нашей семьи никто не претендовал и я на нём чувствовал себя вольно и в полной безопасности. Чтобы на него попасть нормальным людям, нужно было тащить приставную лестницу из сарая, долго пристраивать её в узких сенях. У меня же нужды в этих приспособлениях не было: я мог забраться на чердак в любом месте по стене, по углу, причём быстро и бесшумно. Если индейские клички «Соколиный глаз» или «Бесшумная мышь» для меня были бы очень претенциозны, но и тень отца Гамлета издавала бы больше шума, чем моё передвижение, когда я не хотел быть услышанным. Итак, обложившись книгами, я порвал все связи с окружающим меня миром и даже не отзывался на голос матери, приглашавший к обеду.
Однажды, я так зачитался, что только полная темнота, к моей досаде, прервала это моё путешествие в мир фантазий и грёз. Летняя вечерняя темнота бывает особенно плотной, непроглядной. Этот вынужденный перерыв я решил использовать для ужина, чтобы съесть свою корочку хлеба и чего-нибудь «уж очень кисленького», то есть, местных фруктов, от которых, кроме дизентерии, особенно ждать было нечего. В темноте, я подобрался к своему продовольственному складу и немного испугался: из ниши на меня смотрели два жёлто-зелёных глаза! Я протянул руку, чтобы потрогать это «явление» и тут же выхватил её, всю оцарапанную и покусанную! Этот представитель «кошачьих» ещё долго и злобно ворчал, пока я отползал от захваченного им моего склада. Не избалованные «скорой помощью» при всяких там порезах, проколах и прочих ранениях, мы умели оказать себе первую помощь сами, а для этого бывало достаточно лекарства, бывшего у каждого, а именно, мочи. Ей я и воспользовался: драло, щипало, но делать нечего – надо терпеть…. Получив неотложную помощь, я предался размышлениям.
За время войны, нарушилось равновесие фауны, особенно дикой. В лесу развелось такое множество волков, что стало опасно пасти домашний скот на лесных полянах, а у пастуха, вместо кнута, висел за спиной карабин, из которого тот, время от времени, постреливал в воздух, для острастки. Оставшись без привычного домашнего очага, одичали кошки и, когда всё стало налаживаться, эти дикие, уже изрядно расплодившиеся, стали бедствием: ловкие и беспощадные, маскируясь под домашних, они пожирали цыплят, а то могли загрызть и взрослую курицу. Не было пощады от них и птицам. Им ничего не стоило достать содержимое «скворечника». Домашние коты пытались защищать свои владения и очень часто возвращались домой без уха, без глаза, а то и с перекусанной лапой. Тогда на этот дико кошачий террор, стали отвечать все. Началась упорная борьба.
Один из этих диких котов посягнул теперь на мою независимость. О каком-то общежитии с диким котом, не могло быть и речи: для него я был только помехой в его территориальных претензиях. Выбора не было: бой! Я вспомнил «Мцыри», бой с барсом, но там было светло, да и сук подвернулся под руку, какое-никакое, а всё же оружие. Здесь – полная темнота и ничего под рукой! А захватчик продолжал угрожающе рычать. Ощупав вокруг себя, я обнаружил только книгу, да ватную куртку, на которой я спал и укрывался, когда холодало. Я взял эту куртку и, держа её перед собой, медленно пополз к своему врагу. У того было ещё одно преимущество: он отлично видел в темноте. Когда я совсем приблизился, противник не выдержал и бросился вперёд, но запутался в куртке, которой я тут же его обхватил. Его когти и зубы оказались бессильны против толстого слоя ваты, а я всё сильнее сжимал его в своих объятиях! Наконец, он затих, притаился, но стоило мне немного ослабить свои объятия, как он сразу же начинал яростно шевелиться, ворчать и фыркать. Я медленно, не ослабляя рук, уложил его и наступил на него коленом. Освободившейся рукой я пошарил вокруг, и она нащупала конёк и продетую в него тонкую верёвочку, которой конёк прикреплялся к зимней обуви. Дальше я действовал почти машинально: вытащил верёвочку из конька, помогая зубами, сделал петлю, ощупью, остерегаясь укусов, одел её на шею врага, перекинул верёвочку через балку, стал её медленно натягивать. Я совсем не был уверен в прочности этой, давно служившей верёвочки, и при её обрыве, этот зверь порвал бы меня не хуже того барса! Но верёвка выдержала…
Когда всё затихло, я, отцепив петлю, сбросил побеждённого зверя в сад, где он, прошуршав по веткам, гулко шлёпнулся в траву. Была ещё ночь, но уже светало. Этот ночной бой что-то перевернул во мне. Я вдруг почувствовал себя совсем другим. Напряжение во всём теле то ослабевало, то снова я весь напрягался до боли во всех мышцах. Оцарапанная и покусанная рука горела. Я снова сделал примочку. Немного отдохнув, я спустился в сад, чтобы убрать последствия ночного происшествия. К моему удивлению, я ничего не нашёл! Нашёл место падения и только. Я не раз слышал, что стоит только перекинуть убитую кошку на другое место, как она тут же оживёт…
Прошло время. Я шёл по дороге и увидел в огороде соседей огромного кота. Он тоже заметил меня. Секунды мы смотрели друг на друга. Потом кот как-то знакомо фыркнул, повернулся и скрылся в густой картофельной ботве. Мне кажется, что с этого момента, я уже потерял статус ребёнка и перешёл в возраст следующий – отроческий!
Глава четырнадцатая. Водное препятствие
Ребята, окончившие Козловскую школу, переходили в Хлыстовскую школу. Хлыстовка, где находилась эта школа, была или большой деревней, или небольшим селом. Расстояние до неё было даже меньше, чем до Козловской школы, но зато здесь появлялась преграда как река Днепр. Проблем особых это не вызывало. Летом на лодочке, а зимой по льду. Но, при осеннем ледоставе, да весеннем розливе, это усложняло переправу. Вот небольшой эскиз по этому поводу.
Утренняя осеняя темень, обледенелый крутой берег, обледенелая утлая лодчонка, заполненная ребятами, спешащими в школу. Эта посудина, так глубоко оседала, что вода иногда переливалась через борт в лодку, грозя пустить этот транспорт ко дну. В темноте вокруг шелестели льдины с острыми краями.
Нос лодки впотьмах втыкался в обледенелый берег. Школьники, в душе радуясь удачной переправе, взбирались по обледенелой крутизне берега наверх, продираясь через позванивающие льдинками кусты. Это был самый трудный и опасный участок пути к знаниям. Кстати сказать, многих не очень то и тянуло к этим знаниям, как и к самой школе. В то же время и перспектива встать к сохе, не очень прельщала, вот и приходилось выбирать из двух зол третье: окончить семилетку и, если в армию не заберут, то поступить в горнопромышленное училище и – в рудники. Так как претендентов в ремесленные заведения хватало своих городских, сельских туда предпочитали не принимать.
Оживлённые, после стресса на переправе, ребятки весело взбирались на железнодорожную насыпь, и теперь уж неспешно, перемещались в сторону школы. Сама по себе, железная дорога являлась высотой прогресса, тем более что эта дорога связывала Москву через Минск с Западом. Так что здесь, помимо замусоленных пригородных поездов, проносились комфортные, чистые экспрессы: «Москва – Варшава», «Москва – Берлин», а их почти всегда тащили двойной тягой, то есть спаренными паровозами. Для ребят здесь было раздолье собирать окурки. Прикладывая пальцы к губам, и показывая на свою грудь, клянчили у пассажиров, которые курили у открытых окон вагонов, оставить окурок, на что те иногда благосклонно окликались.
Девочки тоже находили для себя приятное занятие. Они собирали фантики от конфет, изобилию и разнообразию которых здесь было несть числа. Школа представляла собой деревянную одноэтажную развалюху, переделанную когда-то из дома небогатого купца, или какого-нибудь «кулака». Преподавательский состав этой Хлыстовской школы, был явно представлен не выпускниками педагогических Вузов. По виду и одежде они мало чем отличались от колхозных баб и мужиков. Часто спешили к началу уроков после своих работ по домашнему хозяйству, с немытыми руками, а то и с испачканными сажей лицами, что вызывало у некоторых их учеников насмешку, а то жгучую детскую жалость.
Преподаватели, или как их называли «учители», были почти все местные. Только преподаватель физкультуры был прислан из РОНО. Он организовал, как бы от ДОСААФа, кружок по стрельбе из малокалиберной винтовки. Ребята и даже девочки, которые записались в этот кружок, стреляли значительно лучше этого инструктора. Но это его нисколько не смущало, не задевало его самолюбия, так как он очень гордился своим статусом педагога, термин малоизвестный в этой школе. Собирая с кружковцев медяки на членские билеты и значки, он где-то что-то напутал и местная учительская «элита», ревниво относившаяся к этому «Варягу», со скандалом отказа ему от места.
Руководство школы, учитывая трудность переправы через Днепр, объявляло осенние или весенние каникулы. Думается, что в последующие годы жизни, у этих ребят было более радостное событие. Всё же они с раннего утра приходили на берег и подолгу стояли, глядя на ледостав. Это явление природы интересовало, волновало почти всех, не только ребят. Ещё бы, не широкий, но с быстрым течением, зажатый высокими обрывистыми берегами, Днепр обычно был спокоен, тих и даже как-то ласков прибрежным его жителям. А тут начинало твориться такое!
Вся водная гладь была заполнена быстро мчащимися льдинами. Они с громким шорохом тёрлись друг о друга и на их краях образовывались валы тёртого льда. По ночам мороз крепчал. Небольшие льдины соединялись в более крупные, становились толще и оттого мощнее. Они уже тёрлись не только между собой, но и с берегами. Причём, казалось, что они с такой силой давили на эти берега, что те, уступая, отодвигались. На самом же деле, это был не обман зрения, а происходило вот что: льдины, заполнившие русло, своей массой тормозили течение, и вода стала быстро подниматься, увеличивая ширину реки. И вот, наконец, очень желанная новость: Днепр стал! Происходило это обычно ночью. Утром эта новость по нескольку раз обходила всю деревню.
Это было примерно как у нефтяников, когда забьёт фонтан: нефть пошла! Были, правда, ещё более стандартные новости, такие как: корова отелилась. Но это была локальная новость, которая касалась отдельно взятой семьи. Ещё между льдинами было полно открытой воды, но уже самые нетерпеливые смельчаки хватали палки и начинали бегать по льдинам, предварительно пробуя лёд, постучав по нему палкой. На быстрине, в середине реки, часто образовывались долго не замерзающие полыньи. Когда лёд покрывался снегом, переставал быть скользким, то края полыньи потихоньку затягивались. Вокруг её незамёрзшей части образовывался гладкий ледок, который невозможно осуществить при заливке искусственного катка. Так что вокруг этой полыньи ещё долго катались на коньках.
Катались на коньках – это очень громко сказано. Настоящих коньков ни у кого не было. В лучшем случае, это был единственный конёк «Снегурочка», ржавый, привязанный бечёвкой к валенкам или к какой другой обуви. Так что конькобежец, одной ногой отталкиваясь ото льда, разгонялся, потом ставил её сверху на ногу с коньком и катился, иногда даже выделывая какие-нибудь фигуры. Наиболее отчаянные ребята иногда показывали своё безрассудство. Они, разогнавшись, мчались так близко к краю полыньи, да ещё с приседаниями, чтобы от прогибавшегося тонкого края льда пошла рябь воды по полынье. Сломайся этот краешек льда под весом этого «экстремала», он тут же ушёл бы под лёд, освободив тем самым своих родителей от затрат на ритуальные услуги.
Поздняя осень, зима быстро наводили здесь свой порядок. Не заснеженного льда не оставалось нигде и тогда ребята становились на лыжи. Настоящих лыж мало кто видел, разве только в магазине, но они также как и коньки, были не доступны. Как и многое другое, лыжи делали сами. Изготавливали их ребята старшего возраста, у которых были столярные инструменты. Они даже красили их. Так что поначалу лыжня окрашивалась в жёлтый цвет охры, или красноватый цвет сурика. Крепился этот спортинвентарь к любому виду обуви посредством ремешка и верёвок. Катились ребята на этих самоделках с крутых гор с такой скоростью, что ветру догнать нелегко. Хотя эти лыжи не отличались изяществом, но по прочности они значительно превосходили магазинные. Кувыркается упавший лыжник на крутом склоне вместе с лыжами и хоть бы что… лыжам. Так что на этих лыжах, те у которых они были, стали «ездить» в школу по замёрзшему, заснеженному льду Днепра.
Перемещается горлопанящая ватага кто на лыжах, кто пешком в сторону школы, и вдруг из-за крутого поворота навстречу им огромный здоровый матёрый лось. Тут вся ватага издала такой мощный вопль, что лось, существовавший всегда в лесной тиши, от неожиданности чуть не откинул свои копыта, чуть не воткнулся своими рогами в прибрежный сугроб. Но превозмог свой ужас и в несколько прыжков преодолел крутой берег, разрывая толстые сугробы снега, только его и видели. Ребята, поражённые такой мощью лося, из-за приличия, даже на несколько мгновений, притихли. Зима – есть зима. С раскатанных горок маленьких и больших с утра до ночи катились лыжи, санки, изогнутые из толстой арматуры многоместные «драндули». Использовались также и другие подсобные средства, такие как корыта, изогнутые доски с намороженным днищем «морозянки».
Глава пятнадцатая. Прощай старая школа
Это было в начале весны, в марте. Школьников собрали в самом большом классе, где обычно проводились собрания. За длинным столом уже находился весь учительский состав. Их хмурые, какие-то озабоченные лица, сразу же насторожили ребят. Некоторых из них встревожила мысль, так как они часто бывали причиной таких вот собраний: Уж, не из-за меня ли? Директор, стоявший у стола, развернул газету, на которой был изображён большой портрет Сталина. После небольшой паузы он начал читать каким-то прерывающимся глухим голосом, так что ребята не сразу поняли, о чём идёт речь и в чём дело. Когда же директор закончил своё выступление словами: скоропостижно умер Сталин, раздались громкие, дружные, правда не очень продолжительные и не переходящие в овации, аплодисменты.
Так приучили: заходит в класс учитель – приветствуй вставанием. Закончил директор речь – аплодисменты. Правда, на этот раз аплодисменты были больше похожи на гром с ясного неба. За подобное кощунство, почти преступление против советской власти, можно было и загреметь в места не столь отдаленные, а то и похуже. На самого директора и учителей, было даже страшно смотреть: так они растерялись, не знали что делать. Первый пришёл в себя завуч и объявил, что на сегодня уроки отменяются и чтобы все шли домой. Тут, правда, у школьников хватило здравого смысла, чтобы не выразить громко своей радости по этому поводу, то есть освобождения от уроков.
О смерти Сталина в деревне пока ещё не знали, так как радио не было, а газеты, если кто и выписывал, как только для самокруток, да и приходили газеты на другой день. Так что давление культа Сталина на эту часть народа было минимальным. За паскудную жизнь никто не ругал Гитлера, а зачем, он и так враг, а обкладывали добротным матом начальников. А кто их насылал на народ? Тут даже и многоточие не надо ставить. Ясно и понятно – Сталин!
Вместо слов «вождь народа», слышалось чётко «вошь народа». Поэтому ребята, принесшие из школы эту весть, только лишь заинтриговали своих не осведомлённых на этот счёт родителей и вызвали у них любопытствующий вопрос: а кто ж теперь будет царь? Русский народ испокон века, при смене царствующих особ, волновало лишь одно: каков будет новый царь, будет ли он добрым и справедливым, но это звучало больше как пожелание, как надежда.
Вскоре школьников, даже немного раньше срока, отпустили, или как тут говорили «распустили» на летние каникулы. Причём объявили, что в эту школу они больше никогда не придут, так как эта школа навсегда закрывается. А придут они на следующий учебный год в новую, только что построенную школу и не в эту деревню «Хлыстовка», а в другую – «Беляи». Так что и называться новая школа будет Беляёвская школа.
Новая школа была расположена, примерно на пару километров дальше, чем Хлыстовская. Переправившись через Днепр, ребята доходили до железной дороги, переваливали через насыпь и шли через болото на шоссе Москва – Минск. Это была стратегическая дорога. Благодаря ей, немецкие армии «группы Центр», в своё время значительно ускорили наступление на Москву. Вот по этому шоссе ребятам и предстояло несколько лет ходить в Беляёвскую школу.
Глава шестнадцатая. Летние каникулы
Но пока что до нового учебного года были целые летние каникулы. Что такое каникулы для городских школьников, а именно летние, деревенским ребятам было трудно судить. Впрочем, был такой случай, как бы иллюстрация их отдыха в летние каникулы. Километров в десяти от деревни была станция «Гусино». Там располагался «сыр завод», который перерабатывал молоко, поставляемое близлежащими колхозами. Добрые дяденьки этого завода решили устроить своим деточкам – школьникам пионерский лагерь. Для этого нашли подходящее, как им казалось, чуть ли не курортно-санаторное место в районе деревни.
Когда грузовичок, провозил вдоль деревни в открытом кузове, одетых в пионерскую форму сыро-заводских школьников, те пытались спеть песню: «кони сытые бьют копытами, разобьём по-Сталински врага…», салютовали, копошившимся в огородах аборигенам. Горнист пытался что-то выдуть из своего горна, но получались одни киксы, как у молоденького петушка, который только начинал учиться кукарекать. После деревни машина проехала ещё километра два и остановилась в лесу, на заранее облюбованной поляне, на самом берегу Днепра. Кое-как поставили палатки, натаскали сучьев для костра, всё это конечно, под руководством пионервожатых. Жизнерадостно пообедали, привезёнными с собой продуктами, стали бегать по поляне, покрикивая, взвизгивая, ловя бабочек, восхищаясь красотой сорванных цветков.
Сами они, молочно-розовые, как бы явились сюда из жизни, где каждый из них, словно «в масле сыр катался». Но, баюкавшая их телеса судьба, с заходом солнца показала своё негативное мурло. Голодные и жадные до всего вкусненького, на них налетели тучи комаров и мошкары. Как прошёл вечер, ночь – эта тема для «ужастиков»! Те жизнерадостные ребята, которые приехали вчера и, стоявшие на утренней линейке сегодня, – очень разнились. Желание искупаться – сразу же обросло проблемой. Днепр был рядом, но он был внизу крутого обрывистого берега. Несколько сотен метров от лагеря была широкая отмель, доходившая почти до противоположного берега, с отличным песчаным пляжем. Прямо, надо сказать, жемчужина!
Но поумерив восторг, надо отметить, что эта жемчужина была оправлена в полукруг густых прибрежных кустов, среди которых доминирующее положение занимали растения, называемые шиповником. Шиповник – это дикая роза, но вот шипы этой дикой розы, значительно превосходят шипы своей цивилизованной родственницы. Мало того, что они царапают, прокалывают кожу, глубоко в неё внедряясь, они оставляют кончики своих шипов под кожей, которые потом ещё очень долго напоминают о себе.
Некоторые деревенские ребята, из любопытства захаживали в этот пионерский лагерь. Там их угощали вкусной деликатесной пшённой кашей с маслом. Ни эта тонкая еда, ни сами обитатели этого лагеря, не вызывали у местных ребят ни зависти, ни восхищения.
Вид их, обгоревших на солнце, с облупившимися носами и плечами, оцарапанных и поколотых шиповником и кустарником, вызывали у местных ребят уж если не сострадание, то снисходительность. Кажется, эти бедолаги, так до конца своего срока не дотянули. Сердобольные родители вызволили их из этого ужасного лагеря. Больше претендентов на это курортное место не нашлось. Так, или примерно так, проводили свои летние каникулы городские ребята – школьники. А вот, как обстояло дело с летними каникулами у деревенских ребят.
Каждая деревня являлась бригадой какого-нибудь колхоза. Стало быть, в ней был колхозный бригадир. Так вот этот бригадир ждал летних каникул ничуть не меньше, чем сами школьники. Ещё бы, эти ребята от восьми до четырнадцати лет, а таких в деревне было много, уже могли выполнять большой набор работ.
Узнав, что объявили летние каникулы, бригадир, приосанившись, даже как-то помолодев, заходил утром в хату для дачи нарядов. Основное внимание уделял молодым кадрам. «Каникуляр», польщённый таким вниманием бригадира, охотно соглашался помочь колхозу накормить Родину. Каждый понимал, что это была игра, но пытался соблюсти этот придуманный этикет. И так, какие же это виды работ, которые должны были украсить жизнь деревенским ребятам на период их летних каникул. Представим картофельное поле. Уже взошла и немного поднялась картофельная ботва. Но и не дремлют сорняки. Они дружно и густо возросли в междурядье картофельной ботвы. Здесь и будет применение труда для ребят.
Управляет окучником, вцепившись в его ручки, шестиклассник. Из одежды на нём одни залатанные штанишки, завёрнутые до колен босых ног, которыми он ступает по свеже – взрыхлённой борозде. Чтобы лошадь шла точно между рядами, её тянет за повод школьник, уже перешедший в третий класс. Он очень горд, что ему доверили такую ответственную работу. Он также одет, как и тот, который идёт за окучником, но ему приходится идти по колючим сорнякам. Мало того, лошадь, мотая головой, чтобы отогнать мух и особенно злых слепней, мотает и своим поводырём, который летает перед её передними ногами, цепко держась за повод. Из-за его обуглившийся кожи, его вполне можно принять за негретёнка. Насекомые боятся на него садиться, так как он не только держится за повод, но успевает ловко шлёпнуть муху или овода, пока те ещё намериваются его укусить.
У него есть мечта, годика через два самому управлять, пока ещё тяжёлым для него, окучником. Ну, вот дневной урок выполнен, и уже превратившись в наездника, малец босыми пятками понукает выпряженную лошадку к ускорению. И та, наперёд зная, что её ожидает ночное на заливном лугу, и в самом деле переходит на рысь, и даже пытается изобразить галоп, вызывая восторг у своего наездника.
Итак, работы по окучиванию картошки закончены. Потом, через какое-то время, будет повторное окучивание, но это не сразу. А что на очереди? Ребята, которым за двенадцать, уже мужики. Их можно использовать на подсобных работах по ремонту дорог. Многие ребята уже научились косить и косили для своих коров, а более крепких ребят приглашали на косьбу в бригаду.
Совсем маленькие, которым не находилась по их силам работа в колхозе, ходили в лес, собирали ягоды, грибы. Потом эту продукцию леса отвозили на рынок, продавали, а это уже заработок. Летом обеденный перерыв был продолжительностью до шести часов. У более пожилых колхозников, можно сказать это была сиеста, а подрастающее поколение, несмотря на погоду, группировалось на берегу Днепра. Самые маленькие плескались у берега, голенькие, синенькие, счастливые. Ребята постарше отплывали от берега на несколько метров, поворачивали обратно, понемногу увеличивая расстояние. Конечной целью было переплыть Днепр. Но и не только. Постояв немного на том берегу, на мелководье, отдохнув, нужно было переплывать обратно, на свой берег.
Ребята, которые без остановки переплывали туда и обратно, получали статус «умеющего плавать», а до того, только «учившиеся». Стиль плаванья был разнообразный. Малыши барахтались у берега по-собачьи. Умеющие плавать, гребли сажёнками – этакий гибрид кроля, брасса, баттерфляя. Этим стилем они могли плавать, сколько захочется, без устали, но уж если уставали, ложились на спину и так «а ля медуз» могли лежать сколько угодно, отдыхая, превращаясь, таким образом, почти в земноводных.
Помимо плаванья, старшие ребята сооружали вышки с трамплином. Становясь на самый конец длинной гибкой доски, которая высилась над глубоким местом реки, прыгуны раскачивали её, прыгали, кто вниз головой, кто вниз ногами «солдатиком». Ребята, поопытнее, посмелее, пытались даже делать обороты. Всё это и плаванье, и прыжки, никакого отношения к классике не имело, зато до краёв было наполнено творчеством, кто на что способен.
Глава семнадцатая. Пора сенокосная
Почему-то сенокосная пора выделяется из общего набора сельскохозяйственных сезонных работ. Поэты серебряного века воспели её с особенным флёром романтизма. Потом даже советский реализм не смог до конца огрубить эту пору сенокосную.
Ещё не высокое солнце раннего утра переливается своими лучами в капельках росы, которая по своей чистоте может поспорить с бриллиантами. Косари, изготовившиеся на краю луга, лишь на мгновение полюбовались этой россыпью, глубоко вдохнули свежесть трав и цветов, сверкнули косы, брызнул сок трав. «Коси коса – пока роса». Теперь над лугом стоит плотный аромат скошенной травы, чем-то напоминающий запах свежих весенних огурцов. За день, подсохшая скошенная трава, уже имеет дурманящий запах сена. Парфюмерия почти безуспешно пытается придать своим изделиям ароматы, присущие самой природе.
Бригадир косарей Васька, по прозвищу Сыч, ставит на покос на почётное место, за собой перед бабами, подростка, уже умеющего косить. Бабы с этим, в основном, не спорят: мужик есть мужик. А если какая из баб возропщет, то Васька Сыч непременно на её покосе найдёт пучок не скошенной травы и пригрозит связать этот пучок с её волосами. Все понимают, о каких волосах идёт речь.
Солнце поднялось выше, и роса пропала. Вступает правило: «роса долой – коса домой». Как раз в это время на луг высыпает большая, в цветных ярких ситцах бригада женщин, среди которых немало школьниц, имеющих силу и сноровку управляться с граблями, для того, чтобы ворошить свежескошенное сено. Сено, это не просто сено, а основной корм для коров, лошадей и других животных.
Сена нужно очень много, так как с каждым годом увеличивается поголовье. Для заготовки сена скашиваются большие луга, находящиеся в лесу. Много качественного сена дают приднепровские заливные луга. Высохшее сено нужно быстро собрать в копны или даже стога, для его сохранения на зиму. В деревне было несколько сенных сараев или пунь, так их называли, ранее принадлежавших единоличным хозяевам. Так вот, эти сараи разобрали и из них собрали один большой сенной сарай, в который и стали свозить сено с заливных и лесных лугов. Сено перевозили на обычных телегах, на которые ставили, для увеличения объёма дроги. Дроги, это габаритная деревянная решётка, прямоугольной формы, с высотой более метра, что позволяло увеличить кубатуру загружаемого сена. Сено перевозили, в основном, подростки.
Загрузят дроги огромной копной сена, а наверху сидит этот водитель. Ему забросят туда наверх вожжи, и он управляет. Мало того, что дорог ровных не существовало, все они были с рытвинами, ухабами, перекатами, но что ещё страшнее, так это дорога через глубокие овраги. Подъезжает воз к крутому спуску в овраг, тут не зевай, держи лощадь, чтобы она, упираясь, не давала возу разогнаться. Но когда уже больше половины спуска было пройдено, тут вожжи ослабевали, лошадь, подталкиваемая возом, да сама не без головы, набирала такую прыть, чтобы легче было подняться в гору другой стороны оврага. И так каждый день по десятку, а то и более раз. Перевернись воз в самой низине оврага, костей не соберёшь ни от лошади, ни от водителя.
Новый большой сарай быстро заполнялся сеном. Вся детвора была здесь. И это очень поощрялось всеми. Дети, кувыркаясь в сене, прыгая на него с балок, делали полезное дело. Они уплотняли сено. Так их развлечение имело полезное прикладное значение. За лето успевали сделать на лугах по два укоса. Правда, второй укос был менее значительный. Отава, так называется трава после первого укоса, была более нежной и не такой обильной. Большой сенной сарай принял продукцию и второго укоса и был заполнен до самого верха, ценнейшим, хорошо высушенным и вовремя убранным сеном. Все, кто принимал участие в этом деле, а это было почти всё население деревни, радовались: теперь корма хватит на всю зиму и что весну животные встретят в полном теле. Так уж всем надоело смотреть на отощавший за зиму скот. Был даже анекдот, идут мужики к колхозному хлеву с верёвками: куда вы, мужики?
– А, идём поднимать сельское хозяйство.
Так человек полагает, а Бог располагает.
Николаевские деды, так в деревне называли стариков, живших ещё при Царе, ностальгически сетовали: вот раньше заканчивается какая работа, приходит поп, всё окропит, осветит, чтоб всё собранное и убранное Господь сохранил.
Был ясный, но уже не жаркий августовский день, когда огромные чёрные клубы дыма поднялись высоко в небо. Это полыхал большой сенной сарай, гордость и надежда селян, их пот, кровавые мозоли и под солнцем сгоревшие спины. Подойти к пожару, ближе, чем на сто метров, не было никакой возможности от нестерпимого жара и поэтому люди стояли в отдалении, многие плакали, бабы громко голосили, старики крестились, бывшие фронтовики густо матерились.
Некоторые ребята, как то сразу повзрослевшие, набирали вёдра воды в колодце, мчались с этим ведром воды на гору огня. Нестерпимый жар останавливал их. С яростью выплёскивали ведро воды в сторону пожара. Эти, уже не дети, знали цену труда и ужас беды.
Никакой связи, в том числе и телефонной, не было. Так что, лишь увидев на горизонте огромные клубы дыма, некоторые пожарные подразделения, среагировали и по ухабистым дорогам, приехали к месту пожара и, как это всегда бывает, без воды. Тут же стали осведомляться, где ближайший водоём, чтобы протянуть туда пожарные шланги. Ближайшим водоёмом был Днепр, и до него было около километра. Таких длинных шлангов у пожарных не было.
К тому же мощность насоса вряд ли смогла подать воду на такое расстояние. Так вот и стояли пожарные, на безопасно приличном расстоянии от пожара, ничего не предпринимая, да и предпринять они ничего не могли. Тут подъехала пожарная машина, из областного города и даже с запасом воды. Неплохо подготовленные пожарные, быстро раскрутили рукава брандспойтов, и, прикрываясь от палящего жара, повели наступление на своего вечного врага – огонь! Быстро истратив запас воды, не причинив никакого урона пожару, пожарные отступили, отошли в сторону, и как все безучастно смотрели на пожар.
Хорошо спрессованное, сухое сено, очень долго полыхало, а потом долго-долго тлело, заставляя жителей сохранять противопожарную бдительность.
– Это хорошо, что не было ветра в сторону деревни, в то бы мы все сгорели, – возводя очи к небу, говорили жители.
Виновниками поджога оказались двое малолетних детей, которые забрались в этот сенной сарай, чтобы покурить, другого места им не нашлось. Один из них был сыном председателя колхоза, а другой братом колхозного счетовода. Так что списать этот несчастный случай на врагов народа, или других злопыхателей советской власти, нужды не было. С «органов» снята лишняя забота, лишняя головная боль. На этом всё и закончилось.
Глава восемнадцатая. Ситники
Высокое начальство усмотрело, что в перечне поставляемой государству сельскохозяйственной продукции колхозом, отсутствует зерно пшеницы. Грозной директивой указало: поставлять!
– Но у нас нет семян пшеницы, – пыталось отнекиваться колхозное начальство.
– Это не вопрос, – отреагировало районное начальство и прислало в колхоз несколько мешков зерна пшеницы. Развязали эти мешки и здесь многоточие… Это был мусор, или какие-то отходы, которые получаются при очистке зерна. Правда, в нём, в небольшом количестве попадались зёрна пшеницы. Но, с начальством не поспоришь, и бригадир разделил этот мусор по хатам колхозников: перебирайте!
И вот: стар и млад, в зимние вечера, при тусклом свете керосиновых лампад, стали отделять зерно от плевел. Отделили. Мусор выдавали по весу, под расписку в одном мешочке. Принимали уже в двух мешочках: в одном было зерно, в другом только мусор. Но вес должен был совпадать с выданным зерном с мусором. Тут чтобы ни-ни, ни один грамм государственного даже мусора не украли эти вороватые люди – колхозники.
Пришла весна, наступила пора сева. Под ценную пшеницу выделили самое лучшее поле. Из дедов выбрали самых опытных сеятелей, которые и внесли эту пшеницу, в своевременно подготовленную землю. И она, Матушка-кормилица, всегда отвечающая на доброту человеческих рук, дала вскоре дружные всходы.
Пшеница уродилась добрая, на загляденье. Она стояла высокой стеной, позванивая зрелыми колосьями. Для её уборки МТС прислала комбайн. На это чудо сельскохозяйственной техники налюбовались, особенно ребята, любящие технический прогресс, а вернее будет, не любящие дурную тяжёлую работу.
«Комбайн косит и молотит, и солому в стог кладёт», – так пелось в народной песне какого-нибудь Блантера или Дунаевского. Как только утреннее солнце осушило росу, комбайн с душераздирающим грохотом приступил к работе. За ним, на скошенном поле, оставались только кучи измятой, истерзанной соломы. И это вместо, обещанных в песне аккуратных стогов.
Время от времени комбайн подъезжал к утрамбованной площадке, и из бункера высыпал зерно пшеницы. Старшие ребята тут же принимались за дело. Они насыпали зерно в мешки, ставили на весы, кладовщик ловко взвешивал, мешок завязывали и снимали с весов. Кладовщик был свой, колхозный, но рядом с ним постоянно находился человек из района, в длинном плаще, с сумкой через плечо и в блокнот, похожий на планшет, постоянно заносил цифры, которые получались при взвешивании мешков с зерном. Пшеница, действительно, была очень добротной на вид. Шурика, работавшего с зерном, это приводило в восторг и он, немного шепелявя, мечтательно произносил: а хорошие ситники будут. Как же я люблю ситнички!
В этом он был не одинок. Картошка, да кислый ржаной хлеб, являлись основной едой и для взрослых, и для детей. Белые батоны редко когда привозили из города. И хотя они были самые дешёвые из белого хлеба, но даже и они являлись лакомством.
Комбайн сделал последний заход, высыпал зерно, и затарахтел по сельской неровной дороге к себе в МТС. К мешкам с зерном, задним ходом, тут же подкатила машина. Откинули задний борт, в кузов забрались несколько крепких ребят. Остальные ребята по трое на мешок, стали забрасывать мешки с зерном в кузов. Почему по трое на мешок? Двое брали мешок за края, раскачивали его, а третий, изо всех сил подсаживал этот мешок посередине.
Только такая слагаемая сила могла поднять мешок в кузов. Загрузили всё зерно, закрыли борт. Человек из района сел в кабину рядом с шофёром. Машина тронулась с места и, по неровной сельской дороге, укатила на заготовительный пункт государства.
– Вот тебе и ситнички! – ехидно сказал Иван, самый здоровый из ребят, Шурику. Все ребята, так дружно работавшие, как то сразу сникли. Это, скорее всего, от усталости.
Вот с этого и начинается истинное понятие «Родина». Так как очень разнятся: «Родина» для властителей и «Родина» для «простого народа».
Глава девятнадцатая. Что такое трудодень
Небольшой исторический экскурс.
В рабовладельческих государствах рабам не платили жалование, их только кормили, да одевали по назначению для работы. В советском социалистическом государстве ново-придуманному и новообразованному сословию, которое называлось «колхозники», совсем ничего не платили за их труд. В отличие от рабов, государство колхозников не одевало, не кормило, но – обирало! При царе у каждой семьи были наделы пахотной земли. Большевистский апартеид забрал эти земли для колхоза, оставив колхозникам, клочок земли в двадцать пять соток для огорода и домашних построек.
Крестьяне, ещё пожившие при царе, только головой покачивали: раньше гектара было мало, а теперь вот этого клочка хватает.
Мало того, имеешь коровёнку – сдай государству триста литров молока. Плати денежный налог за каждое плодовое дерево, растущее на приусадебном участке. Если доводилось платить колхознику за что-нибудь деньги, например, за сданное государству молоко, то вместо денег ему выдавались облигации государственного займа. Были и другие налоги на личное хозяйство, где деньги могли заменяться дополнительной сдачей молока, масла. Но самым изощрённым издевательством при оплате колхозникам за их труд, являлся «трудодень».
Для оценки и осуждения творцов и придумщиков этого мерила, легитимным и адекватным может быть лишь высший суд, то есть, суд Божий! Как правило, все земные суды во все времена добавляли большие порции цинизма в свои решения, особенно в подобных ситуациях.
Здесь необходимо подробнее рассказать «о трудоднях». Трудодень – это слово сложное, двух корневое. Первое слово труд, присутствующее в этом словосочетании, совершенно справедливо, потому что, если бы не было труда, то откуда могли бы появиться поставки государству зерна, картофеля, льна, уже переработанного в «льнотресту». Этот список можно продолжить сдачей молока, мяса и некоторых других продуктов и товаров, не вошедших в этот реестрик.
Что же касается второй части слова «трудодень», а именно слова «день», то оно в данном случае абстрактно, и не применимо как критерий чего бы то ни было, что давало возможность не ограниченной вариативности, по усмотрению начисляющего или применяющего «трудодень». Ведь если же брать трудодень, как мерило труда от восхода до заката, то день, в течение года, разнится по продолжительности: очень длинный день летом, и очень коротенький день зимой. Так что разобраться в этой бессмыслице невозможно, на что и рассчитывали изобретатели этой абракадабры, которой они так искусно «заплетали мозги» колхозникам. И всё-таки, как же на практике применялось это мерило, чем и что оно измеряло.
В блокноте бригадир вёл учёт работы школьников, но поскольку они не являлись колхозниками, то в журнале начислялись трудодни на их родителей. Сам трудодень состоял из ста единиц, поэтому можно было начислить трудодень или его сотые части. На квалифицированной работе взрослый колхозник мог получить даже несколько трудодней за один день. Слово трудодень, мало кто вслух произносил, называли обычно эту единицу «палочкой». На этот счёт, обычно, ерничали женщины. Они подходили к бригадиру и спрашивали: сколько ты сегодня нам бабам за нашу работу поставишь «палок»?
– Да, уж не обижу, постараюсь… – деланно смущался бригадир.
Впрочем, никто не хотел ходить на эти колхозные работы. Желаннее всего, было в сезон сходить в лес, набрать ягод и грибов, отвезти их в город, продать, вот тебе и деньги.
Рядом лесхоз, железная дорога, куда можно было вложить свой труд и получить за него вознаграждение советскими деньгами, а на них, или за них, хоть они и советские, но можно было купить одежду, а то и недостающий продукт, в виде сахара, а то и курева, и водочки. Не у всех был самосад и не все могли выгнать самогон, так как не из чего было. Местное начальство быстро среагировало и выдало постановление, в котором указывалось, что каждый колхозник должен выработать минимум трудодней. Этот минимум составлял триста трудодней за год или в год.
Далее, как всегда в подобных постановлениях, следовали угрозы: а иначе…, если…, то…. Так что колхозникам деваться было некуда, и они вырабатывали этот минимум, во всяком случае, старались. А в этом их старании, как раз и помогали их несовершеннолетние дети. Гонит взрослый стадо коров, лошадей, овец, а рядом с ним двое, а то и более помощников.
– Забеги, Мишка, вон оттуда, да шкурни этих овец!
– куда это Алёнина корова нацелилась? Ну-ка сбегай, Васька…
Стада гоняли на лесные луга. Волков в лесу после войны развелось очень много. Летом им еды было предостаточно, так что они в контакт с людьми и домашними животными не входили, а зимой весь скот находился в сараях и хлевах.
В кино можно было видеть, как где-нибудь на юге, стадом управляет один чабан или пастух, но помогают ему в этом огромные специально натасканные собаки. В дерене эту роль выполняли ребятишки. Собак в деревне мало кто содержал, это было накладно: «лучше свинью выкормить…», так что труд малолетних или несовершеннолетних нигде не фиксировался, не учитывался и, как бы, нигде не применялся к большому удовлетворению правителей страны. Они с большим воодушевлением указывали перстами на нарушение этого правила на Западе. Несмотря на то, что уже закончились летние каникулы и ребята пошли в школу, они после занятий и в воскресные дни, продолжали помогать колхозу и своим родителям. Ведь никто не отменял пословицу: летний день год кормит.
Глава двадцатая. Новая школа
Новая школа мало чем отличались от школы старой. Почти тот же учительский состав, как говорилось: мы думали – свежи, а они всё те же. Правда, директор школы был новый. У него было два сына, тоже школьники, которые носили ему пиво из ближайшего сельпо. По пути они отпивали понемногу пива, аккуратно открывая пробочки и так же аккуратно закрывая. Перед тем, как отдать бутылки с пивом отцу, они встряхивали их, отчего те казались полными. Этим, маленькие директорские пройдохи, явно гордились.
Школа имела запах свежей краски, непривычный для деревенских ребят, поэтому им не очень надоедавший и даже придававший новой школе этакий шарм, городской школы.
Специальных кабинетов для лабораторных работ в школе не было, правда, в некоторых классах стояли шкафы со стеклянными дверками, через которые можно было увидеть простейшие сосуды и приборы для предметов химии и физики. Всё это у некоторых ребят, а таких, пожалуй, было, большинство, только усилило равнодушие к школе и к занятиям в ней. Несколько компенсировало положительное настроение от первого дня посещения школы, дорога, путь от железной дороги до шоссейной дороги за лето подсох, а уж идти по ровному асфальтовому полотну, было одно удовольствие. Было ещё не маловажное преимущество нового пути в школу. Можно было, поднимая руки, голосовать проходящим машинам и некоторые из них останавливались, особенно грузовые бортовые машины, скорее всего из ближайших колхозов.
Ребята быстро заполняли кузов и довольные, счастливые, подъезжая к школе, барабанили в кабину, а после остановки дружно выкатывались из кузова. Восхищались скоростью легковушек, мощным рёвом грузовиков. Дорога покорила школьников своим разнообразием, наглядно демонстрируя высоты прогресса, цивилизации.
Но, всё течёт, всё меняется. Незаметно наступила поздняя осень. Обложные дожди тут же организовали слякоть, болотная трясина стала набухать, угрожая своей непредсказуемостью потенциальным жертвам. Тоненькие жердочки, перекинутые через самые топкие места, стали очень скользкими, так что не каждый канатоходец прошёл бы по ним, без риска угодить в трясинную холодную глубину.
Есть поговорка: из огня, да в полымя. Здесь же грозный дуализм представляла переправа через Днепр, а затем переход через болото. Выбравшись на шоссе, отдышавшись и успокоившись, школьники с удовлетворением наслаждались услугами цивилизации. Выпавший снег, проносившиеся машины уплотняли своими шинами, отчего он становился скользким и, немножко разогнавшись, по нему можно было долго скользить. Усилились снегопады, морозы, но болото в своих трясинных местах, так и не желало замерзать. Зато Днепр замёрз, покрылся снегом, и стал надёжным мостом. Как гласит народная мудрость, неприятность одна не ходит. Так что к незамерзающему болоту тут же подоспела новая угроза.
Школа работала в две смены, и первая смена, только после первого урока, видела рассвет в окнах. Стало быть, весь путь от дома до школы, проходил в темноте, как бы ночью. Однажды, зимней январско-февральской порой ребята, выбравшись на шоссе, внезапно остановились. Из болота, по ту сторону шоссе доносился волчий вой. Сначала это было соло, очевидно, вожака, затем вступал дружный, мощный хор всей его стаи. Некоторым ребятам и раньше приходилось слышать подобные концерты, но в тех случаях, ситуация была не столь угрожающей.
– Ну, ничего, на шоссе они не сунутся, тут шум машин и свет фар, – успокаивали старшие ребята, своих младших спутников. Домой ребята возвращались из школы уже днём, коротким, зимним, но днём. И как же они были обеспокоены, мягко выражаясь, когда возле самой тропы, по которой они ходили, а то и прямо на ней, увидели огромные волчьи следы.
У каждого, уважающего себя мужика, а ребята считали себя именно такими, было припрятано огнестрельное оружие, в виде пистолетов, гранат, но не тащить же с собой в школу это вооружение. Уже не те времена. Могут не правильно понять. Так что ребята тут же отмели этот способ защиты. Немного подумав, вспомнили древний вариант защиты в подобных ситуациях. А конкретно – факелы. Так что сразу после школы, ребята, постоянно консультируясь, принялись изготавливать факелы. Они прибивали к палкам всё, что могло как можно дольше гореть, дымить, а для этого пригодились обрезки шин от велосипедов и машин, полностью изношенные валенки, рукава от ватных курток.
– Голь на выдумки хитра! – посмеивались над собой ребята.
И вот какой спектакль, нет-нет, точнее факельное шествие, устроила эта братия на другое утро в своём походе в школу. Перейдя железнодорожную насыпь и углубившись в приболотный лесок, ребята остановились, воткнули палки своих факелов в снег, достали пузырьки с керосином, облили им будущие факелы и подожгли. Уж очень впечатляющее было зрелище, что оно даже вызвало неописуемый восторг факелоносцев. Факелы осветили тропу багровым светом. Горевшие шины плавились, скворчали и обдавали всё вокруг нестерпимым смрадом. Что касается ребят, тут всё понятно, они и не к такой вони привыкли с детства, а вот что касается волков, этих хищников, с тончайшим обонянием, воспитанным лесным воздухом…. Так что, если волки и были где-то недалеко, от тропы, от предмета своей охоты, то тут дай им только, лесной Бог ноги!
Когда ребята выбрались на шоссе, они долго стояли, размахивали факелами, дико орали в сторону, откуда доносился волчий вой, так что там всё и надолго затихло. Сколько потом ребята ходили в школу с факелами, без факелов, ничего подобного, похожего на волчий вой или на волчьи следы у их тропы, не слышали и не наблюдали. Как говориться, пугнули сереньких, переориентировали их охотничьи направления в другие стороны, так как объект охоты на ребят, школьников им оказался не по зубам.
Вот какой оказалась, если не новая школа, то дорога в новую школу. Сама же учёба в школе, постижение знаний от её уроков, было, как уже говорилось раньше, не столь притягательным для очень многих учеников. Они всеми правдами и неправдами старались увильнуть, от непонятного, а значит и ненужного для них процесса.
В каждом классе было много второгодников, переростков, практически мужиков. Им было даже стыдно ходить в школу. В колхозах они работали уже наряду с мужиками, и это их вполне устраивало. Они, не стесняясь, декларировали своё житейское кредо: были бы щи покислее, да изба потеплее. К тому же школы сельской механизации принимали после пяти, шести, не говоря уже после семи классов. Поступающим в школы механизации тамошние академики льстили: окончившие нашу школу – это для армии будущие танкисты, шофёры и другие, уважаемые в армии, специалисты. Широкие горизонты в жизни открывались ребятам, не желающим учиться в простой школе. Правда, были немногие школьники, которым учёба доставляла большой интерес.
Они брали учебники у старшеклассников и за летние каникулы, от нечего делать, изучали эти учебники от корки до корки. Что-то непонятное в алгебре, физике или химии, они очень быстро постигали во время учёбы. Слышали эти ребята даже об экстернате и искренне сочувствовали сами себе. А то и своим родителям, сколько бы те сэкономили на обуви, одежде, еде на своих детях, если бы те вместо десятилетнего пребывания в школах, вместе с трудным хождением туда, сократили этот срок лет до четырёх – пяти. Пытались такие надоедливые ученики этими вопросами беспокоить учителей. На что те, сурово сдвинув брови, отвечали, что умничать не надо, ученик не бывает умнее учителя.
– Вот поставлю двойку, и будешь ходить на дополнительные занятия все свои каникулы.
На родительских собраниях наряду с осуждением нерадивых учеников, указывалось на недостойное поведение, на зазнайство учеников способных. Этим они так запутывали родителей своих учеников, что те не всегда понимали, как относиться к своим детям и не знали, кого ругать, кого хвалить.
С началом каждого учебного года, особенно в старших классах, становилось всё просторнее. Бросали учёбу не только переростки «мужики», но и девочки, которые считали себя достаточно взрослыми, и почти готовыми для самостоятельной жизни. В итоге, в выпускных классах оставались считанные единицы.
Эпилог первой книги «А вот и Я»
В этом месте автор приостановил своё обобщающее повествование «Мемуары». Всё, что до сих пор происходило, «варилось» в общем жизненном котле с его пространственными и временными обстоятельствами. До поры это оправдывало цель мемуаров. Но вот пришло время, когда из этого «общака» должно выйти личное местоимение – «Я».
Оно ещё будет перекликаться с прошлыми событиями, чтобы ярче очертить характер «Я», отчётливее выразить свои мысли, стремления, интересы, увлечения, свои симпатии к людям, соприкасавшимися с его судьбой. Итак, ещё одно напутствие, теперь лично для «Я»: пусть будет трудно, но интересно!




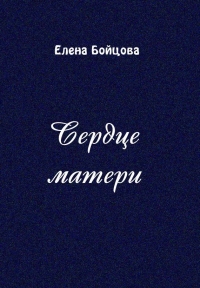



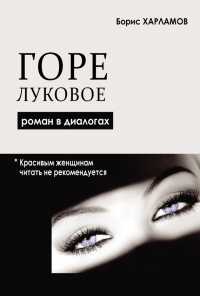


Комментарии к книге «Послевоенное детство на Смоленщине», Владимир Тимофеевич Фомичев
Всего 0 комментариев