40 градусов Эдуард Анатольевич Коридоров
Посвящается Андрею Ивановичу Грамолину, лучшему моему другу и собутыльнику, и Екатерине Николаевне Долговой, в доме которых и родился замысел этой книги.
© Эдуард Анатольевич Коридоров, 2015
© Надежда Григорьевна Махновская, иллюстрации, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
От автора
Эта книжка написана из корыстных соображений.
Во-первых, с годами все чаще начинаешь повторяться. Одним и тем же людям рассказываешь одни и те же истории. Надо бы с этим покончить раз и навсегда.
Во-вторых, автор – человек много пьющий и пока не собирающийся «завязать». Мне хотелось уверить самого себя в том, что хотя бы часть когда-то выпитого была выпита не зря.
Все, о чем вы здесь прочитаете, случилось на самом деле. Почти ничего не придумано и не приукрашено. Почти. Разве что некоторые имена изменены.
Однако это вовсе не мемуары. И не сборник анекдотов. Это попытка пережить заново то, что давно лежит на душе. Попытка со стороны взглянуть на себя, одурманенного выпивкой чудака, которого в море житейском швыряло от высокого к низкому, от смешного к грустному, от находок к утратам.
Возможно, именно водка не давала мне отчаяться и утонуть. Она – спасительный мостик между двумя берегами, союз «и» между крайностями. Она – прибежище слабых. Но ведь слабым быть не стыдно, если вокруг буря, и она заведомо сильнее тебя. Иногда стыдно быть трезвым, расчетливым и шустрым.
Впрочем, каждый оправдывает свои дурные привычки по-своему. Да и книжка эта – не оправдание, а память о прошедшем и канувшем, какая ни на есть.
Эйфория и отчаяние
Во всем должна быть золотая середина.
Крайности – вредны.
Они ломают людей, жизнь ломают.
Скажем, в обычном среднестатистическом плохом настроении человек еще терпим. Он криком кричит, стоном стонет, воплем вопит – но хуже делает только одному себе.
А когда человек переступил черту, впал в депрессию, всем вокруг надо срочно все бросать и с ним, дураком, возиться.
Та же картина маслом, если рассматривать пребывание человека в обычном хорошем настроении – и в эйфории.
Очень часто опасными дураками становятся, впав в эйфорию посредством активного употребления спиртных напитков.
В радиокомпании «Студия Город» народ любил корпоративно выпить. Радиокомпания располагалась в главном городском здании, бок о бок с депутатами и чиновниками. Поэтому, чтобы не стеснять отцов города широтой корпоративной души, радийщики дожидались окончания регламентированного управленческого рабочего дня – а уж потом гуляли.
На первой же такой гулянке с моим участием я впал в эйфорию.
Оно и неудивительно, поскольку в ту пору меня неожиданно унесло из журналистов в деятели PR. Сидел я в том же главном городском здании скучным аппаратчиком, производителем инвалидных от рождения пресс-релизов. А бывшие коллеги продолжали жить весело и плевать хотели на политические страсти и интрижки.
И вот гуляем мы вместе с радиокомпанией. Славка Буторов мне водку наливает, Коля Порсев со мной чокается. Кто-то откуда-то гитару вынул, мне в руки сунул. Я пою-заливаюсь, девушки радийные глаз с меня не сводят. А Таня Анисимова все песни заказывает.
– А на окне наличники! – надрывно голосим мы с Таней. – Гуляй да пой, станичники!
Хорошо мне стало. До того хорошо, что невозможно сиднем на месте сидеть, столбом стоять, песни без конца петь.
Славка мне еще раз налил, Коля еще раз чокнулся – и пошел я вдруг по коридорам власти гулять бесцельно, пустыми руками размахивая.
И ведь обязательно в такие моменты что-то возьмет и прыгнет под руку. Иду, смотрю – отвертка лежит. В другой бы раз не заметил. А тут – как будто ее и разыскивал.
Взял отвертку, иду дальше. А чего бродить-то? Все вокруг казенное, одинаковое. Прямо – коридор власти, справа-слева, за инкубаторскими дверями, – кабинетики. На дверях инкубаторские же таблички.
«Орготдел». «Отдел приватизации жилья». «Управление работы со входящей документацией». И прочая ахинея.
Не всегда мы вольны в своих действиях. На графоманов, к примеру, очень часто нисходит вдохновение, и сам господь создает их руками малограмотные, но многочисленные творения. В тот момент, в тот гулкий вечерний час я был категорическим придурком, руками которого любой вдохновитель мог состряпать что угодно.
Очень сомнительно, что моими дальнейшими действиями заведовал господь бог или другая какая добрая сила.
Возможно, вдохновитель тоже, со своей стороны, пребывал в пьяной эйфории.
Сомнамбулой подошел я к первой двери и шустро открутил отверткой табличку. Аккуратно положил ее в невесть откуда взявшийся пакет. Затем двинулся к соседней двери. Затем к следующей. И не успокоился, пока не осиротил двери всех кабинетов на длиннющем этаже.
Твердо знаю, что делал я это, оставаясь совершенно равнодушным к своему нетривиальному занятию. Я вообще думал о чем-то другом. Было мне свободно и беспечально. Наполнив пакет табличками, я тут же забыл о них и вместе со всем этим скарбом притащился обратно – туда, где бренчала гитара и осипшие собутыльники безуспешно пытались построить многоголосие.
Следующий акт этой драмы имел место быть той же ночью в квартире Тани Анисимовой, в присутствии ее мужа Сереги. Шатаясь от пережитого, располагаемся мы на тесной, как положено, кухне, чтобы продолжить празднование. У нас с собой, конечно, было. Ставлю я на стол пакет, в котором и должно было быть, а Серега, мечтающий нас догнать в развитии, лезет внутрь нетерпеливо. И тут глаза Сереги округляются. Потому что в пакете – все таблички с четвертого этажа главного городского здания. И что они делают в пакете, а тем более у Сереги дома – никому непонятно.
Я честно дал ответы на все поставленные передо мной вопросы. Суть своей недавней инициативы я изложил быстро и четко. Правда, на вопрос: «Зачем?» – ответа у меня не было.
Отчитываясь перед коллегами о проделанной зачем-то работе, я улыбался, как идиот, и временами даже прихохатывал, а один раз пустился в пляс, помахивая отверткой.
– Ты что, не понимаешь, что ты натворил? – серьезно спросил меня Серега, как маленького. – Он не понимает, что натворил.
Я не понимал. Но уже начал понимать, что недопонимаю чего-то крайне важного.
– Ну, ты представь, – начал мне объяснять Серега, как маленькому. – Утро. Зима. Темно. Холодно. Чиновники пришли на работу. Они тоже люди, им с утра плохо. Чиновник на автопилоте достает ключ, начинает открывать родной кабинет. И шестым полуотмороженным чувством чувствует – что-то не то. И весь в холодном поту осознает, что у него с двери сняли табличку.
– Ужас, – бледнея, выдавливаю я.
– Не то слово, – с металлом в голосе произносит Серега. – Потому что в холодном поту одновременно окажутся 58 чиновников. Если бы табличка пропала у одного – это ладно. Они бы над ним посмеялись и забыли. Одного пнули – это не повод для коллективного сумасшествия, тем более в такой серьезной конторе. Это повод для радости, что не тебя пнули. Но когда сразу 58 уволенных… Люди загнаны в угол. Они не поверят никаким объяснениям и пойдут на все. Город в опасности.
– Ужас! – я из эйфории стремительно падал в противоположную крайность.
– Надо что-то делать, – предположила практичная Таня Анисимова. – Но что?
Мы задумались. Медленно и как-то индифферентно нарезались помидорчики и огурчики, отрешенно наполнялись и осушались рюмки. Мы погрузились в размышления, но выхода из тупика не видели.
Часам к пяти утра Серега, догнав нас в развитии, взорвал тишину мощным возгласом:
– Иван!
На кухню приплелся, позевывая и часто моргая, сын Тани и Сереги, школьник Ваня.
– Матрос! Ты один среди нас еще подаешь какие-то надежды, – сказал ему отец. – Возьми этот пакет. Возьми отвертку. Возьми деньги. Садись в такси и поезжай в главное городское здание. Найди там четвертый этаж – не перепутай. Твоя задача – прикрутить таблички обратно. Это важно. Возможно, это спасет нас от великих потрясений. Они нам не нужны. И гляди, в школу не опоздай.
По виду Вани нельзя было сказать, что он считает отца авторитетным наставником. Но что-то в Серегином тоне подтолкнуло Ваню быстро собраться и двинуться в путь.
Мы проводили его, тепло закутали, дали школьный портфель, вторую обувь и дополнительных денег на мороженку.
– С богом, – сказала Таня.
Часов до семи мы предметно обсуждали эволюцию Ваниной личности, его неоспоримые достоинства и, в частности, его трудолюбие и сыновнюю преданность.
После этого, усталые, мы легли часок поспать.
К полудню я прибыл на работу.
Обитатели главного городского здания жужжали, гудели, трещали, дребезжали, как насекомые. Плотный пчелиный гуд сгустился под высокими сводами здания. Чиновники, сверкая ботинками, беспорядочно бегали по лестницам и коридорам, сталкивались друг с другом и, пожужжав секунду, продолжали отчаянное, непроизводительное движение. Из окон никто не выбрасывался, но многие обезумевшие пчелы, похоже, об этом уже начинали подумывать: они по очереди подлетали к окнам и с тупою тоской смотрели на улицу.
Я помчался на четвертый этаж.
Здесь было плохо. Коридор заполнили тюки, предметы мебели, связки макулатуры, штабеля папок и книг. Унылые, ничего не соображающие люди переносили все это с места на место со слезами на глазах.
Нет, Ваня не подвел. Не зря мы за него пили все утро. Таблички были добросовестно прикручены.
Но Ваня, конечно же, понятия не имел, какую табличку вешать на какую дверь. Он прикрутил таблички, руководствуясь незрелой еще мальчишеской интуицией.
Теперь 58 чиновников осуществляли странный, необъяснимый, унизительный переезд. Многие десятки их коллег тревожно жужжали о том, не поджидает ли их самих завтра такая же неприятность.
Посреди этого разгрома я столкнулся с Колей Порсевым. Он один здесь улыбался светло и широко.
– Старик, – сказал Коля, – в нашем пьянстве есть неоспоримая сермяжная правда. Вот гляди – тут все потеряли кресла под задницами и носятся, трезвые, злые и озабоченные. Нервные клетки гибнут миллиардами и безвозвратно. Задницам от этого не легче. А вот я потерял вчера импортную отвертку, – мне ее наши кулибины взаймы дали, – так я чего? Выпил с горя, и полыхай она синим пламенем. Не хочешь остограммиться?
Я хотел.
Бессилье мастеров и сила подмастерьев
На мероприятие все мужики словно сговорившись прибыли в состоянии отвратительном, малоработоспособном.
Предстоял переезд. Наша небогатая редакция постоянно кочевала по городу. Раз в год у нас обязательно иссякали финансы, и мы переезжали на более дешевые квартиры.
Редакционные женщины весело и споро паковали вещи, укладывали сумки. Мужская часть коллектива, запинаясь о землю, таскала вниз, к грузовичку, разнокалиберный скарб. Мужчины дружно мучились с похмелья. Оно в равной мере колотило и кряжистого зав. отделом культуры Альфреда Гольда, и поджарого многостаночника Анатолия Джапакова.
Пережить ужас трудовой повинности помогали крепкий морозец и ясное осознание того, что в финале мероприятия женщины накроют стол и спасут мучеников.
Мы забили грузовичок тюками, видавшей виды мебелью. Полдела было сделано. Слегка кренясь, труженики пера устремились в порт новой приписки.
Это был памятник архитектурного конструктивизма начала тридцатых годов. Новое обиталище редакции располагалось высоко, на последнем, пятом этаже. Лестничные пролеты были неимоверно узкими и крутыми. Сизиф, стоя у подножия горы, испытывал те же самые чувства, что и мы.
Делать было нечего. Пришлось работать.
Всех объединил героический порыв. На пятый этаж обреченно карабкались, волоча поклажу, и убеленный кое-какими сединами ответсек Юрий Дорохов, и я, только-только отбывший университетский срок. Организм каждого из нас, независимо от возраста, бешено сопротивлялся. По всему зданию разносились каторжные звуки – пересвист легких, сиплый кашель, почти предсмертное кряхтенье, звон невидимых цепей. По лестничным пролетам клубился дико исторгаемый нами перегар.
Руки инстинктивно брали там, у подножия, то, что полегче. Каждый подъем казался последним.
И вот на снегу у подъезда осталось лишь то, о чем не хотелось ни говорить, ни думать. Огромный, монументальный черный диван. Широченный, явно нетранспортабельный стол, за которым обычно проходили общие летучки. И венцом всему – пианино. Вещь абсолютно ненужная, отвлекающая от ежедневной добросовестной работы, приблудная, чуждая вещь.
Мы молча собрались внизу и молча закурили. Ощущение было такое, что стоим мы на кладбище среди многотонных угрюмых надгробий.
– Цирк! – произнес свое любимое словечко Джапаков, озирая окрестности.
– Нет, это нереально, – сказал Гольд. У него за плечами было освоение тюменского Севера, он знал, что говорил.
Наверху открыли форточку. До нас донесся радостный женский щебет. Звякали рюмки. Готовился праздник. Но попасть на праздник у нас шансов не было.
И тут я заметил неподалеку жалкую, скрюченную фигурку. Моментально оформилась спасительная мысль.
Вокруг каждой уважающей себя редакции имеется круг самодеятельных авторов, претендующих на опубликование того или иного бреда. В большинстве своем это люди сумасшедшие, тихие шизофреники. Они годами могут носить опусы на одну и ту же, милую их сердцу тему. Они досаждают своими визитами, звонками, униженными просьбами. Но рано или поздно оказывается, что в номер сегодня и сейчас не хватает 150 строк – и вот причесанный, перекроенный, на скорую руку обработанный бред сумасшедшего выходит в свет. Что придает новые силы всему их сообществу.
Я поманил пальцем нашего преданного графомана. Он вприпрыжку понесся навстречу.
– А мне сказали – вы переехали! – затараторил он. – Я туда – а вас нет, я сюда – а вы здесь!
Дорохов пихнул меня локтем: сумасшедший, непрерывно тараторя, уже лез в свой портфельчик, нашаривал в нем очередное сочинение. Этого допускать нельзя, подсказывал опыт, иначе придется битый час обсуждать с автором все его идиотские абзацы и фразы. Коллеги это понимали и с замиранием сердца следили за развитием событий.
Выследивший нас графоман помешан был на истории подводного флота страны. Он знал все круглые и некруглые даты героев-подводников. Как только дата подходила, он переписывал из энциклопедии соответствующую статью и тащил ее нам.
– Подводник? – сурово спросил я сумасшедшего, кивая на портфельчик.
Тот еще активнее залебезил, забормотал, засуетился и через секунду робко тыкал мне в грудь пачкой густо исписанных листков.
– Мы возьмем, – сказал я. – Возьмем, если вы поднимите все вот это вот к нам, на пятый этаж.
Сумасшедший бегло, без интереса бросил взгляд на придавившие нас надгробия. Ни страдания, ни сомнения, ни возмущения – ничего этого не отразилось на его физиономии. Он осекся на полуслове и тут же испарился.
– А что, хороший способ давать им от ворот поворот, – грустно пошутил Джапаков. – Давайте оставим это барахло здесь, чтоб шизофреники боялись.
Мы закурили еще по одной. Нет, остатков сил не хватало, трясущиеся конечности отказывались брать и нести.
И вдруг возле пианино, стола и дивана материализовался герой-подводник в компании с еще несколькими редакционными сумасшедшими.
– А у них возьмете? – осведомился он.
– Возьмем и у них, – уверенно ответил я.
Тогда я впервые убедился в фантастических способностях умалишенных. Графоманы, все как на подбор, были низкорослыми, ледащими, убогими. Но ими двигало что-то, что было сильнее их. Диван буквально взлетел в воздух и поплыл вверх по лестнице.
Мы уже праздновали переезд, когда бригада добровольцев, отдуваясь, взгромоздила на пятый этаж пианино. Теперь добровольцы выстроились у стены, нянча рукописи, как роженицы – младенцев. Их красные лица лучились восторгом победы. Их позы были трогательны в своей торжественности.
Такое количество бреда невозможно было напечатать в ближайших номерах. Чтобы избавиться от чувства вины, я отвел графоманов в отдельный кабинет и там выпил с ними бутылку водки. За выпивкой мы подробно обсудили все их творческие пунктики. Принесенные материалы прозвучали в авторском исполнении, некоторые – неоднократно. Это, вкупе с ожиданием главного счастья, тоже стало частичкой их праздника.
Статейки были мало-помалу опубликованы. Сумасшедшие продолжали являться, уточняли, когда же, наконец, напечатаем, кротко упрекали за долгие проволочки.
Но ни один из них не напомнил нам, нарушителям обещаний, о своих геракловых подвигах.
Немецкий дух и русские утраты
Знакомые сбагрили мне любознательного немца Руди. Он приехал изучать архитектуру советских городов. Я не мог отвертеться. Все знали, что я свободно общаюсь по-немецки.
Руди оказался классическим, правильным немцем, адептом пунктуальности и порядка. Каждый божий день точно в оговоренный час он ждал меня в назначенном месте с рюкзачком за плечами и с фотоаппаратом в руках.
– Привет, Руди! – бурчал я, мучительно, как оно часто бывает с утра, вспоминая чужие слова. – Надеюсь, ты хорошо отдохнуть?
– Хорошо! – лучезарно улыбался немец. – Мы можем работать!
– Никакая работа не волк, – назидательно формулировал я. – Она не бегает в лесу.
Руди обладал феноменальной работоспособностью. Он как заведенный, без перерыва на обед, носился по городу и щелкал фотоаппаратом. И задавал тысячу вопросов, как будто я призван был знать историю каждого здания, год его появления на этой улице и характеристики стройматериалов.
Ему действительно интересно было у нас в городе. Полным ходом шла повальная замена утлых исторических особнячков на стеклобетонный новострой. Центр города умирал в муках. Хозяева жизни рушили купеческие подворья, выстроенные когда-то с любовью, тщанием и знанием дела, и возводили узкоплечие высоченные офисные бараки. Им предстояло плыть дальше, к потомкам. Руди очень удивлялся, как горожане позволяют сносить памятники старины.
– Это же слишком дорого, слишком неразумно, – говорил прагматичный немец, поднимая брови. – Город теряет лицо. Теперь для туристов нужно будет строить что-то другое.
– Построят, – успокаивал я его. – Диснейленд, аквапарк, гипермаркеты.
– Но это уже есть в других городах, – не унимался Руди.
– Ну вот, а теперь и у нас будет.
Три дня пролетели как одна минута. Я махнул рукой на приличия и хмуро плелся за немцем, не утруждая себя развернутыми ответами на его реплики. Солнце пекло так, что я на 90% состоял теперь из ноющих потрохов и неприязни к трудолюбивому гостю.
– Руди, – время от времени взывал я. – Не хочешь ли ты мочить горло?
– Надо закончить нашу работу, – приветливо откликался Руди. – Не следует откладывать на завтра то, что стоит в планах на сегодняшний день.
Я чертыхался, кусал губы, локти и боролся с желанием укусить немца за его веснушчатый нос. Ничего нельзя было поделать. Отщелкав очередные руины, Руди задирал нос к небу, втягивал воздух, между делом ловил в кадр мою мрачную физиономию и радостной гончей устремлялся в новом направлении.
– Теперь мы закончили, – объявил наконец он. – Работа сделана. Мы должны это немного отпраздновать.
К тому времени внутри меня крутились самумы, поднимая тучи песка. Я провел горячим языком по растрескавшимся губам и ринулся к киоску. Затем, получив восемь бутылок ледяного пива, устремился к парку. Теперь уже Руди встревоженно семенил за мной, придерживая болтающийся фотоаппарат.
Я смог дать немцу какие-то объяснения не раньше чем выпил две бутылки пива. Руди тоже боязливо, оглядываясь по сторонам, сосал пиво из горлышка.
– Русская традиция, – прохрипел я, отдуваясь. – Мы любим пиво на свежий воздух. Из этого тело получает большую радость. Здесь мы будем делать наш маленький праздник.
– У нас не будет неприятностей с полицией? – спросил Руди.
– Ты должен быть всегда спокойным, пожалуйста, – сказал я. – Наша полиция сама охотно любит пить пиво через парк.
Руди послушно расслабился, и в нем сразу взыграло национальное самосознание. Он принялся вливать в себя пиво, как в бездонную бочку. Я не мог за ним угнаться.
– Хорошо, – сказал он, – отдыхать в парке. Здесь легко дышится, и можно выпить очень много пива.
– Да, можно, – благодушно согласился я.
– Однако, скоро нужно будет идти в туалет, – продолжал Руди. – Скажи, пожалуйста, где он находится?
Я рассмеялся.
– Видишь ли, Руди, здесь туалету не бывать.
– Как? – изумился немец. – Если здесь пьют пиво, то должен быть туалет. Иначе куда же ходят люди?
– Куда? – весело переспросил я. – Очень просто. Мы прячем тело в деревьях. Хочешь, пойдем вместе, я буду тебе это показывать.
Руди изо всех сил замотал головой. Прятаться в кустиках было для него совершенно невозможно.
– Это же не экологично! – воскликнул он. – Это убивает вашу природу!
Тем не менее я благополучно там побывал и в отличном расположении духа вернулся к немцу. Он побледнел, его била мелкая дрожь.
– Кажется, я сейчас не выдержу, – простонал Руди. – Одно движение, и будет беда.
Я почувствовал, что отмщены все мои мучения последних дней.
– Не бояться, – великодушно напомнил я немцу о единственной возможности избежать беды. – Не бояться, ходить в деревья прятать свое тело. Так охотно делает каждый русский, кто любит пиво на свежий воздух. Мы имеем много природы, чтобы ее не жалеть.
Руди молчал, скукожившись и, видимо, пережидая спазм.
– Как я могу уехать отсюда в гостиницу? – сдавленно спросил он.
Я показал, где находится трамвайная остановка, и немец сиганул прочь из парка.
– Мы еще увидимся! – прокричал он. – Я должен поблагодарить тебя за время, которое ты мне уделил.
На следующий день у нас в редакции случился пожар. Точнее, горело соседнее помещение, но и нам мало не показалось. Все, что было внутри, покрылось жирным слоем сажи. Мы открыли все окна и принялись наводить порядок, не зная, за что взяться в первую очередь. Ветер перебирал на полу черные листы бумаги. Кто-то, справившись с первым потрясением, сбегал за водкой, и спустя часок мы уже весело обсуждали случившееся, собравшись у стола, застеленного чистой газеткой.
В разгар веселья в редакции появился Руди. В руках у него были букет цветов и бутылка шампанского. Он остолбенел, озирая прокопченные стены, гроздья сажи, свисающие с лампочек, и нас, шумно празднующих великую утрату.
– Я пришел поблагодарить тебя за время, которое ты мне уделил, – пробормотал Руди, вежливо не задавая вопросов, которые могли оказаться лишними.
– Руди, – позвал я его, – у нас тут огонь уничтожал редакцию. Мы хотели бы за это пить вместе с тобой шампанское.
Немец подошел к нашему столу и все не мог успокоиться – разглядывал почерневшую редакцию. Он принял стакан с шампанским, вздохнул и сказал по русски:
– Отшень жал.
А потом сразу засобирался уходить.
По-моему, ему и сейчас невдомек, почему эти странные русские смеялись и шутили на пожарище.
Нет, не понять нас холодным, благовоспитанным западным умом, никак не понять.
Удача и невезение
Страшно гордый собою, ехал я в незнакомый город Челябинск, в первую свою журналистскую командировку.
Андрей Иванович Грамолин, зам. главного редактора журнала «Урал», послал меня на симпозиум атомщиков. Вручил мне документ с лиловыми печатями и совсем немножечко денег.
– Ты на симпозиуме штаны не просиживай, – напутствовал меня Грамолин. – Твоя цель – интервью с директором объединения «Маяк». Того самого, где в пятидесятые годы взрыв случился.
Я об этом взрыве слышал. Знатный был взрыв. Радиоактивный след протянулся через весь Урал, на сотни километров.
Поздно вечером я оказался в Челябинске. Справедливо рассудив, что гостиницы обязаны находиться где-то неподалеку, уверенным шагом я отправился от вокзала куда глаза глядят.
Гостиницы тогда были удовольствием, недоступным для простых смертных. Но я имел у сердца бумагу с лиловыми печатями. И верил в удачу.
Она тихонько посмеивалась надо мной. Первым на моем пути вырос самый недосягаемый и даже запретный бастион – гостиница «Интурист», предназначенная для приезжих из-за рубежа. Вообще-то, в 90-е годы появление иностранца в уральском городе всегда было сенсацией. Тем не менее гостиницу для них возвели мощную, многоэтажную. Парадный вход украшала традиционная советская табличка: «Мест нет».
Я храбро прошел внутрь, где меня сразу же подхватил какой-то администратор. Он сыпал междометиями, восклицаниями и вопросами, будто только что вырвался из одиночного заключения. Я важно кивал в ответ.
– Вы, ради бога, простите! – кричал администратор. – В вашем номере нет телевизора! Ради бога! Сломался! Извините! Починят! Обязательно!
Мне сунули в руку ключ от номера и впихнули в лифт. «Не может всего этого быть, – размышлял я, поднимаясь в лифте. – Просто не может быть. Должно быть, меня с кем-то перепутали».
Когда двери лифта распахнулись, я увидел бегущих ко мне со всех ног администратора и милиционера. Я вздохнул и нажал на кнопку первого этажа.
Так оно и вышло – правда, перепутали.
К середине ночи, продрогший и отчаявшийся, я вымолил себе койку в густонаселенной гостинице школы милиции. За несколько часов сна пришлось отдать почти все командировочные. Койка ждала меня в огромной комнате. Здесь, как мне показалось, храпела рота курсантов (утром выяснилось, что это шесть майоров милиции). Упав на влажную простынь, я долго еще ворочался. Спасался от клопов, поднявшихся в атаку на новенького.
Мне снилось, будто я, навеки застряв в Челябинске, клянчу милостыню возле «Интуриста».
Подавленный сновидением, с утра я разработал решительный план дальнейших действий. Пробиться на симпозиум, во что бы то ни стало отловить директора «Маяка», немедля взять у него интервью – и домой, домой.
Остаток денег ушел на завтрак. Мосты были сожжены. Но удача продолжала нагло мне изменять.
Сколько ни возмущался я, как ни потрясал бумагой с печатями, на симпозиум меня не пустили.
– Вас нет в списках, – с некоторой жалостью в голосе сказала распорядительница.
Я попробовал разжалобить ее. Подробно поведал о своих злоключениях. Приврал, что от интервью с директором зависит вся моя судьба и карьера.
– Вот он, ваш директор, – весело откликнулась на мою печаль распорядительница и указала на низенького пузатого дядьку в ярком галстуке. Дядька важно вышагивал, задумавшись о чем-то государственном, а за ним семенила целая свора участников симпозиума, а может, таких же, как я, искателей интервью.
Все, чего я добился от распорядительницы, – это название гостиницы, которой выпала честь разместить у себя директора. В великой досаде нашел я гостиницу, узнал номер покоев директора, поднялся к нему на этаж и устроился в фойе у лифта. Стал ждать.
Прошло много томительных часов. Я извертелся в мягком кресле, прочел все газеты. Безбожно хотелось спать, но я крепился.
Наконец двери лифта распахнулись, и оттуда выкатился уже знакомый мне пузатый дядька в компании с двумя столь же яркими, судя по галстукам, деятелями.
Я бросился в ноги к директору, стеная о жизненно важном интервью.
Директор вежливо обогнул мою согбенную фигуру и, обернувшись, пояснил:
– Ты уж извини, парень. Не могу. День рождения у меня сегодня.
Троица, оживленно разговаривая, протопала по длинному коридору и втекла в номер. Громко щелкнул замок.
Оглушенным, выпотрошенным, измученным, разуверившимся стоял я посреди пустого фойе.
Как вдруг…
Меня осенило. Я вспомнил, что взял с собой в командировку бутылку водки. Так, на всякий случай. Это же у нас жидкая валюта.
Я выхватил из сумки бутылку и забарабанил в директорский номер. И как только выглянул директор, я шагнул внутрь, протянул ему водку и звонким пионерским голосом отчеканил:
– С днем рождения!
Это была фантастическая удача. Вместе со мной директора поздравляли министр атомной промышленности СССР и его заместитель. И все трое, желая уважить меня за проявленные смелость и находчивость, свободно отвечали на любые заковыристые вопросы.
Диктофоны в те времена у нас еще не водились. Я лихорадочно записывал все услышанное в блокнотик. И, конечно, пил с мужиками. Записывал и пил. Пил и записывал.
Очнулся я на челябинском железнодорожном вокзале. Наскреб денег, купил обратный билет.
Мало-помалу припомнил вчерашние события и выдернул из кармана блокнотик.
Его листки были украшены ломаными зигзагообразными линиями, которые ровным счетом ничего не могли сообщить пытливому читателю. Только первые две-три странички можно было с грехом пополам расшифровать.
Сидя в вагоне, я напрягал затуманенный мозг, силился воспроизвести многочисленные вопросы-ответы. Помнил, что разговор у нас шел очень важный, острый и интересный. Смутно помнил, о чем шел разговор. А вот что именно мы говорили, хоть убей, оказалось начисто смыто из памяти.
Кое-как смастерив текст интервью, я предстал перед Грамолиным.
– Получилось? – удивился Андрей Иванович. – Ну, молодец. Давай почитаем.
Я дал. И пока Грамолин, вчитываясь, хмурил брови, у меня из рукава на редакторский стол выполз еле заметный, прозрачный клопенок. Он приехал со мной из Челябинска. Но ему явно не повезло. Я смахнул его на пол.
Народ и власть
На излете двадцатого века поезд отечественной демократии почти скрылся в черном тоннеле имени Гайдара и Чубайса. В заплеванных тамбурах еще курили и спорили о судьбах страны голозадые энтузиасты. На полустанках местные миноритарии пытались столкнуть пассажирам чайники, посуду, хрустальные вазы, матрацы, постельное белье, тазы, ведра, электроприборы, стройматериалы – продукцию родных своих предприятий. Чиновничество, закаленное в боях с электоратом, сидело в купе, гоняло чаи, читало прессу, ожидало перемен.
Об эту самую пору задумал я эксперимент – стать депутатом городской Думы, опираясь исключительно на собственные силы и деньги. Я успел уже потрудиться в избирательных штабах, рассмотрел нехитрую эту механику изнутри. Кстати, и заработал немного. Но, видимо, еще не избавился от иллюзий. Я твердо решил, что, ступив на стезю большой политики, депутатом буду честным, неподкупным, неудобным для чиновников, чего бы мне это не стоило.
Однако сперва требовалось, чтобы мои избиратели выдвинули меня кандидатом в депутаты. Я столкнулся с трудностями уже в этом плевом, в общем-то, деле. Взял бутылку, пошел агитировать соседа. Сели на балконе. Сосед пил большими глотками, жмурился на летнем солнышке, артачился, критиковал власть. Настрочил в конце концов нужную бумагу, но настроение испортил.
Я стал вспоминать, кто из друзей живет поблизости. Вспомнил: Коля Порсев.
Он работал вместе со мной на городском радио, он с ужасным уральским акцентом вел туристическо-рыбацко-уфологические программы. Летом Коля пропадал, совмещая производственные запои с турпоходами.
Я призадумался, стоит ли звонить Порсеву. Несмотря на добродушный характер, он мог дать отказ. У него были свои счеты с властью. В незапамятные годы, в молодости, Коля в нетрезвом виде помочился на угол здания городского Совета народных депутатов и был за этим занятием пойман милицией. А затем выставлен из областной комсомольской газеты и сослан на периферию, где полюбил природу, уфологию и алкоголь.
– Старик, без вопросов, – ответил по телефону шестидесятник Порсев. – Я бы и сам в Думу рванул, но времени нет. Завтра идем на сплав по реке Белой. Река трудная, старик. Порожистая. Заходи через недельку, все подпишу, что надо.
Недели три я топтался у двери Порсева. Срок выдвижения был на исходе. Стоя под дверью, я представлял, как Коля сплавляется по реке Белой. Как, отмахиваясь от комаров, сидит у костерка, над которым сыто побулькивает котелок с ухой. Расчетливыми, матерыми движениями управляет байдаркой. Привольно раскинув руки, выдыхая самогонные пары, спит в маленькой видавшей виды палатке.
Низенькая, плотно сбитая, круглоголовая фигурка Коли Порсева вырастала в моем сознании в символ российского народа, весело и с пользой проводящего лето, невзирая на всякие там эпохи и поветрия. Народ в лице Коли не удосужился прервать ради меня свое летнее забытье. Значит, не нужны и не важны ему на данном историческом этапе честные, неподкупные депутаты. Народ всегда прав. И следовало бы мне успокоиться, отогнать мысли об эксперименте и, возможно, влиться в ряды соотечественников, братающихся с летней природой.
Но все-таки по установившейся привычке я продолжал время от времени посещать Колин подъезд. Дежурная, предназначенная для Коли «чекушка» оттягивала внутренний карман куртки.
Было раннее чистое утро, когда за дверью Порсева я услышал невнятные звуки. Минут пять в ответ на мои настойчивые звонки слышалось слабое болботанье и шарканье, будто обитатель квартиры заблудился и силился припомнить путь к двери. Наконец она распахнулась. На Колином багровом расплывшемся лице ярко выделялся сизый нос, глаза потонули в набрякших складках. Из квартиры шибануло тяжелым, едким, тошнотворным запахом.
– Вчера вернулись со сплава, отметили. Река была трудная, старик. Порожистая, – проскрипел Коля. – Надо подлечиться, старик.
Мы прошли на кухню. Эпицентр едкого запаха был именно здесь. Сногсшибательные волны его выталкивались из огромной кастрюли, в которой бурно кипело серого цвета варево. Из недр кастрюли показывались измочаленные хвосты и разинутые пасти каких-то чудовищ – и вновь уходили на дно.
– Берешь много рыбы, – пояснил Коля. – Делаешь крепкий бульон. С похмелья – самое то. Будешь?
Я отказался.
Порсев слегка расчистил стол, мы почали принесенную мною «чекушку» и приступили к делу.
Требовалось от руки написать длинное заявление в избирательную комиссию.
– Ты, Коля, не торопись, – посоветовал я. – Пиши медленнее. Ошибешься, циферку какую-нибудь не ту поставишь, буковку пропустишь – придется начинать заново.
Коля послушно склонился над листком. Шариковая ручка выглядела инородным телом в его толстых задубевших пальцах. Он потел, унимал похмельную дрожь, старательно выводил букву за буквой.
Я заметил вдруг, что лысая голова Порсева испещрена мелкими черными бугристыми точками.
– Что это у тебя с лысиной, Коля?
– Понимаешь, старик, – пропыхтел Порсев. – Пристали мы к берегу. Разбили лагерь. Река порожистая. Берега обрывистые. Красота кругом. Выпили немного. Пошел я берегом. Встал на краю обрыва. Внизу река шумит. В морду ветерок задувает. Внутри силы пробуждаются, кровь играет. Дай, думаю, нырну в реку прямо с обрыва. Как в кино. Или я не мужик? Скинул штаны, рубашку. Разбежался, да как прыгну. Ласточкой, отвесно вниз. Лечу, только свист в ушах. Ну, метров, наверно, двадцать до реки не долетел. Не рассчитал чуток. А там шиповник растет. Джунгли. Вот я по этим джунглям носом вперед и проехался. Недели две уже колючки из головы лезут.
Ведя рассказ, Коля отнюдь не ослаблял внимания к нелегкому своему занятию. Брови Порсева взлетели далеко вверх да так и застыли, слезящиеся глаза почти не моргали. Скоро весь лист бумаги покрыт был бисерными закорючками. И вот осталось лишь расписаться под заявлением.
Мы налили по последней, выпили, занюхали хлебушком.
– Удивительно устроено все в нашей стране, – сказал Коля. – Вот вроде бы демократия, закон позволяет народу выдвинуть хорошего своего представителя в органы власти. А хрен выдвинешь. Ведь можно разве без бутылки такое заявление состряпать? На трезвую голову я бы все это ни в жизнь не накорябал. Да, честно сказать, такие гадские формулировочки и спьяну-то не придумаешь. Это вражеские какие-то формулировочки, старик.
Он достал откуда-то большой мятый носовой платок, с чувством высморкался, поставил на бумаге витиеватую подпись и, как полагалось, рядом вывел имя и фамилию.
В фамилии он и сделал ошибку. Написал лишнюю букву «е». Вместо «Порсев» отчетливо вывел – «Порсеев».
Некоторое время мы молча разглядывали испорченный документ.
– А может, ну его к чертям собачьим, старик, это депутатство? – задумчиво произнес Коля. – На кой оно тебе? Мы на следующей неделе по Косьве идем. Речка трудная. Компания хорошая. Отдохнем. Хариуса половим.
Ловля хариуса – это был пунктик Порсева. Раз в месяц он обязательно учил радиослушателей, как ловить хариуса. А еще, подхалтуривая, постоянно публиковал на эту тему статьи в газетах.
– Спасибо, Коля, – грустно ответил я. – В другой раз. Может, в избиркоме ошибку не заметят.
В избиркоме и впрямь бумагу приняли. Начались предвыборные будни. Рассчитывать приходилось только на себя и кучку соратников. Я бродил по квартирам избирателей, рассказывал о себе, раздавал книжки со своими стихами. По ночам расклеивал на стены и заборы агитационные плакаты. Вместе с друзьями пел песни на автобусных остановках и между песнями агитировал голосовать за себя.
В день выборов за меня проголосовало меньше трехсот человек. Это примерно одна сотая избирателей округа. Победил главврач кардиоцентра. Его поддерживала областная власть, у него было очень много денег, а лозунг гласил: «Доверили сердце – отдадим голос».
Коля Порсев голосовать не ходил. Ему было некогда.
Процесс и результат
Человек, прилично употребляющий, относится к своему самочувствию трепетно, по-хозяйски. Надо все взвесить и все отмерить, чутко оценить возможный результат.
Это забота важная, общественно значимая. Ведь большинство пьяных драк и прочих неприятностей происходит именно по причине недо– или передозировки. Сколько семей поломано из-за лишней рюмки, сколько судеб – из-за нехватки водки!
Как-то решили мы с папой достойно встретить очередной Новый год.
Естественно, встал вопрос: сколько нужно спиртного, чтобы ночь прошла не зря.
Денег у нас было всего ничего. Завязался спор: брать качественную, настоящую водку в небольшом количестве, или брать «паленую», но много. В то время ею торговали в каждом подъезде.
Риск остаться неудовлетворенными существовал в обоих случаях. Победила надежда на то, что бутлегеры хотя бы ради праздничка вспомнят о совести и не станут разбодяживать спирт до неприличности.
– В первом подъезде хорошую «паленку» продают, – говорил папа. – Ни одного отравления. Правда, дурь от нее всякая в голову лезет, сознание вышибает начисто, но это ж сколько надо выпить! У нас и денег столько нет.
Мы сходили в первый подъезд и приобрели шесть разномастных бутылок «паленки».
По телевизору начался праздник.
Мы глядели на энергично прыгающих, самозабвенно радующихся звезд эстрады и пытались приобщиться к их веселью. Не получалось.
– Как-то искусственно они хохочут, – задумчиво сказал папа. – В газете писали, что для всех этих «голубых огоньков» было куплено пять вагонов шампанского. Может, не повезло им с шампанским-то. В последнее время наши рационализаторы уже и шампанское научились подделывать.
Нас продолжал занимать вопрос качества напитка из первого подъезда. Мы методично наливали и прислушивались к организму. Он молчал. Только во рту стояло послевкусие, как будто мы наглотались горелой резины.
Когда впустую была выпита четвертая бутылка, стало ясно, что праздник не удался и надо спасать ситуацию. Телезвезды, чувствовалось, тоже не рады уже были брызгам шампанского. Потухли как-то, пели уныло, улыбались заученно.
Мы были в более выгодном положении – на свободе. Когда «паленка» подошла к печальному концу, папа достал заначку, пересчитал деньги. Теперь решено было брать настоящую водку, невзирая на дороговизну. В это время суток она имелась все там же, в первом подъезде.
Две бутылки доброй сорокаградусной доставили нам истинное наслаждение. Мы не только досмотрели выматывающий душу концерт, но сумели осилить обе серии «Иронии судьбы» и одну серию «Чародеев». К шести утра папа уже в полный голос подпевал киногероям, а я выигрывал у него в шахматы, чего отродясь не бывало.
Стало нам светло и спокойно, как бывает в самом начале хорошего, многообещающего застолья. Тем прискорбнее был факт окончания вторично купленной водки. Он воспринимался нами как преступление против человечества.
– В конце концов, мы ни в чем не виноваты, – сказал я. – Многие спорят, что важнее – процесс или результат. Лично мне кажется, что главное – не победа, главное – участие.
– А денег-то больше нет, – напомнил папа.
Не в нашем характере было предаваться отчаянию. Мы принялись обшаривать карманы многочисленных имевшихся в доме пиджаков, курток и ветровок. И упорство привело нас к успеху. В скором времени набралась горка мелочи, которой вполне хватало на четыре бутылки «паленки».
«Точка» в первом подъезде жила наполненной, оживленной жизнью. Заветная дверь не закрывалась: то и дело входил и выходил деловитый, озабоченный, сосредоточенный народ. Умы празднующих занимались нелегкими математическими расчетами.
Знакомый резиновый привкус окрасил новогоднее утро в несколько индустриальные тона. «Паленка» пилась тяжело, через силу, просилась обратно, но, удержанная внутри, растворялась в организме бесследно и безрезультатно.
Мы сидели на кухне, а под столом выстроилась батарея пустых бутылок.
– Нет, на каком-то этапе мы с тобой промахнулись, – глядя на них, сказал я. – Это ж надо, сколько денег на ветер.
– Ничего, – успокоил меня папа. – В первом подъезде пустую тару на полную обменять можно. У нас тут, пожалуй что, и на бутылку настоящей водки хватит.
Наши организмы дружно поднялись и празднично зазвенели стеклянной тарой.
Слово и дело
Подумать только, лет двадцать назад слово «террор» было в диковинку.
Все, что им обозначалось, казалось страшно интересным. Наверное, потому, что им обозначалось все, что угодно.
В частности, бандиты, делившие проституток, наркотики и ларьки, были, несомненно, террористами. Они безжалостно убивали друг друга и пугали народ. Одна уральская группировочка стрельнула из гранатомета в здание областного правительства. Это не вызвало ажиотажа в тогдашнем обществе. Общество подспудно понимало, что областное правительство – цель достойная.
Любой здравомыслящий журналист в то лихое время стремился заняться террористическими темами. Дни были злобными, а писать хотелось на злобу дня.
Я договорился об интервью с офицером из организации, которая много раз меняла название, но ни разу – своего глубоко патриотического предназначения. Совершенно закрытая и тайная, организация эта умудряется на протяжении десятков лет мешать людям жить. Способы ее деятельности вполне рутинны: доносы, вербовка, слежка, прослушка, шантаж. Все это – основа жизнеспособности нашего кривобокого государства. Идеологию насаждали, и она въелась в нас: ради чего-то большого, светлого и предстоящего следует не колеблясь жертвовать сегодняшним малым. Жизнью, судьбой, близкими, убеждениями. Только так можно в ближайшем будущем большое сделать больше, а светлое – светлее. Вот каков коренной русский чекистский патриотизм.
И вот попадаю это я в святая святых. Иду по тихим коридорам. Нахожу нужный кабинет. Обстановка классическая – мебельно-канцелярская аскеза и железный Феликс на стене.
Областной борьбой с терроризмом командовал невысокий, пего-рыжий, немного стеснительный майор. У него была простая физиономия деревенского гармониста, много потрудившегося на свадьбах и проводах в армию.
После первых моих вопросов он понял, что я ни черта не смыслю. Майор принялся обстоятельно разъяснять тонкости законодательства и специфической терминологии. Где-то через час наметанный глаз чекиста разглядел, что диктофона у меня не имеется – все ценные сведения я вручную заносил в блокнотик. Холодная голова подсказала майору: он разглагольствует зря.
Майор вздохнул и вынул из своего скромного стола две бутылки водки.
Он поискал и закуску. Не обнаружил.
В шкафу дежурили два простых граненых стакана. Чувствовалось, что здесь ими давно и охотно пользуются. Это были стаканы-труженики, на их тусклых боках невооруженным взглядом можно было заметить множественные отпечатки пальцев.
Когда мы налили по третьему, майор сказал:
– А ты знаешь, как облажались эти гаврики со своим гранатометом?
Я не знал.
– Агентура сообщает, что идея шмальнуть по правительству пришла к ним случайно, – поведал майор. – Сидели они где-то там у себя в кабаке, выпивали, обижались на власть. И вдруг один деятель, чисто конкретный, вспомнил: ведь у нас на фирме, в натуре, гранатомет «Муха» валяется. Пацаны реально разволновались, поехали на фирму, разгребли хлам, вытащили «Муху». А выпили-то прилично. Ну, и на трех тачках двинулись к Белому дому. Там ведь драмтеатр через дорогу. Вот пацаны, значит, дружно нарисовались на лужайке перед драмтеатром. Самый меткий «Муху» на плечо взвалил, прицелился… Грохот, огонь, дым, матюки… Короче, как они там выжили, неизвестно. Потому что этот стрелок «Муху» не туда нацелил. То есть, не так. То есть, не тем концом. Выстрел, соответственно, пришелся не в Белый дом, а тому обдолбанному стрелку за спину, в землю-матушку. А на ней аккурат вся банда стояла.
– Ни фига себе, – вежливо сказал я. – Об этом написать-то можно?
– Тайна следствия, – сурово возразил майор, наливая четвертый. – И потом, это еще не все. Пацаны, конечно, расстроились, поехали обратно в кабак. Сняли стресс. Тот, который чисто конкретный, опять извилины напряг – и говорит: мол, братва, у нас же на фирме второй заряд к гранатомету есть. Поехали на фирму, разгребли хлам, и точно – нашли второй заряд. Еще маленько приняли для храбрости и целкости. Снова встали на лужайку. И со второго раза шмальнули правильно. Попали по крайнему кабинету второго этажа. Еще бы метр влево – и промазали бы.
Мы с майором обсудили еще несколько громких эпизодов из жизни местных гангстеров. Передо мной в полный рост встала картина напряженной, беззаветной работы агентуры ФСБ, или как там называлась их контора. Она знала все обо всех гангстерских мерзостях. Она при желании могла бы совсем обойтись без этого бандитского отребья: его дурное дело – нехитрое.
– Не дрейфь, эти подонки – под колпаком, – сказал майор. – Можешь так и написать в своей газете. Вообще, хороший ведь заголовок: «Подонки под колпаком».
Майор взялся меня проводить до остановки, и мы неспешно брели по вечернему городу. Чувство тотальной надежности и покоя овладело мною. Ни один террорист не дерзал, размахивая гранатометом, преграждать нам путь.
– Ну вот, – пожал мне руку майор, – тебе налево, мне направо. Удачи.
Я свернул за угол.
Совсем близко слышался неторопливый перестук его каблуков. Его шаги удалялись негромко, отчетливо, предсказуемо, как пассажирский поезд, твердо уверенный, что останавливаться ему придется по утвержденному расписанию, на всех полустанках.
Все-таки недооцениваем мы этих людей, их труд, подумал я. Мало мы о них знаем.
Сразу же за углом была остановка троллейбуса. Я сел на скамеечку, поставил рядышком «дипломат».
И тут же на меня налетела банда. Сосчитать я успел – их было шестеро. Лица не запомнил – меня двинули по голове чем-то тяжелым.
Очнулся я в кустах возле остановки. «Дипломата» не было. Башка гудела, вся физиономия – в крови.
Я кое-как добрался до телефонной будки. Непослушным пальцем набрал 02.
В трубке зазвучал жесткий голос дежурного милиционера. Он пригласил меня сообщить о случившемся.
Я попробовал сообщить, но выяснилось, что губы не слушаются. Некоторое время я пытался управлять губами мануально, при помощи верхних конечностей. Безрезультатно.
Пока я мычал, телефонный милиционер оставался на связи, как бы желая мне хоть как-то помочь. Он, держащий руку на пульсе огромного города, тратил драгоценные секунды в надежде получить-таки сигнал от безвестного пострадавшего.
Помучившись, я плюнул с досады и поплелся пешком домой.
И ни один вечерний прохожий из числа гражданских не обратил на меня внимания.
Смерть и память
Меня позвали на встречу с лидером городских «афганцев» Евгением Петровым.
Он пострадал в ходе дележки власти и бизнеса. Его засадили за решетку. Он посидел немного и сумел выбраться. Теперь бизнес-сообщество с трепетом ожидало ответа. В отдаленных районах города уже погромыхивало. Горели чьи-то ларьки, местами возникали перестрелки. В центре пока было тихо.
Вся эта катавасия шла мимо меня. Не пересекался я ни с Петровым, ни с его обидчиками. Не было за мной никаких журналистских грехов. Поэтому я отправился на встречу с лидером. Из интереса.
Такие встречи и впрямь были интересны. Звучали неожиданные предложения. Так, например, лидер «уралмашевской» группировки позвал меня, чтобы я организовал для братвы газету.
– Мы растем, развиваемся, – натужно гудел лидер. – Вот уже в урановый бизнес залезли. Очень нам своя газета нужна.
– Так вы купите любую из тех, что уже существуют, – не понимал я.
– Да таких-то, типа – оппозиционных, у нас уже есть парочка. Нам другая газета нужна.
– Какая же? Для чего?
– Мы растем, развиваемся, – терпеливо повторял лидер. – Проблемки возникают. Бригад все больше, управлять все сложнее. Пацаны интересуются, как живут другие бригады, вопросы задают. Я уже устал, как Павел Петрович Бажов, пацанам уральские сказы на сотый раз пересказывать. Охрип уже. А тут взял, выпустил газетку про нашу жизнь, в бригадах люди почитали, прониклись, успокоились, новую газетку ждут. И все в шоколаде.
Только тут до меня дошло, что мафия заказывает мне многотиражку – для внутреннего употребления. Жизнь тогда, на излете двадцатого века, была богаче самых смелых фантазий. Непредсказуемая и веселая была жизнь.
Итак, к Евгению Петрову вело меня вполне объяснимое любопытство. Фантазировать относительно предмета нашего разговора я даже не пытался.
Меня препроводили в дальний закуток одного неприметного кафе. Внутри было пусто. За девственно чистым столом в полном одиночестве хмуро восседал Петров. Он заметно похудел. Я помнил его по фотографиям еще до отсидки.
Я примостился рядом с Петровым, и некоторое время мы молчали, не глядя друг на друга. Здраво рассудив, что первым должен заговорить инициатор встречи, я молча ждал.
К нам подошел официант.
– Мне как обычно, – бросил Петров.
Официант вопросительно посмотрел на меня.
У меня было совсем мало денег.
– Рюмку водки, – подумав, сказал я.
– И все? – уточнил официант.
– И все, – подтвердил я.
Еще минут десять протекли столь же содержательно. Может быть, тюрьма особым образом повлияла на Петрова, размышлял я. Человек приучился к самокопанию, отвык от общества. И так-то психика расшатана на афганской войне, а тут новые испытания.
Официант вернулся и утвердил передо мной небольшую рюмочку. А перед Петровым возник гигантский фарфоровый тазик, с горкой наполненный очищенными вареными яйцами.
Лидер «афганцев» флегматично брал одно яйцо за другим и отправлял в рот. Он напоминал худого голодного удава. Яйца исчезали в Петрове, как в шляпе фокусника. Незаметно было, чтобы он их жевал.
Съев десятка два яиц, Петров начал говорить, все так же хмуро глядя перед собой.
– Убивают пацанов, – без выражения сказал он. – Вчера вот еще одного похоронили. Шестнадцать лет, жизни не видел. Теперь в могиле лежит. Мы родителям поможем, но тут одних денег мало. Память нужна. Родителям она нужна, нам нужна.
– Хотите некролог опубликовать? – осторожно уточнил я.
– Каждую неделю пацанов хороним, – помолчав, сурово продолжил Петров. – Каждую неделю у нас до трех трупов. Кладем пацанов в могилу. Одного за другим. А что после них остается? Они жизни не видели.
– Так что же вы хотите? – не вытерпев, прямо спросил я.
– Память нужна, – повторил Петров. – Книжку хотим сделать про наших пацанов. Родители почитают, друзья полистают. И вспомнят пацанов. Напиши про каждого пацана по страничке. Фото, биография, где родился, как учился. Описание, как жил, над чем работал. И как погиб. Мы тебе заплатим, не обидим.
Я в ужасе представил себе этот мартиролог. Даже не саму книжку, о которой мечтал Петров, а то, через что придется пройти ее автору.
Как наяву, прошелестели передо мной страницы с физиономиями убиенных боевиков, сдержанная обложка, украшенная моей фамилией.
– Когда нужна эта книжка? – на всякий случай спросил я. – К какому сроку?
– Срок нам не важен, – ответил Петров. – Ты, главное, пиши. Мы каждую неделю пацанов хороним.
Промямлив что-то неопределенное, я выпил свою водку и поспешил прочь. Лидер «афганцев» остался одиноко сидеть за столом. Уходя, краем глаза я увидел, как он заглотил очередное яйцо.
Бремя порядка и праздник непослушания
– Там тебя спрашивают! – прилетела ко мне девочка из рекламного отдела.
– Кто? – равнодушно отозвался я.
– Бандиты! – пояснила девочка.
Город в ту пору кишел бандитами. Под занавес горбачевской перестройки спортивная слава города конвертировалась в бандитское богатство. Раздавшиеся вширь бывшие чемпионы выгружались из «мерсов», имея на себе златые цепи, малиновые пиджаки поверх необъятных футболок и фирменные «треники» поверх стоптанных штиблет.
Эта интересная поросль не могла похвастаться напряженной внутренней жизнью и долгой биографией. Она хвасталась своим сегодняшним существованием и на большее не рассчитывала. Пиджаки и машины быстро меняли хозяев.
Я спустился этажом ниже, в офис нашей радиокомпании.
В офисе скучали два братка, одинаковых, будто откомандированных из сказочного ларца. Стулья под ними прогибались. Увидев меня, старший грузно поднялся и произнес, с уважением подбирая слова:
– Ну, короче, наши типа зовут тебя реально посидеть, раз вчера такое дело.
Вчера у меня случился заказной эфир с руководством некой фирмы. Руководству, из «афганской» группировки, понадобилось отстирать свою репутацию. История вполне рядовая. Они отстирывали, я не мешал. Видимо, у меня получилось.
Я призадумался. С одной стороны, не любил я ветеранов локальных войн. Публика это, как правило, психованная, не упускающая случая козырнуть своим героическим прошлым. И козыряла она им истеричнее вокзальных попрошаек.
С другой стороны, как-то ломало меня так вот взять и кидануть пацанов на ровном месте. Братва старалась. Реально оттопырилась, накрыла поляну. Стану понты колотить – не в масть получится. Не поймут.
Мы поехали.
По дороге притормозили возле булочной. Один из братков слоном протопал внутрь.
– Бугор только здесь хлебушек берет, – пояснил старший. – Другого не уважает.
Конечным пунктом поездки оказалось кафе с нежным названием «Журавушка». Наша делегация промаршировала через общий зал, где в самом разгаре было многолюдное гулянье. Люди веселились давно и качественно. Вслед нам несся визг скрипки и подвыпивших женщин.
В отдельном кабинете за тщательно накрытым столом нас ждали пресловутый бугор и еще несколько сподвижников. Здесь царила мертвая тишина. В воздухе витало даже что-то погребальное. Я промямлил слова приветствия и вознамерился плюхнуться на ближайший стул. Бугор повел бровью, и сподвижники пересадили меня на более правильное, по их мнению, место.
Официант внес блюдо с тонко нарезанным хлебом, наполнил рюмки, и застолье тронулось.
Минут пятнадцать мы молча жевали салат. Меня подмывало выпить, но я уже понял, что за этим столом свои жесткие порядки. Нарушать их как-то не хотелось.
Наконец бугор положил вилку и с бесстрастным лицом откинулся на спинку стула.
Браток, что бегал в булочную, тут же схватил рюмку и поднялся.
– За нашу встречу и за нашего гостя! – громко произнес он на сносном русском языке.
Все сдвинули рюмки, выпили и с чувством закусили.
Бугор ел, казалось, щеками и ушами – именно эти части тела активнее всего были задействованы в процессе поглощения пищи. Массивный же череп бугра угрожающе нависал над столом, как бы подчеркивая тщету и преходящесть продовольственных радостей.
Мы ели и выпивали методично, как по расписанию. В перерывах между тостами слышались лишь позвякивание приборов о тарелки и осторожные покашливания столующихся. Тосты произносились строго по кругу, замкнуть который, как стало понятно, должен был бугор.
Мы уже подняли рюмки за удачу в делах, за родных и близких, за фирму, основанную «афганцами», за скорое решение всех возникших проблем.
Я немного захмелел. Возникло дурашливое желание нарушить эту солдафонскую очередность тостов. Ну и потом, я же дорогой гость. Мне можно.
Улучив момент, я довольно торжественно поднялся, поднес наполненную рюмку к сердцу и открыл было рот. Сподвижники перестали жевать и уставились на меня непонимающе. Тишина вокруг стала еще плотнее. Ее прорезал спокойный голос бугра:
– Ты садись, кушай. Потом скажешь.
Я поглядел на его череп, сел, вернул рюмку на место и послушно стал кушать. Все пошло своим чередом.
Мне дали слово, когда высказались уже все, кроме бугра. К тому времени состояние мое можно было описать как похмелье после дня поминок или вечернюю осоловелость на второй день свадьбы. Я выдавил из себя что-то дежурное, аккуратно чокнулся с каждым из сподвижников и влил внутрь полную рюмку водки: так здесь делали все.
Спустя положенные пятнадцать минут бугор вытер салфеткой губы, щеки, уши и восстал над столом. Взгляды присутствующих устремились в область его рта. Бугор задумался, повертел двумя пальцами рюмку, затем крепко сжал ее всей ладонью. Хмурое лицо его несколько просветлело.
– За нас! – отрубил бугор и с журчанием поглотил водку.
Братва как по команде задвигала стульями, поднялась. Этот тост мы выпили стоя. Затем, мгновенно утратив интерес к происходящему, «афганцы» вновь уткнулись в свои тарелки. Совсем недавно официант подал нам второе – на тарелках оставалось еще изрядно. Я представил, что через пятнадцать минут тосты пойдут по второму кругу, и меня охватило смятение.
Я пошел в уборную. Сквозь тонкую ее дверь хорошо слышны были веселые шумы общего зала. Там наяривали что-то еврейское, шустрое, зажигательное. От топота танцующих чуть подрагивали стены.
Решительным, хоть и слегка заплетающимся шагом я направился в зал. Меня обступили пьяные беспечные люди, выписывающие под музыку немыслимые кренделя. Две песни подряд я оттанцевал так, что ликующая публика отступила, дав мне простору. Пот катился градом, лицо полыхало, в груди наладился такой перестук, будто там выступал ансамбль песни и пляски нашего военного округа.
– Давай еще раз еврейскую, – заорал я.
Дали еврейскую. Я завсплескивал руками, зачастил каблуками. Отовсюду неслись ко мне восторженные крики, сквозь клубы табачного дыма и оглушительную скрипку пробивались шквалы аплодисментов. Поодаль были видны внушительные фигуры любующихся мною «афганцев». Я скинул пиджак, повертел его над головой и зашвырнул куда-то в толпу.
Никогда в жизни я так не танцевал. Я, если честно, танцевать не умею вовсе.
С трудом отыскав пиджак, я вывалился на свежий воздух. Водочные пары гуляли в голове, радость и покой разливались в моей душе. Она, опустошенная и слабая, пела тоненько и высоко.
Редко выпадали мне такие хорошие вечера.
Большой смысл и маленькая жизнь
Если начинаешь сторониться знакомств, новых лиц, – это, будь уверен, постучалась к тебе в двери трусливая старость.
Она боится всего живого, бьющегося, бурлящего, меняющего русло. Может быть, это и не трусость нагоняет страху, а опасливая, осторожная мудрость. Неважно. Важно, что жить такому мудро-осторожному человеку осталось недолго. Ухитриться бы отдать уже накопленные долги, не понаделав новых.
Сидишь себе, дремлешь под болтовню телевизора, и вдруг – дерг-дерг паутиночка, тоненькая ниточка, уходящая куда-то за горизонт. Образовалась она вместе с тьмой других подобных же ниточек в незапамятную эпоху, когда ты щенком бесшабашным шлялся по миру, делая стойку на каждый встречный одушевленный предмет. И вот усы поседели, и взгляд потух, и ума хватило, чтобы все ниточки пообрывать. Они, даже будучи оборванными, саднят, мучают фантомными болями. А эта, забытая, оказывается, сохранилась и теперь требует внимания, сил душевных, грозит ненужными хлопотами, нашествием призраков-воспоминаний…
Знал бы щенок эту будущую тоску – забился бы скорее в конуру и носа оттуда не высовывал. А тех, кто желает познакомиться, кусал бы побольнее и облаивал позвонче. Больно им – что с того, до свадьбы заживет. Зато себя от пожизненной занозы уберег…
Провокаторша-жизнь могла бы и не сталкивать меня со Славой Бурковским. И вполне возможно, жил бы он поживал в полном согласии с самим собою и со своей женой, хохотушкой Тамарой, женщиной, хоть некрасивой и звезд с неба не срывающей, но живой, простой и непосредственной.
Но мы столкнулись. Оказались рядом на редакционных посиделках. Тамара, ведавшая у нас хозяйственными делами, предпочитала веселиться в кругу коллег одна, без мужа. А тут вдруг его каким-то ветром принесло.
– Слава, – представился он, робко ерзая на соседнем стуле.
Я с сомнением оглядел соседа. Это было высокое бледное сорокалетнее ископаемое – вдвое старше меня. Ввалившиеся щеки, аккуратная бородка и незамутненный, доверчивый взгляд выдавали хронического доцента, годами жующего какую-нибудь давно окаменевшую ахинею вроде сопромата, истмата или диамата.
– Эдуард Анатольевич, – пробурчал я в ответ. Общество мамонта Славы меня не вдохновляло.
Здесь, в редакции, все вызывало у него телячий восторг. Никогда не слыхивал он столь развесистых тостов. Не наблюдал таких откровенных, до цинизма, отношений. Не привык к декламации стихов и полнозвучному пению умных, хороших песен.
Слава хлопал глазами, слегка краснел, по лицу его блуждала тихая удивленная улыбка. Он весь сжался, будто готовясь заново родиться на белый свет. А может, он уже только что и родился – а теперь нацеливался сделать свой первый вдох и заплакать от ужаса и счастья.
Мне стало интересно присутствовать при втором рождении престарелого Славы. Я с удовольствием чокался с ним и наблюдал его муки.
Во время перекура у нас завязался с ним разговор о смысле жизни. Слава взял в своем развитии нешуточный темп. Недавно, за столом, он агукал несмышленышем, – и вот уже принялся донимать меня смятенными подростковыми вопросами. Будто волнуясь, что взрослые сейчас передумают и накажут, он делал частые, неглубокие затяжки, и сигарета дрожала в его длинных пальцах.
– Об этом спорят и будут спорить, – отечески втолковывал я Славе, – но ты понимаешь, смысл только в работе, физической или нравственной. Она меняет мир. Она оставляет следы. Она вредит или идет на пользу, но она ощутима и делает тебя значимым для других. А значит, и для тебя самого. Если ты стремишься, действуя, творя, достичь вечности – ты жив. Все остальное в жизни – лишь маскировка смерти.
Смысл жизни – это был мой конек. В ту пору я лихо, по-кавалерийски овладел всем философским наследием, до какого смог досягнуть. Проштудировал моралиста Сенеку, осилил сумасшедшего Канта. В меня сыпал молниями Ницше, на меня низвергал водопады Бердяев. Молва о моем научном подвиге быстро прошелестела по студенческому общежитию. Ко мне потянулись за спасительным советом вереницы девушек, удрученных любовными неудачами. На зачетах и экзаменах я легко срезал преподавателей заумными цитатами. На творческих диспутах отныне со мной никто не связывался, и я из спорщиков вынужден был переквалифицироваться в арбитры.
Этим-то гремучим философским салатом я и кормил с ложечки Славу Бурковского. Он ел и просил добавки. По его заскорузлым мозгам разливалась могучая тысячелетняя река вечно юной истины, и все благодаря мне. Это я взрастил побеги новой жизни в Славиной девственно темной душе.
Мы оба увлеклись. Нам не хватило времени посиделок на поиск смысла жизни. Слава не без труда отпросился у изумленной Тамары, и мы отправились гулять по ночным улицам.
Нас окружала умиротворенная природа зрелого, знающего свою силу лета. Духовное воспитание Славы начало приносить плоды. Он уже не только слушал мои рассуждения, но и учился примерять их на себя. Он рос. И я Вергилием вел моего взыскующего ответов Данте по лабиринтам учений и теорий. Путь был труден, но у нас с собой было.
Когда то, что было, закончилось, мы очнулись на безлюдном проспекте далеко от центра города.
– Я тратил себя на бессмысленное, однобокое существование, – горько подытоживал Слава, ежась на скамейке под зябким предутренним ветерком. – Шел по прямой и не видел, сколько есть перекрестков, сколько вариантов пути можно было выбрать.
Я кивал головой. Теперь, когда Слава духовно окреп, предстоял следующий этап: нужно было открыть ему глаза на то богатство возможностей, которое всегда, в настоящем и будущем, имеется для человека, относящегося к жизни деятельно и творчески. Нужно было только отправить Славу за водкой, благо ларек располагался тут же, в двух шагах. Однако, оценив угнетенное состояние воспитуемого, я, кряхтя, поднялся и сам направился к ларьку.
Небрежно подхватив купленную бутылку, я обернулся – и сердце мое упало. Вокруг меня стояла плотная группа нетрезвых и явно обиженных на жизнь мужиков.
– Ну, ты че? – внятно обратился ко мне их главарь.
– Да я ниче, – мирно ответил я. – Вот, гуляю с товарищем. Может, выпьем вместе? Что празднуем-то?
– Засохни, – сказал главарь. – Мы пацанов поминаем, которых убили в Афгане. Пошли давай к твоему кенту на скамеечку.
Теперь надвигающуюся толпу «афганцев» заметил и Слава. В ужасе он вскочил со скамейки, но главарь надавил ему на плечи и усадил обратно. Я безропотно отдал бутылку агрессорам. Они неспеша пустили ее по кругу. А мы со Славой торчали в центре этого круга, как пленники, приговоренные к казни.
Деньги у нас отберут точно. Может, и одеждой не побрезгуют. Половина из этих «афганцев» – под наркотическим кайфом, вон какие глаза мутные. Тормоза у них не работают. С них станется – зарежут за милую душу.
Надо было что-то делать.
– Мужики, – вдохновенно соврал я. – У меня ведь братан – «афганец». Под Кандагаром воевал. Водку вы пейте, не жалко. А нас отпустите.
– Под Кандагаром? – нахмурился главарь. – Земеля, значит. Жив братан-то?
– В цинке привезли, – ответил я. – Так что не выпить ему больше.
– С нами пойдете оба, – распорядился главарь.
Под строгим конвоем нас со Славой доставили в квартиру, откуда, видимо, «афганцы» тронулись в свой ночной поход. В огромной пустой комнате прямо на полу в беспорядке стояло и лежало несчетное количество бутылок и всяческой снеди. Пахло марихуаной. Участники поминок болтались по комнате, изредка немногословно переговариваясь.
Главарь налил нам по полному стакану водки.
– Пейте, – приказал он. – А если ноги отсюда сделаете, поймаем и убьем.
Для пущей убедительности главарь достал пистолет и потряс им у меня перед носом.
На Славу больно было смотреть. Он позеленел, завял. Жестокая бессмысленность и безысходность нашего плена его парализовала. Он кулем осел на грязный, усеянный объедками пол.
Оставив Славу, я осторожно прошелся по квартире и обнаружил еще одну комнату. Это было типичное, уютное, чистенько убранное старушечье жилище, с непременным комодом и слониками на нем. Старушка оказалась матерью кого-то из «афганцев». Я вернулся к Бурковскому, подхватил его чуть не под руки и доставил к старушке.
– Будь здесь. Говори с ней о чем угодно, – шепнул я Славе.
Несколько часов кряду я пил с молчаливыми «афганцами». Малейшая моя попытка двинуться в сторону входной двери пресекалась на корню.
– Что вы нас держите? – спросил я у главаря.
– Хотим и держим, – лениво ответил он. – Нас в Афган пригнали – тоже не спрашивали.
– Так мы же свои, – продолжал я наседать без особой надежды. – Какой смысл нас держать?
– Никакого, – согласился главарь. – Нас тоже свои под пули швыряли. Смысла вообще ни в чем никакого нет.
За окном – голым, незашторенным – проклюнулось серое утро. Несколько бойцов уснуло на полу. Почти все остальные потянулись на кухню курить «травку». Надо было рисковать.
С отсутствующим видом я зашел в старушкину комнату.
– Категорию вины здесь применять нельзя, – бубнил Слава, склонившись над белой головой старушки. – Никто не виноват. Виновато само стечение обстоятельств, которое всех поставило в безнравственную позицию, позицию, не дающую выбора.
Благообразная, опрятная старушка приветливо улыбалась.
– Пошли. Скорее. Сейчас или никогда, – дернул я оратора за рукав.
Он отмахнулся. Ему хотелось говорить и говорить. Я тянул его прочь отсюда – он упирался.
Нечеловеческими усилиями и словами я вернул Бурковского на грешную землю. Он галантно распрощался со старушкой, и мы тенями проскользнули в прихожую. С отчаянной быстротой я рванул замки на двери, она шумно распахнулась, и мы ринулись на свободу.
– За ними! – раздалось сзади. Эхо разнесло по этажам гулкие шаги преследователей.
Уже рассвело. Бескомпромиссный утренний свет резал глаза. Я знал этот район. Мы свернули во дворы и ушли от погони.
Скоро мы с Бурковским сидели на моей крошечной кухне. Водка пилась, как вода. Разговаривать больше не хотелось.
– Какой кошмар, какой убийственный, холодный кошмар – наша жизнь, – выдавил наконец Слава. – Как страшно знать, что в этом мире никто ни с кем не совпадает. Наши маленькие жизни ничего не значат, ничего не рождают. В смысле моей маленькой жизни нет никакого большого общего смысла!
Бурковский развивался бесконтрольно. Но у меня не было сил его удержать или поддержать. Я, в общем-то, и так сделал для него немало. Дал толчок его эволюции.
Он ушел домой постаревший и разочарованный. Больше мы с ним не виделись.
Минуло несколько месяцев, и его жена, хохотушка Тамара, обнаружила его на даче повесившимся. Он был в отпуске и долго, кажется, неделю, прожил там, на даче, один. То есть, жил, но не сумел прожить.
Все это случилось много лет назад. Ниточка, что вела к Бурковскому, давно порвана. А ноет, все ноет.
Лучше б мы не знакомились. Какой в нем был смысл, в этом случайном знакомстве?
Судьба и соблазны
В армию я загремел уже женатым.
Таких, молодых да ранних, у нас на всю роту оказалось три новобранца.
Наша личная жизнь чрезвычайно занимала сослуживцев. Общественность совала нос в письма, которые шли нам от жен и родственников. На наше будущее делались ставки.
Прошло всего несколько месяцев, и женатым остался я один. Два моих товарища по счастью получили известия о том, что их пассии загуляли. Оба порасстраивались, поутешались как могли – и съездили в десятидневные отпуска, чтобы оформить развод.
Теперь всю роту раздражало колечко у меня на пальце.
Изменять жене я не собирался. Но скоро почувствовал: лучше мне в город не ходить. Меня потряхивало от всего женского – облика, запаха, голоса, даже звука каблучков.
В Муроме, где я служил, были две воинские части и одно всем известное женское общежитие. Его обитательницы – студентки – крутили с солдатами романы. На долю каждой выпадало за время учебы не так уж мало – по два с половиной романа, если не буксовать.
Меня чуть не арканом тянули в ту общагу. Но я был тверд. Не шел. Знал, что добром поход не кончится.
Тогда коварные сослуживцы решили добиться своего хитростью. В один из праздничных дней, когда тоска солдатская острее и глубже, меня подпоили. Расслабился я, повесил головушку, предался унынию. И сам не заметил, как очутился на захолустной дискотеке.
Темное, огромное, холодное помещение клуба очень напоминало конюшню. Обшарпанные стены, дощатый пол. И как обычно – студентки и солдаты.
Сердце мое, гоняя хмельную кровь, готово было разорваться. Будь что будет, горько решил я. Выбрал девушку, самую скромную на вид. Загадал: если она согласится на танец, если она во время танца согласится назначить свидание, если вслед за тем она согласится на поцелуй – действительно, будь что будет. Значит, судьба.
Мои руки потели на ее горячей спине. Ноги подкашивались.
Она согласилась на все.
Мы назначили свидание на завтра, чтобы не откладывать.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Эвелина, – прошептала девушка.
Значит, судьба, подытожило мое бедное сердце.
И наступило завтра.
Утро прошло как обычно. Уже и обед минул. Пора было собираться в «самоволку».
И в этот самый момент меня вызвали в штаб. Дали час на сборы: решено было немедленно перевести меня в другую часть, в другой город.
Там все повторилось. Я сиднем сидел в казарме, за ворота – ни ногой. По выходным к нам приезжал разворотливый предприниматель. Устанавливал в клубе телевизор, включал видеомагнитофон. Щадя наши нервы, эротические фильмы не крутил. А все остальное – в ассортименте, и недорого.
Меня уже тошнить начало от разборок в маленьком Бронксе, Брюса Ли и Джеки Чана. Но я упрямо смотрел.
Основательно отупев, я однажды утратил бдительность. И соблазнился предложением товарища попить пивка.
В солдатской жизни мало радости. Самые простые вещи – под запретом. Радуешься малому.
Мы с Шурой Резванцевым вышли в город. Соблюдая меры предосторожности, приблизились к единственной пивной. Закупили уйму разливного пива. Гордясь друг другом и взаимно клянясь, что пошли бы в разведку, обосновались в парке и неторопливо, под душевный разговор, приговорили все пять литров.
Пора было переходить к следующему пункту культурной программы.
Неподалеку располагался видеосалон. Отличался он невиданной технической оснащенностью. Здесь имелся проектор, и фильмы можно было смотреть на большом экране. В остальных подобных точках публика довольствовалась обычным телевизором.
Нам повезло. Только мы подошли к салону – объявили начало очередного сеанса. Ждать совсем не пришлось.
Внутри ждал приятный сюрприз. Рассаживаться нужно было за столики, рассчитанные на четверых. Шура наметанным глазом углядел заманчивую диспозицию: за одним из столиков скучали две девицы. Он ринулся на них, как бык на красную тряпку, волоча меня за собой, как раненого пикадора.
Девицы оказались общительными и любезными. Мы заказали четыре кружки пива и вступили в оживленную беседу.
Признаюсь: в этот момент я вновь оказался на грани. Так все было чудесно, так все сложилось, что нельзя было за этим стечением обстоятельств не заметить перст судьбы.
Опять внутренний голос произнес роковые слова: будь что будет.
Начался сеанс. Мы угодили на фильм ужасов. Однако киношные события нас не увлекали. Мы были увлечены друг другом. Диалог налаживался как по маслу, сулил приятное развитие событий, и мы даже стихийно распределились на пары. Шура без устали что-то нашептывал пухлой блондиночке, а я смешил улыбчивую брюнетку. Под серым сукном шинелей у нас с Шурой бурно росли крылья.
Где-то в середине фильма я ощутил: что-то неладно. Спустился на землю, пришел в себя. Понял: надо бы в туалет. Пиво есть пиво. А когда его выпито много, то пиво надо умножить на два. А то и на три.
Улыбнувшись еще разок брюнеточке, я тихонько поднялся и причалил к барной стойке.
– Где у вас туалет? – спрашиваю.
– Нету, – буркнула подавальщица.
– Как нету? Почему нету? – потрясенно допытывался я. – А что же людям делать?
– Ничего не делать, – сказала подавальщица. – Ждать.
– Чего ждать?!
– Пока закончится сеанс. Тогда двери откроют и вас выпустят. И идите куда хотите.
– Так выпустите меня сейчас! Я быстренько сбегаю и вернусь.
– Не получится. Двери закрыты снаружи. Ждите, пока закончится фильм.
Убитый горем, вернулся я за наш столик. Прошло всего несколько минут, а девушки уже не казались мне милыми, и тем более – вожделенными. Я вожделел совсем иное. И желание мое росло мощными, физически ощутимыми толчками. По выражению моего лица Шура тоже понял, что происходит нечто нехорошее.
– Резванцев, – тихо промолвил я ему на ухо. – Туалета здесь нет. Дверь закрыта снаружи. Нам каюк.
Девушки сперва не заметили роковой перемены в нашем с Шурой настроении. Они еще щебетали, кокетничали, произносили глупости, которые невозможно стало слушать. Я видел, как гуляют под столом Шурины ноги, силясь предотвратить катастрофу. Мои тоже ходили ходуном. Руки тряслись. На лбу выступила испарина. Крылья были вырваны с мясом.
Брюнетка и блондиночка озадаченно щурились на нас. Они не могли найти объяснения очевидному факту: кавалеры отчего-то сдулись, отвечают сквозь зубы, глядят по-волчьи, с ненавистью. Поприставав к нам еще немного, девушки обиделись и отвернулись.
– Придурки, – отчетливо произнесла брюнетка в мою сторону. Блондинка всем своим видом выражала согласие.
Шура был родом из Сибири, я – с Урала. Только природная выносливость помогла нам дождаться конца сеанса. Едва зажегся свет, мы, чуть не перевернув столик, ринулись к выходу. Как назло, вокруг видеосалона разлеглась пустыня – ни тебе кустика, ни столба.
Так быстро мы никогда больше не бегали. За первым же мало-мальским укрытием наши души вновь захлопали метровыми крыльями…
Пока служил в армии, я так и не развелся. А вот после судьба, видимо, устала проявлять изобретательность в борьбе с соблазнами.
Звезды и люди
Приступая к рассказу о наших с Аней К. отношениях, бурных, но целомудренных, хочу со всей определенностью…
Нет, так нельзя приступать. Слишком уж эпически. Энергичнее надо бы приступать. Ведь и наши с Аней К. отношения развивались, как болезнь, – приступами. Будто командовал ими некий небесный калейдоскоп. Сбегутся звезды, сложится узорчик – а внизу у нас с Аней очередная история. Разбегутся – и мы с Аней, взаимно недовольные, благополучно разбегаемся.
Я ничего не понимаю в астрологии. Аня вроде бы тоже, но у нее диплом какого-то астрологического магистра, сертификат адепта тайных знаний, магии черныя, и белыя, и всякия, и разныя. Она мне сама призналась, что бумаги это все фальшивые, каких полно ходило тогда, в эпоху становления российской демократии.
И тем не менее вот уж сколько, понимаешь, десятилетий Аня К. известна в нашем мегаполисе именно как магистр и адепт. На каждом из 12 местных телеканалов имеется для Ани уютный стульчик, с которого она, болтая недлинными ножками, докладывает народу волю светил небесных, необходимые подробности знамений и предзнаменований. Народ верит, записывается к Ане на прием, платит деньги. Даже жуликоватые и недоверчивые бизнесмены, мелкия, и средния, а то и крупныя, – все платят. Что доказывает: с бумагами или без, но достучалась Аня К. до некой мало кому доступной зодиакальной правды.
Ну так, значит, и наша с ней клоунада действительно не обошлась без импульсов и вспышек, приводящих в движение горы и реки, запутывающих извилины и судьбы, сталкивающих лбами и конечностями Скорпионов с Тельцами, Раков с Девами, и прочая, и прочая.
Вот только зачем пульсируют импульсы и вспыхивают вспышки? Чего им надо? И зачем космическим силам все наши последующие недоумения, копошения и трагикомедии?
Началось все на свадьбе. Она пела и играла в каморке, жутко тесной для такой тьмы народа: Славка и Оксана, молодожены, по причине нищеты жительствовали на площадях городского маневренного фонда, рядом с погорельцами и другими бедолагами-отселенцами.
В толпе гостей Аня К., естественно, выпукло выделялась. Во-первых, она уже была городской знаменитостью. Во-вторых, на ее некрасивом, но милом личике постоянно блуждала улыбка, поневоле наводящая на многия мысли окружающих самцов и брюконосцев, – улыбка царственная, таинственная и неопределенная. А в третьих, личико Ани К. было увенчано магнетическими глазищами, а щедро представленное тело – грудью, постоянно вздымающейся от заразительного смеха.
Аня знала о своих прелестях и преимуществах и, безусловно, умела ими пользоваться. Но, будучи женщиной умной и расчетливой, почти не пользовалась – а так, будто бы была самой собой.
Славка с Оксаной попросили меня задержаться до конца торжества, чтобы помочь проводить гостей.
И вот молодожены в клетушке-комнатушке воркуют с каким-то предпоследним гостем, я курю себе на кухоньке. И вдруг является на кухоньку гость последний – Аня К. Молча становится на колени и принимается расстегивать мои штаны.
Я, как и все, изрядно поддавши был и уставши. Поэтому некоторое время силился подобрать слова, чтобы остановить Аню. К тому же я как-то на нее, честно говоря, обиделся. Потому что вела она себя деловито и сосредоточенно, – так, будто занималась не штанами подающего надежды молодого литератора, а откручивала гайки на каком-нибудь неодушевленном объекте вроде Железного дровосека. А я-то был живой и тонко чувствующий. И, может быть, после душевного разговора, убедившись, что лучшие мои стати и качества по достоинству оценены, на тот момент и сам бы поработал над штанами, – чего уж утруждать собеседницу.
На мое мычание Аня ответила коротко и цинично:
– Тебе чего, жалко, что ли?
И продолжила откручивать гайки.
Нет, не хотела она душевных разговоров, не желала видеть стати мои и качества. Чего желала – то делала, внимания не обращая на мой богатый внутренний мир.
Вся моя тонкая натура взвыла, мужская гордость ощетинилась. Железный дровосек нагрубил Ане и ретировался в комнату.
Но дело этим не закончилось: оказалось, что я должен проводить ее домой. Уже в подъезде Аня взялась за прежнее. Точнее, попыталась взяться. Силы мои были на исходе. Кое-как выперев настойчивую знаменитость на улицу и улучив момент, я попросту сбежал и спрятался за деревом. У Ани было плохое зрение. Она металась по улице, разыскивая меня, вернулась было в подъезд, затем снова на улицу – и все это время взывала ко мне громко и жалобно. Так, перебегая от дерева к дереву, я и проводил ее до самого ее дома: ответственность звала меня убедиться, что с Аней все в порядке.
Прошло совсем немного времени, и мы столкнулись с Аней К. на праздновании очередной годовщины редакции, где я служил. Аня опоздала. Она появилась, когда все уже были хороши. Есть такое состояние под градусом, когда многое чувствуется острее и сентиментальнее. Увидев энергичную улыбчивую Аню, я пережил приступ раскаяния за игру в прятки. Аня же была великодушна и ни словом не обмолвилась о том, что случилось после свадьбы. Вполне может быть, она просто все забыла (хотя последующее развитие событий доказало: с памятью, в отличие от зрения, у нее проблем нет). Вероятно, именно в качестве ответного жеста на ее великодушие я, сам себе удивляясь, пригласил Аню в гости к себе домой завтра же.
В пасмурный, глубоко послеобеденный час для меня наступило завтра. Изгнание похмелья – это, конечно, целая наука, и зиждется она, в основном, на экспериментальных упражнениях. Причем опираться приходится лишь на подручные средства. Я затолкал в себя пару бутылок пива, вялые холодные макароны, химический супчик быстрого приготовления. Эти меры, в целом, положительного результата не дали. В самый разгар моей работы над собой раздался стук в дверь. Только тут я вспомнил, что жду в гости Аню К. И пришел в ужас. Ибо мой внешний вид прозрачно и точно отражал мое внутреннее состояние. Под стать им обоим было и убранство моего жилья – этой лаборатории по борьбе с абстинентным синдромом.
Весело щебеча, Аня влетела в квартиру. Она отлично выглядела и похожа была на ангела. Кроме приветственных, утоляющих речей, ангел имел с собою пару пакетов с провизией, совершенно невообразимой в эпоху становления российской демократии. Как сейчас, вижу на столе, среди кривляющихся макарон (мой вклад в застолье), пестрые сырки «Хохланд» и греческий коньяк «Метакса». Райские яства вернули меня к жизни. Уже через часок я мог свободно разговаривать на родном языке, и не о чем-нибудь, а о поэзии. После двух часов интенсивной терапии я взял в руки гитару. Прошло три часа – и я с опозданием начал понимать, что все это добром не кончится. Аня К. сидела катастрофически близко, улыбалась таинственно и зовуще и на любой образчик моего творчества откликалась всею душой. Возникал жесткий вопрос – а что дальше?
Он возник, когда кончился коньяк. По тем временам разыскивать его следовало разве что в Греции, вряд ли ближе. Аня К., сознавая это, требовала всего лишь шампанского. Я пошел на хитрость. Я сослался на многоопытную соседку-алкоголичку, которая якобы способна за определенную мзду достать искомое. Соседка была вызвана, проинструктирована. Если она не справится, думал я, с нее и спрос, а я ни при чем. Алкоголичка справилась. Она принесла, и довольно быстро, две «бомбы» шампанского.
На душе сгустились сумерки. Я уже не пел и не стихоплетничал, а короткими злыми репликами поддерживал тлеющую беседу. Любой настроенный на мою волну человек давно бы уже тихо и тактично попрощался, оставив меня наедине с печалью. Но Аня К. не настраивалась на мою волну. Изрядно выпив шампанского, она с солдатской прямотой предложила заняться любовью.
Безусловно, это был прогресс. Нельзя было сказать, что она меня использовала. Она, в конце концов, ради этого честно познакомилась с целым рядом образчиков моего творчества. Но, черт возьми, теперь она не желала видеть мое угнетенное, ослабленное состояние.
Хотя, повторю, зрение у нее было неважное.
В общем, финал был скомкан. Его вообще не случилось. Расстались мы, правда, без скандала, доброжелательно. Но оба понимали, что я обидел девушку. Незаслуженно обидел.
Обида была жестоко реализована Аней. Она принесла в нашу редакцию новеллу собственного – и весьма талантливого – сочинения. Повествование велось от первого лица. Дескать, Аня К., желающая овладеть высотами искусства, едет на рандеву к замечательному литератору по фамилии Гардеробов (это, стало быть, я, он же – Железный дровосек). Везет Аню на эту важную встречу ее брат-«афганец», человек обычный, приземленный. И Аня всю дорогу пеняет ему – все-то ты, милый брат, жрешь, да пьешь, да спишь, да девок портишь, а есть ведь еще и сияющие высоты искусства. Брат, вроде бы, хмуро молчит, ворочая в уме свою булыжную правду-матку. И вот Аня почти у цели. Пахнущий мочой подъезд. Давно не мытые ступеньки. Она знает, что путь к высотам тернист, и она не зацикливается на соцреализме. Отворяется заветная дверь. Гардеробов – в нестиранном, слабо завязанном халате, волосы поэта всклокочены, под глазами – мешки. От него несет перегаром. По замусоренному полу катаются бутылки. Тут Аня К. показала себя мастером деталей, хотя, по совести, бутылки не катались, а стояли себе повсюду стоймя. Дальше события развивались трагически. Поэт некоторое время еще держал себя в руках, но неумеренно употреблял водку (это, как мы уже знаем, натяжка). Затем он принялся по-черному приставать к небесно-воздушной Ане. Кажется, в повествовании был даже описан диван, на котором отвратительный Гардеробов распускал свои руки. Едва вырвавшись из его когтей, Аня стремглав летит все по тем же немытым ступенькам вон отсюда. Скорее, скорее – лишь бы подальше от маньяка и от его сияющих высот. И тут как тут, прямо у подъезда – спасительное авто с братом-водителем, надежным, добрым, предсказуемым обитателем планеты Земля. Подразумевается: в то время как Гардеробов с целью обесчестить наивных посетительниц спекулирует на поэзии, брат-«афганец» делает то же самое по-честному, а возможно даже – по взаимной договоренности.
Ужас как неприятно было все это читать. С другой стороны, я понимал, что сам виноват. Зачем было звать Аню в гости? И зачем было мучить ее образчиками творчества?
Но ответ-то каков, а?
Аня не остановилась и на этом. Одной девушке, которую молва считала моей пассией, Аня нарочно предсказала всякие кошмары. В частности, пообещала скорое облысение и покрытие кровавыми коростами. Девушка едва не покончила с собой – и между прочим, вовсе не была она моей пассией.
Шли месяцы. Тогда жизнь шла на месяцы, они казались долгими, я был молод.
Когда жизнь идет на месяцы, ничего окончательного не происходит. Все еще может быть.
Удивительно, но с годами звездные калейдоскопы начинают сбегаться и разбегаться намного медленнее. К старости, должно быть, узорчик и вовсе замирает, закостеневает…
В следующий раз мы встретились с Аней К. на корпоративной пьянке радиокомпании «Студия Город». Следует ли повторять, что Аня заразительно смеялась, вздымала грудь, магнетически (а на самом деле близоруко) взирала на окружающих, была проста и великодушна.
Она вновь держала себя со мной так, будто встретились мы впервые.
Выпивка закончилась, но осталось ощущение недосказанности. Радиожурналист Коля Порсев предложил продолжить. Он вел на радио темы туризма, краеведения, НЛО, флоры и фауны. Вместе с ним, Аней, злободневным обозревателем Евгением Ю. Ениным и еще рядом товарищей мы в итоге очутились то ли на станции юных натуралистов, то ли в школьном музее родной природы. По крайней мере, были там допотопные парты, учебники природоведения и наглядные пособия. Мы продолжили, после чего выяснилось, что главные наши собратья, Коля Порсев и Евгений Ю. Енин, утратили всякий интерес к социуму и, наоборот, решили стать как можно ближе к природе – благо, даже на школьной парте невысокому, в смысле роста, журналисту место найдется. Ряд других товарищей в это время, укрывшись в складках местности, удовлетворял животную похоть.
– Пора уходить отсюда, – сказала Аня К.
До меня дошло, что мы опять остались вдвоем. Но спорить с ней я не стал. Она была права.
Мы поймали машину.
– Давай поедем к моим хорошим друзьям. Они правда хорошие. И будут страшно рады, – очень трезво предложила Аня. – Только надо купить водку и закуску.
Я не усмотрел подвоха.
Вот мы уже все купили и звоним в дверь Аниных друзей.
Это была молодая пара, которой, как сразу стало понятно, больше всего на свете хотелось трех вещей: во-первых, спать; во-вторых, чтобы дети не проснулись; а в-третьих, чтобы мы убрались как можно скорее. Ане было на все эти желания в высшей степени наплевать. Она что-то провозглашала, наливала часто и помногу. Хозяин дома попытался обуздать Аню хитростью. Он спросил:
– Где вам стелить?
Имелись в виду мы с Аней.
При слове «стелить» Аня пришла в неописуемое возбуждение. Она буквально вытолкала хозяев взашей из кухни и набросилась на меня. Это было гораздо хуже игры в Железного дровосека. Тому она хотя бы гайки откручивала. На сей раз она орудовала со мной как с кучей металлолома.
Нечеловеческими усилиями, не прикрывая свое бегство даже обманом, я вырвался из кухни. Завязывать шнурки на ботинках было некогда – я слышал Анин вопль. Откуда-то сбоку высунулись горькие физиономии хозяев дома. Я вывалился за дверь.
Отбежав от подъезда добрую сотню метров, я остановился и оглянулся.
Эту картину я никогда не забуду и не прощу себе.
Растрепанная близорукая Аня, в джинсах и свитерке, выскочила вслед за мной и теперь, раскинув руки, будто стремясь меня обнаружить и поймать, носилась по двору. В ее неверном пути, в ее босых ногах, обреченно топтавших колючий весенний снег было что-то мифологическое, библейское.
Иронизируя, можно было бы сравнить ее с ослепленным циклопом Полифемом из «Одиссеи».
Но иронизировать не хотелось тогда и не хочется сейчас.
Наверное, все это время она меня любила и просто не умела об этом сказать.
Почему я не полюбил ее и не откликнулся на ее плотские желания?
Бог весть. Я ее боялся. Или звезды сцеплялись в слишком неустойчивый узорчик.
Может быть, звезды просто над нами издевались.
Садясь в такси, я видел, как она, то и дело натыкаясь на препятствия, бежит по направлению к автобусной остановке. Направление было правильным, но догнать меня она никак не могла.
И все.
Перерыв на сей раз длился долгие годы.
Судьба свела меня с Аней К. года четыре назад. Она ничуть не изменилась. Смех, взгляд, шарм – все осталось при ней. Был при ней и некий молодой человек, преданный по-собачьи. Мы выпивали в ее новом офисе, куда по-прежнему, невзирая на изменение исторических условий, ломились богатые клиенты. Аня К. процветала. Ее ценили. Ее любили. Мы мирно повспоминали о том, что было, и Аня очень хвалила мое творчество.
И только на сей раз наше расставание не принесло нам ничего, кроме исключительно добрых чувств.
Но каждый раз, как я прокручиваю в уме все эти бурные события, ловлю себя на мысли, что ничего не смыслю в Железных дровосеках. Что-то я не уловил. Что-то не разгадал.
Аня гораздо ближе к небесным тайнам, чем я.
Одна секунда и то, что после
Мишка Павлов очень нервничал перед свадьбой.
Вся его предыдущая жизнь состояла из любви к старенькой трудолюбивой маме и холостяцких кутежей. Мишке нравилась такая жизнь. Мы, его друзья и собутыльники, все были моложе, и Мишке льстила роль вожака и застрельщика.
Теперь, накануне свадьбы, он пустился во все тяжкие. Не просыхал абсолютно. И каждый вечер менял показания о постигшем его счастье.
Первое время Мишка рассказывал о большой любви, которая случилась в далеком городе Чита. Вот что значит оторваться от родных уральских корней, плакал Мишка. Большое чистое чувство помутило будто бы Мишкин рассудок, и он дал слово жениться.
Последующие мальчишники внесли в эту картину массу новых штрихов. Большая любовь преподносилась уже как романтическое постельное приключение с неромантическими последствиями – беременностью. Вследствие которой Мишка, как честный человек, просто обязан закабалить себя супружеством.
За считанные дни перед торжественным обрядом Мишка коснеющим языком принялся обвинять невесту в злом умысле – дескать, и приключение она подстроила, и забеременела назло.
Мы жалели Мишку. Как бы то ни было, он грудью шел на амбразуру. Он провожал в небытие и оплакивал все, что было нам близко и дорого.
За день до свадьбы наш друг волевым усилием вынырнул из пучины пьянства и пришел в себя. Он сделался холодным, отрешенным и неприступным. Последние часы своей вольной жизни Мишка честно потратил на подготовку к экзекуции. Он шел в загс с гордо поднятой головой, в лучшем костюме, с улыбкой на лице. Он женился по высшему разряду.
Основная часть торжества проходила в ресторане, едва вместившем гостей. Пока не началось, Мишка извлек меня из сутолоки для важного разговора.
– Понимаешь, – сказал он, – я хочу, чтобы все было по-королевски. Чтобы самая последняя сволочь подтвердила: да, Мишка Павлов женился так женился.. Я хочу, чтобы любой подонок до конца дней считал, что Мишка Павлов так женился, как никто не женился. И перед невестой я не хочу краснеть за эту свадьбу всю мою оставшуюся проклятую жизнь. Улавливаешь?
Я сосредоточенно кивнул.
– Ты должен мне помочь, – продолжал Мишка. – У меня есть дядя, зовут его Витей. Он алкоголик. Я не мог жениться без него. Он бы меня сначала проклял, а потом начал бы звонить мне каждую ночь и крыть матом. Это страшный человек, ей-богу.
Я сдвинул брови и слушал дальше.
– Ты должен сесть за стол рядом с дядей Витей и следить за ним в оба. Как только увидишь, что он уже хорош, твоя главная задача – больше ему не наливать. Для него лишние 50 граммов – это для нас непоправимая трагедия. Перебрав, он непредсказуем. Он способен на все. Сделаешь?
– Сделаю, – тихо, но твердо произнес я и пошел в зал.
Дядя Витя уже отирался у стола. Это был маленький, невзрачный человечек с оттопыренными ушами. На нем колоколом висел мятый, но чистенький пиджак, из-под которого неярко синели тренировочные штаны с пузырями на коленях. Я подобрался поближе, прошелся несколько раз, присмотрелся, принюхался. Клиент держался бодрячком, пах неявно и невнятно, ведь нельзя же человеку совсем ничем не пахнуть. Любой медэксперт заключил бы, что дядя Витя был в ту минуту кристально, стопроцентно, невероятно трезв.
Мы уселись за стол.
– Виктор, – церемонно представился он даме слева.
– Витя, – пожал он мне руку и сноровистыми движениями наполнил тарелку близлежащей снедью. Затем потянулся к бутылке.
Я немедленно пресек это поползновение и взял инициативу в свои руки. Недрогнувшей рукой наполнил дядивитину рюмку наполовину. Снял реакцию. Из кругленьких, с копеечную монетку, глазок соседа проливался невинный, хрустальный свет.
Тем временем скалоподобная женщина-тамада начала первый тост. Она вкратце описала добродетели жениха и невесты, обрисовала обстоятельства их знакомства и крупными мазками обозначила глубину их взаимной любви. Всем не терпелось выпить, и речь тамады пару раз прерывали овациями. Однако женщина-скала методично продолжала восхвалять брачующихся.
Наконец, тост достиг кульминации. Закруглив его пронзительной аллегорией о двух влюбленных птицах, тамада быстрее всех опрокинула в необъятное нутро содержимое рюмки и загудела: «Горько!».
Гости тоже энергично выпили и подхватили клич тамады. Жених и невеста, слегка раскрасневшись, поднялись и заключили друг друга в объятья. Мишкины губы почти коснулись губ невесты, и мне на миг показалось, что все его пьяные сожаления на мальчишниках – это пустое, наигранное, придуманное…
Но в этот самый момент, сладкий момент преддверия брачного поцелуя, что-то оглушительно грохнуло совсем рядом со мной. Грохот перекрыл и подавил все шумы и крики.
Дядя Витя, в секунду опьяневший до беспамятства, сначала плашмя рухнул на стол, в салаты, а теперь, весь перемазанный, сползал под стол, увлекая за собой скатерть. Громкому падению дяди Вити аккомпанировали стекло, фарфор и железо, щедро сыпавшиеся наземь.
Мишка остолбенел, продолжая обнимать невесту. На меня, только на меня устремлен был отчаянный Мишкин взгляд. И в нем читалось все, что произойдет через час, месяц и годы. То, что я напьюсь на этой свадьбе, украду невесту, и озверевший, тоже хмельной Мишка будет со мной драться. То, что видеться мы с ним станем все реже и реже. То, что его жена не уживется с его мамой, и мама покинет их семью. То, что жена возненавидит нас, и Мишка постепенно спрячется от всех нас, его друзей, не желая утешений и сочувствия. То, что несчастлив и одинок окажется Мишка Павлов, а после и вовсе пропадет куда-то бесследно, и никто не сможет отыскать его следов.
И до сих пор мне не по себе от этого Мишкиного взгляда.
Мороз и солнце
Местом встречи мы выбрали многолюдную трамвайную остановку в центре города. Я всегда приходил первым. Покупал в ближайшем киоске низенькую бутылочку болгарского бренди и высматривал полудетскую меховую шапку в толпе выходящих из трамвая.
Бренди назывался «Слнчев бряг».
Ничего в нем особенного не было, да и стоил он недорого.
Ожидание трамвая, ожидание той девочки, мгновенно рассеивающийся в морозном воздухе пар выдоха: «Привет!».
Мы долго ехали в трамвае на окраину города, на квартиру, где раньше жил ее дед. Там было место наших тайных встреч.
Неторопливый стук мерзлых колес, ее профиль на фоне солнечного узорного окна.
Мне пришлось участвовать в похоронах ее деда. Крупное одутловатое лицо, посиневшая лысина, обиженно поджатые губы. Незадолго до смерти дед влюбился в коварную медсестру, рассказывала мне девочка, и едва не отписал аферистке свое жилье, что стало бы еще и мстительным жестом в сторону родственников.
Иногда по ночам казалось, что он бродит по квартире. Мы теснее прижимались друг к другу и гадали, что нужно призраку и угодна ли ему наша любовь.
А до того, как улечься, мы пили «Слнчев бряг», пели под гитару, читали стихи.
Как-то она решила пожарить для нас курицу. Мы хозяйничали на кухне и только час, наверное, спустя прошли в комнату. И обнаружили, что квартира ограблена. Воры проникли через балкон, вынесли какие-то вещи. Девочка вызвала милицию. Пока милиция делала свое дело, курица дожарилась и испускала невыносимо вкусный аромат. Он чувствовался даже на улице, где в предвкушении близкого счастья трусливо мерз я, пережидая гостей в погонах.
Ей было девятнадцать, мне – немногим больше. Мы были совсем детьми.
В постели, раздетая и стройная, она вытягивалась поверх одеяла и, легонько вздохнув, закрывала глаза. Ей казалось, все должно происходить именно так. Наша одежда разбросана была по всему полу.
С этой девочкой я потом прожил 11 лет, она родила мне двоих сыновей. Мы все позабыли, все растеряли. Стали далекими.
Где-то в неведомых мирах остались те двое, которые знают, как возносит тела легкое похмелье, как невыносимо ярок утренний свет, как кружится на морозе голова, утомленная ночным счастьем. Этим двоим не переселиться в другие миры.
И «Слнчев бряг» – его нет в магазинах, куда-то запропал. Теперь я его не куплю. И она не станет покупать.
Полеты и падения
Стояло могучее солнечное лето.
Оно разнеживало, раздевало, распластывало сонным котенком на солнцепеке.
– Приезжай на выходные! – тараторила Ленка в раскаленную трубку телефона. – Чего в городе жариться! У нас тут потрясающая лесная клубника. Отдохнешь душой, насобираешь ягод, искупаешься в речке, вечером костер разведем…
Ленка работала в школе. Кажется, завучем. Она меня тихо, заботливо любила. По-матерински. Или даже по-бабушкински.
Лето Ленка проводила вместе с лучшей частью своего педколлектива на заработках – в загородном лагере. И накануне каждых выходных звала меня к себе.
Я поглядел в окно. В бесцветном, выгоревшем небе плавало оглушительное солнце. Оконные стекла звенели от жары. Я сдался и пошел готовиться к поездке.
Купил запасные струны для гитары. Приобрел купальные плавки – а то все повода не было. Взял две бутылки водки. Хорошо подумал и взял еще две. Добавил на всякий случай бутылку вина. До сих пор я как-то не задумывался о том, что пьют педагоги.
– Ну какой молодец! – Ленка радостно хлопала руками по джинсовым бедрам. Низенькая, загорелая, бодрая, она была похожа на комсомолку Наталью Варлей в фильме «Кавказская пленница».
Ленка повела меня обедать. В лагере шел тихий час. Воспитатели и вожатые блаженствовали на скамеечках перед корпусами. По дороге в столовую я то и дело ловил их строгие и даже как будто осуждающие взгляды.
– А это ничего, что я приехал? – уточнил я на всякий случай.
– Что ты! – бесхитростно ответила Ленка. – Все тебя так ждут, так ждут! У нас тут по вечерам тоска зеленая. Уложим детей – весь коллектив придет тебя слушать.
Оказывается, Ленка с присущей ей энергией широко разрекламировала меня как несравненного барда. Я поневоле приосанился. И где-то глубоко внутри у меня поселился страх перед неожиданным вечерним выступлением. Я еще со школы побаивался учителей. Мне всегда казалось непонятным и таинственным, о чем они думают и чем живут.
После обеда Ленка повела меня и свой отряд в лес.
Лесная клубника росла в травяных дебрях по краям лужаек. Она была много мельче садовой, но не отпускала от себя совершенно. Ягода за ягодой таяли во рту, отдавая настоявшийся вкус разнотравья, сладкого лугового сна, жаркого полуденного ветра, близкой речной проточной прохлады, утренних зябких туманов, опадающих чистой росой.
В сумерках дети насобирали дров, и мы запалили щедрый, высокий костер. Мы с Ленкой увлеченно пели что-то простое, туристическое, из нашего походного отрочества. У наших слушателей оно было другое, городское. Дети не знали этих песен. Мальчики сурово глядели на рвущийся к темному небу огонь, девочки, открыв рот, – на нас с Ленкой. Их уносило куда-то на берега горных рек, в пропахшие дождями и дымом палатки, к крупным августовским звездам, к целомудренной грустной любви. Я им завидовал, этим девочкам, в глазах которых плясали отсветы первого в их жизни костра.
Ночные педагогические посиделки развернулись в служебном корпусе, в помещении библиотеки. На невинных детских столиках красовались снедь и привезенная мною водка. Бутылку вина Ленка отбраковала. Выяснилось, что учительницы любят напитки покрепче.
Началось все чрезвычайно серьезно. В тесноте библиотеки чинно расселись дамы цветущего предзакатного возраста, числом около тридцати. Сильный пол был скупо представлен мною и забившимся в угол тоненьким субъектом в трико: это, шепнула мне Ленка, местный физрук, он же, по совместительству, и радист.
Опрокинув по первой, публика приготовилась слушать. И я запел.
Сольными концертами жизнь меня не баловала. В основном мои вокальные упражнения протекали в обстановке дружеской, но приземленной, в кругу ветреных собутыльников, постоянно отвлекавшихся на постороннее. Собравшийся же в библиотеке педколлектив слушал меня уважительно и внимательно, словно принимая экзамен у заведомого отличника. После каждой песни дамы сперва награждали меня достойной длительности аплодисментами, а уж потом выпивали.
Мне нравилась эта публика. Мне нравилось и то, как пили учительницы – без жеманства и ложной скромности, полными стопками.
Скоро я с упоением почувствовал, что наши души зазвучали синхронно. Гитара – неказистая деревяшка производства фирмы «Урал» – бархатисто рыдала, выдавала серебряные трели, органно гудела. Порой педколлектив принимался мне подпевать, до меня все чаще доносились восхищенные возгласы. Ленка сидела рядом с гордым видом наставницы, презентующей коллегам своего лучшего ученика.
Я опомнился, когда кончилась водка. Не было уже физрука, публика слегка поредела.
– Хватит, наверное, а? – намекнул я Ленке, клевавшей носом.
– Нет! – взревели дамы.
Возникла небольшая суета, и на стол передо мной невесть откуда выпрыгнули еще четыре бутылки. Учительницы подвинули стулья поближе, и концерт вступил в новую, интимно-доверительную фазу.
Мы долго пили и пели. Остановиться было невозможно. Чертовка-гитара вышла из повиновения, играла сама, вела за собой. Кто-то наливал мне водку, кто-то подносил закуску, а я все извергал бушевавшие внутри водопады звуков и чувств. Вместе с трепещущими учительницами я взмыл в горние выси. Перед глазами проносились невыносимых расцветок радуги, с дикой быстротой проплывали курчавые облака, плясали вспышки салютов.
Я очнулся у открытого окна, с сигаретой в зубах. За моей спиной, похоже, разгорался конфликт. Я прислушался. Три учительницы поливали друг друга руганью, четвертая, нетрезво взвизгивая, то совестила их, то заявляла какие-то свои права.
– Ты, Людка, даже не думай, – доносилось до меня. – Ишь, наладилась! Иди к физруку налаживайся!
– А ты мне физрука не вспоминай, стерва! Не вспоминай! Он у Петровны сейчас отрабатывает, к нему не подсунешься.
– А ты подсунься, подсунься, рискни здоровьем! Петровна тебе волосню-то повыдирает!
– Жди да радуйся. Я к этому подсунусь.
– Я тебе подсунусь!
– Людка! Марь Иванна! Заткнитесь, вы, сучки старые! И на него не рассчитывайте. Он мой!
Я с ужасом понял, что речь у них обо мне. И тут же мне на плечи развязно легла чья-то рука.
– А дайте даме прикурить, пжалста!
Я обернулся и в одно мгновение оценил всю степень опасности. Меня обнимала красногубая растрепанная кикимора. Следом за ней, опомнившись, ко мне устремились еще три фурии, и весь их вид говорил о твердом намерении добиться своего, даже если им придется при этом меня растерзать, разорвать, распластать, расплющить. Вдалеке, на трех составленных вместе стульях мирно спала Ленка. Спасти меня она явно не могла.
Я медленно поднес зажигалку к сигарете кикиморы и подождал, пока она сделает первую сладкую затяжку. А затем прытко отскочил в сторону, обогнул фурий и опрометью бросился к выходу из комнаты. Они, обманутые, взвыли и бросились вдогонку.
Как в дурном сне, как в фильме ужасов, мы бежали по бесконечному коридору. Я отчаянно дергал на бегу ручки дверей, но все они были заперты. Сзади настигало хриплое дыхание преследовательниц. Впереди маячил тупик. И вдруг одна из дверей подалась и впустила меня. Я рухнул внутрь и щелкнул замком.
Наверное, это был изолятор. Крошечная пустая комнатушка с одной сиротливой кроватью.
В дверь забарабанили. Временами она угрожающе прогибалась под ударами фурий. Они стенали, бранились, соблазняли, уговаривали, не прекращая попыток взломать дверь.
В эту ночь я почти не спал. Фурии приходили под дверь еще несколько раз. Они вожделели меня нечеловечески. Я до сих пор уверен: если бы дверь не выдержала, они бы в конце концов убили меня, меленько расчленили и съели внутренности.
Утром, шатаясь, я рискнул покинуть убежище. Трусливо, с оглядкой, пробрался к Ленкиному корпусу.
– Вот ты где! – радостно встретила меня Ленка. – А я тебя потеряла. Как ночь прошла? Выглядишь ты не очень. Да что с тобой?
Прерывающимся голосом я поведал о своих злоключениях. На Ленку, правда, они не произвели особого впечатления.
– Зря я отрубилась, – заключила она. И потащила меня завтракать.
Столовая кишела народом. Чирикали и шныряли дети. В каждом педагоге я выстывшим нутром чуял оборотня. Лица учительниц были вполне свежи и абсолютно бесстрастны.
Поклевав манной каши, я бросился вон из лагеря. Гитара дребезжала и ныла у меня за спиной. И только дома сердце немного освободилось из тисков ночной жути.
– Ты понимаешь, – тараторила по телефону Ленка на следующее утро, – это же все разведенки, женщины несчастные, наголодавшиеся. У нас вся школа – голодное бабье. Даже если кто из них замужем – и те летом едут наверстывать упущенное за учебный год. Это у нас такой закон природы. Так что ты это все забудь, выброси из головы. Пустяки, дело житейское.
Забыть я не смог. И по сей день боюсь педагогов, как черт ладана.
Искусство и действительность
Мы с Андрюшей Агафоновым вознамерились поставить точку в дискуссии. Спор у нас шел о месте в поэзии, моем и Андрюшином. Шел он долго. Мы писали друг другу большие, мудрые, местами язвительные письма с размышлениями на волнующую нас тему. Писали ручкой на бумаге: тогда, в начале 90-х, у нас, студентов, компьютеров еще не водилось.
Ставить точку мы решили ночью на заводе очковой оптики – я там служил сторожем.
На Руси издавна любая интеллектуальная беседа обязана быть обильно смочена возлияниями. Мы были, безусловно, интеллектуалами, беседовать умели и хотели. Однако наш план оказался под ударом: мы не смогли найти водку.
В те скудные времена водку продавали исключительно по талонам, и то не всегда и не везде. Талонов у нас, понятно, не было – люди нашего круга их пропивали сразу же по получению.
В общаге Горного института, где вахтер-грузин сбывал страждущим водку из-под полы без талонов, но втридорога, нам тоже не повезло. Грузин куда-то делся. Преемника он в тайны своего бизнеса не посвятил.
Есть в России и другая традиция: человек, напряженно занимающийся творчеством, в любом случае напьется. Он может нищенствовать и голодать. Он может жить на улице и ходить в отрепьях. Но от выпивки он не скроется.
Поэтому мы с Андрюшей не волновались. Мы терпеливо ходили по городу, заглядывая в разные потенциально перспективные места. Все это время мы продолжали обсуждать спорные вопросы своей поэтической прописки.
И мы купили выпивку. Это были две внушительные одинаковые бутылки по 0,75 л. Жидкость, по виду, в них плескалась тоже одна и та же. Но этикетки были разные. На первой сообщалось, что перед нами настойка тархуновая, вторая являла нам настойку апельсиновую. Анонсировалось также, что обе настойки – достойной сорокаградусной крепости.
Мы расположились в сторожке, дождались ухода всех сотрудников завода очковой оптики – и приступили.
Не думаю, что стоит здесь пересказывать нашу дискуссию. Ясно, что это был острый, хорошо аргументированный, блестящий обмен мнениями двух мастеров слова, чьи эстетические вкусы и убеждения выстраданы и проверены временем.
И прогрессирующая потеря трезвости вовсе не была помехой нашему диалогу. Его качество, наоборот, росло по мере количества выпитого. Погружению в мир искусства мешало другое: то, что нами пилось, человеческий организм воспринять не мог органически.
Ничего более мерзопакостного я не пил ни до, ни после. Даже самая малая порция апельсиновки либо тархуновки моментально просилась обратно. И через раз свободолюбивая настойка своего добивалась. Поэтому то я, то Андрюша, приняв очередную дозу, то и дело прерывали спор и выбегали во двор, мучимые спазмами желудка.
Действительность грубо прерывала высокий полет наших мыслей.
Но он продолжался, невзирая на действительность.
Последнее, что помню: я выжимаю из последней бутылки последние капли, а побледневший, но все еще достаточно бодрый Агафонов развивает новую эстетическую концепцию с неожиданно гомосексуальным подтекстом.
– Нет ничего более эротичного, чем лицо женственного мальчика лет двенадцати-четырнадцати, губы которого измазаны малиной, – твердо говорит Агафонов. Мы, оценивая сказанное, заталкиваем внутрь настойку.
Затем, секунду помолчав, Агафонов срывается с места и бежит во двор.
А как мы поделили между собой поэтический Олимп, история умалчивает. Совсем не помню.
Стихи и проза
Поэтический запой не прекращался третий, по-моему, день.
Меня, груженого едой и выпивкой, привел сюда друг. Этому предшествовали громогласные, с чтением стихов навзрыд, телефонные перезвоны:
– Старик! Послушай, это же гениально! Да он сам прочтет…
Трубка оказывалась у меня в руках, и я, быстро перенявший плачущую манеру чтения, завывал:
– От бессонницы полинялый,
Разорил себя, разменял…
Сумасшедшая, полонянка,
Отчего ты любишь меня?
– Это надо читать всем нашим! – бурно взрывалась трубка. – Это надо печатать!
Все в московском поэтическом мире уходило куда-то в бесконечность. Бесконечно можно было рыдать в телефон. Бесконечно можно было скромничать в ответ на бесконечно восторженные вопли. Бесконечно крутился телефонный диск, и я вновь и вновь заученно истерил, смачивая пересохшую глотку разведенным спиртом:
– От бессонницы полинялый…
Я бы сошел с ума, если бы победное шествие моей столичной славы однажды не было остановлено чередой коротких гудков. Вот тут-то, бросив телефон остывать, мы и ринулись в запой.
Пара дней прошла в блужданиях по чьим-то довольно неряшливым квартирам. Сидели по кухням, по диванам, на полах. Много пили, почти не закусывали. Не спали вовсе. И без остановки читали стихи. Еда кончалась – и люди, отставая и отыскиваясь по пути, откочевывали на новое пастбище.
На третий день я одурело клевал носом за огромным столом. Жидкая толпа стихотворцев волну за волной посылала в мои натруженные уши. Порою что-то внутри проворачивалось, и я несмазанным голосом заводил привычное:
– От бессонницы полинялый…
Получалось очень убедительно. Сидевшие рядом ценители то и дело горячо тормошили меня:
– Ты завтра обязательно принеси свои стихи. Будем их издавать. В самом крайнем случае напечатаем в «Юности». Или в «Дружбе». Или в «Новом мире».
Я был полуживым от пьянства, но расчетливым провинциалом. В моей тощей сумке лежали готовые подборки стихов. Их я методично вручал благодетелям. Надо отметить, что никто из них так ничего и не опубликовал.
Мне казалось, что вокруг – рай. В голове, затуманенной алкоголем и бессонницей, носились обрывки строк, то ли своих, то ли чужих, но стопроцентно гениальных. Все вокруг было сказочным. И, о боже, этот многочасовой марафон образов и метафор, эта перекличка смыслов, эти рифмованные диалоги и споры! Здесь, в этих табачно-водочных туманах, только здесь и дышала настоящая жизнь, лишенная обманов и низостей, чудесно избежавшая пошлости все время кончающихся секунд и минут.
То и дело, заслушавшись, я проваливался в долгое небытие, но, вынырнув, обнаруживал, что и мига не прошло, и даже стих звучит все тот же…
После очередного провала застал картину: друг, что привел меня сюда, пристально глядит на рюмку с водкой.
– Пить или не пить? – размышлял он вслух.
Я посоветовал ему бросить спичечный коробок. Упадет плашмя – пить. Упадет на ребро – не пить.
– Гениально, – сказал друг и бросил коробок. Тот упал на ребро.
Друг долго с мягкой печалью глядел на эту диспозицию. Наконец, произнес:
– Не верю! – и выпил.
Голова все валилась набок, и я пошел в ванную, чтобы облить лицо холодной водой. Не успел протереть красные глаза – и вдруг меня втиснула в себя ворвавшаяся следом пышнотелая деваха.
Я помнил, что она сидела с нами за столом. Я запомнил ее потому, что, в отличие от всех в нашей компании, на грубом ее лице видна была тщательно скрываемая скука. Это был не наш, чужой, случайный человек.
– Давай! Пойдем! Будет хорошо! Это же просто! – сыпала, бешено спеша, деваха, крепко ухватив меня сдобными руками. Я молча вырывался.
Запас ее аргументов быстро иссяк, и, видимо, отчаявшись, соблазнительница выдала последнее, сокровенное:
– Я – в Союзе писателей! Секретарша! Через меня все «корочки» проходят! Давай! Пойдем! Завтра сделаю тебе «корочки»!
Мне удалось вывернуться и сбежать обратно к столу. Мой друг, кивая в такт чьим-то строфам, вяло поинтересовался:
– Секретарша пристала? Вообще-то, она честная. Уже много кому «корочки» сделала.
По тем временам членство в Союзе писателей давало право на многие привилегии, от издания книг до льготного отдыха в санаториях.
Я промолчал. Я вновь качался на мощных, тугих, волшебных волнах поэзии.
Стихотворение завершилось, и в наступившей вдруг тишине из соседней комнаты донеслись звуки яростного любовного поединка. Деваха все-таки нашла себе кандидата в члены Совписа.
– Пустое, – лениво прокомментировал мой друг. – Слыхали и покруче. Вот лучше послушайте – тут ко мне парень приехал с Урала, совершенно гениальный. Читай, старик.
И я в сотый раз проскрипел:
– От бессонницы полинялый…
Лицо и маска
В Москве, во время юношеского култыханья в литературных болотцах и озерцах, я дважды делил трапезу с потомственными дворянами.
До тех пор я с некоторой брезгливостью относился к генеалогическим фанатикам новой эпохи – казакам, старообрядцам и прочим выходцам из прошлого, фигуряющим в отглаженной спецодежде. Ну, к примеру, свела меня судьба с одним богобоязненным старовером – а он, как выяснилось, успешный и нахрапистый бизнесмен. Он рыскал по архивам, откапывал документы, из которых следовало, что там-то и там-то, в таком-то здании во время оно располагалась домовая церковь, или часовенка, или еще какое учреждение культа. Документики эти по божеской цене передавались местному иерарху православной церкви, получившей, как известно, государственное «добро» на возрождение храмов. На барыш от сделки кладоискатель и сам жил, и приход свой карликовый содержал. Такой вот любитель родной истории.
Или еще: занесло меня как-то на празднование Пасхи в тесный кружок городских дворян. Взрослые и неглупые, должно быть, люди силились создать атмосферу милого домашнего праздника первой половины девятнадцатого века. Мягки и обходительны, гладкоречивы и сдержанны были участники празднества. Их культурных детей хоть сейчас можно было снимать в кино по мотивам Лермонтова ли, Тургенева ли. Скорее даже, угадывались не дворянские, а помещичьи, аксаковские зажиточные мотивы. Специально приглашенный батюшка напутствовал малых сих молитвами. Зевая от скуки, я досидел-таки до финала: мне хотелось поглядеть, как эти господа погрузятся в свои иномарки и отбудут из России бутафорской в Россию обычную – немытую, сосущую пиво на ходу, плюющуюся прибандиченной речью. Когда дворяне разъезжались с праздника, лица их были трагичны, а у некоторых и голоса дрожали от внутренних бурь.
– Сегодня я познакомлю тебя с моей любимой! – торжественно сказал мой московский друг. – Она прекрасна. Живет со старенькой мамой. Денег у них – ноль. Но они – потомственные дворянки.
Я скривился. Коли уж провинциальные наши притворяшки так противны, чего ждать от столичных, отесанных по всем правилам?
Друга было жалко. Но отказать я не решился.
Дворянское гнездо с порога било беспробудной нищетой. Вполнакала тлеющие лампочки, бедный выщербленный пол, скорбные в ветхости своей одежды, стыдливо повисшие на металлических крючках, приделанных к голой стене…
Женщины, мать и дочь, поразительно походили друг на друга. Они были как драгоценные статуэтки. Женской красотой обе они вовсе не блистали, ее, видимо, съела трудная жизнь. Синева под глазами, откровенные резкие морщины скрадывали разницу в возрасте, делали обеих преждевременно состарившимися. Но в выражении лиц, в том достоинстве, с которым выходили они навстречу нам и, сразу виделось, навстречу любым другим людям, и особенно – в осанке жила властная сила.
Смущенно переминался я в прихожей, смущенно мостился после за столом. Здесь ели молчаливо, из старых пожелтевших дорогих тарелок, пользуясь тяжелыми серебряными столовыми приборами. Строгий настрой ужина нарушался лишь быстрыми взглядами дочери в сторону моего друга – взглядами испуганными и нежными.
Он редко баловал ее визитами. Когда придет снова и придет ли – она не знала.
А после мы, устроившись вольнее, говорили о жизни и вчетвером читали стихи. Я купался в давно не слышанном чистом, неспешном московском говоре, в их чуть надтреснутых голосах, плавной завершенности фраз, искренних интонациях отшельников, даже не задумывающихся о смысле отшельничества.
Их дворянство отняло у них почти все – деньги, общественное положение, обрекло на голод. Советский террор убил их близких. Их манера жить закрыла им путь к скороспелым успехам, за которые с упоением грызлись шакалы наступившего смутного времени. И нечем было им гордиться, этим дворянкам, и нечему особенно было им радоваться, этим двум одиноким бабам.
Но каждый вечер, отварив немного картошки, они стелили на стол многажды стиранную скатерть. Младшая доставала ножи и вилки. Старшая вносила блюдо с картошкой. Откинув царственные плечи, женщины усаживались ужинать. И ели не торопясь, хотя это было впервые за день.
Так они ели, так они вели беседу, так они любили, страдали, спорили, отчаивались, надеялись.
Я уверен, именно так их родные прощались с жизнью в лагерях, тюрьмах, бараках, бомжатниках СССР.
Дворяне-трусы, дворяне-подлецы, дворяне-приспособленцы и недоумки остались где-то там, в далекой стране Лермонтова, Тургенева, Аксакова, Салтыкова. Сквозь двадцатый век они пройти не смогли. Его пережили только дворяне Окуджавы, Дудинцева, Рыбакова, Астафьева. Те, которым было что терять и ради чего жить даже и на дне.
Мы остались в тесной их квартире. Друг лег со своей любимой. Мне постелили на полу там же, в их комнате. Его любимая подошла ко мне и сказала:
– Спите, не волнуйтесь, мы не будем вам мешать.
Да, ей было что терять и ради чего жить.
А в следующий раз, накануне другого визита, мне пришлось скупить чуть ли не весь гастроном.
– Он беден, как церковная мышь, – объяснил друг. – Но если принести ему продукты просто так, благотворительно, может и за дверь выставить. Обидится. А под выпивку – примет. Скажем, что закуску принесли.
Так что явились мы, имея при себе две бутылки водки и четыре огромных пакета закуски.
Я глядел на этого старика, сидя напротив, и лицо визави плыло, колебалось, будто бы между нами маячило пламя свечи. Старик часто замолкал, обернувшись в сторону незашторенного темного окна, и тогда я видел два одинаковых лица, сосредоточенно всматривающихся друг в друга: старик отражался в оконном стекле.
Трудно представить себе, как он прожил жизнь со своими лицом и фамилией. У старика было узкое, смуглое, яростное лицо добравшегося до старости Александра Сергеевича Пушкина.
Правнук Пушкина заканчивал век в московской «хрущобе», под клокотанье холодильника, в котором я обнаружил лишь крохотный кусочек твердого, как камень, сыра.
Старик нехотя говорил с нами о том, о сем. А ему было о чем говорить. Он много лет проработал в МУРе. Именно он, кстати, руководил разгромом знаменитой банды «Черная кошка».
– А стихов я никогда не писал, – сказал Пушкин. – По семейному преданию, Александр Сергеевич завещал потомкам не заниматься поэзией.
Я слушал и не слышал. Я все смотрел на это лицо. И сквозь темное окно на нас, грустных выпивох, смотрел старый Пушкин.
Мы прошли из кухни в единственную комнату. Она свистела пустотой, была ею переполнена. На стене сразу бросалось в глаза еще одно пушкинское лицо. Это была единственная реликвия правнука – одна из посмертных гипсовых масок поэта.
– Были и другие ценности, но их у старика выманили, взяли обманом, – шепнул мне друг. – Придут, подпоят, выклянчат что им надо, вытребуют, – так все и разлетелось. Осталась только маска.
Старик все молчал и глядел в сторону. Думал о своем. Он был пьян, но не жалок. Я думаю, он готовился к встрече со своим прадедом, продолжателем мощного проросшего в русскую землю корня.
Позже я читал и о нем, о старике, и о других отпрысках Пушкина, и о визгливых сварах, разгоравшихся между ними, многие из которых уж и знать не знают русской речи. Старик, насколько мне известно, в сварах не участвовал.
Не верится мне, что человек с таким лицом мог драться за славу и почести.
На него каждый вечер из кухонного окна смотрел камер-юнкер, дворянин, человек долга и чести, человек веселый, и взыскательный, и умеющий прощать, и любящий жизнь.
Правнуку было что терять и ради чего молча сидеть на пустой кухне. В пустой комнате на стене напоминала о главном скорбная посмертная маска.
А вокруг них, пушкинского лица и пушкинской маски, вокруг кроваво обрывающихся родословных коренного дворянства, крутился пестрый маскарад персонажей, с рожденья, кажется, обезличенных.
Теперь вымирают и те дворяне, что сохранили лицо в передрягах минувшего века и тысячелетия. Умер правнук Пушкина, и мне неведомо, что сталось с его реликвией.
А маскарад продолжается. И почти не видно в его пестроте гордых, нежных, смятенных, ликующих, мудрых, бесшабашных, прекрасных человеческих лиц.
Бытие и сознание
Общеизвестно, что с человеком выпившим приключается такое, что трезвому и во сне не привидится.
При этом пьяница смиренно, без воплей и стенаний принимает любые удары судьбы. А трезвенники, наблюдая его мучения, повторяют избитую истину: пьяному, дескать, море по колено.
Ах, как они неправы.
Ах, какие чувства сотрясают это мычащее тело, какие иглы вонзаются в беспомощный мозг, какие бури проносятся в заскорузлой душе!
Как остро все вокруг видится и слышится, как бессилен страдалец что-либо изменить, как несправедлив и жесток окружающий мир!
Трезвенники в трудную минуту жизни берут бутылку, чтобы отключиться или хотя бы притупить боль.
Человек опытный, многое переживший, наливает сто граммов, чтобы жизнь заискрилась, заиграла свежими красками, чтобы проснулись и проклюнулись самые малые и потаенные ростки в сердце и в памяти.
Вот почему людям, пригубившим в хорошей компании животворной влаги, часто хочется продолжения.
Годы назад, когда мы с Андреем Ивановичем Грамолиным были бодрее, без продолжений не обходилась ни одна наша встреча.
Как-то ранней осенью привелось мне сопровождать Андрея Ивановича домой после активных возлияний в редакции.
Стоял чудный теплый вечер. Город уже окутали мягкими лапками сумерки, и ветерок гонял по тротуарам первые опавшие листья.
Ничто не мешало мне наслаждаться прогулкой. Андрей Иванович шел смирно, смежив веки и чуть покачиваясь из стороны в сторону. На кирпично-красном, обманчиво-волевом лице его лежала печать решимости, и была это четкая, недвусмысленная решимость во что бы то ни стало, наперекор обстоятельствам и, возможно, самому себе дойти до дому. Грамолин, не прерывая сна, аккуратно переставлял ноги, как бы пробираясь по жердочке через бурный ручей. Только раз он что-то тревожно залопотал, забубнил, но быстро выяснилось, что подопечному приспичило сходить по малой нужде. Я отвел его за одиноко стоящий грузовичок, и вот уже Андрей Иванович бредет со мной дальше, тихий и покорный, как невеста, приглашенная на смотрины.
Он хорошо знал дорогу и поэтому иногда даже мирно похрапывал.
Так мы добрались до большого перекрестка на углу Ленина и Московской. Здесь Грамолин остановился как вкопанный и саботировал все мои просьбы продолжить путь. Он мертво стоял под вывеской «Бистро». Даже во сне Андрей Иванович не мог пройти мимо единственного в округе заведения, где в этот поздний час еще наливали.
Жаждал ли он дополнительных доз алкоголя? Вряд ли. Он выпил достаточно. Он был разумным человеком. Овладела ли остатками его сознания та самая тяга к приключениям, о которой знает любой мало-мальски выпивающий индивид? Но нет, не планировались нами приключения, и простая, житейская цель прогулки оговорена была заранее.
Так что же обуревало Грамолина? Что за прихоть, что за блажь налетела на него из космоса и приковала к питейной вывеске? Что толкало его принять на грудь ненужные, лишние, вредные для самочувствия граммы?
Я пытался сдвинуть коллегу с места, взяв под уздцы, подталкивая под круп, суля различные блага и кары, – бесполезно.
– У меня нет ни рубля, – исчерпав все аргументы, соврал я.
– У меня есть, – абсолютно трезвым голосом сказал Грамолин.
Мы зашли в бистро. Я встал за столик и уставился в окно. Андрей Иванович шустро совершил несколько рейсов от столика к раздаче. Перед нами красовались два граненых стакана, до краев наполненные водкой, и тощие бутерброды.
– Андрей Иванович, да что с тобой такое, – ошарашенно воскликнул я. – Ты зачем столько водки-то взял?
– Ну, давай, старик, за этот вечер, – как ни в чем не бывало сказал Грамолин, чуточку отпил из стакана и тут же впал в прежнее блаженное состояние.
Ругаясь про себя последними словами, я погрузил оба стакана с водкой в карманы своей куртки и вывел заснувшего друга из бистро. Водку мы допили поблизости, на крыльце собеса. Андрей Иванович, не открывая глаз, твердым апостольским жестом указал на уютную лавочку, где мы и расположились. А после уж не останавливались до самого дома.
Я заночевал у него и проспал почти сутки, видимо, сломленный вечерними переживаниями. Мы достойно проводили этот вычеркнутый из жизни день. Сидели печально, почти молча. Чувствовалась некая пустота, нехватка событий, в которых мы могли бы поучаствовать. Ровно тикающие над головой кухонные часы будто издевались над нами. И где-то внутри пошевеливалась смутная тревога: не к добру все это было, не к добру. Не к добру такое демонстративное, в пику всем нашим усилиям, отсутствие происшествий.
На следующее утро мы пошли пить пиво в близлежащий парк.
Повсюду торжествовал убогий материализм. Наше сознание ни в какую не желало влиять на бытие. За два дня пьянства с нами так ничего и не случилось, и теперь мы мстительно призывали на свою голову все самое худшее. Но и бытие вступило в конфликт с сознанием. Оно не предлагало и даже не предвещало никаких гадостей. Ласковые солнечные погоды широко разливались по парку. Все трезвенники давно уж расселись по рабочим местам, на тропинках в парке прыгали непуганые воробушки. Мы опустили свои тяжелые тела на укромную лавочку под сень начинающих желтеть лип. Неяркое сентябрьское солнышко лезло в глаза, слепило. Пиво было не в радость.
Вдруг на идиллическую лужайку выбежала стайка лолит в спортивных костюмах. Должно быть, у старшеклассниц завершался урок физкультуры. Прямо под носом у нас, разочарованных и обиженных жизнью усталых мужчин, лолиты принялись бережно собирать разноцветные листья. Видимо, следующим уроком у них была биология. А может, в наивные и светлые девичьи сердца проникла щемящая романтика осени, неизбежного увядания, и послышался им в шелесте листьев прощальный клич перелетной любви.
С ненавистью наблюдали мы с Андреем Ивановичем за плавными движениями собирательниц гербария. Что имела в виду судьба, подкинув нам под нос старательных лолит? Только одно – она смеялась нам в лицо, смеялась и злорадствовала. Она пыталась убедить нас в том, что впустую мы пили все это время. Что мы – пошлые алкаши, прожигатели сил и средств, и не в центре жизни находимся мы, а на ее обочине, вдали от самого важного, нужного и драгоценного.
Примерно то же промелькивало и во взглядах юных физкультурниц, иногда бросаемых на наши смурные фигуры. Жалость и осуждение. Видно было, что лолиты не воспринимали нас частью родной природы. Какого-нибудь завалящего жучка они бы тискали и ласкали, а на нас им было глядеть противно.
Мы, вздохнув, поднялись со скамеечки и побрели в бистро. Некуда нам было больше идти. Некуда отступать.
В бистро творилось что-то невероятное. Там собралось полно народу. Народ утробно гудел, но при этом никто вроде бы ни с кем не разговаривал. Гул рождался сам собой, висел в воздухе, будто мысли присутствующих вырвались на волю и тревожно толклись под потолком. Продавщица нервными, отрывистыми движениями подавала выпивку. Покупатели брали ее не глядя и пили крупными глотками. Только и видно было, как трудно ходили на шеях кадыки, как равнодушно рвали руки закуску.
– А что случилось-то? – не выдержав, спросил я у мужика, за которым мы заняли очередь.
Мой тихий осторожный вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Его услышали все в бистро. Гул прекратился. Мужики всматривались в нас с Андреем Ивановичем с интересом и ужасом.
– Террористы снесли две башни, – отрывисто ответил мужик. – На самолетах.
– В Америке, – добавил другой.
– Вчера, – сказал третий.
– Жертвы есть? – сухим докторским тоном осведомился Грамолин, выпятив нижнюю губу.
– Тысячи жертв, – ответили ему. – Тысячи.
Мы более не стали отвлекать публику от переживаний. Так же, как и все, отоварились, нашли местечко за столиком, выпили по первой без лишних слов.
К чему были слова? Все стало ясно. И все встало на свои места.
Не зря, вопреки требованиям трудовой дисциплины, пошли мы на поводу у своего настроения, почуяв сгущающиеся тучи, как чувствуют их птицы, муравьи и собаки. Не зря ждали раскатов грома. В этот раз рок не разменивался на мелкие неприятности. Он пошатнул планету.
И жалко нам стало глупых лолит, не умеющих еще жить, любить и тревожиться. Обманывающихся напускной прекрасностью сегодняшнего утра. Засушивающих впрок вечность, в которую они еще не падали с предсмертным криком, как в бездонный колодец.
Горбушки и караваи
Где вы, рюмочные, распивочные, закусочные, тесные, наполненные притупившимися запахами рыбы, яйца и спирта, руководимые усталыми женщинами – умелицами извлекать пробки и наливать томатный сок? Где вы, пивные, те, старого образца, похожие сталинской монументальностью своей и демократичностью на общественные бани? После вековых трудов на благо прохожего народа закрываются последние пельменные, увянув под напором юного неразборчивого фаст-фуда.
Куда теперь стремиться творческому пролетариату за отдохновением, вдохновением, забвением? Да и жив ли он? Или вымирает вместе с пельменными?
Один мой знакомый брезгливо откликнулся на горестные эти вопли: чего ее жалеть, эстетику нищеты!
И впрямь, и впрямь. Мы, клиенты того низкопробного общепита, небогаты были. И сервис наливальщиц и подавальщиц оставлял желать. И обстановочка, как правило, приближалась к вокзальной.
И однако же… Однако же… Однако же…
Хорошо было, обдумывая житье, брести по самой многообещающей, самой людной магистрали – проспекту Ленина. В такой поход следовало отправляться в настроении элегическом, умеренно спокойном, не отвергающем случайных бесед, а наоборот, предвкушающем их.
Как раз напротив закусочной, называвшейся просто и емко – «Закусочная», мне встретился человек невеселый и темнолицый, мэтр и лауреат юмористического жанра Герман Федорович Дробиз.
Не тратя слов, мы резко замедлили шаг и сразу легли на единственно верный курс.
– Пока ее не закрыли, – пошутил Дробиз.
Посетителей внутри оказалось совсем немного. Одиноко и поспешно допивал свои сто граммов декан факультета журналистики Лозовский. В углу, взяв для отвода глаз по чаю с бутербродом, ворковала влюбленная парочка. Над гранитным подоконником, заставленным пустой посудой, энергично выступал знакомый областной депутат.
– Это компетенция, значит, Конституционного суда, – настаивал он. – В Верховный, значит, суд, в уставный суд, в арбитражный идти бесполезно.
– Полезно, – возражал маленький нетрезвый очкарик и, опустив голову, покорно выслушивал дальнейшие тезисы депутата.
Мы с Дробизом придирчиво оценили свой финансовый потенциал. Если с закуской, получалось два по сто. Если с запивкой – два по сто пятьдесят.
– Два по двести, – сказал Дробиз усталой женщине за прилавком. Я пожал плечами, но доверился старшему товарищу.
Бережно приняв пластиковые стаканы, мы унесли их на дальний столик. За ним полагалось стоять. Под столешницей чей-то заботливый гений предусмотрел наличие крепких металлических крючьев – на один из них Дробиз повесил свою сумку. Она содержала, увы, не колбасу, а бумаги, и выглядела дряблой, как шкура древнего старика.
Установилось предварительное молчание, какое бывает, когда пловец перед прыжком в воду наполняет легкие воздухом и готовится к неизбежному рекорду.
– Герман Федорович, – начал я. – А почему вы не пишете для больших московских звезд? Ведь вас же знают, вы лауреат и все такое прочее.
Дробиз понял меня правильно. Он обнял свой стакан большой опытной ладонью и произнес:
– Ну, давай.
Мы выпили по половинке. Сивушные масла мгновенно оккупировали организм, особенно верхнюю его часть.
Нужно было, приоткрыв рот и вытянув губы, медленно, осторожно, несильно выдохнуть. А затем, не мешкая, совершить могучий, свистящий, яростный вдох через нос. На самом излете выдоха Дробиз вынул из кармана звонкую, видавшую виды горбушку и разломил ее пополам. Мы дружно поднесли горбушку к носу и вдохнули запах старого хлеба, табачных крошек и еще чего-то устоявшегося, постоянного, не меняющегося – такого же, видимо, как содержимое карманов юмориста.
Теперь мы закурили.
– Очень удобно носить с собой горбушку, – пояснил Дробиз. – Вещь незаменимая. И места много не занимает. Зайдешь, выпьешь, занюхаешь, положишь обратно и дальше идешь себе. Я всегда ношу с собой горбушку.
Я поглядел на свою часть сухаря и представил, сколько раз он верой и правдой послужил Герману Федоровичу. Это был заслуженный сухарь. Сухарь-спутник, сухарь-друг.
– А юмористика столичная – это же неинтересно и неприлично, – продолжал Дробиз. – Скучно придумывать шутки ниже пояса. А слушать, как их произносят, еще скучнее.
Мы немного отвлеклись на обсуждение местного литературного процесса и выпили еще по половинке от оставшейся половинки. Воздух закусочной удивительно легко проносился сквозь горбушку, напитываясь по пути сытным хлебным духом.
– Ты сам-то пишешь чего-нибудь? – поинтересовался Дробиз.
– Не-а, – беспечно ответил я.
– Гляди, тебе ведь уже тридцать. Скоро на покой пора. Успевай, – напутствовал Герман Федорович.
– Это, значит, прописано в Конституции, – надрывался поодаль депутат. – В Конституции, и более, значит, нигде! Оспаривать законы и подзаконные, значит, акты – бесперспективно!
– Перспективно, – обреченно возражал очкарик.
Допив последнее, я пристал к Дробизу с просьбой в сотый раз прочесть стих, очень мною любимый, – про урожайную страду на станции Аять, где «нарезаны земли творческой бедноте».
– Я стою, прислонившись к березе, приникнув к лопате, – негромко бубнил Дробиз. – С косогора к реке уползает поселок Аять. Я форпостом культуры поставлен стоять на Аяти, и на этом стою, и на этом и буду стоять.
И мы разошлись – я направился по Ленина в сторону рюмочной, он по тому же проспекту в сторону пельменной.
Бог знает, что во всем этом было. Но оно – правда, было.
И та карманная горбушка как-то милее мне, чем нынешние заточенные в полиэтилен и целлофан вечно свежие хлебы. Не хочется ими ничего занюхивать. Да уже и не с кем. И негде.





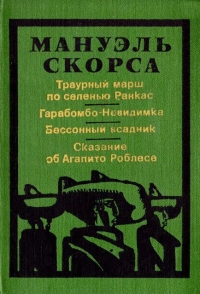





![Банда слепых и трое на костылях[истерический антидетектив]](https://www.4italka.su/images/articles/521946/primary-medium.jpg)

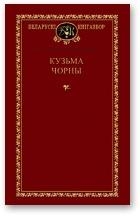
Комментарии к книге «40 градусов», Эдуард Анатольевич Коридоров
Всего 0 комментариев