Виорель Ломов Неодинокий Попсуев Роман-мозаика
Тебя, милый мой сын, жители Сеуты считают слегка помешанным: это следствие их темноты.
Ян ПотоцкийОт Автора
В Нежинской картинной галерее (справа под лестницей) в начале этого столетия появился замечательный портрет мужчины с горящим взором. Возле него искусствовед Диана Горская завершает свои экскурсии.
«Перед вами, господа, образ молодого мужчины, нашего земляка, Сергея Попсуева. Работа исполнена в характерной для современной итальянской школы манере: спонтанный мазок, случайный ракурс… Художнику Луиджи Ванцетти (вот, в уголке подпись Luigi Vanzetti) удалось передать харизму Попсуева. Вглядитесь в его глаза. Не правда ли, кажется, что они видят то, чего не видим мы? Портретист вырвал лишь миг из жизни Попсуева, но в нем смог запечатлеть вечность. А видели бы вы, господа, его стать! Это Аполлон, Дорифор…»
Роман о Попсуеве, с которым я знаком уже много лет, написался сам собой. Это мозаика из отдельных дней Сергея и его поступков, которые отложились в моей памяти. Кое-какую информацию о Попсуеве я почерпнул также в газетных статьях о нем и в «Записках» самого Сергея. Несколько неправдоподобных, на первый взгляд, событий на самом деле были.
Пролог Девочка
Прощай, иллюзия! Я счастлив был – во сне…
Эдмон РостанВыдалась светлая ночь. На платформе никого не было.
«Почему, – рассуждал Попсуев, – когда выпьешь, ночью светлеет. Во всяком случае, освещает что-то внутри, будто и на самом деле есть душа, – усмехнулся он, садясь на лавочку. – Особенно, когда один».
Нет, оказывается, под навесом было несколько человек. В свете фонаря белело женское лицо. Такие лица бывают в мистических японских фильмах. Казалось, женщина смотрит в его сторону. Вдруг он почувствовал щекой или еще непонятно как, что на лавочке справа кто-то сидит. Глянул и вздрогнул – девочка лет десяти, в легкой курточке.
– А ты что тут делаешь? – спросил Сергей. – Ты когда подсела?
– Давно.
– Где твои? – машинально спросил он, приглядываясь к женщине под навесом.
– Не знаю, – ответила девочка.
– Заигралась поди? – Попсуев почувствовал прохладу, поежился, снял свою куртку, накинул девочке на плечи. – Отстала?
Девочка не отвечала. «Странная, – подумал Попсуев, – мамаша тоже хороша. Без нее, что ли, умотала в город? Если даже спохватилась, из города последняя электричка уже прошла…» Девочка не была похожа на беспризорную.
– Нет, я не отстала, я всю жизнь живу здесь.
– На даче? – удивился Попсуев. – И зимой?
– Нет, здесь, на остановке.
Попсуев помялся, не зная, что делать. Он решил, что ослышался, но переспрашивать не стал – из-за поворота показалась электричка в город, последняя на сегодня. На мгновение-другое небывало яркий свет фонаря электрички ослепил его.
– Постой-ка, заберу. – Он достал из куртки паспорт и кошелек. Вынул сто рублей, вложил девчушке в руку, накинул куртку ей на плечики. – Поехал. Может, со мной?
– Нет, – ответила девочка, – я останусь тут.
– Как знаешь. Пока.
– До свидания, дядя.
За поручень вагона взялась женщина, довольно молодая, задержала на нем взгляд.
– Вы проходите? – Голос, как и положено, чуть-чуть ворковал.
Попсуев пропустил ее вперед, помахал девочке рукой и вошел в вагон. Женщина расположилась на сиденье лицом к Попсуеву и, кажется, смотрела на него. Сергей бросил последний взгляд на девочку. Та сидела на скамейке, глядя под ноги. Над ее головой висела полная луна. На платформе никого больше не осталось, и оттого пустое, залитое голубоватым светом пространство казалось жутким. Двери стали закрываться, Попсуев соскочил на площадку.
– Что же ты, так всю ночь будешь сидеть? Замерзнешь ведь!
Девочка что-то сказала, глядя вслед удаляющейся электричке, притронулась рукой к куртке. В кулачке ее была зажата сотня.
– Пошли ко мне, пошли-пошли, – буркнул Сергей не то чтобы раздраженно, но недовольно. – Чего торчать тут? Электричек больше не будет.
Попсуев удивился тому, что мысленно оправдывается перед этой малышкой за свое раздражение. Словно виноват перед нею! Девочка и не думала вставать. Но в ее взгляде – в свете луны – появилось что-то не по-детски загадочное. Сергею на мгновение стало не по себе.
– Ну, чего сидишь? Пошли.
Девочка встала, взяла его за руку. Ладошка ее была маленькая, не доставала и до половины ладони Попсуева. В другой руке у нее была кукла.
– Вы не думайте ничего, дядя.
– А я и не думаю ничего, – пробормотал Сергей. «Ехал бы сейчас домой, – думал он, – ведь завтра с утра дурдом…» – Как куклу-то звать?
– Оксана.
– А тебя?
– И меня Оксана.
– А маму?
– Оксана.
– Надо же, – сказал Попсуев, сводя лопатки, чтобы не было так холодно. – Страна Оксания. А меня Сергей.
– Оксания! – рассмеялась девочка. Сергей невольно тоже хихикнул, больше над самим собой. «Невеселый какой-то смех». Он почувствовал, как детские пальчики сильнее сжали его ладонь. В ответ он слабо пожал и ее ладошку. «Как трогательно! Чего ж делать-то? Есть хочется».
– А мама где, папа? – еще раз спросил Попсуев.
Девочка не ответила.
– Тебе сколько лет, Оксана?
– Не знаю, дядь Сереж, – беззаботно бросила малышка. – Сто, наверное.
К реке шли между заборами, спуск был поначалу пологий, а потом крутой, с промытыми дождями двумя канавками, расширяющимися к реке и сливающимися в одну широкую. Через реку был мост, и на мосту вдруг возникло ощущение безграничности всего: реки, неба, дороги. Девочка остановилась, высвободила руку.
– Что? – спросил Попсуев. – Скоро придем. За мостом в горку, и придем.
– Смотри, как красиво там, – Оксана махнула рукой в глубину темноты, в которой светилась вода.
– Да, красиво.
– Это вечность.
– Что? – удивился Попсуев.
– А ты один живешь?
– Да, один. С чего ты взяла?
– Да видно сразу. Если б не один, не соскочил бы с электрички. Ехал бы сейчас домой, к жене, детям. А так у тебя дом там, где ты. Ты один. Я одна. Оба одни.
Попсуев уже дрожал от холода.
– Оба вдвоем. Пошли, пошли, холодно. Видишь, пар изо рта идет.
– Прости, дядь Сереж, я же в твоей куртке, и мне тепло, – Оксана снова взяла его за руку. Ладошка ее была сухой и теплой. – Смотри, смотри! – Она выпустила куклу из другой руки, и та как-то коряво полетела вниз и шлепнулась о воду.
– Зачем ты так?
– Теперь ты у меня есть. А ее я возле ларька нашла. Она всё равно чужая.
Они прошли лугом, на котором ощущение безмерности пространства только усилилось, потом прошли мимо черемухи, потом еще одной, еще – тут дачники собирали ягоды для понижения давления.
– Я здесь черемухи объелась.
– Давление сбивала? – спросил Попсуев.
– Нет, набивала брюхо. А ты тоже собираешь, да?
– В этом году нет.
– В этом нет, так другого тоже нет.
«Забавно. Это у нее просто так сорвалось с губ, или она понимает всё? Услышала, наверное, от кого-нибудь… Дети такие переимчивые». Странное чувство нереальности происходящего только усилилось. «Будто во сне. Но то-то и оно, что во сне так не бывает. Там нет этого ощущения безмерности жизни, там обязательно что-то давит. Давит, давит, а вот черемухи для уменьшения этого давления нет. И тебя куда-то несет, или ты несешься сам. Но сейчас-то я никуда не несусь? Разве что согреться да поесть».
– А мои все давлением мучились. Я ушла от них.
– Не искали?
– Почем я знаю?
Сергею до того стало жаль эту девчушку, что он захотел выпить.
Они поднялись в горку, зашли на территорию дачного общества. Во дворе сторожа Помпей, встав на задние лапы и «облокотившись» об изгородь, молча разглядывал прохожих.
– Большой какой!
– Помпей, – сказал псу Попсуев, раздумывая, зайти или нет к Викентию за бутылкой. У того всегда было, что выпить. «Ладно, проехали». Псина глухо заурчала, прожевывая недовольство, заглотнула его, опустилась на землю и полезла в громадную будку возле крыльца.
– У него настоящий дворец. Я бы запросто там жила!
– Наш с тобой дом там… А твои родные тут, на Колодезной?
– Нигде.
– Так. Ладно, проходи, тут осторожнее, канавка.
Они зашли в дом. Сергей достал из потайной ниши плитку и чайник.
– Вот же черт! Воды-то нет, всю вылил, чтоб зимой не замерзла. И еды никакой. Чего делать теперь?
– Спать. Хочу спать.
– Спать, так спать. Залазь в спальник, не замерзнешь. На свитер, он чистый.
Девочка, похоже, уснула сразу же. Сам он долго не мог уснуть. Хотелось есть, было холодно и тревожно. Вроде задремал, но вдруг понял, что это та девочка. «Как же я сразу не догадался? А, не хотел просто». От тоски и чувства одиночества захотелось исчезнуть с земли, испариться, как летнее тепло.
…Девочка на высоком крыльце, лазит по перилам. Вдруг соскальзывает с них, падает – медленно, не как в жизни, а как в кино, падает, падает, превращается в бабочку и в момент соприкосновения с асфальтом взмывает над ним, вспархивает – спасается!
Сергей вздрогнул. Этот сон часто снился ему. Даже не сон, а так, полудремотное состояние. Поначалу, в первых снах бабочки не было, девочка медленно падала, а потом, так и не упав, оказывалась стоящей на тротуаре. Стоит, как ни в чем не бывало, глядит на него и смеется, а не плачет. (Вообще-то она тогда ревела, размазывая беленькими веснушчатыми ручонками слезы по грязным щекам; и лицо ее белело, как маска, хотя вовсю жарило лето). Момент падения на асфальт вырезан, как кадр. «Кто же это режиссирует мои сны? Лет пять назад она вдруг превратилась в бабочку. Что это, метаморфозы сна или моей совести? Странно, видел ее пять минут, падала она мгновение, а вся моя жизнь оказалась соразмерной этим минутам и нанизана на этот миг… как бабочка на иглу. Упала-то вниз головой – с высоты трех метров!»
Он снова задремал и снова увидел замедленную картину ее падения. Жуткую и безмолвную. Причем его не покидало ощущение, что он в состоянии поймать девочку, вот же она, только протяни руки – но рука не слушалась его. С высоты трех метров – тут и гадать не надо, как сильно она ударилась! Бедная головка… Это мячику хоть бы что. Что-то отвлекло тогда его, девочка куда-то исчезла, а он стал зачем-то в асфальте искать вмятину от ее падения.
«Да не в этом дело! Дело в том, что он тогда мог согнать девчушку с перил, хотел согнать, но поленился согнать! Тогда бы и падения того не было!» Сергея всего передернуло. Ему показалось, что он вспомнил лицо девочки и посмотрел на Оксану. Лица не было видно. «Уснуть бы», – думал Попсуев. Иногда хочется уснуть и не выходить из сна, как из детства. Он так и не уснул. Лежал на спине, глядел в потолок и просматривал то, что показывала память.
Потом встал, оделся и вышел во двор. Стало светать. Подморозило. «Чего ж теперь делать, – размышлял Сергей. – Во-первых, надо что-то поесть, а, во-вторых, что делать с девчонкой?» Попсуев достал из кармана расписание – через сорок минут электричка. Следующая через полтора часа. «Околеешь тут. Магазинчик вряд ли откроется раньше десяти. А может, и вообще не откроется. Надо ехать домой».
Девочка проснулась и сидела на скамейке, болтая ногами. Попсуев погладил Оксану по голове. Та прижалась к его руке.
– Она у тебя хорошая. Не бьет.
– Кто? – не понял Сергей и тут же понял: рука. – Вставай, надо ехать, а то тут ни поесть, ни попить, и топить нечем.
– А мои забором топят.
– Они тут, что ли?
– Да нет, это раньше, а сейчас их нет нигде. Сгорели. Напились и сгорели. Я их будила, а они не разбудились.
От этой новости Попсуев присел на кровать.
– И как же теперь? – спросил он непонятно у кого. До этой минуты он всё же надеялся найти как-то девчушкину родню. «Да-да, на той стороне сгорел три дня назад дом. Говорили: бомжи сожгли».
– А что как? Жить.
Понимая нелепость улыбки в этот момент, Сергей улыбнулся.
– Ладно, будем жить. Вставай. Одевайся. Туалет направо. Справишься?
– Не хитра наука.
Попсуев спрятал в нишу плиту и чайник.
– Скорей! Через полчаса электричка. А тут пути минут двадцать.
Когда они поднялись на мост, Оксана на середине реки сказала:
– Зря я куклу в воду бросила. Грех это.
– Ну, она же умеет плавать. – Сергей соображал, какая тут высота моста. Метра четыре, наверное. Всяко больше трех. Ему вдруг пришла мысль, что это вовсе и не та девочка, а Несмеяна. «Пришла невесть откуда… баттерфляем плавала… красиво, грациозно даже… не как мужчины…»
– Зря-зря. Не по-людски. Похоронить ее надо было.
– Странно, – сказал Попсуев. – Дни так быстро, так незаметно летят, словно не имеют ко мне никакого отношения. Словно во мне и не живет самая распространенная человеческая иллюзия, что эти дни мои.
– Чего ж тут странного? – удивилась девочка. – Это ж так естественно. Чтобы прошлое оставило тебя, надо перестать беспокоиться о будущем.
Сергей дико взглянул на нее и, вскричав: «Это ты?! Ты!», прыгнул с моста в воду.
– Во дурак! – услышал он ее слова.
– Шалишь, милая, – сказал Сергей. – Я не дурак. Это я только подумал о том, что прыгну.
Ни девочки, ни моста, так – дурацкие воспоминания!
…Прошипев и лязгнув, закрылись двери, электричка тронулась. «Странно, что у любого из нас всё самое важное в жизни связано с дорогой. Нет, не странно. Забавно». Не хотелось открывать глаза. Лень было взглянуть на часы. «Уехать бы сейчас куда-нибудь к чертовой матери, а еще лучше улететь на какие-нибудь острова… Соломоновы… Где это?.. и никогда больше сюда не возвращаться, никогда-никогда… вот только бы без боли… или, наоборот, с болью, невыносимой, жуткой, сладкой, чтобы очиститься, наконец…»
* * *
Сказано – сделано. Уже и к регистрации выстроились в аэропорту, душно, но тут рейс перенесли, потом еще раз. Переносили-переносили, а потом и вовсе отменили. Дело за полночь, толпой пришли в гостиницу.
– Только общие комнаты, – сказали и растолкали кого куда.
Было не до удобств, страшно хотелось спать, лишь бы голову на подушку склонить. Попсуев пригляделся, куда прилечь. В жидком свете из коридора насчитал шесть кроватей, занял пустую у стены. И непонятно, уснул он или не нет, но вдруг почувствовал поцелуй. Открыл глаза, над ним склонилась женщина необычайной красоты. Сергей сам не заметил, как оказался у окна в длинной до пят ночной рубашке, сердце его колотилось, и он испытывал безмерное счастье. Он даже раскинул руки в стороны, понимая, что смешон, и тут же говорил себе: нет, трогателен.
Рассветало. Сколько видел глаз – серебряная сверкающая трава на спящей еще земле. Значит, лето на дворе. Да, соловей поет. Или тонко так кто-то свистит с переливами во сне? Почувствовав взгляд, оглянулся. На всех кроватях спали. За столиком сидела дежурная по этажу и, казалось, о чем-то хотела спросить его. Попсуев скользнул мимо нее, боясь чего-то (а вдруг это она, красавица, Несмеяна?), и – проснулся.
* * *
«Какой чудный сон», – думал Сергей, вспомнив, что перед ним он в предыдущем сне что-то говорил девочке, той самой… «Почему наяву не бывает так хорошо? Чтоб вот так вот, в рубашке у окна, руки в стороны, взгляд в безбрежность утра, испытать блаженство и покой. Покой, неведомый до этого, которого хватит теперь на всю оставшуюся жизнь. Всё, что происходит наяву, так быстро забывается. Никакого следа. Всё что железно, всё никак. Но почему я испугался и прошел мимо Несмеяны?»
– А вам что, особое приглашение? – заглянула в вагон женщина в форме, совсем не отвечавшей ее содержанию. – Приехали, гражданин, вокзал.
«Вокзал, – подумал Попсуев, раздирая в зевке рот, – тот самый, что за одну остановку до конца света, всего-то двенадцать лет назад».
Часть I. За одну остановку до конца света
И ад, и земля, и небо с особым участием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос.
Владимир Сергеевич СоловьевЧего не сошел и чего не остался?
– В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, – бормотал Попсуев, плюща нос о вагонное стекло, за которым мелькали столбы, скользили, провисая и натягиваясь, белесые провода и медленно вращалась покрытая снегом Ишимская равнина.
Конец марта уже, а за окном зима зимой. Попсуев вторые сутки ехал по распределению в научный и промышленный центр Сибири Нежинск.
– Крупный город-то, Нежинск ваш? – спросил он на платформе Ярославского вокзала у крепко сбитой проводницы.
– А то! – ответила та. – Не промахнешься.
– Театры есть?
– И не только. – И шапочку кокетливо подбила крепкой рукой.
Первые сутки пролетели незаметно. Целый день Сергей развлекал трех симпатичных и смешливых попутчиц фокусами. Демонстрировал силу брюшного пресса, играл в дурака, угощал вином.
– Свердловск! – постучала в семь утра проводница.
В Свердловске девушки вышли, оставив недоеденную снедь. В купе расположились бабка с чемоданом и двумя сумками и мамаша с девочкой, с единственной авоськой, наполненной едой. Вроде как всё без затей, но знакомства с ними не получилось. Сергей для начала вынул изо рта два вареных яйца, но от этого девочка только разревелась, а бабка проверила, на месте ли багаж.
От греха подальше Попсуев полдня проторчал возле окна, мешая расторопной проводнице наводить порядок в вагоне. Время словно обернулось в снег за окном. Картина была однообразна до жути. В обед началась снежная буря, замазав и без того серо-белый пейзаж.
– Через полчаса Нежинск, – разбудила утром проводница.
– А за Нежинском что?
– За Нежинском? Да ничего, конец света.
Попутчицы спали. Сергей осторожно снял сверху свой чемодан и спустился на перрон. Вокзал был не меньше Ярославского, но всё же меньше. Дул хоть и сырой, но еще по-зимнему морозный ветер. «Надо же, в Москве трава пробивается, а тут… Хоть похоже на Россию, только всё же не Россия. Или это и есть Россия?» На троллейбусе Сергей доехал до заводского общежития. В салоне было слышно, как завывает ветер. Все молча глядели в замерзшие окна.
Весь воскресный день Попсуев промаялся в общаге, тупо глядя на окно (буря улеглась), дверь, обои, потолок. Ему предстояло провести здесь годы своей жизни, и оттого было нерадостно. «Ничего, начнутся трудовые будни, а с ними и трудовые подвиги». – Сергей не сомневался в успехе: спорт дал ему радость побед, красный диплом, славу какую-никакую, хотя едва и не укокошил его на подступах к спортивному Олимпу.
Ближе к вечеру Попсуев поехал на автобусе в центр, изучать полупустые перестроечные магазины и заодно посмотреть какой-нибудь фильм. Глядя на женщин, галдящих возле лотка с сыром, вспомнил Светку с кафедры. «Чего не остался, предлагала же жениться… Вкушал бы плесень «Рокфора». Чего носятся с ним? Из-за плесени?»
А в это самое время…
А в это самое время, когда Попсуев развлекал трех девиц, на заводе, куда он ехал, на пятнадцатиградусном морозе под завывание норд-оста грузчики крепили контейнеры к железнодорожной платформе. Отверстия траверс никак не хотели попадать на крепежные стержни… Намучившись с одной платформой, грузчики бежали греться в помещение. Пили чай, стучали в домино, травили анекдоты. Их красные с резкими чертами лица украсили бы любой пиратский барк.
На стене под вывеской «Место для курения» висел большой портрет Карла Маркса, не одна его голова с седой бородой, как свидетельство материализации призрака марксизма, а еще и верхняя половина туловища в добротном черном костюме. Прямо под Марксом работники и лупили костяшками домино по квадратному столику, крытому белым пластиком, середина которого от многолетнего размешивания костяшек и пиетета перед классиком политической экономии стала черной. Слева от портрета висела схемы строповки грузов, справа – эвакуации из помещения при пожаре. Было проще выйти в дверь, чем понять, зачем эта схема нужна.
Два разбитых, пожелтевших от времени и информации радиоприемника источали местные и союзные вести о горбачевской перестройке, а два крана с горячей и холодной водой для смешивания соединялись над допотопной, в страшных язвах раковиной в одну резиновую трубку. Независимо от крана, температура воды оставалась неизменно прохладной круглый год. Два кожаных кресла, попавшие сюда не иначе как из ставки адмирала Колчака, выгодно смотрелись на фоне деревянных скамеек, от зеленой окраски которых остались редкие нити на сером дереве. У стены стояли пустые сейфы с огромными навесными замками, тут же лопаты и ломы для уборки снежных заметов и наледи.
Забежал конторский работник, куратор цеха, и стал требовать цепи. Все, разумеется, про цепи услышали первый раз в жизни, и никто не знал, о каких цепях идет речь. Конторский стал красочно расписывать эту единственную собственность пролетариата, называя ее марку и ГОСТ, но азарт мешал привставшим с жестких стульев игрокам вслушаться в его слова. Именно так делили когда-то на трехмачтовом барке добычу пираты.
Наконец, под страшный стук победной костяшки и рев «Рыба!», игроки дружно послали конторского туда, куда хотели послать его целых две минуты до этого. На зюйд-вест, в сторону заводоуправления, только еще дальше. Проигравший стал блеять на портрет Маркса, а остальные сели, размешивая кости для новой партии. Не успели разобрать их, как в комнату вошел здоровяк в шубе нараспашку.
– Ну, кто козел, а кто «жопа»? – прогудел он и не успел глазом моргнуть, как все игроки уже оказались на платформе.
– Не хотишь ли чайку, Никита Тарасыч, для сугреву? – предложил замешкавшийся бригадир и тоже выскочил на свежий воздух.
День первый
В понедельник Попсуев позавтракал в буфете и по морозцу подался пешком на завод. Справа за высоким забором тянулись здания, слева грохотали грузовики. Навстречу прошкондылял спортивным шагом лысый бородатый мужик в трусах и майке. «Уже веселее… Пробьемся… Прямо в директора», – стучало у Сергея в висках от быстрой ходьбы. Стучали еще и зубы – пальтишко, купленное в Риме, не согревало. Попсуев с третьего курса, еще до злополучной травмы, видел себя директором завода, почему-то похожим на Сирано де Бержерака. При распределении он специально выбрал «Нежмаш», давший отрасли пять начальников главков, министра, академика и несколько докторов наук.
В заводоуправлении продрогший Попсуев нашел отдел кадров, на двери была фамилия Дронов. Усадив молодого специалиста на стул, кадровик расспросил его, попросил паспорт, диплом и направление.
– Ну что ж, сейчас устроим тебя.
Трудоустройство Дронов начал с ветра такой силы, что поколебал тюль на окне.
– Эка, пробирает! Минутку! – забросив документы в сейф, Дронов с грохотом повернул ключ и выскочил, оставив дверь открытой.
Кабинет украшали два сейфа, металлический шкаф с пожелтевшими рулонами ватмана наверху. На столе ни одной бумажки, на стенах картинки и фотографии. В дверях возник богатырь в шубе и прогудел:
– Дронова нет? Как ни зайдешь – нет! Ветром, что ли, его носит где? – И исчез, окинув молодого специалиста оценивающим взглядом.
На фотографии сбоку от портрета Горбачева под громадным деревом сбился народ, все с неразличимыми лицами.
– Это я в Кедровке, – раздался за спиной голос Дронова. – Вот он я. С передовиками. Так на чем остановились?
– На трудоустройстве.
– Это запросто. – Дронов разложил перед собой документы. – Никто не заходил?
– Один, здоровенный, в шубе.
– А, Берендей… А не послать ли вас, Сергей Васильевич… не послать ли вас… в третий цех? Пока строчка есть – считай, повезло. Лучший цех, между прочим, премии каждый квартал. Да и уникальный: прокат, химия и механообработка и всё в одной посуде – где еще такое встретишь? Эх, молодость! – неожиданно воскликнул он, заерзав на стуле. – Девки-то прыскают, а? – В глазах его вспыхнули искорки: – Ладно, ступай к Берендею. Погодь, позвоню. Дошел, наверное…
Он взял трубку, нажал кнопку.
– Никита Тарасыч, на месте? Дронов. Да по делам ходил. Что значит, никогда на месте нет?! Я раньше тебя на месте. Берешь, значит? Лады. Погодь. – Он весело подмигнул Попсуеву, посерьезнел, надел очки, стал читать: – Попсуев Сергей Васильевич, МЭИ, твоя специальность. Да, сам расскажет. Да, спортсмен, мастер спорта, по фехтованию.
– В отставке, – произнес Попсуев, но кадровик лишь кивнул.
– Не забыл? Мой должник. Ну бывай.
Дронов положил трубку, поглядел на Попсуева, словно прощаясь с ним навеки, вылез из-за стола, поправил штору, вручил документы и, крепко пожав руку, сказал:
– Цех вон там. Через час диспетчерская, потом до вечера не поймаешь. Направо окошко, там пропуск выпишут. Значит, мастер спорта? Мастер – это хорошо. В отставке, говоришь? Мастера не бывают в отставке. У нас беда с мастерами…
Через полчаса Попсуев сидел напротив начальника цеха, мужчины лет сорока и такой внушительной комплекции, что казалось, не он сидит за столом, а стол ютится подле него. В Берендее угадывалась немалая физическая сила.
– Вот, – Сергей протянул Берендею документы.
– МЭИ? Спортсмен? Саблист? – Он стал листать документы Попсуева. – Диплом саблей делал? Сам-то откуда?
– Из Орла.
– Понятно. Орел.
Позвонила секретарша.
– Запускай, Надя. А ты присядь вон там.
Белые и синие халаты, шапочки и косынки быстренько расселись, как белые и синие птицы клюнув новичка своими острыми взглядами. «Словно в операционной, – подумал Сергей, хотя что именно напомнило ему операционную, где его вытащили с того света, сказать не мог. Пройди тогда сломавшийся клинок итальянца чуть выше и привет. Камзол, как масло, прошил. – А, их взгляды, как клинки. Да ну, чушь…». А еще он вспомнил пожухлые вялые стебли вечнозеленых растений больницы, таких же больных на вид, как и вечно больные люди рядом с ними…
Какое-то время было оживленно, Попсуев ловил на себе косвенные взгляды, а хорошенькая женщина лет тридцати с правильными чертами лица, севшая напротив него, глядела строго. На ней был отутюженный сияющий белизной халатик. Несколько мгновений она всматривалась в него. Сергей ощутил смутное беспокойство, словно она высматривала у него что-то внутри, чуть ли не душу. Ишь, сканирует. Удивительно светлая, прозрачная как льдинка женщина.
«Если ее раздеть, – подумал Попсуев, – сквозь нее будет видна противоположная стена». Его продрал озноб. Он подвинулся чуть в сторону – на стене за нею была какая-то схема, стрелки, квадратики, цифры, слова. Женщина повела плечами, глянула на Берендея. Она притягивала внимание Сергея, как магнит. С трудом отвел он от нее взгляд.
Берендей в это время проглядывал журналы и амбарные книги. Цепко и быстро, изредка проверяя что-то на калькуляторе и записывая на отдельный листочек. При этом он следил и за присутствующими. Минутная стрелка на часах дрогнула, и все тут же замерли, словно она и в каждом из них сравнялась с отметкой «12».
– Ну-с, – сказал начальник, отложив журнал, – опять брачок-с на прокате пошел. Михалыч, в чем дело, а? Не слышу. Картина Левитана «Над вечным покоем». Язык-то расчехли. Выход за март свела? – обратился он к женщине напротив Попсуева. Та кивнула головой. – Покажешь потом. В чем дело, Борис Михайлович? Ролики сменил?
Минут двадцать шел разбор полетов, а затем Берендей представил Попсуева: – Молодой специалист Сергей Васильевич Попсуев. МЭИ. Мастер спорта по сабле, так что не задирайтесь. Холост. – Берендей кинул взор на ледяную женщину.
Попсуеву показалось, что та как-то по-другому взглянула на него, чуть ли не с жалостью, взметнув в нем вихрь слов. «Странная. Снежная королева. Поцелует, и помрешь. На ребенка похожа. Есть такие дети, чересчур взрослые, им неловко смотреть в глаза. Наверное, ни разу в жизни не улыбнулась. Строгая, несмеяна…»
Берендей между тем представил новичку своего зама по общим вопросам Закирова Ореста Исаевича, технолога цеха Свияжского Петра Петровича и начальника бюро технического контроля (БТК) Светланову Несмеяну Павловну.
Попсуев при имени «Несмеяна» переспросил: – Как?
Женщина, строго глядя на Попсуева, внятно произнесла: – Светланова Несмеяна Павловна. – И голос у нее соответствовал внешности: в нем звенели льдинки, и эти льдинки были острые и очень ломкие, и в них было мало жизненной энергии, что для начальника БТК было весьма странно.
Попсуев смотрел ей в глаза и чувствовал холодок на спине. Ему показалось, что все ждут, чем кончится этот поединок взглядов. Зеленые глаза были удивительной красоты! Попсуев отвел взгляд первым и заметил, как Закиров усмехнулся. Сергею стало досадно, и он снова поднял глаза на женщину. Та что-то записывала в блокнотик.
Берендей представил по очереди остальных собравшихся, но Попсуев запомнил только начальника одного из участков Попову Анастасию Сергеевну, да и то только потому, что она была совсем старенькая, маленькая, сморщенная, как годовалая картофелина. «Сколько ей? Лет семьдесят? Неужели такие старушенции работают?» – мелькнуло у Сергея в голове.
Он, даже не глядя на Несмеяну, видел только ее одну, чувствовал, что она заняла все его мысли, неожиданно став стеной на пути любому другому слову, сковав все чувства в ледяной ком. Просто какая-то вечная мерзлота!
Берендей глянул на часы.
– Еще пару минут. Лирическое отступление. Орест Исаевич, как Фрунзик? Сергей Васильевич – тебе одному. Мы тут, не думай, не только план куем. У нас ворона живет, собака, кот, дикие создания, пришлые. Не гоним их, ибо гуманисты. А из культурных для экологии (комиссиям показываем) завели курочек и петушка – истый кавказец, рыбок-меченосцев, попугая ару, вот с таким носом, как у Мкртчяна. Страшный матершинник. Несмеяна Павловна не даст соврать. У него свой подход к контролерам. Мы-то сами пытаемся с женщинами язык не распускать…
Анастасия Сергеевна весело воскликнула: – Ага! пытаются они!
– …зато этот пернатый отрывается по полной. А на той неделе возвысил голос и на меня. Подозреваю, Смирнов (из твоей бригады, Попсуев) науськал. Сегодня утром он обозвал меня… Ладно, не буду. Терпение лопнуло! Орест Исаевич, готовь приказ! Пиши: уволить на хрен носатого аппаратчика Фрунзика. В цирк его! Или секретарю парткома!
Под улыбки персонала диспетчерская закончилась.
– Так, а с тобой, Сергей Васильевич, сейчас небольшую экскурсию проведет Закиров.
Получив от начальника напутствия, Сергей в сопровождении его зама покинул кабинет. В коридоре Несмеяна Павловна разговаривала с двумя девушками в белых халатах. Одна из них улыбнулась.
– Попсуев! – строго спросила Светланова. – Когда в ОТК спуститесь?
– Как только, так сразу, – ответил тот и подмигнул той, что улыбнулась.
– Свое пусть изучит! Ты, Несь, главное, позови! – Закиров увел Сергея: – Пошли в кладовку! Как тебе наша царевна? Мир со смеху будет помирать, она не улыбнется. Хотя улыбку ее лучше и не видеть.
– Замужем?
– Да нет. Сюда.
Они протиснулись в дверь, за которой стояла бочка с чем-то черным, и оказались в кладовке, пропитанной запахом хозяйственного мыла, ваксы и спирта. Кладовщица выдала Попсуеву робу, тяжелые ботинки и тканевые верхонки. В раздевалке Закиров показал Попсуеву свободный шкафчик. Сергей переоделся, и они пошли в цех.
– Цех наш бабьим царством зовут. Женщин четыреста на восемьсот мужиков, но они нас одной левой кладут. Подоконник под лестницей – кузня. В ночные смены холостяков ловят и сюда волокут.
– Холостят?
– Да не до шуток бывает. Дорога отсюда прямо в загс… Заартачишься – в партбюро-цехком. А там секретарь и председатель – бабы…
– А чего их выбрали, раз вас две трети?
– Вас-нас. Вырождаемси-с. СОС!
Когда они вывернули из перегнутого на несколько раз, заделанного бежевым пластиком коридорчика, перед ними открылось громадное помещение, наполненное сизоватой дымкой, запахом масла, лязгом и грохотом. Вдоль стен шли автоматические линии. Через равные промежутки стояли станки, тянулись подвешенные кабели и трубы различного диаметра и цвета. Справа и слева от центра пролегли рельсы узкоколейки, туда и сюда катились вагонетки, поперек, лавируя между изоляторами брака и штабелями ящиков, юлили тележки, электрокары, наверху, то и дело гулко дергаясь и страшно скрипя, ползал мостовой кран. Непонятно откуда доносились вперемешку и вместе мужские и женские голоса. Кто-то истерично смеялся. От тяжких ударов молота в сизой глубине цеха содрогался пол. Гулял ветер, обдавало то жаром от печей, то холодом от ворот, пропускавших машины. На балке сидела ворона.
Попсуев не бывал еще на таком огромном производстве. Практику он проходил в институтской лаборатории имени Карабаса Барабаса. Самой яркой жизнью жили лаборантки, проповедовавшие свободу любви, а самой тусклой – ученые, рассуждавшие о свободе творчества.
Поводив Попсуева по второму корпусу, Закиров привел его в свой кабинет, дал читать рабочие и должностные инструкции, а также по технике безопасности и попрощался до завтра. От чтения постоянно отвлекали. То заглядывали в кабинет производственники в зеленых робах, синих и серых халатах и спрашивали Закирова, то в белых халатах – отэкушки, ничего не спрашивали, а только хихикали. К тому же дверь плотно не закрывалась, и было слышно всё, что творится в коридоре. Меняли лампы дневного света, тянули кабель, мыли пол. Потом возле мужского туалета две технички, перебирая сокровенные мужские тайны, во весь голос обсуждали причину появления луж возле писсуаров. Сергей заметно повеселел.
В шесть часов Попсуева разобрал голод, и он вспомнил, что пропустил обед. Тут и день рабочий кончился, и новоиспеченный мастер поспешил в общаговский буфет. Жизнь уже казалась ему не такой серой и скучной.
Так нельзя больше!
Работа в цехе велась круглосуточно в три смены, но для лучшего знакомства с производством Попсуева временно определили в первую смену. Когда бригада уходила в другие смены, его подменял бригадир.
Узнав, что Берендей в тридцать лет стал начальником цеха и уже девять лет руководит коллективом, Сергей решил повторить его путь. С утра он осваивал операции, а после обеда изучал ветхие, захватанные пальцами, пропитанные запахом масла инструкции и чертежи, время от времени посещая участок, дабы приглядеть за рабочими. Как-то проходя мимо чайной, услышал рыдания. Заглянул. Аппаратчик Валентин Смирнов, упомянутый Берендеем на диспетчерской, присосавшись к бутылке, судорожно глотал вермут. Оторваться от бутылки он не смог. Попсуев ткнул в него пальцем и голосом Левитана произнес:
– Еще увижу – уволю к ядрене фене! – и вышел.
Смирнов от спазма глотки закашлялся и побагровел. Со смены Валентин ушел очень веселый.
– Грядут перемены, – пророчески изрек он в душевой. – Ой, ребята, этот змей похлеще Берендея будет. Жизнь при нашем царе Лёне была лучше и ядрёней.
По-свойски Валентин посетовал и Берендею, но тот только радостно рявкнул: – А! Давно так с тобой надо! Скройся с глаз!
После смены Попсуев поднялся к Закирову. Проходя мимо открытой двери кабинета ОТК, он услышал: – Попсуев! Можно вас?
Светланова сидела в кресле и холодно смотрела на него.
– Никита Тарасыч попросил показать мое хозяйство. Завтра в восемь двадцать жду вас здесь.
Попсуев поклонился и вышел.
– Она всегда такая? – спросил он у Закирова.
– Всегда, – ответил тот. – Ты в общагу? Айда ко мне, Нинка к матери ушла, перекусим. Это хорошо, что она такая. Благодаря ей наш цех три года кряду занимает классные места.
Двухкомнатная малогабаритная квартира на втором этаже выходила окнами на узкую улицу, по которой нескончаемым потоком громыхали на выбитой дороге машины. Закиров достал из холодильника кастрюлю с борщом, нарезал колбасу, сыр, задумчиво посмотрел на четвертушку бородинского хлеба.
– А позовем-ка твою Несмеяну. Она выше живет.
По спине Попсуева пробежал холодок, а внизу живота сладко заныло. Через пять минут Закиров привел Светланову.
– Здравствуйте, Несмеяна Павловна, – произнес Попсуев.
Та удивленно взглянула на него: – Здравствуйте, Попсуев, коль не шутите.
– Вы чего это? – спросил Орест. – За знакомство?
– А вы давно знакомы? – обратился Сергей сразу к обоим.
– Да лет двенадцать уже, а? – посмотрел на Несмеяну Орест. – На вступительном познакомились. Она шпоры в чулок заложила, а они вниз скатились, к щиколоткам…
– Как у петуха, шпоры, – сказал Попсуев, рассмешив Ореста. Несмеяна лишь скользнула по нему холодным взглядом.
Светланова сосредоточенно хлебала борщ. «Как она похожа на ту девочку». Борщ был отменный. Какой и должен быть, каким помнил его Попсуев. Тогда ему было лет семь…
* * *
…На кремовой скатерти из далекой Венгрии, с вышитыми готическими темно-вишневыми буквами и узорами. В глубоких фарфоровых тарелках с двойной тоненькой красной каемкой в подтарельниках. Отдельно тарелочка для косточек. На блюдечке красный перчик с косо отрезанным кончиком. Он его никогда не давил ложкой в тарелке – не разрешали, но очень хотел. В старинной селедочнице (не из сервиза) нарезанная мясистая селедка со сладкими плавничками в душистом горошке и прозрачных колечках лука. Самодельная горчичка, бьющая в нос, с крохотной золотой ложечкой… Мама с улыбкой разливает из супницы золотистый густой борщ, отец наливает ему в тонкий стакан крюшон, затем вытаскивает массивную пробку из хрустального графинчика, наклоняет его над рюмкой мамы, вспыхивают лучики…
* * *
– А теперь за здоровье, – сказал Орест.
Орест и Несмеяна перебрасывались короткими фразами о чем-то своем. Сергей слушал их и не слушал, пребывая в воспоминаниях о воскресном пире далекого детства, глубоких тарелках, с которых мама после обеда, что-то рассказывая и смеясь, сначала снимала салфеткой, а потом отмывала в тазике жирный золотисто-красный ободок…
– Говорят, вы спортом высоких достижений занимались? – спросила Несмеяна.
– Занимался.
– А что ж не достигли? По возрасту вышли? Не старый еще. И чего на завод? У нас ведь тут скукотища. Как и в спорте.
– Разве?
– Конечно! – усмехнулась Несмеяна. – Плавала, знаю. Цикл за циклом, туда-сюда, двадцать дорожек, десять, две. А в эстафете вообще абзац: первая! первая! первая! сердце в голове колотится.
– Сергей фехтовал, – сказал Орест. – Там не успеешь зациклиться.
– Там и думать некогда, – подхватил Попсуев, облизав ложку.
– Ничего удивительного, – согласилась Несмеяна. – Мне у братьев Гримм сказка нравится, «Три брата». Там младшенький до того лихо крутит шпагой, что под дождем сухой остается. Можете так?
– Думаете, фехтование это только вот это? – спросил Попсуев, вращая кистью ложку.
– Думаю, – спокойно ответила Несмеяна.
– Там одних технических испытаний…
– Сколько? – насмешливо спросила Несмеяна.
– Шесть. На растяжение, на разрыв, на структуру…
– Это вас испытывали? – женщина явно провоцировала его, но вдруг сменила тему: – Как там деканат поживает?
– Да живет как-то, – сдулся Сергей.
– Исчерпывающе. Вкусный борщ, Орест, спасибо. До завтра, коллеги.
Закиров проводил Несмеяну.
– Я сморозил не то? – спросил у него Попсуев.
– Да нет, всё в порядке. Она такая. Жалко ее.
Сергея потрясло это признание. «Жалко? Чего ее жалеть?» Посидев немного, он попрощался с хозяином и пошел спать. «Чего я глупею рядом с нею? Первый раз такое! – ему досадно было ощущать себя мальчишкой, запавшим на сумасбродку. – Чего подкалывала? Тоже запала?»
Ночь прошла в полудреме. Сергей долго ворочался в плену возбуждающих картин. Под утро ему приснилось, что Несмеяна не может отворить дверь своего кабинета, а он помогает ей, прикасается к ней, чувствует ее тело. Она отстраняется, тут же льнет к нему, а дверь никак не открывается…
– Нет, так нельзя больше! – ревел утром Попсуев под ледяным душем.
Вечная мерзлота
В восемь двадцать Сергей зашел к Светлановой. Молча кивнули друг другу, словно уже виделись сегодня. Попсуев смотрел, как Несмеяна закрывает дверь, и вспомнил о своей предутренней полудреме. Хотел сказать ей об этом, но раздумал. Потом решился, но всё равно не сказал. Так и шли молчком, хотя его так и подмывало спросить у гордячки, с чего это широкий подоконник под лестницей называют «кузней»?
В комнате ОТК контролеры сидели вдоль стен, как белые курочки на насесте. Одни что-то жевали, другие болтали или вязали. Светланова представила Попсуева.
– А это правда, что вы мастер спорта? – спросила та, что улыбнулась ему в коридоре. Тело ее так и играло под халатиком.
– У вас повод? – Сергей указал на два торта. – Поздравляю. Кого?
– А если меня? – подошла улыбчивая вплотную к нему, так что он ощутил запах ее духов.
Попсуев взмахнул руками, и именинница забарахталась, как муха в паутине, в кольцах широкой синей ленты, крепко охватившей ее стан. Попсуев прикоснулся губами к ее свежей щечке и произнес: – Поздравляю.
В комнате поднялся визг и смех. Все сбились вокруг них, освобождая пленницу от ленты и удивляясь, как это Попсуев умудрился слету окрутить девушку. Хитрого ничего тут не было, тренировка да была бы лента припасена. О Светлановой на минуту забыли. Та пережидала, когда барышни угомонятся.
– Попсуев, – прозвучал, наконец, ее голос, – Дайте ленту!
– Лента, пардон, подарок… – Сергей смотрел на именинницу.
– Татьяна, – сказала та.
– …Татьяне. С днем рождения, Танюша.
– Так, девушки, восемь тридцать. По местам! – скомандовала Светланова. – Попова, в перерыв зайдешь.
– Чересчур строги вы с персоналом, Несмеяна Павловна! – сказал Попсуев, когда они вышли из комнаты.
Несмеяна презрительно улыбнулась: – У вас, Сергей Васильевич, есть опыт иного обхождения с подчиненными? Извините, мне туда.
– А кто ж мне покажет владения ОТК? – произнес Сергей, глядя ей вслед. Светланова не оглянулась. Вечная мерзлота! Но какая грация!
«Под белою кожей арктический лед, и капельки яда на кончике фраз, откуда в осе этот липовый мед? Откуда закваска, откуда экстаз?» – написал Попсуев на бумажке, свернул клочок вчетверо и сунул в кармашек рубашки.
Такая вот она, Несмеяна Павловна
Спроси художника, что главное в облике Светлановой, тот, не задумываясь, скажет: «Царская стать». Несмеяна Павловна была царственно самонадеянна, уверена не только в себе, но и во всех, кто рядом. Это порой раздражало окружающих, но и заставляло уважать ее. Несмеяне Павловне нельзя было соврать, потому что никто не мог, глядя в ее глаза, покривить душой. С нею было проще согласиться, чем спорить. Она не отстаивала свою точку зрения с пеной у рта, не повышала голос, никогда не требовала ничего сверх того, что было положено. Именно это выводило из себя непорядочных людей, когда им тыкали в лицо их же разгильдяйством. Ладно бы потребовала чего-нибудь заведомо невыполнимого, можно было бы и отмахнуться, и даже послать куда подальше. Причем ей было всё равно, кто перед нею, токарь или главный инженер, одними и теми же словами и нотками она пеняла ему и требовала немедленного ответа. В этом смысле она была идеальным руководителем цеховой службы ОТК. Это понимали все, от контролера 1-го разряда до директора завода. К слову сказать, когда директор однажды обронил в разговоре, что думает сделать Светланову своим замом по качеству, к нему тут же потянулись начальники цехов с просьбой «повременить, а то придет всеобщий пипец».
Свою работу в должности мастера ОТК Светланова начала в 10-м цехе на участке комплектующих заготовок, где ей сразу же сказали, что сначала план, а потом уже качество. Несмеяна выслушала и возразила, что она закончила с отличием вуз и прошла практику на одном из лучших заводов министерства под Москвой, и у нее на этот предмет есть свой взгляд: прежде всего качество, а уж потом и план. И что она не пропустит брак, ни под каким соусом. «Романтичная бабенка!» – переглянулись производственники, но когда она в первый же день вернула половину дневной выработки, а на следующий день всю, поставив под угрозу месячный план цеха и завода, ее вызвали к главному инженеру Некрасову.
Она пошла к нему в сопровождении двух контролеров. В предбаннике мастера поджидал не по чину суетливый начальник ОТК Чугунов.
– Вас пригласили одну, – сказал он ей.
– А я пригласила еще двоих, – возразила она.
Чугунов не нашелся чем возразить. «Тряпка», – лишний раз убедились контролеры. Зашли в кабинет. Там сидел начальник цеха с технологом.
– А вот и соколиный глаз, – кивнул главный инженер на стулья и тут же привычно повысил голос: – Да ты знаешь, мастер ОТК, девчонка!..
Девчонка вдруг встала и звонким и ледяным голосом отчеканила:
– Я Несмеяна Павловна. Если вы, Владимир Ильич, позволите еще хамить мне, я уйду.
Некрасов погасил свой гнев, но с раздражением спросил:
– Зачем вы привели контролеров… Несмеяна Павловна? Я вызвал вас одну.
– Они покажут то, что вы предлагаете мне пропустить, закрыв соколиный глаз, в годные. Девочки, покажите главному инженеру. А он вам скажет, пропускать это или не пропускать.
Контролеры достали из сумки две болванки, забракованные по геометрическим размерам и по внешнему виду, и бухнули их Некрасову на стол. Тот наклонился, разглядывая, коротко вздохнул. Раздраженно ткнул пальцем:
– Тут явно, чистота не та, а тут что, в минусе?
– Да, на десятку провалились.
– И что, все такие? – в голосе его был вопрос-ответ: ведь нет, только эти одни?
– Нет, процентов тридцать годные.
Некрасов сухо кивнул и мрачный как туча, стал ждать, когда женщины покинут кабинет. Не успели они закрыть двери, за их спиной начался такой разнос, которого потом долго не слышали в дирекции. После этого начальник ОТК избегал всяких встреч со Светлановой и в цех посылал своего зама, а в цехе к ней все стали обращаться по имени-отчеству.
– Некрасов-то зачастил в десятый цех, – зашептались через две недели заводские кумушки.
Самодеятельность
В конце смены позвонила секретарша Берендея, тот вызвал Попсуева к себе на семнадцать часов. Осенью цеху сорок лет, надо готовить самодеятельность. В кабинете Сергей увидел среди прочих Закирова, Светланову и Татьяну.
– Значит, так, – начал Берендей. – В прошлый раз мы договорились начать с акробатов. Стас, Татьяна, шпагата и статики поменьше. Поноси ее на вытянутых руках. Смотри, не урони, Лиепа. На заднем плане проплывают образы ветеранов, портреты готовы?
– Может, из политбюро кого? – спросила секретарь партбюро.
– Остынь, Петровна, – отклонил предложение Берендей. – Рассаду высадила? Вот и хорошо. Займись-ка ты лучше спортсменами. Лето короткое, но позора может много принести. Кстати, он, – начальник указал на Попсуева, – мастер спорта, да еще международного класса!
– Сдается мне, мастер будет хорош в художественной гимнастике, с лентой, – бросила Несмеяна. – Он сегодня провел у нас мастер-класс.
– Правда, что ль? Выступишь?
– Только после ее поцелуя.
Светланова, поджав губы, покинула кабинет. Берендей мрачно посмотрел ей вслед.
– Ты, Сергей Васильевич, не трогай ее, Христом богом прошу!
– Хорошо, Никита Тарасыч. Я ж только подыграл ей.
* * *
У проходной возле доски объявлений маячила Татьяна. На ней было светло-коричневое пальто, модные сапожки, шапочка, хорошо оттенявшая и подчеркивавшая ее упругие щечки и задорный носик. В свете фонаря она золотилась, как подсолнух. От Сергея не ускользнуло, что на доске новых объявлений нет. Он ускорил шаг, так как не хотел задерживаться, но девушка обернулась и улыбнулась ему.
– Домой? – поинтересовалась она. – Как вы ее!
– Кого?
– Царевну нашу. Смотрите, начальник опекает ее.
Они вышли через одну вертушку.
– Анастасия Сергеевна родственница? – спросил Сергей, вспомнив, что у Татьяны и начальника его участка одна фамилия.
– Бабушка. Она меня и устроила в ОТК.
– Хорошо в ОТК?
– А чего плохого? Чисто и радостно. На шестой разряд сдам, бригадиром стану, мастером. Мне царевна пообещала.
– А разве от нее это зависит?
– А от кого? Она что решит, то и будет. Даром, что одна живет.
– Семьи нет?
– А вы не знаете? – недоверчиво покосилась на него Таня. – Закиров не сказал? Они вместе приехали из Москвы, Несмеяна и Орест, нет, не в том смысле, что вместе, они из одной группы, оба холостые… Как вы.
– А я, может, не холостой…
– Ага, знаем!.. Закиров сразу к нам попал, а Светланова в десятом на входном контроле работала. Однажды попалась она на глаза Некрасову…
– Кто такой?
– Главный инженер, бывший. Увидел ее и зачастил на входной. Оборудовал там всё, а через полгода в контору перетащил, руководителем группы. У обоих заклепки полетели, целый год такой лямур стоял, что в главке завидовали. До Некрасова, говорят, царевна с Берендеем встречалась, тот даже жениться на ней хотел, а тут эта блажь…
– У Светлановой блажь? – вырвалось у Попсуева.
– О, да вы не ровно дышите к ней… Как-то в ДК Берендей подошел к Некрасову в коридоре и пригрозил, если тот не женится на Несмеяне, то прибьет его. Говорят так. А тому куда жениться, дети, супруга – родня замминистра. Он, правда, не из пугливых был, Некрасов, но так совпало, что через месяц укатил со своими в Москву на повышение. Берендей тут же уломал начальника ОТК перевести Несмеяну к нам. Теперь вот мается. Он даст команду, а эта свое гнет. Кому понравится? Наверно, не рад уже. Говорят же, своих не держи под собой, на шею сядут.
– Она же не в его подчинении, – возразил Сергей.
– Попробуй его ослушаться.
Долго шагали молча, не чувствуя неловкости от молчания. «С такой свяжешься, не развяжешься, – думал Попсуев о Несмеяне. – А Танька ничего, шпагат делает, и ладненькая такая. Интересно, Стас Михайлов кто ей?..»
– Может, в кино сходим?
– Ой, давайте! – с готовностью откликнулась Татьяна. – В ДК «Дон Сезар де Базан» идет! С Боярским! Про любовь!
Не спится
С Таней Сергей встречался каждый вечер, сначала по инерции, лишь бы как-то убить время, а потом и втянулся. Перестал обращать внимание на простоватость девушки и на ее прозрачные намерения женить на себе. Она охотно целовалась, позволяла обнимать себя так, что становилась расплывчатой грань между дозволенным и недозволенным, но однако же к недозволенному еще не подпускала. Через две недели Татьяна срочно улетела к заболевшей тетке в Ленинград.
– Ты тут смотри! – сказала она Сергею в аэропорту.
Попсуев заскучал было без нее, но скука не мешала ему поглядывать на девушек, которых к концу апреля стало как цыплят. При этом он поймал себя на том, что они все своей кажущейся недоступностью напоминают Татьяну.
Таня вернулась в среду, а в субботу они вечером пошли в молодежное кафе. Через три столика сидели Берендей с Несмеяной и Закиров с женой. Попсуев поздоровался с ними сдержанным кивком головы. Таня помахала рукой, как показалось Сергею, несколько фамильярно.
– У царевны вчера день рождения был.
– Отмечали?
– Торт, конфеты где-то нашла – и на том спасибо. В прошлом году, на тридцать лет, шампанское принесла.
– Поздравить надо.
– Поздравь.
Попсуев подошел к имениннице и взял из воздуха (из внутреннего кармана пиджака) коротышку розу, которую припас для Татьяны, с поклоном преподнес:
– Это, сударыня, вам.
Та встала и поцеловала его в губы. Губы ее, такие невинные, были в вине. В гибельном вине! И от них нельзя было оторваться. Пронзительное ощущение мимолетности счастья. Что-то вроде мгновенной боли. Той, когда его пронзил сломавшийся клинок, и он потерял сознание.
– Идите к нам, разместимся вшестером, – сказал Берендей, пожимая руку Сергея. – Не возражаешь, Несь?
Светланова подошла к Татьяне и подала ей руку. Та удивленно посмотрела на нее. Перенесли стулья, тарелки, бутылки.
– А можно мне тост? – спросила Татьяна.
Никита Тарасович, поднесший уже рюмку ко рту, глянул «на собравшихся» и, не отводя рюмки ото рта, кивнул: произноси, только скорей.
– Позволь, Несмеяна Павловна, пожелать тебе счастья.
– Всё? – спросил Берендей и опрокинул рюмку. – Спиши слова.
– Как там город на Неве? – спросил Орест. – Из музеев, наверно, Тань, не вылезала?
– Какие музеи? В больнице три дня просидела.
– А ты, Сергей, в Ленинграде бывал? – Попсуев не поверил ушам: прилюдно «ты», взглянул на Несмеяну. Та с насмешкой смотрела на надувшего щеки саксофониста, гривастого с пролысинами молодца лет пятидесяти, и в ее глазах был огонек.
– Бывал. На соревнованиях, а в детстве вообще при цирке жил.
– Родители циркачи? – спросил Берендей.
– Да, – ответил Сергей, – цирковая семья.
– А чего же не пошел по их стопам? – спросила Нина, глядя то на Несмеяну, то на саксофониста. – Классно играет.
– Классно дует, – поддакнул Попсуев; ему очень хотелось хоть как-то зацепить Несмеяну. – Не лопнул бы.
Когда музыканты отложили инструменты в сторону, Сергей подошел к саксофонисту. Окинув его взлохмаченный, не по годам экзотический вид, произнес запомнившуюся фразу: – Что за польза тебе в спутанных волосах, о глупец! Что за польза тебе в одежде из шкуры! Ведь внутри тебя – джунгли, ты заботишься только о внешности. – Саксофонист взял за грудки Попсуева, но тот с усмешкой развел его руки, и в них оказалась свернутая в трубочку «Вечерка». Барабанщик в восторге схватил палочки и выдал дробь. Несмеяна, как показалось Сергею, улыбнулась. Но ему улыбка царевны показалась такой далекой и не ему предназначенной, что он поспешил вернуться к Тане.
Попсуев преуспел в комплиментах, а Татьяна, чутко уловив сомнения кавалера и не дав им развиться до болезненного состояния, поспешила увести его из кафе в общежитие. Сергей под утро лежал на спине, глядя в потолок, слушал дыхание девушки, прижавшейся к нему, думал о Несмеяне и о том, что теперь потерял ее навсегда.
– Не спишь? – произнесла Татьяна. – Я слышу твои мысли.
– Они о тебе. Спи-спи.
– А стихи ты ей написал?
– Какие стихи?
– Да у тебя бумажка выпала, – зевнув, Татьяна вытащила из-под подушки листочек, – вот эта. «Под белою кожей арктический лед, и капельки яда на кончике фраз, откуда в осе этот липовый мед? Откуда закваска, откуда экстаз?» Это ты ей написал?
– Кому? Это Тютчев России посвятил. Спи, поздно уже.
Сергей осторожно освободился из объятий девушки, подошел к окну. Непостижимым образом он ощущал каждой клеточкой своего тела пустоту комнаты. Будто в ней летало всего несколько фотонов света или других элементарных частиц. «Может, это оттого, что пусто внутри меня самого?» Синее пространство замерло в ожидании утра, в ожидании восхода солнца. «Как оно похоже на схваченную ледком душу. Оно ждет света, а когда свет озарит его, придет вдруг в смятение, так как ждало совсем не того, а чего?»
Попсуев вздрогнул. Ему послышался голос Несмеяны.
– Чего не спишь? – опять спросила Татьяна.
То трещины, то дырка
Отлакированная поверхность стола была покрыта сеткой трещин, а на шкафах отслоилось несколько полосок. Похоже, мебель завозили в сильный мороз. «Стенка не новая…»
– Зимой переезжали? – спросил Попсуев.
– Зимой, – не сразу ответила Несмеяна. – Как догадались?
– Да так, – ответил Попсуев. – А до этого жили где?
– В другом месте.
Попсуев понял, что сморозил чушь, но продолжил:
– Привыкли к новому месту?
Несмеяна насмешливо посмотрела на него:
– Почему это интересует вас?
Попсуев пожал плечами. Ему было не по себе, будто кто-то торопил его непонятно куда.
– Впрочем, я понимаю вас. Жилье только на заводе можно получить, да и то не сразу. Будь ты хоть семи пядей во лбу.
– Зачем семь пядей? Они только мешают. У вас есть клей, БФ или «Момент»? Полоски отошли.
– На холодильнике. – Несмеяна занялась сумкой и стала вынимать из нее отоварку по талонам. – Ты глянь, мясо мякоть одна. Спасибо, Сергей Васильевич, что помогли донести. Сейчас разложу, чай попьем. Раздевайтесь. Разуваться не надо, пол холодный. Тапок нет.
Попсуев, тем не менее, разулся, повесил на вешалку полушубок, стал приклеивать полоски. Это заняло у него пять минут.
– Я пошел? – сказал он.
– Чайник закипает. Вымойте руки.
Сергей заметил дырку в носке и стал ходить, поджимая пальцы.
За чаем молчали. Попсуев удивлялся себе, так как в женской компании его обычно «несло». Несмеяне, похоже, нравилось это молчание. Заметно было, что она вся в себе.
– А вы где жили… – Попсуев закашлялся, – когда учились в институте?
– В общежитии, в четыреста двадцатой комнате. Хорошие были времена. Всё впереди. Похоже на ту крышу со снегом: всё беленько, гладенько, чистенько, высоко, а поскользнешься… – Несмеяна взглянула на Сергея, тот закивал головой. – Что вы киваете? Вам-то откуда знать про падения?
Попсуев пожал плечами. Действительно, откуда ему знать? «Да, Серега, нынче не твой день!»
– Что бы ни случилось, самое дорогое у человека это жизнь, – сказал Сергей и тут же одернул себя: «Опять не то!»
– Жизнь, говорите? – усмехнулась Светланова. – Поймете скоро, что квартира. Дороже ее ничего нет. Столько стоит, что на нее и жизни не хватит.
– А вы не придете ко мне?! – наконец, Попсуев произнес то, что давно хотел сказать. Ему так хотелось пригласить ее куда-нибудь – в кафе или лучше в ресторан, но, увы, денег совсем не было, так как первую зарплату Сергей потратил на полушубок, без которого в такую весну никак нельзя было обойтись.
– К вам? Зачем?
– В гости. У меня есть отличный альбом импрессионистов, дрезденский! Из Германии привез. Кубки покажу…
– А вы что же, в Германии бывали?
– Я много где был: в Италии, Венгрии, Франции, Испании.
– Да? – с недоверием посмотрела на хвастунишку Светланова. – Везде были?.. Не знала, что у вас своя квартира.
– Вы же знаете, я в общаге живу, четыреста двадцатой комнате. Приходите!
– А, тоже четыреста двадцатая? Видите ли, по общагам не хожу. Девочки мои, не все, правда, ходят. К ним обратитесь.
Когда Сергей засобирался домой, Несмеяна бросила: – Чего стесняешься? Подумаешь, дырка в носке… Да, пока не забыла. Женщин не спрашивают, женщинам предлагают.
Дорогой Попсуев чувствовал себя муторно. Не мог избавиться от досады на самого себя, а Несмеяне, похоже, он до лампочки. Что он, что дырка в носке, лишь бы подколоть. Вот только с «вы» на «ты» прыгает. «Не спрашивать! Предлагать! Погоди, предложу такое, от чего не откажешься!»
На пути к успеху
Без мастера любое дело – халтура, особенно на заводе. Попсуев не терял время: за год он поднаторел и стал «змеем похлеще Берендея». Поблажек никому не давал, но и себя не жалел и, когда надо было, за рабочих стоял горой. С ними он был на равных, хотя и не запанибрата. Больше всех зауважал мастера после окрика в чайной Смирнов. Это стало ясно, когда он, к всеобщему удивлению, перестал пить. Не вообще, а на работе. До этого даже Берендей, изгнавший пьяниц из цеха, махнул на него рукой, «не замечая» залетов Смирнова, хотя и устраивал тому разнос наедине. С Валентином начальник соседствовал и испытывал к нему явную симпатию.
Что касается отношения Никиты Тарасовича к молодому специалисту, он готов был хоть завтра сделать Попсуева старшим мастером. Ему понравилось, как новичок с ходу стал бороться с браком, что другие мастера начинали делать, проработав в этой должности не меньше трех лет. К тому же бороться не ловлей блох, а копанием вглубь. Сергей не стал отыскивать изъяны в давно отлаженном техпроцессе «методом тыка», а пытался решить проблему с привлечением неведомого пока заводским инженерам математического планирования эксперимента. Со смены Попсуев шагал в заводскую библиотеку, рылся в статьях и монографиях, натащил в общагу две сумки литературы, и с Татьяной встречался только по субботам.
– Что с тобой? – спрашивала она. – Не заболел?
– Задание получил, – объяснял он девушке свою занятость и усталость. – Видишь, сколько надо изучить. Реферат пишу.
– Кому?
– А туда, – небрежно махнул рукой Сергей вверх.
* * *
Однажды Попсуев почувствовал легкое беспокойство, скользнувшее за проблесками интуиции. Долго не мог уснуть, а утром вдруг одним панорамным взглядом увидел во взаимосвязи все технологические операции, параметры оборудования, показания приборов, химсостав металла, понял, где рождаются и пропускаются дефекты и как сократить их число.
«Тут же дисер!», – стучало сердце. Из Москвы по куда меньшим проблемам каждый квартал приезжали специалисты, роющие себе материалы для статей и степеней. От восторга Попсуеву хотелось тотчас поделиться со всеми своими соображениями, но он вовремя сдержал себя. «Надо довести до ума. Всё обработать, составить докладную на имя главного. Нет, сначала познакомить Берендея». Не откладывая в долгий ящик, Сергей в воскресенье нагрянул к начальнику домой и посвятил того в свои честолюбивые замыслы. Никита Тарасович был наслышан о новинках инженерной мысли, взятых на вооружение Попсуевым, и недовольный бездействием технолога цеха Свияжского и бестолковостью творческих групп, дал мастеру карт-бланш.
Задача предстояла сложная: обосновать ужесточение границ в технических условиях, что выходило на уровень нескольких главков. Эту заботу Берендей взял на себя, но предупредил: – Будь готов, Сергей: если что пойдет не так, выспятся и на мне, и на тебе. И особо не болтай про свои опыты.
Пять месяцев Попсуев занимался исследованиями не только в свою смену, но и оставался еще на пару часов в следующую, пока не получил уравнения, описывавшие весь массив данных. Теперь можно было по паспортным значениям химсостава заранее отсекать металл, в котором скрывались дефекты, пропускаемые на приборном контроле. И не надо было вообще запускать на обработку металл, изделия из которого потом всё равно уйдут в брак.
Цех, воспринимаемый поначалу Попсуевым, как темное грохочущее замкнутое пространство с безликими работниками, вдруг стал наполняться оазисами света и тишины, феями и эльфами. Особенно Сергей любил работать в ночную смену, когда не было посторонних. Рабочие безропотно приняли увеличение сменного задания и охотно помогали Попсуеву в его «хобби». Они даже ревновали друг к другу, когда мастер обходил кого-либо из них. За неделю до Нового года Сергей под утро окончательно убедился, что математическая модель верна и при корректировке процесса позволит сократить брак на треть. Осталось разобрать всё с Берендеем, накатать отчет, статью и сдать кандидатские экзамены.
Чувствовал себя он легко, совсем не хотел спать и решил пройтись по рабочим местам. Для начала поднялся к Смирнову на пятую отметку, где находилась горловина емкости, именуемая «тремя кубами». Валентин с охотой подменил заболевшего аппаратчика. По технологии бак два часа наполнялся тремя тоннами раствора (практически одной водой) до верха, затем раствор перекачивался в систему и дальше шел на отмывку и кипячение изделий. Наполнялся снова, перекачивался и так круглосуточно. Химию, как жизнь, не прервешь ни на минуту. К химии уже лет десять собирались сделать автоматику, но руки так и не дошли. Проще было поставить аппаратчика следить за ней. Днем еще ничего, работа не пыльная, но вот ночью того и гляди уснешь, и перелив гарантирован. А с ним и лишение премии.
– Смирнов! Валентин! – крикнул Попсуев, не увидев рабочего за столом.
Тот сидел на краю емкости и спал, свесил босые ноги в бак, и как только горячий раствор касался их, он вскакивал и включал насос.
– Кулибин! – потряс его за плечо Попсуев. – Бачок пора сливать.
– Не пора, – из сна подал голос Кулибин. – А, Васильич!
– Рацуху оформи. План по ним проваливаем.
– Не пропустят, – скромно улыбнулся Смирнов.
– Кресло в цехкоме спер? Ладно, бди. Не свались.
– А у меня замок, за крюк цепляю. Не свалюсь.
Забегая наперед, стоит сказать: Смирнов оформил рацпредложение, его, правда, не пропустили, но накрутили трудовиков, и те тут же пересчитали нормы. О предложении узнал главный инженер, не поленился подняться к горловине «трех кубов», и с его легкой руки пошло выражение «автомат Смирнова».
И настройки не надо!
Несмотря на то, что двойной контроль, производственников и ОТК, был усилен еще и регулярными инспекциями Госприемки, рекламации поступали с печальной регулярностью. Изделия отказывали по причинам, заложенным при их конструировании и изготовлении, а также из-за нарушения режимов эксплуатации. Свой вклад вносили еще и смежники. По каждому случаю собиралась комиссия из представителей всех сторон, и несколько дней шла борьба мнений и аргументов. Редко удавалось выработать единый взгляд, поскольку апломб участников и луженые глотки не способствовали консенсусу. Когда обсуждение начинало грозить участникам инфарктами или членовредительством, председателю комиссии по телефону спецсвязи поступало мнение сверху, самое зрелое и верное.
В последнее время эксплуатационники обнаглели, им было мало эффекта родных стен, позволявшего скрывать свои недочеты, они стали еще вести подкоп под стены «Нежмаша», возлагая на изготовителей всю вину за отказ изделия. Им в этом усердно помогали конструкторы, снимая таким образом с себя свою долю ответственности. «Дефекты пропускают. Слабый контроль!» – жаловались они своему куратору в главке, и этого подчас было достаточно, чтобы лишить работников завода, а конкретно Берендеевского цеха квартальной премии. Директор завода Чуприна дал команду главному инженеру Рапсодову «послать на комбинат при очередной рекламации не конторскую бестолочь, а Берендея. Пусть наведет там шороху!» Разумеется, это только накалило обстановку.
* * *
Прошел еще месяц, и Попсуев уже не только ночами, но и днем стал по сопроводительной документации отлавливать дефектные изделия до приборного контроля. Естественно, это заинтересовало многих. Дошло до того, что Сергей на спор выиграл у технолога участка и Свияжского по одному талону на водку, а у начальника лаборатории автоматики сразу два. Слухи дошли до главного инженера. Однажды после совещания в цехе Рапсодов оставил в кабинете цеховиков и обратился к Берендею:
– Ну, Никита Тарасович, кто тут у тебя Нострадамус?
– Вот он, мастер Попсуев.
– Пошли в цех. Давай халат.
Берендей моргнул Оресту глазом, чтоб в цехе по пути начальства навели порядок, а Сергею бросил:
– Поторопился, Сергей, ох, поторопился…
– Начнем с ультразвука, – скомандовал Рапсодов. – И никаких талонов! Демонстрируй свое умение, бутлегер. Что-нибудь из брака, – он отвернулся и шепнул Свияжскому: – Годную дай.
Прогнали изделие по линии, прибор показал «годное». – А почему «годное» показывает? – нахмурил брови главный.
– Потому что годное, – ответил Попсуев, найдя в паспорте и журнале данные на изделие.
– Не может быть! Брак ведь. Еще дайте.
Принесли из брака. Прогнали. Из пяти четыре подтвердились, пятое прошло в годные.
– На границе, – не глядя на прибор, сказал Попсуев, сверившись с паспортом и журналом. – На пять единиц границу сдвинуть, и не пройдет.
– И как это у тебя получается?
– Хороший шахматист в дебюте видит эндшпиль.
– Хороший… шахматист… дебют… Проверьте настройку прибора. – Рапсодов, явно раздосадованный тем, что не понимает, как мастер «видит» брак, махнул рукой на линию.
Попсуев позвал Михайлова: – Стас, проверь настройку.
Рабочий проверил, но пропустил один необязательный момент, не перещелкнув рычажок в конце. Рапсодов патетически произнес: – Как же так! Это ж дебют!
Михайлов стал убеждать главного в правильности настройки, но это не было убедительно, поскольку кто был он и кто Рапсодов!
– Чего ты споришь? – громко сказал Попсуев. – У главного больше прав.
– Хороша же смена! – бросил главный инженер. – Настройку не могут проверить! Как же продукцию выпускаете? На взгляд мастера?
– Как надо выпускаем! – сказал Попсуев. – Мне и прибор не нужен.
– Да-а? – удивился главный. – Совсем что ли?
– Совсем.
– Ну, знаете ли… – Рапсодов поискал глазами руководство участка и цеха, нашел Берендея, тот на полголовы возвышался над всеми. – Пошли в ОТК. Покажешь. Не поймаешь брак – вылетишь за ворота.
– Он еще молодой специалист, – сказал Закиров.
– Тем более! – едва не испепелил его глазами Рапсодов.
Зашли на участок контроля. Попсуев открыл паспорта изделий и технологический журнал, взял с транспортера несколько штук и положил их с разрывом на линию контроля.
– Вот это одно брак, а эти годные. Стас, запускай! – махнул Попсуев рукой Михайлову; лента поползла. – ОТК, чего там? – Бригадир ОТК перевела контроль измерения в ручное положение, измерила, кивнула головой.
– Да, брак.
– Намного? – спросил главный.
– На десять единиц. Много.
Вторую группу приборы пропустили. Михайлов приплясывал от гордости, Закиров светился, Берендей сыто смотрел на Рапсодова.
– Как фамилия? – Главный хмуро глядел на Сергея.
– Попсуев.
– А, спортсмен. – Главный задумался. – Никита Тарасыч, в среду у тебя проведем инженерную диспетчерскую. Пусть пан спортсмен расскажет о своих прорицаниях. Черт знает что! Столько денег вбухали в москвичей, а тут всё на глазок измеряют!
– На мой глазок! – добавил Попсуев.
* * *
В среду Сергей, вспоминая Андрея Болконского, думал одно и то же: «Вот он мой день! Сегодня меня заметят, возьмут в резерв на выдвижение. Надо изложить за пять минут, пока не ослабнет внимание…» Он спустился на первый этаж, как бы ненароком встречая участников совещания. То, что он возбужден, читалось на его лице и в жестах, в той светлой радости, с которой он здоровался с входящими. Те невольно улыбались ему в ответ. Рапсодов подъехал последним. Едва он зашел в кабинет и уселся в кресло, как тут же обратился к Попсуеву:
– Ну, что, Попсуев, докладывай. Что предлагаешь?
– Вечный двигатель… – громко произнес Сергей и сделал паузу, любуясь недоумением на лицах собравшихся, потом добавил: – …я не предлагаю. Я предлагаю изменить техпроцесс…
– Ну!.. – раздался шумок, переросший в шум и даже смех. – Техпроце-есс! Уж тогда лучше вечный двигатель!
– Тише, товарищи, – оборвал Рапсодов. – Продолжайте, Сергей Васильевич.
«По отчеству, хорошо, – подумал Попсуев. – Есть шанс изложить всё».
– Да, техпроцесс, не меняя его параметров, ни одного…
– А чего ж тут тогда… – не удержался главный технолог, но взгляд Рапсодова прервал его вопрос.
– Дело в том, что техпроцесс писал механик, так? – обратился Попсуев к главному технологу.
– Ну? – опешил тот. – Механик, и что?
– А его надо было писать еще химику, прибористу и математику. Химиков и прибористов подписи есть, но это согласительные подписи, видно, что они не разрабатывали, а математика так и вовсе нет.
Попсуев выучил речь назубок, не полагаясь на прекрасную память и свою способность импровизировать. Он не раз был свидетелем, как на подобных совещаниях искушенных бойцов с пиратскими глотками и не менее утонченными манерами усаживали с позором на место. На таких диспетчерских цеховики вполне по-пиратски топили конторских, конторские – цеховиков, начальники заводских служб – научно-исследовательскую лабораторию (НИЛ), начальник НИЛ – службы. Крайним обычно назначался цех.
Пользуясь тем, что Рапсодов не был настроен критически и ни в ком эту критичность не поддерживал, Сергей уложился в пять минут и успел изложить все аргументы и доказательства.
– Хм. – Главный посмотрел на часы. – Что ж, толково. Сколько вы занимались этим вопросом?
– Пять месяцев, – соврал Попсуев.
– Хватит трех, – урезал Рапсодов. – Несмеяна Павловна, запишите: «Попсуеву передать материалы в НИЛ. Начальнику НИЛ и главному технологу дать замечания к майскому Дню качества. Контроль за мной».
– Сергей Васильевич, поздравляем! – зашумели в коридоре коллеги.
– Рано поздравлять, подождем, – отвечал тот.
А Берендей подошел на линии к Попсуеву и попенял: – Поспешил, Сергей! Вишь, сколько нахлебников прибыло. Ну да ладно, Родина-мать не забудет тебя.
* * *
На следующий день в «Вечернем Нежинске» появилась заметка Шебутного о производственном мастере «Нежмаша» и его успехах на производстве. На проходной возле доски с газетой Попсуев увидел Светланову, та читала заметку. Сергей поймал себя на том, что ему приятно ее внимание. Вряд ли она думала, что «Вечерка» может написать о нем! Интересно, как отнеслась она к этой фразе: «За такими инженерами, как Сергей Попсуев, будущее – не только производства, но и всей страны»?
Несмеяна в пятницу на диспетчерской поприветствовала мастера:
– Здравствуй, наше светлое будущее! Здравствуй, племя младое, незнакомое!
– И ты здравствуй! Жаль, не я увижу твой могучий поздний возраст! – отозвался Сергей, отметив про себя, что царевне понравилась эта реплика.
Бескрайняя, жгучая, злая…
В непогоду не по себе. Нескончаемый дождь пытка. Пребывая в непривычной для себя меланхолии, Попсуев не заметил, как очутился возле дверей Несмеяны и позвонил.
– Закирова нет? – спросила она, открыв дверь и кивая вниз.
– Закирова? Я не к нему.
– Прошу. Вот тапочки. («Купила, для меня?») Пальцы не поджимай. Или носки целые? Чай?
Горел торшер возле дивана, раскрытая книга, клетчатый плед.
– Погода сегодня… – сказал Попсуев.
– Какая? – Зевнув, хозяйка глянула в окно. – Да ничего вроде.
Чай пили молча, без слов и улыбок. Так провели четверть часа. «Тихий ангел пролетел, – подумал Сергей. – Тюкнул бы нас по башке, чтоб в себя пришли».
– А с чего это вы надумали прийти ко мне? – спросила Несмеяна, когда Попсуев засобирался уходить.
– Замерз.
– А, – кивнула она и неожиданно добавила с улыбкой, от которой хотелось заплакать, – знакомо. Даже плед не согревает.
При этих словах Попсуев поглядел ей в глаза. Они были бесстрастны.
– Вы так и живете? – спросил он, думая о том, есть ли у нее мужчина или нет. «Если нет, это преступление. Если есть, это катастрофа».
– Да, а что? Плохо?
– Напротив, уютно.
– Какие ваши годы? – Несмеяна заметила его взгляд, скользнувший по обстановке. – И у вас будет свой угол. Квартиру пока не дали?
Попсуев дернулся от вопроса, но, похоже, Несмеяна спросила просто так, лишь бы что-то спросить. А это еще хуже, чем подкалывать!
– Читаете? – Сергей взял в руки книжечку. – О, Хименес? – Он процитировал: – Острая, жгучая, злая тоска по всему, что есть.
– Бескрайняя… Бескрайняя, жгучая, злая, – поправила его Несмеяна. – Острая, на перец похоже. К кулинарии ближе проза.
– А вы что же, любите Хименеса?
– А что, нельзя?
«Девушки становятся женщинами не когда лишаются невинности, а когда перестают читать стихи. Или наоборот, когда начинают? В любом случае, поэзия и женщина – единая плоть, бескрайняя, жгучая, злая».
Вспомнился дождливый воскресный день, когда Закиров затащил его на пару часов к Несмеяне на дачу. Облепиха под сыплющим дождем с черным, корявым, причудливо по-восточному изогнутым стволом и мелко-кудрявой светло-зеленой кроной вызвала в душе такой же поэтический образ, как сосна или пальма Лермонтова. Раздвоенный ствол и струящиеся черные ветки, как артерии, вены и капилляры земного сердца жизни…
– Вот читаю, и дождь уже не кажется таким скучным, – произнесла Несмеяна.
– Утром я думал, что вечность это дождь. Нет, это стихи Хименеса.
И снова молчание.
– Я пошел? – сказал Попсуев.
– Идите, – как начальник, произнесла Несмеяна.
– А я только что вспомнил облепиху, что под вашим окном на даче.
– Она красивая, правда? – на мгновение оживилась Несмеяна. – До свидания.
Попсуев с шумом в висках, с шумом в груди, вышел. Казалось, шум шел по всему свету. «Что делать? – думал Сергей. – Почему я такой пень?»
МКК
В начале смены Попсуева вызвал к себе Берендей. В кабинете сидели Свияжский, Несмеяна и приборист цеха. Начальник был непривычно мрачен.
– Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам прилетела рекламация. Без крылышек. Но размером с ведерную клизму. Поздравляю присутствующих (и себя лично) с личным вкладом в это общее дело. Тринадцатую зарплату придется добровольно отдать в пользу бедных. Завтра с утреца мы с Попсуевым… (да, ты теперь, Сергей Васильевич, не и.о., а полнокровный старший мастер, приказ подписан, с чем и поздравляю, обмыв за тобой)… едем на комбинат, а на той неделе сами встречаем дорогих гостей. Кстати, два дефекта из трех на комбинате поймали на входном контроле, что очень хорошо, а то бы вонь до Америки дошла. Твои проворонили, Несмеяна Павловна. Глаза не кругли, они, они. И знаешь что? Межкристаллитную коррозию! МКК! Вот номера изделий. Кто делал шлифы и смотрел в окуляр – фамилии мне на стол. Пятьдесят микрон пропустили!
– А почему сразу мои? Кто нам протолкнул их? У них, что, своих микроскопов нет?
Попсуев было вскинулся, но Берендей осадил его:
– Гроссмейстер, не лезь поперек дамы.
– Вот от пятого марта распоряжение Рапсодова. – Светланова открыла свой журнал. – «Оборудовать лабораторию ОТК микроскопами с трехсоткратным увеличением, ответственный… Берендей и начальник снабжения»!
– Начальник снабжения и Берендей, – поправил Несмеяну Никита Тарасович. – Он первый.
– Неважно. А теперь крайние мы? Мне писать докладную Рапсодову?
– Не егози, оборудуем. Надавлю на снабжение. Они вечно телятся.
– Другого не могут!
– Так, этим же составом снялись и к главному.
* * *
У главного инженера лишнего не говорили. Обсудили командировку Берендея с Попсуевым, подготовку цеха и отделов завода к приезду комиссии. Набросали основные пункты для протокола согласительного совещания на комбинате.
– Всё? – спросил Рапсодов. Обычно этим безответным вопросом он завершал разговор.
– Нет, не всё! – сказала Светланова. – Без трехсоткратных микроскопов МКК не поймаем!
– Несмеяна Павловна, – поморщился главный, – знаю я об этом, знаю! Поставщика прикрыли, а с другим договорились только на следующий квартал.
Глинтвейн генерала Берендея
После парилки Берендей встал на весы и потянул 129 кг, но когда выдохнул, стало 128. Математики не дадут соврать: количество выдохнутого воздуха сравнялось с погрешностью взвешивания. В противном случае надо признать, что с выдохом Никита Тарасович снял с души килограммовую тяжесть, которая уже два дня лежала на ней. Облегченный Берендей подошел к зеркалу и полюбовался собой, похлопывая по тугому животу налитыми, как боксерские перчатки, ладонями. Только в бане можно было увидеть, насколько он могуч. Сергей, сам чрезвычайно сильный и жилистый и немалого роста, около 185 см, рядом с ним выглядел мальчишкой.
– Штангу тягал, Никита Тарасыч?
– Тягал, – усмехнулся Берендей. – Твоих успехов не достиг, но мастера в тяже дали. Однако с харчами тут у них, прямо скажем, швах.
Берендей втянул живот и встал к зеркалу боком, вытянув руки по швам, с шумом вдохнул и выдохнул.
– Не жалуют тут нас с тобой, Сергей Васильевич, не жалуют. Три кило за день потерял, а ведь они мои кровные! – он посмотрел на коллегу, точно тот мог вернуть ему эти потери: – Это что ж станется с меня, если я тут на месяц застряну? Они думают, мы так, мелкая сошка. Напрасно они так думают… – Он взял вафельный полотенчико с черным квадратиком цехового клейма в уголке, попытался окружить им бедра, но концы не сходились: – Подгузники, что ли? Всё одно к одному. Пошли отсюда! В последний раз приехал. Пусть теперь главный сам ездит или своих конструкторов-стратегов, бездельников посылает. Это их забота. А мой цех всё как надо сделал. Да чего я тебе говорю! А за МКК металлургов надо спросить.
Командировка красна междусобойчиком. Но в цеховой бане, вопреки всем неписаным законам гостеприимства, командированные парились одни. Другого и не могло быть после скандала, учиненного Берендеем сразу же по приезду в кабинете главного инженера комбината Клюева. Без предисловий Никита Тарасович спустил на Клюева собак за то, что тот растрезвонил на весь Союз о «якобы бракованной продукции», поставляемой «Нежмашем».
– Где выводы комиссии, чтобы утверждать это?! – гремел Берендей.
Попсуев удивился столь жаркой атаке начальника на Клюева, но Никита Тарасович вечером поведал ему о подоплеке: «Хотел услышать, что он скажет. Для острастки полезно первым надавить на противника. Дело в том, Сергей Васильевич, только это секрет, мне летом предложили кресло главного инженера комбината, а я чего-то раздумывать стал, ну вот в него и уселся Клюев. Мы с ним на одном потоке учились».
Одни они зашли и в ресторан при гостинице. Заказали блюда, ждут. За день так и не поели: то цех, то протокол, то кофе из банки, то баня натощак.
– Я им напишу, я им такое в протокол напишу… – грозился Берендей. – Встретить не могут по-человечьи, даже если мы им и брак поставили, с кем не бывает. Но ведь брак браку рознь. Браки вообще на небесах совершаются. Фотки они мне кажут, МКК нашли, пятьдесят микрон, невидаль. Можно подумать, первый раз в жизни. А сами белые и пушистые. – Он с тихим негодованием, оставаясь по большому счету невозмутимым, смотрел на Попсуева, будто именно тот корил его коррозией и морил голодом.
Сергей не выдержал: – Да что ты, Тарасыч, на меня смотришь, как на потребителя?
– А на кого мне еще смотреть? – проворчал Берендей. – На него, что ль? – указал он на портрет Горбачева. Ворчал, ерзал на стуле и вдруг с треском грохнулся на пол. Поднялся с невозмутимым лицом, осмотрел останки стула, рассыпавшегося под ним на несколько частей, выбрал ножку: – Гарсон! Ком хиер[1].
Подбежал официант. Показывает ему ножку: – У вас нет другой мебели? Замените, голубчик.
После того, как Берендей один выпил бутылку водки (Сергей потягивал пиво), скомпенсировав плотной закуской все потери дня, он обмяк, подобрел и на вопрос, как ему после принятого, изрек: – От-лично! Я ж генерал! – (Сергей окинул взглядом неохватную мощную грудь Берендея: и впрямь генеральская, как диван, только ордена с медалями в семь рядов цеплять) – Начальник моего ранга раньше, при Никите, да и при Лёне еще, генеральскую должность имел. Шутка ли – тысяча двести семь человек коллектив! В бою и за столом у меня должны быть одинаково ясные мозги!
– Никита Тарасыч, а давай завтра в гостинице оттянемся, по-домашнему. Глинтвейн пил когда-нибудь? Сварю.
– Суп, что ли? Да слыхал про него, девки жужжали: глинтвейн, глинтвейн! Но не пил. Чего сидеть, айда прошвырнемся. Внизу жду.
Еще в гостинице Попсуев услышал голоса. Берендей стоял под фонарем, окруженный подростками. Парни кричали и размахивали руками. Никита Тарасович сгреб двух юнцов за шкирку, как котят, потряс ими в воздухе и вернул на асфальт. Склонив обоих в поклоне, сказал: – Прием закончен! – и подтолкнув так, что оба носом забурились в сугроб, добродушно глянул на остальных, те попятились. – Малолетки еще, – вздохнул он, – совсем дураки. Ну да откуда им знать, что я «Запорожец» могу поднять. Особливо после пол литра! – захохотал он на всю улицу.
* * *
На завтра к вечеру Попсуев накупил всего, что требовалось, благо, в магазинах ОРСа рабочих снабжали по высшей категории, всего было полно и безо всяких талонов. Слил в трехлитровый чайник бутылки портвейна, вермута, сухого красного вина, выжал лимон, очистил и разломал пару мандаринов, накрошил мармелад, бросил корицу, пакетик ванильного сахара, а затем включил чайник. Подумал-подумал и свалил туда же мандариновые и лимонные корки. Берендей с несвойственной ему живостью следил за приготовлениями.
– Хочешь сказать, что вот это можно пить? – несколько раз поинтересовался он. – Столько витамина цэ истребил. С водкой понятней. Говоришь, у них так пьют? Извращенцы.
Чайник закипел, по комнате пополз пьянящий цитрусовый запах, от которого перехватывало горло. Попсуев разлил по стаканам дымящийся красный напиток.
– Пить горячим, чтоб обжигало.
Когда Берендей проглотил один глоток, а второй не смог, Попсуеву стало жаль его. Берендей с тоской огляделся по сторонам, не зная, куда выплюнуть сказочное питье.
– Я давно знал, что там одни придурки живут, – изрек он. – Ты-то что к ним примкнул? Водку купил? «Оттянулись».
Сергей достал водку. 0,75. У Берендея оттаял взгляд. Тут пришел халявщик Брыкин из московского КБ. Он всегда держал нос по ветру и умудрялся приходить к первой рюмке.
– Пьете? – удивился он.
– Хочешь глинтвейн? – Попсуев подал стакан Берендея. – Для разгону.
Брыкин с удовольствием вытянул напиток, шумно выдохнул, наслаждаясь: «А-а-а!.. Какие напитки тут у вас!» Берендей передернулся.
– Водку будешь?
Брыкин ответил, как собака, глазами: буду, мол, и охотно. Берендей откупорил бутылку, разлил. Только конструктор поднес стакан ко рту, Никита Тарасыч, нарушив обычай, отставил свой, достал смятую бумажку из кармана, разгладил ее на столе и сказал: – Мы тут, Глеб Саныч, скидывались… На вот это, – он указал пальцем на чайник и на водку с закуской: – С тебя, так и быть…
– Дверь-то я не закрыл! – вскинулся Брыкин, выхватив ключ из кармана.
– Куда ты? Выпей сперва. Кому твоя дверь нужна? – крикнул ему вслед Берендей, но Брыкина и след простыл. – Поехали, а то еще кого принесет. Хотя в чайнике много бурды. Ну, беленькая! Русь – ее ничем не замутишь.
Берендей выпил, включил телевизор, там шла пресс-конференцию какого-то известного академика, директора института.
– Да, знать бы, где упадешь. Уже жалею, что не приехал в эту глушь. Хорошо тут у них. Всё есть. От одной закуски судороги по телу. Мне тут нравится. Городок, гостиница, коттеджи. Основательные, будто Собакевич строил.
В это время академик в телевизоре ликующе сообщил:
– Скоро появится новый вирус гриппа, и миллиард человек умрет!
Попсуев развел руками: – Вот те на! Радости сколько!
– Не дрейфь, Серега, – сказал Берендей, – мы всё равно в другом миллиарде. Апокалипсис в их миллиарде случится, в «золотом». Там и так уже одни золотари живут.
Для написанья протоколов не надо десять балаболов
Протокол составляли в кабинете заместителя главного инженера. Мнения сторон были полярными. Когда все наорались и подустали, Берендей, до того молчавший, устроился в кресле и попросил минуту внимания. Добродушно и очень складно он двадцать минут вел речь о причинах коррозии, подмигивая металловедам, которые думали, что только они владеют тайнами своего мастерства. Пенял подрядчикам, нарушавшим режимы термообработки и проталкивавшим на «Нежмаш» слитки со скрытными дефектами. Указывал на конструкторские недоработки и несовершенство приборного контроля. Укорял в лукавстве эксплуатационников, нарушавших режимы эксплуатации. Никто не перебивал, так как у всех рыльце было в пушку, и каждому было что исправлять.
– Предлагаю мировую, – в завершении спича произнес Берендей. – Консенсус. Леди Чаттерлей любила присказку: «Какая ж мисс не любит компромисс?» Вот наш проект…
Проект присутствующие приняли с тремя незначительными поправками.
Когда нежмашевцы вернулись в гостиницу, начальник похвалил Попсуева: – Правильно себя вел, Сергей, не егозил, но и поблажек не давал. Очень хорошо! Надо тебя дальше двигать, на место Поповой, а старушке на печь залезать.
Берендей включил телевизор и, кивнув на беснующихся депутатов, обронил:
– Мы ладно, десять часов орали за-ради дела, а эти чего? Когда в нержавейке много хрома, хром вызывает МКК…
– Нержавеющие стали вдруг ржавеющими стали, – не удержался Сергей от экспромта.
– Вот именно. Эти слуги народа хром и есть. Многовато их стало, заботливых. От них страна покрылась трещинами. «Мыслящая» интеллигенция, нам в пику, «немыслящим». Знаешь, в чем ее предназначение? Наливай, дома так не попьешь… Предназначение этих балаболов в разрушении страны, в которой вроде как родились. Чем больше обласканы они страной, тем глубже проникают в ее поры. Хуже азотки. Любую щель ищут, чтобы разъесть ее. Разрушая монолит, губят и себя. А потом нас начнут попрекать, что мы кормили их, но не досыта. Попомни мои слова. Они – МКК страны.
Благодарность
Когда начальник НИЛ Диксон получил Попсуевские материалы, он поначалу не поверил, что всё это сделал один человек за пять месяцев. Наметанным взглядом Яков Борисович определил: тут к куме не ходи – кандидатская! При защите, правда, могут сказать: неканоническая, почему так широко? Ну да Яков Борисович, как опытный портной, из любого материала мог скроить и по моде, и по заказчику. Главное к идеям иметь материю, хоть воздух, а уж сшить можно и из воздуха.
Диксон разбил даром полученные исследования на две группы и усадил своего зама Роберта Бебеева (зятя Рапсодова) за написание статей и автореферата диссертации. Главный инженер второй год торопил начальника НИЛ остепенить родственника, пока была возможность протолкнуть того в главк. Благо, кандидатские экзамены Роберт уже сдал. Защитится, куда он денется! Правда, об этом пока никому на заводе знать не надо! Бебеева учить жизни нечего: хватка волчья, ничего не упустит.
Через два месяца Бебеев представил начальнику две статьи и автореферат. Материал получился дрянной, автор показал свою полную беспомощность в описании методики исследования, особенно в математической ее части. Диксону, не ожидавшему такой подлянки от своего нового, навязанного Рапсодовым зама, пришлось переписать всё наново, упорядочить первобытный хаос изложения и исключить три пункта, дискредитирующих Бебеева, как научного работника. Введя в число авторов себя, Бебеева, руководство завода, нескольких свадебных генералов и Попсуева, Диксон передал статьи главному инженеру. Рапсодов поморщился: «Ну что вы, Яков Борисович, не тот уровень! Мастер, даже старший, ну что вы!», и Попсуева вычеркнули.
Через неделю, к 1 Мая Попсуеву объявили благодарность и премировали «в размере 100 рублей». А спустя два дня в «Вечерке» появился репортаж Шебутного, озаглавленный: «Признанный спортсмен, непризнанный ученый?» В ней журналист излагал как вещи понятные, так и удивительные. Понятно было, что мастера с диссертацией «обули», но многих удивило то, что Попсуев, оказывается, бился за звание чемпиона Европы на саблях.
«Признанный спортсмен, непризнанный ученый?» Репортаж Шебутного
Быть ученым в нашей стране – почетно и заслуженно. На «Нежмаше» трудится немало ученых, чьи достижения имеют огромное народнохозяйственное значение и дают многомиллионный доход государству. В этом году в одном из основных производств (начальник цеха Н.Т. Берендей) было проведено исследование, позволившее повысить качество контроля, вследствие чего существенно уменьшились издержки производства и получен немалый экономически эффект.
Куратор министерства А.К. Иванов, директор завода И.М. Чуприна, главный инженер к.т.н. Б.Г. Рапсодов, главный технолог к.х.н. Р.П. Зверев, главный приборист к.т.н. И.И. Кандаур, начальник НИЛ д.т.н. Я.Б. Диксон и его заместитель Р.Н. Бебеев в отраслевом сборнике опубликовали две статьи. Результатами работы нежмашевцев заинтересовалась Москва, а также многие предприятия отрасли. По материалам этой работы Бебеев подготовил кандидатскую диссертацию. Защита ее состоится в следующем году.
* * *
Не обошлось и без казуса. Так, тов. Н.Т. Берендей заявил нашему корреспонденту о том, что основной вклад в проделанную работу сделал старший мастер цеха С.В. Попсуев, но его почему-то не оказалось в числе авторов статей. И вовсе непонятно, почему диссертацию защищает Бебеев, к данной работе имеющий лишь косвенное отношение: он зять главного инженера Рапсодова. В дирекции завода заявление начальника цеха не подтвердили. При этом разъяснили, что старший мастер Попсуев всего лишь молодой специалист, участвовавший с линейным и контрольным персоналом цеха и других подразделений завода в сборе и обработке данных, и до автора научных статей пока не дорос. Но в техническом отчете он фигурирует среди исполнителей.
Главный инженер подвел черту, заявив: «Желание молодого специалиста Попсуева поскорее остепениться и стать признанным ученым вполне оправданно и понятно, так как наш завод является кузницей творческих кадров. Не исключено, что мастер, который склонен к исследовательской деятельности, со временем будет переведен в НИЛ. Пока же ему, выпускнику столичного вуза, проработавшему на нашем заводе всего ничего, надо поднабраться опыта. Согласитесь, два года – это маловато, чтобы вникнуть в нюансы производства и тем более давать рекомендации по его совершенствованию и корректировке ТУ. Всему свое время, признают и Попсуева. Что же касается заявления начальника цеха тов. Берендея, оно вполне понятно и заслуживает уважения, поскольку Попсуев является одним из лучших его работников. К тому же Попсуев мастер спорта международного класса, четыре года назад бился за звание чемпиона Европы на саблях. Из-за полученной раны вынужден был уйти из фехтования. Думаю, что если мы и ранили самолюбие производственного мастера, то всё же не так сильно, как травмировал мастера спорта клинок победителя в том бою».
Что ж, по мнению технического руководителя завода, случай с Попсуевым неприятный, но не трагический. Кому-то везет, кто-то становится чемпионом или кандидатом наук, а кто-то остается вторым или кандидатом в кандидаты. Если разобраться, вторых, третьих и т. д. большинство, и что без них первые? Ведь и пан Володыёвский, помнится, не был чемпионом Европы, а «главный механикус отечества» Кулибин академиком? Так что Попсуев – полный вперед!
* * *
В заключение хочу сказать пару слов о Попсуеве-спортсмене. Я слежу за фехтованием, знаю не только известных мастеров клинка, но и интересуюсь растущими талантами. Одним из самых перспективных, на мой взгляд, пять лет назад был Сергей Попсуев. В 19 лет став мастером спорта международного класса, он вошел в обойму ведущих советских саблистов. Тренеры не без оснований ожидали от Сергея серьезных успехов в международных соревнованиях, но на кубковых соревнованиях в Венгрии с ним произошел несчастный случай, едва не закончившийся трагедией. В бою клинок итальянца сломался и, как масло, прошил камзол Попсуева.
Пройди клинок двумя сантиметрами выше, и этой статьи не было бы. Врачи вытащили Попсуева с того света, но после больницы он уже не смог вернуться в большой спорт. Сергей тогда был студентом четвертого курса Московского энергетического института. Я на время потерял следы Попсуева и вдруг узнал, что по окончании МЭИ он оказался в нашем городе, на «Нежмаше». Мне стало интересно, как сложится его жизнь на поприще инженера. Уверен, что я еще не раз вернусь к нашему герою.
Рубить, так рубить
– Читали это? – спросила Несмеяна, протягивая Попсуеву газету.
– Что там? – небрежно спросил он. – Про завод?
Несмеяна ткнула в заголовок ««Признанный спортсмен, непризнанный ученый?»: – Про вас. Признание в любви.
Попсуев прочел, взглянул на Несмеяну. Та произнесла с насмешкой: – Видите, чем кончилось? Сколько месяцев убили на эксперименты? Восемь? Десять? Это пустяк, не расстраивайтесь. Не всю жизнь, как Свияжский. Я же говорила, на заводе не шпагой, рельсом надо махать. А для этого надо, Попсуев, не уметь, а сметь. Смелость города берет.
Попсуев стиснул в кулаке газету и, ни слова не говоря, бегом припустил в заводоуправление. Через десять минут он зашел в приемную главного инженера.
– У себя? – хмуро спросил Сергей секретаршу. Та с интересом посмотрела на взъерошенного молодого человека.
– Вам что? – певуче протянула она, припоминая: Попсуев, из третьего.
– Главный здесь?
В Сергее всё кипело. Он понимал, что нарушает субординацию, что еще минута, и его карьера пойдет к черту, но уже не мог справиться со своей злостью на несправедливость судьбы. Справься, понял бы, что судьба всегда благоволила ему, даруя лучший из возможных вариантов. Но нет, нет, нет и нет! Он вновь на дорожке, и еще посмотрим, кто кого! И он не только саблист, но и судья. Душу его наполнял восторг, оттого что он сам «замутил» всё это.
– Борис Григорьевич занят, – певуче произнесла секретарша. Она еще в прошлый раз обратила на Попсуева внимание. Диковат, но хорош. Девушка улыбнулась ему. – О чем доложить?
Сергей направился к двери.
– Я же сказала, Борис Григорьевич занят, – дрогнувшим, но по-прежнему певучим голосом произнесла она с чарующей улыбкой, встав на пути Попсуева. Тот легко поднял труженицу под локотки (она зажмурилась, когда увидела в его глазах бешеные огоньки) и отставил в сторону.
– Это что же получается! – с порога бросил Попсуев, взмахивая газетой как саблей.
– Я вас не вызывал. Выйдите!
– Нет уж! Не уйду, пока не получу ответ, почему меня не включили в число авторов статей и почему ваш зять защищает по моим материалам диссертацию?! – Попсуев с грохотом вытащил стул из ряда, упал на него, закинул нога за ногу.
– Вы что себе позволяете? – побагровел главный инженер.
В открытую дверь заглянула половина секретарши. Рапсодов как-то беспомощно взглянул на нее и махнул рукой. Та скрылась, и вскоре появился начальник режимной службы Синьков. Преторианец молчком подошел к Попсуеву и крепко взял нахала за шиворот, захватив клок волос. Сергей отбросил стул из-под себя, перехватил руку Синькова, а второй рукой схватил его за мягкий подбородок и швырнул на стол в направлении Рапсодова. Режимник заскользил, сметая бумаги, а Попсуев покинул кабинет, хрястнув дверью. Синьков, не смея взглянуть на Рапсодова, лазил под столом и собирал сметенные листочки.
Секретарша подскочила со своего места и непроизвольно сделала пару шажков к выходу. Сергей сел за ее стол, взял лист чистой бумаги и размашисто набросал на нем несколько строк. Оставив лист на столе, пошел в общежитие.
– Я его посажу! Он у меня, сукин сын, на рудники пойдет! Он у меня в дурдоме сгниет! – трясся от возбуждения главный инженер, бестолково перебирая на столе документы и письма, понимая, что всё уже свершилось: Попсуев хоть и буян, да герой, а вот он слабак.
* * *
Через пять минут о случившемся доложили Чуприне. Передали и заявление Попсуева: «Директору завода т. Чуприне И.М. от старшего мастера цеха № 3 Сергея Васильевича Попсуева. Заявление. Прошу уволить в связи с подлым поведением руководства завода. С.В. Попсуев».
Чуприна вызвал Рапсодова, с искорками в глазах расспросил, что за корриду устроил тот у себя в кабинете. Главный объяснился, протянул газету. Пока директор читал, Рапсодов, не умолкая, грозил Попсуеву всеми мыслимыми и немыслимыми карами: – Он у меня волчий билет получит!..
– Ладно, Борис Григорьевич, хватит сопли жевать. Сам кашу заварил. Ты заявление читал? А статью? Почитай, почитай! Шибко вы парня обидели.
– Кто кого еще обидел.
– Сам обиделся? Прям, унтер-офицерская вдова! Обиду проглоти, радуйся, что не получил, как Синьков. Почему я ничего не знал про это? Что автор Попсуев? Почему этот… Бебеев… украл чужой труд? Кто готовил это?
– НИЛ и главный технолог.
– Передай, чтоб подмылись, через десять минут ко мне. И Берендея позови, но не к началу.
– Иван Михайлович!
– Чего тебе?
– Но я не давал интервью! Я не знаю никакого Кирилла Шебутного!
– Ладно, иди! Не знает он… Знаем мы!
Крылья, как у ангелов, за спиной
Каково было удивление Попсуева, когда в семь вечера в комнату зашел Чуприна. Сергей лежал, закинув руки под голову и задрав ноги на спинку кровати, и размышлял. Пока вся эта утренняя возня никак не откликнулась, будто ее и не было вовсе. Не ясно было, что же теперь делать. Во всяком случае, идти на завод бессмысленно. «Надо ждать. Кто-нибудь сам придет. Смирнов или Орест, или Берендей. А то и приедут – менты. И поведут под белы рученьки… А за что?!» Раскаяния не было в нем. Он даже представил невообразимое: «Рапсодов вызывает на дуэль. А я ему отвечу, как Арбенин: «Стреляться? с вами? мне? вы в заблужденье».
О Татьяне он не вспомнил ни разу. А вот Несмеянины слова «Надо, Попсуев, не уметь, а сметь. Смелость города берет» не таяли, а словно детские кораблики качались на волнах памяти. И такая досада брала от них! А тут еще ее немеркнущее насмешливое лицо…
– Лежишь, мастер? – Директор, озирая обстановку, стоял в дверях. За ним угадывались сопровождающие. Взглянув на них, Чуприна закрыл за собой дверь. Сцена напомнила Сергею египетскую фреску: фараон и людишки у его ног…
Попсуев поднялся с кровати.
– Да ты лежи. Имеешь право. Я ж пред тобой подлый человек. Чернорабочий или поденщик. Вот только, чтобы знал ты, категорию подлых людей на Руси упразднили еще в одна тысяча семьсот сорок втором году. Мальчишка! Да как смел ты написать мне эту цидульку! – Чуприна достал из кармана свернутый вчетверо листок.
Попсуев молчал, спокойно глядя в глаза директору.
– Погодь-ка, – вздохнул Иван Михайлович, положил ему свою широкую ладонь на плечо, усаживая на кровать. – Я зараз.
Он вышел в коридор, притворив за собой дверь. Пару минут слышалась невнятица голосов, потом удаляющиеся шаги. Зашел Чуприна.
– Вот что, Сергей Васильевич, поехали ко мне, там в спокойной обстановке решим, ху из ху, а кто пи из пи. Не люблю общаг.
Попсуев молча вышел. В коридоре было пусто. Вахтерша поднялась со стула, завидев их.
– Да ты не скачи, Петровна. Как спина-то?
– Да спасибочки, Иван Михайлович, сижу вот.
– Ну, сиди-сиди. Дюже не прыгай. Моя шкуркой лечится.
– Привет ей!
На улице тоже никого не было. Подошли к черной директорской «Волге».
– Свободен пока, Василий, я сам, – сказал Чуприна водителю. Взглянул на часы. – Часика через два позвони.
Директорская квартира располагалась неподалеку в одной из первых городских пятиэтажек элитного 33-го квартала. На просторной площадке второго этажа была еще одна дверь, также обитая черным дерматином.
– Там твой хороший знакомый живет, – ухмыльнулся директор. – Рапсодов. Заходи. Полина Власовна, знакомься, Сергей Васильевич.
Полина Власовна подала руку Попсуеву, приветливо улыбнулась и скрылась на кухне. У Сергея как-то разом снялся напряг в теле и мыслях. Громадная прихожая полногабаритной квартиры с несколькими пальмочками в горшках произвела на гостя неизгладимое впечатление.
– Небось, лучше, чем в ночлежке? Тапки обувай, проходи в кабинет. А я пойду, блюда закажу. Не ел поди? Да и я весь день не трескал. На кухню не приглашаю, извини, погром. Раковины меняю. Вон на диван падай.
Попсуев не удивился, что директор сам меняет раковины. О Чуприне шла молва, что он всего в жизни добился своими руками, и даже по дому и на даче всё делает сам.
Сергей сел на огромный кожаный диван, огляделся. В угловой квадратной комнате с высокими потолками и двумя широкими окнами стоял широкий же стол и несколько стульев. Два книжных шкафа забиты книгами. В углу два кожаных кресла, журнальный столик, торшер. Попсуев наклонился к полу, разглядывая празднично яркий паркет. На светлом фоне выделялись темные волокна, придававшие объемность рисунку. Сергей погладил плашки пальцами.
– Сам укладывал, – с гордостью похвастал Чуприна. – Ясеневый. Плашки не абы какие, селект, два дня отбирал. Как?
– Классно, Иван Михайлович, – искренне похвалил Попсуев.
– Классно, – повторил Чуприна. – Вам всё классно. Высший класс! Один чех обучил в сорок девятом году. Сам-то он мастер по старинным дворцовым паркетам.
– А тут чего делал?
– А тут бетон мешал. Зэк. Руки золотые, но горячие, с кем-то поцапался и сгоряча своротил скулу. А ему еще халтурку левую припаяли… Завод-то мы строили вместе со спецконтингентом в одной зоне. Там и работали, там и спали. Вот, хочешь альбом поглядеть, нигде не увидишь больше, даже в заводском музее.
Чуприна вытащил из сейфа в шкафу толстый в кожаном переплете альбом.
– Подь сюда, – он сел в кресло, перевернул обложку. – Вот так завод начинался, с этой котловины, с этого болота. Я вон тот, худющий. Ты полистай пока, а я Полину Власовну проведаю, что-то она тянет.
На черно-белых фотографиях были запечатлены удивительно простодушные люди, прилежно-строгие или с застенчивыми улыбками и капельками света в глазах, со светлыми лицами, на которых вовсе не было того страха, о котором в последнее время прожужжали уши озабоченные народным счастьем телеведущие. Попсуев почувствовал в себе странную зависть к этим доживающим сегодня свою жизнь людям. С бутылкой «Петровской» водки зашел Чуприна, следом Полина Власовна закатила столик.
– Нам сюда, Поль, в креслах посидим. Падай, Сергей Васильевич.
Чуприна разлил водку, полюбовался на свет: – Янтарь, искры брызжут. Ну, за консенсус. Помидорки бери, Сергей Васильевич, закусывай, огурки. Сам солил. Тут вишневый лист, дубовый, смородиновый.
Попсуев с удовольствием похрустел терпким огурчиком, с наслаждением высосал сладкий острый помидор, и с удивлением осознал, что не чувствует никакой дистанции между директором и собой, хотя отдавал себе отчет, что эта дистанция огромна, больше Скалозубовой.
– Полистал? Как альбом?
– Полистал. Сначала подумал: «Кладбище ушедших мгновений», а потом передумал: «Роддом будущих».
– Правильно передумал. Ты, я гляжу, поэт. На заводе должны работать поэты. Без них развития не будет. Кстати, ты стихи здорово читаешь. В ДК на вечере. Мне понравилось. В кружок ходил?
– В институтском театре играл.
– Всюду успел, – Чуприна помолчал, лицо его разгладилось, и в глазах появилась мечтательность. – Дивишься, поди, глядя на нас тогдашних. Я и сам дивлюсь. Будто и не мы то. У меня в смене Еськов был (помер уже), когда женился, директор Земцов квартиру ему выделил, а тот – куды мне, комнаты хватит. И его тогда все прекрасно поняли, это сейчас за сапоги югославские удавятся. Общий у всех язык был, русский еще. Не знаю, когда вы оглянетесь назад, что увидите. Себя, небось, не признаете. Так быстро всё меняется и не к лучшему. К концу, что ли… – задумался Чуприна. – Ладно, соловья баснями не кормят, наливать надо. – Он с добродушным смешком разлил водку. – У нас поговорка на стройке была: думай меньше, бери больше, кидай дальше. Думать – не всегда полезно. Порой лучше брать и кидать, чем лежать и думать.
– Почему же, – возразил Сергей, – можно и с думой кидать.
– Ага, спасибо за подсказку. – Чуприна достал из кармашка заявление Попсуева, развернул его, прочитал, подняв бровь, с заметным удовольствием разорвал пополам и еще раз пополам и кинул обрывки в корзину под стол. Взял в руки рюмку и чокнулся с Сергеем. – За это и выпьем. Кто старое помянет, тому глаз вон. Хороша, сволочь, вот тут так и жгёть. Будем считать, ничего не было. Не тревожься, никто не вякнет, и волос с твоей головы не упадет.
– Да я за это и не беспокоюсь.
– Верю. Синькова ты хорошо покатал. Как по катку. Фехтовал за сборную?
– Да приходилось, – покраснел Попсуев.
– Да ты не смущайся. Это я должен смущаться. Не каждый день за столом с обладателем Кубков сидишь. Знаю про тебя. Среди наших зэков тоже спортсмены были, даже чемпионы. Давай на диванчик присядем, поглядим в альбом.
Они выпили по третьей рюмке и уселись на диван.
– Не торопишься? – обратился он к Попсуеву.
– Нет.
– И я не тороплюсь. Торопиться по жизни – не жить. Вот, гляди. Это промплощадка. Ее сам министр выбирал. Два раза приезжал. Тут везде были болота. А вот под нами, – он похлопал по дивану, – озеро. Утки плавали, охотники охотились. Это я бурю՜ с солдатами площадку, беру пробы грунта для исследования. Чуток пробуришь, вода стоит, грунт-то плывун. Это я на практике под Москвой. Вот принимаю оборудование. А вот в июле сорок девятого вместе с первыми кадрами, я за ними ездил в Воронеж и Ростов, в тех краях моя станица. На Северском Донце. Не бывал? А это моя первая хата.
На пожелтевшей фотографии была небольшая комната, одна к другой семь кроватей, тумбочки, стол в углу, на нем электрическая плитка.
– Тут нас было двенадцать человек.
– Не понял, Иван Михайлович. Кроватей-то семь.
– А чего тут понимать? На двоих одна кровать, спали по сменам. Пока один на смене, другой отсыпается. Седьмая – для больных и командированных.
– А чего потолка не видать?
– Высоко потому что, одиннадцать метров. С нас квартплату поначалу не за квадратные метры, а за кубические брали. Потом разобрались. А вот эти красавцы – зэки. Они на самых тяжелых работах были.
– И что, вот так вместе, не раздельно?
– Тогда в школе мальчики и девочки учились раздельно, а с зэками нет, вместе. Да они нас и не напрягали шибко. Их словно и не было. Двери мы не запирали. Фортки настежь. Воровства не было. Да и чего воровать? Чайник, если у кого, это как ГАЗ М-20 «Победа». А из них треть были рецидивисты.
– И долго жили так?
– Да не очень. С полгода, а потом на поселке дома стали сдавать, семейным комнаты выделять. Там же расселяли и одиноких, человек по пять.
– В основном молодые все, – Попсуев вглядывался в лица, стараясь угадать в них сегодняшних стариков, – вот тут вообще дети. Только чересчур серьезные.
– Молодым везде у нас дорога. – Чуприна закрыл глаза и очень ярко вспомнил заводскую площадку сорок девятого года, «зону». Она была как огромная незаживающая рана, с многочисленными растворобетонными узлами, где день и ночь кипела работа, и как черви копошился подлый люд. Станки под открытым небом. Стены без крыш, зияющие оконные проемы. Снег на оборудовании, вода. Нескончаемый холод, пронизывающий до костей… – Стариков-то и не было тогда, не успели еще состариться. Рабочим шестнадцать лет, мастерам двадцать, начальникам тридцать, ну а конторским под сорок лет, фронтовики. А вот глянь-ка на чумазеньких.
– Шахтеры?
– Мы после смены. Это не уголь и не грязь, снег такой. От сажи всё черное было, вон там паровоз стоял, отапливал корпус. А вот я – начальник смены, с усами, Полину охмурял, устанавливаю забор-«колючку» по периметру завода.
На фотографии Чуприна кувалдой загонял кол в землю. На следующей фотографии Попсуев с удивлением увидел намалеванных на стене голых женщин, мастерски прорисованные мужские и женские гениталии, отборную матерщину, забористые стишки.
– А, это наша Третьяковка, – с усмешкой сказал Чуприна. – Попадались просто асы. Зэки всякие сидели. Но по пятьдесят восьмой ни одного, все уголовники. С нынешними не сравнить. Вежливые, предупредительные, просто нянечки из садика. Когда стали монтировать оборудование, первыми стахановцами были они. Монтаж, кровь из носу, выполняли на сто пятьдесят один процент – за это им сокращали срок. А мы в качестве кураторов проверяли их работу и просчитывали процент выработки. С чехом я тогда и сошелся. Пршимысл звали, не выговоришь. Каюсь, разок-другой завысил, но процентов на пять. Колбасу иногда носил ему, водку. Пару раз задерживали, объявляли выговор. А на мне этих выговоров, как репьев на псе. Это я первого апреля пятидесятого года, видишь, какой гордый стою, подбоченился. А ведь это, можно сказать, после пинка чуть-чуть не вылетел с завода.
– Было такое?
– Да с кем не бывало по-молодому, – подмигнул Иван Михайлович. – Позвонила секретарша директорская, вызывает Земцов. Земцов крутой мужик был, не чета последующим директорам. Не то, чтобы струхнул я, а прикинул, зачем я ему сдался «первого апреля – никому не веря», к тому же суббота была, и не пошел. А в понедельник вызывают уже «на ковер». Захожу. Ну, а он меня с порога по матушке: за тобой что, так растак, конвой посылать?! А я что, я тоже не лыком шит, фронт за спиной, как крылья у ангела. Я ему в ответ. Он мне в три этажа, а я ему еще с мезонином. А сами глаза в глаза, кто кого, как два сверла. Штукатурка сыпалась от матюгов. «Диплом ложь на стол!» – орет. А я ему: «Хрен дам! Самому нужен! Не вы давали, не вам отбирать!» С тем хлобыстнул дверью и к себе ушел.
Чуприна замолчал, вглядываясь в фото. Казалось, в его глазах они оживали.
– А потом? – не выдержал Попсуев.
– Что потом? А, с Земцовым? Помирились. Два мужика завсегда помирятся, если у них крылья, как у ангелов, за спиной. Сам ко мне пришел.
– Иван Михайлович, Василий, – заглянула в кабинет Полина Власовна.
– Ну, что ж, Сергей Васильевич. – Чуприна поднялся. – Рад был с тобой запросто погуторить. Ты мужик, гляжу, хоть и ёрш, да в уме. Не прав Рапсодов. Зятя двигает. Да и завидует, такую работу провернуть! На заводе вряд ли еще кто так сможет. Завтра в цех выходи, Берендея порадуй. Станут забижать, по столам больше кадрами не разбрасывайся, ко мне приходи, жалься. А лучше не жалься. Я не всегда такой добрый. Ладно, ступай.
Попсуев поблагодарил хозяев, обулся, надел пальто и взялся за ручку двери. Ему не хотелось уходить из этого ставшего вдруг родным дома. Он со щемящим чувством подумал, что такой приязни к чужому углу он не испытывал уже почти пятнадцать лет.
– Да, – остановил его Чуприна. – Ты уж извини, в авторы тебя не впишешь, поздно, но и Бебееву кандидатом не быть! Отзовем автореферат. Тебя я отмечу, не сейчас. Эффект, что насчитают плановики для всех этих «авторов», перечислим на детдом. А на свои я еще одну коровенку в Голландии куплю, для нашего совхоза. Есть у меня такая традиция – премиальные на коров трачу, на голландскую породу. У них молоко, как сливки, жирность больше четырех процентов! Уж шибко люблю их продукцию. Больше заводской.
Попсуев молча кивнул (ему вдруг перехватило горло) и вышел с теплым чувством в груди. Весь свет показался родным, хоть и была темень на дворе, там, где тянулись рядами гаражи.
Из «Записок» Попсуева
«…только вышел от Чуприны, гляжу, от гаражей навстречу идет мужчина. Поравнялись. Бебеев. «Привет, – говорю. – К тестю?» А он, оказывается, и не мужчина вовсе, шарахнулся от меня, как черт от ладана. Невольно захохотал ему вслед, как Мефистофель, и проорал: «Смотри, Робертино: защитишься – убью!» И так легко стало на душе, словно от смертного греха освободился. Главное не в той грязи, что вокруг, а в той чистоте, которая в тебе…»
Вакансии всегда есть
Чуприна вызвал к себе Берендея, дольше обычного расспрашивал о цеховых делах, интересовался нуждами, что-то записывал в своей книжечке, а в конце встречи спросил: – Ну, что, Никита Тарасыч, кадров, говоришь, тебе не даю? Жалишься всем, что не даю, жалься и мне.
– А чего жаловаться? Бесполезно!
– Почему бесполезно? Небось, не вдую. Ладно, Берендей. Тебе сколь мастеров надо? Двух? Будут тебе молодые! Дронов, небось, уж просветил, пришли на завод. Трех человек хватит?
Берендей просиял: – Иван Михайлович, конечно!
– Вот и ладно. А одного у тебя зараз заберу. Для компенсации.
– А кого?
– Да тоже из молодых, но трошки обкатанного. Попсуева отдашь?
– Нет, только не его!
– Почему?
– Чего спрашиваете? Нужен. Только стали разбираться с браком…
– Свияжский зарплату получает, пусть разбирается.
– Так нельзя, Иван Михайлович. Только подготовил себе спеца, старшим мастером провел, вы забираете!
– Вот и хорошо, что подготовил. Одного сковал, значит. Сердечное тебе спасибо. Он теперь для другого дела нужен. Всё, не возражай, не порть себе день. Постой-постой, а уж не на место ли Свияжского ты его мыслишь?
– От вас ничего не скроешь, Иван Михайлович.
– А то! Не, мысль дельная. Я тоже, пожалуй, подумаю над ней. Сейчас рановато, но через годик-другой, почему же… Ладно, иди. Да, про футеровку на третьей печи не забудь!
Чуприна тут же вызвал Дронова и велел ему подготовить приказ о назначении Попсуева начальником второго участка вместо Поповой.
– Как? – растерянно поглядел на директора Дронов. – Она, что?
– Уходит. Разговаривал с ней. Не хочет, а куда ей дальше? Только вперед ногами. А это не дело – с завода. Ей на днях семьдесят. Она что, тебе родня?
– Нет. Ты ж хотел Попсуева на девятый цех бросить?
– Расхотел. Да ты не переживай! Все уйдем.
– Тебе-то, Иван Михайлович, грех жаловаться.
– А ты, Савелий Федотыч, не квакай. Чего тебе начальником цеха не сиделось? Я тебя не гнал. Вот и сиди теперь в своем болоте и не квакай.
– Да вот квакаю, раз в болоте.
– И не квакай.
Свято место пусто не бывает
Берендей был рад за Попсуева, но больше, конечно, огорчен потерей для цеха. «Раньше времени Серега высунулся, и я не придержал. Чего ж будет теперь?..» Заглянула Попова.
– Примешь, Тарасушка?
– Да заходите, раз уж пришли, – вздохнул Берендей. – Приму, Анастасия Сергеевна. Я как терапевт, сплошные приемы.
– А что так тяжело вздыхаешь? Переел?
– Попсуева забирают.
– Куда?
– Не сказал. – Берендей ткнул пальцем вверх.
– Может, заместо меня?
– Куда заместо тебя?
– Так я всё, Никита Тарасыч, ухожу. Вот принесла заявление.
– Постой-постой. Что за день сегодня? Куда ты уходишь?
– А туда, куда все уходят. На пенсию. Состоялась у меня аудиенция с Чуприной. Поблагодарил он меня за доблестный труд, и как в этой, «Юноне»: «Я тебя никогда не забуду». Ну и про партию с правительством добавил.
– Шутите, Анастасия Сергеевна, да? Мне сегодня не до шуток.
– Да какие уж тут шутки? На полном серьезе, Никита Тарасыч.
– Когда состоялась аудиенция? Я только что от него. Он и словом не обмолвился о вашем уходе.
– А что это ты сразу на «вы» перешел? Уже сразу и чужая стала? Вчера позвонил мне, пригласил. Чаем угостил.
– И когда отходная будет?
– Как и положено. Через две недели юбилей, в отпуск, а потом и вчистую. Уж когда уйду, ты за моей Татьяной пригляди, одна она, сердечная. Мечется, втюрилась в твоего Попсуева, а он как кот с мышкой…
Анастасия Сергеевна говорила вроде как и спокойно, но Берендей за годы работы с людьми научился не только прятаться от их разъедающих как кислота чувств, но и безошибочно их угадывать. Судя по всему, старушка находилась в состоянии сильнейшего стресса, на грани обморока.
Берендей пригляделся к ней. На ее лице трудно было уловить что-то новое. Оно было всё изборождено морщинами, длинный седой волосок торчал из родинки на подбородке, на лбу едва заметно розовело пятно от давнишнего химического ожога, да правая бровь была тоньше и светлее левой. Он перевел взгляд ниже, и ему стало не по себе от ее дрожащих рук. Анастасия Сергеевна судорожно сунула их под стол на колени.
Берендей нажал кнопку, заглянула секретарша.
– Надя, организуй нам с Анастасией Сергеевной чаек. И никого не пускай.
– Да спасибо, Никитушка, пойду я. Дел невпроворот…
– Не дури, Сергеевна! На хрен дела! Поговорим.
Больше часа Никита Тарасыч говорил ей непонятно зачем общие слова про то, что им обоим было понятно без всяких слов. Говорил про дачу, про отдых и лечение, про то, что пенсионный отдел ежегодно будет выделять ей путевку в санаторий. Про то, что она, наконец-то, походит по театрам и почитает книжки…
Берендею было очень стыдно говорить ей всё это. По большому счету, утешать могла и должна была она – это было ее выстраданное право, и больше ничье. Но при этом он испытывал почти инстинктивную потребность высказать Анастасии Сергеевне всё доброе, что накопилось у него в душе не только к ней, а и ко всем ветеранам, которые сделали его таким, каким он стал, которые донесли его жизнь до сегодняшнего дня, не замутив и не расплескав…
Когда Попова ушла, Берендей позвонил Чуприне.
– Иван Михайлович, у меня новость.
– Знаю. И не одна.
– А какая вторая? – насторожился Берендей.
– Попсуева готовь на ее место.
Из «Записок» Попсуева
«…как теперь подойти к ней? Похоже, она догадывается о моих отношениях с Таней. Строга, холодна, льдина. Пробовал с шуткой подходить, цветами, стихами, вызвал лишь недоумение. Такое ощущение, что она не от мира сего. Может, и впрямь из другого? А может, для нее этого мира нет?..»
Напоминание о главном в жизни
Прошло две недели. Попсуев сдержанно упивался славой, но та, ради кого он и совершил свой «подвиг», избегала его. Всё это время Сергей, подменяя заболевшего мастера в своей бывшей бригаде, провел еще один цикл измерений. Несмеяну он встречал лишь на диспетчерских и ни разу не поговорил с ней. Он не раз задумывался, что делать ему в этой обычной, но для него необычной ситуации двусмысленности. Когда он думал о Татьяне или был с ней, он непременно вспоминал о Несмеяне, но когда находился рядом с царевной или просто думал о ней, то начисто забывал Таню! Вот и весь сказ, от которого было не по себе.
Как-то в начале ночной смены в конце коридора Попсуев увидел женщину в белом. Светланова шла ему навстречу, остановилась, поздоровалась с ним, а он вдруг взял ее за руку.
– Что-то хотите сказать мне, Сергей Васильевич?
– Нет, просто давно не виделись.
– Да, три дня уже… А у меня вот есть, что сказать. Рекламация поступила. Завтра едем с вами на комбинат. Не помогли, Сергей Васильевич, ваши эксперименты. Прошел брак.
– А куда смотрит ОТК?
– В светлое будущее. Билет на автобус возьмете?
– Чего ж не взять? Места рядом возьму, чтоб локоток ваш ощущать.
– Мы завтра едем, а послезавтра Берендей и остальные. Он передал, чтобы вы домой шли, а за себя Смирнова оставили. Деньги есть?
– Найдутся. – «Целый день одни, в гостиничном раю!» – ликовал Сергей.
* * *
До отправления автобуса оставалось пять минут, а Светлановой всё не было. Сергей направился к остановке троллейбуса, и тут увидел Берендеевские «Жигули». Из машины вышли Никита Тарасыч и Несмеяна.
– Привет! – Берендей протянул руку.
– Привет, Никита Тарасович. А я уж беспокоиться стал, не опоздает ли Несмеяна Павловна.
– Со мной не опоздает, – в добродушно-снисходительном тоне Попсуев уловил хозяйскую нотку в отношении Несмеяны, и это разом остудило и отрезвило его. «Локотка не ощутим», – подумал он.
– Ну, и где же ваш локоток? – первое, что услышал Сергей, как только они уселись на сиденья. – Да не держите руку на весу, устанете.
– Мне не привыкать, – буркнул Попсуев, но Светланова взяла его руку и положила на подлокотник.
– Вот так. Как ощущения?
– Божественные.
Автобус тронулся, и Попсуев не расслышал, о чем его спросила попутчица, но видно ответил впопад, так как Несмеяна улыбнулась. Минут десять Светланова говорила о том, что просил ее передать Попсуеву Берендей, а потом оба, убаюканные ездой, задремали.
Днем были в Чижевске. Их поселили в соседних двухместных номерах, в которых других постояльцев не было. До вечера они знакомились с материалами, подготовленными комбинатом.
– Пора ужинать, – Светланова посмотрела на часы. – Семь часов уже.
– Тут ресторан неплохой. Мы с Берендеем были пару раз.
– Я знаю.
Они заняли столик в глубине зала. Официант расторопно обслужил их. Для начала принес «Плиску», красную рыбку, лимончик.
Глоток коньяка согрел и отрезвил голову. Сергей стал смотреть на Несмеяну ясным взором и соображать, насколько серьезно у нее с Берендеем, и помешает это или нет его ухаживаниям. Не вникая в смысл фраз, он делился своими спортивными воспоминаниями, шутил, был в ударе. Несмеяна, похоже, оттаяла, улыбалась, но Попсуев всё еще чувствовал себя рядом с ней мальчишкой.
– Куда пойдем, Сергей? – неожиданно спросила Светланова.
– Конечно, ко мне! – грубовато бросил Попсуев. – Если ты не против.
– Вот так сразу, к тебе?
– А чего тянуть?
– Действительно, чего? Пошли. У тебя душ хороший? У меня рожок забит.
«Вот и свершилось», – подумал Сергей: – Отличный рожок, как брандспойт.
– Это обнадеживает, – улыбнулась Несмеяна, и ее улыбка показалась Попсуеву обворожительной.
Еще не закрыв дверь, Сергей обнял спутницу.
– Постой, постой, постой! – Несмеяна освободилась из объятий. – Ну и клешни у тебя! Ты чего это, на стометровке? Посиди, подумай.
– О чем думать?
– О куртуазности и галантности. – И Светланова вышла, помахав Попсуеву ручкой, как ребенку. – Пока, пока, пока, мой милый Ланселот!
Увидев хмурого Попсуева утром, Несмеяна посочувствовала ему: – Не выспался? Что ж так, Сергей Васильевич?
– Да думал ночью: что заразно всё, что зовется куртуазно.
Что и говорить, начинался трудовой день, в котором куртуазностью и не пахло. Когда собралась вся комиссия, и с утра до ночи не прекращались споры до хрипоты, о любви не думалось, но и то обстоятельство, что приехавшего Берендея поселили в одноместном номере, а все двухместные «доукомплектовали», наполнило Сергея тоской. Поздно вечером, когда все разошлись по своим комнатам, Попсуев пару раз выскакивал на улицу вроде как освежиться, а на самом деле пройти мимо номера Берендея и услышать несущиеся оттуда душераздирающие звуки чужой любви… Вот только тихо было, тихо, ни звука! Отчаянно ревело всё внутри Сергея.
Из «Записок» Попсуева
«…не успел стать замом, а уже раскатал губу на начальника цеха. Куда рвусь? Накинешь тигровую шкуру, а станешь ли витязем? Да и какой витязь, одна суета. Ходить по цеху в поисках нарушений? Можно и не ходить. На летучке вассалы сами о них расскажут. Чем больше наклепают на других, тем больше премии достанется им. И всё это под ор об общем благе.
* * *
Написал чушь. Всё не так. Это поверхностный взгляд. А на самом деле все заинтересованы работать хорошо и честно, на совесть. Это понимаешь только после нескольких лет работы. «Берендеево царство» самый большой и самый старый цех на заводе, в нем даже запах обрел привкус истории. Не пропитавшись им, не понять, почему для работяг цех милее родного дома. Хочу обратиться к вам, господа балаболы, от имени трудящегося народа. Не воротите нос от запаха производства! Это не запах потребления, который сопутствует всякому разложению. Господи, кому я это и для чего написал?..»
Не каждый день счастье
С Несмеяной Попсуев был на «вы» и неизменно вежлив.
– Только после вас, – сказал он и перед лифтом, столкнувшись с нею в вестибюле заводоуправления. «А что она делает тут? – настороженно подумал Сергей, с досадой на свою ревность. – Хотя, что я? Нас ничто не связывает».
– В лифт первым заходит мужчина, – бросила Светланова, зашла первой и нажала кнопку. Она глядела сквозь Попсуева, когда тот выпустил ее на третьем этаже. «Дура!» – едва не крикнул он ей вслед.
Сергей постоянно ощущал присутствие Несмеяны. Часто казалось, что она стоит у него за спиной и смотрит ему в затылок. Запах ее, свежий как запах арбуза, проник внутрь, наполнил сладкой вожделенной влагой. В ожидании непонятно чего его била дрожь, и он готов был ежесекундно взорваться. Вечером Попсуев решительно услал Татьяну домой, сославшись на нездоровье.
Сергей помнил много цитат и афоризмов. Он с шести лет читал классиков, так как в домашней библиотеке были только подписки, и невольно запоминал всё, что нравилось, волновало или было непонятно. Почему-то больше других легли на душу Шекспир и Мольер, и еще Ростан, пьесу которого «Сирано де Бержерак» он выучил наизусть в восемь лет, после чего и пошел в секцию фехтования. Потом уже, спустя годы, запомнившимся фразам возвращался их первоначальный смысл. Он нет-нет да цитировал их, как правило, к месту.
Попсуев весь следующий день пребывал в возбужденном состоянии, а после работы увязался проводить Несмеяну домой. Настроение у него было паршиво-приподнятое, ему казалось, что он нерешителен, но в то же время нацелен на победу, как клинок в бою. Как нарочно, в небе светила полная луна, и две тени не давали обогнать себя. По пути Сергей сыпал цитатами, пока спутница не осадила его, уже возле своего подъезда, прямо в конусе света: – Вы, Попсуев, достали книгу мудрых мыслей? Помогает, когда мало своих. Пять минут почитаешь, и уже пора девушкам сливать.
– А что еще делать мужчине?
– Мужчине? – Попсуев впервые заметил огонек в ее глазах. Он готов был поклясться: это был огонек ярости. «Задел, наконец-то зацепил тебя, – ликовал Сергей. – Вот где твой черт прячется, в словечках!» И он резко, но не сильно, взял ее за руки и взглянул ей в глаза. От ее ли глаз, от ее ли близости, а может, от своих взметенных чувств, воспринявших спокойствие Несмеяны, как согласие на близость, Попсуев почувствовал в себе восторг и слабость. Сергей дрожал, и ему казалось, что и она дрожит, и вообще от страсти дрожит весь мир. Несмеяна глядела, не моргая, как кошка, ему в глаза, и в них он ничего не видел, только две свои маленькие бестолковые головы. Она не освобождала руки, но и не давала обнять себя. И как хорошо, что никого не было рядом!
– Что же, мужчина, – вздохнула она, так и не переглядев Сергея. – Пойдем. В гостинице вы поторопились. Тетя Лина у тети Шуры гостит. – Она высвободила свои руки, не прилагая усилий, воздушно-небрежным жестом.
Поднимались по лестнице молча, Несмеяна впереди. Попсуев, закрыв дверь, обнял ее в прихожей, но она вывернулась («Какая гибкая и сильная!» – подумал Сергей) и покачала головой: – Опять! Куртуазно поужинаем, я есть хочу.
Попсуев ел рассеянно, без аппетита, не замечая вкуса пищи и вина, будто ему предстоял бой с чемпионом Европы. Несмеяна с насмешкой (так казалось ему) глядела на него. Разговор не клеился. Она включила приемник. Передавали новости: «В ЖКХ большинство добросовестных компаний, но, к сожалению, большинство жителей сталкивается с недобросовестными».
– Наелся? – спросила хозяйка, убирая посуду в раковину. Не спеша, помыла ее, аккуратно расставила в сушке. Она точно нарочно тянула время, видимо, получая от этого тончайшее наслаждение. Вытерла плиту. Потом стол. Пальцем отковыряла приставшую точечку. Подмела крошки. Попсуев молчал. Делал вид, что слушает музыку из приемника, а сам как кот следил за каждым ее движением. Она всё время была на расстоянии вытянутой руки, даже ближе, но он не посмел прикоснуться к ней. – Может, еще чего?
– Спасибо, очень вкусно.
– Садись в кресло, – махнула рукой Несмеяна. – Я сейчас.
Она ушла в ванную. Зашумела вода в бачке, забил громко, потом тише душ, послышался шелест, звякнули баночки. Минут через десять она вышла в халате, застегнутом на все пуговки.
– Теперь ты. Полотенце голубое.
Попсуев принял душ, не чувствуя в себе ни малейшего желания близости. Перед глазами стоял наглухо застегнутый халат. Растерся докрасна махровым полотенцем и, обвязавшись им, вышел из ванной.
Несмеяна возле трюмо легонько вбивала в щеки и в лоб крем.
– Помылся? Воду не расплескал?
– Не расплескал, – ответил Сергей, подходя к ней и не зная, обнять ее или подождать.
– Садись в кресло. Это сюда ранили? – она указала мизинцем на шрам. Поставила баночку на трельяж, сделала к Попсуеву два шага. – Нравлюсь? – спросила она. На этот типично женский вопрос у Попсуева всегда был готов четкий положительно мужской ответ. Но сегодня что-то не складывалось.
– Да, – произнес, наконец, Сергей. – Ты богиня.
– И что? – спросила богиня, подойдя к нему.
Попсуев встал с кресла, обхватил ее руками и так сильно прижал к себе, что она взвизгнула по-бабьи.
– Ты не хочешь себя оставить Татьяне?
Он глядел ей в глаза так, что Несмеяне стало на мгновение жутко.
– Не пойму, ты меня так сильно любишь или ненавидишь?
Попсуев опустил руки, молчал.
– Посиди, подумай, а я пока посмотрю новости. – Несмеяна включила телевизор. – Оденься, прохладно ведь.
Попсуев стал одеваться.
– Оставайся, поздно уже. – Несмеяна постелила простынь на диван, дала одеяло и подушку. – Ты тут, а я там. Не перепутай. – И ушла в спальню.
Уснул Сергей только под утро. Он глядел на круглую луну в окне, и та подсказывала ему: «Иди! Иди в спальню, она ждет!» – но он так и не пошел. Почему не пошел? Ответа на это он искал много лет.
Утром Попсуева разбудили слова: – Выглянь в окно, мусорка не пришла? Вынеси ведро. – Возле машины Попсуев столкнулся с Закировым. Тот не выразил удивления, пожал ему руку и, бросив: – Прохладно что-то, – зашел в подъезд, не дожидаясь, когда Попсуев выскоблит палочкой прилипшую бумажку.
Когда уходили из дома, Несмеяна сказала: – Ты лучше, чем я думала. – Поцеловала Сергея в щечку и пальчиком стерла след от губной помады. Она тоже не спала всю ночь.
* * *
На работе Сергей и Несмеяна виделись только на диспетчерских; и, надо отдать должное Закирову, никто в цехе не узнал об их «как бы» романе. День, другой, третий – ни разу не перекинулись словом, будто не о чем было говорить, и не мучила обоих бессонница. Татьяны Сергей избегал, сославшись на неотложность задания. Утром в пятницу Попсуев едва не уснул на совещании. Уронив голову, встрепенулся, на него насмешливо смотрела Несмеяна. Вконец измотанный, он подсел к ней в столовке, тускло взглянул на нее, увидел всё ту же насмешку в ее глазах: – Как теть Лина? Всё еще у теть Шуры?
– У теть Шуры.
– Встретимся?
– А мы разве расставались? – прикоснулась она к его руке.
За ужином Несмеяна сказала: – Знаешь, что мне больше всего хочется? Невестой побыть, в фате, и чтоб не совестно было при этом.
– Ты что, девушка?.. А как же…
– Сплетни обо мне? Так они и есть сплетни. Доброе всегда в сплетнях. Поживи на диване месяц. Выдержишь, в ЗАГС поведешь. Нет – нет.
Ничего не ответил Попсуев. Покорно остался. И вновь в окне светила провокатор луна, и вновь не давала спать своими коварными речами.
Цена искренности
В субботу Попсуев проснулся часов в девять, Несмеяна возилась на кухне. Шкварчало что-то на сковородке, пахло ванилью. От постоянного недосыпа Сергей был слаб и разбит, как после болезни.
– Умывайся скорей! – крикнула Несмеяна. – Сырники готовы.
После сырников она отправила Попсуева в общежитие.
– Давай, давай, кабальеро, теть Лина сейчас заедет. Не хочу объясняться. Тетушка понимает всё чересчур прямолинейно. В понедельник она уйдет.
* * *
В общежитии Попсуев, не раздеваясь, упал на кровать и тут же уснул. Вскоре пришла Татьяна с сумкой продуктов, скинула пальтецо, присела к нему на кровать и залезла под рубашку холодными ладошками.
– Замерзла! – прижалась она к нему. – Ты чего три дня не заходил?
Сергей инстинктивно оттолкнул ее от себя и раздраженно бросил:
– Танюха, давай прервем на время наши сношения, а?
У Татьяны на глаза навернулись слезы. Попсуев захотел сгладить грубость, обнял девушку, но она вырвалась, подхватила пальто и выскочила из комнаты.
* * *
В воскресенье Попсуев проспал весь день, а в понедельник после диспетчерской хотел договориться с Несмеяной на вечер. Та о чем-то разговаривала со Свияжским. Сергей вышел в коридор. Там его поджидала Татьяна. Она сразу же направилась к нему.
– Сергей, у меня к тебе разговор.
– Извини, я занят, – оглянулся Попсуев. Из кабинета вышла Несмеяна. Сергей подался было к ней, но она прошла мимо него, как мимо пустого места. Татьяна, как показалось Попсуеву, с ненавистью посмотрела ей вслед.
– О чем ты хотела поговорить? – спросил он.
– Ни о чем! – бросила девушка, развернулась и ушла.
Попсуев пошел следом на участок. Мыслей не было никаких, и к легкому шуму в голове прибавился шум цеха.
– Ну и как? – крикнул Закиров, столкнувшись с Попсуевым в центральном проходе.
– Что? – переспросил Сергей.
– Не фригидная?
– Что? – Попсуев даже не поверил, что услышал именно эти слова.
Закиров махнул рукой и пошел дальше. А Сергей вдруг почувствовал из-за неопределенности грядущих часов злость на самого себя. С Несмеяной было всё ясно, она держит марку, а вот с Танькой надо объясниться. Он свернул в ОТК и в дверях столкнулся со Светлановой и двумя контролерами.
– Вы ко мне? – спросила она.
– Да. Нет.
– Так да или нет? – насмешливо посмотрела она на него. Контролеры прыснули со смеха. – Подождите меня там, через пятнадцать минут приду, – сказала она им. – Поднимемся ко мне?
Попсуев кивнул. В этот момент из комнаты ОТК вышла Татьяна. Ее взгляд буквально впился в них обоих. «Это всё», – решил Попсуев, развел руками в стороны и с чувством облегчения поспешил за ушедшей вперед Светлановой. В кабинете Несмеяна, не садясь за стол, спросила, глядя Попсуеву в глаза:
– Что, парниша, оставил себя еще и на Татьяну? Хо-хо?
Сергей сделал к ней шаг, но она упредила его порыв:
– Не подходи. Разберись-ка в своих чувствах.
Тут в кабинет зашел Берендей.
– Несь, я забыл… А, Попсуев…
– Значит, подумаете над моим предложением? – обратилась к Попсуеву Несмеяна, а затем к Берендею: – Слушаю вас, Никита Тарасыч.
Сергей с горящими щеками вышел. Он вновь спустился в цех и вновь встретил в центральном проходе Закирова. Тот опять что-то прокричал ему, но он не расслышал и отмахнулся. Ему стало вдруг всё равно, что о нем думают другие, что о них с Несмеяной думают другие, что думает о них и о нем Татьяна. Ему было не всё равно, что думает о нем и об их отношениях сама Несмеяна. Он понял, что, не прояснив всё, к прежним отношениям с царевной не вернуться. Попсуев направился в комнату ОТК. Поздоровался со всеми, подошел к Татьяне: – Тань, выйди. – И вышел сам. Татьяна следом.
Они отошли в сторонку к подоконнику, и там Попсуев в бледном свете из окна разглядел бледное осунувшееся лицо девушки. На нем не было макияжа, и оттого оно казалось детским. Сергею стало вдруг безмерно жаль Таню, и он почувствовал страшное раскаяние за нанесенную ей боль. И в то же время злился на ее привязанность к нему.
– Прости, – сказал он ей.
– За что? – подняла Таня на него глаза, и он не выдержал ее взгляда.
В этот момент, как нарочно, появилась и Светланова.
– Да что же это такое! – вырвалось у Татьяны. Она даже ударила себя рукой по ноге.
– Воркуете? – бросила Несмеяна, заходя в комнату.
– Таня, прости, – повторил Попсуев, но уже не так искренне, как до этого.
– Да не за что мне прощать тебя, – вздохнула та и ушла к себе.
– Не за что, так не за что, – пробормотал Сергей, чувствуя себя подлецом.
Мятущийся да успокоится
Вечером Попсуев два раза направлялся к Несмеяне и оба раза возвращался. В третий раз возвращаться не стал. Шел одиннадцатый час. «Надо идти в ногу со временем. Лишь бы не было тети Лины». Дверь открылась. Несмеяна была босиком в ночной рубашке.
– Ты одна?
– Нет, с Горби. Заходи. Теть Лина захворала, осталась у теть Шуры.
Сергей зашел.
– Холод от тебя, – поежилась Несмеяна. – Чай будешь?
– Буду.
Она надела халат, влезла в тапки и прошла на кухню.
– Просто заглянул или не просто?
– Я бы не хотел сложностей.
– И как же ты это хочешь совмещать?
– Что?
– Кого. Меня и Татьяну.
– С чего ты взяла, что я с ней встречаюсь? – зло спросил Попсуев.
– Брось, – устало сказала она. – Об этом разве что песни не поют.
– Да я с ней месяц уже не встречался! – воскликнул Сергей.
– Соскучился?
– Не будем, а?
– Тебе с медом? И еще… Или с вареньем? Переступая порог этого дома, ты должен меня слушаться во всём. И не врать.
– Слушаться?
– Да, ты должен покоряться мне во всём, – тихо произнесла Несмеяна. – Если ты, конечно, мужчина, а не самец. Если ты рыцарь, а не оруженосец.
– Не понял.
– Понятно, что не понял. Знаешь, чем отличается рыцарь от оруженосца?
Попсуеву стало тоскливо, и он вспомнил бледное лицо Тани у окна.
– Рыцарь несет оружие, а оруженосец носит.
– Да? – Сергей не уловил разницы, но почувствовал истинность ее слов.
– Да! – Впервые Несмеяна произнесла хоть одно слово в запальчивости. Попсуев залюбовался ею, она будто только что нанесла саблей неотразимый удар.
– Нести, носить, не понимаю, – сказал он. – Какая разница?
– Не лукавь, всё ты понял! Ты должен покоряться мне во всём. Даже в том, с чем не согласен. Тогда нас могут связать более высокие отношения, чем твои с… другими. – Сколько пренебрежения в этом слове!
– Покоряться, это как? – тихо спросил Попсуев.
– Принадлежать только мне.
– Прости, – сказал Попсуев, у него голова шла кругом. Сергею показалось вдруг, что Несмеяна воспринимает его как механического болванчика, заведенного на единственное возвратно-поступательное движение мужского поршня и на одно слово «прости». На лице Несмеяны он увидел то, чего больше всего боялся увидеть: снисходительность. – Прости, я не могу себе этого позволить. – Он вышел в прихожую и стал надевать туфли.
Попсуев на минуту дольше, чем следовало, ждал, когда она выйдет проводить его. Не вышла. Сергей тихо прикрыл за собой дверь. «Рыцарь – откуда это у нее?» Он тоже в детстве читал про всяких Квентин Дорвардов, фильмы смотрел, но никогда не любил их. «Им всем далеко до Сирано! И вообще мне по душе больше оруженосцы. Почему? Да черт их знает почему!» Он изо всех сил пнул какой-то сучок, тот с треском врезался в стену дома.
Мысли о Несмеяне не отпускали его. Ее лицо стояло перед глазами, и с него не сходило снисходительное выражение. «Я хочу принадлежать только тебе, – говорил ей Попсуев. – Я и принадлежу только тебе, но не хочу, чтобы ты требовала это!» «Почему я не сказал ей об этом? Вернуться и сказать?» Он уже подходил к общежитию. Остановился и еще раз задал себе этот вопрос. Попытался представить, как Несмеяна отреагирует на него. «Ползти с извинениями, нет. Другие пусть ползут». Он не привык подчиняться женщинам, тем более покоряться им. «Это ненормально. Но ответ-то надо дать!»
Сергей развернулся и, ускоряя шаг, пошел к ее дому. В освещенном окне стояла Несмеяна. «Приворожила, проклятая», – подумал он, заходя в подъезд. Его, возбужденного до предела и одновременно подавленного, встретила приоткрытая дверь, тоненькая полоска света. И сразу же стала ясна разница между словами «несет» и «носит»: курица яйца несет, а петух носит.
* * *
Несмеяна поговорила со своими тетками, объяснила им изменения в личной жизни, заверила, что через три недели будет свадьба, и тетя Лина перебралась к тете Шуре. А Попсуев перетащил из общежития свои вещи к Несмеяне, чемодан с одеждой и несколько коробок книг.
Они по-прежнему спали врозь. Несмеяна перед сном подходила к нему и садилась на диван. У Сергея в эту минуту голова шла кругом. Думая, что она испытывает его, он не решался даже взять ее за руку. Она, как когда-то матушка, гладила его по голове, целовала в лоб и шла в спальню. В спальню Попсуев не зашел ни разу.
На работе вскоре узнали об их «сожительстве», несколько дней шушукались за ее спиной, подначивали его, а потом и это надоело всем. У женщин даже быстрее, чем у мужчин. Жизнь перемолола и эти куски судеб. Одна лишь Татьяна, казалось, не отреагировала на цеховой роман, будто ее это вовсе не касалось.
Из «Записок» Попсуева
«…едва успели на электричку. В магазине купили две бутылки ацидофильного молока, а тетя Лина напекла пирожков. Народ ехал готовить дачи к летнему сезону. Уже месяц назад с парковых дорожек стали исчезать ночами плитка и поребрик, а с лавочек рейки и даже болты с гайками.
Сели у окна. Пирожки пошли за милую душу. Несмеяна рассказала, что тетушка до слез обожает Стефана Цвейга, что ей на день рождения обычно дарят новый фартук и томик Цвейга, и что квартира ее. Специально сказала?
На участке Поповых увидели Анастасию Сергеевну. Не хватало только Татьяны. Вспомнил, как она всё спрашивала меня, почему в Сибирь приехал. «Да вот вслед за бароном Мюнхгаузеном» – ответил я. «А, как барон, значит, понятно». Остановились возле калитки. По участку бродили куры, рылись в земле, разгребали прошлогодние листья.
– Лист надо собирать, да всё недосуг. Кур сдуру в том году завела, – стала рассказывать хозяйка. – Мороки с ними, а еще больше с петухом. Бароном назвала, Танька посоветовала. – Она облизнула губы и очень выразительно посмотрела на меня: – Они у меня все по именам: Петрушка, Клуня, Лисичка… Как родные. А Барон наглец, к курам не подпускал, на ноги наскакивал, угрожал.
– А зимой им не холодно? – спросила Несмеяна.
– Да нет, зимовали они в городе. В теплом гараже. Всю зиму покоя не было. Ночью вскочишь и бежишь проверять, не дует ли им. Как-то курочку подсадила им другой породы. Так они ее, иностранку, клевать стали. Как приду, она, словно кошка, вокруг ног кружит и кружит. А петуху она приглянулась. Новенькая, чего ты хочешь! – Анастасия Сергеевна снова взглянула на меня и облизнула губы. – Так он, паразит, отбивать ее у меня стал. Наскочит, клюнет, наскочит, клюнет. Пришлось поменять на другого петушка.
– А это, значит, не Барон? – откашлялся я.
– Другой, но тоже Бароном зову. Петухи они ж все одинаковые.
– Все Бароны, – согласилась Несмеяна. – Яйца не несут.
– Носят, – уточнил я.
Несмеяна расхохоталась, Попова с удивлением взглянула на нее.
– Пошли мы, Анастасия Сергеевна. Дел много разных.
– Ступайте. Бог в помощь.
Но мы прошли мимо дома Несмеяны до леса, углубляться не стали, боясь клещей, а побродили по тропинкам, где не было сухой травы. От свежего воздуха заболела голова. На участке дел было много, но ничего не делали. Сидели, разговаривали, наслаждались погожим деньком. В пять часов пошли на электричку. Поднялись на мост. Остановились посреди реки, полюбовались видом. На мгновение мне показалось, что всё это мираж. Но мираж вечный.
– Мы тут, а вокруг вечность, – произнесла Несмеяна и поежилась.
– Еще бы на электричку успеть, от вечности десять минут осталось.
– А мы бегом! Кто быстрей?
Мы припустили в горку. Несмеяна отстала, и я протянул ей руку:
– Обопритесь, женщина. Мужчина в гору заходит первый…»
Размолвка
Повздорили на ровном месте. В субботу Попсуев с утра стал рассуждать о сущности жизни. Сергей задумался об этом с прошлого четверга, когда вспомнил о Тане и о радости, которую дарила ему «пончик» в своих объятиях.
Мало того, вдруг вспомнил, как пришел к Катьке Петровой из соседнего подъезда пригласить ее на свой восьмой день рождения. Дома девочка была одна. Закрыв дверь, она деловито сняла трусики, приказала и ему сделать то же самое, после чего объяснила, что делать. Он не помнил, что делал, помнил лишь свой стыд после этого, а Катька похлопала по кровати и сказала: «Вот, а то папка с мамкой скрипят тут каждую ночь, а мне говорят: рано. А чего рано? Мне самое то. А тебе?»
Внезапно Сергея пронзила мысль, что с тех пор в нем и живет кто-то другой.
* * *
Стоит мужчине заговорить о сущности жизни, женщина тут же сведет ее к пыли на полках и старым вещам, которые давно пора было выкинуть на свалку. И это так: выкинь хлам из памяти, сотри пыль с глаз – очистишь жизнь. Несмеяна, не дослушав Сергея, попросила прибрать в квартире, пока она готовит обед. Он прибрал, но лучше бы не делал этого. Всё оказалось расставленным по другим местам, и хозяйка долго не могла найти одежную щетку.
– Куда ты ее дел? – в раздражении спрашивала она, соображая, куда же он мог ее сунуть. Сергей пару дней назад озорно поглядывал на Татьяну, в упор, словно раздевал ее! Досада не ушла до сих пор, Несмеяна физически ощущала ее.
– Съел. Вон она, на полке.
– Что она делает на книжной полке?
– Читает.
– Тебе всё хаханьки! – сорвалась она. – Ничего поручить нельзя!
Попсуев (она поняла это) с трудом удержался от грубого слова. После этого он весь день молчал, дулся, глядел в книги, но, судя по всему, не читал, а что-то соображал. Пообедали молча.
– В кино пойдем?
Он пожал плечами и ничего не ответил.
– Может, к Закировым заглянуть? – через полчаса спросила Несмеяна.
Попсуев и тут ничего не ответил. Ей уже хотелось скандала, крика, чего угодно, но не этого ледяного безмолвия. На миг ее пронзила догадка: «А ведь это я его заморозила!» – но всего лишь на миг, суета в мыслях вновь увела в суету дел.
– Тогда пошли в кафе! – скомандовала Несмеяна. – Выпить хочу, коньяку!
Коньяк пах клопами.
– Пять звездочек, – сказал Сергей. – Чего носятся с ним?
На эстраду поднялись музыканты во главе с гривастым саксофонистом.
– Знаешь его?
– Да кто ж его не знает?
– Давно?
– С детства.
Оркестр исполнил попурри, а потом музыканты положили свои инструменты и сели за столик. На эстраде остался один пианист, заиграл вальс. Гривастый подошел к их столику и обратился к Попсуеву: – Вы позволите на танец вашу даму?
Несмеяна с улыбкой подала ему руку, и они закружились в вальсе. После танца саксофонист вернул партнершу Попсуеву и поцеловал ей руку.
– Скажешь, не знакома с ним?
– Я говорила, что знаю его с детства. Он был учителем музыки в школе.
Однако вечер был окончательно испорчен. Дома Попсуев сел на диван, помолчал, а потом спросил: – Интересно, сколько ты еще будешь мучить меня?
Несмеяна улыбнулась, своей улыбкой уязвив Сергея. В сказках пишут что угодно, даже то, что Царевну-несмеяну можно рассмешить, а потом жениться на ней. А вот в жизни – черта с два! Не то, что рассмешить, подвигнуть на улыбку нельзя. А улыбнется, так лучше и не надо! «У нее такое устройство лица, – рассуждал Попсуев. – Как у кошки. Кошки не улыбаются». Он вспомнил японский фильм, в котором изнасилованные и убитые самураями девушки превратились в кошек и потом встречали на глухой тропе в женском обличье своих обидчиков, завлекали их в свое жилище, и когда самураи начинали раздевать их, вгрызались им в глотку. Попсуев представил, как Несмеяна вгрызается ему в глотку, но ужаса не почувствовал, а одно лишь наслаждение. «Вот так начинается мазохизм, – подумал он. – Сколько терпеть? Сейчас обниму, не вырвется…»
– Я? мучаю? тебя? – задала Несмеяна извилистый змеиный вопрос, не требовавший ответа. Опять разделалась с ним, как с мальчишкой! После этого не то что любить, а и крыть нечем. Сергей почувствовал в себе дикую ярость, охватившую его, как порыв ветра. Он подскочил с дивана.
– Да! ты! мучаешь! меня! сколько! можно! – отбил слова Попсуев и кулаком пробил дверцу шкафа насквозь. – Сука! это! я! не тебе!
От удара лопнула кожа на пальцах. Сергей сунул руку под воду. Несмеяна, морщась, обработала ему рану и перевязала руку.
– Ну и дурак же ты, Попсуев! Ей-богу, сумасшедший дурак. Как можно с тобой общаться? Да еще замуж за тебя идти…
Попсуев ничего не ответил, лег и отвернулся к стене. Несмеяна чувствовала, что Сергей внутри себя ведет очень напряженный диалог с нею, но так и не услышала от него за два часа ни единого слова. Наконец ей надоело быть глухой в собственном доме.
– Ну, что ты набычился, как дитя? Хочешь побыть один, побудь! – вырвалось у нее, и она тут же пожалела об этом.
Попсуев чересчур поспешно оделся и ушел, буркнув: – Пока. Я в общагу.
На севере, на морозе шелестит дыхание. Точно так же шелестят ледяные слова, бросаемые при расставании: после них настает север. Несмеяна встала у окна, но Сергей наверх не взглянул…
* * *
…Попсуев уходил всё дальше и дальше по тропе. Прямо, прямо… Все, кто провожал его, растаяли в тумане. И вот он остался один. Но впереди слышались чьи-то шаги и голоса, справа и слева в кустах и под деревьями звучал смех… То ли курили сигареты, то ли догорал костер, – в полусумраке тлели огоньки. Ветерок освежил Сергею лоб, пошевелил волосы на голове. Комар сел на шею, но он не почувствовал укуса, хотя непостижимым образом видел откуда-то сверху, как комар сел ему на шею и пьет из него кровь. Он прихлопнул комара, посмотрел на руку – нет, следа крови не было, да и сама рука была бледной, даже какой-то неестественно-бледной в неверном свете луны.
– Сергей! – услышал он, вздрогнув от неожиданности. Он ожидал окрика или еще чего-нибудь в этом роде, но никак не того, что его окликнут по имени.
Попсуев остановился. К нему кто-то приближался из зарослей. Вышла женщина.
– Здравствуй, Сереженька. – Она молчала, но он услышал эти слова. От них страшно заколотилось сердце.
– Мама… – прошептал он пересохшими губами.
Открыл глаза – стена, батарея, полотенце на ней. Уже было светло. Зачесалась шея, он почесал это место, глянул на руку. На пальцах была кровь…
* * *
Неделя прошла, как повздорили. Желание увидеться с Несмеяной стало болезненно острым. Даже мысль о ней причиняла Попсуеву физическую боль. Все эти дни сдерживаемая в нем агрессивность просилась наружу, но ее не на кого было выплеснуть. «Надо выпить, – решил Сергей, – а то башка лопнет». Выпил, позвонил Татьяне и пригласил ее к себе. А когда уже пригласил, подумал оторопело: «А ведь Несмеяне не я нужен и моя страсть, ей нужно то, что я не смогу дать ей, ей нужна любовь…»
Змеиный шорох беды
В воскресенье Сергей не пришел, не позвонил, а потом всю неделю избегал Несмеяны на работе. Спать Попсуев ходил в общежитие. Несмеяна решила, что он придет в пятницу вечером, так как на утренней диспетчерской они перекинулись парой ничего не значащих фраз и даже соприкоснулись руками, и она не ощутила в нем того льда, от которого всё вдруг застыло в прошлую субботу. Она запекла утку с яблоками, поставила на стол бутылку «Котнари». Ждала до одиннадцати часов. Сергей не пришел.
Ночь прошла тревожно. Почему-то всю ночь она ждала звонка. Даже не в дверь, а по телефону. Ожидание дрожало в ней, как паутина, в которой она запуталась, словно муха. Еще не прозвенел звонок, Несмеяна знала, что он прозвенит. Еще ничего не произнес глуховатый голос, она знала, что произнесет. Еще никуда сама не пошла, она знала, куда пойдет. Она знала, что это произойдет, знала до того, как это произошло. Звонку предшествовал какой-то змеиный шорох беды и мысль: «Всё как-то не так».
Несмеяна проснулась и подумала о том, что вчера не закрыла свой кабинет. После обеда была конференция в ДК, и она оттуда направилась домой. Но должны были закрыть. А и не закрыли, ничего страшного, всё в сейфе. Звонок прозвенел неожиданно. Кто-то, не представившись, вызвал ее в заводское общежитие. «Господи, в субботу поспать не дадут», – проворчала Светланова, поглядев на часы, на которых стрелка только-только приблизилась к семи, но не спросила, в чем дело, и даже не поняла, мужской был голос или женский, глумливый какой-то, недобрый. Вроде знакомый, но чужой. И зачем идти тоже не сказал.
Волнуясь, она поспешила в общежитие, даже не подумав о том, что ее кто-то разыгрывает или вообще ошиблись номером. Она не хотела думать о какой-нибудь беде с Сергеем, гнала из себя эту мысль, но та вертелась, как паршивая собачонка! Что-то случилось с кем-нибудь из ее девчат? Мосиной или Завирахиной? Эти вечно учудят. Когда Несмеяна подходила к общежитию, ей стало казаться, что звонок и голос ей приснились. Но было уже поздно, всё равно пришла. «Сейчас зайду, меня спросят: «Вы к кому?» «К Попсуеву». Да, конечно же к нему! Что с ним?» – Сердце сжалось в предчувствии неминуемой, уже свершившейся беды. – «Он вроде как был вчера здоров. И глядел по-доброму, не колюче и не угрюмо…» Чтобы не думать непонятно о чем, она глядела во все глаза перед собой, но ничего не видела, расплывалась дверь, лестница.
– Я в четыреста двадцатую, к Попсуеву.
Светланову пропустили, не спросив паспорта. «Почему, – подумала Несмеяна, – не спросили? Всегда спрашивают и записывают. А, это вечером, утром не надо», – успокоила она себя. Бегом поднялась на четвертый этаж, чувствуя на себе чей-то взгляд, подошла к 420-й комнате, хотела уже постучать, как седьмым чувством поняла, что дверь не закрыта. Предчувствуя недоброе, Несмеяна справилась с дыханием, громко кашлянула и зашла.
Глазам ее предстали два голых тела на узкой кровати, не прикрытые ничем. Сергей лежал у стены на спине, женщина, обняв его и положив на него ногу, на боку. Эти голые тела, насытившиеся и уставшие за ночь, были погружены в такой сладкий сон, что никак не отреагировали на шум. Даже не пошевелились.
Светланова долго смотрела на них, тупо и без интереса, как на куриное мясо на прилавке. Тюкала в виски кровь и вертелась мысль: «Сколько белого мяса… одно мясо… словно неживое… лучше бы они умерли… или я… всё равно». Она впервые испробовала на вкус слово «оторопь», оно оказалось совершенно пресным, вымоченная курятина, да еще с душком, вот только давило, ах, как давило на сердце! И так было тяжело от собственной незащищенности перед голой, неожиданной, наглой агрессией!
Потом уже увидела одежду, разбросанную по полу и стульям, пустые бутылки из-под вина, огрызок яблока, распотрошенную пачку печенья. «Предал, предал… Вот она, голая правда. Как противно!» Она вышла, потом зашла вновь. Не глядя на лежащие сбоку тела, – ее не интересовало, разбудила она их или нет – они для нее были мертвы, хуже, чем мертвы, они для нее были кусками куриного мяса на прилавке! – подошла к столу и на листе бумаги размашисто написала: «одобряю выбор, проваливай навсегда».
Пришла домой, собрала вещи и книги Попсуева, затолкала их в чемодан и коробки, коробок не хватило, сделала несколько связок и выставила на площадку. На это ушел час, и всё это она проделала на автомате, как оглохшая. Всё замерло в ней – чувства, мысли, слова. Бросилось в глаза разве то, что вещей было совсем мало, один чемодан, а книг куда больше. Бросилось и бросилось, бумажная душа, бумажный червь! Это теперь не имело к ней никакого отношения.
Потом сидела на диване и прислушивалась к звукам. Вдруг появилось много звуков, таких, на которые она никогда не обращала внимания. Доносился разговор со двора, явственный, будто из соседней комнаты, с причмокиванием хлопала дверь в соседнем подъезде, а в своем с лязгом, слышались шаги, вверх, вверх, по площадке и выше, это из 40-й квартиры, а эти из 42-й. Слышно было, как открываются и закрываются двери троллейбуса на остановке через два дома…
Ей стало казаться, что она слышит мысли жильцов дома, и все они были ужасно гадкие и пошлые! Она вся дрожала от возбуждения и усталости. Ей хотелось уснуть, исчезнуть, взорвать всё, и ничего не хотелось, ничего! Она забылась и очнулась только вечером. За дверью слышался шум, голоса, но она старалась не «слышать» их, и не глянула даже в глазок.
Спала она ужасно. Ей снились выставленные на площадку вещи Сергея, они били в дверь и кричали: «Мы никому не нужны! Верни нас обратно! Навсегда!»; белый женский зад, круглый, как глобус; казан, в котором шевелились, словно раки, мысли людей, и от них шел смрад и жирный желтый пар…
Утром вещей на площадке не оказалось. Зато сердце билось громко, точно ломилось в навеки закрытую дверь. На полу валялась ее записка. На слове «навсегда» каблук оставил четкий отпечаток, печать расставания.
* * *
В понедельник Попсуев на работу не вышел, не вышел и во вторник. Оказывается (рассказал в среду Берендей), он нагрянул к нему в воскресенье домой, весь на взводе, взлохмаченный, и стал требовать очередной отпуск с понедельника. Берендей пробовал отложить дела на завтра, но Попсуеву как вожжа под хвост: – Не отпустишь, кричит, уволюсь, к чертовой матери. Первый раз его невменяемым увидел. Я ему: куда ты, еще снег лежит. А он: тебе же лучше, вместо лета весной иду. Подписал, чего делать.
– А куда уехал? – больше для проформы спросила Несмеяна. Они собирались провести отпуск в Прибалтике.
– Не сказал.
С Татьяной Несмеяна с тех пор не разговаривала, но и не третировала – не в ее было правилах. Да и Танька была как побитая собачонка. Похоже, Сергей бросил и ее. «Мужик центр Вселенной», – вспомнила она его слова. «Скатертью дорога, Коперник, скитайся там». Но что б ни предпринимала Несмеяна, не могла избавиться от картины субботнего утра и чувствовала не боль, а отвращение. Отвращение оттого, что сильное чувство, которое овладело ими обоими, и святые отношения, связавшие, казалось, их навсегда, оказались слабее сиюминутного желания.
Из «Записок» Попсуева
«…я скотина. На мгновение разрешил другому вмешаться в мои мысли, как тут же воображение нарисовало Танины прелести… Меня трясло от предвкушения близости, ожидание оглушило меня. Позвонил пончику, и через семь минут она влетела в комнату. Я забыл всё. Это был не я, это был другой. Куда делись мои высокие мысли и принципы? Куда я дел Несмеяну? А когда всё закончилось, и я пришел в себя, увидел скабрезную ухмылку другого и понял, что надо начинать новую жизнь, в которой не будет больше высоких мыслей и Несмеяны. Лицемер! При чем тут другой? Виноват один лишь я…»
Всё делать с радостью
– Это ужасно, – призналась Несмеяна тетушке, – как враз рушится впечатление о человеке. Был до этого понятным, родным, и вдруг всё рухнуло. И ничего от прежнего не осталось. Но он тот же, ничего в нем не изменилось, изменились НАШИ отношения, хотя их еще и не было.
Время стало никаким. Аморфный день, потерявший глубину и долготу. Скучные неурядицы. Пошлые разговоры. Давка в автобусе. Дома пусто и неуютно. Хорошо есть балкон, на который можно выйти, укутавшись в шаль, и, опершись о перила, смотреть на огни машин и сигарет, прислушиваться к разноголосице улицы, вдыхать хоть и городской, но всё же свежий воздух… Как-то быстро наступила весна.
Что делать, она не знала. Проклятые вопросы не требуют ответов, хотя с чьей-то легкой руки покатилось: «Если б знал, что делать, моя фамилия была бы Чернышевский». Об одном она стала жалеть: что в то субботнее утро не сбросила их с кровати, пинками не выгнала в коридор – вот была бы картина! У нее не укладывалось в голове, что Сергей, как джигит с рынка, скачет по койкам. Забыл, что все бабы одинаковы? «И я хороша! Устроила парню пытку».
* * *
В гастрономе подошла жена Свияжского. Простодушно кругля глаза, спросила: – Правда, что Сергей Васильевич просил у вас прощения на коленях?
– А вам-то что? – отрезала Несмеяна.
«Надо развеяться, – решила она и подала заявление на очередной отпуск. – Махну в Прибалтику. Народу там сейчас нет. Подышу, сапоги куплю, ликер попью. К Ильзе зайду. Козлика подцеплю, с бородкой, в твидовом пиджачке, с простатой, чтоб только о живописи говорить…»
Отпуск Чугунов подписал, хотя и без особых восторгов. Прошел день, и уже ничего не хотелось! Ни Прибалтики, ни ликера, ни козлика с простатой. Она сдала билет и вышла на работу. И дни покатились, круглые и ровные, как колобки, и, как колобки, обреченные на конец.
* * *
Как-то вечером встретила Берендея возле подъезда. Ей показалось, что он ее специально поджидал. И вид у него был праздничный. Они поздоровались, хотя днем встречались не один раз. Поздоровались и улыбнулись друг другу, тепло, по-молодому, как улыбались бог весть когда. Уже и забылось.
– Дел нет? – спросил Берендей. – Пригласишь?
– Пошли. – Несмеяна прошла в подъезд. – А чем мне заниматься? Телик погляжу, спать лягу в десять часов. Хоть высплюсь. Не могу отоспаться, кутерьма каждый день.
– Брось, кутерьма. Как он, не звонил?
– Нет. – Она почувствовала боль в груди. – А о чем? И так всё ясно.
Берендей вытащил из кармана бутылку коньяка.
– А ведь у нас с тобой сегодня, Неська, юбилей, десять лет как дружим.
Несмеяна накрыла стол. Посидели, поговорили, послушали щемящие итальянские песни, под которые она, не сдержавшись, расплакалась. А потом проводила Никиту, поцеловав его в щечку, и уснула, как убитая.
На следующий день Светланова с легким сердцем подала заявление об уходе («без отработки»), и Чугунов с радостью подписал его.
Из «Записок» Попсуева
«…на заводе начались перемены. Выбирают заводское и цеховое начальство. Митинги, собрания, компании, трибунная и подковёрная возня. Перестали работать и лишь болтают о том, как надо работать. Лучшие выборы, когда нет выбора. Но и когда кандидатов семнадцать, выбора тоже нет. Определи в толпе, кто технарь, кто бездарь. Выход один: балаболы обещают – их и выбирают. Чтобы не отвлекали от дел и не вносили сумятицу в умы.
Марксизм вновь обращается в призрак, секретари парткома, как сто лет назад, ищут его в курилках и рюмочных. Комсомольские вожачки и «конторские дети» обличают старое и предлагают новое. Девяносто девять процентов граждан, развесив уши, смотрят, как один процент выворачивает им карманы.
Заводскую глыбу балаболы раскололи на куски и кусочки, и вместо единого организма образовалась кунсткамера органов. Орава кандидатов притязает на должности, которые станут для них могильным камнем.
У Берендея, единственного из цеховых начальников нет соперников. В цехе еще достает мозгов, чтобы не искать ему замену. «Теперь я понимаю, почему в России то и дело возникает бардак», – сказал на диспетчерской Берендей.
* * *
…продолжаю тему через месяц. В партком, завком и выше стали поступать подметные письма «трудящихся», возмущенных моральным обликом директора завода. Графолог определил бы, что все они написаны одним почерком, Пошла волна разбирательств и разоблачений. Разбирали те, кто разоблачал. Когда набрали папку «компромата», на конференции директору поставили в вину авторитарность и злоупотребление служебным положением. Участники сборища словно взбеленились, многие были пьяны. Будь семнадцатый год, шлепнули бы Чуприну прямо на трибуне…
* * *
…Иван Михайлович предусмотрительно выпустил несколько приказов о вознаграждении работников основных цехов из своего премиального фонда. На премиальные я купил по дешевке у алкаша дачу в «Машиностроителе», навел Валентин Смирнов (его дача через два участка от моей). А еще нежданно-негаданно (как я узнал, впервые в истории завода) мне, одинокому молодому специалисту, выделили квартиру из директорского фонда, двухкомнатную, что вообще фантастика. Пели, пили и плясали двадцать человек до полуночи…»
Сели в лужу
Переизбрание директора прошло в атмосфере далекой от единодушия, хотя собрание было идеально подготовлено сторонниками переизбрания.
Чуприна поначалу собирался дать «новым» отпор, но в какой-то момент решил не противостоять дурной людской стихии. Какой смысл? Эту стихию уже не направить на что-то созидательное и действительно новое. Она должна сначала снести всё старое. «Гришка Мелехов понял это в двадцать лет, а уж мне-то, в шестьдесят семь сам Бог велит. Твой век, Ваня, прошел. Другой наступает, дурной и кровавый. В нем не будет жалости».
* * *
Директор сидел за столом и выслушивал обвинения в свой адрес, произносимые партийно-механическими и возбужденно-комсомольскими голосами. «Трусят, – думал он. – Ни одного мужика нет. Даже мысли не могут сформулировать. Да и откуда в них мысли? Неужто им передавать завод? И голландских коров забьют, а то и голодом заморят». Чуприна вдруг вспомнил, как пять лет назад был под Воронежем и там, в совхозном коровнике увидел коров истощенных до такой степени, что их ставили на специальные подпорки, чтобы выдоить, верее – выдавить из них литр молока.
На директора с трибуны поглядывали с опаской, близко к столу не подходили, а «тезисы» отдавали в президиум, обходя стол кругом. Каждый раз Чуприна провожал очередного «отдуплившегося» оратора насмешливым взглядом.
Обычно Чуприна напоминал напруженного льва перед прыжком, даже когда доброжелательно выслушивал чью-то аргументацию. Большая его голова, казалось, жила отдельно от его рук: руки могли что-то перелистывать, писать, жестикулировать, а в голове шел непрерывный мыслительный процесс, который планировал дела, слова, жесты. В этот момент с нее можно было ваять ту самую былинную Голову, что торчит в русской степи как символ вечности непонятно для кого и для чего. Сейчас же он больше походил на льва усталого, охраняющего свой прайд, по-прежнему опасного, но понимающего, что его изгоняют, и не подросшие львы, а жалкие охотники-пигмеи с отравленными стрелами.
Когда предоставили слово ему, он вышел, как капитан огляделся по сторонам. Прошелся по всем рядам пронзительно-невидящим взглядом, не то запоминая, не то выжигая всех из памяти. Потом указал рукой на президиум: – Вот тут, граждане, ваше новое руководство. Видите, под столом лужа?
В зале зашумели, стали приподниматься, заглядывая на сцену. В президиуме секретарь парткома встал, отодвинул стул и нагнулся под стол.
– Обоссались от страха. Жалуйте теперь его. А вообще-то, жаль, шашки нет. Встать! – рявкнул в микрофон Чуприна, ткнув кулаком в сторону президиума.
Президиум подскочил как ужаленный. В зале раздались смешки. Чуприна, не глядя ни на кого, прошел мимо них, спустился по ступенькам в зал и вышел. Президиум без сил опустился на свои места, а три четверти зала поднялись со своих мест и захлопали вслед ушедшему директору. Когда все успокоились и началась процедура выдвижения и голосования, каждый сидящий в зале почувствовал пустоту. Без старого директора опустел зал, как будто из него ушел вместе с Иваном Михайловичем весь двадцатый век.
* * *
В «Вечерке» появилась очередная заметка Кирилла Шебутного, в которой он утверждал, что «после ухода Чуприны из зала президиум и впрямь сел в лужу, собственную».
Неудачный кандидат
Попсуев не рассматривал уход Чуприны с поста директора как препятствие своему росту по службе. О карьере Сергей думал, как о феерическом продвижении по должностной лестнице, и никак не предполагал, что все протеже старого директора занесены в черный список. Но поскольку борьба на заводе не закончилась и каждая партия прибирала к рукам нужных ей специалистов, Попсуев еще имел шансы на выдвижение. Его быстрому росту могла помешать лишь нехватка подлости, без которой трудно сделать замес успеха.
Кукловоды хорошо знают: стронь специалиста с мертвой точки хоть министр, спец не обязательно дойдет до победного конца. Много на его пути рвов и капканов, которые без помощи знающих людей не обойти. Однажды в буфете заводоуправления к Попсуеву подсел начальник отдела труда и зарплаты Звягин и, помешивая чай и испытующе поглядывая на него, поговорил ни о чем, а потом неожиданно предложил: – Ну, что, Сергей Васильевич, хочешь стать начальником цеха?
Попсуев знал, что Звягин устроитель судеб еще больший, чем Дронов, и не смог удержать суетливого движения рук и выражения лица.
– Вижу, хочешь, – сказал трудовик без тени ухмылки. – А это уже полдела. Выступи-ка ты, Сергей Васильевич, с почином объединить первый и второй участки, станешь хозяином двух третей цеха, я тебе и расчеты помогу сделать, обоснуем такую экономию, что новый директор ахнет!
– Но как же за спиной Берендея? – возразил Попсуев. – Ему сказать надо. И его, что, по боку?
– Почему по боку? Вверх пойдет, в замы главного… Поверь мне, искушенному в этих делах, – настаивал действительно искушенный не только в этих, но и еще в очень многих комбинациях, проныра трудовик.
– Я так не могу, – сказал Попсуев.
«Ну, и дурак!» – думал трудовик, досадуя на Дронова, что тот необдуманно втянул его в явно бесперспективный проект. Но ему инстинктивно нравился Попсуев своей искренностью и честностью, тем, что начисто отсутствовало в нем самом. Он взял еще одну чашку чая, а потом и вовсе пригласил Сергея в свой кабинет, где минут двадцать вразумлял дитятку, что успех приходит не к тем, кто его жаждет, а к тому, кто сам рвется к нему, не боясь замараться по пути.
– Как, думаешь, генералами становятся? Без крови? – убеждал Звягин.
– Так то на войне, – не сдавался Попсуев. – И потом Берендей, ведь он отладил цех как часы, слаженней быть не может.
– Ты всё-таки подумай! – отчаявшись, бросил трудовик, и пошел к начальнику НОТ Живиле, с которым уже было всё оговорено, пенять на тупицу Попсуева и на Дронова, которого тоже давно пора менять.
– Значит, надо искать другого кандидата, – вздохнул научный организатор труда, ставя вопрос в своем списке возле Попсуева. – Жаль, перспективный парень, пробивной и умный.
– Да куда уж. Ладно, Свияжского пусть сменит, а там поглядим.
После дел не у дел
– Вот и всё! – Чуприна стоял перед зеркалом, глядел на себя и не видел себя. – Вот и всё!
– Ты чего? – испугалась жена.
– Идти, мать, некуда.
– Как некуда? А на работу?
– Вышла моя работа. – Он подтянул штаны на грудь так, что стал похож на пожилого карапуза в коротких штанишках. – Как я тебе такой? На работе я зараз вот такой. Смешной лилипут. Всё, уволился, Полина Власовна. Впереди заслуженный отдых, дача, кресло у камина, мемуары.
– Тебя ж хотели консультантом оставить.
– Им теперь другая консультация нужна, женская.
– Ведь истомишься без дела.
– Слушай, мать, не томи, а? Истомлюсь от твоего плача, Ярославна.
– Какая Ярославна? Из бухгалтерии? – не поняла Полина Власовна, но Чуприна не ответил.
* * *
Оставшись не у дел, Чуприна несколько дней чувствовал некоторое стеснение в груди, но успокаивал себя: «У меня пока отпуск». Через неделю на него накатило уныние. Сил не было смотреть утром с балкона, как люди спешат на работу, как едут машины. «Ничего, всё образуется», – думал Иван Михайлович.
От нечего делать он за день утряс в ЖЭУ все дела, которые накопились у домкома за год, перекрыл въезд во двор грузовому транспорту, договорился о разбивке цветника вдоль южной стороны детсада напротив. Чуприна стал больше бывать на улице, в магазинах, ездить трамваем и троллейбусом. Когда ему на первых порах приходилось спорить с кем-нибудь в ЖЭУ, исполкоме, в трамвае или в магазине, спора не получалось. Никто не мог противостоять его яростному натиску и железной аргументации. Да и многие еще не осознали, что Чуприна уже «никто». Но прошло две недели, и он почувствовал, что стал терять запал, решимость чего-то доказать и что-нибудь сделать для общего блага. И в лицах чинуш стало появляться отчуждение. Оказалось, нет никого, кому надо было что-то доказывать, и нет никому никакого дела до общего блага.
Съездил на дачу, сгреб листья, перекопал, подправил, починил всё, что требовало ремонта, но жить сычом там не смог, так как жене прописали процедуры. Он вернулся в город и стал перечитывать книги. Удивительно, они его сейчас никак не трогали! Всё в них казалось не всамделишным, исключая разве что «Мертвые души» да «Историю одного города».
Несколько дней после этого Иван Михайлович пребывал в меланхолии. Ничего не хотел делать. Сидел в кресле и глядел перед собой. Какие картины вились перед его взором, он и сам вряд ли сказал бы. Они приходили и уходили как бы невзначай. Иногда думалось о дворянах, не обремененных военной или статскою службою, находящихся в отставке и не занимающихся даже крестьянами, как тот же Обломов – несчастнейшие люди! «Это как же надо было держать в себе жизнелюбие, чтобы не расстаться от тоски с жизнью! Пить, играть в карты, донжуанить, стреляться, ездить по водам, вступать в масоны или в тайные кружки – такая скука! Если бы я вместо того, чтобы строить и запускать завод, а за ним жилой поселок, дворец культуры, стадион, совхоз, больничный городок; вместо того, чтобы раскручивать два производства, занимался бы только тем, что тосковал возле юбки да стрелялся с обидчиком, или пережевывал сопли в губернском собрании, грош цена была бы мне. А так я хоть за свое прошлое чувствую удовлетворение, и прежде всего потому, что не удовлетворен им, так как сделал меньше, чем мог, хуже, чем хотел, но все-таки сделал! И неужели всё то огромное, что мы все ценой неимоверных усилий сделали сообща, теперь пойдет коту под хвост?! Неужели мы сами, своими руками, выкопали себе яму?»
* * *
Просыпался Иван Михайлович рано. И на этот раз проснулся, вышел на балкон, светало. В утренней тишине журчала где-то вода. В новом доме напротив на балконе третьего этажа стояли два мужика в одних трусах. В разные стороны били две мощные струи. Один из них воскликнул: – Хорошо-то как, господи!
Чуприна криками разбудил жену: – Глянь! глянь!» – та успела увидеть двух подросших бельгийских мальчиков.
– Совсем сдурел, – сказала она, рукой умеряя стук сердца спросонья.
– Это новое руководство завода, оно всё такое, – по-детски радостно засмеялся Чуприна. С этого момента он как заново родился. Уныние стряхнул с себя. «Завтра съезжаю на дачу, а зараз схожу на завод».
Он позвонил в половине девятого по прямому проводу (телефон пока не сняли) новому директору. Того не оказалось на месте. Послышался голос.
– Але, – бросил Чуприна, – это кто?
– А вам кого угодно?
– Угодно? Я куда попал?
– Это отдел «Паблик рилейшенз», секретарь по связям с общественностью Гузно Михаил Исаевич.
– Где директор, Гузно?
– А что вы желали бы?
– Что я желал бы, не твое дело. Отвечай сперва на мой вопрос, а потом уже задавай свой. Где директор?
– Петр Степанович у себя. Он занят.
– Передай ему, Гузно, что его хочет видеть бывший директор «Нежмаша», герой соцтруда, лауреат Ленинской и Государственной премии, кавалер ордена «Знак Почета» и так далее Чуприна Иван Михайлович. Понял? Повтори, угодник.
– Так это вы, Иван Михайлович? Не узнал.
– Ничего удивительного, богатым стал. Пусть позвонит мне. Телефон знает. Срочно! Ферштейн?[2]
– Понял, Иван Михайлович!
Через несколько минут раздался звонок:
– Иван Михайлович? Это Зябликов.
– Послушай, Зябликов, что за блоха у тебя на телефоне? Звонил тебе, а попал в Гузно. Зина где?
– Уволилась, Иван Михайлович.
– Уволил, значит. Ну-ну. А общественности Гузно предъявил? Разговор есть, Петр Степанович.
– О чем?
– Не телефонный.
– Приезжайте ко мне. После шести.
После шести Чуприна подъехал к заводоуправлению, поднялся по ступеням, помнящим еще его, постоял, поглядел на проходящих людей. Многие здоровались. Вахтерша, увидев его, подскочила со своего стульчика.
– Здравствуй, Валя. Как жизнь?
– Ой, здравствуйте, Иван Михайлович! Да что жизнь? Вот обещают тридцать процентов зарплаты выдать.
– Ну-ну… – Чуприна поднялся на второй этаж: «Скоро от всех вас и тридцати процентов не останется…».
В предбаннике сидела незнакомая девица. Не иначе Зябликов с собой прихватил из Челябинска. Чуприна открыл дверь, которую помнил до малейшей щербинки и малейшего скрипа, вошел. Зябликов сидел на его месте, сидел довольно непринужденно.
– Ну, здравствуй, Зябликов.
– Проходите, Иван Михайлович. – Зябликов встал, направился к нему, выставив руку, как консервный нож. – Садитесь.
– Да сяду, сяду, – усмехнулся Чуприна, пожимая сухую горячую ладонь. – Шторки, гляжу, новые повесил, шкапик, стулья заменил. Даже центр музыкальный. Этот-то зачем? Стол не меняй. Спецзаказ, такой больше не сделают.
– Что привело, Иван Михайлович? – Зябликов, видно, хотел поскорее покончить с официальной частью.
– Да скука, – обрадовал его Чуприна. – Дай, думаю, загляну к директору, может, новое что? Что с двадцатым цехом? Слышал, законсервировали.
Зябликов помрачнел.
– Законсервировали, Иван Михайлович. И знаете почему.
– Скажешь, денег нет? – насмешливо спросил Чуприна.
– Нет, – не глядя на него, ответил Зябликов. Он открыл шкафчик, достал виски, виноград на блюде. – Зарплату, и ту по частям даю.
– А где деньги-то? Не говори только: в фондах или еще какой заднице.
– Они и есть в фондах. Сейчас фонды станут на ноги, и нам отвалят…
– Отвалят, отвалят, и еще добавят. Раскрыл ты, гляжу, варежку. А скорей, и варежка твоя, а?
Зябликов промолчал. Чуприна почувствовал, что еще минута, и он разнесет в своем бывшем кабинете всё к чертовой матери, вот только мараться… Он отщипнул виноградинку.
– Ладно, пошел я. Бывай, Зябликов.
– Зачем приходили-то, Иван Михайлович?
– Соскучился дюже.
– Ничего не надо?
– Ничего.
Дверь скрипнула на прощание. «Ну-ну», – успокоил ее Чуприна.
– От Зябликова. – Чуприна положил виноградинку перед секретаршей и вышел на волю.
Две сиротинушки
После отпуска Попсуев стал жить с Татьяной. Как-то само собой получилось, что он зашел в субботу к Поповым, да еще во время обеда. За столом кроме Анастасии Сергеевны и Татьяны были еще трое родственников. Обед, как он запоздало понял, был праздничный, но по какой причине, Сергей уточнять не стал. Получилось, конечно, некрасиво, но он в замешательстве не подумал о правилах приличия. Поздно было что-то менять, потому он на достаточно сухое приглашение Анастасии Сергеевны покорно сел за стол.
Татьяна, раскрасневшаяся, на него не смотрела. А после обеда, когда все ушли в гостиную, Татьяна увлекла Попсуева на кухню, закрыла дверь, кинулась ему на шею и с такой жадностью стала целовать его в губы, что он даже опешил. Зашла бабка, осуждающе поглядела на внучку и, ни слова не говоря, вышла, прикрыв за собой дверь. В этот же вечер Татьяна ушла к Сергею, а на другой день и вовсе перебралась к нему. «Почему стал жить с ней?» – Попсуев не раз задавал себе этот вопрос. Через полгода, когда Татьяна уже была на сносях, расписались, и жена до родов вернулась домой. Ребенка назвали Денисом. Бабка, поздравляя Сергея, впервые поцеловала его в лоб, для чего тому пришлось согнуться перед ней. А потом даже всплакнула:
– Оба вы у меня сиротинушки, без родителей. Дай Бог вам здоровья!
* * *
Пока малышу не сравнялось полгода, Сергею приходилось каждый день бывать у Анастасии Сергеевны. Та в первое время не жаловала его, но потом свыклась. Мало ли как в жизни бывает. Хорошо, хоть так закончилось, а не по-другому. Тут уж ничего не попишешь. Как бы ты не устраивал свою судьбу, всё равно подстроишься под нее. Какие планы строили дочка с зятем, а автобус взял да и свалился в ущелье.
А потом Татьяна стала ходить к Сергею, оставляя сына на бабушку, сначала на несколько часов, потом на ночь, а когда вышла на работу, то и на дни.
* * *
После отвергнутого Попсуевым заманчивого предложения стать начальником цеха, санкций не последовало. Более того, Сергея очень быстро стараниями Берендея провели технологом цеха. Новое место давало простор для воплощения замыслов, но ушел задор, с которым Сергей занимался исследованиями при Несмеяне. Ей он доказывал свою состоятельность, а с Татьяной этого делать не хотелось. Но всё же надо было довести дело до ума и подготовить диссертацию – вряд ли Бебеев станет защищаться после той угрозы. По большому счету Сергей был не удовлетворен работой, а выходило и жизнью. В начальники цеха он больше не рвался. Уж очень сильно пропиталась эта должность запахом Звягина. «А мне надо это?» – всё чаще задавал себе Попсуев безответный вопрос.
История общества. Очерк К.Ш. из «Нежинских былей»
Ровно через полгода после распада СССР, 26 июня 1992 года, на общем собрании садоводов был утвержден устав садоводческого некоммерческого товарищества «Машиностроитель». Общество, насчитывавшее 795 участков, и до того более сорока лет называлось «Машиностроителем» и было некоммерческим по умолчанию, поскольку заниматься коммерцией на четырех-шести сотках никому не приходило в голову. В народе общество называют «Концом света», поскольку садоводы первые годы обходились без электричества. ЛЭП-220 протянули лишь в начале шестидесятых, но память о «темных» временах сохранилась и по сей день. Более того, многие считают, что за Нежинском на юг и впрямь ничего нет, хотя там когда-то была Казахская ССР.
Чудо-остров посреди Бзыби, притока реки Нежи, с незапамятных времен называют Блин. Приток двумя рукавами обнимает русловый остров. Узкая протока с северной стороны острова несет свои воды перед крутым берегом – там переброшен пешеходный мост, соединяющий железнодорожную станцию Колодезная на сороковом километре от Нежинска с «Машиностроителем». Мост самый простой, с полусгнившим деревянным настилом, хлипкий, пляшущий, огражденный канатными перилами, но с подмостками.
Широкое русло с южной стороны острова наполовину заросло озерным камышом и белыми кувшинками, утки и чайки безбоязненно садятся на спокойную воду, приютившую несколько лодчонок с рыбаками. Рано утром, когда еще не проснутся цвета, эти места напоминают китайские рисунки тушью. Днем на мелководье кишит малышня, за которой с берега лениво наблюдают обгоревшие на солнце мамаши, а вечерами разминаются с кавалерами девицы. За рекой вдаль уходят заливные луга и рощицы. С этой стороны капитальный мост, но по трассе до города шестьдесят километров. Раз в десять-двенадцать лет во время июньского паводка вода заливает половину острова, но в остальное время тут настоящий рай.
* * *
Своим появлением на свет общество было обязано посещению этих мест высоких чинов из Москвы. День 9 октября 1948 года выдался погожим, теплым и солнечным. На пригорке к спуску к реке, на фоне пронзительно-голубого неба и еще не осыпавшейся золотой листвы берез выстроилась колонна черных легковых автомобилей. Из машин один за другим выползали местные и столичные начальники в генеральских шинелях и добротных цивильных пальто; выскакивали инженеры и строители в потертых шинелях или гимнастерках; молчаливые молодые люди в плащах одного покроя. Правительственная комиссия, руководимая министром, подбирала стройплощадку под новый завод союзного значения. Собственно место уже было выбрано, но председатель комиссии, заядлый рыбак, захотел взглянуть еще и на альтернативное местечко. Комиссия, сняв фуражки, потягивалась, вертела шеями, и любовалась открывшимся видом на реку, зеленый остров и заливные луга окрест.
– Красота, зараза! – восхищенно произнес министр, обращаясь к секретарю обкома.
– При царизме тут Бенкендорф дворец охотника хотел построить.
– Александр Христофорович?
– Кто? А, ну да, сатрап самодержца.
– Красота! – повторил министр. – Нет, вид портить не будем. Сюда барышень водить и живописать их голеньких среди камышей и уточек. Охоту можно организовать. Граф любил охоту… на красоток. У самого Наполеона бабенку увел. Места-то, места! Краше, чем Сокольники. Как речка называется?
– А никак, товарищ министр.
– Никак? Вы, сибиряки, назовете, так назовете! «Никак» хорошо, но ты тут лучше сады разбей, мичуринские, лагеря, пионерские. Накакай, словом. Ладно, вези, секретарь, в Красноречинск. – И министр, напоследок с сожалением окинув прекрасный вид, располагавший к пленэру с барышнями, кряхтя, полез в машину.
Через полгода министр поинтересовался из первопрестольной: – Как реализация постановления Совмина от 24 февраля? Выделили земельный массив под садоводческое объединение? Как дела с лагерями для пионеров? Никак?
Секретарь обкома доложил: – Не никак! Река, говорю, не Никак, а Бзыбь называется. Нет, какая насмешка! В Абхазии это великая река, а тут так, Бздынь. То есть, Бзыбь. Земельный массив выделен, товарищ министр. Геодезисты проектируют. Будут также два моста.
Через пару лет строители и работники «Нежмаша» летом стали трудиться еще и на своих земельных участках, а их дети посменно отдыхать в пионерском лагере имени юного партизана-разведчика Вали Котика.
* * *
За сорок лет пригородный ландшафт изменился до неузнаваемости. С высоты птичьего полета пригород походил на гигантскую свалку усадьб, домиков и будок, вытянувшуюся на сто верст от города к Казахстану, откуда по старой дружбе везли наркотики, лук и паленую водку.
В «Машиностроитель» можно попасть на электричке. Переходишь пути, идешь мимо граждан, продающих молоко в пластиковых бутылках, творог, густые, как сметана, сливки, чье-то мясо и кости с подводы, картошку, с ростками и свежую, разносолы и даже цветы. По субботам предлагают гвозди, лампочки, розетки, а то и трансформатор. Если пройти далее в кусты, могут отоварить чем-нибудь и серьезнее. В ларьке, продавщица которого уверяет, что от водки и сосисок еще никто не умер, продукты и напитки по терпимой цене.
Улочки общества носят причудливые названия, от Трех лилий до Жана Габена. На Центральной идут в ряд магазин, домики председателя правления, сторожа и электрика, а также контора, где дачники платят членские взносы и узнают новости.
Крапивная лихорадка
Светлана Иосифовна, соседка Попсуева по даче, любила заниматься своими цветами и грядками спозаранок, пока не встал ее муж Михаил Николаевич, прозванный знающими людьми Колодезным Теслой, и не начинал «гандобить» по наковальне, а пуще по ее мозгам. Она любила утреннюю тишину и прохладу, и любой труд в это время был ей на пользу, тогда как днем и особенно вечером от давления болела голова. Даже мелочная прополка, когда в траве еще не проснулась мошка, доставляла ей удовольствие. Не успела Светлана Иосифовна покончить с одной грядкой, ее окликнула Петровна – Бегемотиха.
Бегемотихой Петровну нарекли менты. Как-то ей возле пивного ларька пришлось доказывать трем мужикам, что у нее, как у женщины, есть право на очередь впереди них. После того, как Петровна обозвала неуступчивых джентльменов «козлами» и те собрались в ответном слове намять ей бока, она отходила их своей хозяйственной сумкой, в которой, как потом было установлено в отделении милиции, находились кило гречки, буханка хлеба, бутылка ликера «Абу Симбел» и три банки бычков в томатном соусе. Где бы ни оказалась Бегемотиха, а появлялась она всегда внезапно в любой точке пространства, она доказывала свое право на истину в последней инстанции. Пасовала Петровна лишь пред одним представителем сильного пола – Смирновым. Своей зычной глоткой и непредсказуемым поведением Валентин полностью дезорганизовывал даму и нагонял на нее страх.
– Свет, а Свет! – позвала Бегемотиха.
– Чего тебе?
– Чего ж ты молчала?
– Когда? – удивилась Светлана Иосифовна.
– Да что тебя интервьюер прямо на этой веранде взял?
– Ошалела, Петровна? Кто это тут меня и когда на веранде брал?
– Да вот, два дня назад. Шебутной какой-то. «О Колодезном Тесле и пользе крапивы», статья. Ништяк! И фотка – твой двор, Миша с трубой, ты за его спиной с чем-то, не пойму.
– Ну-ка, дай-кось… Это аккумулятор я держу. Когда это он нас сфотал?
– Да это у тебя надо спросить, а не у меня. Колись, Светка, дала интервью?
– Да отстань ты от меня! Никому я ничего не дала и давать не буду! А вот по шее могу и дать!
– Ты прочитай сперва, прежде чем грозиться.
Светлана Иосифовна взяла «Вечерку». Пошла за очками.
– Ты заходи, покалякаем, – кивнула она Бегемотихе.
Та с удовольствием зашла. Светлана Иосифовна стала читать.
«Светлана Иосифовна, как обычно, с утра была на грядке.
– Светлана Иосифовна? – крикнул я из-за изгороди.
– Я Светлана Иосифовна, других не держим, – распрямилась, покрутила плечами, а затем подошла ко мне хозяйка, крупная, уверенная в себе женщина, еще очень крепкая».
– Брешет, сукин сын! Когда это меня кто окликал из-за изгороди? – взглянула на гостью хозяйка. Та соорудила на лице недоумение. – «Очень крепкая» – это правда.
– Они же не все брехню пишут. Читай, читай…
«– Всё в делах? – задал я ей довольно таки банальный вопрос.
– Нынче кто без дела, – ответила она, – одни лишь бездельники.
Признаться, мне стало не по себе под ее проницательным взглядом. Мое смущение еще более углубилось, когда она, потянув носом воздух, с подозрением спросила: – Не пьете?
– Что вы! – поспешил я ее успокоить. – Ни в жисть!
– Тогда заходите. – Впустила она меня во двор.
Дальше мы опускаем вступительные шаги и фразы. Вот мы сидим со Светланой Иосифовной за столом на веранде и пьем чай со смородинным, малиновым и вишневым листом. Признаться, «Ахмад» и «Липтон» в подметки не годятся нашей обычной листве! Да еще заваренной руками обаятельной хозяюшки».
Светлана Иосифовна горделиво взглянула на Бегемотиху.
«Наша беседа за третьей чашкой чая стала более непринужденной, хозяйка стала обращаться ко мне «Кирюша», а себя разрешила величать «Иосифовной». Я поинтересовался, кто был Иосиф по национальности, не грузин ли. «Русак», – просто ответила его дочь.
* * *
Рамки заметки диктуют необходимость изложить наш разговор, как монолог Иосифовны.
– Долго я наблюдаю мужичье и точно знаю: всякий мужик, включая Дарвина, не от обезьяны произошел, а от самого натурального верблюда. Причем от двугорбого, с двумя мочевыми пузырями. Что тот, что этот пьют – не напьются, как в последний раз. Из чего делаю вывод: жизнь мужика – пустыня! Разница меж ними одна: верблюд ведром напьется, мужик – никогда!
Мой Михаил со странностями был еще с детства. Как не углядела я в нем этого, сама не пойму. Да разве когда замуж идешь, на странности обращаешь внимание? Ему бы вовек не жениться, а он меня подцепил. За что я ему и благодарна по гроб жизни.
Всю первую свадебную ночь супруг ходил по хате и рассказывал мне о тайнах кладов, а весь «медовый» месяц, от темна до темна, «гандобил» железом по железу. С тех пор хуже слышать стала. За месяц из всякого хлама сгандобил раму с колесами и моторчиком. Назвал «Миш-1», по-английски «Микс-Ванн». В первую же поездку врезался в крапиву – в тот год просто зверских площадей. Выехал с участка он в одних трусах, лихо так, и на полной скорости проскочил от дороги до реки, по всему склону, скрозь крапиву с репейником, а там и свалился в воду. Таратайка надежная оказалась, не заглохла. Из воды выскочил, как ошпаренный, и нет, обойти то место по воде, через него же продрался, волоча свой драндулет, обратно.
Когда Миша вошел на участок, это был не Миша. Глядеть на него было страшно. Опухший, красный. Сказал: «Жгеть, зараза!» – и вылил на себя кастрюлю с молоком, не успевшим еще толком остыть. Прыгнул в бочку с водой, как Додон, и ну орать благим матом, что «срежет на хрен всю крапиву в Советском Союзе к чертовой матери!»
Я ему тут вовремя ввернула: ты мне, говорю, сперва вон те пять будылей вырви, а уж потом иди махать на весь Союз. Вдоль забора крапива росла, выше забора. Он прыг из бочки и ну рвать ее, а она не рвется, ну никак, то ли он уж так обессилел. Рванул – да и в крапиву свалился. Чего тут началось! Схватил косу – прям, «Ну, погоди!», и давай сносить всё, что торчит. Я такой прыти и таких матюков ни у одного косца не наблюдала. У нас всё снес, у соседа Денисыча смахнул, потом побежал к реке косить косогор.
– Ну, Чапаев! – мотал головой Денисыч. – Он всегда такой?
Мы тогда только приобрели участки и начали обустраиваться по добрососедству. За три часа мой скосил весь склон. А луна была круглая, ночь светлая. «Медовая», чего там, ночь! Пришел, аж трясется, коса затупилась, руки ходуном ходят, в глазах лихорадка. И звон такой идет, тоненький-тоненький, то ли от косы, то ли от него самого. Косу еле выдрала из рук. Вцепился в нее, будто тонет. Хорошо, с потом вышла крапивья отрава. Я уж тогда за себя и свою будущую жизнь в первый раз крепко задумалась. А назавтра он был розовый, как поросенок. Аж светился.
– Ничего, токо сердце вот тут колотится, – он ткнул себе под подбородок. – Выпить, однако, надо. Для дезактивации организма и снятия стресса.
Я тогда он него в первый раз услышала об этом стрессе. А к выпивке его позже Денисыч приучил, хорошо съехал, а дачу Попсуеву продал.
– Попсуев хороший сосед?
– Другого поискать такого! Уважительный, умный и почти не пьет. Раза три только замечала. На него всем мужикам надо равнение держать».
– Ну, дальше там про Попсуева, не интересно, – поднялась Бегемотиха. – Пойду хвастать всем, что со звездой знакома.
– Это с кем же?
– Угадай!
Хозяйство Денисыча
За полвека, что Михаил Николаевич гандобил с утра до вечера каждый день, он познал «железо» до тонкостей, не только марки и сортамент, а и все агрегаты из него, от печной трубы до газовой турбины. Был прекрасным токарем, слесарем, сварщиком, сборщиком, фрезеровщиком, кузнецом, механиком, электриком. Легко разбирался в разных схемах и в уме считал то, чему пять-шесть лет учат в институте. Всё это Железный Дровосек, как прозвали его, делал и собирал своими руками, испытывал и совершенствовал. Миша не раз был бит током, разъеден кислотой, ранен стружкой и инструментом, но ничто его не брало, любая рана от железа заживала на второй день, как на заговоренном.
* * *
Иван Денисыч, у которого Попсуев купил дачу, отрекомендовал Мишу, как бескорыстного помощника в освоении хозяйства и разнообразном ремонте. «Угостишь стакашкой, он и доволен, – сказал Денисыч. – Тебе тут многое ни к чему будет, так ты не скупись, давай ему всё, что запросит. Он из любого гэ конфетку делает. Несколько мотоциклов собрал».
Участок был завален добром, собранным Денисычем за много лет: рулонами рубероида, петлями, щеколдами, гвоздями, дверными ручками, трубами, резиновыми шлангами, электрическими кабелями, лампами дневного света. Отдельно стояли две лежанки из операционной, зубоврачебное кресло, пять баков и бачков из титана и нержавейки, печь-буржуйка, три стремянки и десятиметровая лестница с биркой цеха. В ящике в масле и заводской обертке, под пломбами хранился винт от самолета «АН-2», который Денисыч собирался водрузить на ветряк.
Всё это Денисыч собирался использовать на пенсии, но к пенсии его жена заболела астмой, а сам он спился, отчего пришлось продавать дачу спешно и практически за бесценок. Хорошо хоть так продали, так как три года за ней вообще не было никакого ухода. Дали объявление в газету. Покупатель появился тут же, так как Валентин в тот же день сообщил о дешевой даче Попсуеву. Мельком оглядев дачу, которая была завалена снегом и оттого была куда как хороша для показа, Сергей не стал даже заходить в дом, а поверил на слово продавцу. Денисыч рассказал ему про устройство дома, про свои запасы, утаив лишь, что счетчик он так подключил, что его мотало в другую сторону.
Михаилу Николаевичу Попсуев показал все доставшиеся ему закрома и сказал: – Бери, Михаил Николаевич, всё, что надо. Чем больше, тем чище. Мне ничего не надо. Разве что доски сосновые да пленка.
Из «Записок» Попсуева
«…как быстро всё меняется! Такое ощущение, что предыдущие двадцать лет время сжималось, как пружина, а сейчас сработало. Новое руководство повысило Берендея в замы главного инженера по технологии (это не требовало выборов), а еще через месяц строчку зама сократили. Никите Тарасовичу Дронов предложил место инженера ТБ. Не знаю, что ответил ему Берендей, но Дронов неделю не вылезал из сортира и стал заикаться…
* * *
…после Берендея и я ушел. Без Чуприны и Берендея тоска. И без Несмеяны пусто. Что делать в цехе, бороться и дальше с браком? А что мне делать с браком моим? Оказывается, уволиться, что плюнуть. Ни в тебе никаких переживаний, ни в ком-либо другом. Только обрадовались отходной, хорошо посидели, весело, и такая цепочка служебных продвижений образовалась! И ладно…»
Не пробуждай воспоминаний
Неожиданно в гости зашел Чуприна.
– Привет, Аська! Вот шел мимо, дай, думаю, зайду, проведаю.
– Ой, да как здорово-то! – засуетилась Анастасия Сергеевна. – Садись, Иван Михайлович, я беляшей напекла. Пенсию назначили?
– Не спрашивай. Назначили. У охранника Сердюкова, что в инженерном корпусе отупел за двадцать лет, пенсия больше моей на четверть. Звякнул в пенсионный отдел, сказали, что рассчитали согласно коэффициентам и постановлениям. Они-то согласно, только я не согласен. В Москву звонил, там и вовсе не хотят в наши дела вникать. Имущество делят. Думают, я тут скис. Не, со мной это не пройдет. Они скоро мне свою с радостью отдадут!
Сели за стол. Выпили. Стали вспоминать молодые годы, отданные заводу. Анастасия Сергеевна прослезилась, а Чуприна толкал ее:
– Ба, да ты чего, Аська? Ты радуйся, что они были, эти годы у нас!
– Тяжело тогда всё же было, Ваня, тяжело… – вздохнула она.
Конечно, тяжело. Вспомнили, как иногда хотелось всё бросить к чертовой матери. Всё забыть. Уволиться, уехать, исчезнуть. Вязкое месиво лежало на улочках, по жиже продирались к подъездам, долго отскребая ноги от налипшей грязи. Спасали сапоги, оставшиеся с войны, плащ-накидки, офицерские сумки, в которых можно было сохранить документы сухими, спасало непонятно откуда берущееся здоровье. И какой противный, нудный был дождь! Он лил целыми неделями. В такие дни и ночи всё тянулось, как резиновое. Но именно тогда рождались светлые надежды, всплывали приятные воспоминания, уходила из души тревога, а из тела озноб. Откуда что бралось?
– Вань, а где Семенов? Дорогу что мостил, помнишь? Не вижу его давно.
– И не увидишь. Плох он. Единственный опротестовал увольнение. Зачем тебе, говорили ему, дали пособие, а так ничего не дадут. А он заладил: я уже всё получил, ничего больше не надо. И это я ухожу, а не меня. Вот мое заявление. Поставил в дурацкое положение руководство, не дав побыть благородным.
– Ну, и правильно. Сейчас же на дуэль не вызывают.
– Кого, этих? Жаль, не пристрелил их в детстве Бендер из рогатки.
– А я недавно в киношку выбралась. Посмотрела японский фильм, «Легенду о Нарайяне». Не смотрел?
– Ты же знаешь: не хожу я по кино.
– И правильно. И я после этой «Нарайяны» зареклась. Два часа показывали, стыдно сказать, то ли людей, то ли обезьян.
– Фантастика?
– Да какое там! Деревня японская всамделишная, но дикая какая-то. И люди только и заняты, что еду добывают и это, ну, это самое…
– Едят ее?
– Тебе всё есть! Секс, во!
– Ну, мать, сподобилась на старости лет! Чего занесло-то?
– Да говорили: хороший фильм. Вот и пошла. Ушла бы, да посередке сидела, и никто не уходил. Все пялились на это самое. Ты постой, главное не сказала. Когда уже в самом конце зимним утром сын потащил на себе в гору старую мать, обычай такой в деревне был: стариков бросали в горах замерзать, чтоб не объедали, я, Ваня, замерла. У меня сердце перестало стучать. Да неужто ж это люди?! Думала, умру, если он ее бросит. Не смог. А я зарыдала, стыдно сказать, хрипеть стала, задыхаться. Не помню, как меня занесли куда-то, отходили. Вышла на улицу, гляжу: кругом старики, старухи, и в сторонке парни. И друг на друга не смотрят. А мне жутко: ну думаю, сейчас парни подхватят нас и потащат в горы…
– Да какие горы тут, Ася? Успокойся.
– И ты знаешь, кого они напомнили мне, парни эти? Мальков! Вот когда мальки из икринок выводятся. Глупые такие, одинаковые и бесчувственные! Синтетические! Мне кажется, они сейчас и будут всем заправлять.
– Брось, твоя Танька разве такая? И Сергей? Кстати, как он?
– А, в драмтеатр устроился, главным инженером.
– Ну чего, хорошо… Жаль, такого специалиста страна потеряла!
– Ваня, а где она, страна? Крым, и тот отдали!
– Да уж, Крым, словно пробку в резиновой лодке выдернули…
Короче, плохо ей было, очень плохо
В пятницу вечером позвонила Диана Горская. В будние дни Горская работала искусствоведом, а по воскресеньям торговала на «Ярмарке выходного дня», но не предметами искусства, а китайским и турецким ширпотребом. Помимо живописи, скульптуры и ходового товара Диану живо интересовали спортивные мужчины, и первый ее вопрос был о Попсуеве:
– Как поживает мой Дорифор?
Искусствоведы любят сыпать словечками, бывшими в ходу бог знает когда. Но поскольку Горская занималась еще и просветительством, копьеносца Дорифора, олицетворяющего канон «атлета в покое», все ее знакомые знали как соседа по площадке. Греческий воин был точь-в-точь Попсуев, разве что древнее, пониже и зачем-то с копьем.
– Он в порядке, вспоминал о тебе, – успокоила подругу Несмеяна.
– Ты всё на заводе? – поинтересовалась Диана.
– Уволилась. В центр стандартизации позвали начальником отдела.
Поболтали о том, о сем.
– Скучно будет, заходи с мушкетером со своим на кафедру вечером, чай попьем.
– Зайду, – пообещала Несмеяна. «Кстати ты пригласила меня, подруга, кстати», – подумала она.
* * *
Не зная, куда деть себя в воскресенье, Несмеяна отправилась в филармонию. В середине «испытательного срока» они слушали «Реквием» Моцарта, у Сергея были слезы на глазах… Пожалуй, лишь классическая музыка способна придать душевной какофонии некую гармонию. Попса с ее словоблудием противна, театр раздражает нарочитостью. Куда еще податься?
По пути в филармонию прошла мимо собора, хотела зайти, но отвратил вид испитых нищих у ворот. Подумала: «Где же твое милосердие, Несмеяна Павловна? Господи, прости!» Подала мужичкам милостыню и, перекрестившись, зашла. В храме испугалась строгого лика Христа справа от царских врат. В смятении наткнулась на церковный ларек у выхода, купила иконку Богоматери и ушла, затылком и спиной чувствуя взгляд Господа.
На этот раз исполняли «Шехеразаду» Римского-Корсакова. Удивилась, что в кассе нет очереди и есть билеты. Села в неуютное жесткое кресло. «Вон там сидели…» Пробовала любоваться переливами света в огромной хрустальной люстре над сценой, как любовалась ими с Сергеем… Прислушивалась к невнятице голосов, точно надеясь услышать знакомый голос… Чувствовала себя тревожно, то ли от звука настраиваемой невидимой скрипки, то ли от боязни, что кто-нибудь из знакомых подойдет к ней и спросит о… чем-нибудь.
На сцене рабочие двигали за кулисы рояль, библиотекарь, натыкаясь на стулья, раскладывал ноты на пюпитры, вповалку лежали огромные контрабасы, напоминавшие туши китов на берегу. Неожиданно вспомнила голые тела на кровати в то злосчастное субботнее утро. «Даже эти инструменты, с самым низким звуком, самой «низкой душой» верны чистым высоким мелодиям, для которых созданы…» Несмеяна, с трудом сдерживая слезы, вышла из зала на улицу, спряталась в телефонной будке на углу и там, сняв трубку, зарыдала в нее.
В гостях
В зал Несмеяна не вернулась, а пошла домой. Не зажигая света, легла на диван и под настроение включила «Адажио» Альбинони. Пересчитала дни этого года, что запомнились, но уже без слез, насчитала семь и улыбнулась, вспомнив, как встретила на ярмарке Диану. «Это тоже было при нем…»
* * *
Полузабытая школьная подружка стояла за прилавком и бойко рекламировала продаваемые товары. Не виделись однокашницы несколько лет. Когда-то их объединяло многое, и жили в одном доме, несколько лет просидели за одной партой. После школы их пути разошлись. Диана окончила факультет культуры, устроилась искусствоведом в Картинную галерею, а также преподавателем на вечерний факультет университета. Там она вела курс «Искусство Возрождения». Когда население от портретов и статуй шарахнулось к выборам и прилавкам, оно подхватило и Диану, удачно подцепившую бизнесмена, бывшего фарцовщика Алика Свиридова.
Обменявшись новостями, а по сути, едва ли не половинами своей жизни, договорились встретиться у Дианы на ее дне рождения.
– Посмотришь заодно на евроремонт, – сказала Диана. – Алик всё делает как в Европе! Да, не одна приходи. У нас все люди семейные. Почти.
* * *
Когда Несмеяна с Сергеем пришли на званый ужин, там уже собрались гости, веселые и подшофе. Почти все старше Попсуева лет на десять-пятнадцать. На журнальном столике в просторной прихожей стояла корзина цветов, преподнесенная супруге Свиридовым. После небольшой словесной разминки и одобрения ремонта, все с удовольствием перешли к столу. Опаздывали какие-то Вакхи, разведенные, но не разошедшиеся супруги.
– Эти вечно спешат, потому вечно опаздывают, – сказал Диана. – Садимся!
А тут и Вакхи позвонили в дверь. Сразу стало шумно, как на базаре. Оказывается, Вакхи вместе с Дианой год назад оформляли выезд в Израиль, но потом все трое «по семейным обстоятельствам» раздумали.
За полтора часа собравшиеся много раз поздравили хозяйку, отведали всех яств и напитков, размякли и раскраснелись… Рассказали друг другу новости о возрастающей работе и уменьшающемся здоровье, обсудили ужасы, творящиеся в мире, после чего сосредоточились на своих детях. Говорили как всегда больше женщины, а мужчины как всегда больше закусывали, однако закуска у дам исчезала с тарелок быстрее, чем у кавалеров. Да и с катушек они слетали скорее. Во всяком случае, барышень вдруг разбирал беспричинный смех, а затем беспричинная слабость. Мужчины, не обязательно футболисты, знают, что это самый удобный момент для взятия ворот.
– Не нравится мне в штанах ходить, – вздохнула Ангелина Вакх, – задница большая, переливы видны. Вообще женщины стали безобразно толстые! В троллейбусе одну никак обойти не могла. Стоит – не баба, а гренадер какой-то! Во! – Ангелина развела руки на полную ширину. – Стоит в проходе, и не пройдешь, шире прохода! Слева зашла – нет, справа – нет! Слушай, говорю ей, где ты трусы покупаешь?
Диана, слегка скривившись от такого прозаизма, вдруг вспомнила, что Ангелина только что вернулась из Турции.
– Было чего-нибудь такого? – Диана повертела в воздухе пальчиками. – Как отдохнула в Турции?
– Не в Турции. В Грецию ездила.
– Там рядом, – снисходительно бросил Свиридов.
– А, зря только время потратила! Хорошо, две шубы привезла.
– Стоило в Грецию за шубой мотаться! – сказала Несмеяна. – Их вон в меховом ателье, как в Греции. И не так дорого.
– Это, смотря кому, – не согласилась невзрачная дама. – Кому всё дешево, тому ничего не дорого.
– Парфенон видела? – поинтересовалась Диана. – Как тебе дорический периптер с ионическим скульптурным фризом?
– Какой Парфенон? Я там два дня была. На шубы их и потратила. Да на Костракиса. Я тебе о нем говорила, – бросила Ангелина экс-супругу.
– Грека любого раздеть, он весь, как в шубе. Что Кавказ, что Греция! Знаем, – зевнула Диана, погасив очаровательной улыбкой вопрошающий взгляд Свиридова. – И чего было на Костракиса два дня палить?
В ответ взметнулась бровь подруги: знать, было чего. Горская без всякого перехода стала тараторить о какой-то дамочке (имени ее она не помнила, да и не в имени дело!), которой на телевидении была посвящена вчерашняя передача. Диана скоро завладела общим вниманием, и с восторгом поведала о феерическом поступке телевизионной дамы.
Сергей, улучив момент, шепнул Несмеяне на ушко:
– Тебе не надоело?
Несмеяна кивнула. Было чему надоесть. Искусствоведческие пассажи хозяйки дома задрали ее. Можно, конечно, восхищаться женщиной, бросившей мужа, детей и внуков ради старика, когда-то красиво певшего и красиво жившего, и репрессированного за это или за что-нибудь сопутствующее, а можно и не восхищаться.
– Идеальная семья – это когда детей есть, на кого сбагрить, – сказал Вениамин Вакх, находясь в плену детской темы.
– Раньше так и было! – подхватила Горская. – У Наташи Ростовой одиннадцать братьев и сестер было. Да-да, почитайте. Но Толстой ни строчки не написал, как граф и графиня воспитывали детей. Потому что гувернеры и няни были. А графья ели, спали да охотились.
– Еще плясали, – заметил Попсуев, – и пили.
– Да-да! Плясали! Несь, Серж просто Дорифор. Берегись, отобью!
Свиридов хохотнул:
– Ты лучше мне бифштекс лишний раз отбей! У дворян еще псарни были и псари. Хозяин собак никогда не воспитывал, только ласкал. Собаки его за это любили, а псарей боялись, поскольку те возились с ними весь день. Вот это и есть модель настоящей семьи и настоящего воспитания.
– Как в псарне! – восхитилась Ангелина. – Мило!
– Странно, – сказал Сергей. – Занимайся у нас мужчина воспитанием детей круглые сутки, дети никогда не скажут ему: сэр.
Дамам чрезвычайно понравилась реплика Попсуева, хотя ее легко можно было экстраполировать и на леди.
– Еюнойлеошунтирование – вспомнила! Вот чем надо всем срочно заняться! – воскликнула вдруг Ангелина.
– Кошмар! Что это? – вздрогнула невзрачная дама.
– Операция на тонком кишечнике. Укорачивают кишечник в три раза.
– О господи, да зачем? – спросила невзрачная дама.
– Чтоб похудеть и придать телу стройность.
– Для придания мыслям стройности, надо эту операцию провести на мозгах, – прошептал Попсуев на ухо Несмеяне. – Всё, пошли домой.
В троллейбусе Попсуев обронил:
– Столько болтать о воспитании, и не сказать главного: воспитание нельзя перекладывать на дядю!
– Ты кому это говоришь? – устало спросила Несмеяна. «Воспитывать ребенка можно, когда он есть».
Приглашение кстати
Несмеяна взяла коробку конфет и в девятом часу поехала к Диане в ее частный университет. Двухэтажный особняк стоял на отшибе в парковой зоне и летом утопал в зелени, а зимой в сугробах. Занятия окончились, и преподаватели не спеша пили чай.
– Это моя школьная подруга Несмеяна Павловна, начальник отдела, а это мои коллеги: Нина Васильевна, доцент, Катя, Алексей Валерьевич, доцент. Несь, а где Дорифор?
– На сборах.
– Алексей Валерьевич предпочитает кафедру дому, – добавила Диана.
Сели пить чай. Почему-то все стали говорить об участившихся грабежах. Каждый имел что рассказать, а после вольного пересказа Алексеем Валерьевичем рассказа Лескова «Грабеж» и вовсе настала ночь. Доцент собрал свой кейс и барабанил по нему пальцами. По всему было видно: ищет повод, чтоб задержаться. Дома, как узнала позже от подруги Несмеяна, у него была жена, отчего он всегда ощущал себя бездомным.
Алексей Валерьевич вернулся к столу и налил себе чаю.
– Хотите, расскажу про мой некрасивый поступок? – сказал он. – Дело этим летом было. Сплю. А в три ночи меня словно кто вверх вздернул. Потом уже понял: попугайчик в клетке орет. У меня два попугайчика. Днем они, как ангелы, а на ночь сами в клетку лезут и до утра молчат. Я их не закрываю. А тут вдруг орет. Спросонья гляжу на него – чего орет, а краем глаза вижу: мимо меня к лоджии кот скользит, а во рту у него второй попугайчик. Озверел я, вскочил и за ним!
– Кот ваш?
– Нет. Мой не посмел бы, другой!
– Что же вы так? У кота инстинкт, – засмеялась Несмеяна.
– И у меня инстинкт. Вот с этим инстинктом я за ним в лоджию. Слышу, в соседней лоджии звуки. Как вам сказать, специфические. Перегибаюсь туда, а там парочка, ну, – Алексей Валерьевич несколько раз дернул пакетик чая вверх-вниз, – сами понимаете. Я и спрашиваю у них: «А вы тут кота с попугаем не видели?»
– Ой, Алексей Валерьевич! – взвизгнула в восторге Диана. – Вы же парочку основного инстинкта лишили!
– Парочку – не думаю, а одного из них, может быть, – возразил доцент. – Напоследок расскажу еще одну историю.
– Только без ужасов, Алексей Валерьевич! – взмолилась Нина Васильевна.
– Да нет, какие ужасы. Я про себя. По молодости наивный был. В каком же это санатории было? А, вспомнил. В Мацесту первый раз по путевке приехал. Пошел ванну брать, а как, не знаю. Захожу в корпус, мужики стоят. Соображают на троих. «Как ванну принимать, а то я в первый раз?» – спрашиваю их. «В первый раз? Это запросто, – отвечает один. – Заходишь. Раздеваешься догола. Лезешь в ванну. Ждешь. Потом баба заходит. (Прошу прощения, так в оригинале). Она скажет, что дальше делать. Будешь послушным, воды нальет». Я поблагодарил и направился на процедуру. «Да, – крикнул мужик. – Там на окошке пирожки лежат. Так ты, прежде чем в ванну лезть, пирожок возьми и пока лежишь, ешь его. Только не спеши, растягивай на всю процедуру». «Хорошо», – сказал я и так и сделал. Лежу в ванне, жую пирожок. Заходит женщина в желтоватом от пятен воды халате. Я невольно руками прикрылся. А она глядит на мои руки и спрашивает: «А что это у вас там?» «Там?» И не знаю, что сказать. «Ну, это», – говорю. «Что – это? Что вы едите?» «Пирожок». «Откуда?» «А вон с подоконника». «Это ж мои пирожки!»
А потом все вместе шагали по освещенной аллее на остановку автобуса и смеялись в полный голос, Несмеяна слушала очередную историю Алексея Валерьевича и думала: «Неужели и этот милый человек предал свою жену, раз так не хочет идти к ней?» Но когда села в автобус, поняла, что исцелилась от хандры.
Из «Записок» Попсуева
«…на школьном вечере я вдруг обратил внимание на девочку из седьмого класса (сам был в девятом). Она стояла возле стены, ожидая приглашения к танцу, воздушна и светла, как ангелочек. Робость и восторг охватили меня, и я молил непонятно кого, чтобы никто не подошел к ней. К ней никто не подошел. И я не подошел, и не заметил, как закончился танец, а потом и вечер. Когда потом видел ее, всякий раз радовался так сильно, что до сих пор ощущаю в себе ту радость.
Не раз задавался вопросом: почему моей «первой Роксаной» стала не она, а Катька Петрова, почему? Ведь встреть я эту девочку раньше Катьки, не Татьяна, а Несмеяна стала бы моей единственной избранницей. И никуда уже от этого не деться.
* * *
Несмеяну не видел год. Она уволилась с завода еще до моего возвращения из Свердловска. Устроилась в горсовет. Что-то у нее не срослось с чиновниками (красота не черенок, ее не привьешь к уродству), и, говорят, она приняла горсть таблеток. Когда узнал, что умерла, думал, сердце разорвется. Не разорвалось… Потом сказали, что после клинической смерти она вернулась в центр стандартизации.
* * *
Иногда вспоминаю ее, но не как женщину, а как икону. Когда перехожу по мосту через Бзыбь, всплывает в памяти тот день, когда мы приехали на ее дачу. Всем телом ощущаю ледяное слово «вечность», которое она произнесла, глядя с моста на зеленые дали под голубым небом. Всякий раз, вспоминая о ней, содрогаюсь от озноба, даже когда от палящего зноя и нехватки влаги закручиваются листья сирени в спираль и с ивы падают вовсе не метафорические, а самые натуральные капли-слезы. Как-то подумал: эта ива – она…»
Часть II. В пути
Кто путь бы мне к вершине указал?
Данте АлигьериПрелюдия. Я твоя первая Роксана!
Детский сад от мала до велика (от младшей группы до подготовишек) жил ожиданием утренника, посвященного любимым мамам – Международному женскому дню 8 марта.
По предложению директрисы Нины Васильевны, которая во всем любила оригинальность и высокий штиль, дети были поделены на пары. Мальчикам присвоили имена литературных героев мужчин, девочкам – соответственно героинь женщин. Поскольку девочек было больше, самых младшеньких оставили без кавалеров, которых заменили шоколадками «Аленка», чему малышки были несказанно рады.
Так детсадовцы много раньше других сверстников страны узнали о том, что на свете есть Ромео и Джульетта, Елена и Парис, князь Андрей и Наташа Ростова, и вообще изящная словесность. Поскольку детских пар оказалось больше литературных, о которых знали директриса, воспитательницы, бухгалтер, повариха и дворник вместе взятые, некоторые литературные герои были, что называется, нарасхват и шли под номерами: Тристан № 1 и Изольда № 1, Тристан № 2 и Изольда № 2 и тому подобное.
Родителям накануне праздника вручили бумажки с присвоенными их деткам именами и пояснили, что завтра на утреннике каждый ребенок должен будет найти свою пару, ухаживать за ней (если он мальчик), танцевать только с ней, а девочке при этом не капризничать. На листочке также было указано имя избранницы (избранника). Имена были написаны крупными печатными буквами. Многим родителям пришлось порыться на книжных полках, а то и заглянуть в библиотеку, чтобы освежить в памяти, кто, например, такие Орфей и Эвридика. Больше других повезло избранникам с именами Василиса Прекрасная и Иван-царевич, Кай и Герда, а также Золушка и Принц, но это были подопечные самой Нины Васильевны.
* * *
Сереже Попсуеву, как подготовишке, достался серьезный герой «Сирано № 1» (имелся в виду Сирано де Бержерак). Судьбой (Ниной Васильевной и воспитательницей Кирой Семеновной) ему было определено не только это имя, но и дама сердца – «Роксана № 1».
Мама сняла с полки пьесу Ростана, и стала листать ее в поисках простенького стишка, с которым ее сын мог бы обратиться к своей пассии. Неожиданно Сережа взял у нее из рук книгу и прочитал несколько отрывков с выражением, то есть, с женским придыханием и мужским восклицанием, которым позавидовали бы и записные чтецы.
– Сереженька, ты читал эту книжку? – удивилась мама.
– Конечно! – гордо ответил сын. – Я даже много чего знаю наизусть. Хочешь, прочитаю?
– Прочту.
– Прочитаю.
– Хотя всё равно. Читай.
Мальчик отложил книгу в сторону, встал и, вскинув руку, продекламировал стихи вместе с ремаркой:
– Сирано (поворачиваясь вместе со стулом к ложам, любезно).
Прошу вас об одном, прелестные особы: Живите, радуйтесь! Своею красотой Дарите нам мечты, спасайте нас от злобы; Сверкайте ярче звезд ночных, Цветите ярче роз душистых, Будите вдохновение в артистах, Внушайте нам стихи, – но не судите их!– Ты мой мальчик! – растроганно произнесла мама и промокнула платочком глаз. – Да ты же моя умница. Вот завтра и расскажи этот стишок. Пошли спать.
– Я и других много знаю! – заверил сын.
– Вот и хорошо, вот и замечательно. Меньше будут косить глазом на сына циркачки…
* * *
В праздничный день было шумно и радостно. Наконец все расселись и угомонились. Дети впереди на стульчиках и скамеечках за столиками, родители и работники сада возле стен на стульях. Собравшихся в курс дела ввел представитель районной власти. Он произнес несколько приветственных слов от лица своего руководства, зачитал грамоты и вручил подарки заслуженным работницам дошкольного образования. Директриса зачитала доклад, посвященный истории праздника. В нем она кратко остановилась на отличии равноправия наших и мировых женщин, упомянула Клару Цеткин, Елену Гринберг и исторические решения ООН, а также заверила, что в мире борьба женщин за свои права обостряется, а у нас закончилась полной и окончательной победой торжества разума и справедливости. После этого выступили несколько благодарных отцов и матерей и, наконец, предоставили слово детям. Те прочитали и пропели трогательные стишки и песенки (тут всех, разумеется, поразил декламацией Сережа Попсуев), и только затем начался долгожданный праздник, а именно, танцы и чай с лакомствами.
Мальчики и девочки держали в руках записочки, на которых были написаны их имена и имена их суженых, подходили друг к другу и спрашивали: «Ты кто?» «Маргарита. А ты?» «Руслан. Не знаешь, где Людмила?» «Нет. А где Мастер?» «А кто это?» «Не знаю. Вот написано».
Сережа не стал разыскивать свою даму. Он поставил стул посредине зала, встал на него и воззвал к избраннице, озвучивая как бессмертные строки, так и ремарки к ним:
Ле Бре
Но, ради бога, кто она?Сирано
Она? Она? Сама весна. Ее очей глубоких ясность Несет смертельную опасность. Сама не ведая того, Она – натуры торжество, Ловушка дивная природы, Мой ум лишившая свободы, — Мускатной розы пышный цвет, Амура хитрого засада. В ее улыбке – солнца свет. Малейшим жестом, негой взгляда Блаженство рая, муки ада Сулит она душе моей. Походкой легкою своей Она проходит, молодая, Очарованьем красоты Богини образ воскрешая, В Париже, полном суеты. Ей не хватает лишь колчана, Чтоб все сказали: «Вот Диана!..»Ле Бре
Я понял…Сирано
Верен мой портрет!Ле Бре
Твоя кузина?Сирано
Да, Роксана.После этого Сережа добавил отсебятину:
– Я Сирано, но не любой! Я первый номер! Не второй!
И тут к Попсуеву бросилась Катя Петрова, которая жила в том же доме, что и Сережа, только в другом подъезде:
– Я! Я твоя первая Роксана! Вот у меня написано: Роксана номер один, а ты мой Сирано номер один! Мы навсегда теперь вместе!
В роли главного инженера
В огромном двойном окне драмтеатра висело объявление: «Современному театру требуется главный инженер. Мужчина не старше 45 лет. Желателен опыт руководящей работы, а также опыт работы на электротехническом, сантехническом, вентиляционном и осветительном оборудовании». «Оставил завод, оставлю след и в искусстве, – подумал Попсуев. – Главный, не хило».
Зашел в просторный, прохладный холл. У входа простенький стол, два стула, мусорная корзина. Тихо. Даже глухо. В нос ударил запах китайской лапши. Вахтерша держа в одной рукой кипятильник, второй ковырялась в пиале, вылавливая там что-то лиловое.
– Добрый день, – сказал Попсуев. – Я по объявлению, на работу. К кому?
– К кому? А вон к тому, дверь в перламутре. Что же это такое? – она понюхала выловленный кусочек. – Морква? Чи буряк?
Дверь и впрямь была в перламутре, массивная, под потолок, казалось, за ней восседает черт знает кто. Им, как явствовало из таблички, был «Директор Современного театра Заслуженный работник культуры Российской Федерации Ненашев Илья Борисович».
В предбаннике с узким высоким, как в средневековом замке, забранным решеткой окном секретарши не оказалось, и Попсуев открыл следующую дверь, пониже, темную и без финтифлюшек. Глазам Попсуева предстал, нет, не рыцарь на коне, предстал огромный кабинет с тремя широченными окнами по трем стенам, громадной хрустальной люстрой и зелеными явно импортными обоями в широкую золотую полосу. Пол устилал небывалых размеров зеленый же ковер, придавленный по центру гигантским столом заморского дерева, за который не стыдно было усадить самого Черномырдина. «Мебель затаскивали через окна, – подумал Попсуев. – Однако рояль тут не помешал бы, вон туда. И пять-семь рядов кресел».
– Заходите-заходите! – радушно приветствовал гостя кругленький человек, выкатывая из-за стола. – Вы Хочубинский? Харон Израйлич?
– Я мужчина не старше сорока пяти лет. Попсуев, Сергей Васильевич. По объявлению. – Попсуев махнул в сторону окна.
Круглый человек крепенько, но не сильно пожал ему руку.
– Чрезвычайно рад. Ненашев Илья Борисович. Заслуженный работник культуры РэФэ. – Усадив посетителя в одно из располагавших к приятному сиденью кожаных кресел, человечек подкатил к центральному окну и поглядел на зеленый дворик. Там под раскидистыми кустами цветущих роз прохаживались дама в шляпке в стиле Ренуара и мужчина с ней под руку в стиле Тулуз-Лотрека.
– По объявлению, какому?
Попсуев снова махнул в сторону окна с улицы.
– А, по объявлению. – Ненашев ткнул пальцем в стекло. – Константин Сергеевич выгуливает Изольду Викторовну. Главреж Консер (мы так для простоты зовем его) и прима.
Попсуев понимающе кивнул.
– Тристан и Изольда.
Директорское лицо осветила улыбка:
– Года не те… Староваты. Ну да сердца-то юны?!
По широкому внешнему подоконнику прохаживались говорливые голуби.
– Птицы, а!
– Да, птицы, – подал голос и Попсуев, прислушиваясь к их успокоительному воркованию. – Голуби.
– Загадили театр!
Илья Борисович постучал костяшками пальцев по стеклу и энергично помахал кулачком вслед взлетевшим птицам.
– Очень, очень приятно, Сергей Васильевич! – Директор подошел к Попсуеву, как киношный Ленин, сунул руку за обшлаг пиджака и стал покачиваться на носочках скрипучих туфелек. – Чем обязан?
– Я по объявлению, – повторил Попсуев, слегка приподнявшись с кресла и едва не бухнув: «Владимир Ильич». – Мужчина… На главного инженера.
– А-а-а! – попридержал его коротенькой ручкой Ненашев. – Да-да. На роль главного инженера, прелестно, прелестно! – воскликнул он. – Как же, как же, имеется такая вакансия! Вакансище!
«Прелестно» у него прозвучало с придыханием: «Пхгелестно».
После того, как Попсуев уточнил, нужен ли театру именно главный инженер или достаточно простого, директор воскликнул:
– Разумеется, главный, самый главный, какой вопрос! Ведь сознайтесь – простых инженеров и нет?
Закрой глаза – точно Ленин – в исполнении всенародно любимых артистов. Вот только почему-то «батенька» не говорит. По всему было видно, что Илья Борисович всю жизнь культивировал в себе благожелательность к посетителям, которых если и не считал, так называл «главными», отчего и сам выглядел не менее чем «главный», и превратился, в конце концов, в эдакий колобок радушия с живыми глазками, сочными губами, элегантно грассирующим говорком. Похоже, одним этим он располагал к приятной беседе любого ходока, даже по самому щекотливому вопросу, причем так, что щекотало одного только собеседника.
Попсуев согласился, что слово «простой» выдумано не от великого ума. Илья Борисович, как видно, привыкший при человеке «снизу» (даже самом главном) более сам говорить, чем слушать, непринужденно широкими мазками и звучным бархатистым голосом нарисовал театр военных действий по электрическому, сантехническому и прочим направлениям. Осветительную аппаратуру он и вовсе назвал «светотехническим плацдармом», причем слышалось опять же: «святотехнический». Просто вылитый Владислав Стржельчик в роли начальника Генштаба Антонова в киноэпопее Озерова «Освобождение» или, спаси Господи, даже какой-нибудь наипочтеннейший иерарх РПЦ.
Не сходя с места, Ненашев тут же назначил Попсуева командующим театральным тылом. И хотя директорской решительности позавидовал бы сам Наполеон, по некоторым его словечкам, по манерам и внешнему облику видно было, что Илья Борисович глубоко чужд бастионам, рукопашным и вообще всяким боевым действиям, где проявляется мужской характер. Вряд ли когда он нюхал порох, но зато был прирожденный тыловик, выпивоха, картежник и интриган. В терминах далекого военного времени – успешная тыловая крыса, которой, конечно же, можно быть, имея только прирожденные способности на это, соответствующую корпуленцию да еще закрома.
– Окопы для солдата хороши, – вырвалось у Попсуева.
– Что вы говорите! – восхитился Ненашев. – Чем же?
– Не так кусают тыловые вши.
– Прелестно! Просится на музыку. Буонапарте, кстати, начинал свое восхождение с окопов. На заводе кем изволили служить? – поинтересовался Ненашев. – ИТР?
– ИТР и т. п. Много кем. Мастером…
– Великим? – поднял мохнатые брови Ненашев, изобразив на лице ироничное почтение.
– Зачем? Простым и старшим. – Попсуев стал загибать по-русски пальцы: – Начальником участка, технологом цеха…
– Прелестно. Гамма профессий, прелестно! Это весьма пригодится вам, весьма. Кто был никем, тот станет всем, прошу прощения за невольный каламбур, ха-ха! Главное для главного, отличить приму от рампы, а Софокла от софитов. Сдается мне, вы отличите.
– Да должен, – согласился Попсуев. – Софит от софитов отличу.
– Да что вы? И как? Множественным числом?
– Нет, единственным образом: софит – это потолок, панель такая, а софиты – светильники на этом потолке. Это меня один итальянец просветлил, художник Луиджи Ванцетти.
– Не тот, что на электрическом стуле с Сакко?
– Однофамилец. – Попсуев почувствовал, что этот порхающий диалог стал слегка напрягать его своей бессмысленностью. – А мой предшественник… как бы поговорить с ним? Дела принять?
– Увы, Сергей Васильевич. Принять дела от него никак нельзя. Дела-дела… как сажа бела… да и поговорить… Архангельский, увы, покинул нас. – Илья Борисович воздел глаза и тут же что-то записал себе в поминальник.
– Уехал?
Директор изобразил переживание на лице.
– Посадили? – Пред Попсуевым предстала унылая, но широкая картина хищений и растрат. «Надо мне это?» – подумал он.
– Кабы, – вздохнул Ненашев. – Убит и взят могилой. Убит разгневанным режиссером за срыв генералпробе[3]. Представляете, совратил приму накануне прогона!
– Приму можно совратить?
– Увы, – вздохнул Илья Борисович, покачал головой и пощупал себе грудь. Заметив легкое недоумение на лице без пяти минут главного инженера, директор поспешил успокоить его: – Не беспокойтесь, Блюхера больше нет с нами.
– Сидит?
– Что вы, сидит да сидит! На театре «не содют». Лежит. Там же, рядом с Архангельским. В семнадцатом секторе, между двумя цыганскими баронами. «Я цыганский барон…» – вывел речитативом Илья Борисович, выжидающе глядя на Попсуева.
– «Я в цыганку влюблен…» Понятно. И ладно, – сказал тот, решив не углубляться в эту запутанную историю. «Собственно, какое мне дело до того, что было до меня, – рассудил он. – Архангельский, Блюхер, бароны, прима… Так и до Немировича с Данченко можно дойти. А дальше?»
– У нас тут весьма строго с производственной дисциплиной, – ни к селу ни к городу добавил директор. – Да и с техникой безопасности. Уже столько директоров погорело на театральных пожарах. Персонал, майн херц[4], кого ни возьми – поджигатель, просто сволочь какая-то! Не театр, а Москва двенадцатого года, которая восемьсот, разумеется, тысяча, горит каждый день. Гиляровского бы сюда, короля репортажа.
– Может, на каждого огнетушитель повесить? – ляпнул Сергей.
– А что! – даже взвизгнул от удовольствия Ненашев. – Представляю! Костя с огнетушителем! Или Изольда! – И тут же сделал пометку в поминальнике.
– А прима кто? – поглядев в окно на куст Ренуара, спросил Попсуев, чувствуя усталость от избытка энергии Ильи Борисовича. Почему-то вспомнились мухи на липучке, которых видел черт знает когда в заброшенной деревне под Волоколамском.
– Узнаете, скоро всё узнаете, Сергей Васильевич. Да завтра уже. Начало в девять, плюс минус фюнф минутен[5], не завод ведь.
– С завода я еще не уволился.
– Кайне проблем[6], совместите, Сереженька, совместите. В ваши годы!
Попсуев удивленно взглянул на директора, но тот его удивления не заметил.
– Да, еще, – задумался директор. – У нас тут с премиями не разбежишься, но варианты есть. В театре деньги хоть и любят, но служенье муз и прочая ерунда, в общем и целом бескорыстно. И это надо взять за основу.
– Да, самая бескорыстная любовь – к деньгам.
– Прелестно! Об этом, кстати, говорил еще наш Ильф. – Ненашев потряс руку Попсуеву, как близкому родственнику.
«А Петров – не наш?» – хотел спросить Попсуев, но благоразумно сдержался.
– Как вы думаете, Сергей Васильевич, рояль вон туда не помешает?
– Не помешает, Илья Борисович. Даже поможет.
– И прекрасно! Завтра же закажем!
На стене крест-накрест висели две старинные рапиры.
– За заслуги? – указал Сергей на оружие.
– Да, перед отечеством. Были и мы когда-то рысаками, – ничтоже сумняшеся ответил Ненашев и холеной рукой робко коснулся острия.
«Такой ручонкой спагетти наворачивать на вилку или банкноты считать, – подумал Попсуев, – да на шпажку оливки надевать или кубик сыра».
Радушно, с поклонами попрощались. Секретарша так и не появилась. Вахтерша живо поинтересовалась: – Ну что, берут? Слесарем? Наконец-то! Вторую неделю засер. Завтра выходишь?
– Да, – кивнул Попсуев, решив, что ослышался – засор, наверное. Чередующиеся гласные «о», «е» фантастически обогащают язык, а «ты», «вы» – существенно упрощают.
Вышел из театра Сергей несколько подавленный. Общение с Ненашевым утомило его и наполнило раздумьями и непонятной досадой. Неужели на самого себя? «Так всё-таки, не хило или хило?» – думал он, а воображение рисовало какие-то странные картины, где он и Ненашев находятся вроде как и в одном месте и в одно время, но в разных мирах. Причем он видит Илью Борисовича, а тот его нет. А может, просто и видеть не хочет…
Божеский вид примы
После репетиций народная артистка России Изольда Викторовна Крутицкая по два часа просиживала в уборной, приводя себя в божеский вид, хотя и к репетициям готовила себя не менее тщательно.
– Душись, душись, только не задушись, – завернув к приме, приговаривал Константин Сергеевич Асмолов, отмечая, что духов и мазей на туалетном и приставном столике прибыло, а к ним масса затейливых и не очень коробочек и шкатулок. – Поехали, поехали, Изольда, сколько можно? Ведро вылила на себя. Всё равно ведь смоешь.
– Ой, блин, достал, Костик! – восклицала та, разглядывая подбородок и шею и смакуя новое вполне театральное словечко «блин», успешно сменившее похожее, но более ругательное. – Вы, мужики, как кони, всё гарцуете! А мы не кони…
– И-го-го! – радостно соглашался Консер. – Вы бабы! Ты осторожнее, брякнешь на премьере «блин»! У Моэма этого слова отродясь не было.
– Только рады будут. Массаж нужен, массаж. Никуда не годится! Без него и кураж не тот. Брыльки эти! И вообще подтянуть всё туда, к ушам…
– Что, и грудь?..
– Гурченко видел? Плисецкую? Посмотри, как?
– Крачковскую видел. О, майн гот![7]
– Ты тоже что ли зашпрехал, как Илюша? Это, знаешь ли, нехороший симптом. Да, пора подтягивать.
– Пора, мой друг, пора. Сосет внутри. Прямо пылесос. СОС! Ты готова?
– Да готова, готова, – слегка раздражалась прима. – Я всегда готова. Какие вы всё-таки, мужики…
– Сволочи?
– Не я сказала. И вообще, это звание надо заслужить. Сволочь, Асмолов, звание народное.
– Согласен, согласен. – Главреж подцепил приму под руку и увлек в кафе, элитное, но народное, значит, сравнительно недорогое.
* * *
К вечеру Илья Борисович всё чаще и чаще произносил немецкие фразы и слова, а к ночи буквально сыпал ими. Темнота делала его немцем.
– Поддал! – отмечали в театре, используя этот факт, кто как умел и хотел.
До театра Ненашев работал в Германии, то ли на Майне, то ли на Одере, по снабженческой части. Сносно зная немецкий язык, с немцами и соотечественниками общался только по-русски, но как только выпивал, размягчался и «въезжал в чуждую культуру» в широком диапазоне от «Шпрехен зи дойч»[8] до «Гитлер капут»[9]. «Шпреханье» вскоре превратилось в привычку, а потом и в потребность. Вследствие этого (официальная версия) настал и отрезвляющий «капут»: его сократили и вернули в СССР, как часть национального достояния, причем, минуя столицу, сразу в родной город.
Тут подвернулось директорское кресло в Нежинском драмтеатре. Как выпускнику института культуры и неплохому знатоку человеческих слабостей, может, и еще почему, ему не составило особых трудов занять его, хотя поначалу он был в нем откровенно мал и даже незаметен.
Главное в руководящей должности – не притворяться. Надо себя так вести, чтобы самое изощренное и самое тупое притворство выглядели одинаково естественным и непритворным. На похоронах от прочувствованных искренних слов Ильи Борисовича рыдали навзрыд, а на именинах умирали со смеху, хотя он говорил одни и те же слова и исполнял одну и ту же роль лицемера. Не видя между этими мероприятиями особой разницы (во всяком случае душевные затраты у него были одни и те же), Ненашев везде являл собой радушного и добросердечного хозяина театра, совершенно равнодушного и к покойникам, и к живущим, исключая разве что находившихся при власти и при деньгах.
Природная смекалка, которая больше рабочей сметки на величину пронырливости, о которой в народе говорят – «без мыла влезет» – и тут позволила ему стать почти незаменимым, причем всем – театру, чиновникам, городу. Уже поплыло в СМИ – «театр Ненашева», «эпоха Ненашева», а вскоре и театр (фасад с колоннами) стал эмблемой города. Уже года два, как Илья Борисович на равных с Консером решал, что ставить и кого приглашать в театр. Попсуев ему чем-то приглянулся (может быть, дикой непохожестью на человека театра), и он тут же велел изъять объявление о приеме на работу из окна.
* * *
О том, что это прима, Попсуев догадался по крику, с которым актриса металась по театру, ища какого-то паразита, судя по всему, насолившего ей. Так орать могут позволить себе разве что незаменимые примы.
– Я его изничтожу! – не замолкал ни на минуту ее хорошо поставленный грудной, стелющийся голос.
Два раза пролетая с этим возгласом мимо Попсуева, Крутицкая успевала крутануться волчком и показать фигуру (хотелось бы написать «фигурку», но это словечко не вмещает героиню) и охватить пришельца своим негодующим – не относящимся, естественно, к нему – взглядом. Причем умудрялась одновременно нарисовать на своем атласном личике вопрос «Кто такой?», звучавший уже не контральто, а ближе к женскому – меццо-сопрано и даже сопрано.
Сергей вспомнил, как любил вешать лапшу на уши девицам. «Под большим секретом» он сообщал им, что согласно выводам специальной теории относительности изящность женщины зависит от ее темперамента. Мол, вернее всего мужчины клюют на холерический тип, потому что, чем стремительнее женщина пролетает мимо мужчины, тем миниатюрнее она ему кажется. Многие из девиц, услышав это, «убыстрялись», будто обретали дополнительный заряд. А вот Изольда Викторовна, похоже, и сама дошла до этого, без подсказки.
* * *
Сигареты «Прима» имеют весьма опосредованное отношения к пристрастиям примадонн. Конечно, называть драматическую актрису примой, примадонной не совсем верно, но если она действительно примадонна и в ней бездна музыкального слуха и обаяния, а каждый ее взгляд или слово звучит как увертюра? Тогда, думаю, можно называть без натяжек. Тем не менее Изольде Викторовне кто-то регулярно подбрасывал в сумочку или сапожок смятую пачку ростовских сигарет «Прима», да еще с крупными коричневыми крошками вонючего табака, чем нередко приводил народную артистку в исступление.
Разумеется, ей льстило, что на нее последний придурок тратит свое время и воображение (да и сбережения!), и оттого с удвоенной энергией металась по театру, как фурия. Ее контральто разом звенело во всех уголках здания, от подвала до чердака, в последний год почти всегда требовательно и жестко, отчего иным хотелось выскочить из театра вон. От нее прятались даже рабочие сцены, так как она пускала в ход не только язык, но и руки, а хуже того, крепкие до безобразия ногти. Даже директор с главрежем в эти часы старались на глаза ей не попадаться. Еще глаза выдерет, дура.
Ненашев в принципе не любил «бабдур», и соглашался на них лишь в силу роковой необходимости: без примы театр, увы, не театр, а бордель. А вот Консера заботило одно лишь искусство, которое без «бабдур» вообще одно извращение. В театральном искусстве, где в особом почете высокий балаган, кукольного умения звонко вскрикивать и складываться в акробатические фигурки ă la Кама Сутра, явно недостаточно. Нужна еще алчная пустота примы, каждый раз наполняемая новым непредсказуемым содержанием и отчасти женским опытом.
Изольда Викторовна, как никто другой, умела проникать в образ, наполнять им себя под завязку и щекотать тем самым нервы обывателю. Компот приходилось расхлебывать всем. И плевать, что на дне оставались муть и червячки.
* * *
Тем временем Изольда Викторовна, не найдя начальства, начинала гневаться уже не шуточно, пока ей не подворачивался какой-нибудь театральный кнехт, на котором она и срывала свое негодование.
– А вы кто?! – Попсуев даже вздрогнул, услышав грозное восклицание за спиной.
– Дед Пихто! – ответил Сергей, взглянув на пышущую гневом даму неопределенных, значит не юных лет, спикировавшую на него на третьем заходе. «Стервь, – отметил он, – но хороша, хотя и на закате».
– Что вы тут делаете? – Прима строго, «в образе», смотрела на него. Грудь ее нешуточно волновалась (здесь: волнение на море), а глаза и губы влажно поблескивали.
– Что?
– Что вы тут делаете, я вас спрашиваю?!
– А вам-то что? Вы кто?
Вопрос убил Изольду Викторовну. Она полагала, что ее-то уж в театре обязаны знать все наизусть. И вообще – всяк сюда входящий забудь обо всех, кроме нее. Особенно входящий с таким разворотом плеч.
– Как кто?
– Да, кто? – Попсуев понял, что его сейчас «понесет». – Какого черта, судар-рыня?! – с рокотом и хрипотцой ă la lettre[10] Высоцкий вырвался из него вопрос.
– Нет-нет, никакого. Обозналась, – обескураженная (впервые в жизни) актриса ретировалась, но, разумеется, с благоприобретенным достоинством.
Через час нашла его, взяла за руку и, как ни в чем не бывало, доверительно глядя ему в глаза, спросила воркующим голосом: – Так вы теперь наш главный технический руководитель? Сергей Васильевич, можно, Сергей? Я Изольда, Сергей. Изольда Крутицкая. Актриса. Ведущая актриса, народная артистка театра. День и ночь веду, блин, театр к очередным творческим свершениям.
– Мне, кхм, в другую сторону. Короче, где тут щитовая? – не совсем ласково прервал Попсуев лисьи речи.
– Короче? – прима любезно согласилась показать ему, как сразу же понял Сергей, не самый короткий путь. – Короче! Путь к любви всего короче.
– Йес, к аморэ, миа дольче, путь короче, а не дольче[11], – подхватил Сергей.
«Дольче» взяла его под руку и повела, расспрашивая обо всём, как старинная знакомая, даже о неведомых Попсуеву тетушках из Белгорода. При этом заразительно смеялась и прикасалась в ритме белого вальса через два шага на третий бедром. Слегка, но чувствительно, так что даже пошатывало.
Не успела прима задать Попсуеву десятка-другого вопросов, как их нашел директор.
– Щитовую ищете? Со щитом или на щите! Айн момент, Сергей Васильевич, провожу. Боюсь, Изольда Викторовна, не совсем в курсе, что это такое.
Прима вспыхнула от искусственного негодования, но сдержалась.
– Я вас найду, – пообещала она Попсуеву.
– Найдет, – подтвердил Ненашев, когда та скрылась за поворотом. – Эта черта найдет.
Илья Борисович провел Попсуева до щитовой, две минуты с любопытством смотрел, как тот возится непонятно с чем, и потом вернулся к себе. «Хлопнул» коньячку и, шлепнувшись в кресло, блаженно разглядывал голубей, разгуливавших по широкому подоконнику.
– Ах, майн либе Августин, Августин, Августин, – мурлыкал он, вспоминая изумрудную лужайку на берегу то ли Эльбы, то ли Одера и белокурую фрау Эльзу в шляпке с зонтиком в таком роскошном, таком восхитительном белье, которое и снимать ни к чему. «Какая ж Изольдочка настырная баба! Отшлепать бы ее!»
* * *
Попсуев от щитовой направился в свою конуру в полуподвальном помещении. Всё это время в его голове крутилось имя Изольда. «Венера Анадиомена, – подумал он о ней, – антично полновата, зато самый смак!»
Сергей чувствовал смутное беспокойство, некогда испытанное им, когда на диспетчерской точно так же повторял имя Несмеяны. «Все они, такие сладкие, женские имена, когда их в первый раз пробуешь на зубок. Дольче. Но чем дольше, тем, увы, не дольче…» Не успел Сергей додумать эту мысль, как почувствовал вдруг такую тоску, что захотелось волком завыть от одиночества, от которого (он четко знал это) его никто не мог избавить, разве что одна Несмеяна…
Прима нашла Попсуева после обеда и тут же стала жаловаться на черствость начальства. Хотя у искусства a priori не может быть начальства, оно (начальство) почему-то всё-таки было, и в достаточных количествах. Но только не над ней, Изольдой Крутицкой!
Сергей терпеливо слушал, поддакивал приме и после того, как она попросила дружеского участия, с готовностью откликнулся: – К вашим услугам, сударыня!
.– Мы должны с вами сдружиться. У нас это получится. Чую всеми фибрами. Есть сродство душ. Как это у вас в электротехнике – химическое сродство электронов?
– Позитронов.
– Позитронов. И общий взгляд на вещи. Вы так понимаете меня!
– Изольда Викторовна! – крикнули в конце коридора. – Вас Консер!
Крутицкая обворожительно улыбнулась Попсуеву и, грациозно качнувшись, направилась к главрежу. Каждый шаг актрисы можно было выделить в отдельное произведение искусства и в рамку. А сама просто летящий электрон, неисчерпаемый как атом, ищущий очередной позитрон, который от встречи с ней аннигилирует к чертовой матери, а попросту исчезает за плинтусом. «От бедра!» – хотелось в восторге крикнуть, глядя на нее, как в авиации: «От винта!» Ей-богу, сотни мужских торсов не стоят одной ее лодыжки, а сотни извивов пропеллера одного изгиба ее идеального бедра!
За поворотом закричали. «Как же тут интересно, – подумал Попсуев, – как в лесу. Похоже, на вахте орут. Так и есть».
– Где слесарь? Где этот чертов слесарь? – орала вахтерша за столом. – Да что же это такое: как кого ни возьмут, так алкаш!
– У вас проблемы, сударыня? – подошел Попсуев.
– Проблемы не у нас, проблемы у тебя, – огрызнулась сударыня. – С утра, кто обещал устранить засор?
«Значит, ослышался», – подумал он, с досадой отмечая, тем не менее, что атмосфера всеобщей вздрюченности стала его напрягать.
– Есть другие задачи, – бархатисто сказал он голосом Ильи Борисовича.
– В театре одна сверхзадача, – отрезала вахтерша, – не допускать вони!
– О! – только и смог выговорить главный инженер, навсегда усвоив стратегию всякого искусства и его главный (увы, недостижимый) результат.
* * *
– А тут что, пожар был? – В стене на месте двери зиял черный проем, внутри было всё черным-черно.
– Да, возгорание, – равнодушно бросил Илья Борисович. – Сгорело пару стульчиков, дорожки, тряпки…
– Просторно, – заглянул вовнутрь Попсуев. На него пахнуло старой гарью.
– Зальчик. Тут два года назад выбирали руководство театра, моего предшественника. Гвалт стоял, народная стихия. Рок-опера.
– «Рок»? – оценил Сергей – А вас тоже выбирали?
Ненашев снисходительно пояснил: – Зачем же? Через месяц народный избранец ушел, а мне предложили это место.
– По объявлению?
Ненашев не расслышал.
– А что же не ремонтируют?
– Смета есть, вот и займитесь, Сережа.
– Но я не строитель, – остановился Попсуев.
– А это так важно? – поднял брови Ненашев. – Я тоже массовик-затейник.
– Но это же строительство, СНИПы…
– О чем вы, голубчик? Какие СНИПы? Что такое СНИПы? Это внутренняя перестройка: убрали перегородочки, пол бросили, потолочек подшили. Косметика. Архитектор подмахнет, согласовано.
– От внутренней перестройки страна развалилась…
– Сергей Васильевич, вы, случайно, не коммунист?
– Я сам по себе.
– Смотрите, а то я уж, было, оробел. Нам тут коммунизма не надо. Да и демократии. Нам нужно одно искусство.
– С его сверхзадачей.
Баварский с нижегородским
На планерке Ненашев сообщил, что ремонт малого зала, его стараниями и талантом главного инженера театра завершен. Попсуев хотел уже спросить, с чего это взял Илья Борисович, что ремонт завершен, если к нему еще и не приступали, разве что разгребли пожарище, помыли да покрасили, но директор мягко пресек дискуссию, попросив завезти со склада кресла и шкафы.
– Видите, какой дизайн, – похвастал Илья Борисович, показывая рекламные проспекты. – Жуткие деньги ушли, будет, чем москвичам нос утереть. Шкафы для книг и подарков, а кресла!
В этот день Сергей так и не сумел спросить у Ненашева, к чему такая спешка, и как потом с мебелью доводить ремонт до ума. Но на следующий день недоумение рассеялось, когда в коридоре директор подловил его и, взяв за локоток, повел к себе. Растворив огромную фрамугу, Илья Борисович насыпал на подоконник пшено из пакетика. Голуби стали топтаться чуть ли не по его рукам.
– Я решил с ними не бороться, – пояснил он. – Коньячку?
– Благодарю вас. У меня еще поворотный механизм.
– Пустяк! Колесо обождет. Это ж не колесо истории, ха-ха-ха! – Ненашев достал коньяк. Он глядел на Попсуева маслянистыми бусинками черных глаз и, похоже, что-то соображал.
После рюмки-другой отличного коньяку Попсуеву стало тепло и всё безразлично, прошлое, настоящее, будущее. Гори оно!.. «Весь мир – театр». Шелестела жизнь за окном, ворковали и пихали друг друга на подоконнике голуби, ненасытные и злобные…
– Вот, Сергей Васильевич, смета на следующий год, соблаговолите подписать, вот тут.
Попсуев взял протянутые листы.
– Тут ваша фамилия. – Попсуев поднял глаза на директора. Илья Борисович зашмыгал взглядом.
– Фамилия? Мы тут все одна фамилия. Как в Сицилии, ха-ха! Я вас тут провел своим замом. Вот бэфель[12], ознакомьтесь. С минувшего понедельника. Распишитесь – вчерашним, вчерашним днем. А смету подписывайте сегодняшним числом.
Сергей расписался в приказе, стал изучать смету.
– А почему кресла выписываем, шкафы? Мы же завтра завозим их со склада.
– А варум? Цу велхем цвек?[13]
– То есть, как, зачем? – Попсуев обескуражено смотрел на Ненашева.
Илья Борисович налил еще коньяку. Сергей обратил внимание, что себе он наливает меньше, чем ему.
– Сереженька, дело в том… ну, за удачу… дело в том, Сергей Васильевич, что завтра мы ничего не завезем… нихтс…
– Не завтра, так послезавтра…
– Зи нихт ферштеен[14], – мягко прервал его Ненашев и доверительно сообщил: – Никогда не завезем. Зачем? Считайте, что они фербреннен, сгорели. Еще до вас. Фойер[15]! Шутка. Бёзен штрайх [Дурная шутка – нем.]. Нет их. Фьють. А вам я премию выпишу, за экономию. В этом году сэкономим, без экономии никак нельзя, а завезем в следующем.
– Хорошо, вам виднее, Илья Борисович. Да и это до меня было. А до меня – хоть потоп.
– Логика инженера, главного! Ну, нох айнмаль[16], и по домам. Вы, Сергей Васильевич, сегодня отдыхайте, завтра делайте этот круг. Ауф видер зейн[17].
– Аривидерчи, – попрощался Попсуев.
– О, Ла Скала! Гуте нахт[18], – приложил к груди пустую бутылку Ненашев.
– На солнечных скалах! певца из Ла Скала! с улыбкой оскала! я пылко ласкала! – продекламировал Попсуев и, открывая протянутой рукой двери, вышел вон, не заметив секретаршу, милую особу, про которую говорили, что «всё при ней, даже Ненашев».
– Какой человек! – глядел вслед главному инженеру директор. – Какой матерый человечище! – И, достав новую бутылку, тут же кнопочкой вызвал секретаршу, чтобы поделиться с нею своими наблюдениями.
* * *
Попсуев нашел коробку и направился в туалет собрать разбросанные обрезки труб. И тут погас свет.
– Костик? Костя, это ты? – послышался голос примы – его Попсуев уже не спутал бы ни с каким другим. – Ты куда делся?
– Это я, – ответил Сергей, в потемках налетев на открытую дверь.
– Кто вы? – воскликнула актриса. По голосу было слышно, что она раздражена и сильно не в духе. – Это вы? Почему погас свет? Где Консер?
– Кончился, – произнес Попсуев. – Крысу не встретили?
– Крысу? Какую крысу!
– Серую. Зашла сюда. Из коридора, впереди шла-шла и зашла.
И в это время зажегся свет. Прима с воплем взлетела на стол, но Попсуев успел заметить довольно безмятежное выражение ее лица.
– Где она? – вскричала Крутицкая. – Поймайте ее, уничтожьте!
– Держите, – Попсуев протянул приме коробку. – Накинете ее на крысу, как только покажется.
Актриса с ужасом отбросила коробку, будто она уже была полна крыс.
– Ни за что!
– О, мама мио, за что мне это наказание? Слазьте со стола.
– Не подталкивайте меня! Не хватайте меня за ногу! Я сама.
– Да пожалуйста, пожалуйста.
Актриса села на стол, спустила ноги. Попсуев подхватил ее на руки.
– Да вы откройте глаза, опасность миновала, – сказал он, опуская ее на пол. Прима, однако же, всё еще нуждалась в защите. Сергей поцеловал ее в губы. Она словно ждала этого. «Вот же пиявка», – подумал Попсуев.
– Сладко целуешься! Где тут выход, проводи! – скомандовала актриса.
«Вот я уже и в пажах!» – подумал Сергей.
– Как я тебе? – не удержалась прима от вопроса.
– «Как все причудницы, изящна и умна», – процитировал Попсуев Ростана. – И «я люблю, конечно, ту, кто всех прекраснее!»
В коридоре оказался главреж.
– Костя! Костик! Ты почему оставил меня в этом подземелье одну, на съедение крысам?! – воскликнула Изольда.
– Тебя съешь! Да ты, голубушка, и не одна. Погляди, какой витязь рядом с тобою! Чего ты затащила меня сюда?
– Я? Тебя? Ты же позвал меня!
– Хорошо, я, – согласился Консер. – А теперь тебя, звезду, зову наверх, к звездам. Удачи, Сергей Васильевич!
– И вам того же, ваша милость! – расшаркался Попсуев.
Кошмарик
По режиссерской части конкуренцию Консеру составлял, пожалуй, один лишь режиссер (тоже заслуженный) Иннокентий Шмарик. Он еще был руководителем театральной студии, что уравнивало его в правах с главрежем, а порой и позволяло быть на ноздрю впереди. Сам он полагал себя лучшим постановщиком в городе. Когда он говорил о здравствующих или почивших коллегах-классиках, обязательно вспоминал и о себе. Шмарик не сомневался, что люди будут долго помнить о нем, как о выдающемся деятеле театрального искусства. Не было часа, чтобы Кеша не пожаловался на жизнь, здоровье или судьбу. А еще на завистников и бездарей, окружавших его. Те называли его по-дружески Кошмариком.
Ключевым словом его сути было слово «обида». Обида подзаряжала Кошмарика, лелеяла и вдохновляла. Он обижался на всё и на всех: на жизнь, на судьбу, на несправедливость, на соседа, на спикера областной думы, на мэтра отечественной прозы, на газетного писаку, на зам. губернатора, на рабочего сцены, на слякоть, на дефицит изданий произведений классики… Чего бы кто ни сказал или не сделал, он любым своим словом или действием глубоко обижал его. Посему он называл их всех «неблагодарными». Исключая, разумеется, одного только Константина Сергеевича. Если еще и Станиславского, то двух. С главрежем Шмарик общался мало, и только по делу. Они улыбались друг другу, иронизировали с подковыркой, но их объединяла взаимная ненависть. Оба знали, что руководящие круги устраивал такой режиссерский тандем, поддерживавший в театре творческий заряд.
Из своей обиды Кеша высасывал всё до последней капли: цветы, подарки, премии. При этом страшно зудел и раздувался, как комар. Жил этим, был счастлив и устрашал окружающих. С Кошмариком никто не хотел связываться. На нем, вопреки поговорке, никто воду не возил. Более того, возили эту воду сами, чтоб только не связываться с ним. Он же к шестидесяти годам стал местной знаменитостью и даже «харизматической» личностью, о которой с пиететом говорили даже в коридорах губернской власти, хотя в кабинетах и морщились.
* * *
На юбилее режиссера, который отмечали со столичным размахом, не говорил только немой посланник общества глухонемых. Но и здесь самые проникновенные слова о Шмарике были сказаны самим Шмариком. В своей заключительной благодарственной речи Кеша не упустил случая попенять Москве, которая обошла его в юбилейный год «Золотой маской».
– И почему? – спросил он у зала и залу же ответил: – Потому что настоящий талант – народный талант! А народный талант может оценить только народ! В Москве же народу нет.
Под горячие аплодисменты, свидетельствовавшие о том, что в Москве и впрямь нет народа, и что приблизилось время банкета, Кошмарик покинул трибуну. На банкете Кеша царил по праву, и как виновник торжества, и как тамада, и как главный говорун. Про обиды он старался не вспоминать, больше говорил о планах и прожектах.
О том, как давным-давно он мечтал поставить «Войну и мир». По юношескому замыслу в воздухе должны были летать, «слегка соприкасаясь рукавами», два главных персонажа: Купидон чистой любви и Дубина народной войны. В ближайшем же будущем Кошмарик мечтал воссоздать Париж, Бургундский отель, гасконцев и гордую красавицу, в которую влюблен герцог. При этом режиссер почему-то не сказал, что за пьесу собрался он ставить, ну да банкет уже был в той его части, когда названия не удерживаются в памяти. Да и секрета особого не было. Присутствующие, конечно же, сразу догадались, что речь шла о пьесе «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана – и это вам не хухры-мухры!
Кайф примы
Кошмарик не стал тянуть, и на худсовете в репертуар театра протолкнул пьесу Ростана, причем в уже подготовленной осовремененной версии. Героическими усилиями режиссер и столичный драматург Иван Бернштейн вытащили героическую комедию из Парижа начала XVII века в Москву конца XX. Первые четыре действия «Обновленного Сирано» (рабочее название) происходили осенью 1993 года на улицах и в злачных местах столицы, а пятое и вовсе заглядывало в недалекое будущее – 2008 год, конкретно в столичный аквапарк. Что и говорить, задумка отличалась оригинальностью и смелостью.
На сцене сталкивались старые и новые силы России: орущая ватага бездельников в шинелях и деловой истеблишмент в смокингах или мини-бикини. Половина сцен шла обнаженкой, но не полной: завлекательные места господ и дам были прикрыты лоскутками ткани и шнурочками. Кавалеры лихо дрались ногами, вскрикивая по-японски, а дамы зажигательно крутились вокруг стульев. СМИ широко анонсировали премьеру «Всё равно» (так окончательно переименовали оригинал).
– Зрителю сегодня нужны натуральные переживания, не скрытые под покровом слов и одежд, – раскрыл свое кредо журналистам Кошмарик.
– Чтобы лучше вжиться в образ, репетируем на натуре. Раскрепощайтесь! – добавил он своим коллегам. – Главный инженер пусть позаботится о наддуве сцены теплым воздухом и отсутствии сквозняков.
Актеры и особенно актрисы в своем репетиционном порыве как с цепи сорвались. Играть налегке было и впрямь легко – одежда и предрассудки старого воспитания больше никого не связывали. С первой же репетиции все сцены шли как по маслу, азартно, без лишних повторов, но и без ропота при них. Как правило, после репетиций парочки разбегались по своим углам и там шлифовали сцены до совершенства. Надо сказать, что репетиционный процесс захватил всю труппу театра и стал до того «волнительным» (словечко появилось тогда же, когда и «блин»), что участники действа перестали даже интриговать друг против друга. Сборы обещали быть огромными. Ненашев утвердил цену на билеты, в десять раз больше обычной. В городе потирали руки ценители искусства, а театралы и эротоманы всех толков и направлений ждали премьеры как праздника.
По ходу пьесы своенравная красавица Роксана в блистательном исполнении Изольды Викторовны не единожды являлась на сцене в легкой шнуровке, что вносило в общую атмосферу спектакля дополнительный объем и краски. Главреж не мог нарадоваться на неувядаемую актрису, и, как обладатель этого сокровища, подначивал Кошмарика: «Что, Кеша, хотел бы такую бабенку?» Изольде же он то и дело повторял:
– Вот! А ты не хотела!
– Чего я не хотела? – каждый раз играла возмущение Изольда, любуясь собою в зеркале. – Я хочу всегда!
– При распределении ролей не хотела появляться на сцене голой!
– Обнаженной, Костя. Обнаженной, как Маргарита. Да и не вся я обнажена, есть и покров, вот он. – Актриса брала в щепотку шнурочки.
– А что, теперь мы сможем замахнуться и на Маргариту, – задумывался главреж, представляя, какой фурор произведет на зрителей сцена бала, особенно если ее растянуть на полспектакля, да еще с выходом в зал. – «Золотая маска» будет наша. Губернаторская премия. Но Кошмарику «Маргариту» я не отдам! Сам буду ставить!
– И правильно, Костик! У тебя и меня получится.
* * *
Изольда Викторовна после очередной репетиции, где она отметила пару незамеченных ею ранее торсов и иных достоинств актеров последнего призыва, приняла душ, натерлась мазями и всё еще в возбужденно-приподнятом состоянии направилась к главрежу, поболтать о том о сем. По пути она встретила Попсуева, которого ни разу не видела на репетициях, и всё еще размягченная эротическими сценами и сопутствующими им чувствами, радостно подцепила главного инженера под руку, развернулась и повела к себе в уборную под предлогом ремонта торшера.
– Это кайф! – то и дело восклицала она. – Кеша гений. Только Консеру об этом ни-ни! Действительно, в наготе кайф. Особенно, когда тобой любуются. От одних только мужских глаз оргазм. Разве не так? Взгляд красавицы тоже может подвигнуть на многое! – Она окинула Попсуева таким восхищенным взглядом, что впору было тут же тащить ее в постель: – А что же вы до сих пор не удосужились посмотреть на меня?
– Да дела всё, – вздохнул Попсуев, слегка обескураженный такой откровенностью. Не каждый день услышишь подобное от дам, даже народных. И вообще от женщины Сергей не слышал еще этого слова, хотя, понятно, редко обходилось без него. – На прогоне посмотрю.
Он как-то наблюдал с балкона начало репетиции, оставившее его в некотором недоумении. На сцене кувыркался и истошно орал едва ли не весь молодежный состав труппы, парочка елозила на скамье, укрывшись плащ-палаткой, да вывалила на стойку буфета неувядаемые белые груди пятидесятипятилетняя заслуженная артистка Маргарита Качалина, сипло кричавшая: – Кому угодно пить? Пожалуйте сюда. – После того, как она, похлопывая себя по груди, добавила фишку постановщиков: – Напою молоком и сиропом! – Попсуев, не дождавшись появления Роксаны и Сирано, ушел в свой закуток и напоил себя пивом.
– А чего прогона ждать? Можно и сейчас. Готов?
– Всегда готов! – Попсуев вскинул руку, как пионер, и уселся на диван. – Ждать прогона вам не надо, уверяют нас гонады!
– Грубовато, но верно! – воскликнула Изольда, повернула ключик в двери, разделась и продемонстрировала себя так, как может продемонстрировать только народная, многими не раз любимая актриса, в конце выдохнув с блаженной улыбкой Попсуеву на ушко: – Душка.
«А Костик старичок», – с грустью, но без сожаления констатировала она, сыто разглядывая Сергея, как вкусное, но пока только продегустированное блюдо.
Всё равно премьера Сирано
За несколько дней Попсуев вполне освоился в роли любовника актрисы. Ему нравилось пикироваться с ней по всяким пустякам, так как всякое слово, сказанное против, возбуждало Изольду.
– Как я понимаю Огюстину! – вздохнула Крутицкая, прихорашиваясь у зеркала.
– Кто такая? – Сергей листал альбом с фотографиями актрисы. – Огюстина кто?
– Огюстина Броан, французская актриса. Свой рабочий день начинала с молитвы Богородице: «О Мария, зачатая без греха, сделай так, чтобы я могла грешить без зачатия!»
– И как? – усмехнулся Попсуев. – Грешила?
– Грешила, – снова вздохнула прима. – Не смотри на меня так, бесстыдник! Довольно, пора на Голгофу идти!
– Раз Мария разрешила, с одобренья и грешила… Когда премьера?
– Седьмого ноября.
– Что, другого дня не нашлось? – спросил Попсуев. – Порнушку в красный день календаря казать.
– День как день, – пожала плечами Изольда Викторовна. – Не ко мне вопрос. И какая порнушка? Эротика! Плесни-ка еще в бокал.
– Ну да. Искусству плевать на всё, что не искусство, – сказал Попсуев.
– Не хами.
– Я скот, ничтожество, я хам. Со мною погрузимся в яму. Вот только кто же вы, мадам, отдавшись на диване хаму?
Изольда как кошка бросилась на Сергея, но тот увернулся от ногтей, подтолкнул ее в зад, так что она упала на диван, после чего поклонился и вышел.
– Сволочь! – проводила его восторженным восклицанием актриса. «Вот кого надо в директора!»
Изольда Викторовна была довольна: закрутить мужика, чтоб он был «всегда готов» и на иголки отвечал стихами, нужен талант. И не только его, а и ее. Прима была уверена, что с ее талантом (и, разумеется, красотой) в Современном театре «рулит» она, а не Костик с Ненашевым и всякие Кошмарики!
Но что бы ни думали о себе примы и режиссеры, судьба постановок не всегда решается в их кабинетах и будуарах, и даже не в отделах культуры. После того, как общественность узнала о том, что одиозная премьера назначена на 7 ноября, возник скандал. Пенсионеры, среди которых было немало заслуженных, уважаемых и влиятельных в недавнем прошлом людей подали жалобы на лицедеев во все доступные им инстанции и иск в суд, а также устроили перед зданием театра митинг, позабавивший СМИ. Не дожидаясь вердикта суда, отреагировали заоблачные выси. Оттуда прогремело: «С премьерой повременить! Выборы на носу! Ставьте альтернативную версию, без новаций! А через год делайте, что хотите».
* * *
Для постановки «альтернативного» «Сирано де Бержерака» из Латвии пригласили известного в театральных кругах режиссера Андриса Ненашевиньша. Для Кошмарика это стало шоком, но он ничего не мог поделать, так как пригласил латыша кто-то из недоступных ему международных сфер.
В театре поначалу поразились необыкновенному сходству Ненашевиньша с Ильей Борисовичем, но оказалось, что Андрис – младший брат директора, Ненашев Андрей Борисович. Отличить братьев можно было по перстенькам: у «латыша» была печатка на безымянном пальце левой руки, а у «сибиряка» на безымянном правой. Да, и Андрис, в отличие от бархатножурчащего брата, обладал удивительно звучным, басовитым голосом, за который его иногда называли «Рижским Товстоноговым».
Ненашевиньш привез режиссерский сценарий, отчего у Кошмарика помимо Консера в театре появились еще два субъекта ненависти – братья Ненашевы. Чутко реагирующий на неприязнь коллег Андрей Борисович заметил Илье Борисовичу: «Этот Кошмарик ненавидит нас братской любовью!»
Вскоре в театре узнали о том, что премьеры «Всё равно» не будет, но «Сирано» всё равно поставят. И что сценарий повторяет пьесу Ростана, сокращенную на треть за счет второстепенных (по мнению режиссера) сцен. Часть артистов сникла, а другая (большая) воспрянула духом. Роксану по-прежнему играла одна Крутицкая, ей не составило труда перенести акцент «с плоти на душу», разве что пришлось облачиться в платье, а вот с Сирано у Ненашевиньша возникли проблемы. Два молодых артиста, игравшие в первой редакции больше телом, нежели словами и мимикой, были еще чересчур зелены для этой роли (хотя Сирано был тоже молодой человек), им явно не хватало сценического опыта, но еще больше жизненного, а по большому счету харизмы великого поэта-дуэлянта.
Перебрав всех потенциально подходящих актеров, Ненашевиньш остановился на заслуженном артисте России Буздееве, хотя Консер предупредил его, что пятидесятилетний мастер подвержен запоям, из которых его нельзя вытащить неделями. Однако делать было нечего, и Буздеева утвердили на эту роль, несмотря на то, что он был грузноват для много голодавшего аскетичного Сирано, и шпагой фехтовал, как энтомолог булавкой.
– У нас есть мастер клинка, – сказала Крутицкая, – он может подучить Буздеева.
– Ничего, обучу сам, – отклонил предложение Ненашевиньш, – Название для нашей постановки есть. Главный герой хоть и парижанин, но в нем столько гасконского, что подойдет «Сирано из Гаскони».
Главная роль главного инженера
Перед репетицией в воскресное утро Ненашевиньш сильно нервничал. Буздеев явно не справляется с ролью. «И впрямь под стать пузатым урнам пивной бочонок Монфлери! И заменить некем! Вот же труппа! Никого из достойных актеров в этом амплуа! Пригласить Барабанщикова из Москвы? Дополнительные расходы, где взять? Надо с Ильей покумекать».
– Где Буздеев? – раздраженно спросил он.
– Где Буздеев? Буздеев где? – понеслось и затихло; Буздеева не было нигде.
– Буздеев в вытрезвителе, – шепнул на ухо режиссеру помощник.
– Что! В каком вытрезвителе?! – пробасил режиссер.
– На Писаревской.
– Что за Писаревская? У нас сцена в Бургундском отеле!
– Он сейчас в Вермутьском. Так у нас зовут вытрезвитель Центрального района на Писаревской.
И тут из ложи послышалось: – Как истый пьяница, я должен в самом деле / Бургундское вино в Бургундском пить отеле!
Андрис с интересом взглянул в сторону звучного голоса, но никого не увидел. Голос продолжил: – Вот Русильонское мускатное вино.
– Это что там за шутник? – задал риторический вопрос Ненашевиньш. – И долго Буздеев будет на Писаревской?
Никто не ответил. Режиссер развел руками, не зная, что сказать. Обстановка накалилась.
– А пусть Буздеева заменит Попсуев, – вдруг предложила Изольда Викторовна, – пока тот протрезвеет. Текст знает, причем всю пьесу. И взгляд на Сирано свой.
– Он, что, театральное окончил? Какое? Когда?
– Нет, энергетический институт, московский.
– А, пролеткульт… С выражением говорит? Или с выражениями?
– В театральной студии сыграл несколько ролей. Гаева в «Вишневом саде», Арбенина…
– Арбенина? Хм… И где он?
Попсуев перешагнул из ложи в зал и направился к Ненашевиньшу.
– Ага, вот он. «Кто этот Сирано?» – задал вопрос Андрис, проверяя знание Попсуевым текста.
– «Преинтересный малый, – ответил Попсуев строчками из пьесы – Головорез, отчаянный храбрец…»
– «Да кто ваш покровитель?» – произнес режиссер еще одну реплику, но Сергей и на нее ответил по тексту:
– «Никто».
– А-а, хорошо! Слова знаете. Шпагу в руках держали? Ладно, подучим.
– Так это он сам учил нас фехтовать, – сказала Крутицкая.
– Вот как! – удивился режиссер. – Возьмите шпагу. Махнемся.
– Махнемся. Крепче держите.
– Что ж не нападаете?
– Жду нападения от вас. Я к вашим услугам.
– Ну, держитесь!
– Держусь, – пробормотал Попсуев и внезапным скользящим ударом выбил шпагу из рук Андриса.
– Мастер!
– Старший. Удар кроазе называется, классика, правда в спортивном, а не в сценическом фехтовании. Пальцам не больно? «Скажу вам не тая: / Мне надоели эти разговоры. / Ступайте! Или нет, – еще один вопрос! / Что вы так пристально глядите на мой нос?»
– Ты глянь! У вас даже нос вырос от этой реплики! Достаточно. Текст знаете. Говорят, у вас свой взгляд на пьесу?
– Чтобы не гнать по сцене дикие аллюры, готов я к тексту предложить купюры, – произнес Сергей.
– Что-что? Купюры? Самому Ростану?!
– Лишь для того, чтоб выделить Роксану… – Попсуев указал на Крутицкую, та сделала книксен. – …Начнем по-грибоедовски с отцов: подсократим в отеле трусов и глупцов. Довольно будет одного Вальвера…
– А вместо шпаги револьвера, – вдохновился на экспромт и режиссер. – Я понял… Да вы, как погляжу я, утопист!
– Вполне. Дас ист фантастиш! Ист дас мёглих? Ист![19]
– Так, поизгалялись, перейдем на прозу.
– А напоследок вот вам розу! – Сергей протянул режиссеру короткую розу. «Какой же я молодец, – подумал он, – что не подарил розу Изольде».
– Перерыв! Полчаса. Оставьте нас с Изольдой Викторовной. Где Константин Сергеевич? А вас, господин главный инженер, я позову.
– Признаться, я растерян, – заявил Ненашевиньш главрежу и приме. – Пьесу знает изнутри. Вижу, его роль. И внешность, и голос, и вообще дар. Чутье на текст, на партнера. Импровизирует, легко, даже изящно. Удивительно, как щедра наша страна на таланты.
– Наша, – поправила Андриса Крутицкая. – Не посягай на наших. У вас свои: Артмане, Паулс, Лиепа…
– Они и ваши, Изольда Викторовна, – огрызнулся Ненашевиньш.
– Конечно, а то чьи же? Все они наши! Зачем отделились?
– Изольдочка, мы отвлеклись, – вернул Консер приму в лоно театра.
– Так как Попсуев? – спросил Андрис. – Потянет?
– Чего гадать? – сказала Крутицкая, подумав: «А что, если Сергею вообще играть эту роль? Одному, без Буздеева?» – Всё равно Буздеев никакой. И станет ли каким надо? А Попсуев вылитый Сирано. Опыт есть, играл в институтском театре. Пьесу еще ребенком выучил, после нее фехтовальщиком стал.
– Ну, а как мне быть с вашими рекомендациями, Изольда Викторовна и Константин Сергеевич? Кто мне напел в мой горький час сомнений, брать или не брать Буздеева на роль: на него, мол, зритель прет, дамы запали, внебрачных детей одиннадцать…
– Деток хватает, – подтвердил Консер.
– Советуете мне их всех выпустить на сцену в первом действии? Ладно, делать нечего. Где главный инженер человеческих душ? Попробуем.
Когда Попсуев явился на репетицию, Ненашевиньш ограничился одним вопросом: – А как вы видите роль Сирано, что в ней главное?
Сергей, не задумываясь, ответил: – Главное в Сирано – я, потому что я – Сирано. И тогда, и сейчас. Мы с ним одно и то же.
Труппа живо отреагировала на это заявление прозелита и нестандартное решение режиссера, но сдержалась от колкостей. Лейтмотивом ее смешанных чувств стало неопределенное «посмотрим». Что же касается Ненашева, он воспринял эту нежданную весть с раздумьями: Попсуев прекрасно командовал театральным тылом, что было при его молодости и простодушии просто удивительно. Вдруг и правда войдет в труппу, надо тогда срочно искать замену. Плохо, если не войдет. Уронит планку театра и его, заслуженного работника РэФэ, скомпрометирует в глазах культурной общественности.
По здравом размышлении Ненашев «хлопнул» рюмку-другую и решил не перечить брату, главрежу и приме, и (на всякий случай) велел поместить в окно объявление о вакансии главного инженера. В голове Ильи Борисовича тут же возник блестящий проект, суливший ему неплохую выгоду, который он обмыл еще парой рюмок французского коньяка.
* * *
После репетиции Крутицкая (в этот вечер она была не занята) поймала Попсуева на выходе из театра, увлекла в сквер Героев революции, усадила на скамейку под сиреневым кустом и с восторгом предалась фантазиям о предстоящей премьере, попутно делясь секретами своего профмастерства.
– Сережа, Поздравляю! Проба прошла прекрасно. Андрис доволен. Я сотворила очередное чудо, тебя. Не тяни одеяло на себя, не мешай партнерам являть свой гений на сцене. Хотя нет, мешай. Мне ты всё равно не помешаешь. И не кипи на сцене, зрителя подводи к кипению.
Попсуев выслушал монолог покровительницы не без чувства благодарности, и молча кивал, соглашаясь с ней. Он поймал себя на том, что его эмоции повторяют переживания трехлетней давности, когда он триумфально выступил на инженерной диспетчерской и поймал удивленный взгляд Несмеяны.
Из сквера парочка направилась в ресторан «Центральный». Изольда Викторовна чувствовала себя на верху блаженства. Никогда еще ей не было так легко и радостно. Глаза актрисы сияли, и Сергей не мог не отметить чистоты и ясности этого сияния. «Да тут всё нешуточно», – подумал он. После плотного ужина будущая звезда сцены удостоилась чести быть принятой в доме примы.
Там всё прошло на ура, вот только одно наблюдение, сказанное Сергеем, не дало Изольде забыться крепким сном: – Я уверен, кузина, в себе, и тебя не подведу, но айн момент смущает. Из фехтовального опыта знаю: самый коварный соперник «чайник», новичок. Так может ткнуть, что потом с воспалением надкостницы под хирургический нож пойдешь…
«Да нет, – всё же успокоила себя актриса. – Какой новичок? Столько лет уже пробовал себя в разных жанрах. Станем ближе, обучу его всем тонкостям ремесла». Изольда не хотела признаться самой себе, что ближе стать им уже и нельзя, и так дальше некуда. А когда Сергей стал называть ее, как Сирано Роксану, «кузиной», в ее душе родились такие теплые чувства к нему, какие она могла испытать разве что к собственному дитяти, которого у нее, как у всякой великой актрисы, не было.
* * *
По старой привычке Попсуев встал рано, потихоньку покинул жилище Изольды и направился домой. «Чего же Таньке сказать?» – вяло соображал он. Чувствовал ли он что-то похожее на раскаяние? Нет, и удивлялся себе, почему не чувствовал. «Наверняка беспокоилась, где я. Ну и что? Я уже два месяца дома ночую через день, пора привыкнуть…»
– Это я, – сказал он, позвонив в дверь.
Дверь открылась. Похоже, Татьяна не ложилась спать. Не сказав ни слова, она скрылась в спальне. Попсуев прошел на кухню, включил чайник. Зашла Татьяна, встала перед окном и, глядя во двор, стала задавать бессмысленные вопросы.
– Нагулялся? Что будем делать? Что молчишь? Когда ты вчера…
– Позвонили?
– …пошел к Изольде домой, я поняла, что тебе не нужен больше наш дом.
Попсуев ничего не ответил. Попил чай. Прошелся по квартире, побросал в сумку нужные ему вещи и сказал:
– Живи тут, а я на дачу. Днями репетировать буду, роль предложили.
На дачу Сергей не поехал, поселился в театральном подвале, в своей мастерской. Там можно было какое-то время жить, экономя время на пути с дачи в театр и обратно, да и нервы.
Из «Дневника» Попсуева
«…неужели семья разрушает человека? Ведь очень многие мужчины и женщины вступают в брак целомудренными. Я, конечно, не святой, да и Татьяна, но помыслы-то у нас были чистые! Во всяком случае, у Таньки. Как в оптике при сложении двух световых волн возникает чередование темных и светлых полос, так и в семье даже супругов-ангелов ожидают не только светлые, но и окаянные дни. Разойдись они, уже чистыми не останутся. Или всё же человек разрушает семью? И как это я дошел до этой мысли? Или до дела?..»
Его клинок неуловим
Вопреки опасениям Ненашева, на премьере «Сирано из Гаскони» был аншлаг. Билеты, конечно, уже не по удесятеренной, а по двойной цене, разошлись в три дня. На ТВ накануне прошла информация о спектакле, а в «Вечерке» Кирилл Шебутной пообещал нежинцам незабываемое зрелище и истинное эстетическое удовольствие от просмотра бессмертной комедии Эдмона Ростана. Журналист доверительно сообщил, что на спектакле будет столичный гость – народный артист РФ Григорий Барабанщиков, знакомый зрителям по многим киноролям. Шебутной перечислил ведущих артистов, занятых в спектакле, но вместо Попсуева назвал некоего Эркюля Савиньена, гастролера из графства Керси (Франция), потомка русских эмигрантов первой волны. Так, кстати, было указано и в театральных программках и афишах. (Как оказалось потом, Илья Борисович выплатил Савиньену сумму, достаточную для покрытия скромных нужд чуть ли не половины труппы.)
Перед спектаклем Крутицкая спросила Консера:
– А ты в курсе, что вечером будет сам Барабанщиков.
– Откуда знаешь? – напрягся главреж.
– Разведка донесла. В том месяце делегация от московских театров была. Вот там нашелся человек, который устроил это. Вчера в «Вечерке» написали. Говорят, он из аэропорта прямиком в театр придет.
– Ну, это честь! Это же после Петра Горина эталон Сирано. Изольдочка, не подкачай.
– Ха! Думаешь, он меня едет смотреть? Зачем ему еще одна Роксана? Ему Бержерак нужен, у него Бержерак в груди. Как и у Попсуева, – в раздумьях добавила актриса.
– Умыкнут у нас Попсуева, – с деланной скорбью произнес Консер. – Оправится ли от этого удара провинция?
– Ты, я гляжу, лицемер хлеще Ненашева.
– Учителя, – вздохнул Костя, взглянув на портрет тезки. – Великие учителя! Интересно, откуда он, народный, узнал об артисте из народа?
– От народа, от кого же еще.
– Сдается мне, у этого народа женское лицо. Изольдочка, шерше ля фам[20], конкурентки завелись.
– Но это же отлично!
– Да ты прямо сама Сирано в юбке.
– А ты сомневался?
* * *
Несмотря на то, что Сергей мог мобилизоваться перед соревнованиями и экзаменами, ночь перед премьерой он спал плохо. Уже целый месяц Попсуева обуревали мысли, что зря ввязался в эту романтическую историю. Он никак не мог понять: изменился ли его взгляд на де Бержерака или он сам «не тянет» своим нутром на эту роль. К тому же в нем с каждым днем росла необъяснимая тревога, которая (он знал это) никогда не приходила к нему попусту, а всегда несла неприятность или беду. От этого в Попсуеве росло раздражение и неудовлетворенность. Последние репетиции и прогон, однако, прошли гладко.
На премьеру Сергей явился на взводе, лихорадочно страстный и, как это было в лучших его сабельных боях, «порвал соперника» – партнеров и публику. Зал ревел, а трупа, исключая Кошмарика и его юных безземельных кнехтов, не смогла сдержать слез восторга. Крутицкая же, Консер и братья Ненашевы поздравили друг друга с грандиозным успехом, закрепленным директорской фразой: «Завтра, родные мои, порадуемся еще и премиальным».
Из «Записок» Попсуева
«…Сирано верил в остроту своего ума и шпаги, и больше ни во что. А я? Ни ума, ни шпаги, инфантильный Буратино из кукольного театра. Разве я не подлец? Зачем согласился на предложение Ненашева? «Сереженька! Мне удачная мысль в голову пришла. Вас пока в театральном мире не знают, да и публике вы не знакомы. А что если нам выступить под другим именем. Скажем, французского актера, которого мы пригласим оттуда, а? Сына и внука русского эмигранта. Это сегодня в тренде. На него пойдут. А мы потом эту тайну общественности раскроем. Опять же рейтинг повысится. Я даже знаю, как его зовут. Эркюль Савиньен!» Наверняка задумал очередную пакость, а я покрываю ее! Бержерак прибил бы прохиндея за одно лишь использование его имени. Имеет ли право мерзавец в окружении мерзавцев играть благородство?..»
От АвтораПремьера «Сирано из Гаскони» стала легендой в культурной жизни Нежинска. До сих пор никто не знает, почему был всего один спектакль с участием Эркюля Савиньена. В театре поговаривали, что это был их главный инженер Попсуев, но точных доказательств сему не осталось. Руководство театра как воды в рот набрало, актеры пожимали плечами, а самого Попсуева в театре не оказалось. Сказали: уволился. Заметка Кирилла Шебутного тоже не пролила свет на эту странную, даже уникальную историю.
«Григорий Барабанщиков о премьере Современного театра». Заметка Шебутного
Позавчера на премьере героической комедии «Сирано из Гаскони» по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» побывал народный артист России Григорий Барабанщиков. Зритель знает его, как замечательного исполнителя многих театральных ролей в пьесах русских и зарубежных драматургов и писателей, знает многие его кинороли. Безусловно, и Сирано де Бержерак в его исполнении стал классикой.
Кому как не Барабанщикову было оценить мастерство наших постановщиков и актерской труппы. В целом московский артист спектаклем остался доволен. Отметив незначительные оплошности, очень высоко оценил режиссерскую работу Андриса Ненашевиньша, с восхищением отозвался о работе примы Изольды Крутицкой и неизвестного нашему зрителю актера, выступившего под именем Эркюля Савиньена. (Предполагают, что это гастролер из Франции, безукоризненно владеющий русским языком). Особо мастер сцены отметил тонкую душевную организацию и «изящную взрываемость» исполнителя, своеобразно назвав ее «приёмистостью артиста, форсажем исполнения». (Это замечание Барабанщикова говорит о нем еще и как о технаре, хорошо знакомом с автомобилями и самолетами.) «Всё на месте – движения, речь, мимика, акценты, рефлексия… Я потрясен», – признался Григорий Григорьевич.
Барабанщиков отметил также, что «Савиньен переиграл партнеров (мужчин), но не привычным в этой роли пафосом, романтичностью или сумасбродством, а тонкостью, лиризмом и глубокой душевной порядочностью, – вещью сегодня немыслимою. В результате нам была явлена не романтическая комедия или героическая драма, как это принято ожидать от постановки этой пьесы, а высокая трагедия непонятого человека, христиански смирившегося со своим местом у чужих ног. Переиграл не нарочито, не по отсутствию актерского опыта, великодушно щадящего коллег, а по своей человеческой значительности и чистоте. Ведь зрителя не обманешь. Зритель, как ребенок (а в театре все мы становимся детьми), видит сразу же доброго и чистого человека. И нос Сирано вовсе не гоголевский Нос, он тут вообще не играет никакой роли. Разве что маска, которой тут же хочется сказать: «Маска, я тебя знаю». Савиньен показал, что дух настолько выше плоти, что в принципе никак не стыкуется с нею. На земле нет места Божественной Любви. А земную любовь Сирано не приемлет».
Через день после премьеры я собирался взять интервью у Эркюля Савиньена, но его в Нежинске не оказалось, исчез. Открыв энциклопедию, я неожиданно (для себя) обнаружил, что полное имя поэта XVII века было Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак. Что этим хотел сказать актер, выступивший под именем Савинега? Он его однофамилец? Родственник? Или сам Сирано де Бержерак?»
И я попал в конце посылки!
На следующий день после премьеры одной из первых поздравила Попсуева главбух Валентина Семеновна. В огромных глазах ее стояли слезы. Безнадежно влюбленная в Сергея, она до этого скрывала свои чувства, но потрясенная спектаклем и судьбой поэта, о котором она ничего раньше не знала, не спала всю ночь и решилась заглянуть в каморку главного инженера. Взяв Попсуева за руки, Валентина Семеновна сумбурно выразила свой восторг, трехкратно, как заклинание, произнеся одни и те же слова и, прощаясь с ним, сказала, что в расчетной ведомости за этот месяц ему начислена «просто громадная» сумма. Главбуху было очень приятно, что Попсуев узнал об этом из ее уст.
– Столько у нас еще никто не получал. Но я бы лично отдала вам зарплату всей труппы!
– А какая сумма? – полюбопытствовал Попсуев. «Куртку на барахолке куплю. Или джинсы».
– Я лучше напишу, – прошептала Валентина Семеновна, оглядываясь на дверь.
Она аккуратно вывела крохотными циферками сумму.
– Валентина Семеновна, вы не ошиблись? С двумя ноликами?
– Нет, нет! Хватит на «Жигули»! У вас ведь нет машины?
– А, позвольте, откуда деньги? Клад нашли?
– Но как же, Сергей Васильевич, вы же по контракту Эркюль Савиньен, подданный Франции, а ему полагается, сами знаете сколько.
– А-а… Эркюль. Признаться, вылетело из головы.
– Деньги привезут сегодня.
Попсуеву было неудобно перед другими артистами получать такую сумму, поэтому в кассу он пришел после всех. Кассирша поздравила Сергея с успехом и выдала ему причитающееся вместе с табулькой. Денег было на треть больше обычного. Аккурат на одну штанину от джинсов. «Однако Валентина Семеновна экзальтированная особа! «Жигули»!» Надо же, и я раскатал губу». Вспомнив довольное лицо Ненашева, поздравлявшего его с триумфом, Сергей поспешил в бухгалтерию.
– Получили? – радостно спросила Валентина Семеновна.
– Да, огромное вам спасибо! Покажите, пожалуйста, мою строку. Порадуюсь, так сказать, официозу.
– Вот. – В строке стояла сумма, в сто раз превышавшая только что полученную Попсуевым
– Валентина Семеновна! Голубушка, отксерьте мне эту страничку. Хотя бы только мою строчку. Я ее в рамку, внукам буду показывать!
– Ой, Сергей Васильевич, должностное преступление делаю! Меня Илья Борисович убьет! – Тем не менее главбух сделала копию.
– Я ваш вечный должник, Валентина Семеновна! Куплю «Жигуль»! Эх, прокачу! – Попсуев выскочил из кабинета. Перегнув ксерокопию, он оторвал строку со своим начислением и сунул полоску вместе с табулькой в нагрудный карман.
* * *
«Надо попрощаться с Изольдой», – подумал Сергей и зашел в ее уборную. Та обрадованно поздравила его еще раз с успехом.
– Какой же ты молодец, Сергей! Выжал из роли всё, что можно.
Попсуев замотал головой:
– Нет, не смог, и вряд ли сыграю, как надо. Так, неудачная помесь Буратино и Пьеро. Где поэт? Как сыграть поэта? Стать его стихом? Фальшь и бравада. И где боец? Подлость, как была, так и осталась. Подумаешь, попугал призраки шпагой…
– Уймитесь, волнения страсти. Тебе бы в театральные критики идти. Перемудрил, Сережа. Поглядел бы ты на женщин, как они ели тебя глазами. Такого мужика подарил им. Разве у тебя провал? Грандиозный успех. Или не осознал еще? Оценишь, оценишь свои первые лавры. Без них в театре нельзя.
– Театр, театр, – бросил Попсуев. – Любите вы тут носиться со своим театром! Ты когда-нибудь была в больнице или на кладбище?
– Была. – Взор Крутицкой погас. – И не раз. И что?
– Да ничего.
– Радуйся! Ты являешь зрителям их грехи, и они излечивается от них.
– Брось! Я им показываю не их грехи, а мои, наши грехи, театральные, и заражаю ими. А ведь нет ничего вернее моей, и только моей, а не чьей-то, даже Сирано де Бержерака, жизни. – Попсуева стала забирать злость. – Вот что я, моя радость, решил. Пока не разменял жизнь на десятки ролей, уйду отсюда.
– С ума сошел? В свой триумф! Слушать не хочу!
– Не хоти. Что тебе не нравится? Поступок вполне в духе Сирано. Да и Буздееву надо восстановить свое реноме. Подамся в бизнес, есть предложение. Там бабки, сколько заработал, все твои. А то в театре тени да фата-моргана. Не деньги, а призрак отца Гамлета.
«А как же я?» – мог бы прочитать Попсуев во взоре актрисы, но он был потрясен очередной человеческой подлостью и слишком озабочен рефлексией. Но при этом уже научился лицемерно прятать свои переживания.
– Не прощаюсь. К Илье Борисовичу надо заглянуть.
* * *
Через пару минут Попсуев вошел в директорские хоромы. Илья Борисович выкатил из-за стола.
– Сергей Васильевич, дорогой! Как же я рад видеть вас! Вы вчера произвели фурор!
– Это не я, это вы сотворили чудо! – произнес Попсуев.
– Я? – насторожился Ненашев.
– Конечно! Привести театр к торжеству идей!
– Сереженька. Надо отметить наш успех. – Директор достал бутылку коньяка с деликатесным приложением. – Буль-буль, сладкий звук, слаще оваций, не правда ли?
– Позвольте, рапиры? – Попсуев удивленно смотрел на скрещенные клинки, точно впервые увидел их. – Ах, какие клиночки! Особенно этот, можно? – Сергей снял одну рапиру, взвесил ее в руке. – Девятьсот грамм, самое то. Не правда ли? Французский. Семнадцатый век. А какой эфес. Вычурный несколько, но по руке. Словно под заказ. Замечательное оружие. Не пробовали фехтовать?
– Мне это надо, Сережа, фехтовать? И без фехтования голова кругом идет. Да и, признаться, от холодного оружия мурашки по телу. Ну, за успех?!
– Погодите, Илья Борисович. Минутку. Вы правы. Оружие хоть и холодное, но так горячит кровь. Порой кипишь во время поединка. А кипеть нельзя. Вы-то это знаете. Хотите, удивлю вас? Ведь я еще и фокусник.
– Да? Не знал. Но догадывался. Вчера вы нам показали фокус. Пусть знают теперь народные и заслуженные, что такое настоящий талант!
– Вот рапира. – Попсуев протянул Ненашеву клинок. – Сыграйте мне что-нибудь на ней.
Илья Борисович с недоумением уставился на главного инженера.
– Но я не умею играть на рапире.
– Но я прошу вас… – засмеявшись, Сергей извинился: – Это так, разминка. Посылка впереди. Итак, фокус. Подбросьте любой листок. Ненужный.
Ненашев взял листок со стола, подбросил.
– Низковато. Надо повыше стать. Попробуйте с кресла, лучше со стола.
– Эх! – Ненашев, обожавший эксцентрику и сам не чуждый лицедейства, снял туфли и взобрался на стол. – Ловите!
Попсуев пронзил падавший лист.
– А теперь бросьте сразу два листка! – Нанизал и два листка.
– Три!
– Сережа, вы кудесник! Скажу Андрису, чтобы этот трюк ввел в спектакль. Он же вызовет восторг у знатоков фехтования.
– Таких, как вы, – пробормотал Сергей.
– Что? – не расслышал Ненашев.
– Усложняю задачу. Нанижу маленькие листочки! – Попсуев протянул директору две полоски. Тот, не глянув в них, подбросил их вверх.
Сергей с возгласом: «Ты, подлость! Вот тебе!..» – Неуловимым движением пронзил обе бумажки острием рапиры. Илья Борисович зааплодировал. На лице его был неподдельный восторг. Попсуев поднял рапиру к лицу Ненашева.
– Это что?
– Как что? – не понял тот.
– Снимите. Что там написано?
Ненашев, улыбаясь, снял с острия полоски левой и правой рукой, посмотрел в них и сразу же изменился в лице.
– Ну?
– Это, Сергей Васильевич, брак. Бракованный документ. – Он потряс копией. – Бухгалтерия часто ошибается, приходится переписывать. – Он снова потряс, но уже табулькой.
– Брак, говорите. Я с браком хорошо знаком. Много с ним боролся. А еще больше с бракоделами. – Жало рапиры уперлось в горло Ненашеву. Тот выкатил глаза, запрокинул голову и от страха потерял дар речи.
– «Вы отступаете… Вот как! / Белее полотна вы стали? / Мой друг! Какой же вы чудак: / Ужель вы так боитесь стали?» – Сергей декламировал с наслаждением: – Я покажу «тот знак, что был мне дан: / Мой рыцарский султан». – Кончиком рапиры Попсуев царапнул Ненашева по белой шее, бережно положил клинок у ног директора и от себя добавил: – Молчите? Ваша карта бита. Я вижу страх. Теперь мы квиты. – И Попсуев с поклоном покинул кабинет директора Современного театра. Навсегда. «Qualis artifex pereof!»[21]
В туршопе
Какое-то время Попсуев жил на даче, ловил рыбу, собирал грибы, и когда перестал без конца повторять одни и те же слова: «Весь мир театр», решил ехать в город и искать работу. В понедельник он спешно шагал на первую электричку. На мосту невольно задержался, поравнявшись с бесхозными штанами и туфлями. «Где же хозяин?» В легком голубовато-белесом тумане, как на японской картинке, вырисовывалась треугольная лодчонка с одиноким рыбаком в треугольной шляпе («Его, что ли, одежка?»), а в других местах было пусто или просто ничего не видно. День только-только разогревался, и в воздухе порхали бабочки света. Ни комаров, ни оводов, ни мошки. Сергей перегнулся через перила и посмотрел под мост. На подмостках спал, свернувшись в калачик, мужик в рубашке и еще советских, черных трусах до колен. От него шел пар, легкий, как сон. «Русь! Ты сама как сон!» – Попсуев поежился и ускорил шаг.
* * *
Сергей плюхнулся на сиденье возле окна и закрыл глаза. И хотя свободных мест было завались, напротив уселась парочка, тоже вроде как из «Машиностроителя». Покемарить не удалось, так как дамочка попалась слишком уж говорливая. Не умолкая ни на минуту, она напористо говорила обо всём на свете, даже о том, что должен чувствовать сеньор помидор, точнее, обязан, раз он помидор. «Женщина в любой разговор привносит модальность, к которой относится легко, как к парфюмерии. Бедный муж».
– Нет, в самом деле, представила: я – помидор! Вот такой вот. – Сеньора встала, не без грации изобразив куст помидора.
Спутник кивнул, соглашаясь, что да, помидор, действительно такой. «Сколько энергии в ней, – думал Попсуев. – Откуда, ведь два выходных билась за урожай? А впереди рабочая неделя».
– Я тут, палка тут, не дотянуться. А расти-то надо. Кряк! Перегнулась, вниз башкой! – Дачница, вдруг и впрямь перегнувшись, уронила верхнюю часть туловища до пола. – А ведь я ему сколько говорила: воткни палку возле самого куста! Воткни палку! Показала как! Нет! Втыкает в тридцати сантиметрах! Я ему: ря-адом, ря-адом! Нет! В полуметре воткнул, какая тут хребтина выдержит? – Речь шла, как понял Попсуев, о муже сеньоры, полной бестолочи, и о ветке помидора. Рассказчица еще пару раз привскочила, демонстрируя нюансы взаимоотношений треугольника «она – муж – помидор». Сергею стало неприятно от этих подробностей. Дачница напоминала жирную прожорливую ловко ломающую туловище гусеницу.
Притерпевшись к растительной болтовне, Попсуев задремал было, как вдруг тема дала резкий зигзаг и перекинулась, совсем как изломанный помидорный стебель, на круизы по Европе и Африке.
– Представляешь, в Египте, в этой дыре, так можно отдохнуть, и всего ни за что! А шмотья там, а золота – горы! Просто бурты золота. Тут дыни, а тут золото. Дешевле нашего раз в пять!
– В пять? – подал, наконец, голос и ее спутник.
– Ну, в четыре. Да и вся эта ботва, арбузы с финиками и прочей фигней, просто тьфу, копейки!
– Была что ль?
– Да, в туршопе. Два раза.
Попсуев приоткрыл глаз и еще раз оглядел соседку: типичная «челночница» с развитыми руками и природной способностью счета в уме в свою пользу.
– Духи арабские, небось, тонкая штучка? – спросил спутник. – «Шанель» посрамят?
– Какой «Шанель»? У бедуинов фишка – запах верблюжьей мочи.
– Как пирамиды тебе?
– А никак! Груда булыжников. Будто ГЭС строили. Камни да камни. Столько навалили – страсть! Делать было нечего. Знаешь, сколько в пирамиде камней? Не поверишь, нет, ты послушай, шесть мил-ли-о-нов тонн! Тут шесть кирпичей не поднять, а там шесть миллионов тонн! Представь, вместо общества была бы пирамида! Все вдруг сошли бы с ума и сто лет таскали валуны!
– А чего, не таскали?
– Таскали, а пирамиды где? Не, махина. Чтоб обойти, полчаса надо.
Спутник вздохнул.
«Пирамиды, помидоры, близкие слова, – думал Попсуев. – Зачем нам пирамиды, когда важнее помидоры?»
– Говорят, фараоны как-то заговаривали их? – произнес спутник.
– Не фараоны, жрецы.
– Одна холера. А еще болтают, кто побывал в них, тот того…
– Чего того? Кобелирует?
– Ну, того, с приветом становится. А то и коньки отбрасывает.
– Брехня! Я – с приветом?
– Нет, ну, ты, какой привет?
– Вот! Брехня. Может, их кого и берет, а нашего брата ничем не возьмешь. Даже дустом! – рассмеялась она.
– Да, у нас и крепостное право не прижилось, а у них там одно рабство.
– У нас не Пугачев, так Пугачева, – ни с того ни с сего ляпнула попутчица. – Запугали, на хрен, всех.
Попсуев даже выпрямился от удовольствия.
– Что, никакой мистики? – обратился он к ней.
– Какой мистики? – переспросила челночница, приглядываясь к новому собеседнику. На это ей хватило ровно две секунды.
– О загробном царстве и вообще…
– Почему никакой? Была. Клавка Сазонова… Клавку Сазонову знаешь? – обратилась она к попутчику. Тот кивнул. – Клавка Сазонова подцепила там какого-то чучмека, копия наш Пушкин, может, грузин или туркмен, их там полно, как на рынке, и поехали они кататься на коляске по городу, ой, забыла, Фригида, что ль?.. Не то. Нет, по Фургаду. Не помню. И вот он катал ее, катал, сволочь, по каким-то рынкам, лавкам, закоулкам, подарки всякие дарил, ручку гладил, в глазки заглядывал, и всё вдоль Нила, всё вдоль Нила! Да, Фургада! Вспомнила. Там от него никуда не деться, куда ни ступи – всюду Нил, будто и нет ничего больше. По барам водил, а потом Катька вдруг очнулась – сидит возле бурта с дынями, прямо на земле, в руке паспорт, в другой – ломоть дыни, и ни сумки, ни подарков арабских, ничего! Представляете? Ни копья! Хорошо, народ у нас жалостливый, не даст помереть с голоду. Вот это мистика, а вы говорите!
Попсуев согласно кивнул головой.
– Бывает. Доверять иностранцам… – поддержал он беседу.
– Да какой там иностранец-засранец! Я его потом встретила в городе, так сделал вид, что не признал меня.
«А ты, наверное, и есть та Клавка-Катька», – подумал Сергей и спросил:
– Пишут, там параллельный мир? Нет?
– Почему, был. Был такой. С Сироткиным пошла как-то… Сироткин – технологом работал в десятом, тоже челночит, – пояснила она спутнику. – Делать-то больше нечего. Времени пропасть. Оно там от жары, что ли, просто разбухает, время их. Вот как ноги от ходьбы. Пухнет, пухнет, и час годом кажется. И тоже зашли куда-то, там какие-то масла в пузыречках, много-много, и дешево, зараза, как йод. Нет, есть и дорогие, но на них денег не хватит. А потом опомнилась уже в гостинице. Удивительная страна!
«Пить надо меньше», – подумал Попсуев.
– Может, тепловой удар?
– Да нет, что-то другое. Скорее всего, этот, вот его, параллельный мир. – Она кивнула в сторону Попсуева, как представителя параллельного мира. – Помню, что танцевали, закусывали… А что потом – ничего не помню. Пелена.
«А чего это я никогда в Египет не ездил? – подумал Попсуев. – Чего там, кроме пирамид? Красное море, сфинкс, финики? Надо бы смотаться».
– А как местные? – спросил Сергей.
– Да как везде. Иждивенцы или шоферы. Зубы кизяком чистят.
– И как в эту туршопу попасть? – спросил Попсуев.
– Да запросто! В турагентстве у ЦУМа. Дешевле, чем в Турцию.
* * *
Прочитав несколько книг о пирамидах, Сергей загорелся желанием побывать на них. Ему вдруг показалось, что они приоткроют ему тайну его жизни. «Постигну их тайну», – с легкой, очень легкой иронией подумал он.
Пошел в турагентство и по путевке, на которую ушли все театральные деньги, полетел в Египет. По легкомыслию Попсуева угораздило прилететь в страну пирамид и фараонов в июле. Жара стояла изматывающая. От кондиционера знобило и саднило горло. Отключив его, оказывался в печи. Минуты обращались в часы, часы в сутки, а сутки вообще не кончались. От уличного зноя спасало лишь море, мягкое и прозрачное. Но не просидишь же в нем весь этот проклятый туршоп! «Встретить бы мне эту помидорную даму! Перегнул бы ее пару раз».
«Какая дичь, какая нелепица для русского человека пирамида! – через пару палящих дней, еще не побывав в Гизе, думал Попсуев. – Бессмысленная постройка – ни помолиться, ни укрыться от врага. Зачем она нам? Что толкает нас просто так в иной мир, в чужую вечность, к иным богам? Они же не примут нас или примут за врагов. Куда лучше наши храмы. Пирамида вдавливает в землю, загоняет в подземное царство. Всё прямолинейно, остроугольно, тяжело, а у нас по-женски извилисто и красиво, и, как пламя свечечки, струится в небо».
Прочие туристы от таких мыслей были далеки. Они жили обычной нормальной жизнью отпускников или челночников и грузились исключительно материальным.
Поездка в Гизу стала сущим кошмаром. Вместе с группой Попсуев выехал в час ночи в автобусе без кондиционера. Потом весь день болтался под палящим солнцем, не врубаясь, чего видит и слышит, семь часов возвращался в этом же автобусе из одного пекла в другое. Пирамиду и музей запомнил плохо. Так, камни, артефакты, иероглифы. Он трижды проклял экскурсию вместе с гидом и повелительницей помидоров. Хорошо, назавтра летел домой.
Суд
Лысый загорелый до черноты здоровяк в жилете и колоколообразной юбке на каркасе привел Попсуева в темное помещение неопределенных размеров и без видимого потолка. После уличного пекла прохлада показалась райским блаженством. Страж туго обмотал Сергея узкими льняными полосками, повязал ему на глаза черную повязку, положил на гранитную скамью и сказал:
– Жди и молчи. Когда повязку снимут, станешь отвечать сорока двум богам, называя каждого по имени. Пропустишь бога, умрешь. Солжешь богу, умрешь. Утаишь от бога, умрешь. Умрешь – ключевое слово. Задай мне вопрос.
– Если не ответишь, умрешь?
– Хохмишь, чужеземец? Что осталось тебе? Уважаю. Дарю амулет Уаджат, глаз Гора. Да поможет он тебе! Спрашивай.
– Что отвечать твоим богам? – спросил Попсуев. При всей своей завидной способности не теряться в незнакомой обстановке и не паниковать по пустякам, он ощущал ужас не только всеми фибрами души, но и каждой клеточкой тела. Всё в нем замерло и ощетинилось в предчувствии конца. Самое жуткое в этом было то, что он не понимал, что происходит и кто враг. Сергей не узнавал себя: «Покорный, беспомощный, жалкий! Ведь ничего не стоило самому связать этого кабана. Постой, или на мне уже была веревка?..»
– Это ты должен был узнать до того, как попал сюда. Не читал «Книгу мертвых»? Не вина, а беда твоя. Далек ты от наших богов, но и своим не близок. Слушай. Да зачтется мне, как акт милосердия. В Зале Двух Истин тебе дадут последнюю возможность избавиться от дурных дел. Будешь созерцать лик Бога, владыки Двух Истин, и лики сорока двух богов. Сначала обратишься к Владыке со словами, назову лишь некоторые, на все уже нет времени, да и незачем: «Вот я пришел в тебе. Я принес тебе правду, я отогнал ложь для тебя. Я не причинял никому страданий. Никого не заставлял плакать… Я никому не причинял боли… Я не развратничал… Я чист, я чист, я чист, я чист!» Потом каждому из богов, называя его, скажешь: «О Широко Шагающий, вышедший из Гелиополя, я не грешил… О Ломающий Кости, вышедший из Гераклеополя, я не говорил лжи… О змей Уамемти, дошедший из места казни, я не прелюбодействовал… О Творящий Несчастье, вышедший из Урит, я не гневался… О Горяченогий, вышедший из сумерек, я не лицемерил… О Владыка Лиц, вышедший из Наджефта, я не был вспыльчивым… О Рогатый, вышедший из Асьюта, я не болтал… О Соединитель Ка, вышедший из города, я не делал различия между собой и другими…» Всего сорок два бога, запомнил? Потом скажешь всем богам: «Слава вам, боги! Я знаю вас. Я знаю ваши имена. Вы не скажете о моих грехах этому Богу, в свите которого вы состоите… Вот я пришел к вам. Я без греха, без порока, без зла, без слабостей. Нет того, против кого я бы сотворил что-нибудь…»
Насладившись собственными словами, конвоир продолжил: – Не торопись с ответами, несчастный! Тебя не будут тянуть за язык. Тем более что он окаменеет у тебя от страха. Боги готовы выслушивать тебя хоть целый год. Им там всё равно делать нечего. Как скажешь всё, дальнейшее молчание. Осирис решит твою судьбу. И не думай, что удастся провести богов. Такого еще не было в истории суда! Потому что у тебя перед этим вырежут сердце и положат его на чашу «Весов Истины». Это детектор лжи («полиграф», по вашему). На другую чашу положат страусиное перо богини Маат. Не думай, что это будет перо курицы Файоуми. Ничего нет земного в суде Осириса! Стрелка всё время должна показывать равновесие обеих чаш. Моли хотя бы своего бога, чтобы она не отклонялась от вертикали ни на один градус. Весы тут же изобличат твою ложь или сомнение. Будешь безгрешен, тебя отвезут в ладье и через проход в скалах на западном берегу Нила под Абидосом доставят в загробный мир Дуат, именуемый также Херет-Нечер. Там на полях блаженства бога Солнца Ра, на Полях Мира – Хотеп тебя ждут те, кто попал туда и кто еще хочет видеть тебя. Зря не переживай, ты всё равно не попадешь туда. Перевесит сердце, наполненное грехами и жестокостью, а оно перевесит, тебя в одной из двенадцати пещер Дуата сожрет зверь Амаит, клянусь, ты такого еще не встречал. Ведь это и будет сама богиня справедливости Маат, только в образе льва, крокодила и бегемота. Чем больше свинства ты совершил на земле и чем больше соблазнил женщин, оставив их несчастными, тем с большим аппетитом будет тебя жрать Амаит. Душу же твою истяжут и сожгут вместе с твоей тенью в пламени одного из озер. Боль будет, мука будет, но ты заслужил это…
«Но как же! – заорал Попсуев. – Это абсурд! Какой суд, если у меня до суда вырежут сердце?! И где присяжные?!» Страшный крик разбудил Сергея. Вопль рвался из груди его, а вслед ему сочился чужой голос: – Самое тяжелое – пустое сердце…
* * *
Мокрый от пота Попсуев сидел на кровати, взглядом пронзая пространство гостиничного номера. Визави сидел господин совершенно дикого вида с безумно горящими глазами. «Зеркало!» – ударило в голову Сергею, отозвавшись в сердце, и он в изнеможении повалился на спину. Стали слышны журчащие голоса в коридоре, сработавшая сирена автомобиля под окном…
Балерина Ксения Всеславна
В самолете Попсуев оказался рядом с симпатичной моложавой женщиной. Тут же познакомился с ней, стандартно подарив короткую розу. Звали ее Ксенией Всеславной, она была бывшей балериной. Сергей даже вспомнил, что видел ее фотографию в оперном театре.
– Я не знаю, кто построил эти пирамиды. Боги, люди, инопланетяне, титаны, рабы, фараоны… – не умолкал Сергей. От радости, что вырвался из ада, Попсуев не мог остановиться. А еще от отчаяния, что не может говорить этого своей единственной и недоступной вовеки женщине.
Балерина не вслушивалась в слова попутчика, но всё равно ужасно устала от звука его голоса. После бессонной ночи, которую она промучилась со сломанным кондиционером, ей хотелось спать. «Господи, да заткнется он когда-нибудь?» – в отчаянии спрашивала она себя. Но что-то мешало ей оборвать зануду.
– Не это главное, – продолжал тот. – Что такое пирамида? Вы обратили внимание, она похожа на воронку, обращенную раструбом к земле. Знаете, почему? Чтобы люди слышали богов. Человек глух, как пробка; только в пирамиде он и может услышать голос вечности.
– А зачем? – зевнула артистка. – Это ж не Хворостовский. Да и куда ее девать, их вечность?
– Вечность предупреждает…
– Ой, надоело! Все предупреждают: куда не глянь, везде «Минздрав предупреждает»! И так мелко!
– Вечность предупреждает от суеты. Вот Сфинкс – это Вечность. Через него жрецы сотни лет посещали параллельный мир. Казалось, всё будет незыблемым. Увы. Знал бы Сфинкс, что придет время, когда варвары станут точить сабли о его лицо!
– Подремлем, а? – вырвалось, наконец, у балерины. – «Странный такой, вроде и мужик как мужик. Одни пирамиды и сфинксы на уме».
«Тебе бы только работать ногами», – подумал Попсуев, уловив ее настроение. Однако подремать не получилось. Позади две пассажирки шумно обсуждали личную жизнь.
– …а мне понравились арабы. Смугленькие, верткие. Чего не выйти за такого.
– Возвращайся и цепляй, потолще который.
– Ага, засандалит в пустыню, буду на скотном базу спать.
– Ну, мать, в их халифатах бабы в миндале и сахаре живут. Парфюм век бы вдыхала, не выдыхала. А фаллосы, ты видела их фаллосы?
– Не вгоняй в краску.
– У них даже название длиннее, чем у нас, в два раза.
– Ну да?
– Да, не знаешь ты жизни…
Балерина, закрыв глаза, улыбалась.
– Вы где работаете? – спросила танцорка, когда самолет сел. – На заводе? – страшно удивилась она, не задав больше ни одного вопроса. Попсуев не захотел признаться, что он безработный. И пустой, так все деньги сожрала поездка. Как богиня Маат.
В автобусе они тоже оказались рядом.
– Вы любили танцевать? – спросил Ксению Всеславну Сергей.
– Конечно, – оживилась балерина, – очень! Хотя порой и ненавидела. Впрочем, это всё в прошлом. – Она кокетливо поиграла глазами. – Мне повезло с театром, партнерами, репертуаром.
– А зрителями?
– И зрителями. Зрителями – больше всего. Наш зритель больше всего любит балет!
«Ваш зритель», – не произнес Попсуев. Сколько ей, сорок?
– Встретимся вечером? – спросил он и тут же получил согласие.
Ксения долго не могла понять, придуривается попутчик или не узнал ее. Как можно не признать, если их дачные участки были напротив друг друга через улочку! Даже как-то поздоровались. И в то же время она могла поклясться, что видела его еще где-то. Причем недавно, да чуть ли не в театре. «Наверное, на экскурсии», – успокоила она себя, но червячок остался.
– Вы что, не узнали меня? – произнесла, наконец, она, когда автобус остановился возле Агентства аэрофлота.
– Я? Вас? Я с вами не был знаком.
– Однако же, сударь, я ваша соседка по даче. Наискосок от вашего участка. Сотый домик. До встречи, Штирлиц! Вечером признаете?
– Вас, группенфюрер, не признать! – воскликнул Сергей.
«Где же деньги взять на кабак? – размышлял он, поднимаясь к себе. В квартире был нежилой дух. – Похоже, не приходила. Надо мириться».
* * *
Деньги удалось перехватить на недельку у приятеля Кольки Орехова. Попсуев поспешил на встречу с Ксенией к ресторану «Центральный». Сергей вручил балерине короткую розу и провел в отдельный кабинет, забронированный по телефону.
– Наша хтоническая жизнь, Ксения Всеславна, – начал интимный разговор Попсуев, уютно расположившись в кресле, – в корне отличается от другой, небесной. Просто небо и земля.
– Какая жизнь? – спросила балерина, не зная улыбаться или сердиться, и теряясь в мыслях, о чем это он. А так мужик в норме. «Молодой, конечно, но, чувствуется, ранний. Точно, в театре видела!»
– Хтоническая, – повторил Сергей, – принадлежащая к подземному миру, Аиду, Тартару, Дуату.
– Это там, у них. А у нас как?
– У нас пекло, тартарары. Там общая кухня для всех.
– Бывали? – поддержала Ксения иронию кавалера.
– Бывал, но не в нашем. В египетском, – серьезно ответил тот и рассказал свой сон, когда его притащили в темницу, связали и собирались вырезать сердце.
– Ужас какой! – воскликнула балерина. – На самом деле было?
– А вы как думали?
– А я боюсь всякой мистики. Не верю ей, но боюсь.
– Оттого, видно, и боитесь, что не верите, – предположил Попсуев.
– Сегодня чему и кому можно верить?
– Да хоть мне, – сказал Сергей, разливая коньяк. – Предлагаю не чиниться, по имени и на ты.
Балерина испытующе посмотрела на молодого человека. Еще пять лет назад она одернула бы нахала, но мудрость, пришедшая с годами, уже не позволила сделать это.
– Тогда выпьем на брудершафт, – произнесла она, подняв бокал.
– А я знаю, Ксения, что ты подумала, – выпив и поцеловав балерину в губы, сказал Попсуев. – Нахал, ты подумала.
– Ну как вас не похвалить, Сергей?
– Не нас, а меня. Сладка твоя мне похвала. / Сладка, как мед, как пахлава. / Пусть губы коньячком горчат, / меня они не огорчат. Что закажем?
От небрежного брошенного экспромта Попсуева Ксения оттаяла, размягчилась, словно и не было у нее семи лет одиночества.
– А мне всё равно! – сказала она. – Тебе на вечер карт-бланш. Верю!
– И вверяю, – добавил Сергей, пригласив сударыню на танец. От близости ее гибкого, послушного тела закружилась голова, пришла рифма к «карт-бланш» – Дюманж, любовница Сухово-Кобылина, а от толчков крови почувствовал, как просыпается в нем дремавший другой.
Из «Записок» Попсуева
«…в Египте человека называли скотом бога Солнца, а в священной корове Хаттор греки и римляне признали Афродиту и Венеру. Отголоски этой веры донеслись и до России, где жриц богини любви называют телками. Точно так же на наших кладбищах цыганские мавзолеи не что иное, как осколки величественных египетских пирамид. И вообще об их стройной геометрии мироустройства, как земного, так и загробного, у нас напоминают сегодня спорадические потуги по восстановлению государственности да хаотические мысли о душе и смерти. На России угасала не одна древняя культура. Как птица Феникс, они потом делали попытки возродиться, и возрождались, более-менее удачно, но снова успокаивались на ее безграничных просторах, на которых не раз и не два можно возродить Землю и спокойно похоронить всё человечество…»
Маркетолог «Египсиба»
Вскоре после возвращения Сергея из Египта появилось интервью Шебутного с Попсуевым.
– Что вас сильнее всего потрясло в Египте? – задал вопрос журналист.
– Пирамида Хе, – скупо ответил турист, почему-то оборвав слово.
Интервью заняло вместе с фотографией полстраницы во вкладыше воскресного выпуска «Вечерки». На фото были песок, небо, два человека, один с черным лицом, второй с белым, два дромадера, пирамида вдали. Подпись была: «Сергей Попсуев и экскурсовод Абу-Симбел». Вторую половину страницы занимала статья того же Шебутного о выдающихся мистиках современности. Из контекста следовала явная чепуха, что и Попсуев из их числа…
Неделю мистик жил на подсосе. Когда денег не осталось даже на пиво, ощутил в себе чудовищную злость. Всё утро он бродил по городу и напряженно думал, что делать. Ничего путевого не пришло в голову. Оказавшись неподалеку от «Нежмаша», вдруг понял, что ходил не по городу, а болтался внутри себя. А там пусто, ловить нечего. Сергей поймал себя на том, что ищет взглядом на асфальте монетки. Какие монетки, не было даже бутылок. Куда ни глянь, одно лишь битое стекло – символ девяностых. «Диккенс, «Разбитые надежды». У кого же перехватить деньжат? К Ореху податься?»
Колька Орехов, бывший боксер, «крышевал» частников в Заводском районе. Когда Сергей во второй раз пришел к нему, тот пригласил его в подручные. «Нам спортсмены нужны, для барахолки. Клиентуры немерено, и все с баблом. У тебя башка на плечах, а не груша, так что жалеть не будешь».
«Подумаю», – пообещал Сергей, весьма пораженный, как неузнаваемо изменился за полтора года его знакомый. В первый раз в полутемной комнате он не обратил на это внимание. Точно невидимый художник зачернил колер лица и загрубил его черты. Думай не думай, а идти всё равно было некуда, делать нечего. Не на завод же возвращаться! Денег Орех дал, но Сергея по инерции занесло еще и к Алику Свиридову. Тот усадил гостя за пиво с копченой мойвой.
Денег Орех дал, но Сергея по инерции занесло еще и к Алику Свиридову. Тот усадил гостя за пиво с копченой мойвой.
– Чем занят? – поинтересовался Свиридов.
– Да пока ничем, – сказал Сергей. – Из Египта вернулся.
– И как Египет?
– Пекло жуткое.
– Пекло, это точно, – согласился Свиридов. Потом, помолчав, спросил: – А нет желания смотаться в Египет еще?
– До ноября нет. Пусть жара спадет.
– В ноябре так в ноябре. Хочешь в моей фирме работать, замом по маркетингу? «Египсиб», Египет – Сибирь.
– Почти Транссиб! – засмеялся Сергей.
– Окладец дам для поддержки штанов и поглощения пива, плюс пять процентов от сделки.
Сергею предложение понравилось, и хотя пять процентов особо не впечатлили, согласился. Надо было организовать обмен сибирских медведей на нильских крокодилов. Юридические вопросы, банки, бухгалтерию Свиридов брал на себя, также как и поставку бурых медведей из глубин Сибири.
– Охотники, егеря, таможенники, СЭС схвачены. Тебе в Египте надо выйти на поставщика крокодилов, крышу ему организуют от нашего посольства. Предложишь компаньону мишек. С собой возьми фильм про нашу олимпиаду с мишкой. Ну и сопровождать будешь груз смотрителем-кормителем.
Сергей слушал «хозяина», а сам думал о том, что неплохо смотаться еще разок в колыбель цивилизации, не спеша и не по такой жаре полазить по пирамидам, проехаться вдоль Нила, и, если получится, наварить еще и бабки. У него в голове несколько дней неотвязно вертелась мысль о сибирской пирамиде «Пирсиб». О чудесах, связанных с пирамидами, Сергей вычитал в книгах, появившихся на развалах.
«Денежек наварю и займусь чем-нибудь…» Чем, Попсуев не знал. Точно, не спортом, не заводом, не театром и не бизнесом. Бизнес был ему противен своей природой. Для Сергея всегда мерилом любого дела была польза для людей. Бизнес же основывался исключительно на принципе сообщающихся сосудов. Свою мошну можно было набить, только опорожнив чужую. И никакое лицемерие вокруг этого не могло сгладить хищническую суть предпринимательства: обогащение на обеднении, возвышение на унижении, процветание на гибели.
Эзотерические мысли
В пятницу Попсуев хорошо потрудился на участке. Всё прибрал, разложил по местам, вынес на мусорку хлам, починил калитку, перекопал в зиму грядки, подвязал надломленную ветку яблони. Татьяна, с которой он вновь сошелся, работала во вторую смену и должна была приехать завтра утром. Сергей вытащил на крыльцо кресло, укутался в плед и долго глядел в небо, любуясь угасанием света и переливом красок, пока совсем не стемнело. Ночью в мыслях появляется глубина, соразмерная с небом. Попсуев ощущал себя вполне комфортно: с Танькой мир, сынок уже ходит, держась за его палец крохотной ручонкой. У Сергея в эти минуты сладко сжималось сердце.
Глядел-глядел Попсуев в небо и вдруг стал искать Сириус. Недавно прочитанная книга о пирамидах не давала покоя. Он зашел в домик, нашел книжку и раскрыл ее на карте звездного неба. Потом нашел карту пирамид. «Если наложить, один к одному выходит. На Колодезной надо найти свою звезду, и тогда моя пирамида обретет свой изначальный смысл. Чего ехать в чужие земли, – думал Сергей, – под чужие небеса и звезды, дышать чужим воздухом, пить чужую воду. Энергия неба везде одна и та же, так как небо общее для всех».
Выразить словами то, что было за этой последней мыслью, Сергей не мог, но чувствовал, как глубоко, как бездонно это нечто. Дух захватывало от одной лишь попытки проникнуть в эту глубину, и охватывал восторг.
* * *
Со Свиридовым ничего не выгорело. В середине октября Попсуев не без приятности провел целую неделю в Египте. Ахмет, на которого Сергея вывел чиновник, сокурсник Свиридова, оказался хорошим экскурсоводом. Впечатлили воистину сказочные будни. На рассвете, когда тихо и прохладно, по Нилу скользят быстроходные барки дахабие, лают павианы над рекой, молча молятся грифы, ловя разведенными крыльями солнечное тепло. Дромадер лежит на коленях, и его вьючат два человека. Высушенные солнцем бедуины чистят зубы золой кизяка. («Откуда помидорная дама узнала об этом?») А дневная пыль, секущий песок и порывистый ветер зобаа не помеха, когда едешь в машине. И какие краски! Золотое шитье в тени обращается в черный орнамент. Зеленые, как трава-лебеда, иероглифы проросли из чернозема веков. Глядя на них, Сергей думал: «Как было всё тут несколько тысяч лет назад, так и осталось. А мы за десять лет сменили порошок «Мятный» на «Поморин», «Поморин» на «Блендомед». У бедуинов жизнь растекается по координате икс, вдоль земли, а нас несет вдоль игрека, в зенит. Бежим от земли, но в нее возвращаемся….»
Несмотря на кажущийся хаос, почему-то слово «порядок» больше других подходило этой стране. Видимо, наложил отпечаток Древний Египет. Сергей не раз вспоминал жуткий сон, в котором была геометрия правдоподобия. «Порядок может быть только в геометрическом государстве».
* * *
– Можно? – услышал Сергей женский голос, скрип калитки и шаги. – Вижу огонек. Дай, думаю, зайду. С возвращением.
– Садись, Ксюша. Рад тебя видеть. – Сергей обнял соседку, чмокнул в щечку, усадил в кресло и укрыл пледом. – Чайник включу. Может, ликер?
– Спасибо, чай. Твои спят? – спросила Ксения Всеславна.
– Завтра приедут. На смене.
– Хорошо, правда? Тихо. Но иногда слышен городской шум.
– Он навяз в твоих ушах за неделю. А я тут уже день и не слышу.
– Я сегодня Египет вспоминала, жару, головную боль… Наше знакомство. Египет создан для встречи мужчины и женщины.
– Да не только Египет. Знаешь, на что я обратил внимание там? Боги-мужчины на барельефах всегда в движении, шаг вперед, а женщины стоят. Даже в ладье мужчина шагает. Думаешь, случайно? Мужчина делает шаг, завоевывая метр пространства, а женщина обустраивает его.
– Мужчина так же и женщину завоевывает, шагнет на метр – и она его.
– На метре не поместится. Надо сразу два шага сделать.
– Второй, жениться? – Ксения испытующе посмотрела на Сергея.
Попсуев рассмеялся.
– Как крокодилы? – спросила гостья. – Полюбил?
– Что ты! Глазки жуткие, пасть отвратная, панцирь. Менять наших мишек на эти торпеды – ни за что! И Свиридову сказал: «Только через мой труп. Уж лучше завезти в Сибирь анаконду и пираний».
– А он?
– Он мне: «Да ты уж сразу южноамериканских муравьев запусти! Они ползут полосой и по пути всё сжирают. От деревень остаются скелеты людей и животных. Не хочешь сотрудничать, сказал он, верни израсходованные денежки и задаток, который оставил Ахмету. И тогда делай что хочешь».
– А ты? – спросила Ксения, но Сергей ушел от ответа.
– Ты знаешь, Ксюша, я вычислил, что на нашей Колодезной есть вход в Дуат, я говорил тебе о нем. Пирамида нужна.
– О господи, зачем?
– Да мало ли зачем? – пожал плечами Попсуев. – Ты только не думай, что я свихнулся или придуриваюсь. Всё это слишком серьезно.
Посидели еще с полчаса, поговорили о последних событиях в стране и мире, о балете «Анюта». Сергей проводил соседку до ее калитки и вернулся домой. Общение с Ксенией наполняло его всякий раз радостью, которой не было у него больше ни с кем. Он был благодарен ей за то, что она тогда после ресторана разрешила проводить его до дома, но к себе не впустила. Отчего дом ее не разрушился, а превратился во дворец, в котором находится королева.
Из «Записок» Попсуева
«…как сладко, не мучаясь угрызениями совести, дремать, забыв обо всём, что было, есть и будет; покоиться в мире внутри самого себя, в гармонии с миром что вокруг. Этого нельзя достичь, но если вдруг достигаешь, даже на краткий миг, обретаешь истинное наслаждение, какое знает, наверное, лишь свет в капле воды, свисающей с листочка…»
Возвращение
Когда Попсуев потерял всякую надежду устроиться на работу с приличным заработком, а Татьяне на заводе и вовсе перестали выдавать деньги, Свиридов стал всё настойчивее и грубее требовать возврата долга, сначала по телефону, а потом прислал двух братков. Парни оказались знакомыми и предостерегли Сергея, чтобы не тянул с возвратом. Попсуев собрался уже идти к Ореху, как раздался телефонный звонок. Звонил Дронов. Без реверансов и предисловий непотопляемый начальник отдела кадров «Нежмаша» пригласил Сергея руководителем группы в НИЛ. Попсуев поблагодарил, сказав: – Подумаю, – и хотел уже положить трубку, как в ней другой голос произнес: – Дай-ка мне.
– Здравствуйте, Сергей Васильевич! Это Диксон, Яков Борисович. Узнали? Не стану утомлять вас долгим разговором. Бебеев больше не работает у меня. А вам я хочу предложить руководство новой группой, весьма перспективной. Вы же понимаете, что недоразумение меж нами возникло не по моей вине. Кстати, место моего зама пока вакантно…
– Хорошо, – неожиданно согласился Попсуев. – Одно условие. Доктор прописал съездить на воды, почки промыть.
– Как, Савелий Федотыч? – послышалось в трубке. – Путевку организуешь в Железноводск?
– Да не вопрос!
– Договорились, Сергей Васильевич! Жду вас.
«И поделиться радостью не с кем! Танька в смене, Дениска у бабки Аси!» Сергей в возбуждении походил по кухне, попил чай с сушками. Мысли мешались. Взгляд его скользнул по книжному шкафу. Вынув «Мертвые души» и «Человека-невидимку», он лег на диван и стал перелистывать их, вспоминая текст, вглядываясь в иллюстрации. Воображение переносило из викторианской Англии в николаевскую Россию, а ум соглашался: это была эпохи… Листал-листал, думая о том, как хорошо и уютно было героям внутри своих книг, и закемарил…
* * *
«…Где это я?» – соображал Попсуев, оглядываясь по сторонам. Он оказался на незнакомой тесной улочке, прямо на него шла женщина в шляпке, по бокам дети. Было сыро, промозгло, с белого неба валилась тяжелая пена – редкие крупные хлопья снега, как холодные поцелуи. Попсуев встал под навес. Женщина с детьми прошли мимо, не задев его. Порыв ветра сорвал с женщины шляпку, полисмен подхватил ее, протянул даме, и тут на них едва не наскочила пролетка. Полисмен стал кричать на извозчика, велел ему идти за ним в участок.
Повернувшись в другую сторону, Попсуев увидел большой магазин, швейцара в ливрее, вывеску «Omnium». Да, это отсюда он вышел только что, раздосадованный, простуженный, с комком в груди и в горле. Зачем вышел в эту сутолоку, где каждое мгновение могут сбить с ног люди в каких-то театральных костюмах и нереальные конские экипажи? Будто Современный театр дает человеческую комедию прямо на улице. Чем раздосадован он? «А, не смог ничего подобрать из одежды, вернее, не успел… Ну и крохобор ты, старина Герберт! Чего не приодел Невидимку? Выпихнул беднягу на улицу, в чем мать родила. Теперь расхлебывай твое скупердяйство!» Он вдруг поймал себя на том, что видит себя со стороны (хотя и невидим), одновременно являясь героем Уэллса и самим собой, Сергеем Попсуевым.
Не рассчитав расстояние до фонаря, Сергей сбил себе плечо, саданул по фонарю кулаком и сбил себе еще и кулак. От бессилия что-либо изменить, хоть рычи, хоть плачь. «Да где же это я? – никак не мог он взять в толк. – Скорей ищи пристанище, Попсуев, пока не отбросил копыта на этой промозглой стрит, как последний бродяга».
Остановившись возле пролетки, покинутой извозчиком и поглаживая лошадь по шее, он стал раздумывать, вскочить ли на пролетку «за шесть гривен» и промчаться на ней в пригород (там легче будет найти приют) или уж не привлекать внимания (ведь всё равно остановят взбесившуюся без кучера лошадь) и топать своим ходом. Вот только куда – в центр города или вернуться к трущобам?
Вдруг почувствовал, как на плечо легла влажная горячая тряпка. Он в испуге оглянулся – лошадь облизывала его пораненное плечо, глядя ему в глаза своими красивыми карими глазами. «Она видит меня», – подумал Попсуев.
Подошел извозчик и ни с того ни с сего стегнул лошадь кнутом.
– Чего зубы скалишь, принцесса? – бросил он кобыле по-английски, точно та не поняла бы и другого языка, и забрался в пролетку. Попсуеву передалась боль от лошади, он вырвал у извозчика кнут и что есть сил, крест-накрест перетянул его. Тот в ужасе заорал.
Лошадка понесла пролетку по улице, а кнут продолжал еще какое-то время извиваться и щелкать в воздухе. Прохожие шарахнулись в сторону от взбесившегося хрипло дышавшего кнута. Кнут полетел в сторону и разбил стекло лавочки.
– Черт! – воскликнул кнут по-русски. – Неужели порезался?
Улочка мгновенно опустела. Лишь один полисмен застыл, не решаясь подойти к свернувшемуся змеей кнуту. А когда мимо него пролетели ругань и чихание, оставляя на мостовой капли крови, и вовсе зажмурил глаза от суеверного страха.
Попсуев же устремился прочь с этой проклятой улочки, где он, похоже, был явно лишний. «Надо было вскочить дурню на пролетку, чего раздумывал? Накинул бы на себя какую-нибудь тряпку, там лежали мешковина, брезент, укутался с головой и – кому я нужен? Да и зачем укутываться, всё равно невидим. Разве что согрелся бы. Домчал бы до пригорода, а там дач пустых, любую выбирай и хоть до лета живи. И с пропитанием не было бы проблем. Какие-никакие крупы и консервы все оставляют, соль, сахар, макароны, чай, кофе, картошку в яме, не пропаду…»
«Пожалуй, так и сделаю», – решил Попсуев, лавируя между прохожими и передразнивая неповоротливых граждан; за этим делом он понемногу и согрелся. «Возьму какую-нибудь телегу и махну за город. Только дождусь вечера. В потемках оно верней. Найду лавчонку со жратвой и лежанкой, отдохну от всей этой кутерьмы».
Попсуев попытался восстановить события последних несколько часов и не смог – в голове была каша, да и быстрая ходьба пробуждала не столько воспоминания, а предлагала варианты грядущего. Налетев на толстого мужчину, он машинально извинился, и пошел дальше, оставив гражданина посреди тротуара с выпученными глазами – его раньше никогда не толкал воздух, извиняясь при этом по-иностранному.
«Колоды, тюфяки! – Медлительность, неспешность граждан раздражали Попсуева. – А куда я спешу, куда бегу, от кого и зачем?» Мелькнула мысль: «Не бросить ли всё к чертовой матери и вернуться к прежнему облику, когда все видят тебя? – Но он тут же отверг ее, как провокационную. – Как вернешься, когда все пути отрезаны? Дом-то сгорел вместе с аппаратом».
За поворотом легла неожиданно тихая чистая улочка, в начале которой располагался покоем трехэтажный отель, не пять звездочек, но оно даже лучше. Швейцар в ливрее хоть и смахивал на пирата из «Острова сокровищ», был, однако, весь преисполнен важности и даже величия. Особенно впечатляла шляпа.
Повезло, подкатил экипаж с кругленьким гражданином и двумя саквояжами цвета хаки. Приезжего встретили, Попсуев пристроился за ними и проскользнул следом в гостиницу. Хорошо, перестала сочиться кровь, порез оказался неглубоким. Попсуев уселся в кресло; после улицы показалось тепло, и уже одно это располагало к ленивому любопытству.
Пока приезжий беседовал с портье, Попсуев с удовольствием огляделся, обратив внимание на подробности, которые интересуют обычно женщин. У приезжего был здоровый цвет лица, очевидно, от свежего воздуха и свежей пищи, а у портье белые зубы. Приезжий почему-то раздражал своим обликом Попсуева. Он кого-то сильно напоминал ему. «Ну и тип», – думал Сергей. Тип пару раз обеспокоено оглянулся назад, в точности фиксируя место пребывания Попсуева. Сергей не удержался и подмигнул ему.
Но вот приезжего повели наверх, прошел следом и невидимый и непрошеный гость. Приезжий на лестнице обернулся и посмотрел сквозь Попсуева. В его маленьких глазах было недоумение.
– Вот сюда, – показали ему номер.
Ожидания не обманули Попсуева. Номер из двух комнат на втором этаже был достаточно просторным, пока не натопленным, в спальне стояли широкая кровать, тумба с зеркалом и платяной шкаф, а в гостиной буфет, столик и диванчик, располагавший ко сну. Этот отрадный факт – наличие в номере дополнительного спального места – настроил Попсуева на мажорный лад. Он даже полюбовался видом из окна, хотя, откровенно, любоваться особо было нечем. Дома, крыши, трубы.
Расположившись так, чтобы хозяин номера случайно не задел его, Попсуев стал наблюдать его.
Однако пренеприятный тип! Странно даже, что незнакомый человек вызывает такую антипатию. В нем чувствовалась закваска проныры средней руки. Ну, проныра и проныра, а что же так отталкивает в нем? Да глазки, в которых снуют, замирая на минуту-другую, разные мыслишки, выкрашенные одним липким цветом «моё».
– Что такое? – пробормотал приезжий. – И тут голуби? – Он открыл окно и выглянул в него: – Никого. Странно. Эс ист зелтзам[22].
«Ба! Да это Ненашев! Вот так встреча!» – от всколыхнувшихся воспоминаний Сергей едва не окликнул Илью Борисовича, но хорошо, что удержался. Попсуев замер, чтобы не беспокоить понапрасну чуткую особу. Надо потерпеть немного, всё равно его куда-нибудь унесет.
Целый час Ненашев распаковывал саквояжи, раскладывал по полочкам белье, коробочки, шкатулки, перекладывал в сервант бутылки и кульки. Это время показалось Попсуеву вечностью, хоть и довольно занятно было наблюдать за старым знакомым. Сергей старался только не смотреть на него в упор, чтобы не будоражить лишний раз его чувства.
Труднее всего было удержаться от чихания. Один раз он не вытерпел и, зажав нос ладонью, чихнул, но мужчина почему-то не обратил на это никакого внимания. Наконец, Ненашев всё разложил, привел себя в порядок и покинул номер. Перед тем, как закрыть дверь, с подозрением осмотрел обе комнаты.
Попсуев достал из серванта бутылку ликера и сделал из горлышка три больших глотка. В это время приоткрылась дверь (видимо, приезжий прислушивался за дверью к звукам в номере) и послышалось восклицание: – О майн гот!
Глазам хозяина номера предстала его бутылка португальского ликера, без всякой опоры висящая в воздухе под углом тридцать градусов вниз горлышком, и также несколько невесомых «глотков» ликера, издающие булькающий звук, на глазах теряющие очертания и цвет и медленно оседающие вниз. В ужасе мужчина вытер платком пот со лба и закрыл дверь. Потом дверь вновь открылась, и Ненашев зашел в номер.
Бутылка стояла в серванте!
Илья Борисович на цыпочках подошел к серванту, достал бутылку, внимательно осмотрел ее, очевидно припоминая сколько в ней оставалось ликеру, покачивая головой, пальцем потер стекло, рассеянно оглядел помещение и в задумчивости удалился, теперь уже окончательно.
«Надо быть осторожнее, – ругал себя Попсуев, – зачем мне неприятности, давно не был на улице? Здесь можно будет перекантоваться до вечера, а потом даже с шумом покинуть номер, пусть Ненашев потом рассказывает всем, что жил в доме с привидениями. Труппа позабавится. А хорошо бы Изольде привет передать! Жаль, нельзя, еще Кондратий хватит Илью Борисовича, и так, наверное, при слове «Сирано» в туалет бежит».
Сергей подошел к зеркалу и удивился, не увидев в нем себя. «Себя-то я вроде как должен видеть, – подумал он, – ведь я ж не привидение». От усталости хотелось спать, и вдруг он понял, что вполне счастлив. Именно «вполне счастлив», ему спокойно и радостно. Чего еще надо? Он не рискнул расположиться на диванчике, забрался в свой закуток и забылся там.
* * *
Потом очнулся, но не совсем, от слов: «А чего вы тут, Павел Иванович, скрючились? Полезайте-ка на перинку, повыше-повыше, косточки-то деревянненькие, небось, оттайте с дороги, ножки-то протяните, что вы всё калачиком? Взбирайтесь-взбирайтесь».
Полусонный, как ребенок, Попсуев долго карабкался на какие-то тюфяки. Откуда-то слышались женские голоса, какое-то время они, как куриное клохтанье и куриные же перья, плавали около него: «ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ… Павеливанович… павелива-анови-ич… а-е-и-а-о-и… а-а-а…», но вскоре растаяли, и он уснул.
Очнулся он на перинах под потолком низенькой комнатки, весь мокрый от пота. «Натопили как. Взопрел весь. Кто же это меня раздел всего? – удивился он. – А, видно сам от жары». Внизу в косых солнечных лучах из квадратного окошка вспыхивали пылинки и плавали перья. Заглянула бабенка, крепкого сложения, востроглазая.
«Она не должна меня видеть», – решил Попсуев и поднялся во весь рост, но стукнулся головой о потолок, не удержался и скатился с кровати на пол, гукнувшись коленками об пол. Бабенка вскрикнула и выскочила в сени. «Надо же, – подумал Попсуев, – ее, должно быть, взволновала моя стать. Ну как от бабы скроешь стать, коль ей пришлось пред нею встать?»
* * *
Сергей очнулся и никак не мог сообразить, где он. Наконец понял, что уже утро.
– Проснулся? – зашла Татьяна. – Ну и спать ты горазд! Будила, не разбудила. Опять во сне кричал.
– Знаешь, кого я во сне видел? Ненашева. Всё такой же проходимец.
– Проходимцы не меняются. Свою не видел? Девчата встретили как-то, говорят, осунулась бедняжка… Вставай, девятый час уже. Я за Дениской. – Шаги Татьяны были слышны, пока не хлопнула подъездная дверь. И потом, казалось Попсуеву, он слышит ее шаги и даже видит, как она идет по двору, переходит дорогу, подходит к остановке троллейбуса…
И вдруг Сергей буквально подлетел над кроватью.
– Да что же это я! Ведь меня в НИЛ берут! – проорал он в открытое окно давно скрывшейся с глаз Татьяне.
Черная нитка
Железноводск понравился Сергею, но покидал он курорт с ощущением занозы в душе. Не потому, что провел три недели один как перст (он даже был рад этому, пил воду, вышагивал по терренкуру вокруг Железной горы, старательно принимал грязи, клизмы и ванны), а из-за двух неприятных эпизодов. Дней за пять до отъезда, задумавшись, он шел тихой улочкой, пиная камушек с таким чувством, будто это был его почечный камень. Обратил внимание на тощую кошку, которая, как собака, грызла мосол. Попсуев долго смотрел на нее, думая о том, что в принципе это он сам, только в кошачьей ипостаси. Прошел мимо дома, где Лермонтов провел свою последнюю ночь перед дуэлью, скорей всего повторяя слова Печорина перед его дуэлью с Грушницким (Сергей помнил их со школы): «И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я, в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец!.. И то, и другое будет ложно». А что есть истина? Интересно, тогда были бездомные кошки?.. А была ли дуэль?.. Мишель так и не разобрался в самом себе, а я? Что делал бы я, оказавшись на месте Лермонтова?» – подумал с тоской Попсуев и в момент, когда в памяти стала всплывать строка поэта «И в небесах я вижу Бога», услышал:
– Извините, не подскажете, как пройти к «Дубравушке»?
– Вон туда, вниз.
Женщина поблагодарила, и они каждый направился своим путем.
– Послушайте, – услышал Попсуев. – Вас можно на минутку? Извините.
– Да. – Сергей подошел к ней.
– Вы русский? – неожиданно спросила она.
– Да.
– Точно?
– Точно.
– На итальянца похожи. В церковь ходите?
– Иногда.
– В последний раз давно были, – утвердительно сказала незнакомка. – В нашу не ходили.
– Как сказать, – слукавил Сергей, удивляясь, что разговор не раздражает его. Случись он две минуты назад и будь на месте этой женщины любая другая… «Нашу церковь, а что тогда про «Дубравушку» спрашивала?»
– А я гречанка. На вас порча. Порча и сглаз.
– Что?
– Сильная порча и сглаз. Вы же сами замечали, что у вас не всё получается. Вроде всё хорошо идет, а потом бах!
– Замечал.
– Я «вижу», – предупредила возможный вопрос гречанка. – Мама ворожила. Ушла и этот дар передала мне вместе со своей расческой. Вы думаете о Толе. Он для вас означает многое.
– Да, Анатолий мой друг. Приятель, – уточнил Сергей. «Свиридов, что ли? Ну да, Алик – Анатолий».
– Ну вот, – удовлетворенно произнесла женщина. – Приятель. Друзей нет у вас. А в вашей семье или среди знакомых есть женатый вторым браком?
– Есть,
(«Кто бы это? Опять Свиридов!» – подумал Сергей).
– Вот там и сглаз. Вам сильно завидовали.
Попсуева взяло за живое: «Кто же это мне так завидовал, что наслал порчу? Та невзрачная? Но почему?» – этот вопрос возник не в нем самом, а словно извне ввинтился в мозг. «Опять другой?»
Гречанка была в добротной кожаной куртке, изящных сапожках. «Прикид не хилый у менады», – подумал Сергей.
– Попробую свести грязь с вас. – Менада достала из сумочки черное компактное Евангелие, выдернула из связки черных ниток одну. – На нитке завяжите три узелка.
Попсуев завязал. Она взяла нитку, помяла ее в пальцах, скатала в комочек, шепча что-то, вернула.
– Зажмите в кулак. Сейчас я помолюсь и как скажу, посмотрите: если узелки развязались, сняла с вас порчу и сглаз. Вечером в семь часов сожгите нитку, а завтра сходите в нашу церковь и поставьте восемь свечей Казанской Божьей Матери… Вы, конечно, святую воду в церкви не брали.
– Не брал.
– Вот. Значит и воду взять. Три дня пить и умываться ею.
Сергею было уютно в воркующем обволакивающем голосе ворожеи.
– А теперь повторяйте за мной. – Она стала нашептывать слова то ли молитвы, то ли заклинания, спросила его имя, проговорила его три раза, произнесла и имя Мария («Это мое имя»). Попсуев, мало чего понимая, повторял за нею.
– Посмотрите на нитку, – кончив, сказала она.
Сергей разжал кулак, разгладил нить. Узелков не было!
– Значит, запомнили? – Мария повторила еще всё, что должен был сделать Попсуев в церкви и дома.
Сергей хотел поблагодарить, но Мария упредила его: – Благодарить не надо. А вот чтобы всё сбылось, надо двадцать долларов дать.
– У меня десять.
– У вас еще есть, – сказал Мария. – Нужны две купюры.
Сергей вынул из кармана наличность: – Наши.
– Ничего, – сказала гречанка и без всякого смущения изъяла самую крупную банкноту. – Только никому не говорите, а то могут помешать.
Мария попрощалась, блеснув цыганскими глазами.
Попсуев перебирал в памяти все слова гречанки, сомневаясь в искренности ее слов.
«Неужто лоханулся? Поделом! – думал он. – Всё у нее было заготовлено: и Евангелие, и нитки в нем, и эта нитка без узелков в кулаке. Фокусница! Разве очищают за баксы? Хм, а куда же делся камушек?»
К вечеру Попсуева разобрала икота, которую он не мог унять ничем. «Вот и развязка скоро» – подумал он. К семи часам икота стала невыносимой. От нее содрогалось всё тело, и ничто не могло ее ни снять, ни утишить. Нитка вспыхнула, и по ней пополз как по бикфордову шнуру огонек. Положив нитку на раковину, Сергей смотрел, как она догорает, и от нее ползет запах как от свечи. Остаток нити Попсуев смыл в раковину. «Нет, это не та нить, на которой узелки, – подумал он, – та была черней и ровнее. Хотя она мяла ее в пальцах…» Зная подноготную многих фокусов, Попсуев, тем не менее, мухлежа «гречанки» не заметил. Икота мучила Сергея до полуночи, пока он, вымотавшись в конец, не принудил себя уснуть.
* * *
Утром икота не вернулась, и Попсуев забыл о случившемся и о том, что ему следовало сходить в церковь. Вспомнил через пару дней, когда на экскурсии в Кисловодске зашел в почти восстановленный Никольский собор. Экскурсанты ставили свечи, взирали на иконы и купол, перешептывались, и это не было похоже на молитву Господу. Сергей купил две тоненькие свечи, спросил у служки, куда их поставить «за упокой». Тот указал на квадратный столик у Распятия перед Крестом. Свечи не ставились, оплавлялись, изгибались, оседали, чернели, гасли…
«Да что же это? Что же?!» – чувствуя спазм в горле и подкатившие рыдания, Попсуев, оставив свечи не зажженными, выскочил из храма. Весь вечер он ходил убитый, каясь в том, что так редко вспоминал о почившей двенадцать лет назад матушке. И сожалея, что не помолился о ней в храме. Об отце Сергей не вспомнил, как и тот не вспоминал о нем уже десять лет.
А еще через пару дней в толкотне тесного аэропорта в Минводах Попсуев забыл свои курортные огорчения и помнил лишь лермонтовские места, в которых ответа на вопросы, мучившие поэта и его героя, тоже не нашел… Но и они, эти воспоминания, уже не грузили его, так как в мыслях он уже был в работе, которая ждала его две недели. Надо было уменьшать брак в десятом цехе и отрабатывать аванс.
Из «Записок» Попсуева
«…однако Свиридов гад. Прислал трех «менеджеров» разбираться со мной. Ладно бы по вежливому. Нет, ножички достали, полезли в шкаф. Я спросил: «Знаете, что Сирано с сотней таких, как вы, сделал?» Они: «Кто такой?» «Сейчас покажу!» – сказал я. Показал. Алюминиевый багет пришлось сорвать, он неплохо в руку лег. Двоих в больничку отправил, а третьему сказал: «Если Алик захочет поправить свое здоровье, жду его. Но долг не верну, уговора не было такого»…»
Сеанс магии с переодеванием
В ночь с четверга на пятницу Попсуеву приснилась незнакомая женщина. Она пахла летним дождем, отчего было беспричинно радостно, как в детстве. Всю пятницу Сергей провел в страшной рассеянности. Ничего не ладилось, всё валилось из рук.
Утром в субботу Попсуев проснулся на рассвете, тяжелый и разбитый. Выпил кофе, написал записку «Я на рынке» и вышел из дома. Возле подъезда от ночного дождя образовалась лужа. Вдохнул сырой, с гнильцой и легким запахом псины воздух сентября. Постоял, прислушиваясь к звукам. Было пасмурно, с деревьев падали капли, шлепая или звонко булькая. Перешел дорогу и побрел по парковой аллее. Асфальт был устлан трупами и полуживыми крысами, которые ещё шевелились и издавали сиплый чавкающий звук. Оторопь взяла его, пока он не понял, что идет не по крысам и их трупам, а по разбухшим от дождя большим серым листьям.
Усталость пудовыми гирями висела на ногах. Попсуев не мог отделаться от мысли, что всё, чем он занят был в этот год, лишено всякого смысла, даже борьба с браком в десятом цехе. Победа над ним уже в принципе не несла ничего нового. Грядущее представлялось скучным и серым. «Непонятно, чего добиваться в жизни и зачем. Денег? Женщин? Славы? А может, добродетели? Без бессмертия?»
Сколько помнил себя Сергей, ему всегда казалось, что в нем есть дар, который может вершить чудеса. Его часто охватывал восторг от мысли, что он может сделать то, что не может больше никто. Ради корысти? Нет. Удивить кого-то? Тоже нет. Занестись над другими? Вряд ли. Скорей всего, он занимался этим бездумно, его вел восторг жизни. А еще (он в этом не хотел признаться самому себе) его вела по жизни вера в сокровенный мир, где всё не так, всё лучше и чище, светлее и радостнее. Тот мир, стало казаться ему, расположен в нем самом, туда легко попасть, как в парк с прудом и оркестром, и там всё по любви и по совести…
* * *
Попсуев свернул в переулок. Мимо проскакала девочка, одетая по-летнему и по-летнему крутя скакалку. Это была та самая девочка, Сергей не сомневался, маленькая, белобрысая, носик востренький, глазенки пуговками… Он посмотрел ей вслед и налетел на столб. На столбе висело объявление о том, что известный маг, некий Адам Баранов, академик международных академий разгоняет тучи, проливает дождь, сдвигает время, меняет ширину радуги, высоту солнца, радиус земли.
«Странно, – подумал Попсуев, сдирая, тем не менее, листок, – такой ас, а объявления расклеил по столбам?» И надо же было такому случиться: днем услышал выступление мага по городскому радио. Хорошо поставленным голосом тот из Венеции озвучил информацию со столба. Как-то не вязались Венеция с гондолами и телеграфный столб в Вяземском переулке, но странным образом они были соединены… А когда голос стал рваться и слабеть из-за эфирных колебаний, искусник сказал: «Это пустяк. Сейчас поправлю. Несколько мгновений вашего терпения». И, действительно, несколько секунд что-то хрипело и щелкало, Послышалось: «Ho un problema nella mia camera» и «La doccia non funziona»[23], а потом голос зазвучал снова внятно и напористо.
В конце интервью Баранов назвал время и места, где он будет давать представления, а также сообщил о наборе учеников в Первую международную школу магов. Планировались два выступления чародея на ТВ, пресс-конференция, сеансы излечения слабоумия и СПИДа, а также консультации депутатов Областной думы. Маг рассчитывал пробыть в Нежинске две недели, а потом периодически посещать город. На вопрос, как он поправил эфирную связь, Баранов ответил: «Об этом я буду рассказывать на своих выступлениях. Кто пожелает учиться в школе, сами прекрасно справятся с этим. Через полгода, максимум через год».
После этого Попсуеву будто специально подсовывали информацию о маге: на радио, по ТВ, в газете, автобусе, на столбах и заборах, в книжных развалах. Внимание стало работать выборочно, но как пылесос. Попалась фотка Баранова: чернявый мужчина с проседью, выпуклыми глазами, бородка клинышком, чистый высокий лоб. Внешность яркая, неординарная, но как ни странно, не запоминающаяся. Отвел взгляд от фото, и уже не вспомнить, какая. Сергей никак не мог освободиться от мыслей о маге, правда, в основном скептических. Даже приснилась какая-то чушь.
Попсуев изучил сорванное со столба объявление. Первое выступление должно было состояться через два дня. За это время Сергей услышал о маге раз десять и стал досадовать на себя: «Всю жизнь мечтал научиться чему-то необычному, представился случай, а я раздумываю».
Попсуев направился во Дворец культуры. Загадал цифру 7 (он прочитал где-то, что это «знак ангела», символ удачи) и сел в седьмом ряду, на седьмое место. Огляделся. Публика была самая обычная, как на любом концерте, хотя такого не должно было быть. Сеанс-то совсем не рядовой. «А с чего я взял, что он не рядовой?» К удивлению своему, Сергей чувствовал волнение. Судя по снимку и голосу, должен был предстать перед глазами не совсем обычный человек. Так и случилось.
Адам Баранов явился в черном костюме с блестками, отчего Попсуеву вдруг стало тоскливо. Сергей не задавался вопросом, зачем эта искристость, но мишура смущала. С артистом вышли два ассистента. Они таскали с места на место столик, стулья, суетились, подчеркивая основательность мастера, то ли пытаясь перенести на провинциальные подмостки знаменитое «Варьете».
Маг начал как положено: с гипноза. С публикой по-другому нельзя: сначала надо мозги одурманить, а потом уже и прояснять. И начал не с показа, а с баек. Рассказал о трех встречах с Вольфом Мессингом, как тот проводил свои сеансы с Гитлером и Сталиным. В кабинет Сталина, уверил Баранов, Мессинг попал, одурачив охранников, и де вождь сам наблюдал за этим. Не верилось, хотя и охватывал сладкий восторг: а вдруг, правда? После вступления, наметившего недоступную высоту темы, Баранов спросил:
– Ну, что? От слов к делу? – И хлопнул в ладоши.
Зрители отозвались бурными аплодисментами.
Иллюзионист продемонстрировал незамысловатые фокусы, а потом загасил парафиновую свечку в десяти шагах от себя, снова зажег ее, надо понимать, глазами, снова загасил. «Дуй он изо всех сил, вряд ли задул бы на таком расстоянии. А если всё ж таки и задул, как тогда зажег? Погасить можно разными способами, хотя бы силикатным клеем, предварительно капнув им в лунку. Но зажечь? Может, микробатарейки? Вполне вероятно». И так пять или шесть раз кряду. Свечку унесли.
На сцене появился здоровенный амбал, с ним пять молодцев в камуфляже. Амбала маг легко повалил на пол, опять же взглядом или чем-то невидимым, а молодцев не подпустил к себе, оставаясь невозмутимым, как рыба. Те с ревом бросались на невидимое препятствие между ними и магом, но так и не смогли прорвать его. Впрочем, рев можно было устроить и за пару бутылок, из-за которых совсем недавно сносили милицейские кордоны, ларьки, а потом снесли и всю страну. Снискав доверие зрителей, Баранов стал угадывать числа, слова, имена, даты, угадал всё, а завершил на радостной ноте:
– Весьма рад, что в зале нет ни одного одержимого. С порчей, сглазом есть, и много, вон там, там, там, чуть ли не каждый второй. Приходите, господа, на мои сеансы. Один-два сеанса, и я освобожу вас от любого недуга.
Когда его попросили назвать всё-таки, кто конкретно из присутствующих нуждается в лечении, хотя бы в первом ряду, чародей стал указывать:
– Вот, вот… Вы, вы… Да почти все, – правда, тактично не стал показывать, на ком поселились лярвы, а на ком пристроился сглаз или порча. – Методика лечения одна, хотя у всех и разный уровень энергетики. Так что думайте и решайтесь, прежде чем идти ко мне. Может, кому-то с этим добром жить легче? – пошутил он.
Публике, наглотавшейся Булгакова, а в последние годы и его последователей, пишущих о всякой чертовщине, хотелось за сеансом магии тут же получить и его разоблачение. Разоблачения не последовало, разве что артист разоблачился и явился во втором отделении без блесток, в светлом костюме и стал рассказывать о йогах, продвинутых и просветленных людях, о пути, восхождении и прочем. Это было занятно, но уже сугубо теоретически, и не так веско, хотя и усиливало эффект сказочного, но вполне доступного освоения магической техники.
Баранов показал, как правильно дышать и прочищать весь организм. Надо было по очереди вдыхать через одну ноздрю, а выдыхать через другую. При этом ноздрю нельзя было зажимать пальцем, а только чистым платочком. Попсуеву, как и большинству зрителей, это показалось лишним. А потом все повторяли за наставником, перебиравшим четки, незамысловатое «О-о-м-м… О-о-м-м… О-о-м-м…». Попсуев вспомнил закон Ома, представил, как по организму течет ток, но никакого электричества в теле не почувствовал. А ведь в теле не один ом, а вся тысяча будет. Граждане расходились с сеанса с блестящими глазами и многозначительностью во взоре. Будто каждый узнал что-то такое, чего не знал больше никто.
* * *
На запись в школу магов Попсуев пришел заблаговременно и неприятно удивился, что оказался в хвосте. В коридоре, судя по разговорам, собрались преимущественно эскулапы. «Неужели среди них есть маги?» Ничего волшебного Сергей ни в ком не заметил. Серая масса, как на рынке. Однако говорили шумно, сыпали именами, латынью, терминами – не только медицинскими, что были на слуху, но и теми, которых Сергей отродясь не слыхивал – рамками, чакрами, кундалили, эгрегорами.
Как всякий грамотный человек, Попсуев имел представление о некоторых болезнях и методах их лечения, и этого ему хватало, чтобы не спешить по любому поводу к докторам. Еще он знал, что врач лечит больного препаратами или скальпелем. Здесь же получалось всё гораздо сложнее. За счет искусственных построений возводились сказочные дворцы, что невольно вызывало почтение – ведь мы если не презираем, то уважаем всё, в чем не разбираемся. Однако получалось, что эскулапы не верили в то, что каждый день делали – раз пришли сюда. И хотя вид у них был самый затрапезный, зачастую болезненный, глаза горели, как у сумасшедших. «Они сами хотят излечиться, – догадался Попсуев. – Ведь чтобы лечить, надо быть здоровым».
Рядом властвовал жилистый мужичок, которому, казалось, всё нипочем. Он сверкал глазами, упруго шагал по коридорчику, свысока поглядывая на всех, и смахивал на рехнувшегося Бонапартика, правда, российского разлива. Ему не хватало в руке лишь подзорной трубы, а на башке треуголки.
– Каково?! – вскрикивал он, ни от кого не требуя ответа.
С синеватым отливом девица рассматривала фотографию лысого здоровяка на мягкой книжной обложке. Глаза ее то туманились, как у рыбы, то вспыхивали восторгом от одного заглавия: «Секреты здоровья и красоты. Книга Девятая».
Помимо лекарей, были и интеллигенты иных профессий. При этом всё напоминало зоопарк. Суетливый молодой человек похожий на вертишейку – учитель или экскурсовод; солидные как гусыни дамы – домохозяйки или чиновницы; высокомерные, смахивающие на верблюдов личности – адвокаты или психотерапевты. Все ждали своей очереди. И, похоже, каждый не сомневался в успехе. Странно, что у этих по сути своей просителей было столько гонора. Многие из них, тем не менее, выходили из кабинета в явно расстроенных чувствах, но к ним деликатно не приставали. Везунчиков и так было видно, они были окутаны облаком тайны, из-за чего к ним тоже не хотелось бросаться с расспросами.
Бонапартик скрылся в кабинете и общее внимание привлек мужчина, дородный, в годах. Он вальяжно повествовал о последних течениях философской и религиозной мысли. Мэтр не бил на внешний эффект, каждое слово его и жест были выверены, продуманы, убедительны. Удивляло обилие имен, биографий, учений, которые, разумеется, отличались чем-то одно от другого, но в общей куче ничем. Почти обо всём этом Попсуев слышал впервые. Профессор повествовал в полной уверенности, что и прочие досконально знают предмет. Достав из портфеля альбомчик с фотографиями, он стал показывать свои фотки на фоне святынь и кипарисов. «А это Учитель. И это», – показывал он сначала на мужчину в белом, а потом на мужчину в желтом.
«Учителя же не фотографируются, – подумал Попсуев, – странно. Да и как может быть сразу несколько учителей? В любой начальной школе учитель один. И не переспросишь». Знаток сыпал без пауз. Но вот и его очередь. Задрав подбородок, зашел. Через десять минут вышел, презрительно поглядывая на пол и на двери.
– Мне тут делать нечего! – бросил он, проходя мимо Попсуева.
Неужели зарубили профессора, а может, ему и впрямь тут делать нечего?
Через десять минут дошла очередь и до Попсуева. С легким волнением зашел. Возле открытой форточки толстый лысый мужчина курил красный «Bond», держа сигаретку в щепотке, как чинарик. За столом сидел тоже лысый парень атлетического телосложения, похожий на амбала, которого повалил взглядом на сцене маг, он записывал результаты «кастинга» в общую тетрадь. Парень с видимым усилием водил невесомой ручкой, затерявшейся в его толстенных пальцах. Казалось, он впервые взял ее в руки.
Выпустив клубы дыма, и поплевав на сигарету, мужчина выкинул ее в форточку и представился. К своему разочарованию, Попсуев услышал, что самого мага нет, и прием ведет он, ассистент Баранова – доцент психиатрии Жучкин, кандидат медицинских наук, член академии с длиннющим ничего не говорящим названием. Внешний вид ассистента, да и его манеры как-то не вязались с образом мага, но не все же красавцы, решил Попсуев. Хотя он почему-то был уверен, что люди, посвятившие себя магии – необыкновенные люди. Не ангелы, конечно, но внутренне и внешне близко к ним. У ассистента были мятые брюки, несвежая рубашка, на шее не выбритый клок. Жучкин заметил взгляд Попсуева и пояснил: – Ваш город не оригинален: нет горячей воды, – как будто он, словно студент, стирал свою единственную рубашку в раковине.
– Второй месяц, – подтвердил Попсуев, подумав о том, разве не оригиналы собрались сейчас в этом месте.
– Вот видите. У вас тут повышенная живучесть населения. Это хорошо. Более здоровый контингент получится. С правилами знакомы? Где-нибудь обучались? Заканчивали курсы?
– Нет, впервые.
– Медик?
– Нет.
– А, педагог.
– Нет, технарь. Работаю на заводе.
Ассистент не смог скрыть своего удивления. Он с любопытством пригляделся к Попсуеву, будто нашел в нем ответ на мучивший его вопрос.
– Что, и курсы не заканчивали? Школу нетрадиционного лечения?..
– Нет.
– Сами пробовали лечить? Колдуны, знахари в роду есть?
– Нет. Чистый лист. Tabula rasa[24]. – Попсуев понял, что зря пришел, но что-то удержало его от того, чтобы попрощаться. – Это препятствие?
– О, табула-вокабула. Нет-нет. Это не препятствие. Главное интуиция, карма. Встаньте ко мне спиной, как на медосмотре, – сказал ассистент-доцент, жадно затянувшись новой сигаретой. – Глядите в угол, закройте глаза. Я сейчас буду показывать на пальцах цифру, до десяти, а вы должны угадать. Сосредоточьтесь… Сосредоточились? Вижу, что сосредоточились.
Попсуев напрягся. Попробовал «увидеть», ничего не виделось.
– Ноль, – сказал он.
Жучкин шумно задышал за спиной.
– Сейчас я нарисую на листке геометрическую фигуру. Не оборачивайтесь. Закройте глаза… – Слышно было, как ассистент шуршал листком, провел, не отрываясь, линию. Снова затянулся сигаретой: – Ну?..
Попсуев попытался представить. Представилось что-то безразмерное. Серое, унылое. В принципе, всё безразмерно: линия, круг…
– Круг.
Жучкин крякнул.
– Так, последний тест. Попытайтесь воспроизвести то, о чем думаю.
Попсуев замер. Десять секунд, двадцать, ничего! У него зачесалась шея. Он терпел еще несколько мгновений и судорожно почесался.
– Молодец! – шумно выдохнул за спиной ассистент и кинулся к почти погасшей сигарете. – Все три теста на «отлично». Редкая удача. Один из ста. Даже среди продвинутых. Пока вас двое таких. Всё правильно, ноль, круг, почесали шею. Поздравляю! Запишемся.
– У меня рублей нет… – произнес Попсуев, и ассистент-доцент сник, как сдутый мяч. – Сто долларов, устроит?
– Конечно же устроит, голубчик! – вновь округлился Жучкин, делая пометку в тетради; Попсуевская заначка исчезла в сейфе. – Первое занятие завтра с семи до десяти вечера.
Окрыленный, Попсуев вернулся домой. По дороге он ломал голову над тем, куда мог деться Бонапартик. «Из кабинета не выходил, как испарился. Прошел сквозь стены? А может, вообще?..»
Первый шаг на пути к могуществу
Лекции проходили в конференц-зале Института повышения квалификации Минздрава. Учащихся, не считая блатных, было две сотни, в основном врачи, а также продвинутые представители других профессий. В зал пропускал Жучкин, амбал сверял фамилии с записью в тетради, ставил крыжики.
У Попсуева остался осадок после вопроса Татьяны, во что обойдется семейному бюджету продвижение главы дома к тайному могуществу. Она впервые проявила интерес к тому, за что Сергей никогда перед ней и вообще ни перед кем не отчитывался. Он с досадой ответил, что обучение проводится бесплатно, и некий фонд оплатил курсы и аренду помещения. «Какой фонд?» – спросила Татьяна, а в глазах ее были искорки: «Врешь!»
Было пять минут восьмого, когда из-за кулис появился маг в строгом костюме с бабочкой. Он сдержанно поприветствовал слушателей, прошелся взглядом по рядам и довольно изрек: – Одержимых нет.
А затем отчасти повторил свое выступление на представлении, только без фокусов и отгадывания имен. Амбалов не валял, но свечу в пяти метрах от себя зажег, задул, снова зажег и снова задул. В перерыве учащиеся, светло глядя друг на друга, чаще других произносили слово «продвижение», но, похоже, толком еще не вникли, куда предстоит двигаться.
Попсуев перестал чувствовать иронию к самому себе, но к окружающим она осталась. «Они привыкли двигаться в очередях и по службе, – думал Сергей, – и полагают, что и дальше будет то же. А путь будет другим, на него попадут только двое… Нехорошо противопоставлять себя, но так приятно!»
На заключительном часе Баранов показал первые упражнения, которые надо было разучивать дома, как гаммы. Усвоить их можно было только путем многократного повторения и необыкновенной концентрации воли, которой у большинства учеников нет априори. Тем не менее педагог заверил, что воля появится после многих месяцев (или даже лет) упорного труда по самосовершенствованию и продвижению.
Под занавес маг объявил свое сокровенное имя «Омма Нипад Мехум», тайну которого обещал открыть осенью на втором курсе обучения. «Оттуда и тот О-о-м-м, – подумал Попсуев. – Это ж мы к нему взывали, как к богу».
* * *
Домой Попсуев приехал около одиннадцати, так как после занятий Жучкин выдавал слушателям пропуска под роспись всё в той же общей тетради. Сергей ощущал избыточное возбуждение, как в дни ответственных соревнований. Татьяна смотрела телевизор. За чаем Сергей рассказал ей, стараясь не быть излишне эмоциональным, о первом занятии.
– Чему-нибудь конкретному обучал? – спросила Татьяна.
– Обучал. Завтра покажу.
Дождавшись, когда жена уснет, Попсуев вылез из-под одеяла, взял бумагу, клей, фломастеры и прошел на кухню, затворив за собой дверь. Нарисовав на листе два концентрических круга по блюдцу и пуговице, Сергей зачернил площадь между ними, приклеил «бублик» к картонке и повесил на стенку. Сел на табуретку и стал пристально до рези в глазах всматриваться в него. Минут через пять вокруг бублика появился слабый колеблющийся ореол, исчезавший при движении глазного яблока.
«Главное – концентрация внимания», – услышал Попсуев голос мага. Глаза резало, но Сергей собрал всю свою волю, пытаясь усилить яркость и площадь светлого пятна вокруг черного бублика. «А ведь это пятно можно фокусировать, – думал он, стараясь изгнать из себя и эту мысль, – перенести на любой предмет и поджечь, как свечу!» Корона исчезла. «Не надо отвлекаться на пустяки». Попсуев снова сосредоточился, но на этот раз бублик засветился только минут через десять. «На сегодня хватит». Взял конспект лекций: «Ежедневно упражняться по пять-семь часов».
Попсуев нарисовал еще один бублик и повесил его рядом с первым. Теперь можно усложнить задание. Скажем, правым глазом поджигать левый бублик, а левым правый, перемещать огни, совмещать их. «Лазер! Это же глазной лазер, – возбудился Сергей; оба бублика погасли одновременно. – Опять отвлекся!» – чертыхнулся Попсуев и включил чайник. Глаза слезились и чесались, и он сделал себе чайный компресс.
В пять утра Сергей лежал на кровати и думал о том, что теперь у него появился смысл жизни, и всё отошло на второй план. Попробовал уснуть, но от усталости и перевозбуждения не смог. Попсуев встал и до семи утра занимался упражнениями. Пора идти на работу. Проснулась Татьяна.
– Ты чего это такой?
– Какой?
– Взлохмаченный. Не спал?
– Плохо.
– А это что за кольца?
– Вечером покажу фокус, – пообещал Сергей.
Дальнейшие шаги. Тупик
Следующее упражнение по усилению магнетизма взора состояло в том, чтобы научиться видеть второй план предмета. За ним были и другие пласты, составлявшие в совокупности суть вещи. Чтобы постичь это, надо было снять слои один за другим, как слюду.
Первой раздвоилась труба на крыше дома. У нее появилась сероватая тень-призрак, которая исчезала, как только Попсуев переставал фокусировать на ней свой взгляд. Затем стал двоиться телеграфный столб, кошка на подоконнике. Сергей не мог избавиться от иронии: «Неужто и Россия раздвоится, если сфокусировать на ней взгляд?» С очередным упражнением Попсуеву пришлось попотеть. Он никак не мог поднять глазами в воздух клочок бумаги. Бился над этим Сергей больше недели. В конце концов, бумажка поднялась, и Сергей переместил ее взглядом на холодильник. Но стоило ему моргнуть, и листок тут же вернулся на стол.
Куда трудней было идти по улице с закрытыми глазами. На работу Попсуев шел тихой улочкой с перекрытым дорожным движением. Он намечал сто метров тротуара и старался пройти их, «разглядывая» путь внутренним взором. Поначалу спотыкался, даже растянулся на ровном месте, но потом стал угадывать дома, деревья, людей, может, потому, что уже хорошо изучил эту улицу.
Однажды Сергея окликнул женский голос, и он, еще не обернувшись, «увидел», как со двора вышла женщина в темно-зеленом костюме и коричневых туфлях с дочкой в желтом плащике и красных ботиночках. Именно в этих нарядах они и предстали перед ним! У Попсуева был такой шальной вид, что женщина невольно улыбнулась и переспросила: «Который час?» Весь день Сергей провел в эйфории. Всё ему нравилось, всё удавалось, всё получалось, и все были милые, даже Сидорчук, сжегший генератор.
Вечером Попсуев понял, что можно фокусировать не только взгляд, но и время. Рассуждал Сергей так: «Иногда перед глазами мелькнет картинка, а через минуту станет реальностью. Это происходит оттого, что время как конус света захватывает не только текущие мгновения, но и ушедшие и грядущие. Если не сосредотачиваться на настоящем, периферией зрения можно увидеть то, что произошло или произойдет с тобой. Для этого надо расфокусировать восприятие времени, размыть настоящее».
После этого Сергея словно прорвало, он стал «видеть» дорогу на достаточно большом протяжении, проходил целый квартал уверенно, отмечая внутренним взором новые предметы. После каждого «видения» он открывал глаза и убеждался, что не ошибся и на этот раз.
* * *
На занятии маг дал задание: сосредоточиться и попытаться мысленно попасть туда, куда сильнее всего хочется в этот момент.
– Только не в буфет, – пошутил Баранов, – он уже закрыт.
Смешок помог снять лишнюю нервозность слушателей. Попсуев расслабился, почти задремав, представил, как он взлетает и… взлетел. Бесшумно скользнул под потолок, вылетел, над проспектом, над мостом, еще подумал: «Зачем над мостом? Напрямик быстрее», – свернул, скользнул над рекой, нашел сверху свой дом и непонятно как попал домой, почему-то на кухню. Никого не было, но слышался шумок. Скользнул мимо зеркала, обратив внимание, что в зеркале он не отразился. Заглянул в спальню и отшатнулся. Ему показалось, что в спальне были двое, на кровати!
Попсуев пришел в себя. Увидел сидящих слушателей с закрытыми глазами. Маг сидел на стуле и скучающе глядел в зал. Сергей попытался сосредоточиться, но не смог. «Не может быть! – вертелось у него в голове. – Как не может, сам видел!» Он едва дождался конца занятия, ничего не воспринимая и даже не слыша. Выскочил, поймал такси и через четверть часа вбежал домой. Там никого не было.
Попсуев обследовал квартиру, но ничего в глаза не бросилось. На столе лежала записка: «Меня вызвали во вторую смену». Выпил рюмку водки, хотя это и не приветствовалось уставом школы магов, и от пережитого стресса тут же уснул. Проснулся ночью. Рядом спала Таня. В ее позе, в дыхании не было ничего нового, чужого. Дня два Сергей провел, как бы забыв о своем видении, потом оно вдруг вспыхнуло в нем, он пытался разумно объяснить его и не смог. Конечно, это могли быть всего лишь мысли, но смущало одно – видел.
* * *
С каждым днем Попсуевым овладевала всё большая потребность в уединении и тренировках. Даже на работе в оставшуюся после обеда четверть часа Сергей садился в кресло и, закрыв глаза, представлял, как он «летает» домой. Если он «видел» там Татьяну, вечером говорил ей, что знает, чем она занималась днем, и иногда угадывал.
Попсуев тренировался с упорством, с каким он когда-то вышагивал и выпрыгивал сотни километров с клинком в руке и рвал им несчетное число раз ватное чучело. Много сил Сергей отдал занятиям по угадыванию предметов рукой. Сначала брал два разнородных предмета (скажем, ластик и ключ или сливу и прищепку), и часами водил над ним рукой, пытаясь ощутить разницу между ними в цвете, плотности, размере, геометрии. Затем, завязав глаза, стал мучать себя с определением количества предметов, высыпая их из коробки на стол.
Три дня Сергей пытался взглядом вынуть из коробка спичку и поджечь ее, но та не вынималась. И вот вроде стало получаться. Чтобы не отвлекаться, он не вышел завтракать. Наконец, вытащил спичку и уже поднес ее к коробку, чтобы чиркнуть, как зашла Таня. Ее мало волновали успехи Сергея на поприще магии, но заводские проблемы интересовали.
– Брак снизил?
– Пока нет, – ответил Сергей.
– Что так? Много сил отдаешь магии?
– Да! – и в сердцах бросил: – А что ты понимаешь в магии!
Татьяне стало не по себе от горящих глаз мужа и его отрешенности от мира. Это состояние было хуже физического истощения, так как непонятно было, чем его поправить.
– Ты бы хоть рассказал, что делаешь, в каких видениях реешь, в каких краях обретаешь? – спросила она с невольной подковыркой. – Не забыл, вечером идем к бабушке?
– Не забыл! – отмахнулся Попсуев.
Татьяна пожала плечами и вышла. С некоторых пор Попсуева стали напрягать ее просьбы сходить в магазин или сделать что-нибудь по дому. Он, хоть и с досадой, но исполнял их, однако сегодняшнее напоминание о вечернем вояже к Анастасии Сергеевне вывело его из равновесия. «Опять поздравления, болтовня, жратва!» Сергей попытался повторить свой успех со спичкой, но тщетно. Весь день не проходил приступ раздражительности, и ничего не клеилось. «Еще один выходной коту под хвост!» Жена, правда, занималась по дому и просьбами ему не докучала.
* * *
В гостях Попсуев страдал от того, как бездарно пропадают драгоценные минуты и часы, которые он мог посвятить самосовершенствованию.
– Я не пью, – перевернул он рюмку. – Совсем.
Никто и не настаивал, отчего Сергей почувствовал еще большую досаду на всех. Он со злобной нетерпимостью реагировал на всё, о чем только не заходила речь. Анастасия Сергеевна с недоумением поглядывала на внучку, но та делала вид, что не замечает ее беспокойства. Попсуев видел всё это, отчего злился еще сильнее. Поняв, что идет в разнос, он извинился и ушел.
Жена пришла поздно, заплаканная, а Сергей, слегка удовлетворенный тем, что ему всё же удалось еще раз достать спичку, раскаивался, но не знал, как извиниться перед Таней за злобное состояние, которое непонятно откуда взялось в нем. И постель вновь помирила их.
* * *
В результате долгих утомительных упражнений Попсуев научился, хоть ненадолго, внушать себе добрые мысли, приводить себя в состояние ступора и расслабления, регулировать пульс и давление, очищать мысли и внутренние органы разноцветными потоками космической энергии. Всякий раз после удачно проведенного упражнения Сергей с чувством глубокого удовлетворения смотрел в зеркало и улыбался самому себе, правда, как чужому человеку.
В конце обучения Попсуев встретил на рынке Бонапартика и радостно воскликнул: – Куда вы делись? Как сквозь пол провалились! Правда, что ль, сквозь стены ходите?
Бонапартик с двумя сумками овощей обалдело смотрел на Попсуева и не мог взять в толк, кто этот сумасшедший гражданин.
– Извините, обознался, – пробормотал Попсуев, видя, что бывший абитуриент магической школы не хочет признать в нем ученика чародея. «Жалкий завистник, добытчик, серость!»
* * *
Вычитав у Кастанеды, как его герой ползал по землянке в поиске места силы, Попсуев досконально изучил свою квартиру. Просканировал ее с помощью рамки и маятника – обручального кольца на нитке, а также своим внутренним видением. Последнее Попсуеву удалось, как ему показалось, лучше всего. Он четко установил энергетические прямоугольники, положительные и отрицательные полюса, и стал расставлять мебель и кровати так, чтобы воздействие на организм было самым благоприятным и оздоровительным.
Татьяне, в конце концов, это надоело. Ладно, подушка на восток, хотя ей больше нравилось на запад, ее достали не подушки, а муж. Когда Сергей занимался теоретическим совершенствованием, от него вреда было меньше, чем обычно, но когда он стал практически невменяемым, она взвилась: – Ты тут разбирайся с чакрами, а я пока поживу у бабушкий, – заявила она и ушла.
* * *
Зачет по курсу состоял в том, что ассистент-доцент спрашивал у слушателей, что такое «чакры», «Кундалини», как поэтапно перейти в состояние левитации. Попсуева Жучкин и вовсе не стал ни о чем спрашивать.
– А, это вы. Ну, и как вам наш курс? Вижу, всё прекрасно усвоили. Не буду ничего спрашивать. Зачет. Пособие приобрели? Прекрасно. Готовьтесь, осенью, думаю, сдадите экзамен на «отлично». Пригласите следующего.
Не открыв рта, Попсуев получил зачет. «Наверное, на экзамене будут гонять», – подумал он.
Лето прошло в неустанных тренировках. В трамвае и в метро Попсуев с любопытством, иным, чем полгода назад, изучал лица пассажиров. С удивлением, даже с удовлетворением он отмечал, что ни на одном из них нет не то что печати, а даже слабенького отпечатка интеллекта, как на картинах Босха или Любарова. Ни в одном лице не было тайны и того, что поэты называют «светом». На всех физиях, даже молодых и упругих, как пыль, лежала озабоченность и усталость.
Попсуев решил довести себя до идеального состояния. Что он будет делать в этом состоянии, Сергей не задумывался, но был уверен, что настанет его день. «К нему я должен подойти во всеоружии, – убеждал он самого себя. – Я должен стать незаменимым на своем месте, пусть это место и маленькое, но оно будет расти вместе со мной, и я понадоблюсь очень многим».
Однажды Попсуев увидел, как трое парней избивают щуплого сверстника. Сергей равнодушно прошел мимо, а потом задумался: почему остался безучастным? Ведь заметил, не испугался, не спешил куда-то. Когда Попсуев осознал, что его не трогает больше чужая боль, он решил, что с ним случилась беда. Незаметно его будто подменили. Всё то, что прежде волновало его, не находило отклик и стало настолько чужим, что даже усилием воли нельзя было заставить себя сделать то, что раньше он делал инстинктивно. «Аристократ – это аристократ по инстинкту, – подумал Сергей. – Насильно себя аристократом не сделаешь, как и рыцарем. Вот что имела в виду Несмеяна. Почему во мне не осталось ничего здорового, ведь я только на это и был заточен?»
– Ну, а теперь найдите какое-нибудь заболевание во мне, – попросил на экзамене осенью Баранов.
Попсуев со смятением понял, что не знает, как быть. То, чем он месяцами занимался, не понадобилось. От него не требовалось пройти с закрытыми глазами или зажечь взглядом свечу, а надо было элементарно поставить учителю диагноз. Всего-то поработать рентгеном. Своего состояния Попсуев не выдал, и это помогло ему мобилизоваться. Но и после этого маг не просматривался. Был абсолютно непрозрачен, черен и пуст.
– У вас нет заболевания, – после нескольких минут сосредоточенного созерцания пустоты произнес Попсуев.
– Так, – удовлетворенно откинулся на спинку стула учитель. – И как вы это увидели?
– Я представил атлас человека, и там всё чисто, ни одного нарушения, ни в одном органе. А потом представил вас, наложил два образа, они совпали. И суперпозиция прозрачна.
– Отлично, – оценил маг.
Попсуев был разочарован. Он думал, что с получением диплома поднимется на очень высокую ступень совершенства. Во всяком случае, не ниже первенства Европы по фехтованию, которое так безжалостно украла у него судьба. Хотя прошло всего ничего, пробовал утешить себя Сергей, но разочарование было чересчур сильным. Сильнее всего его шокировало не то, что он не смог увидеть мага, а что сам маг не разглядел в нем его неспособности видеть! «Неужели кругом одно шарлатанство?! А с другой стороны, нужен я ему с моими способностями?» Попсуеву было тошно глядеть на свет божий. Ему вдруг стало нестерпимо стыдно за то, что он доставил столько горьких минут своим знакомым и, главное, Тане.
Но прошел день, Жучкин выдал слушателям дипломы и билеты на концерт для врачей и врачевателей в цирке с подписью и личной печатью Адама Баранова, после чего Попсуеву показалось, что он на самом деле увидел, что у мага нет заболеваний, и что он – не хилый диагност.
Болезнь Зеро
Напряжение года не прошло бесследно. Попсуев чувствовал, что с ним творится неладное. То он не мог решить простенькую задачку, то забывал про неотложные дела, а то и вовсе путал время и место. Но на концерт для врачей Сергей пришел вовремя, нашел свое место. Его слегка удивило, что он не слышит своих шагов. Посмотрел себе под ноги: там был не толстый ковер, а длинная волнистая трава, как на дне прозрачного ручья в фильме «Солярис». Он нагнулся и пощупал траву, оказавшуюся всё же ковровым покрытием. На пальцы к нему залезла мокрица. Попсуев с отвращением стряхнул ее.
Концерт начался с традиционных глупостей шпрехшталмейстера и двух клоунов. Они смешили, но было не смешно. Потом шли обычные цирковые номера, правда, без слонов и собачек. В конце первого отделения Сергея пронзила тоска, и он решил уйти домой. Арена опустела, но из зала никто не вышел. Возник ведущий, зыркнул по трибунам.
– Дамы и господа! Паспорта захватили? Пройдите в фойе. Необходимо зарегистрироваться.
Попсуев вышел в фойе. Гардероб закрыт. Подошел к выходу, подергал двери, закрыты. Сергей спросил у кого-то в синем костюме, где гардеробщицы. – Будут к концу концерта, – сказал костюм.
Раздался звонок, тут же второй. Все потянулись в зал. Попсуев едва успел зарегистрироваться. Раздался третий звонок, и он поспешил на свое место. Ему показалось, что зрители вроде те же самые, но другие. Неуловимость перемены слегка встревожила его. Он обратил внимание на ряд опустевших мест. Странно, из цирка никто не уходил, двери-то закрыты.
Появился шпрехшталмейстер, потоптался на месте, пощелкал в микрофон и забубнил. Наконец стало понятно, что речь идет о новой мировой язве, от которой, по оценкам ВОЗ, в ближайшее время мог погибнуть миллиард человек.
– С минуты на минуту мы должны получить данные!
– Простите, – обратилась Попсуев к соседу справа. – Это он о чем?
Сосед пожал плечами и сделал крайне глупое лицо. Сергей посмотрел на соседку слева. Та читала программку, выковыривая из булочки орешки.
– Симптомы и течение болезни не известны, – донеслось до Попсуева.
Он пытался вникнуть в то, что говорит ведущий, но не смог. Соседка слева наморщила лоб, от напряжения у нее набухла жилка на лбу. Она вдруг пощупала себе лоб и обратилась к Сергею:
– А у меня ничего из этого нет! Что он говорит? Вот, сами можете пощупать. – В глазах ее был страх. – Лоб, правда, горит… Да вы попробуйте рукой, попробуйте! Ледяной. Вроде и жар во мне, а я вся как лед.
Шпрехшталмейстер продолжал:
– …Еще одним из признаков заболевания является одновременное присутствие в организме жара и льда. Человек пылает, а его озноб бьет. Однако этот признак типичен и для многих других заболеваний. Для нашей же болезни, назовем ее болезнь Зеро, есть множество других признаков. Они, правда, противоречивы: никто не знает, например, как передается болезнь, и вообще, что это за болезнь.
Попсуев глянул на женщину слева, а ее уже там нет. Он вдруг почувствовал жар во всем теле. Горели ноги, руки, грудь, жгло сердце и в желудке, пылала голова. Все члены и внутренние органы горели врозь, а вместе пылал весь организм, как на костре. Сергей приложил руку ко лбу, он был как лед!
В этот момент все вокруг разом глянули на него и тоже судорожно приложили руки ко лбу, и у всех в глазах появились тревога и растерянность. «Болезнь передается через страх» – подумал Попсуев. Радость, почти восторг, сменялись удивлением – оно плясало блеском глаз, срывалось судорожно-оживленной фразой – и вот заметался по лицам, как пожар, ужас.
Такой точно ужас Сергей чувствовал и в себе. Он пришел к нему не столько от боли, жара и озноба, а сколько оттого что он не успел сделать что-то очень важное. Попсуев разом увидел глаза всех – в них была растерянность. Люди не были готовы к беде. Все думали, что беда летит мимо, а она попала в них. Посыпались вопросы, у многих стал заплетаться язык и дрожать голос.
– Что? Что? – то и дело переспрашивал ведущий. – Я вас не слышу!
Людей становилось всё меньше. Кресла зияли страшными провалами.
– Мы уже сообщили главврачу, – сказал шпрехшталмейстер. – Всех вас, как контактирующих, для проведения экстренной превентивной терапии помещают в специзолятор на шесть дней. Никого не лихорадит? Провизорный освободили? – спросил он у кого-то на входе, тот подбежал к нему и они долго и отрывисто обсуждали возникшие проблемы. Слышалось: «Да-да, пастеурелла пестис… Угу, трисоль, преднизолон… Лихорадочный смех? У кого?.. Пять признаков? А стоит?.. Хорошо».
– Теперь послушайте, – шпрехшталмейстер снова обратился к залу, – пять признаков приближающейся смерти.
– Зачем мне знать эти признаки?! – раздался чей-то вопль.
– Приведите истеричку в чувство, – бросил ведущий в сторону.
Послышался звук хлопушки, прихлопнувшей муху. Голос смолк.
– Первый признак: больной воспринимает форму, как звук. Второй: звук воспринимает, как запах. Третий: запах, как вкус. Четвертый: вкус, как осязание. Пятый: осязание никак не воспринимает. Больной не ощущает прикосновения и полагает, что он умер.
Попсуев почувствовал не на уровне чувств, а на уровне чуть ли не потустороннего знания, как к нему прикоснулся кто-то слева. Он вздрогнул – рядом сидела соседка! «Значит, час назад я уже ее не видел?! А сейчас я что, уже умер, и снова вижу ее?» Соседка держала свою руку на его руке, но Сергей прикосновения не чувствовал. Полная атрофия. «Какое же тут спасение? – подумал он. – О чем он говорит, какие шесть дней, если за час через меня прошли пять признаков смерти?»
Ужасная тоска сдавила ему грудь, и тут он увидел разом весь зал. Зал был наполнен людьми. И все были теми же, но и другими. Из глаз их ушли тревога и растерянность, боль и ужас. На лицах радостное возбуждение, и Попсуев тоже невольно почувствовала его в своей груди.
– Повторяю еще для всех, – бубнил шпрехшталмейстер. – Пятый признак состоит в том, что осязание полностью атрофируется. Больной не ощущает прикосновения и полагает, что он уже умер.
«Неужели я умер, – почти с любопытством подумал Попсуев. – Почему же мне тогда так радостно?»
* * *
И тут он очнулся на улице, неподалеку от цирка, который чернел пятном на синем небе. «Надо переживать не за весь мир, а за ближних, – почему-то подумал он. – Как там Танюша? Если каждый будет переживать хотя бы за одного ближнего, каждый спасет весь мир».
Мир ладно, а что спасло его самого, Сергей так и не понял. Когда он понял, что в его уме явь мешается с вымыслом, и что ему являются непонятные сущности, а реальные люди куда-то исчезают, он с жалобами на свое неадекватное восприятие действительности, галлюцинации и псевдогаллюцинации обратился в поликлинику. Оттуда Сергея, заподозрив шизофрению, направили в стационар, где после физического обследования и консультации психиатра предложили госпитализацию. Он согласился. После курса лечения и достаточно быстрого, удивившего врачей, выздоровления больного выписали, назначив медикаментозную терапию и амбулаторные сеансы физиотерапии.
Через полгода Попсуев был как огурчик, причем не отягощенный воспоминаниями о своем былом нездоровье. Психиатр нашел в нем лишь обычные отступления от нормы, которые давно уже превратились у горожан в норму. Окружающие тоже не находили в Сергее ничего странного, разве что он не любил вспоминать о полутора годах, которые он сам вычеркнул из своей жизни, и только резкость, с которой Попсуев прерывал любой вопрос на эту тему, свидетельствовала о том, что болезнь оставила в нем глубокий след. Единственное, о чем он говорил охотно и со знанием дела, это о целебных и некоторых других свойствах пирамид, которые можно использовать в хозяйстве.
«Попсуев на даче». Репортаж Шебутного
– Попсуев на даче, – сказали мне. До Колодезной я доехал на электричке. Станцию называют также «Сороковым километром», а местные еще и «Бездной».
– Почему «Бездной» зовут? – поинтересовался я у трех бабусь, что сидели на поваленном тополе. – Речку вброд можно перейти.
– Не в реке дело, – ответила одна из них. – Там дальше котлован есть, хотели руду добывать. Стали рыть, а им словно кто изнутри помогает. Сроют породу на пять метров, а провал в десять метров делается, сроют еще на десять, а он в полста становится, сроют на полста, а там уже и в полверсты дыра. Хотели с поверху добычу вести, а тут надо шахты рыть. Вот и прикрыли лавочку. А место назвали «без дна», «Бездной».
Я поблагодарил и направился в общество. Попсуев усадил меня за стол и за час с небольшим приготовил свое фирменное блюдо чахохбили, которое вряд ли делает кто лучше даже на Кавказе. Поговорили о «Бездне». Обычно ироничный мой собеседник неожиданно серьезно заявил, что «неразработанный карьер и впрямь, вход в бездну, на тот свет».
* * *
У Сергея в садоводческом обществе появилось несколько приятелей. Одним из близких стал его сосед Перейра, настоящее имя которого забыли десять лет назад, когда он вернулся из загранпоездки в дельту Амазонки. Тогда после бразильского сериала «Рабыня Изаура» с очаровательной Луселией Сантуш в заглавной роли все дачи тут же превратились в фазенды, хотя дачники фазендейрами так и не стали, потому, быть может, что еще не доросли до мерзостей сеньора Леонсио. Перейру называли иногда Наумом, хотя он был Иннокентием. Наум прилипло к нему из-за привычки всё время говорить: «Мне вот тут на ум пришло». Прилипло и прилипло, так же, как и Перейра.
Сошлись они позапрошлой осенью. После копки картофеля Перейра приуныл: вся картошка уродилась курживая и в проволочнике. Урожай был приличный, шестьдесят три мешка, из них на продажу пятьдесят, но как, скажите, столько продать? Как нарочно, год выдался замечательно урожайный на картофель. Наум засаживал картошкой не только половину своего участка, а отвоевал еще несколько соток у природы возле реки (землица там – черная, как смола, а уж пушистая!), да от работы брал соток пять-шесть. Четыре мешка заказал Попсуев. Когда зашел разговор о цене, Сергей спросил: – Как на рынке, ведрами?
– Ага, ведерками. Как на рынке, – согласился Перейра, пообещав привезти картошку прямо к дому Попсуева.
Действительно, привез. Выгрузил возле овощехранилища четыре мешка.
– Сколько ведер? – поинтересовался Попсуев.
– Тридцать ведерок, – шмыгнул носом Перейра, доставая емкость, похожую на детское ведерко. – Я еще подкинул по пол ведерочка в мешок.
– Это что ж, в мешке восемь ведер?
– Не ведер, а, как правильно ты сказал, и как мы договаривались с тобой, а уговор дороже денег, – ведерок.
Перейра стал отмерять картошку. Действительно, в мешке было восемь ведерок и еще чуток. Перейра не позволял ведерку переполняться, и если какая картошка выпирала сильно над срезом ведра, возвращал ее в мешок.
– Так можно и десять ведер намерить! – не выдержал Попсуев. – Ты еще картошины, как яйца, решеткой переложи.
– Ведерок, – поправил его Перейра, любовно манипулируя очередной картофелиной. В конце концов, он и ее со вздохом вернул в мешок. – Не понял: а зачем яйца решеткой перекладывать?
– Ты, Наум, случаем, не гомеопат?
– Не знаешь, что ли? Сварщик я.
– А чего это она вся точеная, в червоточинах? Электродом, что ли, ширял?
– А, это? Это так, отметины земли. Вроде родинок или оспинок.
– Не заразно? Не рак?
– Что ты! – замахал на него руками Перейра. – Экологически чистейший продукт, – Перейра не сводил с Попсуева экологически честнейших глаз.
Ведерок оказалось тридцать три.
– Видишь! – торжествующе произнес Перейра. – У меня, как в аптеке! Клиент всегда прав.
– Это точно. Вот тебе за двадцать ведер, в мешок больше пяти не входит. Оно, конечно, проволочник как белковая добавка идет, но, уж извини, забесплатно. Подарок. Ты, случаем, ведерком своим в детстве куличики из песка не лепил?
Перейра ожидал, конечно, похожей развязки, не в такой, правда, откровенной форме и невыгодной для себя пропорции, но, прикинув, согласился и на нее, так как двадцать ведер за какие-никакие деньги это все ж таки лучше, чем тридцать три ведерка просто выкинутых весной на помойку. Да еще таскать!
– Ну, и жулик же ты, Наум! – заметил при обмывании сделки Попсуев. – Такую говняную картошку хотел всучить по цене голландской. Сосед, называется!
– А она голландская! – возразил Перейра. – Говняная, это да, но районированная, нашего района. И никаких трансгенов и мутаций. В ней здоровье сибирской нации, клянусь мамой, с пальцами проглотишь.
Зимой они пару раз побывали друг у друга в гостях, и каждый решил для себя, летом дружбу скрепить окончательно и бесповоротно. До гроба. В переносном, конечно, смысле. Из-за болезни Попсуева дружба была отложена почти на год.
* * *
После рассказа о соседе, Сергей показал мне свой цветник. В восстановленной теплице он выращивает роскошные гладиолусы, луковки которых привез из Америки: Джексонвилл Голд (Jacksonville Gold), Берджесс Леди (Burgess Lady), Джо Энн (Jo Ann) и другие.
– Поставляете к дворцу эмира? – пошутил я.
– Поставляю, – серьезно ответил он.
– Как настроение? – поинтересовался я, прощаясь с радушным хозяином. – Не мучает ли слава?
– Отлично! – признался Сергей. – Славы никогда не бывает много! Так же как и цветов!
От АвтораПожалуй, пора раскрыть небольшой секрет, который никто и не думал раскрывать пять лет. Под псевдонимом Кирилла Шебутного о Попсуеве писал… сам Сергей Попсуев. В пору своих изысканий на заводе Сергей принес несколько заметок на производственную тему в «Вечерний Нежинск». Материал случайно попал на глаза главному редактору газеты и заинтересовал его. Через два года Попсуев стал внештатным корреспондентом «Вечерки». Там у него появилась своя колонка. Где-то в 1993 году начался расцвет «желтой» прессы, когда многие газетные полосы выкрасились в этот цвет активной жизненной позиции, смахивающей на детскую неожиданность. Сергей тоже опубликовал разоблачительные материалы о ряде лиц из ближайшего окружения мэра и губернатора. Поскольку газетные статейки никак не сказались на оздоровлении общества, Сергей перестал писать на эту тему.
Припозднившийся сосед
Перейра на электричку в 20–20 опоздал, следующая была только в 21–45, так что к своему обществу он добрался лишь к одиннадцати часам. День был будний, погода не баловала, в вагоне народу немного и те пенсионеры да алкаши с бомжами. Где-то на полпути несколько граждан взяли друг друга за грудки, и вышли в тамбур. С площадки донеслись шум, крики. Публика дремала. Не трогают – и славненько! Но всё равно было тревожно. Перейра чувствовал себя неуютно.
На входе в общество мимо него из кустов ломануло что-то темное, похоже, псина. Днем по городскому радио передали, что в соседнем обществе две собаки напали на дачниц, одну загрызли до смерти, а другой отгрызли руку. Перейра струхнул и на всякий случай безответно пнул тьму ногами. Пустота больно отдалась в спине. Пожалел, что не захватил с собой фонарик и не подобрал по пути палку или булыжник. На повороте к своей улочке прямо над ухом раздалось, как гром небесный:
– Припозднился, сосед! Здорово!
Перейра глянул в сторону голоса и ничего не увидел, голос был, но без облика.
– Здорово, – пробормотал он и пощупал темноту рукой. В темноте ничего не осязалось.
– Я тут, – раздался голос свыше. – В гамаке. Из старого бредня. Классно придумал?
Перейра задрал голову – между двумя березами темнело что-то.
– Это ты что ль, Валентин?
– А-то кто же?! – заржал тот. – Ворона! Кар! Кар!
– Да тихо ты! Разбудишь всех.
– Разбудишь их! – заорал Валентин и вдруг грянул: – Вечерний звон! Вечерний звон!!!
Перейра уже подходил к дому, когда поющему Валентину стали подпевать две или три собаки. Когда он взялся за калитку, ему показалось, что колыхнулась занавеска на окне. «Кто-то в доме!» – ударило в голову. Он замер, минут пять не отрывал напряженного взгляда от занавески, пока не заломило в затылке, а занавеска не расплылась темным пятном. «Что же я не взял фонарик? – Делать было нечего, и он открыл калитку. – Забор надо делать, надо делать с кольями, с колючей проволокой, калиткой на замке, рвом, надо…».
Калитку он не закрыл, чтоб не скрипнуть, и на цыпочках прошел к сараю и взял там кувалду, а потом подумал, и прихватил еще серп. Обошел на цыпочках дом, пригибаясь под окнами, подолгу замирая от малейшего звука, идущего, как казалось, изнутри. Нет, вроде ничего не слышно. Затаив дыхание, он снял навесной замок, приоткрыл дверь, каждое мгновение ожидая нападения изнутри. Просунул руку с серпом внутрь, нашарил выключатель и включил свет. Свет разлился по дому. Перейра рванул дверь на себя и заскочил в дом.
Ни звука, только гулко кровь стучала в голове. И вдруг сзади раздался шорох, от которого он похолодел. Медленно, втягивая голову в плечи, взглянул в сторону шороха – бабочка билась о стекло!
Держа наготове серп и кувалду, заглянул в шкаф и под кровати. То же самое проделал на втором этаже, потом в чуланчиках под скатами крыши. В чуланчиках растратил последние нервы. Темно, если прятаться, так в них. От напряжения чуть не выпрыгнули глаза. Никого не было, а когда из зеркала на него уставилось чудо с чумными глазами, серпом и молотом, как на ВДНХ, Перейра криво улыбнулся ему.
Карлик и тени
Дело в том, что неделю назад в домике побывали незваные гости и напакостили, как могли. Побывали не только в его доме, а и во многих по соседству. Взять, ничего не взяли, лишь вывернули всё из шкафов и перевернули вверх дном. Искали, понятно, выпивку с закуской, лекарства и деньги.
У Попсуева (там сейчас светилось от телевизора окно), не найдя ничего, включили электроплитку, плеснули на притолоку керосин, подожгли и ушли тем же путем, что зашли – через разбитое окно. Хорошо, не полыхнуло. Керосин выгорел, оставив черные лишаи, а до пожара не дошло.
Такие же черные выжженные лишаи остались у многих дачников и на душе. Была жара, сушь, и вспыхни пожар – не миновать беды всему обществу. Как водится в таких случаях, на втором этаже еще и навалили. Аккурат, сволочи, на середину покрывала.
* * *
Попсуев засмотрелся телевизором и, одурев от пустых передач, вышел подышать на крылечко. Шел двенадцатый час ночи. Тихо, никого, красота… Где-то заорал мужчина. Судя по направлению, силе голоса и тембру, а также отдельным словам, орал бывший его бригадир Валентин Смирнов. Ему лениво подгавкивали прирученные им два вольных пса. На остальных участках собаки молчали. У Валентина была разбитая в прошлом двумя женами жизнь, а в настоящем – две собаки, обе суки. Сук своих он называл девушками, а всех девушек – суками.
Во дворе под яблоней лежало что-то похожее на медведя. Кто это? Возле дома Перейры промелькнула тень. Иннокентий сегодня с утра уехал в город. Попсуев привстал над крылечком. Так и есть, кто-то шастает по огороду. Нагибается, замирает… прополз под окном… «Ну, паразит! – Сергей сжал кулаки. – Сейчас ты мне ответишь за всё!» Тень исчезла.
Попсуев, замирая, всматривался и прислушивался к черноте пространства и головы. И там, и там что-то сверчало. От напряжения свело шею и замерцало в глазах, он подумал было, что показалось, но тень вновь появилась, дернулась, исчезла.
Сергей прошел в сарай, отодвинул доску в стене и стал всматриваться в соседский двор. Вроде как прополз еще один – навстречу первому! Или показалось? Да сколько их там?! В домике загорелся свет. Минут пять было тихо.
Неожиданно дверь раскрылась, и на крыльцо вышел карлик. Что за цирк? Приглядевшись, Попсуев понял, что это мужик на карачках. Лица не видно, но Сергею показалось, что тот смотрит ему прямо в глаза. Буквально впился в него взглядом!
– Ну, иди, иди ко мне! – Попсуев нащупал кирпич. Фигура опять заползла в дверь, как в нору. Чего это он? Дверь закрылась. Послышался звук закрываемой щеколды. Свет погас.
«Что за карла? – соображал Попсуев. – Подождать, когда все полезут в дом? А сколько их? Позвать кого-нибудь? Кого, все спят. Валентина, разве?»
Попсуев прислушался. Тихо. Валентин, похоже, угомонился. Его и не разбудишь сейчас. К Викентию податься? Без бутылки идти – не поймет. У сторожа кобель злющий на цепи, а сейчас наверняка отвязан. С псом у Викентия бессловесная связь: не успеет подумать, тот прет исполнять. «О! Так у меня же есть бутылка!» – вдруг вспомнил Сергей, вытащил ее из сумки и поспешил к сторожу.
Викентий
Викентий с вечера нервничал. Его достали жалобы дачников на произвол малолеток и бессилие властей. «Малолетками» называли парней с девками, которым делать тут было больше нечего, как только пить, ширяться да предаваться «сильным желаниям» (по-немецки trachten), а под «властью» – понятно, полномочия сторожа Викентия.
Викентий именно так и понимал свои права, так как председатель общества отвечал только за развал экономики общества, бухгалтер – за ее подсчет, а он – за практическую сторону вопроса и самую болезненную: растаскивание и уничтожение имущества граждан.
Охрана покоя граждан в последние год-два стала приносить одно лишь беспокойство, причем и зимой и летом. Если подвести баланс зарплаты и ущерба для здоровья, получаются одни убытки. Вон, у Берендея с улицы Трех лилий на днях сперли алюминиевую теплицу. Открутить не смогли, срезали ножовкой. Это у такого-то бугая – как только не боятся красть?
– Я так и знал, – пожаловался тот Викентию. – Хотел ведь в гараж спрятать.
– Что ж не спрятал, раз знал? – спросил Викентий.
– Да!..
– Это еще ничего, – стал утешать его Викентий, – погоди, тебе и крышу снимут. У тебя ж она тоже алюминиевая? Лестницы у них, наверное, большой не было. Не догадались у меня взять.
– Наверное, – вздохнул Берендей.
– Вот, а лестницу найдут, и крышу снимут. Сейчас всё снимают. Ну, что ты! Вон с бетонного блока почти все буквы совхоза «Имени ХХ съезда КПСС» сняли. Осталось «Имени Х». Не дотянулись, наверное. А может, спугнул кто.
Шел Попсуев долго, так как спешил. Даже запыхался. Вот и домик сторожа. На выезде из общества, справа от Центральной улицы. У калитки лежит огромный пес, дышит – слышно за три дома. Из тех псов, что лают один раз. Лежит, голова на лапах, уверенный не только в себе, но и в Попсуеве – иди, мил человек, куда шел. Лампочка на столбе бросала размытый желтый конус света.
– К хозяину, – Попсуев показал псу бутылку.
Пес встал, потянулся, подошел к калитке, встал на задние ноги, передними на забор, обнюхал бутылку. Наклонив голову, он взял ее аккуратно в пасть. Сергей разжал пальцы, пес зашел на крыльцо, опять встал на задние лапы и надавил на дверь, дверь открылась. Пес скрылся внутри.
Попсуев ждал. Викентий мудро сделал, что дверь открывается вовнутрь. Пришлось как-то попотеть, выбираясь из заваленной снегом хаты. Через пять минут на крыльцо вышел Викентий. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что он «хмур». Спустился с крыльца в сопровождении пса, подошел к позднему гостю, пригляделся.
– Помпей, пропусти, – кивнул и пошел в дом.
Попсуев осторожно прошел мимо пса. Викентий пил воду. Вытер ладонью губы, взял бутылку, стал изучать этикетку.
– Что привело?
– К соседу залезли, к Перейре. – Сергея вдруг взял сладкий озноб от предвкушения расправы с паразитами.
– Это хорошо, – одобрил Викентий, доставая с полочки два стакана. – К Иннокентию, значит, забрались? У него есть, что взять. Я подозреваю тут двоих.
– А как же?..
– Обождут до утра. Чего впотьмах шарашиться? На зорьке и пойдем, как… как на рыбалку, – зябко хохотнул Викентий. – Ну, запечатлеем!
Сморщившись, он выпил, пошарил рукой в столе, достал вареники в глубокой тарелке с синей каемкой, холодные, в застывшем масле.
– Закусывай, – подтолкнул тарелку к Попсуеву. Сам взял толстыми пальцами вареник и засунул его в рот. Долго разжевывал пятью зубами. – С творогом, не покупные. Моя делала. Щас помидорок пару сорву. – Викентий вышел. – А ты заходи в дом, чего прохлаждаешься?
Шумно дыша, зашел Помпей, скосил глаза на вареники. Сел напротив Попсуева и положил ему на колени тяжелую с крепкими когтями лапу. «Стережет, гад», – подумал Сергей.
– Хочешь? – Попсуев протянул вареник. Помпей аккуратно взял вареник крупными зубами и сглотнул, не делая глотательного движения, вареник сам провалился ему в глотку.
– Ты аккуратней с ним, а то руку ампутирует, не поморщится, – сказал, заходя, Викентий.
– Я ему вареник дал.
– Вареники он любит.
– Может, потянем, чего ж так сразу? – спросил Попсуев. – До зорьки-то еще долго.
– Ничего, еще найдется. Скучать не будем. – Викентий махнул рукой в направлении холодильника. – Чего тянуть кота за хвост? – Он влил в себя стакан, как Помпей, не глотая. Задержав дыхание, понюхал локоть. Взял в щепотку вареник и отправил его в рот. – Во-от, заметно полегчало, – сказал он, светло глядя на Попсуева, и от полноты чувств предложил вареник Помпею. Пес не отказался. Сторож взял в руки пустую бутылку, посмотрел на этикетку, понюхал.
– Паленая. Теперь валяй подробности.
– Какие? – Сергей уже и забыл, зачем пришел к сторожу.
– Кто там к кому залез и зачем? По какой такой надобности?
– Надобность одна, – расслабленным голосом произнес Попсуев. Ему тоже полегчало. Он рассказал подробности. Когда от второй оставалось еще по разу, Викентий выглянул во двор, полоски на горизонте еще не было.
– Ладно, пьем, и показывай, где это, – сказал сторож. – До света будем брать с поличным, по-партизански. Айда нижней улицей, Валентина прихватим. Для свидетельства. Полкан, на охоту!
– Он же Помпей?
– Когда охота – Полкан! Я его и называю по имени одного полкана, был у меня знакомый полковник, Помпей Хабибулович. Сгорел от спирта. Заживо. Фюйть – и нету, дымок один.
* * *
– Этот, что ли дом? – спросил Викентий.
– Этот. Вон крыльцо.
– Крыльцо – погодь. Сперва к Валентину зайдем, чего это мы с тобой мимо его промахали? У него две дворняги, псовую охоту организуем! Как дворяне! «Особенности национальной охоты» видел? Ништяк! Ну, блин, вы даете! Помнишь? А-ха-ха!..
– Он обычно в гамаке спит, – сказал Попсуев. – Из старого бредня гамак соорудил.
Между березами в сетке никого не было.
– Снялся куда-то, – задумчиво произнес Викентий.
– С собаками?
– Да не, его псы попрятались, Помпея остерегаются. Где-нибудь тут.
– Руки вверх! – вдруг раздалось сзади. – Хэндэ хох, скинхеды!
Из кустов выскочили две собаки. Полкан-Помпей вздыбил шерсть и зарычал, но, признав своих, девушек, притворно отвернулся. Те заластились к нему. Из кустов вышел Валентин с бутылкой в руке.
– Чего с ранья принесло? – откашлялся он. – Не спится?
– У тебя там что, осталось? – потянулся взглядом Викентий в сторону бутылки.
– Есть манехо. На глоток. – Он протянул бутылку, в которой было как раз на глоток, грамм сто семьдесят.
Викентий в раздумье поглядел на бутылку, на Попсуева, предложил тому бутылку, но рукой как-то в сторону на отлет. Сергей отказался.
– Напрасно. – Викентий влил в себя, не делая даже одного глотка. – А-аа… Напрасно, напрасно… – Сорвал две смородинки, поморщился.
– Бутылку мне. – Валентин забрал ее. – Тару собираю. На черный день. Тридцать две до двух тысяч осталось.
– Да-а? А где держишь ее, тару-то?
– Тебе скажи! В бункере. Вервольф. Две накоплю – и сдам! О, погуляем!
– Кислая у тебя смородина. Чего бабы носятся с ней?
– Витамины.
– Много они понимают. А мы ведь к тебе, Валентин. Айда орлов брать. У его соседа сидят.
– Залезли? – обрадовался Валентин. – Погодь, рубаху натяну.
* * *
Перейра спал беспокойно. Часа в четыре утра донеслись звуки со двора, замаячили три фигуры, причем две вертикальные, а третья, самая крупная, горизонтальная, вдоль земли. «Берут на грудь», – решил Перейра.
Странно: самый крупный, а жила не та. Фигуры постояли, о чем-то беседуя и глядя на его домик. «Идите, идите сюда!» – Перейра поиграл топором. Он с вечера натянул перед дверью леску. Леска, понятно, не спасет, но и трусливого отпугнет. «Суньтесь, суньтесь!» Это он придумал в прошлый раз и сам под леску всякий час подлезал.
Трое постояли и ушли. Перейра видел, как они миновали соседский участок – обнаглели вконец, ходят как у себя дома! Один вообще замер возле куста, паразит! Отливает никак? Потом вышли на дорогу и пропали в темноте, из которой бухнул пару раз пес. Минут десять было тихо. Перейра принял остаток и уснул.
Пробуждение его было ужасным. Во сне он попал в паутину, которую плел сам, запутался в ней до состояния куколки и вдруг будто темечком увидел, как на него спускается сверху кто-то мохнатый, а он не может пошевелить пальцем. Грохот разбудил его в тот момент, когда мохнатый сидел у него на шее и (он чувствовал это!) прицеливался клювом к артерии.
Перейра подлетел над кроватью, больно ударившись головой о крюк в стене. В момент выхода из сна мохнатый обдал его горячим дыханием, и Перейра понял, что это мохнатая собака-людоед. Стучали и колотили в два окна и дверь. Лаяли собаки, причем во множестве. Сердце Перейры колотилось громче кулаков.
Машинально открыл щеколду, понимая, что поступает неправильно, но по-другому из-за ответственности момента и мужского достоинства поступить не мог. Перед ним застыло несколько мужиков в агрессивно-настороженных позах. Лица хмуры, жестки, но и расплывчаты. Их окружала свора собак. Точно, те, что погрызли людей. Никак суд Линча? Перейре показалось, что он весь почернел. Где же серп с молотом? Ведь я свой, свой!
Валентин с ревом пошел на злодея. Викентий ласково сказал Помпею:
– Полкаша, бери.
Громадный пес оперся лапами о плечи Перейры, возвышаясь над ним на целую собачью голову. «Это же тот, горизонтальный», – подумал Перейра.
– Да твою мать! – в отчаянии тонко крикнул он, отступив на шаг назад.
Пес упруго упал на передние лапы и собрался повторить стойку, но Сергей вылетел вперед и гаркнул:
– Наум! Иннокентий! Перейра! Его нельзя!
Пес от крика Попсуева замотал башкой. Зато все прочие собаки зашлись в злобном лае. Через минуту, вырванное из сна, срывалось с цепей все собачье общество. Через пять минут сбежались соседи, как минимум, с десяти участков.
Сеансы святого Валентина
Первым, кого увидел Попсуев утром, был Валентин Смирнов. Судя по всему, он находился в приподнятом настроении, стоял посреди своего участка и улыбался.
– Привет, поэт! Чего лыбишься?
– Сочиняю рекламу. Заготовки в зиму делаю, «валентиновки» – к Дню святого Валентина.
– Не знал, что в честь тебя день назвали!
– На огонек зайди под нашу кровлю, возьми рекламу – двигатель торговли! – проорал Валентин.
* * *
В середине девяностых годов реклама сделала Смирнова, оставившего завод, известным на всю округу, как «нашего святого Валентина». Одной из первых запомнившихся населению «валентиновок» стал слоган для фармацевтической фирмы по лечению мочеполовых расстройств: «Малая эрекция? – Сделаем коррекцию!» Лозунг подхватили в женских коллективах и в начальной школе. Смирнову вообще нравилось это словечко. «С вами доктор Елена Малышева, – любил обращаться он к встречным девицам. – Поговорим об эрекции». Что удивительно, даже высоконравственные особы хоть и не обсуждали эту тему, но в ответ улыбались каким-то своим тайным мыслям.
Собственный словарь Валентин пополнял не только из радио– и телерекламы, но и в специальных книгах, подаренных ему в начале поприща Попсуевым, и на семинарах, куда его приглашали в качестве популярного рекламщика. Смирнов свободно оперировал многими непростыми для разумения граждан терминами эзотерики, как, скажем, эгрегор («душа вещи») и кундалини («энергия, сосредоточенная в основании позвоночника»). «Кундалини» стало вторым после «эрекции» любимым его словечком.
– Барышни! – часто могли услышать на остановке электрички три бабки, вечно сидевшие на поваленном тополе. – Хотите поднять Кундалини?
– Это ты, милок, лучше вон к ним обратись, – кивали те на мужиков, также вечно отдыхавших в придорожных кустах. – А мы свою не знаем, где опустить. Ты б нам лучше сказал, от комаров какое средство дешевле.
– Ванилин, барышни, ванилин! Да и где они, комары, нету их. Август пошел. Осталось-то два месяца – и зима!
Валентин подходил к мужикам.
– Здоров, мужики! Кундалини не желаете поднять?
– Два пузыря, чего хошь поднимем. Хошь кундалини, хошь мандалини. Где?
– Да не мне, себе.
– А у нас и так настрой – выше некуда. Правда, Вась? А ты чего хотел-то? Выпить? Милости просим. Есть что для воссоединения? У нас общество на паях.
* * *
– Я к тебе чего прошел, – сказал Попсуев. – Дрель нужна.
– В сарайке возьми. Японская, с Владика привез. Эх, сколько друзей там оставил! Всех цветов, даже черного. С каждой мастью пил ее шнапс, и чтоб ее национальное самосознание не попрать, ее салом закусывал. Из-за дипломатии чего только не перепробовал! Собак, обезьян, какую-то хрень с клешнями… Что-то смородина в этом году осыпалась.
– Не, можно, конечно, и крысами питаться, но их даже коты не едят.
– Кот – самый разбалованный, самый никчемный на земле паразит. Пожрет и яйца лижет. Мышей и тех не ловит. Терпеть не могу котов. Я бы их, сволочей, всех вдоль моста повесил.
– Прямо Полиграф Полиграфыч.
– Не знаю такого. Думаешь, это я на них поклеп навожу? Были у меня коты. Один и посейчас шляется. Григорий по паспорту. Здоровый, сволочь, а палец о палец не стукнет. Весь в стихии диссидентского образа жизни. Работать хрен, только жрет да песни поет, а всё недоволен. Раз прихожу с рыбалки, а кошек полон дом! Снял их где-то, привел, сам развалился в кресле, а те перед ним танец живота крутят. Я таким злым никогда не был. Так орал, что сам оглох. Кошки дверь вынесли, а мой, зараза, и не спешит, идет вразвалочку и всё ему по фиг, и хвостом играет, как мент палочкой. Я это воспринял как полное пренебрежение к нашей человечьей расе. И так он удачно на ногу пришелся, что потом летел через участок, как птица. С тех пор я ему отказал в доме. Но он наглый, залезет и где-нибудь да нага…
Вдруг Валентин замер.
– Погодь-ка. Вон он, гад! – перешел он на шепот.
Вдоль стены, вытянувшись в струнку, крался здоровенный кот. Валентин, схватив тяжелый, заранее припасенный сапог, пошел, крадучись, за «гадом», бросил что было сил, но не попал, так как кот за мгновение до этого кинулся в кусты. Сапог проломил штакетник и вылетел на дорогу.
– Убью, увижу еще! – заорал Валентин, насмерть перепугав как всегда незаметно возникшую Бегемотиху. Та в полуприсядь прошла метров десять, пока не пришла в себя и ответными воплями не стряхнула со смородины последнюю ягоду.
Никодим и Арья
Когда Никодиму Семеновичу, соседу Попсуева по лестничной площадке, было семь лет, тяжело заболела мать. Она болела и до этого, но тут вдруг в два дня ей стало совсем плохо. Мальчик знал, что болезнь – это когда болит что-нибудь, зуб или живот, но когда у мамы лицо вдруг стало чужим, когда он спрашивал: «Мама, тебе больно?», а она не отвечала, Никоша растерялся. Ему вдруг показалось, что он никому не нужен и чуть не заплакал. Он держал маму за вялую руку и не знал, что делать. Чем помочь ей, он не знал. Старался скорее сделать то, о чем просил отец, и делал это с серьезным лицом и поджатыми губами. Отец хлопотал возле матери, предлагая той для смягчения болей то кисель, то компот из жердел, но мама, исхудавшая и почерневшая, как ветка той же жерделы перед Покровом, покрытая испариной, бессмысленно глядела на него и только стонала.
Единственный врач жил на другом конце станицы. Отец дал деньги и, вытащив из сараюшки разбитый велосипед, послал сына за лекарством. Вихляя всем телом под рамой, мальчик закрутил педали. Доктор буркнул, что денег не хватает и уже ничто не поможет, но всё равно дал бутылочку, написав на бумажке как принимать лекарство. Никоша помчался домой, из последних сил вращая тугие пощелкивающие педали. На песке велосипед занесло, и мальчик упал. Флакон с лекарством разбился. На донышке осталось лишь несколько капель. Никоша показал их отцу. Тот вскочил на велосипед и покатил к врачу. Лекарство опоздало. Мама умерла. Она лежала и улыбалась, будто наконец-то ей выдалась минута покоя, и ребенок подумал: «Вот, взяла и ушла».
Мальчик вырос, служил в армии, после которой остался в Нежинске и до пенсии протрудился на «Нежмаше». Его и по сию пору иногда мучают кошмары. Снится сон, как он, сломя голову, летит за лекарством и боится опоздать. Бешено крутит педали, а они стопорят, и ему приходится продавливать их всем своим весом, прокручиваются, и он грудью бьется о руль, и снова на повороте, где на дороге песок, заносит заднее колесо, и он падает, падает, падает… А потом ему, упавшему, протягивает руку мать, а он чувствует, как скользит куда-то в пропасть, что позади него, но не смеет подать матери руку.
Больше всего Никодим Семенович страдал оттого, что его никто не любил. Так ему казалось. Мама мало говорила ему о своей любви, ей было просто некогда, но он до семи лет ощущал ее любовь беспрестанно, как летнее тепло, даже когда солнца нет. Вместе с ней ушло и это мягкое тепло. До сих пор память о том тепле сохранилась в нем, и согревает его в его затянувшемся одиночестве.
* * *
Жил Никодим Семенович бирюком, хотя на работе со всеми, в том числе и с женщинами, был в ровных приятельских отношениях. Однажды (ему тогда не было еще и пятидесяти) он шел с работы с тридцатилетней Ольгой, разведенной и оттого жизнерадостной. Он на нее «имел виды», о которых та, скорее всего, не догадывалась, но узнай, не возражала бы. В парке к ним подбежал кокер-спаниель, попрыгал возле Ольги и Никодима Семеновича, потом возле мамаши с ребенком. Малыш с радостным изумлением глядел на собачку, пока его мама не сказала хозяйке песика: «Да придержите же свою собаку!»
– Жизнерадостный кокер, – сказала Ольга.
– Слышала, малыш спросил про него: «Она любит меня, да?»
– Понятно. Ребенку не хватает любви.
– С возрастом мы предпочитаем любить, а не быть любимыми.
– А разве это не одно и то же?
– Да как сказать?..
Этот пустяковый на первый взгляд разговор помешал развитию более близких отношений. Никодим Семенович хотел, чтобы избранница его сердца была не просто любима им, а и сама любила его.
* * *
В шестьдесят лет Никодима Семеновича проводили на пенсию, пожелали ему здоровья, долгих лет жизни, надарили ненужных подарков, а друг из Института генетики доктор Гвоздилин вручил плетеную корзинку, издававшую визг. В корзинке оказался трехмесячный поросенок.
– Это карликовая свинья, мини-пиг, чистоплотнее кошки. Вот пособие, тут всё: кормление, дрессура, купание, развитие. Свинка сыщик, круче комиссара Мегре. Опиум, марихуану за версту распознает. Гриб-артишок в центре земли чует. В Израиле мины ищет…
– Да я не ищу марихуану и мины, – растерялся Никодим Семенович.
– Вот и отлично, будет чем на пенсии заняться!
Никодим Семенович души не чаял в своей питомице. Выгуливал, мыл в корыте, кормил с рук. Свинка была не очень крупная, с довольно смышленым рыльцем. Жила она на кухне, в специально отведенном для нее месте, любила смотреть телевизор, предпочитая первый государственный канал, а в последнее время «Культуру». Никодим Семенович называл свинью Арьей Петровной, а остальные – просто Арьей.
В квартире, понятно, был непорядок. Знакомые давно уже прозвали это жилище свинарником, но терпеливо ждали, когда Никодим Семенович пригласит всех на шашлычок или на мясо в горшочках. Каково же было всеобщее разочарование, когда узнали, что тот на старости лет стал вегетарианцем. В сердцах прозвали Никодима Семеновича свинтусом, а свинке подарили шелковый бантик в розовый горошек – в память о разбитых надеждах.
* * *
– У мира один девиз: «Жизнь, отданная еде», – убеждал по телефону Никодим Семенович журналиста Кирилла Шебутного. – Но мы не должны уподобляться этому. Нам нужен иной мир. Не тот, – он ткнул пальцем в слегка облупившийся в трещинах потолок, словно журналист мог видеть его, – а другой, – и он широко повел ладонью перед собой, этим полукругом фактически исчерпав площадь прихожей однокомнатной хрущёвки.
Журналист почему-то брал интервью по телефону, и Никодим Семенович, мало интересовавшийся городскими сплетнями, через час узнал от Попсуева, что этот Шебутной известная в городе личность.
– Журналюга, – сказал Сергей. – Знаю его. Обо мне писал несколько раз. Выспросит по телефону, это у него манера такая брать интервью, что ему надо, всё ему расскажешь, как на духу, а он напишет, чего отродясь не было. И знать не знаешь, кому идти морду бить. А он, может, с тобой в одном подъезде живет.
– Да что же он опубликует такого, – спросил Никодим, – за что надо морду бить?
– Да что угодно. Вот напишет, что сожительствуешь с Арьей.
– Брось! – оторопел Никодим.
– Запросто. Сейчас и не такое пишут. Не читал что ли?
– Не, в нашем подъезде он не живет. Тут такие не живут.
– Ага, много ты знаешь… К хряку Арью не водил?
– Что ты? Она сама невинность.
– Невинность спокойно переносит?
– Как всякая высокоморальная особа.
– Девятнадцатый век, – вздохнул Сергей. – У моего знакомого тоже свинья есть, он в пригороде живет, в своем доме. Как-то ее к хряку свозил в люльке мотоцикла. А потом замучился, только к мотоциклу направится, свинья в люльку лезет. И не выгонишь, огрызается.
– Моя не такая.
– Тургеневская девушка, – согласился Попсуев.
Шебутной в «Вечерке» поместил заметку «Никодим и Арья – вместе пять лет» с фоткой, на которой была запечатлена «свинячья парочка. Когда Шебутной фотографировал его, Никодим Семенович вспомнить не мог.
* * *
В пятницу Попсуев пригласил Никодима Семеновича на дачу. Из-за коротеньких ножек Арью пришлось подсадить на площадку, чему она шибко не противилась. На полпути зашли контролеры, и их с большим трудом удалось убедить, что свинье намордник не нужен, так как она не лает и не кусается.
– Помню, в восьмом классе, – сказал Попсуев, когда контролеры отстали, – я до смерти напугал киоскершу. Вредная была: к киоску подойдешь, вечно гонит, как воришку. Взял я копытце свиное, вложил в него рубль и протягиваю в окошко – дайте, мол, конвертик. Она-то конверт подала, а потом потянулась к деньгам, глянула, да как заорет! Меня самого оторопь взяла. Дунул от киоска, не помню как. Потом его за версту обходил, пока киоскерша не сменилась.
– Ты нам, Сергей, больше таких историй не рассказывай. Видишь, Арья пригорюнилась? Растревожил ты ее. Не надо больше так, у нее тонкая конституция. А то про копытце чересчур трагично.
– Да это ее контролеры смутили, своей черствостью. Из другого века они.
Взяли и съели
– Какая у тебя дача! – восхищался Никодим. – Я ведь за всю жизнь не был ни на одной даче! Как-то всё город, город. А по путевке поедешь, там всё равно не так. Суета… Какой воздух, простор, тишина!
Свинка же и вовсе блаженствовала. Розовая и жизнелюбивая, как детище Рубенса, Арья Петровна то гуляла по участку кругами и подрывала землю, где ей заблагорассудится, то громко чавкала, вырыв какой-нибудь корешок, сидя на заду и поблескивая глазками. После обеда она любила поспать под скамеечкой на веранде. Блаженный покой Арьи был нарушен лишь единожды: в субботу мимо участка проехали два молодых человека на велосипедах, увидели свинку, спешились и поманили: «Кис-кис-кис! Хрюша, покажи личико!» Доверчивая Арья подошла к ним. Один из парней тихо приоткрыл калитку и попытался схватить свинку, но недооценил силу животного. Арья с пронзительным визгом вырвалась, цапнув его зубами за руку.
– Ах ты, сволочь! – вскрикнул парень, и в это время из домика на шум вышел Попсуев.
– Чего надо? – спросил он, подойдя к калитке.
– Шоколаду! – ответил парень, пряча руку за спину.
Вышел Никодим. Парни сели на велосипеды и, матерясь, уехали.
Об этом инциденте тут же забыли, так как наступил чудный летний вечер. Сергей с Никодимом уселись на скамеечке и, потягивая пивко, неторопливо передвигали шахматные фигуры. Игра носила не принципиальный характер, оттого разрешается возвращать ходы и даже начинать партию по новой. Часто противники советовали друг другу сделать тот или иной ход, а то и передохнуть пять минут и набраться сил. По ходу игры они выяснили, почему Арья обходит подворье по часовой стрелке, а не против. Никодим Семенович объяснил это особым устройством свиного вестибулярного аппарата, который не позволяет свинью не только опрокинуть на спину, но и заплутать ей на местности. А Попсуев приплел, что свиней в географических путешествиях вместо компаса использовали Геродот и Страбон.
– Вот уеду в город без нее, она найдет дорогу, придет к дому, – сказал Никодим Семеныч.
– Да не уедешь ты без нее, жалко станет.
– Это другое дело. А так можно было бы провести эксперимент.
– Лучше не надо. Сожрут еще. Не люди, так собаки. А вообще-то животные более приспособлены к жизни, чем мы думаем о них. Во время Первой мировой одного английского солдата родной кот нашел, знаешь где? Покинул Англию, пересек Ла Манш, добрался до Соммы и к хозяину прямиком в окоп. Надо про кота Валентину рассказать.
В это время к Попсуеву пришла соседка слева Нина Семеновна.
– Здравствуй, Нина, – сказал Попсуев. – Сядь где-нибудь, мы сейчас партейку доиграем, пару минут.
Глянула Нина Семеновна туда-сюда, скамейка занята, сбоку есть место, но под ней свинья лежит, села на табуретку. Послышался скрип калитки. Пришел Михаил Николаевич, сосед справа. Принес что-то, завернутое в клочок газеты. Стал разворачивать. Думали, махорку достанет курить.
– У меня тут сюрприз показать есть. Всем показываю, – он достал небольшой металлический предмет на стерженьке.
– И что это? – взялась Нина за предмет. – Медальон?
– Зуб!
Нина отдернула руку и сплюнула. Удовлетворившись произведенным эффектом, Михаил Николаевич пояснил:
– Мешал. Вертится, вертится, ни поесть, ни закусить. Я его и так пробовал взять, и эдак, и пассатижами – никак!
Шахматисты и Нина содрогнулись, ощупали щеки.
– Хотите, быль расскажу? – задумчиво произнес Миша, заворачивая зуб в газетку. – Зуб-то вот тут был, – раззявил он рот, показал одну из дырок во рту. – Два раза рвал. Не шел.
– Ну, и что? – не вытерпела Нина.
– Да вот, такая вышла быль. Не шел, – помолчал и продолжил: – Потом вспомнил, в календаре прочел, зубной врач протянул нитку от зуба пациента к дверной ручке и кричит: «Следующий!» И я ниткой его привязал к двери, головой дернул, он и вылетел. Ничуть не больно. Так, сукровица чуть-чуть. Жене говорю, хочешь, кулон подарю? Взяла в руки, разглядывала его, разглядывала. Странный, говорит, предмет, кто такой? Зуб, говорю, вот кто. Тьфу, сказала. Не приняла подарка. Вон, до сих пор орет…
Действительно, на их дворе было неспокойно. Бабка кричала соседке через дорогу об очередном проступке деда. Правда, слышалось чаще не слово «зуб», а «паразит».
– …А ведь он вполне еще ничего. Нитку продел и носи. О, блестит.
– Вставить не пробовал?
– Пробовал. Не ставится. Чего ты хочешь, не мой, вот и не ставится. Два дня в кармане таскал, пока не решил: раз не мой, так уж тогда подарок или экспонат. Подарок вон не приняла, – махнул рукой в сторону своего дома.
– Экспонат пойдет, – сказала Нина, два раза посещавшая музей, краеведческий в Нежинске и Исторический в Москве. – Там за стеклом очень даже прилично будет выглядеть.
– Ладно, пойду дальше показывать, – откланялся Михаил Николаевич.
Шахматисты приступили к эндшпилю, а Нина Семеновна снова уселась на табуретку. Поглядела на игроков, потом на свинью – холеная, с бантиком, лежит, ноги выставила свои свиные из-под скамейки – встала и с обидой бросила:
– Я потом зайду.
– Заходи, заходи, – пробормотал Попсуев.
– Миша приходил, сдурел, зуб выдрал, ходит и всем показывает, как медаль. А сосед и вовсе сбрендил, – пожаловалась Нина супругу. – У него теперь свинья живет, так на скамейку и не сядешь. Оне отдыхают!
– Да это приятель его Никодим со свиньей приехал к нему в гости.
– Одна холера. Вот к нам кто корову привезет. Я ее что, под образа помещу?
* * *
В воскресенье, Сергей и Никодим проснулись поздно. Вышли, потягиваясь, на крыльцо. Денек обещал быть прекрасным.
– А где Арья? Арьюшка! – позвал Никодим Семенович.
Искали полчаса. Свинки нигде не было.
– Под домом глядел? В баньке? – спросил Попсуев.
– Глядел, нету.
Крайне удрученный, Никодим сел на скамейку и забормотал:
– Пропала Арьюшка, пропала детка.
Попсуев не хотел верить в непоправимое.
– Надо по радио объявить. После двух в конторе бухгалтерша будет.
Бухгалтерша прочитала по бумажке:
– Товарищи садоводы! Кто видел свинку с голубым бантиком в розовый горошек, просьба сообщить в правление общества или по адресу Цветочная, сто пять, за вознаграждение.
Уже ближе к вечеру к Попсуеву заглянул Валентин.
– Чего стряслось? – спросил он. – Ты чего, свиноферму развел? Это хорошо, в зиму сало будет, к моим «валентиновкам»!
Сергей приложил палец к губам, увел Смирнова за угол и рассказал ему о случившемся.
– Не шуми. Для Никодима это трагедия. И я себя чувствую крайне паскудно. Пригласил отдохнуть – и такое. Не дай бог, что случилось с Арьей…
– Пойду поищу. Всё равно делать нечего. Викентия с его псом сблатую.
– Постой, и мы с тобой, чего сидеть и ждать!
Викентий надел на Помпея поводок и повел искателей по закоулкам общества. Уже стемнело, когда он привел их на южную оконечность острова.
– Чую тут, чую тут! – несколько раз произнес сторож. – Я тут наблюдал за одной парочкой…
Чутье не обмануло старого охотника. На поваленном клене у анкера сидели два парня. У столба стояли два велосипеда. Горел костерок.
– А вон они. Стой-ка, я один. Подержите пса. Полкан, сидеть!
Парни молча смотрели на мужиков. Викентий подошел к ним. Под фонарем было светло, и видно было, что парни особо не напуганы. На шее одного из них был повязан бантик в горошек. Он встал и сделал шаг навстречу сторожу.
– Чего надо? – спросил он.
– Шалим, ребята? – Викентий подошел к нему вплотную. – За шалости надо отвечать. Перед законом. А закон тут – мы.
Парень ткнул рукой сторожу в лицо, но тот легко отклонился и перехватил ее. Парень стал шипеть, материться, извиваться, как пойманный зверек, вырывать руку, лягаться.
– Да тише ты, озверел, что ли? – Викентий вывернул парню руку. – О, кастет. Ну, что ж, дурь надо выбивать. Адекватным образом, так, сынок? Не сцы, разок всего. Зато память на всю жизнь. Орден тебе сейчас навесим. «От отечества с любовью». Валь, берись, а вы того придержите.
Валентин взял парня за другую руку. Повернули его к столбу и, взмахнув им, ударили плашмя лицом и грудью о столб. Парень даже не вскрикнул. Потом отбросили его в сторону, как пустой мешок. Второй парень опустился на землю и, сжавшись, как зародыш человека, выставил вверх руку. Викентий схватил его за эту руку, Валентин за другую, и «урок» повторили. Первый парень, отплевываясь, сел, прислонившись к столбу. Викентий наклонился над ним, брезгливо, одним пальцем поднял его залитое кровью лицо вверх и произнес: – Усёк?
Парень что-то буркнул в ответ.
– Не слышу? Повторить?
Парень промычал: – Не-эт…
– То-то. Урок окончился, звонок на перемену. Пошли отсюда. Кстати, Сергей, это они чуть не спалили твой дом.
Попсуев оглянулся. Один парень так и сидел возле столба, другой лежал.
– Ребята, не перестарались?
– У их родителей спроси, – ответил Викентий.
– Вот и я о том же, – не понял Попсуев. – Подадут в суд.
– Верховный? Или Высший? – усмехнулся Викентий. – Или в Гамбург? На кого – на себя?
Пирамида Хе
Попсуев очистил стол, разложив на нем лист ватмана, приколол его кнопками к столешнице и стал чертить пирамиду Хеопса в масштабе 1:300, со стороной основания и боковым ребром 0,768 метра и высотой 0,487 метра.
На расстоянии 0,162 метра от основания пирамиды, на одной трети общей высоты, Сергей начертил потолок с квадратным лазом посередине. «Тут будет холодильник. Потолок укрепим подпорками». На четырех листах поместились три проекции и аксонометрия. «Если увеличить в десять раз, в одну тридцатую от натуральной величины, вполне впишется в участок на место баньки, гаража, сараюшки и теплицы. Их придется снести, но ничего, машины всё равно нет, будку потом на углу участка поставлю, а теплица и не нужна, пирамида заменит, все затраты окупит. Баньку жалко. Так в пирамиде днем и попариться можно будет! Там, как пишут, температура внутри поднимается выше пятидесяти градусов. Удивительно, что в такой жаре молоко не скисает и рыба не портится. Близко к домику, конечно, и выше его, но ничего. Лес не проблема. Чуприна подсобит. Главное, восьмиметровый брус найти, на стропила. Пленкой затяну. Самое сложное, без гвоздей обойтись, чтобы не искажать поле. Пластмассовые саморезы, уголки нужны. Берендей достанет. Если что не так пойдет, Михаил Николаевич поможет».
* * *
За два дня Попсуев снес сарай, гараж, разобрал теплицу, сравнял грядки. Под стеной дома аккуратно сложил отдельно бревна, доски, рейки, планки. Гвозди, уголки, швеллеры, трубы свалил в кучу. Участок приобрел не освоенный вид.
– Перестройку удумал, – кивала на его двор соседка Нина Семеновна. – Чего затеял? Дом справный был, всё на своем месте. Эх, Марья, Марья, нашла, кому продать дом! Тьфу! И Таньки чего-то не видать…
– Может, виноградник решил разбить? – спросил не слишком крепкий умом ее супруг.
Когда Попсуев принялся за баньку, к нему заглянул председатель общества Яхонтов.
– Как поживаете, добрейший Сергей Васильевич? – из калитки задал председатель вопрос, не заходя во двор.
Попсуев ничего не ответил ему. Председатель потоптался, оглядывая разруху, вздохнул и ушел не солоно хлебавши.
– Похоже, того, приехал Попсуев, что у Денисыча дом купил, – констатировал Яхонтов на правлении. – Полная пирамида в мозгах. А на участке одни развалины. Чечня какая-то. Урус-Мартан. Как бы не спалил чего, а то сушь – полыхнет, не остановишь.
Правление минутой молчания сопроводило эту информацию. Каждый успел обдумать насущные проблемы. Затопления избежали, а уж пожар совсем некстати. Федотыч брус старый продает, Сясько – вроде как новую моторку.
* * *
Когда чертежи были готовы, Сергей повесил их на стену, полюбовался ими и подписал аксонометрию «Пирамида Хе». Теперь достать материал и построить.
Накупив справочников, пособий по строительству загородных домов и коттеджей, Попсуев погрузился в стропильные ноги, откосы, шпренгели, затяжки, коньки, ригели и прочие премудрости. Когда он дошел до понимания того, что постройка обычного чердака искусство, к нему зашел Перейра.
– Мыслишь, сосед? – спросил Иннокентий и стал оглядываться, чего бы утянуть для хозяйства. Ему было грех зайти к кому бы то ни было и уйти без полезного приобретения или без глотка-другого задарма. Выпивки не было. – Следовательно, существуешь… – подобрал он подвернувшееся слово.
Безучастно скользнув взглядом по раскрытым книгам и листам ватмана, Перейра заметил на шкафчике круглый напильник и было потянулся за ним:
– Напильника круглого, случаем, нет?
Попсуев отрезал: – Нет, сегодня нельзя ничего давать, так как ничего не будет возвращено. День такой! – Глаза Попсуева светились, как у голодного.
Перейра ошеломленно смотрел на приятеля, так как и не думал возвращать ему напильник. «А чего это у него за чертежики на стенах?»
– Никак теплицу удумал строить, сосед? Интересная форма, пирамида. Я такой не встречал. Про них пишут, будто они урожаи дают черт-те какие.
– Пишут, пишут, – успокоил соседа Сергей. – Ты чего пришел?
– Хочешь, помогу? Достать чего, молотком постучать. Я по этой части мастак. Два дома поставил.
– Сколько возьмешь?
– Сколько-сколько. Сколько надо, столько и возьму.
– Э, нет, сосед. Твои ведерочки мы знаем. Давай на берегу договариваться. За день сколько просишь?
– Сколько-сколько… – Перейра напряженно думал, как бы не прогадать. – В рублях не будем, вещь не надежная. Давай так: два пузыря в день.
– Хорошо. Но оплата после сдачи объекта. Кстати, насчет молотком постучать. Надо обойтись без металлического крепежа и гвоздей.
– Кижи удумал строить? Достанем нейлон. За отдельный пузырь.
– Нет уж, Иннокентий. Два пузыря в день, и никаких премиальных! Откуда про Кижи знаешь? Бывал?
– Бывал. Вот где чудеса. Церковь совсем без гвоздей. Гвоздочками чешуйки на куполах прихвачены, махонькими. Мастер там был, Нестор-плотник, всё одним топором сработал. А потом, говорят, топор бросил в озеро и сказал: «Песец!»
– Вот и ты, как сделаешь, так и бросай свой топор в Бзыбь.
– Ага, нашел дурака! Я не брошу!
Молния с небес
Наконец, пирамида была готова. Она празднично сияла на восходящем солнце, отражая его лучи, казалось, в самые темные уголки Вселенной. Попсуев не мог нарадоваться на строение. «Пасхальное яичко! Неделю-другую проверим ее свойства, а потом как-нибудь зайду в нее и…» Сергей поймал себя на том, что думает об этом без почтения, с иронией, но куда деть ее, если она была?
В обществе о пирамиде знали уже все. Не раз, пройдясь мимо участка Попсуева, кто с пониманием разглядывал чудную конструкцию, а кто и вертел пальцем у виска. Но когда все прослышали, что пирамида затачивает ножи и бритвы, что в ней не портится молоко и мясо и проходит головная и поясничная боль, потянулась вереница желающих испытать это сооружение и оздоровиться.
* * *
Настал «День Хе», который Попсуев вычислил, наложив на точные географические координаты пирамиды Хе ее геометрические характеристики, сопоставив лунный и солнечный календарь, а также уточнив ряд параметров пространства-времени из переведенных древнеегипетских книг. «В 20.15 вход». На калитку Сергей повесил табличку: «Сегодня день профилактики».
Утро выдалось солнечным и тихим, наполненным праздничным настроением. Но после обеда погода испортилась. Небо придавило землю, будто мраморной плитой. Выси заурчали, как гигантское брюхо, упали крупные капли дождя, оставляя расползающиеся темные пятна, зазмеились ручейки. На несколько минут дождь вроде стих, а потом разразился с новой силой. Казалось, вокруг дома выросла сплошная завеса дождя. За полчаса участок покрылся мутной пузырящейся водой. Исчезла улица, дома вдоль нее. Ливень скрыл всё. Не было видно и пирамиды. Она лишь угадывалась треугольным контуром и шумом, с которым бились струи об ее поверхность. «Как же так? – сокрушенно подумал Сергей в 19.53. – Теперь надо по новой рассчитывать всё…»
Неожиданно дождь иссяк, и вместо серой массы облаков небо контрастно засинело, и зачернели грозовые тучи. «20.08, успею». Попсуев влез в резиновые сапоги, но тут раздался первый раскат грома. За ним другой, третий. Что началось! Молнии хлестали землю, как озверевший погонщик взбесившееся стадо. Синий зигзаг ударил в пирамиду, а из зенита раздался страшный треск. Сооружение вспыхнуло, как спичка, и в одну минуту сгорело. На часах было 20.15. И тут же кончилась гроза.
«Громоотвод не сделал!» – повторял Попсуев, ошеломленно глядя на огненный танец, и когда на месте врат Дуата остался один лишь черный след, к калитке подошла старушка и попросила милостыню Христа ради. Сергей взял у нее из рук пустую сумку, выгреб в нее продукты из холодильника и вернул.
– Храни тебя Господь, сынок!
* * *
Под утро возобновился дождь. Лило три дня, будто Всевышний согнал к Колодезной тучи со всего света. Река разлилась и побурела. Скрылся под водой вместе с травой и кустами приречной луг. К электричке продирались на резиновых лодках, плотиках, автомобильных шинах, а то и вплавь.
Началось сущее наводнение. Плыли деревья, заборы, человеческий хлам. Показалась крыша, на ней возле трубы сидел огненно-рыжий петух. Похоже, плыл он уже давно, крыша то и дело цеплялась за дно или деревья, надолго застревала на одном месте, пока ее не разворачивало и не уносило дальше. Странно, что на беднягу еще не обратили внимания хищные птицы. Незавидная у него судьба. Попсуев взял у Валентина лодчонку и поплыл спасать пернатого.
– Ты куда? – кричали спасателю, смеялись, тыкали в него пальцем. Но он благополучно добрался до пристанища петуха, и тот сам съехал к нему в руки.
– Ну что, Петя, славный наш моряк, наплавался? – погладил Попсуев петуха, как кошку.
– А то, а то, а то! – ответил тот и неожиданно распрямил крылья, забил ими и, изогнувшись как гимнастка, во всю глотку заорал на всю ширь реки. А потом от полноты чувств клюнул Попсуева в руку, но не больно.
– Вот, Никодим, тебе подарок. За себя боюсь, я изверг, сожру мореплавателя, у тебя ему спокойней будет. Курочек подсадишь, потомство у Крузенштерна пойдет.
Снова встретились
Сергей встретил Несмеяну в трамвае. Они зашли в разные двери, а в середине вагона столкнулись, сели рядом и с минуту молчали. В эту минуту стало ясно, что в каждом из них есть то, чего не выразить словами и взглядами, разве что прикасанием. Такая минута не создана для общения, но подготавливает его. А когда две бездны соприкоснутся, они дадут вечность.
– Как живешь? – спросили одновременно друг друга и не подумали улыбнуться.
– Выйдем, – сказал Попсуев, увидев гостиницу «Южная». Он поднялся и направился к выходу. – Зайдем в бар.
В баре никого не было. «Это знак, – подумал Сергей. – Нам никто больше не нужен». Он взял коньяк, кофе, пирожные.
Они сидели на высоких стульях за стойкой, глядели друг другу в глаза, ждали чего-то друг от друга и не решались первым произнести слово или взять другого за руку, хотя оба хотели этого. Попсуев заметил на ее коленке маленькое белое пятнышко. Это была крохотная дырочка в незаметной штопке. У него сжалось сердце. Ему стало жалко Несмеяну. Видно, в ее центре туго с зарплатой. Он вспомнил дырку в своем носке в первый приход к ней…
– Хорошо, – сказала Несмеяна, выпив коньяк. – Кофе и коньяк хорошо. Это что, пролог? К чему?
– К эпилогу. Давай особо не мудрить.
– Ты хочешь по-простому? Сразу в номер?
– Ой, не надо! – оборвал ее Попсуев. – Разве что изменилось?
– А разве нет?
– Разве нет, – спокойно ответил Попсуев. Он решил воспользоваться ее же оружием – спокойной уверенностью в истинности своих слов. Вот только хотел говорить при этом ласково, нежно, искренне, а получалась словесная рубка. И никакой уверенности в своей правоте!
– Мне закрыть глаза на всё, что произошло?
– А что произошло?
– Произошло – для тебя, может, и ничего, а для меня – всё.
– Не думал, что тебя это трогает. Ведь ты сама выгнала меня из дома.
– Я? Выгнала тебя? Прощай. – Несмеяна слезла с высокого стула. – Полагаю, заплатить есть чем?
Попсуев молча глядел ей вслед, боясь остановить ее голосом или силой.
Неожиданно она вернулась.
– Чего ты хочешь от меня, изверг?
– Я – ничего. Я хочу покоя.
– У тебя нет его? Бедняжка.
– Не жалей меня.
– Ты же семейный человек, Попсуев. Неужто не обрел счастья в семейной жизни? Дачу купил у Семушева? Сыночку родил? Чего тебе надо еще для спокойствия? Меня? Со мной его не будет.
– И не надо. Зато со мной будешь ты!
– Тише, чего раскричался? – Несмеяна взобралась на стул. – Кто это придумал такие насесты? – Она в раздражении смотрела на Сергея.
– Не я.
Только сейчас Попсуев понял, как ему плохо было без Несмеяны. Ее отсутствие он ежедневно ощущал, как потерю самого себя. Он не знал, чем заниматься, о чем думать. Не стало в жизни ни неба, ни горизонта. Исчезла из мыслей глубина, а осталась одна лишь необозримая унылая ширь, пустыня египетская. Нет больше полутонов, которые и дают только прелесть проживаемым дням, напоминающим утренние или вечерние сумерки, когда испытываешь нежность к другому человеку. О чем бы ни думал Попсуев, Несмеяна была неотвратима, как зима. В России много чего может и не быть, вот только зима будет всегда. «Но зимой должна управлять Снежная королева!»
– Чем занимаешься? – спросил он.
– По выходным хожу на рынок. Обхожу все ряды, рассматриваю продукты, прицениваюсь…
– Зачем?
– А ни зачем. Так просто. Время наполняю содержанием. Походишь пару часов, купишь чего-нибудь и домой плетешься. Чем не досуг? Полезное с приятным. Хватает на неделю, до следующего воскресенья.
«На рынке забываешь обо всём и не думаешь ни о ком, – не сказала она. – Там всё продается и всё покупается, и кажется, что и в жизни так. Там столько всего, на что тратишь деньги, а значит, и жизнь, и это рождает иллюзию полноценности жизни».
– А я по выходным просто хожу по улицам…
– И как? Что видишь нового?
– Пустоту. Слышал, ты… в больнице была? – осторожно спросил Сергей.
– Была, – просто ответила Несмеяна и засмеялась.
– Ты чего?
– Думала, спросишь: «Что делала там?» Умерла. А потом вдруг ожила, – Несмеяна задумалась, но тут же спохватилась: – Но это уже не я. Другая я. Когда ты сказал «Давай особо не мудрить», я почувствовала тошноту. Вот тут.
– Прости.
– Да-да, словно попала в яму с нечистотами. Как ты мог?
– Прости, это был не я. Это во мне тоже другой. Только не новый, прежний.
Другого Сергей ощущал в себе, как головную боль, но в то же время совершенно бесплотно, как и угрызения совести, которые всегда следовали за его приходом. Вернее, после того, как он уходил из него непонятно куда. Скорее всего, прятался под камень в глубине сердца. «Да нет, какой камень? Другому не надо прятаться, его и так не увидать в темноте».
– Я знаю это, – произнесла Несмеяна. – А я видела Небесную Русь.
– Что? Когда?
– Когда умерла. Я раньше боялась слова «смерть», а теперь нет. Оно обычное, как «утро», «день», «вечер», «ночь». Там похоже на Углич. Площадь, посередине возвышенное место, вровень со стенами, башнями, колокольнями… Колокола ударят, и звон не плывет, а разом наполняет всю пустоту, какая есть на свете. И будто стою я возле стен собора. Из белого камня, крупного, неровного, соразмерного общему замыслу. Гляжу на стену и думаю: это Небесная Русь, каждый человек – камень в кладке, без него будет брешь, и стена падет.
– А мы там были?
– Мы? – Несмеяна на мгновение изменилась в лице. – Там нет места грешникам. Но места для них есть.
Попсуев не мог оторвать глаз от Несмеяны, сияющей внутренним светом, исходившим от ее лица, глаз, улыбки, легких движений рук. «К ней страшно прикасаться. Она не создана для прикосновений. Прикоснешься к ней – и убьешь».
– Как он прекрасен, – сказала Несмеяна, – тот мир. Там нет гниения и суеты. Машин нет и толпы, нет мух и асфальта нет! Дороги без переходов и перекрестков, там горизонта нет! И вверх, вверх, вверх, – Несмеяна подняла руку, и Попсуев невольно залюбовался грацией жеста, – одна над другой зеленые террасы, залитые музыкой. Одни мелодии знакомы, а другие нет.
«Полет бабочки, – думал Попсуев, – ее рассуждения это полет бабочки».
– Это тебе приснилось?
– Нет, это я видела там. Как там чисто и светло. – Несмеяна отсутствующим взором глядела перед собой. Сергей догадался, что она видит то, что не видит он; он провел ладонью перед ее глазами, Несмеяна очнулась.
– Тебе тоже снятся сны? – снова спросил он.
– Это не сны.
– А что?
– Это явь. Там как на даче зимой в ясный день, только тепло.
Попсуев хотел верить ее словам, но что-то мешало сделать это. «Это другой».
Несмеяна помолчала и продолжила: – Я провела детство на море, обожала морской простор, зелень юга, загорелых ребят, мускулистых, без царя в голове, а сегодня для меня нет ничего милее речушки и плакучей ивы.
В этот момент Несмеяна напомнила Сергею льдинку, пронизанную лучом солнца. Такая была на оконном стекле на даче…
– Хочешь, покажу кое-что? Пустяк, наблюдение. Как-то на даче подумал о тебе… и написал.
– Покажи.
Попсуев вынул из кармана блокнот.
– «Красота», – прочитала Несмеяна. – Многообещающе. Сядем вон туда.
Из «Записок» Попсуева. «Красота»
«Двое мужчин на улочке и муха на стекле встретились и дальше двинулись вместе, то останавливаясь, то обгоняя друг друга. Потом муха улетела, а мужчины скрылись за рамой.
Снова в окне пусто. Лишь непослушные ветки отцветающей сирени причесывает северный ветер, они топорщатся, как старые девы, пытаясь сохранить пристойный вид.
Трепещущие от выскальзывающей из них жизни, бабочки-капустницы спешат разбиться парами по кустам смородины – разморенные крылышки снизу, ликующие сверху, и после нескольких мгновений четырехкрылого единения вновь распасться на два бескрылых одиночества, подхватиться порывом ветра и усыпать белым цветом утоптанные дорожки и сетки изгородей.
А потом на стекло снова села муха, и рядом с ней оказались мои соседи. Слева от меня живет бывший летчик, справа бывшая балерина. Знакомясь, они говорят: «летчик», «балерина».
Им веришь, так как ему на вид лет пятьдесят, и он вполне еще может летать хотя бы на местных авиалиниях, а ей лет сорок, и она в состоянии танцевать в массовке в глубине сцены. Но он не летает, она не танцует. Три года мы соседствуем, и я знаю это точно.
Они оба на пенсии, хотя и работают, он в Аэрофлоте, она в театре. Оба одиноки, как их профессии, которым они посвятили жизнь. Летать всю жизнь может только человек, не имеющий на земле корней, а танцевать – лишь тот, кто корнями держится за небо.
Они чуть старше, чем выглядят. Не внешне, а внутренне. Там им не перед кем особо молодиться. Он приземист и быстр, как боксер; в небесах он и самолет были величинами одного порядка. Она же тонка и неуловимо порывиста, и ни на миг неотделима от той природной грации, которую во Франции называют женственностью.
Она чуть-чуть выше его, но это не портит общего приятного впечатления, когда смотришь сразу на обоих. Его никогда не увидишь небритым, в драных штанах, а она всегда опрятна, как ромашка. Казалось бы, чем не пара? Они будто созданы друг для друга, но вместе их видят редко…
Три года назад я не знал, что объединяет их. Я просто любовался ими, как нечасто бывает в импульсивной жизни, когда само слово «любование» предполагает некую протяженность во времени и эластичность чувств. Тем более, на даче, где не замечаешь даже природу.
Сегодня знаю: их объединяет одиночество. Не то, что лишает крыльев, а то, что срывает с места. Когда они порознь, оба, словно в восходящем потоке, а когда вместе, парят как птицы, и он показывает, как надо летать и не падать, а она, как надо ступать по небу.
Не знаю, были ли они обременены семьями. В глазах их не видно ни тени раскаяния или обиды, и на них нет копоти домашнего очага, следов клятв, цепей и других атрибутов семейного счастья. Ясно было, что каждый из них все время жил без своей половины, особо о том не жалея, разве что рассеянно думая о «планах», пребывая временами между небом и землей.
У летчика дом из бруса, несколько угрюмый, с баней и гаражом, и только лук и картошка, а у балерины домик кукольный, радостный и уютный, две теплицы и черные, пушистые, как перина, грядки со всевозможной зеленью, какую только можно вырастить в наших краях. У него две яблони, а у нее сливы и вишни. Эти дома строили не они, но постройки удивительным образом пришлись каждому по вкусу и по душе.
Однако есть у них и нечто общее, что сказалось в геометрии крохотных площадок перед крылечками обоих домов. У него лужайка, три на три метра, с короткой густой травой, которую он равняет самодельной косилкой из раскуроченного пылесоса «Радуга». У нее квадратная клумба, тоже три на три, с простыми цветами, флоксами и садовой ромашкой. А посреди лужайки и грядки, у него и у нее, раскинулись два роскошных куста красной смородины, грозди которой до того красивы, что их не хочется обрывать. Их никто и не обрывает, и они висят до поры, когда за них не берутся птицы.
Он любит замереть в старом кресле рано утром, когда солнце уже теплое, а воздух еще прохладный, и любоваться игрой росы и мельтешением живности; а она вечером, когда солнце прохладнее воздуха и падает за дальнюю кромку леса, и цветы и куст превращаются в черные или лиловые силуэты на золотисто-голубом фоне неба, будто нарисованные на заднике сцены, любит качаться в легком кресле-качалке. Удивительно, именно в эти часы погода чаще всего балует их обоих, благоволя к этой простительной слабости.
По пятницам, за час до того, как она сядет любоваться закатом, летчик приносит косилку и подравнивает зеленые клочки и полоски за домом и вокруг теплиц. Потом он садится на скамеечку, взятую, словно из реквизита к «Жизели», она в кресло-качалку, говорят о погоде, видах на урожай, и так ни о чем.
А в субботу рано утром она приносит ему в глубокой тарелке мытую редиску или огурчики с пупырышками, колкими, как первый загар, и они, молча посидев как зачарованные перед алмазно-изумрудной лужайкой, начинают пробовать овощи, обсуждая их сочность и вкус. И хотя только семь часов утра, овощи милее чая и кофе. Тарелку летчик возвращает в следующую пятницу.
Всё. Больше ничего не происходит вот уже целый год между ними, и если сперва все соседи гадали, когда же будет не свадьба, так банька (некоторые даже наблюдали), то потом потеряли к этим странным посиделкам всякий интерес. Право, скучно, когда просто сидят.
* * *
Год назад я прикидывал, с кем из них лучше махнуться участками, чтобы они, соединившись, объединили и дачные хозяйства, но сегодня о том я больше не беспокоюсь.
Балерину звать Ксения, а летчика Петр. Петр и Ксения, Ксения и Петр – получалось очень хорошее сочетание, гармоничное и устойчивое. Не было случайных звуков в этих словах. Не было лишь самого случая, чтобы соединить их должным образом.
Случалось иногда, что они на двоих брали подводу навоза или машину земли. Как-то брали уголь, березовые чурбаки. Я им сразу же разрешил ссыпать их возле моего участка, и они каждый растаскивал в свою сторону, она на аккуратной колясочке для кукол, он в широкой тележке, не иначе, с каменоломни.
Петр несколько раз брался помочь ей, но она останавливала его порыв мягко, но решительно:
– Зачем, Петр Семенович? Мне нужна физическая нагрузка. Перетаскаю. – И перетаскивала иногда до поздней ночи.
Он поглядывал в ее сторону, но не смел более предлагать свою помощь. Все хорошо помнили, как пять лет назад, когда они оба почти одновременно приобрели свои участки (Петр только-только въехал), к ней ввалился Геннадий из дома наискосок.
– Чего забор-то поехал, соседка? Сикось-накось! Мужик-то где? – проорал он. – Нету, что ли? Это поправимо! Айн, цвай, драй, фир, ин ди шуле геен вир!
Через пять минут Геннадий принес из дому топор, клещи, гвозди, рейки. Заходя во двор, деловито отодвинул хозяйку в сторону, подравнял линию изгороди, по горизонту и высоте, заменил несколько планок, а через час заявился сияющий, с портвейном, запахом лосьона и песней «Вологда».
Ксения подошла к забору, отодрала прибитые им планки, выбросила их на дорогу, отворила калитку и молча указала на нее рукой. Пальчики ее брезгливо подергивались: вон, мол, поди вон! А на лице и даже во всей фигуре было такое выражение, которого мужику лучше бы и не видеть никогда. Актриса, словом. Вышел Гена, поджав хвост, и больше помощи не предлагал.
* * *
На моей облепихе есть причудливое сплетение веток, напоминающее «Демона» Врубеля, только не сидящего, обняв колени руками, а вставшего на краю пропасти и готового вот-вот сорваться в бездну. Ветер только усиливал впечатление.
Вот как раз под этим демоном рядом с мухой появились Петр и Ксения. Как этюд, рожденный тою же невидимой кистью, что вывела и демона. Летчик и балерина стояли напротив друг друга, почти обнявшись, и разговаривали. Она изящным росчерком длинных пальчиков рисовала в воздухе что-то похожее на обещание, а он загонял квадратную ладонь то в штопор, то в мертвую петлю, а тело, казалось, повторяло эти пируэты.
Меня будто вынесло что из дома. Я вышел и направился по дорожке к калитке. Голоса стихли, послышалось:
– Договорились?
– Договорились.
Они даже не удосужились поздороваться со мной. Что-то случилось, решил я. И не ошибся.
Вчера, то есть, в пятницу, они удивлялись, что впервые вечер приобрел малиновый отсвет. Ни разу еще она не наблюдала такой удивительной прозрачности воздуха, насыщенного легким малиновым ароматом, звоном и цветом. Будто малина созрела в небесных садах, и дождь и солнечный свет омыли ее, просеялись на землю радужной пылью и осели на всем сияющими капельками радости.
Из-за поворота появилась женщина в шляпке с четырьмя детьми-погодками. Старшему мальчику было лет десять. Они будто вышли из шестидесятых годов, когда из дома не просто выходили на прогулку, а совершали ритуальный выход в парк или кукольный театр. Во всяком случае, в приличных семьях. Отсутствие небрежной детали в одежде и прическе детей заставляло думать, что их мать либо запуталась во времени, либо находится в плену ложных иллюзий относительно нынешних канонов пристойности и добропорядочности; дальше этого подобные соображения не шли, так как все в детках было гармонично. Как бывает гармонично то, что уже навсегда ушло из жизни.
– Они словно оттуда… – заметил летчик, забыв, о чем он только что говорил.
– Вы правы, Петр Семенович, сейчас так за собой и за детьми не следят.
– Да, Ксения Всеславна, мы многое потеряли, перейдя к демократической форме одежды.
– И к единственному ребенку в семье.
Воцарилось молчание, в котором вопросы с обеих сторон, словно набухшие капли, вот-вот готовы были сорваться с уст.
– А у вас есть дети? – спросили одновременно и облегченно вздохнули.
– Сын, – сказала она. – В Англии, учится.
– Дочь, – ответил он. – Замужем, в Киеве.
О своих половинах ни слова. Точно их и не было на свете. Никогда? Что ж, будем считать, что никогда.
– И как он там?
– Нравится. И не нравится. Чванливые, ровней чужаков не считают.
– А в Киеве, как и у нас, если не обращать внимания на всяких горлопанов.
Оба смолкают и любуются всем, что им подарил Господь…»
Так какая красота спасет мир?
– Да, красота. – Несмеяна закрыла блокнот. – Пойдем, прохладно стало. Это ты не обо мне подумал. О себе и об этой Ксении. Я ее, кстати, знаю. А Петр? Петр – ты? Да, ты. На пенсии – не рановато? Что ты хотел сказать этой вещью?
Сергей услышал в ее голосе потаенную грусть.
– Тебе не понравилось? – тихо спросил он. От напряженного ожидания ее похвалы у него даже пересохло во рту.
– Не в этом дело. Ведь пишут не затем, чтобы понравилось, хотя в основном для этого. Пишут, чтобы сказать нечто сокровенное.
У Сергея сердце екнуло, оттого что Несмеяна произнесла слово «сокровенное». «Она почувствовала мое раскаяние, но не увидела его».
– А что, не ясно, о чем я хотел сказать? – с усилием выговорил Сергей.
– Ясно. Очень даже хорошо понятно. «Красота спасет мир».
– Вот!
– Но не такая же красота! Ты утверждаешь, что нормальные отношения людей сегодня кажутся уже ненормальными, и они, эти нормальные отношения, и есть Красота, которая спасет мир. Какой мир? Пошлый и похотливый? Не спасет. Знаешь, почему? Потому что твоя «красота» часть этого пошлого мира, – Несмеяна провела рукой с блокнотом перед собой. – У тебя о красоте слишком много слов, но они мир не спасут. Даже если весь мир дружно проскандирует их, они не спасут его.
– Ты права, Несь… Но и я прав.
* * *
В парке на лужайке хороводились собаки, пять кобелей и сука.
– Как у людей, – махнул рукой Попсуев на собачью свадьбу.
Несмеяна ничего не ответила. Когда взошли на мост через реку, Несмеяна остановилась и долго смотрела вниз. Там возле серой уточки кружили три селезня, один из них, самый крупный, то и дело прогонял соперников от своей избранницы. Несмеяна вдруг рассмеялась:
– Не только у собак, у птиц то же самое… – А потом вдруг заплакала и воскликнула: – Как ты мог! Как ты мог, Сергей?!
– Прости меня, – сказал Попсуев. – Я скотина.
Через долгую минуту молчания Несмеяна произнесла:
– Я простила тебя. Прости и ты меня. Ты не скотина.
– Не прогонишь? – спросил Сергей, когда они подошли к дому Несмеяны.
– Я тебя никогда не прогоняла, – ответила она.
– А как же записка: «Одобряю выбор, проваливай навсегда»?
– Какая записка? Не помню. До больницы? Я тебя не прогоняла. Ты сам ушел. А наш уговор помню. Восемь дней осталось.
Несмеяна открыла дверь, Попсуев с щемящим чувством зашел в прихожую.
– Восемь так восемь, – вздохнул он. – Если восьмерку положить на бок, получится бесконечность. А что тут чемодан?
– Не успела убрать. Задвинь его за шторку.
И снова в окна светила круглая луна и не давала уснуть обоим. Им так много хотелось сказать друг другу, но что-то мешало сделать это! Оба боялись того, что могло навсегда разлучить их. Под утро Попсуев забылся, а когда очнулся, обнаружил на столе записку на томике Стефана Цвейга.
«Сереженька! Вернись к Татьяне, не разрушай семью. Она тебя любит. Меня не ищи. Я давно собиралась уехать, да всё тянула, думала, встречу тебя, тогда и поеду. Бог дал, встретила. «Единственное средство побороть любовь – бежать от неё», – так, кажется. Неся. P.S. Ключ отдай тете Лине. И подари ей Цвейга».
Из «Записок» Попсуева
«…– Тебе, Сергей, пиво. – Берендей достал из огромной сумки ящик пива. – А вам, господа Валентин и Викентий, Михаил и Иннокентий, ящичек горилки и две палки колбасы. Колбаса-то с жирком! С перцем! Твердая! Последний день Помпеи! Это я не тебе, Полкан. Лежи, лежи. Не начинали еще. Не обойдем.
Полкан-Помпей, не мигая, следил за происходящим на столе, стараясь не упустить главного момента – нарезки колбасы. Обычно ему перепадали самые сладкие хвостики, шкурки и, разумеется, отдельные кусочки, не вписывавшиеся в габарит контрольных образцов нарезки. Полкан, как вполне искушенный в подобных церемониалах пес, старался получить свое до праздничного салюта, когда делятся на четвертушки, восьмушки и еще мельче последние кусочки хлеба, колбасы и огурца, и когда ему предлагают выйти освежиться на воздух, точно пили не они все, а он один…
* * *
…не верится, что мудрые мысли делают человека мудрым. Слушать надо собственное сердце. Не хочется думать о чем-то, где присутствуют умные слова. Хочется полежать у реки на зеленой траве или желтом песке, хочется забыть о том, что живешь в мире, населенном не муравьями и травинками, а людьми и их мыслями. Хочется уйти от решения проблем, которые люди ставят перед собой с единственной целью: всё время чувствовать себя человеком, то есть животным, изгнанным из Рая…»
Эпилог-триптих
…Его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу…
Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг…
Амброз Бирс«Февраль. Достать чернил и плакать!» Створка первая
Когда настал февраль, а зима была еще в самом разгаре, и казалось, что земля остыла окончательно, и тепло не наступит больше никогда, Попсуеву стало совсем нехорошо. «Я не могу больше без нее, – решил однажды Сергей. – Я не могу больше без Несмеяны. Надо найти ее». Отбросив в сторону сомнения, взял купленные еще до Нового года французские духи и направился к ней. Сергей был уверен, что она дома, что она вернулась. Она встретит его, откроет дверь и скажет: «Пропащий вернулся!» И он ответит: «Я не пропащий, но я вернулся!»
Погода была отвратительная. Не сильный, но упругий, сырой, пронизывающий до костей, северо-восточный ветер к вечеру усилился, переходя в метель. Усилился и мороз, резко и сухо. Из-за поворота выполз трамвай, квадратный, неуклюжий, холодный. Чуть ли не тот, в котором они встретились в последний раз. Внутри вагона, казалось, перекатывается оледенелый ком желтоватого света, стоял жуткий колотун. Пассажиров не было. Кондукторша толклась в будке водителя, согреваясь калорифером и болтовней, а вагоновожатым был не иначе как сам Харон.
«Дуют ветры в феврале, едут люди в Шевроле, а я еду на трамвае из гостей навеселе, – проползали в голове строчки, как серые дома за стеклом. – Что же это я полушубок не надел? А, надо было пуговицу пришить. Время пожалел. Можно ли оценить время, которое у тебя есть? А то, что потерял? А то, которого у тебя уже никогда не будет?»
И тут Сергей заметил, что едет в противоположную сторону. «Как же так?» – подумал он. Попсуев вышел из вагона, но решил пересесть не на обратный трамвай, а пройти переулком к автобусу. Прячась от обжигающего встречного ветра, поднял шарф до глаз и надвинул шапку на брови. Глаза слезились, козырек мешал обзору, хотя он и не нужен был, обзор, на этом тихом тротуаре. «А вокруг никого – ни машин, ни шагов, только ветер и снег», – вспомнил старую песню.
* * *
Девочка вдруг выросла перед его глазами и зажмурила глаза, и было у нее бледное-бледное личико, как двенадцать лет назад, когда она поднялась с асфальта. «А ведь она появляется всегда в переломный момент моей жизни, – вдруг пришло Попсуеву в голову. – И всегда предупреждает о чем-то. О чем? Да о том, о чем я ее не предупредил, – об опасности для жизни. Не попытался даже спасти ее, хотя мне это ничего не стоило. И кроме меня некому было спасти ее. Достаточно было согнать с перил. О чем же сейчас она предупреждает меня? Или в очередной раз указывает на мою…»
* * *
– В-вжи-кх!
Навстречу ему, едва не сбив с ног, пронеслась машина. Темная, огромная, с выключенными фарами. Пола пальто и рукав чиркнули по ледяной плоскости. Не успел Сергей еще осознать то, что был на волосок от гибели, а уже развернулся вслед машине, махал кулаком и орал нечленораздельно и яростно. Черная машина уходила вдаль. Красные огни делали ее еще более зловещей. Чего их занесло на тротуар? Сбить хотели? Пьяные? Придурки!
Попсуев сплюнул и пошел дальше, и тут же ощутил ужас. Обернулся – машина была в десяти метрах от него! Сергей прыгнул вверх, пролетел над машиной, оттолкнувшись от нее левой и тут же правой ногой, удачно приземлился – на четвереньки, как кошка. Машина с шипением проскользнула под ним. Сергей увидел себя как бы со стороны – целая серия кадров – и пожалел, что не осталось свидетелей столь славному трюку. Вот только по всем законам физики он должен был перекувыркнуться и растянуться на асфальте.
Автомобиль, затормозив, круто развернулся и уже с включенными фарами вновь устремился на него. Он уже опять был в десяти метрах, когда рядом с Сергеем вновь оказалась та девочка и в ужасе прижалась к нему. Ему бросился в глаза номер машины. Это был BMW Свиридова!
Попсуев забыл обо всём на свете. Перед ним был смертельный враг, а в нем одна лишь ярость, вулкан ярости. Через секунду его жизнь и его смерть столкнутся лоб в лоб – н-не-ет!!! Дальнейшее, как в рапидной съемке, пропечаталось отдельными кадрами в память, но было как бы и не его. Он уперся ногами в землю, как, наверное, упирались в нее былинные богатыри перед схваткой с врагом, неистово устремил себя в сотую, тысячную долю последней своей секунды, так что всё стало протяженным, как кошмар, руками подцепил наползающий на него никелированный бампер и опрокинул машину набок. Он дрожал от возбуждения и переизбытка непонятно откуда взявшихся в нем сил. Небывалый прилив энергии прошел по нему двумя упругими потоками, снизу и сверху. Будто земля и небо даровали их ему. Не опрокинь он автомобиль, его самого разнесло бы на части.
Машина, хрипя и продирая бок, как издыхающий дракон, сыпала искрами, стеклами, била дверцей, как хвостом. Остановилась, лишь вращались колеса. Через несколько секунд выпал один человек, второй. Попсуев направился к ним. Первый, прихрамывая, заковылял прочь. Второго парализовал страх, и он, защищаясь рукой, судорожно кривил рот, стараясь выдавить из себя какие-то слова. Сергей, всё еще дрожа от возбуждения, подошел к нему с намерением бить, бить, бить… – но удержался, хотя чувствовал, что способен был в этот момент и убить, будто кто-то другой специально подзуживал его. Он толкнул пятерней парня, тот повалился на землю. Но самого Свиридова не было.
Попсуев ощутил тяжесть пальто, шапки, пустоту в себе… Дунь ветер, и его подхватило бы, как полиэтиленовый пакет. Словно в подтверждение, порыв ветра едва не свалил его на землю, но он удержался и заставил себя уйти с этого места. В теле, будто чужом, была лишь слабость и дрожь. Собственно и тела-то не было, какие-то затихающие вибрации ужаса, ярости и вдохновения. Словно умер только что и попал в другую реальность, где сила становится слабостью, а слабость силой, где всё знакомое стало чужим, а незнаемое своим.
* * *
Спустя какое-то время, когда Сергей очутился на освещенном проспекте и к нему вернулась способность воспринимать себя, мир, случившееся, он даже улыбнулся от чувства гордости за себя и презрения к подонкам. И тут Попсуева забрала такая тоска, будто зима ворвалась к нему с диким воем в душу…
Хорошо, что за поворотом показался Несмеянин дом. Сергей нажал на кнопку звонка. Тот прожужжал, как летняя муха, далеко и тревожно. «Как можно жить с таким тревожным звонком», – подумал Попсуев. Открылась дверь. Глаза. И в глазах он. Он, и никто ДРУГОЙ!
– Зайду?
– Заходи.
Остановилось мгновение.
– Чай будешь?
– Меня только что чуть не сбила машина.
– Где?
– Да тут неподалеку, в Третьяковском переулке.
– Неподалеку? Это ж в Октябрьском районе.
И только тут до Попсуева дошло, что он не помнит, как добирался пешком из того переулка до Несмеяниного дома…
* * *
…Гасли один за другим фонари. Исчезали снежинки в сиреневом свете, угасали матово-серебристые струйки поземки. Таял сиреневый цвет, цвет жизни.
Мужчина лежал, утопая в боли и любви. Боль шла вглубь, горячая, ледяная, разрастаясь там и заполняя всего его изнутри, вытесняя любовь, которая сочилась наружу, почти невидимая в ночи, пульсирующая как угасающий, дрожащий сиреневый свет последнего непогасшего фонаря. И в этом свете были все, кто когда-то любил его, даже те, кого он никогда не любил. Они медленно шли мимо него, смотрели на него с любовью и растворялись в сумраке ночи.
– Всех вас я люблю, – признался Попсуев. – Простите мне все!
Подъехала машина. Над ним склонились люди.
– Жив еще. Может успеем. Носилки неси…
Силы небесные. Створка вторая
– Ты гля… – Викентий едва не выронил вареник изо рта. Выскочил на крыльцо, за ним следом напуганный пес. – Полкаш, видал? Чего это, а?
Пес задом протиснулся в конуру под крыльцом и шумно задышал.
– Сцышь, брат? И я сцу. А ты не сцы! С нами силы небесные!
Викентий с трудом проглотил вареник и, задрав голову, ошеломленно глядел в небо, где, только что осияв синюю местность, аки молния, и страшно тарахтя, пролетело что-то. «Почудилось, – решил Викентий. – И ему что ли?» Полкан явно струхнул. Откуда молния зимой, да еще 31 декабря?
– Энлэо? – спросил сторож. – Как думаешь? Или метеорит?
Полкан дышал.
– А что, вернутся и нас с собой заберут. А? Сгодимся там… где-нибудь. Всё лучше, чем тут, а, как думаешь?
Пес не спешил с ответом.
– Пошел я, продрог. – Сторож почувствовал холод и вернулся в дом, оставив дверь приоткрытой. Через несколько минут вышел на крыльцо.
– Ну, ты чего? Хату выстудишь. Иди, вареник дам.
Пес не купился на вареник. «Напугали, паразиты!» И тут вновь осияло землю, и над обществом с тарахтением пролетело то же, только теперь туда, откуда прилетело. Но не скрылось, а стало опускаться на луг возле реки. «Удобное место для посадки, – одобрил Викентий, – далековато, правда, до точек человеческой цивилизации, если, конечно, хотят выйти на контакт. Надо, значит, самому идти. Больше тут некому. Вряд ли кто остался на ночь. Прям «Секретные материалы» сериал!» Днем сторож слышал, как со стороны Трех лилий раздавались шум и голоса. Берендей, наверное, приехал. Из-за снежных завалов не пошел к нему. «На снегоходе, мог бы и сам ко мне заглянуть», – запоздало обиделся Викентий.
– Улетели, – сказал сторож Полкану. – Вылезай.
Пес и вовсе скрылся в будке.
– Да, брат, наложил в штаны. Не думал. Не думал, что такая мужественная собака, а падешь жертвой суеверия. Не видал зеленых гуманоидов? Люди как люди, только зеленые. Доллар видел? Такие же. Вылазь! Пошли на саммит. Будешь Примаковым. А я Контактером.
Пес не вылезал. Викентий вынес застывшие вареники. Протянул Полкану. Тот высунул голову, обнюхал их, но есть не стал. Дышать перестал. Вылез, отряхнулся и, потянувшись, виновато взглянул на хозяина.
– Ничего, – успокоил тот его и вновь протянул вареники. Пес аккуратно слизнул их с хозяйской ладони. – А теперь, Полкаша, слушай сюда. Начинается служба. Айда на границу. Мы ведь с тобой погранцы!
До границы общества было рукой подать, она начиналась за забором. Викентий взял фонарь, саперную лопатку, подумав, сунул в карман водку.
– Ну, с богом! Не дрейфишь? А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты!
Полкан похоже справился с волнением и первым выбежал со двора. Небо прояснело. «К морозу, – решил Викентий. – Ишь, снегу навалило. Хороший будет год, урожайный. Ежели эти, конечно, не подпортят…»
– Аты-баты, молодцы, мы с тобою погранцы! – новая песнь улетела к реке.
На берегу виднелась какая-то дура с лопастями наверху, но не вертолет, три фигуры возле нее.
– Видишь? Ату их! – махнул он рукой псу, но тот встал как вкопанный. – Думаешь, радиация? Не ходи тогда, не надо. Жаль, манометра нет. Ты кобель штатный, а я за штатом. Жди. Долги пора отдавать. Ты вот не клялся «Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей», а мне пришлось. Не поминай лихом.
Викентий пошел, проваливаясь в снегу, к реке. Он порядком устал и взмок, когда мимо него пропыхтел пес.
– Полкаша! Жди меня! – приказал сторож.
Полкаша хода не сбавил. Послышалось: – Полкан, не узнал?
– Помпей! – остудил рычащего пса Викентий, признав Берендея, Валентина и Мишу, а также драндулет Колодезного Теслы. – Свои!
– Миша, извлекай! – скомандовал Берендей.
Михаил Николаевич вынул из драндулета пару бутылок, стаканчики. Разобрали по рукам. Забулькало.
– За научно-технический прогресс! – провозгласил Берендей. – За Теслу!
– И за Новый год! – поддержал Валентин. – Новое тысячелетие! Миллениум! Где ж Перейра? Не пришло ему на ум, что настал миллениум!
– А что было-то, энлэо? – спросил Викентий. – Или это вы?
– Мы, а то кто же? – ответил Валентин. – «Майкл сри», третья модель.
– А где бак с бензином? Как летал-то? – спросил сторож. – Что светило?
– На батарее летает, – сказал Колодезный Тесла. – Я ее в своей пирамидке подзаряжаю. Серега чертежи дал. Да ты видел, за домом стоит, как курятник. А светилась фара.
Вот и всё. Створка третья
Прошло пятнадцать лет. Нежинск изменился неузнаваемо, а «Машиностроитель» остался, каким был. Бегемотиху еще можно увидеть на грядках, но Светлану Иосифовну и Анастасию Сергеевну – уже нет. Покинули бренный мир Викентий, Михаил Николаевич и Перейра. Валентин на почве рекламы и алкоголизма попал в психиатрическую больницу. Свиридов погиб при невыясненных обстоятельствах. Ксения свой дом продала. Никодим устроился сторожем в церковь. Чуприне поставили памятник в сквере: молодой и худой будущий директор кувалдой загоняет кол в землю. Татьяна уже шесть лет возглавляет БТК 3-го цеха «Нежмаша», а Попсуев стал начальником НИЛ, защитил докторскую диссертацию, публикуется в «Вечерке» и издал два сборника стихов под псевдонимом Кирилл Шебутной. Их сын Денис мастер спорта по рапире, а две дочки любят рисовать лошадок и кроликов. Берендей построил стадион, укомплектовал городскую хоккейную команду. Несмеяна живет в Риге, организовала там музей детского рисунка. Является прихожанкой православного Кафедрального собора Рождества Христова. В Риге обретаются и братья Ненашевиньши. Кошмарик уехал в Израиль. Консер Асмолов умер. После того, как в Современном театре воцарился выдвиженец нового губернатора, Крутицкой роли достаются по остаточному принципу. Пьесу Ростана сняли с репертуара, но Изольда дома играет сцены из «Сирано». Проникновенно звучат слова: «О! Если б прошлое хотя на миг воскресло!», после чего актриса выпивает рюмку водки и, глядя в зеркало, восклицает: «Бывших прим нет и быть не может! Прима – прима навсегда!»
2015Примечания
1
Мальчик, официант (фр.). Идите ко мне (нем.).
(обратно)2
Понял (нем.).
(обратно)3
Генеральная репетиция (нем.).
(обратно)4
Душа моя (нем.).
(обратно)5
Пять минут (нем.).
(обратно)6
Никаких проблем (нем.).
(обратно)7
Боже мой! (нем.).
(обратно)8
Вы говорите по-немецки? (нем.)
(обратно)9
«Саput» – «голова» (лат.). Фраза означала от «Конец Гитлеру» до «Гитлер – главный, он во всем виноват, а я сдаюсь, пожалейте меня».
(обратно)10
Буквально (фр.)
(обратно)11
Да, к любви, моя сладкая… (англ., ит.)
(обратно)12
Приказ (нем.)
(обратно)13
А почему? С какой целью? (нем.)
(обратно)14
Вы не поняли (нем.)
(обратно)15
Огонь (нем.).
(обратно)16
Дурная шутка (нем.)
(обратно)17
До свидания (нем., ит)
(обратно)18
Спокойной ночи (нем.)
(обратно)19
Это есть фантастика! Неужели? Есть! (нем.)
(обратно)20
Ищите женщину (фр.).
(обратно)21
Какой артист погибает! (лат.)
(обратно)22
Это странно (нем.)
(обратно)23
У меня в номере проблема. Душ не работает (ит).
(обратно)24
Чистая доска (лат.)
(обратно)





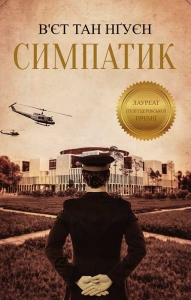
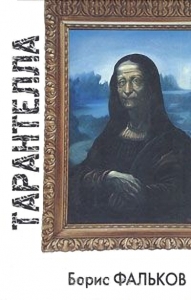




Комментарии к книге «Неодинокий Попсуев», Виорэль Михайлович Ломов
Всего 0 комментариев