Жорж Коншон В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ
Друзья и враги Марка Этьена
Молодой человек скромного происхождения, без всяких связей, сын мелкого служащего, оставившего ему в наследство лишь наивность и безупречную честность, единственно благодаря своим личным достоинствам — незаурядным способностям, трудолюбию и добросовестности — делает блестящую карьеру, становится в двадцать шесть лет генеральным секретарем крупного банка, вступает в избранный круг людей, «имеющих имя» в финансовом мире. Это как нельзя более умилительная и как нельзя более назидательная история в духе «Розовой библиотеки» и «Воскресного чтения». Беда только в том, что у этой истории грустный конец. В один прекрасный день блестящая карьера Марка Этьена рушится как карточный домик, его без церемоний выбрасывают на улицу, и ему остается, по словам нового директора банка, «продавать носки или рекламировать пылесосы». Только теперь он понимает, что в конечном счете десять лет был «машиной, делающей деньги», а когда машина устаревает или приходит в негодность, ее заменяют новой.
Молодой человек, вступивший в жизнь в первые послевоенные годы — время подъема общенационального демократического движения, время великих надежд на социальное обновление Франции, преданной правящим классом и пережившей военный разгром и немецкую оккупацию, — считает одной из насущных задач своего поколения — «реабилитировать деньги», поставить финансы на службу общенародным интересам и в этом видит смысл своей деятельности. Это весьма возвышенная идея в духе пресловутой теории «народного капитализма», плохо только то, что она неосуществима в рамках капиталистического общества.
Генеральный секретарь банка, как и швейцар, — всего лишь служащий, а служащий служит. Служит и Марк Этьен — и не своим расплывчатым «освободительным» идеалам, а людям, вся философия которых вмещается в формулу: «Деньги не пахнут». Помимо своей воли, даже не отдавая себе в этом отчета, он служит им и в большом и в малом: он работает ночи напролет, конечно, не ради обогащения своих патронов, но благодаря ему банк «заработал» на войне во Вьетнаме десятки миллиардов франков; как демократ и по происхождению и по убеждениям, он на стороне работников банка, объявивших забастовку, но, как представитель администрации, он занимает в переговорах с ними «жесткую позицию», то есть борется против дела, которому теоретически сочувствует; интеллигент хорошей закваски (и притом «передовой»), он ненавидит и презирает полицейщину, политический шпионаж и наушничество, но это не мешает ему подписывать приказы об увольнении «неблагонадежных». И более того: люди, подобные Марку Этьену, именно как демократы и свободомыслящие интеллигенты служат силам, которые им глубоко враждебны. Вышедшие из народа, незапятнавшие себя в годы войны и оккупации, представляющие в глазах обывателя «молодую Францию», но вместе с тем отнюдь не посягающие на «устои общества», они оказываются удобной ширмой, за которой происходит не «реабилитация денег», а реабилитация вчерашних коллаборационистов и предателей, вынужденных до времени оставаться в тени. Пока на авансцене Марк Этьен играет свою роль, безотчетно повторяя слова суфлера, за кулисами готовится к выходу некий Дроппер, фашист и темный делец, сотрудничавший с немецкими оккупантами, а после освобождения представший перед судом. Переждав в Мексике смутные времена и слегка изменив фамилию, Дроппер-Драпье возвращается во Францию, где реакция уже снова подняла голову, захватывает, прибегая к шантажу, руководство банком и первым делом выгоняет Марка Этьена, который для него олицетворяет ненавистные ему демократические силы. Все становится на свои места. Марк Этьен, наконец, понимает, что в конечном счете сыграл для Драпье и ему подобных роль «перевозчика через бурную реку», в услугах которого уже не нуждаются, как только снова чувствуют под ногами твердую почву.
Молодой человек, полный благородства, энтузиазма и веры в людей, видит свой жизненный идеал в либеральном, гуманном и просвещенном финансисте, а тот, в свою очередь, выказывает ему самую горячую привязанность. Один воплощает юношеское горение, самоотверженность и сыновнюю преданность, другой — мудрость, широту взглядов и отеческую доброту. Это поистине трогательные отношения. Беда только в том, что они зиждутся, с одной стороны, на наивности, с другой — на расчете и лицемерии. Господин Женер, председатель административного совета банка, по непонятным причинам уступивший без боя свое место «мексиканцу», этот обаятельный старик с одухотворенным лицом, похожий на Рузвельта, в критическую минуту предает своего молодого друга, чтобы избежать разоблачений со стороны Драпье, который располагает компрометирующими его документами. И, как выясняется, это не первое его предательство. В годы оккупации другой молодой человек, подающий надежды, служил ему подставным лицом в сделках с «И. Г. Фарбениндустри», и, когда после освобождения он предстал перед судом, Женер отрекся от него, как теперь отрекается от Этьена, тоже выполнявшего для него грязную работу. Марк убеждается, что в конечном счете Женер ничем не лучше, если не хуже, Драпье: тайный коллаборационист, своекорыстный фразер, разыгрывающий либерала, едва ли не опаснее откровенного реакционера, циничного дельца, вполне отвечающего традиционному представлению о «капиталистической акуле».
Так в романе французского прогрессивного писателя Жоржа Коншона «В конечном счете» получает своеобразное развитие бальзаковская тема утраченных иллюзий. Эта тема переплетается у него с мотивом трагического одиночества.
Когда против Марка Этьена пускают в ход ложное обвинение в тайной связи с коммунистической партией только на том основании, что он как-то раз, случайно встретив на улице своего товарища по Политехнической школе, ныне депутата-коммуниста, несколько минут разговаривал с ним, от него отшатываются даже те члены административного совета, интересы которых расходятся с планами Драпье: для них нет ничего страшнее жупела «коммунистической опасности». Когда перед его ближайшим другом Филиппом Морнаном открывается перспектива ценою подлости занять его место, он, не колеблясь, использует эту возможность: карьера ему куда дороже дружбы. Когда через несколько часов после заседания совета, где Марк, как и следовало ожидать, потерпел поражение, он обращается с просьбой о пустячной услуге к своему бывшему подчиненному, который, казалось, всегда питал к нему глубокое уважение, тот отвечает вежливым, но решительным отказом: ведь Этьен уже не генеральный секретарь. Вокруг Марка образуется пустота. И только теперь он понимает, что его одиночество нельзя объяснить лишь печальным стечением обстоятельств, что в конечном счете он всегда был одинок, хотя и не сознавал этого:
«Он вошел в этот банк, как чужеродное тело в живой организм, он был подобен занозе под кожей, маленькой занозе, которая уже перестала быть деревом и никогда не станет плотью. Что он мысленно видел теперь, так это свое огромное одиночество — изначальное одиночество».
Однако Марк Этьен не имеет ничего общего ни с разочарованным и охладелым романтическим героем, который «не может в душе не презирать людей» и остается равнодушным к житейской пошлой суете, ни с героем модных экзистенциалистских романов, где человек человеку чужак и одиночество — неизбежное условие человеческого существования.
Одиночество Марка Этьена коренится не в исключительности его натуры и не в самой человеческой природе, а в противоречии между ним и средой, в которую он попал. Он «чужак» не среди людей, а среди дельцов, для которых нажива превыше всякой морали, преуспевших и преуспевающих мерзавцев, ради карьеры готовых на все, снобов, высмеивающих манеры «выскочки». По существу, он лишь «изолирован в социальном плане», как сказал о нем маститый академик Л., для которого он безвозмездно собирал материалы во всех архивах, — «изолирован» в силу самих условий своего существования, типичных для интеллигента из среднего класса. Этот одиночка вовсе не одинок. С ним и его секретарша Полетта, готовая пойти на разрыв с мужем, продавшимся Драпье, и его помощник Ле Руа, решивший в знак протеста и солидарности с Этьеном подать заявление об уходе, и секретарша Драпье Кристина Ламбер, отказавшаяся лжесвидетельствовать в пользу своего шефа, и старик служитель Шав, заверяющий Марка, что негодяй, донесший на него, будет разоблачен, и другой служитель, Лоран, возмущающийся грязным делом, которое состряпали против Этьена «эти сволочи из административного совета», и все те, кто провожает Марка аплодисментами, когда он уходит из банка. То, что представлялось ему одиночеством, в конечном счете оказывается частным проявлением размежевания сил, все углубляющегося разрыва между демократическими слоями французского общества и правящим классом. В этом прежде всего и состоит идейный смысл романа Коншона как романа социального.
Марк Этьен не отказывается от чека на два миллиона франков, который вместо положенной скромной суммы выдает ему Драпье, неожиданно сделав широкий жест. Кристина Ламбер не сразу решается сказать правду, неприятную ее патрону. Ле Руа, поддавшись настоянию Марка, так и не подает заявление об уходе. Полетта не порывает с мужем. Короче, положительные герои Коншона — далеко не герои. И тем не менее они одерживают моральную победу над Драпье и его окружением. Они с честью выходят из сурового испытания — несломленные, сохранившие чувство человеческого достоинства и не согласившиеся, живя с волками, выть по-волчьи. В этом немаловажное отличие книги Коншона от классического романа критического реализма, в котором герой всегда либо гибнет в столкновении с действительностью, либо капитулирует перед ней. «В конечном счете» — по самому духу своему современный роман как раз потому, что в нем находит отражение «цвет» нашего времени, когда «маленький человек» перестает быть «маленьким», все яснее осознавая свои права и свой долг перед самим собой.
«В конечном счете» не столько роман об утраченных иллюзиях, сколько роман об обретенной ясности. Освобождение от наивного, прекраснодушного взгляда на жизнь и отношения людей влечет за собой для Марка не холодное отчаяние, душевную опустошенность или «позорное благоразумие», а духовную зрелость, которую приносит только суровый жизненный опыт. Из пережитого кризиса он выходит, «многому научившись за один день и сохранив еще достаточно сил для того, чтобы преодолеть в себе самом ту смесь робости, восторженности и наивности, которую почему-то считают добродетелью». И именно поэтому, хотя Марк «уже не молодой человек, а в лучшем случае еще молодой человек» и в финансовом мире его репутация безнадежно испорчена, он может по-прежнему «смотреть на себя, как на человека, у которого еще все впереди». Это-то и сообщает роману Коншона в конечном счете оптимистический тонус.
Мы знакомимся с героем романа на пороге переломного в его жизни события и расстаемся сразу же после него (отсюда и драматическая напряженность повествования, главным содержанием которого является самый перелом — напряженность, нарастающая по мере приближения развязки). Мы застаем его в тот момент, когда он подводит итоги пройденного этапа и осмысляет его в свете этого переломного события (отсюда и «разорванность» повествования, где развитие действия постоянно прерывается обращением к прошлому, а предыстория восстанавливается «по кусочкам», поскольку заставляет героя мысленно возвращаться к пережитому). Мы видим происходящее как бы изнутри, глазами героя, с его точки зрения (отсюда и обилие внутренних монологов, «самоустранение» автора, заменяющего описание диалогом и документом, раскрытие характеров в действии). Мы узнаем поэтому из романа не больше того, что знает герой, а он еще смутно представляет себе свое будущее. Но мы закрываем книгу с твердой уверенностью, что он уже никогда не будет пешкой в руках женеров и что путь, на который он вступил, ведет из лагеря господ, заседающих в административном совете, в лагерь бастующих служащих банка.
* * *
«Этот роман было бы интересно экранизировать, но где взять банк, который стал бы финансировать такой фильм?» — писал о книге Коншона известный французский критик Жан Бомье. И действительно, Жорж Коншон, молодой писатель-реалист, уже опубликовавший несколько книг, в том числе антивоенный роман «Военные почести» и «Большую стирку», где рассказывается о предательской деятельности Драпье в годы немецкой оккупации, отнюдь не может претендовать на признание и поддержку сильных мира сего. Зато он по праву может рассчитывать на внимание и сочувствие демократического читателя и прежде всего молодежи. А это главное для подлинного художника, верного идеалам мира и демократии.
Л. Лунгина,
К. Наумов
1
Снова раздался стук в дверь.
— Марк! — позвала мадам Этьен.
Марк повернулся на другой бок. Ветер не унимался, он дул все так же напористо и все так же наполнял ночь мелодичным звучанием. Но настал, наконец, час, тот самый час, которого Марк ждал долгие дни, долгие месяцы. «С тех пор, — думал Марк, — как я понял, что он ни перед чем не остановится, чтобы меня свалить. С тех пор как я догадался, что мое падение для него не средство, как мне сперва казалось, а цель, разрешение его ненависти ко мне, причину которой я так и не узнал…»
— Марк, — повторила мадам Этьен, — уже три часа.
— Иду! — крикнул он.
…Да, с того самого раза, когда он впервые увидел председателя Драпье, с того самого утра, когда председатель впервые вошел в его кабинет. С тех пор прошло ровно пять месяцев. Банк все еще оставался, что называется, «солидным банком».
— Само собой разумеется, — сказал тогда Марк, — я не буду принимать никаких решений до получения ваших указаний. Я полагаю, что ваши взгляды в организационных вопросах сильно отличаются от взглядов господина Женера.
— Всему свое время, — ответил тогда председатель. — Выслушайте меня внимательно, господин Этьен. Мне сказали, что вы хороший генеральный секретарь. Мне сказали также, что вы человек работящий. Это качество я весьма ценю. Не сомневаюсь также, что вы очень умны и способны проявить инициативу. Но я не требую от вас дипломов. Мне нужно только одно: чтобы вы неукоснительно выполняли все мои инструкции, не пытаясь их толковать по-своему.
— Я никогда не толковал по-своему ни одной инструкции. Я никогда не пытался влиять на финансовую политику нашего банка. Я говорил лишь об организационной работе, за которую, разрешите мне напомнить, я несу ответственность перед административным советом…
— Перед советом и передо мной. По этому вопросу, как, впрочем, и по всем остальным, вы будете ждать моих указаний.
— Именно это я и сказал. Я сказал, что не приму никаких решений до получения ваших указаний.
— Я понял вас иначе.
— Тем не менее это были мои подлинные слова, и они полностью соответствуют моим намерениям.
— Что ж, тем лучше. Боюсь, однако, что они противоречат вашим привычкам.
— Никак не могу с этим согласиться, господин Драпье, — сказал Марк. — На что вы намекаете?
— Господин Женер предоставлял вам полную свободу действий. Вы уже давно управляете этим заведением?
— Я им никогда не управлял. Я поступил сюда в 1945 году в качестве помощника господина Марешо. Через год, когда господин Женер стал председателем, он попросил меня заменить господина Марешо.
— Вы хотите сказать, что господин Марешо был уволен? По каким причинам?
— Ему исполнился семьдесят один год.
— А скажите, соответствовали ли взгляды господина Марешо политическим и философским воззрениям господина Женера?
— Я над этим никогда не задумывался.
— Сколько вам было тогда лет?
— Двадцать шесть.
— Что ж, вы неплохо начали свою карьеру!
— Я всегда старался быть достойным того положения, которое занимал.
— Прекрасно! — сказал председатель. — Я только хотел познакомиться с вами. Очень рад…
Марк стоял в темноте у кровати. Он все не решался зажечь лампу, словно свет мог рассеять уверенность, которую он постепенно обрел за эту ночь. Он нагнулся за домашними туфлями. Голова закружилась, и ему показалось, что он сейчас упадет. Присев на постель и преодолевая, как и каждое утро, мучительную усталость, сковывавшую его после бессонницы, Марк старался отдышаться, хотя бы настолько, чтобы услышать в наступившей вдруг тишине, которую уже не нарушали даже завывания ветра, биение своего сердца.
Он не испытывал страха. Он чувствовал в себе то ожесточение, которое заставляет человека стремиться хоть раз в жизни предстать перед судом, чтобы все увидели правду.
Итак, он не испытывал страха. И даже если бы ему пришлось вступить в эту темную полосу своей жизни — он не знал, когда она кончится, он знал только, что она началась нынешней ночью, которую он провел без сна, прислушиваясь к ветру, гудящему в щелях ставен, — даже если бы он вступил в эту темную полосу своей жизни без той нелепой крохотной надежды, которая все-таки жила в нем, он все равно не отказался бы от борьбы.
Получив обещание, что административный совет соберется не позже чем через неделю, чтобы разрешить конфликт, который еще назывался «разногласиями между председателем и генеральным секретарем», тогда как в действительности речь шла о выборе между председателем и им, не между их принципами, а между ними — либо председатель, либо он, — Марк отправился в Немур к матери. Но эта неделя отдыха его вконец измотала. «Это потому, — думал он, — что я еще окончательно не теряю надежды». Он обладал избытком сил, верой в будущее — словом, мужеством низшего порядка, но был совершенно не способен подняться до того высшего мужества, которое в данном случае заключалось бы в том, чтобы полностью отдать себе отчет в сложившейся ситуации. Ведь самое большее, чего он мог добиться, — это вызвать тайное уважение у некоторых членов административного совета. Но ему и в голову не приходило этим удовлетвориться. Подобная победа его ни в коей мере не устраивала, и не потому, что была бы скрытой и зыбкой, а потому, что, проработав девять лет в банке, он привык относиться к членам совета, как к ничтожествам, лишенным всяких признаков совести.
Марк и сам не мог бы сказать, о какой именно победе он мечтал. Он знал заранее, кого предпочтет совет. Он знал даже, что вопрос этот предрешен и что это подобие судилища лишено всякого смысла.
Вдруг Марк почувствовал, что окончательно проснулся. Он встал и открыл окно. Ветер, всей своей тяжестью давивший на ставни, ворвался в комнату — теперь он был теплый и влажный и принес с собой запах прелых листьев. Впервые Марк подумал, что скоро настанет весна. Он подумал также, что эта история, начавшаяся осенью, завершится весной, как, впрочем, не только эта история, но и вся первая часть его сознательной жизни, важный период между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами, когда решается судьба человека и когда у него были все основания считать, что его собственная судьба сложилась самым счастливым и достойным образом. Во всяком случае, так он будет думать потом, и вовсе не потому, что ему запомнятся даты, а из-за того, что теплый ветер коснулся в то утро его лица. Тяжелые фонари покачивались над шоссе, за которым он едва мог различить разбухший от паводка Луен и прямые ряды садовых оград, день за днем все больше погружавшихся в воду. Грузовик, мчавшийся в сторону Парижа, на перекрестке трижды просигналил фарами.
Услышав шаги Марка на лестнице, мадам Этьен поспешила налить ему кофе. Марк поцеловал мать в лоб. Его лицо после умывания было еще слегка влажным, он никогда не вытирался досуха, у него никогда ни на что не хватало времени. «Он еще больше похудел за последние дни, — подумала мадам Этьен. — В его возрасте большинство мужчин начинает полнеть. А вот он — нет!» Какая-то женщина (мадам Этьен уже не помнила, кто именно) однажды сказала, что Марк навсегда сохранит стройность и гибкость, свойственную прыгунам с шестом. В тот год ему минуло двадцать. Разговор этот происходил летом на пляже. Все девушки были от него без ума. Ни одна не устояла бы перед ним. В ушах мадам Этьен еще звучал голос той дамы на пляже.
Он слишком много работает. Так было всегда, особенно вначале, когда господин Женер взял его себе в сотрудники. Это был тяжелый период в жизни Марка. Он по двенадцати часов просиживал в своем кабинете, света белого не видел. Словно три года просидел в подвале. Даже по воскресеньям он утром бывал в банке. Да и теперь он все еще так работает. Конечно, не считая этих последних дней. «Я ни о чем с ним не буду говорить. Во всяком случае — сейчас. Это будет лучшее доказательство моей любви к нему. Пусть он уедет сегодня, как уезжает обычно в понедельник утром, проведя со мной воскресенье, в тот же час, что и всегда».
Мадам Этьен пристально посмотрела на сына.
— Марк, надеюсь, они не поставят под сомнение твою честность?
— Не думаю, — ответил Марк. — Они не посмеют. Они уже пытались, но убедились, что это невозможно.
— Ты уверен?
— Уверен, что пытались. Не огорчайся, мама.
— А может зайти речь о твоей личной жизни?
— Какое им дело до моей личной жизни?
— Не знаю, дорогой, но люди задают столько вопросов. Поэтому я и пытаюсь…
— Вот именно… — прервал ее Марк. — Почему ты всегда пытаешься перебрать все возможности? Разве, по-твоему, в моей личной жизни есть что-то такое, что можно обернуть против меня?
— Нет, нет, что ты!.. Но люди так любят лезть в чужие дела… Разве их касается, что Дениза развелась с мужем, чтобы выйти за тебя замуж? Дениза и ты — ведь тут все очень просто, не правда ли, дорогой?
— Да, — сказал Марк, — очень просто.
— А теперь ты раздумал жениться?
— Мы оба раздумали.
Зазвонил телефон. Мадам Этьен вздрогнула и с трудом поднялась — у нее были больные ноги.
— Разве я могу испытывать хоть малейшее доверие к этим людям?
Она сняла трубку.
— Нет, нет, — сказала она, — он еще не уехал. Сейчас он подойдет.
Оконные рамы скрипели от ветра.
— Это господин Женер, — сказала она сыну.
— Алло, Марк? Говорит Женер. Я хотел вам позвонить вчера вечером, но слишком поздно вернулся домой, боялся вас разбудить. Как вы себя чувствуете, старина?
— Очень хорошо, — ответил Марк. — Прекрасно. Мне очень жаль, что вы поднялись в такую рань из-за меня.
— Я не мог этого не сделать. Вы должны обещать мне, что будете владеть собою.
— Обещаю.
— Даже если вас будут провоцировать на скандал?
— Даже в этом случае.
— Если вы выйдете из себя, он вас все равно перекричит.
— Я знаю.
— И еще одно, Марк. Я считаю, что нет никакой необходимости, более того, просто нежелательно касаться его прошлого.
— Я очень плохо знаю его прошлое.
— Было бы лучше, если бы вы его совершенно не знали, гораздо лучше.
— Все эти политические истории внушают мне отвращение, — сказал Марк.
— Эта история не имеет отношения к политике. То, в чем его обвиняют, дело чисто экономическое, и только. Это бесспорно. Но мне будет неприятно, если вы хотя бы упомянете об этом.
— Почему?
— Из-за вас, Марк.
— Не понимаю все-таки, почему вам было бы неприятно, если бы я…
— Я считаю, что вы должны исходить из интересов банка и только банка, не припутывая сюда все эти истории.
— Хорошо, — сказал Марк. — Я вам обещаю все время напоминать себе, что эта история чисто экономическая, и только. Не хотите ли вы сделать мне еще какое-нибудь наставление в этом духе?
— Послушайте, — сказал господин Женер, — если здесь и есть какой-нибудь политический оттенок, то лишь…
— Согласен! — прервал его Марк. — Лишь в том, что этот господин спустя десять лет снова сумел оказаться на коне. Иначе говоря, я имею право заявить, что он негодяй, но не должен уточнять, почему.
— Спокойствие! Вы должны во что бы то ни стало сохранять спокойствие.
— Господин Женер, вы отлично знаете, в каком я положении. Почему вы настаиваете, чтобы я отказался от своего единственного козыря, какой бы он ни был? Я не говорю, что с этого надо начать, но когда мне уже нечем будет крыть, когда я буду доведен до крайности…
— Это не так просто. Я думаю, что во всех случаях не следует отклоняться в сторону. Надо быть честным до конца, не правда ли, Марк? Честным перед самим собой… Вы, конечно, можете считать меня идеалистом. Быть может, я и на самом деле всего лишь старый идеалист, но мой идеализм зиждется на жизненном опыте. Вы слишком молоды, чтобы это понять. Вы намерены взывать к человеческой совести… Так вот, Марк, я глубоко убежден, что никогда не следует терять веру в совесть…
— В чью совесть? — спросил Марк.
— Тех, кто… — Господин Женер вздохнул. — Ужасно, что нельзя даже назвать их имена, как только речь заходит об этом деле. Очень жаль, что я не смог вас убедить. Что ж, пожелать вам удачи?
— Вряд ли это чему-нибудь поможет.
— Позвоните мне, как только кончится заседание, и не забудьте, что мы завтракаем вместе. Я жду вас в двенадцать, Марк.
— Хорошо, господин Женер.
Драпье так внезапно сменил Женера, что это явилось для всех неожиданностью. Марк в тот момент был в Мангейме. Он узнал об этом, вернувшись в Париж после четырехдневного отсутствия.
Прямо с вокзала он отправился в банк и поднялся в свой кабинет. Правда, он заметил в коридорах некоторое оживление и обратил внимание на то, что служители как-то по-особому смотрят на него, не решаясь, однако, заговорить. Но все это его не слишком удивило — было достаточно самой малости, чтобы нарушить покой в банке. Малейший спор между двумя делопроизводителями вызывал бесконечные толки и пересуды. Два месяца тому назад Марку пришлось даже сделать по этому поводу резкий выговор заведующему личным столом.
— Удачно ли вы съездили, господин Этьен? — спросила секретарша.
— Да, все в порядке, благодарю вас, Полетта. Ничего нового?
— Ничего, если не считать, что господин Женер ушел в отставку. Но я полагаю, вы это знаете. Вы были в курсе дела еще до отъезда, не правда ли?
Марк закурил. В первое время, когда он только еще начинал работать в банке, ему часто по ночам снился подобный кошмар. Ему сообщали, что господин Женер уходит в отставку, а он не хотел в это верить. «Что я значу без господина Женера?» — думал он тогда. Потом он научился не задавать себе этого вопроса. Впрочем, он стал уже понимать, что кое-что значит и сам по себе. Теперь он скорее боялся смерти своего патрона. Что до отставки Женера, то Марк был уверен, что узнает об этом заранее, из уст самого Женера.
Он ответил секретарше очень спокойным голосом, что, конечно, знает об этом уже давно, затем вызвал своего помощника.
К Анри Ле Руа Марк испытывал полное доверие. Они вместе учились в Высшей политехнической школе. Анри был стипендиатом. Он жил в меблированных комнатах вместе со своей матерью-вдовой, у которой в жизни ничего не было, кроме него. Они приехали из Анжера. Не в силах переносить разлуку с сыном, отправившимся учиться в Париж, мадам Ле Руа продала мебель и тоже перебралась в столицу. Но этот переезд в самый разгар войны почти полностью поглотил их сбережения, так что они были вынуждены во всем себе отказывать. Мадам Ле Руа приходилось самой шить не только рубашки Анри (у него никогда не было сорочки, купленной в магазине), но даже костюмы и пальто. Марк всегда хотел чем-нибудь помочь Анри. Когда он встретился с ним в банке, где у Анри была ничтожная должность, он добился его назначения на пост, который сам занимал при старике Марешо.
Но Ле Руа ничего не знал. Никто ничего не знал.
— Ну и история, Марк! Чертовски скверная история!.. Вы с Женером так подходили друг другу. Ведь ты любил его? Да? Я тоже. Вот это человек, замечательный человек, человек большого масштаба… Как ты думаешь, что произошло?
— Не имею никакого представления.
— В самом деле?
— Женер очень устал. Иногда по вечерам он признавался мне, что дошел до предела.
— Пусть так, но что могло заставить его в течение каких-нибудь трех дней, от четырнадцатого до семнадцатого октября, полностью отказаться от своего положения… Хочешь знать мое мнение? Женер вышел в отставку не по собственной воле. Уж ты-то его знаешь. Разве такой человек, как он, станет сам себя топить?
— Да, по-моему, это возможно, — сказал Марк.
Он даже был тогда почти уверен в этом. Женер сдавал. Прошлой зимой ему пришлось лечь в клинику. Какая-то серьезная горловая операция. Рак? Выздоровление затянулось. В июне он женился на медицинской сестре, которая за ним ухаживала. Пополз устрашающий шепоток: «Рак, рак! Она бы не вышла за него замуж, если бы не рак… Она знает, что дни его сочтены…» Говорили, что эта женитьба доконает Женера: утверждали, что ей не тридцать, а двадцать пять, двадцать три, двадцать два. Ее так же охотно молодили, как старили бы в другой ситуации. Марк хорошо знал Бетти Женер. Это была высокая брюнетка, очень застенчивая, довольно красивая, хотя и немного грузная. Она преобразила жизнь Женера во всем, за исключением лечебного режима — здесь она придерживалась привычек, выработанных во время его пребывания в клинике: Женер жаловался, Бетти отказывалась его слушать, но обращалась с ним очень мягко. Она была полна к нему дружеского доверия и почтения, говорила ему «вы». Но никому и в голову не приходило, что она может быть влюблена в своего мужа. И то, что она не считала себя обязанной притворяться, вызывало уважение. Марк знал, что Бетти не раз пыталась уговорить Женера отказаться от всякой деятельности, и он подумал, что она, наконец, добилась своего. Ведь однажды вечером господин Женер сказал ему:
— В конечном счете вопреки общему мнению я считаю, что старик, умирающий на посту, отнюдь не возвышенное зрелище. Я постараюсь избежать такого отталкивающего конца. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы работать с Мабори или Дандело?..
— Если бы вы были в этом хоть сколько-нибудь заинтересованы, господин Женер, — сказал Марк, — я скрепя сердце пошел бы на это.
Заранее было решено, что по возвращении из Мангейма Марк будет обедать у Женеров. Придя на бульвар Малерб, он был поражен счастливой улыбкой Бетти, выражением глубокого удовлетворения на ее лице, но глаза Женера были непроницаемы. И разговор за обедом ни разу не коснулся недавних событий. Марк подождал, пока они втроем не уселись в гостиной (впрочем, Бетти вскоре покинула их), чтобы начать доклад о своей поездке в Мангейм. Он говорил нейтральным тоном, словно со дня его отъезда в банке ничто не изменилось. Господин Женер улыбался, тихонько барабанил пальцами по ручке кресла и, только когда Марк кончил, сказал:
— Боже мой, Марк, вы ведь понимаете, что все это представляет теперь для меня только относительный интерес? Я полагаю, вы уже в курсе дела?
— Да, — ответил Марк. — Вы добровольно ушли в отставку?
Господин Женер продолжал улыбаться.
— Еще немного коньяку? Может быть, все-таки выпьете еще рюмку?
— Нет, спасибо. Разве не естественно, что меня интересует…
— Совершенно естественно. Но вы меня, надеюсь, не осудите, если я не отвечу на ваш вопрос?
— Значит, я должен считать ваш отказ ответить мне за ответ?
— Нет. — Господин Женер залпом осушил свою рюмку. — Я не могу утверждать, что ушел в отставку добровольно.
Марк не задал ни одного вопроса относительно причин, вызвавших падение Женера. Но в действительности он был глубоко задет тем, что Женер скрыл от него готовящуюся отставку. Обычно именно Марк первым разгадывал махинации, направленные против банка или лично против Женера, и именно он предупреждал своего шефа о надвигающихся опасностях.
— Я полагаю, все решилось очень быстро?
— Да, Марк, очень, очень быстро.
Как-то раз, с год назад, Женер сказал Марку:
— Быть может, ваша карьера слишком тесно связана с моим именем. Я не уйду из банка, не получив гарантии относительно прочности вашего положения. Я поставлю это обязательным условием при моем уходе.
С тех пор Женер ни разу не касался этого вопроса.
— Кто такой этот Драпье?
— Сам по себе он мало что значит. Это только имя.
— Кто его поддерживает?
— Мексиканская группа. — Господин Женер почему-то вздохнул. — А что такое Мексика? Все это… Короче говоря, Марк, мне очень грустно, бесконечно грустно. Вот это я и хотел вам сказать. С этого мне и следовало начать. Меня терзают мысли о вас.
— Не беспокойтесь обо мне, — сказал Марк. — Конечно, у этого Драпье есть свой штат?
— Нет, он никогда не занимался банковскими делами. Я… Вы хотите меня еще о чем-нибудь спросить?
— Нет, господин Женер, спасибо. Лучше всего будет, если я сам уйду из банка, не правда ли?
— Нет, Марк.
— Вы искренне считаете, что мне следует остаться?
— Да.
— Вы же знаете, что я совершенно не способен на двойную игру и тому подобные вещи.
— Бог свидетель, — произнес господин Женер, закрывая глаза, — ничего такого у меня и в мыслях не было. Вы можете не верить мне, Марк, но я к вам очень привязан. Слишком привязан, чтобы…
— Я знаю, — сказал Марк. — Извините меня, пожалуйста.
Они долго молчали.
— Как поживает ваша матушка? — спросил, наконец, господин Женер. Потом осведомился о здоровье Денизы.
Марку показалось, что старик в этот вечер слишком уж старался показать свою доброту.
Закрывая двери гаража, Марк посмотрел на часы. Было четыре часа двадцать восемь минут. Он сообразил, что успеет заехать к себе домой и сделать все, что нужно, до заседания совета. Небо было темное. Ветер, казалось, еще более сильный, нежели ночью, все дул и дул, перекрывая своим диким воем, ставшим уже почти непрерывным, треск веток, стук плохо подвешенной ставни на фасаде соседнего дома и тысячу других звуков, к которым Марк прислушивался всю ночь.
Колеса машины буксовали на глинистом подъеме. Мотор чихал. Выбравшись на шоссе, Марк зажег фары и прибавил скорость. Начался дождь — капли застучали по ветровому стеклу автомобиля. Он включил «дворники», но резинки были давно истерты, и рычаги чертили на стекле грязные неровные дуги, сквозь которые было плохо видно. Машина у него была старая, выпуска сорок восьмого года. Он купил ее на свои первые сбережения, по лицензии, которую достал ему господин Женер. Теперь, когда он видел во дворе банка свою машину с помятыми крыльями и заржавленным никелем, стоящую рядом с шикарными, сверкающими даже под снегом «4CV» и «Аронда» служащих, которые получали четыреста тысяч франков в месяц, ему делалось немного стыдно. На окраине Немура Марк остановился у бензоколонки. Согнувшись в три погибели и накрывшись с головой плащом, полы которого хлопали от ветра, к машине подбежал заправщик.
— О! Доброе утро, господин Этьен! — с жаром воскликнул он.
Этот заправщик ничем не отличался от других бензозаправщиков на Голубом шоссе. Марк уже раза три брал у него бензин, но он и не подозревал, что тот знает его фамилию. Он дал заправщику ключи и, ожидая, пока наполнится бак, включил приемник. Дождь по-прежнему бил в стекла.
Марк подумал (вернее, отметил про себя, словно речь шла не о нем, а о ком-то другом), что он не отказался от борьбы. «Передо мной даже не встает такой вопрос. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что пойду до конца». Он был одинок. Да, он не просто чувствовал себя одиноким, он и в самом деле был одинок. Марк вспомнил выражение чрезмерной доброты на лице Женера и подумал: «Вот оно, одиночество: от него не спасает привязанность других». Ведь Женер всегда относился к нему с добротой. Альфонс Женер любил Марка, как сына. Вернее, думал, что любил бы так сына — у Женера никогда не было детей.
— Готово дело, — сказал заправщик, протягивая Марку ключи. — Вы всегда поднимаетесь ни свет ни заря!
— Да, всегда.
— Я как раз подогрел кофе. Хотите чашечку?
— Да нет, спасибо, я… — Марка всегда удивляла любезность посторонних людей.
— Жаль, — сказал заправщик. — Ну, как-нибудь в другой раз… Между прочим, я хорошо знал вашего отца. Он работал вместе с моим в обществе «Секанез». Они сидели в одной комнате. Моя фамилия Робен.
— Да, — ответил Марк, — как же, прекрасно помню.
— А вы по-прежнему служите в банке, господин Этьен?
— Да, по-прежнему…
«Так вот что он хотел мне сказать. Наши отцы сидели в одной комнате в страховом обществе; он стал заправщиком, а я служу в банке. Но вполне возможно, что он предложил мне кофе из чистой любезности, а может быть, у него возникло простое, естественное желание выпить с кем-нибудь чашку кофе после бессонной ночи».
— Впрочем, я задал дурацкий вопрос, — сказал заправщик. — Ясно, что когда попадешь в банк, да на хорошее место, то чувствуешь себя там неплохо и нет никакого желания оттуда уходить.
— Как сказать, — ответил Марк. — Работа как всякая другая. У нее есть и хорошие и дурные стороны.
«Для того чтобы солгать, я должен прежде сам поверить, что это действительно необходимо, — подумал он немного спустя. — Это-то и плохо».
Дождь все усиливался. В свете фар Марк видел перед машиной водяные нити, которые порой от порывов ветра рассыпались в брызги. Мысль, что ему не нужно лгать, чтобы защитить себя, не успокаивала его. Он боялся, что если ему все-таки понадобится хоть что-то утаить, он не сумеет этого сделать. Машинально Марк протянул руку к радиоприемнику и увидел, что шкала освещена: он забыл, что уже включил его. Но было слишком рано, передачи еще не начались.
Марк всегда удивлялся, когда замечал, что другие стараются сделать ему что-нибудь приятное. Пока банк возглавлял господин Женер, служащие не проявляли к Марку враждебности, но и не делали никаких попыток с ним сблизиться. Они предпочитали даже, когда речь шла о каком-нибудь личном деле, обращаться непосредственно к Женеру, который слыл более участливым и покладистым. Таким образом, за прошедшие девять лет Марк по-дружески говорил только с Анри Ле Руа да еще с Филиппом Морнаном, когда тот удостаивал банк своим посещением. Но с появлением Драпье Марк начал чувствовать к себе со стороны сотрудников доверие, почти любовь, словно все эти люди, треть которых он даже не знал в лицо, вдруг сгруппировались вокруг него, понимая, что он первый стоит под ударом и вместе с тем наиболее способен их защитить. Первое доказательство этого он получил вскоре после смены власти в банке. Однажды вечером господин Женер навестил Марка. С полчаса они беседовали в его кабинете, затем Марк пошел проводить Женера. Идя по коридорам банка, Женер по старой привычке пожимал руки всем служителям. Он даже специально зашел в комнату швейцара, чтобы поздороваться с ним. Два дня спустя появился приказ за подписью Драпье, в котором напоминалось, что «всему персоналу, вне зависимости от занимаемой должности и положения, запрещается принимать знакомых в помещении банка». В тот же вечер, когда Марк открывал дверцу своей машины, к нему обратился один старый служитель:
— Можно сказать вам несколько слов?
Старик был в пиджаке, без форменной фуражки, и Марк его не узнал.
— Моя фамилия Шав, я служитель в отделе обмена валюты.
— Садитесь в машину, — сказал Марк.
— Господин Этьен, я обращаюсь к вам от имени всех сотрудников. Среди нас появился доносчик. До сих пор не было, а вот теперь появился. И я хочу вам сказать, что мы его обнаружим… Я говорю это от имени всех. Мы обещаем вам, что узнаем, кто тот подлец, который донес, что господин Женер приходил в банк повидать вас.
— Не надо, — сказал Марк. — Даже если вам удастся выяснить имя доносчика, я предпочитаю его не знать.
— Но мы должны его выяснить. Вы с этим согласны?
— Согласен. При условии, что…
— Да, да… Мы только хотели узнать вашу точку зрения. Высадите меня, пожалуйста, где-нибудь у метро.
— Вам в какую сторону?
— Это слишком далеко, господин Этьен. Высадите меня, пожалуйста, у метро.
— Спасибо, Шав, — сказал Марк, пожимая руку старику.
— Здесь дело в принципе, — ответил Шав.
Марк хорошо понял, что тот хотел сказать: «Мы делаем это не только ради вас. Мы думаем о банке. О банке, о доносах, подсиживании и тому подобных вещах, которые время от времени заводятся у нас. Надо же, чтобы кто-нибудь с этим боролся. Вы слишком высоко сидите, значит это должны делать мы. Мы. Здесь дело в принципе».
Подозрение пало на Кристину Ламбер, секретаршу Драпье. Она появилась в банке вместе с новым председателем. Но никто не знал, давно ли она работает с ним. Когда Марка впервые вызвали в кабинет Драпье, он едва заметил ее. Однако она была довольно красива и, по-видимому, прекрасно знала это: светлые волосы приятного теплого оттенка, цвет лица, как у рыжеватых американок, прозрачная, слегка веснушчатая кожа. Как-то утром недели через две после того, как Шав сообщил Марку о своем намерении, Марк столкнулся с Кристиной Ламбер у дверей своего кабинета. Она попросила его уделить ей несколько минут.
Он пригласил ее войти и предложил сесть.
— Что-нибудь случилось, мадемуазель?
— Нет, все в порядке. Я только хотела задать вам один вопрос и прошу вас быть откровенным. Мне объявили бойкот. Вы в курсе дела?
— Нет.
— В самом деле?
— Простите, но я имею привычку говорить откровенно, даже тогда, когда меня об этом специально не просят.
— Допустим. Но, может быть, вы отвечаете только на те вопросы, которые вам по душе. Мне хотелось бы знать: известно ли вам, почему со мной так обращаются?
— Нет, — ответил Марк, но тотчас же спохватился: — Пожалуй, я кое-что знаю об этом.
— Достаточно и кое-чего. Что же вы намерены предпринять?
— Ровным счетом ничего. Меня это ни в коей мере не касается.
— Однако я думала, что именно в ваши функции входит улаживать такого рода истории. Я надеялась, что вы им объясните…
Она сжимала в руке платок. Он заметил, что ее ногти глубоко вонзаются в ладонь.
— Что им объяснить, мадемуазель?
— Ничего. Вы правы, это бесполезно. Но я здесь ни при чем, господин Этьен. Я не способна на подобные вещи.
— Рад это слышать, — сухо сказал Марк. — Но у меня слишком много забот, чтобы заниматься этим делом. Извините меня, пожалуйста…
Она поднялась, потом вдруг спросила, отдает ли он себе отчет в том, что речь идет о ней, в некотором роде о ее чести.
— Господи… — проговорил Марк.
Впрочем, он не очень хорошо помнит, что именно он тогда сказал. В тот момент она показалась ему очень красивой, в высшей степени соблазнительной. Собственно говоря, только это впечатление у него и осталось.
В лесу Фонтенбло, за холмом Бурон, Марка обогнала машина. Просигналив несколько раз фарами, она затормозила у обочины. Хотя Марк и не узнал машины, он догадался, что это Дениза. Она меняла автомобили два раза в год. Такая уж у нее была привычка.
— Не привычка, а необходимость, — шутил Марк. — Ты всегда продаешь груду лома. В твоих руках даже десятитонный самосвал не прослужит и полгода.
Эта слабость Денизы была так широко известна, что когда она развелась с Жаком Ансело, люди говорили, что она меняет мужей, как автомобили.
— Это потому, — говорила тогда Дениза, — что все думают, будто я разошлась с Жаком только для того, чтобы выйти за тебя. Но ведь мы сами в этом не вполне уверены, не правда ли, дорогой?
И Марк отвечал, что действительно это еще вопрос, поженятся ли они. Так они играли, пугая друг друга взаимной свободой. И только, когда они уже научились не ставить под сомнение предстоящий брак, они почти одновременно забили отбой.
— Говоря откровенно, — призналась Дениза Марку, когда они вместе ужинали прошлым рождеством в маленькой гостинице в Санли, — я так и не знаю, кто из нас первым отступил, но мне было бы приятно услышать от тебя, что не ты.
— Да, — ответил Марк, — не думаю, чтобы это был я.
— И не я, — сказала Дениза. — Тем лучше. Значит, это произошло одновременно в нас обоих. Спасибо, Марк, для меня большое утешение думать, что хоть раз в нашей жизни, пусть в данном случае, или, вернее, именно в данном случае, мы захотели одного и того же, были объединены общим стремлением.
С рождества они виделись редко, но и здесь было трудно сказать, кто из них оттягивает очередную встречу. Оба очень много работали. Месяц назад Дениза позвонила ему в банк. «Здравствуй, Марк, как дела?» — «Очень хорошо. А у тебя?» — «Отлично. Работы по-прежнему невпроворот?» — «Да, с каждым днем все больше и больше». — «Я хотела предложить тебе пообедать вместе. Но так как я тоже очень занята, то давай лучше немного отложим нашу встречу. Позвони мне как-нибудь вечерком».
— Доброе утро, Марк, — сказала Дениза, протягивая ему руку, — как дела?
— Очень хорошо. А у тебя?
— Отлично.
— Ты опять сменила машину?
— У той мотор стал барахлить. Садись ко мне.
Она подвинулась, чтобы он сел у руля. На ней была куртка из белой кожи, которую они купили вместе этой осенью в одной лавочке в предместье Сент-Оноре. Дениза была простужена, говорила хриплым голосом. Кончик носа у нее слегка блестел. Она провела уик-энд у своего отца в Дордиве, где десять лет назад они и познакомились с Марком. Дениза тогда еще не была замужем, а Марк, демобилизованный после окончания войны с Германией, обивал пороги в поисках работы. В то время в Немуре была целая компания подающих надежды молодых людей, в том числе двадцатидевятилетний префект (правда, уже без префектуры) и тридцатилетний полковник. Частенько они ездили на велосипедах, а иногда и на машине полковника в Фонтенбло, где еще сохранились приличные теннисные корты. Затем в течение нескольких лет Марк ничего не слышал о Денизе, пока в один прекрасный день Жак Ансело, который редактировал какой-то банковский бюллетень, не сообщил ему, что Дениза стала его женой, что она сделала очень быструю и блестящую карьеру в какой-то нефтяной компании и что ее отправили в двухмесячную командировку в Соединенные Штаты. Марк тогда немедленно позвонил Филиппу Морнану. «Я знал об этом», — сказал ему Морнан. Из всех признаков успешного восхождения по служебной лестнице командировка в Соединенные Штаты была тогда самым явным и решающим. Такая командировка не могла остаться незамеченной. «Я всегда считал, что эта девица во всем преуспеет больше нас всех, да я и сейчас так думаю. Во всем, за исключением брака. И, по общему мнению, милосердие требует, чтобы на нее обратил внимание какой-нибудь холостяк и подошел бы к ней с тем тактом, который, как всем известно, присущ тебе. Подумай об этом, Марк. Денизе было бы больше не о чем мечтать, пожелай такой человек, как ты, заняться ею».
Спустя три месяца после этого разговора Марк встретил Денизу в ресторане, где он обедал с Женером. На ней было платье из фая, которое ей не очень шло, купленное, как он вскоре узнал, в Нью-Йорке. И он тогда подумал (но вовсе не из-за платья), что если Денизе и недостает чего-то, то в общем весьма малого.
С тех пор как Дениза разошлась с мужем, она стала проводить все уик-энды у своего отца в Дордиве. Сначала она это делала из-за Марка, потом это вошло в привычку. В понедельник она часто выезжала из дому чуть свет в надежде встретить Марка на шоссе.
— Я остановилась в Немуре, чтобы налить бензин, и заправщик мне сказал, что ты только что проехал. Я поторопилась. У тебя усталый вид, Марк. Какие-нибудь неприятности?
— Да нет, ничего особенного. Я был очень занят последнее время. Все хотел тебе позвонить, да…
— Конечно, Марк, я знаю, что ты хотел… На той неделе мне придется уехать в Лондон. Я там задержусь на некоторое время. Не могли бы мы до моего отъезда провести вместе день?
— Что ж, это можно сделать. Ты когда уезжаешь?
— Во вторник. Не завтра, а в следующий вторник. Давай сразу условимся.
— В любой день.
— В четверг?
— В любой день, — повторил Марк. — В четверг так в четверг.
— В четверг? На весь день?
— На весь день.
— Спасибо, Марк.
Марк отметил, что в голосе Денизы не было никакой теплоты. Устремив взгляд прямо перед собой, она рассеянно следила за взмахами «дворника».
— А ведь на самом деле ты хотела только узнать, — сказал он, — считаю ли я уже, что отныне у меня будет сколько угодно свободного времени…
— Да, но я хотела также провести с тобой день.
Наконец она повернулась к нему.
— Марк, — сказала она с принужденной улыбкой, — мне было бы тяжело узнать о твоих неприятностях от других.
— Мне нечего тебе рассказать. Ты, наверное, виделась с Ансело?
— Нет. Я его не видела. Я только читала его газету…
— Этот гнусный листок?
— Да, я это поняла, когда… Я жила пять лет, не отдавая себе в этом отчета. Я думала, он представляет что-то сильное и достойное. А теперь мне попросту стыдно.
— Все это не имеет к тебе никакого отношения, дорогая.
— Марк, правда, что сегодня для тебя очень важный день?
— Во всяком случае, нелегкий, но через это надо пройти. До сих пор у меня было мало серьезных неприятностей. Тут самое трудное — по-настоящему захотеть отбиваться, убедить себя, что это действительно необходимо.
Она взяла его за руку.
— Мне хотелось бы, чтобы ты знал…
— Я знаю, — сказал Марк. — Я знаю, что ты в отчаянии от всего этого, и мне неприятно, что ты тревожишься за меня.
— Нет, Марк. Это не совсем то, что я хотела сказать.
Промчался тяжелый грузовик, и их машина задрожала. Дениза прислонилась головой к плечу Марка.
— Этой ночью, — сказала она, — я думала о том, что было десять лет назад, о всей нашей компании. Мы все неплохо преуспели в жизни, не правда ли? Я думала о том, не перевалили ли мы уже на другой склон холма и не придется ли нам теперь спускаться. Не слишком ли высоко мы сразу забрались? Тогда нам казалось, что мир распростерт у наших ног и наше дело только командовать. Я знаю, что они в нас нуждались…
— Да, — перебил ее Марк, — они дали нам командные посты, потому что тогда это был для них единственный способ удержать мир в своих руках. Они могли действовать только через посредников. Потом они оправились от своего страха, вернулись, и тогда они заметили, что прекрасно могут обойтись и без нас. Мы заведомо были обречены на поражение. Потому что за то время, которое было нам предоставлено, мы научились только работать. Работать, а не интриговать. Все дело в этом.
— Потому ты и колеблешься, дать ли им бой?
— Я не колеблюсь, — ответил он.
Дениза тихонько поцеловала его в щеку, и Марк вдруг вспомнил фразу, которую он сказал Кристине Ламбер: «Почему бы вам не постараться сохранять спокойствие? Почему бы вам не убедить себя, что все это лишь плод вашего воображения?» Тогда, только тогда она ему сказала, что речь идет в некотором роде о ее чести. Теперь он все это ясно вспомнил. Но это были глупые фразы — что его, что ее.
— Ты позвонишь сегодня вечером? Обещаешь?
— Обещаю. Не волнуйся. Все будет хорошо.
Она снова поцеловала его в щеку, затем в губы, торопливо, словно он спал рядом с ней и ей не хотелось его разбудить.
Садясь в свою машину, Марк подумал, что прежде, возвращаясь по понедельникам в Париж, они каждый раз встречались в табачной лавочке у Порт-д’Итали и молча выпивали у стойки обжигающий кофе. (Иногда, правда, Дениза говорила: «Ты меня любишь, Марк? Ты думаешь, что сможешь любить меня еще целую неделю?») Этим ритуалом Дениза дорожила. Марк никогда толком не понимал, почему она придает ему такое значение, но после того, как Дениза получила развод, она выжидала целое воскресенье, чтобы сообщить ему об этом именно утром в табачной лавочке. Марк обжегся горячим кофе. Дениза расхохоталась: «Спасибо, спасибо. Вот именно это я и хотела увидеть. Я всегда надеялась, что эта новость заставит тебя поперхнуться, но я не была в этом уверена. Я думала, ты принадлежишь к тому типу людей, которые во всех случаях жизни сохраняют невозмутимый вид». Он не спросил себя, было ли бы ему приятно, если бы Дениза предложила сегодня заехать в табачную лавку, но он сожалел, что ей не пришло в голову сделать это.
Марк нажал на стартер, машина тихонько двинулась с места. Дождь почти перестал. Когда он проезжал мимо здания американского посольства, свет, падающий из окон, на мгновение осветил его руку, держащую руль. Он подумал об Америке. Он долго ехал, и перед его мысленным взором все стояло это белое пятно — его рука на руле, освещенная электрическим светом. Его мысли перекинулись на голод в Индии, потом он почему-то подумал о коровьем навозе, который собирают в Тибете, и о том, как смехотворно понятие «личная честь» рядом со всем этим.
2
Впоследствии Марк не раз задумывался над тем, почему он в то утро остановился возле табачной лавочки у Порт-д’Итали. Он был почти уверен, что уже не любит Денизу. Ну, а воспоминания о Денизе?.. Он вообще испытывал нежность ко всему, что они делали вместе, и охотно вспоминал об этом. Он не считал, что Дениза изменилась — он создал себе два образа Денизы (хотя разницу между ними не мог бы объяснить) только для того, чтобы удобнее было думать о прошлом. И любил он не ту Денизу, какой она была прежде, и даже не те отношения, которые были между нами, но то время, которое совпало с их любовью. Можно быть влюбленным в свое прошлое, в тот или иной период своей жизни, тут ничего не скажешь. Но только в пору первых порывов чувства образ женщины так тесно сплетается со временем, что оно то замедляет свой бег, то ускоряет его, обретая для тебя тот или иной смысл.
Было уже начало седьмого. В Париже дождь не шел. На окраинах города ветер высоко вздымал белесые облака песка и пыли, и они, опадая, с легким шуршанием скользили по корпусу машины.
— Чашку кофе? — спросил гарсон, как только Марк переступил порог лавочки. — Собачья погода для автомобилистов! Вы издалека едете?
— Из Немура.
— В тех местах небось еще шибче дует?
Марк кивнул. Большие стекла витрины запотели, но от этого медь, которой была обита стойка, казалась еще более яркой, еще лучше начищенной. Кофейник шипел и брызгался. Хорошо пахло молотым кофе, утром, Парижем. Рядом с Марком два шофера с грузовиков старались припомнить название крупного рынка в департаменте Шер. Это был не Сен-Аман и не Сев-Флоран, потому что тот рынок, о котором шла речь, был расположен у реки, замерзшей в феврале. Да нет, не Шер. Ведь Шер не замерзал в этом году. Там еще есть фарфоровый завод.
— А может, это Меэн? — вставил Марк.
— Вот! — воскликнул шофер, который стоял ближе к Марку. — Ну, конечно, Меэн-сюр-Эвр. Вы бывали там?
— Нет, я знаю этот город по фарфоровому заводу.
— Вы занимаетесь фарфором?
— Да нет, не специально фарфором.
В банке, насколько Марк помнил, было досье «Фарфор (а может быть, фаянс) Меэн». Марк частенько замечал, что почти все свои сведения о мире он черпал из банковских документов.
— Может, выпьете с нами стаканчик рома?
— Спасибо, с удовольствием.
— Знаете, нас просто замучил этот Меэн. Никак не могли вспомнить.
Они поговорили о выборах, о февральских холодах, об Алжире, стараясь найти общий язык — ведь именно ради этого они и говорили. Марк был счастлив, что неожиданно получил эту поддержку. Разговор с шоферами, проникнутый беззлобной горечью, баюкал его, словно тихая песня, и помогал забыть о том, что есть на свете банк и Драпье. Гарсон за стойкой ходил взад и вперед, а хозяйка сидела за кассой, уставившись в одну точку.
На улице все так же дул ветер. Марк вздрогнул всем телом от пронизывающего предрассветного холода.
Марк приехал к себе на улицу Газан, где он жил в трехкомнатной квартире с кухней и ванной на восьмом этаже нового дома (он без труда подсчитал, что должен внести за нее последний взнос через двадцать два года и семь месяцев). Он сразу же прошел в ванную и открыл оба крана, затем принес туда маленький радиоприемник в кожаном футляре, который Дениза привезла из Нью-Йорка, и поставил его на полочку над умывальником, между кисточкой для бритья и стаканчиком для зубной щетки. Он был слегка помешан на радио. Он говорил, что в смысле шума радиоприемник полностью заменяет ему семью из четырех человек, и уверял, что подсчитал это с математической точностью. Впрочем, он приписывал холостяцкому положению большинство своих привычек. Марк полагал, что все холостяки вместо обеда едят бутерброды, ведут относительно целомудренный образ жизни и время от времени наводят порядок в своих шкафах.
Как и каждое утро, его раздражало, что ванна наполняется так медленно. Он обошел комнаты, открыл на всех окнах наружные ставни. На фоне неба уже начал вырисовываться силуэт обсерватории парка Монсури на вершине холма, а дальше, у авеню Рей, виднелась серая громада водохранилища Ван. На высоте восьмого этажа ветер дул равномерно, без порывов, и поэтому казался слабее. Когда Марк вновь закрыл все окна, он с минуту постоял неподвижно, словно прислушиваясь, но не к шуму наливающейся в ванну воды и не к рокоту автомобилей на внешних бульварах, а к тому, что происходило в нем. Он словно улавливал, как медленно и с каким трудом рождаются в его мозгу фразы: «Так вот он настал, этот день. Я ведь хотел, чтобы он поскорей настал. Но не мог же я хотеть этого, если бы ничего от него не ждал. Я и сам не знаю, чего я жду от него, но это не важно. Важно другое: я убежден, что он мне что-то принесет». Марк попытался встряхнуться, нашел сигареты, включил электрический кофейник, приготовленный для него на кухонном столе приходящей домашней работницей (контрольная лампочка, словно кошачий глаз, вспыхнула в полутьме). Но он чувствовал себя совершенно беспомощным в преддверии этого дня, словно утлая лодчонка перед надвигающейся бурей.
Вода в ванне едва не перелилась через край. Марк быстро разделся. Вода была как раз такая, как ему хотелось после этой поездки, когда он продрог на ветру, — очень горячая, немного горячее, чем при отметке «очень горячо» на регуляторе температуры. Ему нравилась и песенка, которую передавали по радио. Он отметил про себя, что сейчас ему в общем неплохо. Намыливаясь и растираясь губкой, он думал: «До вечера будет еще немало хороших минут, таких, как сейчас, или как разговор с шоферами. Раз этот день последнее, что у меня осталось, нужно, чтобы он длился как можно дольше, чтобы ни одна минута его не пропала даром». Марк подставил голову под струю. Он вдруг вспомнил, как на приеме, который Драпье дал в первые дни своего царствования, он стоял в углу гостиной с бокалом в одной руке и с папиросой в другой. Он был один.
Во всяком случае, таким он себя запомнил. Даже если бы ему доказали, что в тот вечер он разговаривал с полусотней людей, он тем не менее продолжал бы думать, что был там один. Именно в этот вечер Филипп Морнан открыл ему глаза на Драпье. Сперва Марк не хотел ему верить.
— Да ты что, Марк, с неба свалился? Пусть я отравлюсь его поганым шампанским, если его настоящая фамилия не Дроппер и он не участвовал в создании Атлантического вала.
— Кто тебе сказал?
— Ансело. Драпье ведь купил его газетенку.
— Он что, с ума сошел?
— Нет. Этот человек твердо следует своим принципам. Он всегда делает то, что считает необходимым, чтобы полностью соответствовать своему представлению о самом себе. Если в нем и есть что-нибудь удивительное, так это наивное упорство, с которым он старается как можно больше походить на капиталистическую акулу, какой она рисуется в народном воображении. Вообще говоря, он безнадежно отстал.
— Почему он изменил фамилию?
— По наивности. В данном случае это излишняя предосторожность, согласен. Но ведь он только что вернулся из Мексики. Должно быть, воображал нивесть что. Когда находишься так далеко от своей страны, вероятно многое представляется в ложном свете.
— А почему он ухватился за банк?
— Опять-таки по наивности. Существует народное убеждение в духе «Часов досуга», что крупные дела вершатся в банках, как вкусный суп варится в старых горшках.
— Вряд ли это так, — сказал Марк. — У меня сложилось впечатление, что мы будем вкладывать большие капиталы в строительство.
— Возможно… Надеюсь, ты ничего не имеешь против?
— Ничего.
— Собственно говоря, тебя это совершенно не касается.
— Нисколько.
— Тем лучше, — сказал Морнан. — Впрочем, наверное, я не смог бы испытывать настоящей симпатии к человеку, который никогда не занимается тем, что его не касается.
Морнан крепко сжал Марку руку повыше кисти.
— Я очень привязан к тебе, дружище.
И Марк вдруг почувствовал себя очень одиноким.
Вот почему он не любил вспоминать этот вечер. Марк перестал тереть себя губкой (а тер он изо всех сил, до боли) и, расслабив все тело, наслаждался теплом и успокоительной полутьмой — он не стал зажигать свет в ванне, и лишь лампочка, горевшая в коридоре, слабо освещала ее. Он хотел было сразу выйти из ванны, но потом решил понежиться в воде еще минут пять. Марк чувствовал, как начинает исчезать его усталость и оцепенение, когда вдруг зазвонил телефон. Лежа в ванне, Марк всегда боялся, что телефонный звонок заставит его вылезти из воды. Но вспоминал он об этом всегда слишком поздно — ему никогда не приходило в голову заранее выключить телефон.
Он наскоро вытерся, накинул купальный халат, схватил сухое полотенце и, продолжая вытираться на ходу, побежал к телефону. В таких случаях его больше всего огорчали мокрые пятна на тахте и на креслах. Он очень дорожил своей мебелью, везде расставил пепельницы, а когда гости стряхивали пепел на пол, бесцеремонно совал их им под нос.
— Алло! — рявкнул он в трубку.
— Дорогой, — сказала Дениза, — может быть, это оттого, что я тогда еще толком не проснулась, но мне кажется, что я с тобой как-то не так говорила сегодня утром.
— Да нет, очень хорошо, — ответил Марк, — тебе это только кажется. Уверяю тебя, ты была просто великолепна.
— Не издевайся.
— Я вовсе не издеваюсь. Ты сказала именно то, что я хотел от тебя услышать.
Марк с самого начала их отношений знал, что Дениза всегда будет вести себя так, как ему хотелось бы, чтобы она себя вела. Однажды она ему сказала: «Мне кажется, что у нас с тобой что-то разладилось». Эти слова совпадали с тем, что он надеялся от нее услышать, настолько совпадали, что не раз по ночам в воображаемых разговорах с Денизой он их ей приписывал. Ему даже показалось, что он каким-то непонятным образом внушил ей эти слова. Ведь не мог же он ожидать, что она примет их разрыв с такой простотой.
— Нет, — возразила Дениза, — я не сказала тебе и половины того, что хотела. Ты же знаешь, что у меня много знакомых и в моей фирме и в других местах. Я бы могла поговорить с ними о тебе, если тебе придется уйти из банка. Хорошо, Марк?
— Нет, — ответил он.
Он видел себя в круглом зеркале, висящем над письменным столом. С полотенцем, наброшенным на голову, он походил Ha нокаутированного боксера. Он вспомнил фотографию боксера-негра, которую видел в какой-то газете: голова у него была вот так же покрыта полотенцем, а на лице, до того распухшем, что глаза почти совсем заплыли, было написано невыносимое отчаяние. Марк отвел взгляд от зеркала.
— Ты забыла мне об этом сказать или…
— Я забыла, — перебила его Дениза твердым голосом. — Надеюсь, ты мне веришь?
— Да.
— Я хотела это сделать, потому я тебе сейчас и позвонила.
— Понимаю, понимаю, — сказал он. — Для тебя это тяжелое испытание. Спасибо, что ты не поколебалась предложить мне помощь.
— Тебе нечего меня благодарить. Я вовсе не считаю это испытанием. Это просто-напросто жизнь. Мы здесь ни при чем, ни ты, ни я. Но ради бога, подумай о моем предложении.
— У меня будет для этого больше чем достаточно времени.
— Что ты теперь будешь делать?
— Не имею ни малейшего представления. Я избегаю задавать себе этот вопрос, и мне казалось, что ты это поняла.
— Да нет, сейчас, когда выйдешь из дому?
— Мне надо еще кое-кого повидать, прежде чем пойти в банк.
— Кого? Морнана?
— Да.
— Марк, остерегайся Морнана.
— В каком смысле?
— Возможно, он надежный человек и вообще прекрасный парень… Но ты ему всегда слишком доверял.
— Не думаешь ли ты, что, даже если ты права, теперь уже поздно об этом говорить?
— Этого я и боюсь, Марк… И еще вот что: ты читал последний номер «Банк д’Ожурдюи»? Если он у тебя под рукой, то тебе не мешает пробежать его перед уходом.
— Конечно, у меня его нет.
— Там на тебя нападают. Лично на тебя. Названо твое имя… Да и вся статья против тебя.
— Я знаю, — ответил Марк. — Это не имеет значения.
— И этот негодяй не осмелился подписать статью. Как ты думаешь, если бы я сейчас его убила, это могло бы сойти за убийство из ревности?
— Сомневаюсь.
— Марк… — прошептала она. — О Марк…
— Все будет в порядке, — сказал он и тихонько положил трубку.
У Марка теперь уже едва хватало времени на бритье. Тем не менее он тщательно побрился, не электрической бритвой, как обычно, а безопасной — все же получается чище. Затем он потратил еще пять минут на выбор рубашки и галстука. Марк надел темно-серый костюм, который не любил, потому что он был слишком торжественным, слишком «вы, надеюсь, понимаете, с кем имеете дело?», хотя он и шел ему. Работница забыла почистить его ботинки. Марку пришлось долго искать суконку. Он стал нервничать. Наконец, обувшись, он остановился перед зеркалом, все еще держа суконку в руке, и решил, что вполне похож на высокопоставленного чиновника. Впервые в жизни он нашел, что у него весьма респектабельный вид. Он понял, что уже достиг возраста, соответствующего его служебному положению.
Марк вышел на улицу в восемь часов утра. Ветер продолжал дуть, но — невероятная вещь — было почти жарко. Он предпочел бы, чтобы все это происходило в другое время года. Например, среди зимы, когда в четыре часа уже темнеет. А тут надвигался ласковый апрель… В Немуре, в саду, у изгороди, скоро зацветет сирень. Каково ему будет выносить этот запах сирени не только в субботний вечер и воскресенье, но в течение нескольких недель кряду, изо дня в день смотреть на распускающиеся почки, на стройные деревца на берегу Луена, на старый каменный мост, слушать утром и вечером звон колоколов в ожидании известий от Женера, от Денизы, от Морнана, от всех тех, кто будет за него хлопотать?
На авеню д’Орлеан уже образовался затор. Что бы ни случилось, Марк не уедет из Парижа. Он будет держаться за Париж. Он не хочет преждевременно удалиться на покой, не хочет стать этаким одиноким неудачником, образ которого он себе живо рисовал.
Он свернул налево, на улицу Алезиа.
— Вы очень честолюбивы? — спросил его как-то раз Женер в начале их знакомства.
— Как будто, — уклончиво ответил Марк. Он не знал, чего ждет от него Женер, должен ли он сказать «да» или «нет», какой ответ произведет наилучшее впечатление. Собственно говоря, тогда он мало что знал о себе, да и сейчас, пожалуй, знает немногим больше. Конечно, ему было бы приятно считать, что он слишком честолюбив для того, чтобы превратиться в одинокого неудачника. Но ведь свой характер знаешь только по тому представлению, которое сам себе о нем создаешь.
Марк остановил машину, вошел в подъезд, поднялся по узкой лестнице и позвонил в правую дверь на третьем этаже. Двое детей с радостными криками кинулись к нему.
— Вас ждет сюрприз! — сообщила девочка.
— Здравствуйте, господин Этьен, — сказала Полетта Дюран, на редкость хорошенькая женщина.
Вот уже восемь лет она была секретаршей Марка и казалась ему все такой же красивой, изящной, милой и предупредительной, как в первый день своего появления в банке. На столе, покрытом крахмальной скатертью, был сервирован праздничный завтрак: большой кофейник, свежие сливки, савойский пирог, поджаренный хлеб, масло и апельсиновое варенье.
— Бог ты мой! — воскликнул Марк. — Кого вы ждете?
— Да вас! — сказала девочка. — Все это для вас. Правда, хороший сюрприз?
— Чудесный!
— Почему же вы не садитесь? — спросила девочка.
— А вы любите апельсиновое варенье? — перебил ее мальчик.
Марк сказал, что он обожает апельсиновое варенье. Полетта протянула ему папку с бумагами. Он принялся их рассеянно перелистывать. Это были материалы, которые он перед отъездом в Немур попросил Полетту перепечатать. Наиболее важные для его защиты места были выделены красным шрифтом.
— Два или три слова я не смогла разобрать, — сказала Полетта. — Но я думаю, вам не трудно будет их восстановить.
— Конечно, — ответил Марк. — Я должен извиниться, что дал вам эту дополнительную работу.
— Да какая же это работа? Я сделала ее с радостью.
— Да, я знаю.
Он знал, что она многое сделала бы для него, что она всегда стояла на страже его интересов. Полетта пришла в банк по рекомендации одного друга Анри Ле Руа. Они с Марком сразу же понравились друг другу. Полетта приехала из Шартра вскоре после своего замужества. У нее сохранился еле уловимый босеронский акцент, но она уверяла, что все давно перестали бы его замечать, если бы Марк постоянно не высмеивал ее произношение.
Они часто смеялись и шутили. Полетта обладала подлинным даром имитатора и была способна дурачиться целое утро. Лучше всего она изображала Женера.
— Это потому, что он кроток, как ангел, — объясняла она. — Вы даже представить себе не можете, как легко перевоплотиться в ангела.
Слыша, как они хохочут за закрытой дверью кабинета, люди, наверно, воображали себе бог знает что.
Марк спросил Полетту, что она думает о подготовленном им материале. Она ответила не сразу. Он ожидал услышать от нее, что все изложено логично и ясно, но что это лишнее, так как его честность не может быть поставлена под сомнение. Впрочем, он и сам не придавал особого значения этим материалам.
— А что тут можно думать? — сказала она наконец. — Все, что здесь написано, правда.
— Было бы очень неприятно, — промолвил Марк, — если бы они вынудили меня себе во вред апеллировать к этой правде. Они твердят, что не сомневаются в моей честности. Но мне нечего противопоставить их нападкам, кроме моей честности. Вы не думаете, что в конце концов это может показаться подозрительным?
— Привет! — крикнул зычным голосом Раймон Дюран, выходя из ванной. — Как дела?
Он был в старом ярко-синем махровом халате. На спине красовались крупные белые буквы: «Рей Дюран». Под этим именем он выступал на ринге. Когда Раймон женился на Полетте, он начинал приобретать популярность. Затем сделался очень известен, особенно после смерти Сердана, потому что был, как считали знатоки, единственным во Франции боксером международного класса в среднем весе. В то время даже велись переговоры насчет его поездки за океан для встречи с Джеком Ламотта. Но поездка эта так и не состоялась. Разочаровавшись в боксе, Раймон возложил все свои надежды на кетч и весьма преуспевал в нем в течение двух сезонов. Но потом поругался со своим импрессарио. Тогда он пережил то, что Полетта называла «тяжелой депрессией». Он отравлял ей жизнь, во что бы то ни стало хотел завербоваться и уехать воевать в Корею. Полетта умоляла Марка отговорить мужа от этой затеи. Однажды вечером Марк вместе с Анри Ле Руа отправился к ним на улицу Алезиа. Рей встретил их поначалу враждебно. Потом разговор пошел в более спокойном тоне — о детях, о войне вообще и о войне в Корее.
— Черт возьми, вы хотите сказать, что эта война не имеет к нам никакого отношения? А что, война в Испании, по-вашему, имела? Однако сотни парней отправлялись туда добровольно. И если бы теперь речь шла об Испании, вы бы, наверное, сказали мне: «Валяй, Рей, из тебя выйдет герой…»
— При чем тут Испания? — перебил его Ле Руа.
— А вот при чем: я только и гожусь на то, чтобы драться. Если бы этот гнилой строй научил меня чему-нибудь другому, мне бы и в голову не пришло пойти защищать западную цивилизацию. Вот это я и хочу сказать. Господин Этьен, давайте начистоту, как мужчина с мужчиной, разве я не прав?
Марк не ответил. Он прекрасно понял, что Рей и не думает завербоваться, что все это пустые слова.
Рей налил себе большую чашку кофе и намазал шесть ломтей поджаренного хлеба: два маслом, два вареньем, два и маслом и вареньем. Смотреть, как он управляется за столом, было одно удовольствие.
— Так вы сегодня зададите жару всем этим господам из банка?
— Не знаю, — сказал Марк. — Не знаю, кто кому задаст жару.
— Главное, верить в успех. В этом все! Человек, который верит в успех, стоит троих, а то и четверых. Я верю в вашу победу. Я готов биться об заклад…
— Помолчал бы ты лучше, Рей, — сказала Полетта.
— Нет, я еще не кончил. Так вот, атаковать их надо сразу же. Не давать им опомниться. Вы должны нокаутировать их в первом же раунде, иначе они вас уложат.
— Согласен.
— Я вам говорю то, что чувствую, я привык говорить напрямик.
— Налить вам еще кофе?
— Нет, — ответил Марк, — мне пора идти. Я завезу ребят в школу, ладно?
Дети уже стояли одетые.
На улице по-прежнему дул ветер, но уже выглянуло бледное солнце. Марк высадил девочку у подъезда материнской школы[1]. Мальчик уже ходил в «настоящую» и очень этим гордился. Сидя в машине, он забавлялся тем, что опускал и поднимал стекло.
— У вас прекрасная машина, господин Этьен.
— Нет. Она старая.
— Это неважно. Я люблю и старые машины. Вот моя школа…
Мальчик коснулся губами щеки Марка. У него была круглая стриженая голова и круглые, черные, блестящие глаза.
— Все будет хорошо, господин Этьен, — проговорил он вдруг быстро и очень серьезно.
Марк оставил свою машину на бульваре Инвалидов и пешком дошел до авеню де Бретей. Старухи выходили из церкви Сен-Франсуа Ксавье. Как только они показывались в дверях, ветер едва не сбивал их с ног.
— Хау ду ю ду, Марк? Ну как? Кремень? Готовы к бою?.. Поглядите только, как он спокоен!.. Филь бы не был таким молодцом. Куда ему!.. Филу, Марк пришел! — выпалила одним духом Мари-Лор Морнан с обычной для нее аффектацией.
Марк давно уже понял, что эта аффектация порождена не столько манерой держаться, принятой в той среде, к которой принадлежала Мари-Лор, сколько искаженной до неузнаваемости и анахронической американоманией, ставшей модной после Освобождения и поддерживаемой теперь чтением великого множества американских романов.
— Здравствуй, поборник справедливости! Покажись-ка, рыцарь без страха и упрека! Как поживаешь? — раздался из столовой голос Филиппа Морнана.
— Очень хорошо, — ответил Марк.
— Садись, возьми грейпфрут.
На нем был халат из темно-розового кашемира. Он никогда не одевался, как все, но при его росте — метр девяносто один или девяносто два — и непропорционально длинных ногах некоторая эксцентричность в одежде ему скорее шла. Вообще Марк считал, что Филипп может разрешить себе многое такое, чего он, Марк, никогда бы себе не позволил.
— Возьми, возьми грейпфрут, старина! Тебе надо быть терпким, как тысячи грейпфрутов, чтобы тебя не так легко было съесть.
— Нет, — сказал Марк, — лучше налей мне что-нибудь покрепче.
— Виски?
— А рома у тебя нет?
— Это та гадость, из которой делают грог? — спросила Мари-Лор и воскликнула: — Фи, Марк! Как было в Немуре?
— Мрачно.
— Вы где-нибудь бывали? Встречались с людьми?
— Нет.
— Бедняжка!
— Ну, а как поживает банк? — спросил Марк.
— Здоров как бык. Я никогда еще не видел такого процветающего банка, — ответил Филипп.
Филипп был прекрасный юрист, обладавший исключительными, прямо-таки фантастическими знаниями. Можно было только диву даваться, как он успел их приобрести. Он уверял всех, что очень ленив, и никто этого не опровергал. Но он всегда мог ответить на любой вопрос. Он напоминал тех маньяков, знатоков истории Наполеона, которые, не задумываясь, назовут поименно семь потомков второго повара на острове Святой Елены, чтобы выиграть стиральную машину в радиовикторине.
Филипп Морнан поступил в банк вскоре после Марка. В то время они оба работали помощниками старика Марешо и были неразлучны. Их называли диоскурами и видели в них надежду банка. И Марк готов был поклясться, что Филипп не испытал никакой горечи, когда Женеру пришлось выбрать одного из них. К тому же несколько недель спустя Морнана назначили заведующим юридическим отделом. На такое назначение жаловаться не приходилось. Отдел Филиппа был расположен на шестом этаже, под самым чердаком, вдали от святая святых — правления банка, и поэтому вскоре Филипп взял привычку приходить на работу через день, и то лишь после обеда, а затем и через два дня — только просмотреть досье и подписать корреспонденцию. («Я никогда не пропускаю больше четырех дней кряду», — говорил он. Но ведь Марк не ходил его проверять.) Приход Драпье поначалу обеспокоил Филиппа, но он продолжал вести себя, как прежде. «Защищай мою голубятню, Марк. Любой ценой защищай, — говорил он Марку. — В конце концов ты здесь для того и сидишь, чтобы покрывать своих сотрудников». И никаких замечаний со стороны нового начальства Филипп не получил.
— На днях мы видели Денизу, — сказала Мари-Лор.
— Когда? — спросил Марк.
— На днях.
— Она мне ничего не сказала.
— Собственно говоря, я не вполне уверен, что мы ее действительно видели, — заметил Филипп.
— Ну как же, дорогой, ведь мы с ней повстречались у этих… ну, как их… Марк, а как поживает Дениза?
— Очень хорошо.
— Она такая красивая. Вы такая прелестная пара.
— Филипп, — сказал Марк, — ты занимался выкупом паевых вкладов предприятия Массип? Драпье тебе поручил вести эти переговоры? Тебе, да?
— Да. А что?
— Я хотел в этом удостовериться. Мне так и казалось, но ведь ты мне об этом не говорил.
— Я думал, ты это и так знаешь. Это не секрет. Все это знают.
— А тебя не удивило, что Драпье выбрал именно тебя?
— Послушай, дружище, вот что я тебе скажу: я же не виноват, что Драпье тебя невзлюбил. Он меня выбрал, потому что не захотел поручать этого дела тебе, хотя, не спорю, этим должен был бы заниматься ты. Он выбрал меня, но с тем же успехом мог бы выбрать любого другого, только не тебя.
— Все-таки меня это удивляет, — сказал Марк. — Он знает о наших с тобой отношениях. Если ему действительно хотелось, чтобы я не был в курсе этой операции, то он должен был остановить свой выбор на ком-то другом, тебе так не кажется?
— Осторожней на поворотах, Марк. Я не знаю, почему он выбрал меня. Решительно не знаю, просто понятия не имею. Но учти, я не допущу подобных намеков…
— Филь! — воскликнула Мари-Лор. — Филь, что ты? Вы же старые друзья и всегда шли рука об руку… У Марка и мысли такой не было! Ведь правда, Марк?
— Какой мысли?
— Мысли, что Филь как-то повинен в ваших…
— Нет, — сказал Марк. — Конечно, нет. Но, как вам известно, меня обвиняют в том, что я мошенничал в деле Массип.
— Нет, — сказал Филипп.
— Какой ужас! — воскликнула Мари-Лор.
— Нет! — повторил Филипп. — Нет, и еще раз нет! Никто тебя в этом не обвиняет. Какая муха тебя укусила? Никто никогда не ставил под сомнение твою честность. Ты же знаешь меня, дружище. Я клянусь тебе, что это так.
— Откуда тебе это известно? — спросил Марк.
— Известно, и все. Что ты хочешь доказать?
— Ничего. Я хочу, чтобы ты меня посвятил в дело Массип. Во все детали. С самого начала.
— Нет, — ответил Филипп и отодвинул свою тарелку. Он зажег папиросу и погасил зажженную спичку, воткнув ее в мясистую корку грейпфрута. Спичка зашипела. — Нет! — повторил он. — Я мог бы, конечно, сослаться на незыблемый для всех нас принцип неразглашения профессиональной тайны, но полагаю, что при наших отношениях это ни к чему.
— Совершенно ни к чему.
— Я мог бы также сказать тебе, что мне бы не очень хотелось, чтобы на заседании административного совета выяснилось, что ты располагаешь сведениями, которые ты мог получить только от меня.
— Да, этому я легко поверил бы.
— Но в действительности я руководствуюсь совсем иными…
— Я понимаю, — сказал Марк.
— Ты ничего не понимаешь! — перебил его Филипп. — Я руководствуюсь только твоими интересами. Я уверен, что на заседании совета о деле Массип речи не будет, и я бы потом всю жизнь жалел, что толкнул тебя на путь…
— Да, да. Именно это я и хотел сказать. Ты руководствуешься исключительно моими интересами. Мне остается только пожалеть, что у нас с тобой разное представление о моих интересах.
Филипп улыбнулся. Марк не любил этой улыбки. Он вдруг усомнился в том, любил ли он вообще когда-либо Морнана, и удивился, почему вот уже столько лет они упорно считают себя друзьями. Он вспомнил тот день (это было в самом начале их дружбы, весной сорок шестого года), когда они, с трудом собрав несколько тысяч франков, вдвоем отправились в шикарный ресторан на авеню Монтень. Это был роскошный ужин двух веселых холостяков, которые, казалось, нимало не стеснены в деньгах. Им подали форель, цыплят в сметанном соусе и «шамбертен». Они были тогда в наилучших отношениях и старались друг другу нравиться.
— Послушай, Марк, старина, — сказал Филипп. — Я обдумал твое положение, прикидывал и так и этак. Я тебя понимаю, и меня не удивляет твоя реакция… Но мне кажется, что ради твоей карьеры, ради твоего личного спокойствия тебе бы следовало быть посговорчивее.
— Не думаю.
— Не будь идиотом. Что ты станешь делать, если они тебя вышвырнут?
— Понятия не имею.
«Разве я мог быть сговорчивее? — думал Марк. — Разве Драпье не устраивал всегда так, что я не мог не протестовать, даже если бы ради моей карьеры и моего личного спокойствия я и захотел ползать перед ним на брюхе. Да, собственно говоря, Драпье и не желал, чтобы я ползал перед ним на брюхе».
Марк взглянул на Филиппа, который все еще улыбался своей застывшей улыбкой, и через силу тоже улыбнулся.
— Да, — сказал Филипп, — быть может, Драпье специально подстроил, чтобы ты… В самом ли деле он хотел, чтобы ты сдался?.. Я часто думал о том, что мы представляем в его глазах. Мы для него порождение сорок четвертого года, хотим мы того или нет. Просто потому, что большинство из нас действительно выдвинулось после Освобождения. Нам тогда повезло. Представился удобный случай, как сказал бы милейший Женер. Мы слишком быстро делали карьеру в те годы, когда ему, Драпье, хода не было. Понятно, что он нас ненавидит и хочет разделаться с нами! Помнишь ночь на берегу озера (ведь они и отпуск проводили вместе), когда ты мне сказал, что сделать своей профессией возню с деньгами не значит непременно запятнать себя, не значит стать людьми, которым нет места в порядочном обществе, при условии, что у нас хватит воли реабилитировать деньги. И как бы тихо мы тогда ни говорили, Драпье и ему подобные услышали нас, и поэтому они расправятся с нами поодиночке. После тебя настанет мой черед.
— Нет, — сказал Марк, — твой не настанет.
Когда Марк поставил свою машину во дворе банка, «сото» Драпье там еще не было. Декоративные растения в кадках, украшавшие вестибюль, день ото дня все больше желтели. Комендант здания как-то объяснил Марку, что они вскоре и вовсе засохнут. Марк считал, что заменять их новыми не следует. По его мнению, эти чахлые растения выглядели здесь глупо и претенциозно; они всегда были какими-то жалкими.
Чехлы с кресел еще не сняли. Марку так и не удалось добиться, чтобы по понедельникам это делали до десяти утра. По понедельникам вообще все шло кувырком. До полудня на всех этажах гудели пылесосы. Несколько раз Марк устраивал по этому поводу скандалы. Но, откровенно говоря, это было просто глупо с его стороны — ведь он отказывался оплачивать сверхурочную работу.
Выходя из лифта (это был старый гидравлический подъемник, который необходимо было срочно заменить; но когда Марк представил Драпье смету на эту работу, тот презрительно спросил, какую взятку он получил за это от фирмы подъемных сооружений «Ру-Комбалюзье»), Марк встретил Кристину Ламбер. На ней было облегающее фигуру платье из серого твида с большим белым бантом у ворота. Марк подумал, что далеко не все сочли бы ее красивой, и спросил себя, что, собственно, он сам нашел в ней, если не считать ног, восхитительных ног — длинных и полных. Однажды вечером, когда он ужинал с Денизой в ресторане на улице Пепиньер, где служащие банка были завсегдатаями, Кристина Ламбер села за соседний столик напротив Марка.
— Мне не нравится, как эта девица на тебя смотрела, — сказала ему потом Дениза. — Надеюсь, она работает не у тебя?
— Нет, — ответил Марк, — но я бы не возражал. Мне кажется даже, что это было бы приятно.
— Ты ошибаешься. Она вовсе не в твоем вкусе. И я заметила одну вещь, дорогой: мужчины делают глупости только до тех пор, пока не поймут, что женщина не очень красива, а всего лишь довольно красива.
— Я не нахожу ее очень красивой, — возразил Марк. — Но вот ноги… У нее такие ноги, о которых только могут мечтать фабриканты чулок для своей рекламы…
Он уже не помнил теперь, что ответила ему Дениза, но тогда подумал, что она говорит о точке зрения фабрикантов чулок так, будто это были марсиане.
Марк пожал руку Кристине Ламбер.
— Что, ваш патрон еще не приехал?
— Нет еще, — ответила она.
Марку показалось, что Кристина хотела что-то добавить, но не решилась.
При виде Марка служители вставали, здоровались с ним и провожали его взглядом.
Он повесил пальто в стенной шкаф. На нижней полке, среди старых папок с бумагами, валялась порожняя бутылка из-под шампанского. Она валялась здесь вот уже два года, с того самого дня, как Симон Бурге пришел сюда к Марку. Симон позвонил ему после обеденного перерыва.
— О Симон! Ты в Париже? Откуда ты звонишь?
— От швейцара. Говорят, такую большую шишку, как ты, нельзя беспокоить, не условившись заранее.
— Подымайся скорее ко мне!
— Ты уверен, что я могу тебя потревожить?
— Не болтай чепухи! Иди скорей, — ответил ему Марк, и вскоре Симон вошел в кабинет, сияя улыбкой, и прижимая к себе, как младенца, бутылку шампанского.
Они вместе воевали. Теперь Симон торговал на озере Чад лошадьми и чем придется. Он уже три дня как приехал в Париж. Сперва Марку показалось, что Симон хватил лишнего по случаю отпуска, но вскоре понял, что ошибся. Бурге всегда отличался неспокойным нравом. В тот день он был возбужден лишь немногим больше обычного. Он листал разложенные на столе папки с делами, поминутно требовал объяснений и вдруг сказал:
— Давай-ка смотаемся отсюда, здесь смердит!
Марк отлично знал цену искренности тех, кто упрекал его, что он запятнал себя грязной возней с деньгами. Большинство этих добродетельных моралистов продали бы себя задешево. Он как-то сказал, — он это прекрасно помнил: «Банкиры все равно что проститутки. Работа грязная, но необходимая». В ответ на упреки Марк всегда повторял эту фразу. Повторил он ее и на этот раз. Но Симон холодно взглянул на него и сказал:
— Ты тоже смердишь!
— Я пошутил, старик! — воскликнул Марк. — Я никогда не считал, что иду на компромисс со своей совестью.
И он объяснил Симону то, что уже объяснял как-то Морнану на берегу озера: он говорил о новом взгляде на финансы, о не зараженных коррупцией банках на службе народу (он сказал «на службе народу» или что-то в этом духе, чтобы упростить проблему), о стремлении реабилитировать деньги, но вдруг заметил, что с трудом подбирает слова. Он уже слегка забыл, что они для него значили прежде. Ему казалось, что он не изменился с тех пор. Но, быть может, и в самом деле нельзя думать одними и теми же словами на протяжении шести лет.
— Беги отсюда, Марк, — сказал Симон, — поедем со мной на Чад. Ты будешь вести мои бухгалтерские книги.
— А сколько ты мне будешь платить за это?
— Сколько платят счетоводу. Но имей в виду, мне нужен такой счетовод, который, складывая что угодно, всегда в итоге получал бы лошадей.
Вечер следующего дня они провели вместе. Бурге во что бы то ни стало хотел пойти в «Фоли-Бержер». Потом он напился. Он собирался провести в Париже целый месяц, но с того дня Марк его больше не видел.
Марк томился, сидя в своем кабинете. Было двадцать пять минут десятого, а заседание административного совета было назначено на десять. Марк приподнял занавеску на окне. Бульвар Усман казался сверху длинной черной траншеей; ветер, громыхая по крышам, сгонял дым, поднимавшийся из труб, к окнам верхних этажей. Марк попытался вообразить себе жизнь наподобие той, которую вел Симон Бурге: может, и ему куда лучше продавать лошадей на озере Чад, не сорить деньгами, сколачивать капиталец.
— А, вы уже пришли, — сказала Полетта, входя в кабинет с папкой в руках.
3
— Вам звонил господин Леньо-Ренге. Он просит, чтобы вы уделили ему несколько минут.
— Что ему надо?
— Он не сказал. Сообщить ему, что вы пришли?
— Нет.
— А если он снова позвонит, что ему сказать?
— Ладно, — сказал Марк, — позвоните ему.
Леньо-Ренге был человек незначительный, но происходил из очень хорошей семьи. Маленький, лысый, невзрачный, всегда в темном костюме, с галстуком, повязанным тугим узлом, он своим обликом и манерами напоминал чиновника с Ке д’Орсе. Но все в роду Леньо-Ренге испокон века занимались финансами. От отца к сыну переходила должность казначея в банке. Этот Леньо-Ренге начал карьеру помощником своего отца. А теперь его сын, который походил на него как две капли воды, был его помощником. На совещаниях начальников отделов Леньо-Ренге всегда присоединялся к мнению Марка, но никому и в голову не приходило подозревать его в подхалимстве, потому что его суждения всегда подкреплялись его собственной мотивировкой. Человек он был очень способный и гораздо более умный, чем казалось на первый взгляд. Но вид у него был какой-то виноватый и боязливый, он не ходил, а шмыгал, как мышь, словно старался остаться незамеченным, и это вызывало к нему некоторую антипатию. Леньо-Ренге робко постучал, приоткрыл дверь и юркнул в кабинет Марка. Всякий раз, когда он входил, Марку хотелось взять его за руки, чтобы ободрить его.
— Доброе утро, господин Этьен. Хорошо отдохнули?
— Спасибо, очень хорошо.
— У вас, кажется, есть именье в окрестностях Немура?
— Ну, именьем это не назовешь.
— Важно иметь хоть клочок земли в деревне. Мне лично очень нравится вся долина Луена. С недавних пор у меня вошло в привычку время от времени проводить уик-энд в Ферьере. Прекрасный уголок для отдыха и рыбной ловли.
— Что и говорить, — ответил Марк. — Садитесь, прошу вас.
Леньо-Ренге присел на краешек стула и потянул за завязки старой папки, с которой он никогда не расставался, так что можно было подумать, как говорил Морнан, что она служит ему и подушкой и подушечкой для сиденья.
— У меня здесь выписки из всех расчетов. Вы несколько раз не получали персональной надбавки. Так как сейчас конец месяца, я подумал, что вам можно выписать всю сумму сразу. Вот чек и расчет. Проверьте, пожалуйста.
— Погодите, господин Леньо, — сказал Марк. — Вы разрешите обратить ваше внимание на одно обстоятельство?
— Прошу вас.
— Сегодня только девятнадцатое число.
— Я знаю. Но ведь вы своевременно не получали надбавки, и я подумал, что проще всего будет выписать вам всю сумму одним чеком.
— Спешить некуда. С вашего разрешения мы вернемся к этому вопросу несколько позже.
Леньо-Ренге откашлялся.
— Простите меня, — сказал он. — Мне не хочется быть навязчивым, но вы меня весьма обяжете, если примете этот чек.
— Это что, приказ?
— Не мне вам приказывать.
— Вы действуете по указанию свыше? Вас попросили произвести со мной расчет?
— Что вы, господин Этьен, конечно, нет! Поверьте, я делаю это по собственному побуждению.
— Боюсь, — сказал Марк, — что нам придется объясниться с вами начистоту. Признаюсь, ваше усердие мне не по душе.
— О господин Этьен, — вздохнул Леньо-Ренге. — Я ждал от вас этого упрека. Я хорошо взвесил все, прежде чем пойти на этот шаг, и прекрасно понимал, что рискую вас обидеть. Но ведь никогда не знаешь заранее, к какому решению придет совет, и мысль о том, что тут есть свой риск, заставила меня в конце концов решиться побеспокоить вас.
— Какой риск?
— Не мне вам это объяснять. Но я думаю, что в данном случае спокойнее иметь чек в кармане до заседания совета, чем выхлопатывать его потом. Хотя я и не испытывал к господину Марешо такого уважения, как к вам, я тоже выписал ему чек заранее, и господину Марешо не пришлось об этом жалеть.
— Господин Марешо во всех случаях получил бы то, что ему причиталось.
— Сомневаюсь, господин Этьен.
Марк поднялся. Он хотел спросить Леньо-Ренге: «Разве можно сравнивать господина Женера с Драпье?» Но этот вопрос показался ему глупым и бестактным.
— Благодарю вас за ваше предложение, — сказал Марк, — но я не могу его принять.
— Весьма сожалею. Само собой разумеется, я буду хранить этот чек у себя до последней минуты.
— Благодарю вас, Леньо, — сказал Марк, пожимая ему руку.
Леньо-Ренге едва заметно улыбнулся. Казалось, он был рад отказу Марка. У него был своего рода культ честности, и он нуждался в таких же кристально честных людях, с которыми мог бы, как с сообщниками, обменяться неприметными для других знаками взаимного понимания.
Потом в кабинет Марка вошел Анри Ле Руа.
Обычно Ле Руа не использовал полностью своего летнего отпуска, чтобы иметь возможность провести в конце марта дней десять в Шамониксе или в Руссе. Он обожал ходить на лыжах ранней весной. Вдруг Марк задумался над тем, почему Анри до сих пор не заявил о своем намерении уехать в горы, чего он ждет и в самом ли деле он чего-то ждет? Марку захотелось со всей откровенностью задать ему этот вопрос. Он был по-настоящему привязан к Анри.
— Садись-ка, — сказал Марк. — Вот что я подумал: сегодня я выступаю в качестве обвиняемого. Поэтому я не смогу выполнять свои обязанности на заседании совета. Тебе придется меня заменить.
Собственно говоря, Марк терпеть не мог все эти околичности. Он встречал людей более блестящих и даже более умных, чем Ле Руа. Но он не знал человека, который был бы ему так по душе. Хотя Марк был всего на год старше Анри, но относился к нему, как к юноше, которому надо еще многому научиться. Он до сих пор помнил фразу, которую ему пришлось сказать, чтобы убедить Женера назначить Анри помощником генерального секретаря: «Я отвечаю за Ле Руа, я полностью отвечаю за него». Марк чувствовал себя очень связанным всем тем, что сделал для Анри.
— Ты хочешь сказать, что я должен присутствовать на этом представлении?
— Непременно. Это предусмотрено уставом банка.
— Только в случае твоего отсутствия. А ведь ты будешь присутствовать.
— Полетта, — сказал Марк, — принесите, пожалуйста, господину Ле Руа папку для протокола.
— Сейчас, господин Этьен.
— Надеюсь, — снова обратился он к Ле Руа, — ты ничего не имеешь против?
— Нет, но я боюсь сделать какой-нибудь ляпсус.
— Не бойся. Все будет в порядке.
— Ты мне поможешь?
— Постараюсь.
— Хорошо.
— Спасибо, — сказал Марк. — По правде говоря, я боялся, что ты не захочешь присутствовать при этом сведении счетов, чтобы не уменьшить свои шансы.
— Какие шансы? Что ты мелешь?
— Предстоит отчаянная грызня. Тот, кто все это услышит, будет слишком много знать. Я должен предупредить тебя, что это может тебе повредить.
— Плевать мне на это! Если ты думаешь, что я пытаюсь занять твое место, ты ошибаешься!
— Нет, этого я не думаю. Но если они вышвырнут меня вон — а на девяносто девять процентов это предрешено, — то было бы естественно назначить тебя на мое место.
— Я на это надеюсь, — сказал Ле Руа.
Он сморщил свой короткий нос, отчего его очки комично поднялись к бровям. Потом покраснел. Он всегда краснел с опозданием на несколько секунд, но зато до ушей.
— А что ж! У меня трое ребят. Чудак ты! Я бы ни перед чем не остановился, чтобы тебя защитить. Я бы пошел на все, лишь бы помешать им с тобой расправиться, но если они все-таки это сделают, если они посмеют это сделать, то почему бы не мне занять твое место?
— Мне нравится, как ты говоришь, — сказал Марк.
— Я с тобой всегда говорю напрямик, ты же знаешь.
— Если бы Драпье сделал тебе такое предложение, ты бы рассказал мне об этом?
— Не знаю. Думаю, что да.
— Я тоже так думаю, — сказал Марк. — Как поживает Элен?
— Очень хорошо.
— А дети?
— Тоже, спасибо. Элен хочет, чтобы ты пришел к нам пообедать на этих днях.
— С удовольствием. Передай ей привет.
После ухода своего помощника Марк сел за стол и закрыл лицо руками, пытаясь ни о чем не думать. Но было нечто такое, чего он не мог изгнать из памяти: устремленный на него взгляд Драпье, полный свирепой ненависти.
Было бы даже успокоительно считать Драпье сумасшедшим, ибо эта ненависть была необъяснима.
Сперва, не понимая, как можно до такой степени ненавидеть человека, который не сделал вам ничего худого, с которым вы только что столкнулись, Марк был готов подумать, что Драпье принимает его за кого-то другого. Потом он предположил, что Драпье просто-напросто человеконенавистник. Но новый председатель банка вел себя корректно (нельзя сказать, любезно, потому что любезность была совершенно чужда его характеру, и, казалось, он даже не имел о ней ни малейшего представления) с большинством людей, которые его окружали. «Значит, — решил Марк, — он ненавидит не меня лично, а то, что стоит за мной».
По правде говоря, эта мысль пришла ему в голову сразу. Но он отверг ее, считая слишком абстрактной. Он не верил, что Драпье берет реванш, или, вернее, не верил, что в наше время человеком может овладеть столь страстное и неугасимое желание реванша. «Мой ранний успех был вызван теми же причинами, что и его падение. Значит, дело не во мне, а в том, что стоит за мной. Драпье проклял меня еще до того, как увидел». Но и это объяснение не вполне удовлетворяло Марка. Прежде всего трудно предположить, что можно с такой одержимостью ненавидеть символ. В таких случаях человеку вредят незаметно, чтобы не давать ему повода жаловаться на несправедливость. В банке, слава богу, это вовсе нетрудно. С другой стороны, Марк не думал, что Драпье настолько умен, чтобы возвыситься до общих идей, а тем более до символики.
Пытаясь проникнуть в психологию Драпье, Марк всякий раз наталкивался на глухую стену. Есть люди, которые руководствуются такими темными побуждениями, что в них невозможно усмотреть ни проблеска логики.
Таким образом, Марк находил только одно объяснение: Драпье ненавидел его инстинктивно, как сознательно ненавидел бы воплощение всего ненавистного ему. Но от такого объяснения Марку было не легче. По-прежнему читал он в глазах Драпье лютую ненависть, по-прежнему почти физически ощущал ее, сталкиваясь с ним в коридоре.
Невозможно было даже предположить, что она порождена предвзятым мнением. Марк уже больше не думал: «Знай он меня лучше, он не стал бы меня ненавидеть или, во всяком случае, так ненавидеть». Марк научился смотреть на враждебность Драпье как на непреложный факт, который никто и ничто не может изменить.
Марк даже придумал целую историю, как бы иллюстрирующую отношение Драпье к нему: Драпье грозит смертельная опасность, Марк спасает Драпье, но тот по-прежнему его ненавидит.
Это была поистине иррациональная ненависть. И в этом смысле даже не ненависть. Так ревнует от природы ревнивая женщина — без всяких оснований, вопреки рассудку. Что тут поделаешь? Все доводы тщетны. Было ясно, что откровенное объяснение, о котором Марк вначале помышлял, ни к чему бы не привело. Драпье не отдавал себе отчета в причинах своего отношения к Марку, да и не доискивался никаких причин. Просто при виде Марка он выходил из себя. В промежутках между их встречами Драпье, быть может, и забывал о нем. Но стоило только им вновь встретиться, как ненависть вспыхивала с прежней силой. Он отворачивался, делая вид, что смотрит в другую сторону, что не узнает Марка (случалось даже, что он резко поворачивал назад, — настоящее бегство), словно вид Марка, служащего в банке, Марка, разгуливающего на свободе, был ему невыносим.
Марк терялся во всем этом. Их отношения выражались лишь во взглядах, в жестах. Инцидентов между ними почти никогда не было.
Так как у Марка не хватило духа рассказать Женеру, какие последствия имел его визит в ноябре, старик снова появился в банке.
Три недели тому назад Женер вошел в кабинет к Марку. Это был его первый выход на улицу после февральских морозов.
— Вот видите, первый же визит — к вам! — сказал он.
— Ко мне или в банк?
— И то и другое, — ответил Женер. Вскоре он ушел.
Не прошло и часа, как приехал Драпье и немедленно вызвал Марка. Потом уже Марк выяснил у телефонисток, что никто из служащих банка за это время Драпье не звонил. Следовательно, доносчик должен был выйти из банка. Но Кристина Ламбер ни на минуту не покидала своего кабинета, даже Шав не мог этого отрицать.
Когда Марк вошел в приемную Драпье, Кристина сидела за своим столом у окна и меняла ленту в пишущей машинке. Он пристально взглянул на нее, думая, что она отведет глаза, но Кристина посмотрела на него открыто, с выражением глубокой печали.
— Господин Этьен, вы ознакомились с моим приказом от семнадцатого ноября? — спросил Драпье.
— Да.
— Я полагаю, вы понимаете, что я намерен вам сказать?
— Нет. Не вполне.
— Мне надоело, что Женер околачивается в банке.
— В таком случае вы сами должны были бы ему об этом сказать.
— Известно ли вам, что я запретил принимать в банке частных посетителей? Отвечайте: да или нет?
— Я не считаю господина Женера частным посетителем. Бывший председатель административного совета может прийти в банк, когда ему заблагорассудится. Такова традиция, и я не представляю себе, как…
— Замолчите! Плевать я хотел на традиции. Мне осточертела ваша проклятая шайка!
— И я не представляю себе, — повторил Марк спокойным тоном, — как я мог бы сказать господину Женеру…
— Я приказал вам молчать!
— Позвольте все же спросить вас: что вы подразумеваете под «проклятой шайкой»?
— Здесь я задаю вопросы. Сколько вы у нас получаете?
— Вы это сами прекрасно знаете.
— А сколько вам платит Женер за то, чтобы вы шпионили за мной?
— Я считаю совершенно бесполезным продолжать этот разговор, — сказал Марк, вставая.
— Нет, садитесь. Садитесь, черт побери! Мне еще многое надо вам сказать.
— Боюсь, что вам это не удастся. Я не привык выслушивать оскорблений.
— Привыкли вы там или не привыкли, а вам придется меня выслушать. Я утверждаю, что вы шпион. Вы продаете сведения Женеру, Дандело, Мабори и…
— И папе римскому. Да, господин Драпье, вы правы.
— Не прикидывайтесь, я отлично знаю, на кого вы работаете.
«Я не подам в отставку, — подумал Марк, — как бы далеко он ни зашел, я не подам в отставку». Спокойно подняв глаза на Драпье (вот тогда-то он и прочел в его взгляде ненависть — не раздражение, порожденное спором, а давнее, неодолимое чувство), Марк спросил:
— Это все, что вы хотели мне сказать?
— Я хотел бы, чтобы вы разъяснили вашу позицию в деле предприятия Массип.
— По этому поводу мне нечего сказать. Поскольку совет вынес решение о выкупе паевых вкладов, меня этот вопрос больше не касается.
— Значит, вы одобрили эту операцию?
— Нет. Я никогда не одобрял этой операции.
— По каким мотивам?
— Я считаю, что подобная операция не укладывается в рамки нормальной деятельности банка.
— Уточните, что вы имеете в виду, говоря «подобная операция».
— Выкуп паевых вкладов строительного предприятия, которое стоит на пороге банкротства.
— Вам, вероятно, известно, что я занимался раньше строительным делом. Вы на это намекаете?
— Ваше прошлое мне совершенно безразлично.
— Что-то непохоже! Значит, ваша позиция была продиктована общими соображениями?
— Какая позиция? Я не занял никакой позиции.
— Вы что, может, не ставили нам палки в колеса?
— Нет.
— Замолчите! Вы лжете! Вы всеми силами противились этой операции. И хотите, я вам скажу, почему? Вам заплатили. Я могу доказать, что вы получили изрядный куш от перекупщиков.
— Кому доказать?
— Вас это не касается!
— Нет, касается, — сказал Марк. — Это очень важно. Если я вас правильно понял, вы обвиняете меня в шпионаже и мошенничестве. Вы беретесь это доказать административному совету?
— Я не нуждаюсь в совете, чтобы вышвырнуть вас вон.
— По-видимому, вы не нуждаетесь для этого и в моем заявлении об отставке?
— Нисколько!
— В таком случае я должен вас предупредить, что не намерен подавать этого заявления.
— А мне на это плевать. Я вышвырну вас за дверь, как только мне заблагорассудится.
— Сомневаюсь, — сказал Марк.
Марк закурил и прошел в маленький кабинет, где обычно работала Полетта. Прежде эта комнатка была прихожей. Полетта перешла туда, чтобы им обоим было спокойней работать. Это оказалось очень удобным, чтобы ограждать Марка от ненужных посетителей.
— Вы, надеюсь, печатали в одном экземпляре? — спросил он.
— Что?
— Материалы, которые я вам дал.
— Ну конечно!
— Очень хорошо. Позвоните, пожалуйста, служителю административного совета. Попросите его сообщить мне, когда все соберутся.
Вернувшись к себе, Марк попытался перечитать материалы, которые он подготовил для своей защиты. Три страницы были посвящены его отношениям с господином Женером, четыре — делу Массип. Но Марка предупредили, что ему не придется защищаться. Когда он против воли Драпье добился созыва административного совета, ему сказали: «Само собой разумеется, ваша честность не будет поставлена под вопрос». Все в банке говорили: «Честность господина Этьена не подвергается сомнению». Дело представлялось как конфликт между председателем банка и генеральным секретарем. Конфликт, вызванный несходством характеров, без конкретных обвинений.
Марк прекрасно понимал этот маневр. Он не раз наблюдал, как совет объединяется против резкого выступления, приглушает его, сводит на нет, так что от него не остается и воспоминания. Так фагоциты поглощают и переваривают инородные тела и бактерии. Раз десять, а то и двадцать кто-нибудь из членов совета — и вовсе не обязательно противник Марка — скажет ему вкрадчивым тоном, с едва уловимым упреком:
— Полно, дорогой друг, я уверен, что это выражение отнюдь не соответствует вашей мысли.
И всякий раз Марку придется отвечать:
— Нет, я сказал то, что хотел сказать. Я думаю именно так и никому не позволю произвольно истолковывать мои слова.
Марк будет повторять эту фразу упорно, убежденно, повышая тон. Ведь главное — произвести шум. Совет подобен сказочной стране, где нет эха. Иногда там даже не слышишь собственного голоса.
Они не хотели, чтобы он защищался. Они хотели, чтобы все прошло как можно более пристойно, к максимальной выгоде для обеих сторон. Никто никого не будет обвинять. Развод без скандала — залог новых браков.
Марк перелистал до конца свои заметки. Он продумал все еще в Немуре, но теперь яснее, чем когда-либо, понял, что ему придется яростно нападать, чтобы получить возможность защищаться. В комнате Полетты зазвонил телефон. Он услышал, как она что-то сказала в трубку, и по шуму отодвигаемого стула понял, что она встала. Но сам он еще продолжал сидеть. Он испытывал лишь легкое облегчение, хотя думал, что очень обрадуется. «А ведь, собственно говоря, я должен бы быть счастлив, что это томительное ожидание, наконец, кончилось». На улице было так пасмурно, что Марк едва различал балкон дома напротив и медную табличку на дверях частного сыщика — только это он и видел в течение десяти лет из окна своего кабинета.
— Господин Этьен…
— Хорошо, — сказал он, — я иду.
— Нет. Это звонил господин Брюннер. Он хочет повидать вас до заседания совета. Он ждет вас в комнате номер пятьдесят четыре.
— A-а… Хорошо.
И Марк несколько растерянно посмотрел на Полетту.
Оранжевая с синим «сото» въехала во двор. Машина была не последнего выпуска, и, по-видимому, за ней плохо следили. Должно быть, она долго ходила по плохим дорогам. «Сото» остановилась на желтом прямоугольнике, который Драпье приказал нарисовать на асфальте там, где он ставит машину. Женеру это никогда не пришло бы в голову. Человек старого закала, он не хотел, чтобы другие стесняли себя ради него. Во всяком случае, он старался все делать так, чтобы ни у кого не создалось такого впечатления.
Драпье захлопнул дверцу. Марк был очень удивлен, узнав, что Драпье скоро исполнится шестьдесят три года. На вид ему можно было дать не больше пятидесяти. Это был высокий, грузный мужчина с резкими жестами и с румянцем во всю щеку, как у деревенского здоровяка. Держался он всегда прямо, втянув живот и выпятив грудь, как человек, которому надо поддерживать репутацию силача. «Репутацию мексиканца», — подумал Марк. Драпье хотел, чтобы все знали, что он приехал из Мексики. Он всерьез считал, что это поднимает его престиж. Но было также ясно, что он придавал непомерно большое значение физической силе. Есть такие фанатики бицепсов. Драпье носил костюмы в обтяжку, чтобы видна была ширина плеч и игра мускулов. Стригся он очень коротко, ежиком, и подбривал затылок.
Поднявшись по широким ступеням к подъезду банка, Драпье вдруг резко обернулся.
Марк отошел от окна. Он вышел из кабинета, пересек коридор и постучал в дверь пятьдесят четвертой комнаты. Господин Брюннер сидел в кресле. Он приходил в банк только в дни заседаний административного совета и, кокетства ради, вел себя так, словно был в гостях. Марк не помнил, чтобы он когда-либо сидел за письменным столом. Господин Брюннер сидел, положив ногу на ногу и скрестив руки. На коленях у него лежал последний номер газеты «Банк д’Ожурдюи». Он никогда ничего не делал, поджидая кого-нибудь, он просто ждал. Именно это так раздражало вас, когда вы приходили к нему.
— Здравствуйте, Марк, — сказал господин Брюннер.
Брюннер был кузеном Женера. Только этим Марк мог объяснить то, что Брюннер назвал его «Марк». Правда, это была достаточная причина, потому что Брюннер во всем поступал, как его кузен. «И я тоже, — подумал Марк. — Я принадлежу к клану Женера, хочу я этого или нет. Я их человек с тех пор, как они стали называть меня по имени». Посторонние люди тоже так думали. Марк неоднократно убеждался в том, что в нем видят полномочного представителя группы Женера, думают, что он выступает от имени всей группы. К тому же господин Женер относился к нему так по-отечески, что Марк стал считать его чем-то вроде дяди. Предки Брюннеров и Женеров приехали из Австрии так давно, что память об этом событии уже стерлась. Они не могли бы объяснить, по какой линии приходятся друг другу кузенами. Видимо, все их родство в конечном счете сводилось к австрийскому происхождению и протестантскому вероисповеданию. «Трудно сказать, в самом ли деле мы родственники, — говорил господин Женер. — Да это и не важно. Важно, чтобы все считали, что мы одной крови». Поэтому стоило одному из них войти в какой-нибудь комитет, как тотчас и другой занимал в нем место. Во всяком случае, так все предполагали. А это, по сути дела, было то же самое. Марк помнил, что несколько операций удались Женеру только потому, что его считали влиятельным в некоторых акционерных обществах, в которых Брюннер был членом правления.
Нельзя сказать, что господин Брюннер был яркой личностью. Это был человек маленького роста, с лицом, напоминавшим сжатый кулак, с бесгубым ртом и острой клинообразной бородкой. Он одевался у того же портного, что и Женер, но так и не постиг, что полосатая рубашка требует гладкого галстука. В тридцатых годах он некоторое время был членом парижского муниципалитета и с той поры сохранил пристрастие к высокопарному слогу и к так называемым «конфиденциальным разговорам», когда собеседники шепчутся, стоя нос к носу и держа друг друга за пуговицу пиджака. По мнению Марка, Брюннер не имел представления о многом таком, что было известно Женеру чуть ли не с колыбели, и это относилось не только к выбору галстука.
— Вы меня звали?..
Господин Брюннер привстал и протянул руку Марку.
— По этому поводу? — спросил Марк, указав на газету «Банк д’Ожурдюи».
— Да, мой добрый друг, и по этому поводу. Боюсь, что сегодня у нас будет нелегкий денек. Но успокойтесь, нам случалось выпутываться и из более тяжелых положений. Вы, надеюсь, понимаете, что, нападая на вас, хотят нанести удар нам?
— Не знаю, — сказал Марк, — откровенно говоря, не знаю.
— Дитя!
Брюннер часто называл Марка «дитя» (это была одна из тех фамильярностей, которые он себе позволял, чтобы быть с Марком также накоротке, как Женер, хотя как раз Женер никогда не обращался с Марком так фамильярно). Это раздражало Марка.
— Я вас слушаю, — сказал Марк. — Что вы хотите спросить?
Брюннер знаком показал Марку, чтобы тот подошел к нему и сел рядом с ним, совсем рядом, а затем спросил тихим голосом, почти шепотом:
— Марк, вам знаком некий Эдуард Морель?
— Да. Мы вместе учились на экономическом факультете.
— Вместе учились?
— Да. А почему вы спрашиваете?
— И вы были в хороших отношениях?
— Да, в довольно хороших.
— Вы и сейчас с ним встречаетесь?
— Нет.
— А известно ли вам, что он коммунист, что в январе он избран депутатом парламента и слывет уж — не знаю, справедливо это или нет, — хорошим специалистом в финансовых вопросах…
— Я знаю, — перебил его Марк. — Ну и что?
— Утверждают, что вы и сейчас с ним встречаетесь.
— Кто утверждает? Этот листок?
— Да. Здесь написано, что по субботам вы вместе обедаете.
С минуту Марк молчал. Ведь и в самом деле он недавно повстречал Мореля. Случайно. На улице. Это было, насколько он помнит, в конце января. Марк поздравил Мореля с избранием в парламент.
«Все еще работаешь с Женером?» — спросил его Морель. «Нет». — «А с кем же?» — «С Драпье». — «Поздравляю, — усмехнулся Морель. — Превосходный человек!» — «Сперва я не знал…» — «Чего не знал? — перебил Марка Морель. — Не огорчайся, старик, один другого стоит. Женер и Драпье — два сапога — пара. Когда они тебя выставят, приходи ко мне. Я тебе обрисую этих типов». — «Ладно! Но обойдусь без портрета. Я предпочитаю видеть их в натуре», — сказал Марк, и они расстались.
Марк решил, что этот разговор не касается Брюннера.
— Я обедаю с Морелем не только по субботам, но и по понедельникам и вторникам, а иногда и по четвергам. Это я его информирую. Я сообщаю ему самые ценные сведения, которыми располагаю. Именно поэтому он и слывет хорошим специалистом. К тому же я пишу тексты всех его парламентских речей. И, быть может, вам будет любопытно узнать, что я присутствую на всех заседаниях Центрального Комитета партии в качестве эксперта по вопросам финансов…
— Бросьте, бросьте, — сказал господин Брюннер. — Чего вы лезете в бутылку? Мы же с вами прекрасно знаем, на что способны эти господа, чтобы вам повредить.
— Если вы это знаете, зачем вы читаете их гнусный листок? Почему вы считаете необходимым задавать мне эти вопросы?
— Я хотел лишь убедиться в том, что вы не встречались недавно с Морелем.
— Разве вы не понимаете, господин Брюннер, что именно в этом я вас и упрекаю.
Брюннер придал своему лицу самое добродушное выражение.
— Меня, Марк? — переспросил он мягко. — Меня?
— Это господин Женер поручил вам спросить меня о Мореле?
— Нет, это я вас спрашиваю. Видите ли, Марк, я хорошо все обдумал. Было бы очень глупо дать им возможность первым поднять этот щекотливый вопрос.
— Будьте спокойны: они этого не сделают.
— Я хотел бы быть в этом так же уверен, как и вы. Но не боитесь ли вы…
— Нет, не боюсь, напротив, я надеюсь на это.
— Вы с ума сошли!
— Я и сам так думал. Я так думал еще минут пять назад, но теперь я знаю, что не сошел с ума.
— Так, значит, вы хотите скандала? Я вас предупреждаю, что господин Женер не потерпит, чтобы вы валяли дурака.
— Мне это совершенно безразлично. Ведь меня, а не господина Женера обвиняют в передаче сведений Морелю.
— Но Женер и вы — это одно и то же.
— Нет.
— Целятся ведь в него. Кто вы такой? Что вы собой представляете?
— Ничего, — сказал Марк. — Это правда. Но можете ли вы понять, что иногда чувствуешь себя счастливым оттого, что ты никто, счастливым и свободным?..
Брюннер снисходительно улыбнулся.
— Пытаюсь себе это представить.
— Боюсь, что вы на это неспособны.
— По-вашему, видимо, я вообще мало на что способен. В сущности, вы никогда меня особенно не жаловали. Но это в конце концов не имеет значения. Вы меня плохо знаете… Очень плохо… Но я заклинаю вас…
В дверь постучали. Это был служитель, который сообщил, что заседание совета начинается, Марк встал.
— Одну минутку! — прошептал Брюннер. — Я вас торжественно заклинаю: не горячитесь! Пусть они первыми раскроют свои карты. Не нападайте на них. Если вы окажетесь в трудном положении, дайте мне знак, я потребую устроить перерыв. Мы с вами посовещаемся и вместе решим, что делать. Договорились?
Марк не ответил.
— Значит, договорились? — спросил Брюннер.
— Пойдемте, — сказал Марк.
— Извините, мне придется немного задержаться. Я сейчас приду.
— Понятно, — сказал Марк. — Вам нежелательно явиться туда вместе со мной.
— Напрасно вы нервничаете! — с упреком сказал Брюннер.
В лифте, поднимаясь в зал заседаний совета, Марк встретился с Ле Руа.
— Где ты сегодня обедаешь? — спросил Ле Руа.
— У Женера.
— А вечером ты будешь свободен?
— Нет, не думаю.
— Знаешь, кого прочат на твое место?
— Нет.
— Какого-то Флежье.
— Первый раз слышу это имя.
— Скорей всего какой-нибудь мексиканец.
— Наверно. Я огорчен за тебя.
— Пустяки. Это не имеет значения. Да я об этом всерьез и не думал. Даже если бы они мне предложили это место, я бы отказался. Конечно, мне это было бы нелегко, но все же, мне кажется, я нашел бы в себе силы отказаться.
— Ты сам не знаешь, что хочешь, — сказал Марк.
Ле Руа дрожащими пальцами коснулся руки Марка, как бы не решаясь ее пожать, и от этого робкого прикосновения Марку стало как-то не по себе. «Ну? — сказал он. — Ты пожмешь мне, наконец, руку или нет?» Ле Руа ответил нервным смешком, который Марк и ожидал услышать.
— Мне стыдно, Марк. Постарайся забыть то, что я сказал, когда был у тебя. Ведь в конце концов ты будешь драться и за нас…
— За кого — за вас?
— Ну, как бы сказать…
Лифт остановился. Марк распахнул дверцы.
— Ступай вперед, — сказал он.
— Почему?
На другом конце коридора суетились служители, как это обычно бывало в дни заседаний совета. Марк заметил, что из зала вынесли зеленые растения. Кадки стояли вдоль стен на расстоянии пяти-шести метров одна от другой.
— Ступай вперед, — повторил Марк.
Марк медленно пошел по красной ковровой дорожке мимо кадок с декоративными растениями. Он ответил на приветствия служителей, стоящих у дверей, и вошел в просторный зал с лепным потолком. Марк вспомнил, с каким волнением он впервые переступил порог этого зала. Он вспомнил также, как господин Женер поддержал его в тот день, представляя собравшимся.
— Вот господин Этьен, господа. Он впервые присутствует на заседании совета. Вполне понятно, что он волнуется и рассчитывает на ваше снисхождение.
— О, — ответил ему хор голосов, — он недолго будет нуждаться в нашем снисхождении.
— Да, не очень долго, — сказал господин Женер, — нам повезло. По-моему, господин Этьен для нас просто находка.
Марк сел на свое место, спиной к камину. Прежде, при Женере, камин топили дровами перед каждым советом. В ожидании начала заседания все обычно толпились возле него, протягивали руки к огню, болтали. Можно было подумать, что все это происходит в прошлом веке. И от этого потом в деловых спорах сохранялся все тот же обходительно-вежливый, чуть старомодный тон. Это была хотя и пустяковая, а все же удачно найденная деталь. Но в этот день в камине не потрескивали дрова, а только листовое железо внутренней облицовки от ветра стучало о кирпич. Несмотря на гул голосов, Марк четко слышал за спиной этот сухой стук.
— Не волнуйтесь, дорогой Этьен, — шепнул на ухо Марку господин Оэттли, — мы не намерены раздувать это дело.
У Оэттли было постное выражение лица и слегка отвислая челюсть. Он жил неподалеку от банка и заходил сюда по-соседски. От него пахло жасмином.
Ле Руа с угрюмым видом сидел в углу.
Брюннер быстро вошел в зал. Ссутулившись, он сел на свое место, ни на кого не взглянув. Было ясно, что он один представляет всю оппозицию.
Драпье прервал разговор с Ласери и Ласко, подошел к «П»-образному столу и, засунув руки в карманы, сказал:
— Господин Брюннер, я, кажется, предупредил всех, что заседание совета начнется в десять. Сейчас уже семь минут одиннадцатого.
Затем он приказал служителям закрыть двери зала.
4
Понедельник, 19 марта.
Заседание открывается в 10 часов 10 минут под председательством господина Эрнеста Драпье, председателя административного совета.
Протокол предыдущего заседания утверждается.
Поскольку господин Этьен в силу сложившихся обстоятельств не может вести протокол, это поручается господину Ле Руа, помощнику генерального секретаря.
Председатель напоминает повестку дня. Он просит отметить тот факт, что совет собрался сегодня не по его инициативе. Он не назначал этого заседания. Собрать совет предложил господин Этьен, и его просьба нашла поддержку у некоторых членов совета. Сам он согласился на это лишь из уважения к тем своим коллегам, которых ввел в заблуждение господин Этьен.
Господин Дус. Слова «ввел в заблуждение» мне представляются крайне неудачными.
Председатель. Я употребляю те слова, какие нахожу нужным. Разве господа Брюннер, Дус и Сопен не приходили ко мне в кабинет, чтобы…
Господин Дус. Мы этого не отрицаем. Мы просим только, чтобы вы взяли обратно слова «ввел в заблуждение».
Председатель. Если вы намерены и впредь прерывать меня, я буду вынужден призвать вас к порядку.
Господин Брюннер замечает, что «призывать к порядку» не в традициях совета, где до сих пор каждый мог свободно выражать свое мнение.
Председатель заявляет, что он будет вести заседание так, как считает нужным. Он не отказывается от слов «ввел в заблуждение». Не он инициатор сегодняшнего заседания, и он просит совет принять это к сведению.
Совет принимает к сведению заявление председателя.
Председатель. В этих условиях я слагаю с себя всякую ответственность за дальнейший ход обсуждения. Спор такого рода беспрецедентен. Я даже не представляю себе, как его можно вести. Я жду предложений от господ Дуса, Брюннера и Сопена.
Господин Брюннер считает возможным заявить от своего имени и от имени своих коллег, что обсуждаемый вопрос весьма прост. Речь идет о том, чтобы найти почву для взаимопонимания между председателем и генеральным секретарем.
Председатель. Это невозможно. Я вас предупреждаю, что это невозможно.
Господин Оэттли. Тогда нам не о чем и говорить.
Председатель. Прошу заметить, что я его за язык не тянул.
Господин Брюннер был бы очень признателен, если бы ему предоставили возможность высказаться. Такие дебаты, хотя и кажутся необычными, вполне согласуются с традициями нашего банка, который был всегда, образно выражаясь, «хрустальным дворцом, не имеющим темных углов», что свидетельствует отнюдь не о хрупкости, а, напротив, о здоровье этого организма. Если возникают внутренние разногласия, стороны излагают свои точки зрения, и, таким образом, нарыв вскрывается. Ныне возникли разногласия между председателем и генеральным секретарем. Что ж, совет призван их разобрать.
Председатель. Если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что совет призван меня осудить!
Господин Дус. Вы превратно истолковываете нашу позицию. Должен признаться, меня это удивляет. Господин Брюннер выражается крайне деликатно и обнаруживает редкое благородство мысли. Я не ошибусь, если скажу, что совет единодушно выражает ему свою признательность.
Господин Брюннер. Благодарю вас. Все присутствующие здесь, несомненно, не могут не понимать, как было бы обидно, как было бы прискорбно, если бы столь блестяще начавшаяся карьера господина Этьена вдруг оборвалась из-за подозрения, которое могло бы навлечь на него ваше молчание. Подозрения в некомпетентности или, что еще хуже, в недобросовестности. Вы знаете нашу среду. Подумайте, на что бы мы обрекли господина Этьена, если бы распространился слух, что мы лишили его нашего доверия.
Господин Оэттли. Мы не лишаем господина Этьена нашего доверия. Об этом не может быть и речи. Вопрос о его честности не ставится на обсуждение.
Господин Брюннер. Позаботьтесь о том, чтобы его честность не ставилась и под сомнение.
Господин Ласери. Никто не бросает тень на честность господина Этьена.
Господин Этьен. Не верно! В этом-то и все дело. Меня обвиняют в том…
Председатель. Замолчите! Я вам не давал слова.
Господин Этьен. Я прошу слова.
Председатель. А я вам его не даю. Генеральный секретарь не имеет права высказываться на заседаниях совета, он только отвечает, когда его спрашивают.
Господин Брюннер. Когда вы, господин Драпье, согласились на созыв этого заседания, мы считали, что тем самым вы согласились предоставить господину Этьену возможность защищаться.
Председатель. Вы меня плохо поняли, господин Брюннер. Я не позволю нарушать установленный порядок. Господин Этьен не будет говорить.
Господин Оэттли. Вот видите, я был прав. Мы напрасно теряем время.
Господин Этьен. Успокойтесь, Я все же намерен говорить.
Голоса с мест. Нет! Нет!
Господин Ласери. Совет не потерпит подобной дерзости.
Господин Оэттли считает, что из создавшейся ситуации есть только один выход: пусть кто-либо из членов совета согласится говорить от имени господина Этьена.
Председатель. Что ж, это и в самом деле возможный выход. Согласится ли кто-нибудь из членов совета взять на себя защиту генерального секретаря?
Господин Ласери. Это прекрасный выход.
Господин Оэттли. Он сам собой напрашивается.
Председатель. Я повторяю свой вопрос.
Голоса с мест. Брюннер! Брюннер!
Господин Брюннер. Быть может, я и согласился бы, но, признаюсь, я не совсем уверен, что имею на это право.
Господин Этьен. Нет, я возражаю.
Председатель. Вам не приходится возражать. Если совет решит, что от вашего имени будет говорить господин Брюннер, вам останется только примириться с этим.
Господин Брюннер. Но не могу же я, в самом деле, говорить от имени господина Этьена против его воли. Прошу устроить перерыв.
В 10 часов 25 минут объявляется перерыв.
— Я жду вас в комнате номер четыреста двадцать девять, — сказал Брюннер Марку.
— Сейчас, одну минутку.
Марк привел в порядок свои заметки и закрыл папку.
— О, — воскликнул господин Ласери, — вы смело можете оставить папку здесь! Никто ее не тронет.
— Не сомневаюсь, — ответил Марк, — но я все же предпочитаю взять ее с собой.
Комната № 429 не была кабинетом. Она предназначалась для заседаний некоторых комиссий. Там стоял десяток кресел в стиле «Наполеон III», собранных из разных гарнитуров, огромный диван, обтянутый зеленым репсом с орнаментом из птиц и веток, и среди всего этого старья несколько современных низких столиков с крышками, напоминающими по форме бобы. Все это купили, видимо, разом, на аукционе, за исключением столиков, которые Женер заказал сыну Ласери. Ласери-младший перепробовал множество профессий, и всякий раз банк старался помочь ему в его начинаниях.
Марк присел на диван подле господина Брюннера. Брюннер положил ему руку на плечо. Вслед за Марком в комнату вошли Дус и Сопен и остановились на полпути от двери к дивану.
— Надеюсь, мы будем благоразумны… — начал Дус.
Марк прервал его:
— Мне нужно сказать несколько слов наедине господину Брюннеру.
— А! Очень хорошо, — проговорил Сопен.
— Дорогие друзья, — сказал Брюннер, — оставьте нас на несколько минут. Вы наши истинные друзья, но нам с господином Этьеном необходимо посовещаться!
— Мы вас прекрасно понимаем, — почти одновременно произнесли Дус и Сопен и удалились.
— Вы их обидели, — сказал Брюннер.
— Да, — согласился Марк, — и притом без надобности. По-моему, нам, собственно, не о чем говорить.
— Вот в этом вы ошибаетесь, — сказал Брюннер. — Обдумав все как следует, я считаю, что вы должны согласиться на предложение Оэттли.
— Но это было бы глупостью. Простите.
— Пожалуйста. Но что же вы, собственно говоря, хотите?
— Я хочу говорить.
— Но вы не имеете на это права. По уставу не имеете права. Это очень веский аргумент.
— Вы находите?
— Вы слишком легко к этому относитесь. Вы забываете, что такое административный совет.
— Боюсь, это вы забываете, что такое совет.
— Вы, видимо, думаете, что все это болтовня? Но ведь они и в самом деле могут не дать вам говорить.
— Нет, не могут.
— Вы хотите сказать, что они физически не могут? Но они могут закрыть заседание и разойтись.
— Да, конечно.
— Ну и что тогда?
— Тогда — ничего. Но, пожалуй, я предпочел бы это.
— Чему? Моему выступлению в вашу защиту?
— Да, если угодно.
— Мне как-то неудобно настаивать… — вздохнул Брюннер.
— Надеюсь, вы меня понимаете, — ответил Марк.
— Признаюсь, не слишком хорошо. Если мы и дальше будем так же хорошо понимать друг друга, то уж, право, не знаю, к чему это приведет. По-моему, дорогой, мы плохо начали. А ведь мне кажется, — могу сказать это, не хвалясь, — я умею выступать на совете… Мне думается, я обладаю как раз тем видом красноречия, который может воздействовать на совет.
— Я знаю.
— С другой стороны, не думаю, чтобы кто-либо мог упрекнуть меня в недостатке мужества. Уж я бы не стал мямлить. Я был бы тверд.
— Весьма сожалею, — сказал Марк.
— Вам нечего сожалеть. Как вам угодно, старина. Вы больше нуждаетесь во мне, нежели я в вас.
В дверь постучали.
— Откройте, — сказал Брюннер. — Взгляните, кто там.
Это был господин Оэттли.
— Разрешите войти в это гнездо заговорщиков, — жеманно пропел он.
— Помилуйте, друг мой! — воскликнул Брюннер.
— Как дела, дорогой Этьен? Я едва успел перекинуться с вами словечком. А вы как будто немного осунулись.
— Это вам кажется. Я чувствую себя превосходно, благодарю вас.
— Вы знаете, я ведь поклонник иглотерапии.
— В самом деле?
— Надо будет мне дать вам адрес одного специалиста, — сказал Оэттли и, бросившись в кресло, небрежно перекинул ноги через подлокотник. (Он всегда держался очень свободно. Ему была свойственна какая-то наигранная беспечность. Многие считали его педерастом, но ошибались. Он довольствовался теми преимуществами, которые давала ему такая репутация: при нем говорили, не стесняясь, его не опасались.)
— Ну что ж? — спросил он. — Как идут переговоры? Что вы думаете о моем предложеньице?
— Само по себе оно кажется мне превосходным, — ответил Брюннер, — но мы еще не…
— Не думаю, чтобы мы смогли его принять, — перебил его Марк.
— О! Я в отчаянии! — Оэттли вскочил с кресла и направился к двери. — Мне бы так хотелось, чтобы этот вопрос решился полюбовно. Ведь вы понимаете, это конфликт между друзьями.
— Не сомневаюсь в этом, — сказал Марк, закрывая за ним дверь.
— Хитро придумано, — заметил Брюннер. — Теперь они в курсе дела и смогут подготовиться. Пойдемте скорей! Да поторопитесь, черт возьми!
Теперь было важно, чтобы заседание началось как можно скорее. Но когда они вошли в зал совета, там еще никого не было, кроме Ле Руа, который перечитывал протокол. Он попросил Марка его просмотреть.
— Ты записываешь слишком подробно, — сказал Марк. — Пиши только самое важное.
— Я пока еще ничего важного не уловил, поэтому я и писал все подряд… Надеюсь, ты не примешь их предложения? — спросил Ле Руа.
— Конечно, нет.
— Не волнуйся. Они в еще более трудном положении, чем ты. Я слышал, что они говорили здесь в твое отсутствие. Они просто умирают от страха, что ты…
Марк резко обернулся в сторону Брюннера.
— Молчи, молчи, старик, — прошептал он.
Почти в то же мгновение взгляд Брюннера потускнел и лицо приобрело отсутствующее выражение.
В зал вошли под руку Ласери и Оэттли.
Мысли Брюннера были уже далеко. Облокотившись на каминную полку, он произносил про себя свою речь, которую ему так и не удастся сказать.
Заседание возобновляется в 10 часов 50 минут.
Председатель. Слово предоставляется господину Брюннеру.
Господин Брюннер. Я только что имел продолжительную беседу с господином Этьеном. Я предложил ему свои услуги и должен поставить совет в известность, что господин Этьен не счел возможным их принять.
Господин Оэттли. Что вы думаете насчет этого отказа?
Господин Брюннер. Мое личное мнение не представляет в данном случае никакого интереса.
Господин Дус. Совет воздает должное вашему бескорыстию.
Господин Ласери. Мы констатируем, что господин Этьен начинает утомлять даже самых горячих своих сторонников.
Господин Брюннер. Я вам не позволю…
Председатель. Позволите вы или не позволите, а мы зашли, в тупик. Совет ставит себя в смешное положение. Мой долг сказать об этом совету.
Господин Этьен. Я прошу слова.
Голоса. Нет! Нет!
Господин Ласко. Это недопустимо.
Господин Этьен. Совет будет в смешном положении до тех пор, пока не согласится выслушать меня.
Председатель. Замолчите! Вы не получите слова.
Господин Этьен. Тогда закройте заседание, не имеет никакого смысла его продолжать.
Господин Ласери. Да, да, давайте закроем заседание.
Председатель. Мы собрались здесь не для того, чтобы выполнять указания господина Этьена. Слово имеет господин Льеже-Лебо.
Господин Льеже-Лебо. Я молчал до сих пор, ибо отношусь к числу тех, кто не одобряет постановку на совете данного вопроса. По правде говоря, я не считаю, господа, что это обсуждение приумножит славу нашего совета. Но как говорится, взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Если совет намерен продолжать эту бесплодную дискуссию, то нам не разойтись до утра. Нам необходимо договориться о какой-то основе для обсуждения этого вопроса. Я прошу поставить на голосование резолюцию, которую я только что передал председателю.
Председатель. Вот текст резолюции, предложенной господином Льеже-Лебо: «Совет, констатируя разногласия между председателем и генеральным секретарем, отдает должное блестящему уму и высоким моральным качествам господина Этьена, а также его выдающимся организаторским способностям».
Господин Брюннер просит снова прервать заседание, чтобы дать ему возможность изучить оглашенный документ.
Голоса. Нет! Нет! Давайте голосовать.
Господин Брюннер. По установившейся традиции никогда не отказывают…
Господин Ласери. Ну что ж, изменим традицию, вот и все.
Председатель. Я прямо заявляю, что предложенная резолюция совершенно неприемлема. Делайте из него хоть феникса, мне это безразлично, но не связывайте это с нашими разногласиями. Скажите откровенно, что вы хотите таким образом выразить мне свое порицание! Если он таков, каким вы его здесь изображаете, то ваш председатель кретин, мошенник и бездарность.
Господин Льеже-Лебо. Я далек от этой мысли, господин председатель. Должен ли я пояснять, что принятие предложенной мной резолюции предполагает увольнение господина Этьена?
Господин Эрекар. В резолюцию можно внести поправки.
Председатель. Именно это я и намерен сделать. Я предлагаю убрать из текста резолюции все, что относится к моральным качествам и организаторским способностям господина Этьена.
Господин Этьен. Я того же мнения и прошу разрешить мне высказаться по этому поводу.
Председатель. Замолчите!
Господин Эрекар. Вы всего лишь служащий, сударь, не забывайте этого.
Господин Этьен. Я готов, не сходя с места, подать в отставку. Вы дадите мне говорить, если я больше не буду служащим банка?
Председатель. Я приведу сейчас одну деталь, которая позволит членам совета судить об этом герое. Вскоре после моего прихода сюда он сказал одному моему знакомому буквально следующее: «Я всеми силами буду препятствовать проведению его финансовой политики. Я буду ставить ему палки в колеса всякий раз, как мне представится возможность». А когда мой знакомый заметил, что это не входит в его функции, он ответил: «Я не считал бы себя честным человеком, если бы занимался только тем, что меня непосредственно касается». Если в этом и заключаются «высокие моральные качества и выдающиеся организаторские способности», значит мы просто играем словами.
Господин Этьен. Кому я это сказал?
Председатель. Ставлю свою поправку на голосование.
Господин Этьен. Кому я это сказал?
Господин Ласери. Совету надоели эти непрестанные реплики.
Господин Этьен. Меня обвиняют. Я имею право ответить.
Голоса. Поручите это господину Брюннеру.
Председатель. Господин Брюннер, вы хотите ответить?
Господин Брюннер. Нет.
Совет принимает решение убрать из резолюции слова «высоким моральным качествам» и «…а также его выдающимся организаторским способностям».
Господин Эрекар. Что касается упоминания о блестящем уме господина Этьена, то, мне кажется, оно излишне. Надо развеять этот миф. Господин Этьен, по моему мнению, ничем не выделяется среди прочих служащих нашего банка. Нас обманула его молодость.
Господин Этьен. Безусловно. Уберите и фразу насчет ума.
Господин Эрекар. Хоть я и не нуждаюсь в вашем одобрении, я действительно предлагаю эту поправку.
Господин Льеже-Лебо. Я должен предостеречь совет. Эти поправки искажают смысл предложенной мною резолюции.
Совет принимает предложение убрать из резолюции слова «блестящему уму».
Председатель. Таким образом, последний абзац резолюции гласит: «Совет отдает должное господину Этьену».
Господин Этьен. Каким качествам господина Этьена?
Председатель. Никаким.
Господин Этьен. В таком случае я предлагаю убрать и слова «господину Этьену». «Совет отдает должное» мне представляется вполне достаточным.
Председатель призывает к порядку господина Этьена и предупреждает его, что не позволит издеваться над советом.
Господин Этьен. Я только взываю к его здравому смыслу.
Господин Эрекар. Господин председатель, используйте свою власть!
Председатель. Эти выпады возмутительны! Слова господина Этьена не будут больше заноситься в протокол. Я ставлю на голосование окончательный текст резолюции.
Господин Этьен встает и покидает зал совета.
Голоса. Давайте голосовать! Давайте голосовать!
Господин Льеже-Лебо. Я снимаю свою резолюцию.
Председатель. Льеже-Лебо, это предательство!
Господин Льеже-Лебо. Я вас предупреждал.
Господин Оэттли. Вот к чему сводится политика Мабори!
Голоса. Это двойная игра Мабори.
Заседание прерывается в 11 часов 15 минут.
Едва войдя в свой кабинет, Марк услышал через открытую дверь, что в комнатке Полетты зазвонил телефон.
— Сейчас. Кажется, он у себя, — сказала Полетта.
— Это Брюннер? — спросил Марк.
— Да. Он просит вас подняться к нему.
Полетта подошла к Марку; на лице ее была написана тревога. Он заметил, что она уже не так красива, как прежде. Он слишком часто повторял, что она не меняется, что она все так же хороша. А Дениза как-то сказала ему: «Она очень мила, но уже не так красива». Ему было трудно судить об этом, а сейчас он вдруг ясно увидел у нее морщинки вокруг глаз и некоторую размытость всех черт. И он вспомнил, как Полетта впервые пришла к нему. Решительным тоном, с босеронским акцентом, в то время еще очень сильным, который сразу покорил Марка, Полетта сказала, кто рекомендовал ее и какие условия ее устраивали (сколько она рассчитывала получать и какую работу ей хотелось бы иметь, поскольку она была к ней специально подготовлена).
Полетта сообщила Марку, что она жена Рея Дюрана, и Марк сначала сделал понимающий вид. Лишь немного погодя он спросил:
— Простите, но мне хотелось бы узнать, кто такой Рей Дюран?
И по тому, как она расхохоталась ему в ответ, Марк подумал, что было бы очень приятно с ней работать. Он всегда мечтал иметь секретаршу, наделенную чувством юмора. Ему следовало бы послать Полетту работать в юридический отдел, но мысль отдать ее Морнану была ему почему-то глубоко неприятна. Он еще раз взглянул на нее, такую хрупкую, грациозную, трогательную, и сказал:
— У нас есть только одна вакансия, но я не думаю, что она вас устроит.
— А все же скажите какая?
— Вы могли бы работать здесь, у меня.
— Пожалуй, это мне подойдет, — ответила она.
Но Марк считал, что выбрал Полетту не только потому, что она была красива (в этом плане он вел себя безупречно; правда, в иные дни, особенно весной, он был не совсем уверен, что не наделает глупостей, но теперь, во всяком случае, он мог сказать себе, что это уже позади). С тех пор прошло немало времени. Теперь у нее были тонкие морщинки вокруг глаз, и появились они не вчера.
— Почему вы вернулись? — спросила Полетта. — Что случилось? Скажите, что случилось?
— Ничего особенного. Я сейчас опять поднимусь наверх.
— Вам что-нибудь нужно?
— Нет, спасибо.
Марк распахнул дверь в коридор и чуть было не сшиб входившего в кабинет Льеже-Лебо. Столкнувшись лицом к лицу, оба на мгновение растерялись. Наконец они протянули друг другу руки и поздоровались, словно еще не виделись в этот день.
— Признаюсь, Этьен, я пришел за вами.
— Я знаю, — ответил Марк. — Я как раз собирался подняться.
— Ну и отлично. Поднимемся вместе. Вы не возражаете?
— Нисколько.
Господин Льеже-Лебо не пользовался репутацией выдающегося финансиста. Но он сумел сколотить себе одно из самых солидных состояний в Париже. Не слыл он также и человеком большого ума, но был принят во всех парижских салонах. Во взаимоотношениях с людьми он придерживался тактики «мелких услуг». Он умел стать необходимым в каждой семье. Его называли «компанейским человеком». Сперва ему за услуги платили сведениями — думали, что он промышляет мелкими биржевыми спекуляциями. А он был занят совсем другим: он сколачивал состояние. Но это обнаружили только потом.
Последние несколько лет Льеже-Лебо был для Мабори тем же, что Брюннер для Женера — чем-то вроде рыбы-лоцмана. Правда, в отличие от Брюннера он не доводился кузеном своему патрону, но между ними была иная связь: оба они происходили из восточной Франции. Люди, как правило, не объединяются без всяких причин. Выходцы из одной и той же провинции связаны между собой куда прочнее, чем это может показаться. Уголовники — яркий тому пример. А восточные районы Франции для финансового мира то же самое, что Корсика для уголовного: они поставляют прирожденных финансистов.
Брюннер тоже не отличался особым умом. Марк не раз ломал себе голову, почему Женер так дорожит своим кузеном — словно из суеверия. Но ведь человек становится «рыбой-лоцманом» не благодаря личным достоинствам. Напротив. Кроме того, хороших «рыб-лоцманов» мало, они не рискуют остаться не у дел. И уж если ты обзавелся такой «рыбой», то ее нужно беречь.
Льеже-Лебо нажал кнопку лифта.
— Я снял свою резолюцию, — сказал он.
— Зачем? Зачем, черт возьми? Она была очень удобна.
— Очень удобна для них, я так и считал. Но и для вас тоже, заметьте.
— Да, — согласился Марк. — Но я не мог ею удовлетвориться.
— А ведь это было для вас хорошим выходом.
— Но для них еще лучшим. Чем вы объясняете, что они за него не ухватились?
— По-моему, они поступили неумно. Вы так не думаете?
— Как сказать. Все зависит от того, чего хочет Драпье. Вы это понимаете?
— Не совсем. Но Драпье я знаю давно. Этот человек придает чрезмерное значение своим воспоминаниям.
— Что вы хотите этим сказать?
— Вы не поняли бы этого, даже если б я вам объяснил.
— Тем не менее, кажется, я начинаю смутно догадываться, — сказал Марк. — Что же будет дальше?
— Об этом я вас должен спросить.
— Я буду говорить. Разве вы видите другой выход?
— О, выходов сколько угодно! Они могут вам до завтра не дать слова.
— Значит, я буду говорить завтра. Нужно только запастись терпением.
Вдруг Льеже-Лебо нажал красную кнопку. Лифт остановился посреди пролета.
— Мы могли бы, пожалуй, немного ускорить дело, — сказал Льеже-Лебо.
— Это было бы прекрасно!
— Я мог бы предложить совету предоставить вам слово. В виде исключения. Ну, скажем, на пять минут?
— Мне многое нужно сказать, но, думаю, я уложусь…
— Говорят, вы находитесь в каких-то отношениях с Морелем. Это правда?
— Нет.
— Вы хотите, чтобы я попросил предоставить вам слово?
— Я был бы вам весьма признателен.
— Я не сказал, что сделаю это. Я бы охотно, но…
— Но, — перебил его Марк, — я не могу вам обещать, что не упомяну имени господина Мабори.
— Вы меня прекрасно поняли, Этьен. Мне бы не хотелось, чтобы его впутали в это дело.
— Боюсь, однако, что это произойдет. Вам ведь известно, что меня обвиняют в том, что я продаю ему информацию?
— Я этого не знал, — сказал Льеже-Лебо и потянулся к кнопке.
Марк остановил его.
— Послушайте, — сказал он. — Говорил ли вам когда-нибудь Мабори, что я его информирую?
— Нет, но это еще ничего не доказывает.
— Я полагал, — сказал Марк, — что меня считают вполне надежным человеком.
— Мне очень жаль, — сказал Льеже-Лебо. — Поверьте, очень жаль. Прошу вас забыть о моем предложении.
— Послушайте, — спросил Марк, — что вы думаете по поводу этого обвинения?
— Думаю, что это серьезное обвинение.
— А что, по-вашему, значит «серьезное обвинение»?
— Как вам сказать? Обвинение вроде того, которое вам предъявляют.
— А я вам скажу точно, — прервал его Марк. — На вашем месте я счел бы «серьезным обвинением» ложное обвинение, которое я смог бы использовать против того, кто его выдвинул.
— Вы знаете, я терпеть не могу всяких историй.
— Не сомневаюсь.
— Я подумаю, — сказал Льеже-Лебо.
— Я полагаю, что могу теперь рассчитывать на вашу поддержку.
— Мне придется сейчас позвонить по телефону.
— Вполне понятно.
— Надеюсь, что никто не ждет лифта, — сказал Льеже-Лебо и нажал, наконец, кнопку.
Брюннер ждал Марка в четыреста двадцать девятой комнате. Он ждал его уже больше десяти минут, и, когда Марк, наконец, вошел, Брюннер вскочил и скрестил на груди руки, всем своим видом выражая жестокий упрек.
— Я вам уже говорил, Этьен, но готов повторить: вы больше нуждаетесь во мне, нежели я в вас. Если вы собираетесь устроить переворот в банке, то, предупреждаю, на меня не рассчитывайте.
— Да я и не надеялся, что смогу долго на вас рассчитывать. Если бы мне дали слово, то не прошло бы и пяти минут, как вы бы отреклись от меня.
— Вы хотите сказать, что намерены…
— Вот именно.
— Почему вы полагаете, что теперь они дадут вам выступить?
— У меня есть на это веские основания.
Брюннер пожал плечами.
— Послушайте, — сказал он и снова пожал плечами, — послушайте, я не знаю, что вы имеете в виду, но я запрещаю вам выступать, даже если они вам это предложат.
— Нельзя ли узнать, почему?
— Я думаю, что выражаю мнение господина Женера. Меня сильно удивило бы, если б он разрешил вам выступить в таком возбужденном состоянии.
— Извините, — сказал Марк, придвинув к себе телефон, стоящий на одном из низких столиков, — мне хотелось бы самому в этом убедиться.
Он снял трубку и набрал номер Женера. Ответил женский голос.
— Алло, — сказал Марк, — говорит Марк Этьен.
— О Марк! Как ваши дела? Хорошо?
— Прекрасно! Можно…
— Да, да, передаю ему трубку.
— Алло! — сказал Женер.
— Алло, — ответил Марк. — Господин Брюннер и я хотели бы узнать ваше мнение. До сих пор они не давали мне выступить…
— Я знаю. Господин Брюннер мне только что звонил.
— Понятно… Но сейчас обстоятельства сложились так, что некоторые члены совета будут склонны предоставить мне слово, хотя бы на пять минут. А господин Брюннер запрещает мне выступать. Что вы думаете по этому поводу?
— Не знаю, что вам сказать, Марк. В таких случаях к советам Брюннера стоит прислушаться.
Брюннер взял отводную трубку.
— …Кроме того, чтобы принять решение, следовало бы знать, кто именно готов вас выслушать, какая часть совета…
— Это не имеет значения. Я хотел бы знать ваше мнение в принципе.
— Я боюсь ловушки. Я всегда остерегался ловушек. Мне бы не хотелось, чтобы вы сломали себе шею из-за вещей, которые того не стоят.
— Для меня они того стоят.
— Как? Что может стоить того, чтобы вы?..
— Вам это отлично известно.
— Нет, я как раз думал об этом. Вас ожидает хорошая карьера. Вы знаете, что в этом вы всецело можете рассчитывать на мою помощь. Но одно ваше необдуманное слово может мне в этом серьезно помешать. Взвесьте все как следует. В конце концов это пустяковый инцидент. Через полгода мы с вами об этом и думать забудем.
— Я не знаю, что я буду думать через полгода, но я прекрасно знаю, что я сейчас думаю.
— Я вас понимаю, Марк. Помните только, что не следует смешивать запальчивость с сознанием своей правоты. Вы уже приняли решение, не так ли? Я полагаюсь на вас. Вы достойный человек, и я уверен, что вы и будете вести себя, как достойный человек.
Брюннер улыбался.
— Не знаю, — сказал Марк. — Я уже давно перестал понимать, что значит быть достойным человеком.
Заседание возобновляется в 11 часов 45 минут.
Господин Льеже-Лебо излагает причины, побудившие его снять свою резолюцию. Если кое-кто из присутствующих решил уничтожить господина Этьена, уничтожить любой ценой, то он, Льеже-Лебо, их, конечно, не одобряет. Его резолюция имела то достоинство, что в ней соблюдались интересы обеих сторон. Однако совет зашел слишком далеко, желая использовать свои преимущества. Обсуждение приняло весьма странный характер.
(С мест раздаются возгласы протеста.)
Разве может не шокировать попытка отказать господину Этьену в каких бы то ни было заслугах? Разве может она не вызвать недоумение у честных и беспристрастных людей?
Председатель. Вы же сами сказали, что обсуждение этого вопроса абсурдно и не представляет никакого интереса.
Господин Льеже-Лебо. Да, я это сказал. Но целью моей резолюции и — я надеялся, что вы это поймете, — было свести на нет возникший конфликт. Вы этого не поняли. Весьма сожалею.
Председатель. Нам не очень-то по душе всякие ухищрения.
Господин Льеже-Лебо. Мне тоже, господин председатель… Но иногда приходится прибегать к ним, даже если их и не любишь. А ваше упорство в этом вопросе способно лишь вызвать подозрение «Интересно, чего ж это так боятся услышать?» — спросил я себя. «Что стараются скрыть, так усердно зажимая рот господину Этьену?»
Господин Ласери. Этого требует устав!
Господин Льеже-Лебо. Ах, оставьте! Ни одно заседание совета не обходилось без выступлений господина Этьена. Почему же вы тогда не вспоминали об уставе? Вы говорите: «Господин Этьен — служащий, а служащие не выступают на совете». А вот для меня служащий тоже человек! Когда я вижу, что вокруг господина Этьена сгущаются тучи, что его заставляют молчать, что над ним тяготеют какие-то обвинения, причем никто не осмеливается прямо высказать их, когда я вижу, с одной стороны, такой произвол, а с другой — доводящую до отчаяния невозможность выступить, чтобы защитить себя, сердце и совесть заставляют меня сказать: «Тут что-то не в порядке».
Председатель. Перестаньте разыгрывать из себя оскорбленную добродетель, Льеже-Лебо! Это уже старо.
Господин Льеже-Лебо отвечает, что если выбирать между ролями, то он предпочитает свою. Ведь каждому ясно, кто здесь разыгрывает комедию. Здесь есть обвиняемый.
(Протесты с мест.)
Да, здесь есть человек, который находится в положении обвиняемого.
Господин Оэттли. Да нет же!
Господин Льеже-Лебо. Не нет, а да! И в доказательство достаточно сослаться на статью из «Банк д’Ожурдюи».
Председатель. Об этой статье мы еще поговорим.
Господин Льеже-Лебо. Но это не все. Есть обвинения и более серьезные.
Господин Ласери. Какие, например?
Господин Льеже-Лебо. Вот это я и хочу узнать. Я хочу, чтобы мне объяснили, в чем дело, хочу судить обо всем на основании фактов. Зрелище обвиняемого, лишенного законного права защиты, всегда было мне невыносимо.
Председатель. Обвиняемый сам поставил себя в такое положение. Если бы он не отверг посредничество господина Брюннера, он бы не нуждался в вашей поддержке.
Господин Льеже-Лебо. А вас я разве не поддерживал в свое время?
Председатель. Вы меня потопили — вот что вы сделали!
Господин Оэттли. Эти ссылки на прошлое совершенно неуместны.
Господин Льеже-Лебо говорит, что он тоже так думает. Однако, продолжает он, создается впечатление, что господина Драпье неотступно преследуют воспоминания о некоторых событиях недавнего прошлого. Но нельзя допускать, чтобы прошлое господина Драпье, или, вернее, воспоминания об этом прошлом, могли вредить высшим интересам банка…
Председатель. Полегче на поворотах, Льеже-Лебо!
Господин Льеже-Лебо. Вот почему в целях более плодотворного обсуждения данного вопроса я предлагаю совету в виде исключения выслушать господина Этьена, предоставив ему, впрочем, всего лишь пять минут.
(Бурные протесты с мест.)
Господин Ласери. Началось!
Господин Льеже-Лебо. Да, господа, началось!
Председатель. И не рассчитывайте на это, Льеже-Лебо.
Господин Льеже-Лебо. А я тем не менее рассчитываю, ибо в противном случае нам пришлось бы пересмотреть свою позицию по отношению к этому банку.
Господин Ласери. Кому это «нам»? Группе Мабори?
Господин Льеже-Лебо. Быть может. И, быть может, не только этой группе. Что думает по этому поводу господин Брюннер?
Господин Брюннер. Группы Женера больше не существует, если вы на это намекаете. Да, не существует, и я хочу, чтобы это все знали.
Господин Льеже-Лебо. Я попросил вас только высказать ваше личное мнение.
Господин Брюннер. Мы еще не определили своей позиции в этом вопросе.
Господин Ласко. Горячие приверженцы остывают!
Господин Оэттли. Не могу понять, почему вы придаете такое значение этому вопросу.
Господин Льеже-Лебо. Голосуйте за мое предложение, и вы узнаете. Я требую тайного голосования.
Председатель. Будет ли оно тайным или открытым, все равно ваше предложение провалится.
Господин Льеже-Лебо. Могу вам только этого пожелать.
Большинством голосов (8 против 6) совет решает выслушать господина Этьена. Председатель встает и покидает зал заседания. Заседание прерывается в 12 часов дня.
Заседание возобновляется в 12 часов 5 минут под председательством господина Сопена, старейшины совета.
Господин Ласери. Это государственный переворот. Вы не имеете права…
Господин Льеже-Лебо. Совет принял решение и должен его выполнить. Мы взяли на себя обязательство выслушать господина Этьена.
Господин Оэттли. Совет не может заседать без председателя.
Господин Льеже-Лебо. А почему бы и нет? Подобные прецеденты бывали. В таких случаях отсутствующего председателя заменяет старейший из членов совета.
Господин Сопен говорит, что он умывает руки. Пусть совет решает. Он к его услугам.
Господин Оэттли. Я требую тайного голосования.
Большинством голосов (8 против 5) совет решает, что имеет право продолжать заседание.
Господин Ласери встает и покидает зал.
Господин Сопен. Слово предоставляется господину Этьену.
Господин Оэттли. На пять минут!
Господин Этьен. Поскольку, ни в чем не обвиняя меня, вы разрешаете мне защищаться, я вынужден прежде всего сформулировать обвинения, которые против меня выдвигаются. Конечно, я предпочел бы, чтобы здесь были повторены некоторые высказывания. Это было бы честнее и проще и внесло бы полную ясность. Вместо того чтобы спрашивать у господина Брюннера, согласен ли он меня защищать, вашему председателю следовало бы поручить господину Ласери меня обвинять.
Господин Ласко. Почему господину Ласери?
Господин Этьен. Потому что сам он, судя по всему, был не расположен взять это на себя.
Господин Оэттли. А почему? Как вы считаете?
Господин Этьен. Понятия не имею. На предъявляемые мне обвинения я отвечу пункт за пунктом, но сперва я должен их высказать.
Господин Ласко. Таким образом, вы сможете плести нам все, что вам заблагорассудится?
Господин Этьен поясняет, что он ограничится перечнем тех обвинений, которые были брошены ему в лицо. Быть может, есть и другие, но он будет говорить только о тех, которые сам слышал. Впрочем, он не думает, что сможет сообщить совету что-либо новое. Обвинения эти двух родов…
Господин Ласко. Расскажите нам о вашем друге Эдуарде Мореле!
Господин Этьен. Я о нем скажу. Но поскольку я располагаю лишь пятью минутами, я был бы вам очень благодарен, если бы вы меня больше не перебивали. Меня обвиняют прежде всего в том, что я противодействую политике, проводимой господином Драпье, в частности в деле предприятия Массип.
Господин Оэттли. Любопытно! Любопытно, что вы, простой служащий, мните себя способным противодействовать политике, определяемой исключительно советом банка.
Господин Этьен. Я весьма благодарен вам за то, что вы признали всю абсурдность этого предположения. Я не мог влиять на политику банка, и тем не менее меня обвиняют в том, что я получал за это взятки.
Господин Оэттли. Меня удивляет, что вы считаете необходимым защищаться против подобного обвинения. Это же просто бред.
Господин Этьен. Я вам отвечу на это несколько позже. Во-вторых, меня обвиняют в шпионаже…
Председатель и господин Ласери возвращаются в зал заседания.
Господин Этьен. …якобы я продавал секретные сведения господину Женеру.
Господин Брюннер. Тоже бред! Вы все знаете господина Женера. Я не считаю нужным углубляться в этот вопрос.
Господин Ласко. В самом деле, лучше не углубляться.
Господин Этьен. Я расскажу о своих отношениях с господином Женером.
Господин Льеже-Лебо. Хорошо. А кто еще пользовался вашими услугами?
Господин Этьен. Господин Дандело…
Господин Эрекар. Не могу этому поверить.
Господин Ласко. Почему?
Господин Эрекар. У меня создается впечатление, что здесь строят козни против господина Дандело.
Господин Этьен. …и господин Мабори.
Господин Льеже-Лебо. Дело принимает серьезный оборот. Боюсь, что теперь нам придется все выяснить до конца.
Господин Эрекар. Да, это весьма серьезное обвинение. Я требую, чтобы был пролит свет на все это дело. Уверен ли господин Этьен в том, что утверждает?
Господин Этьен. Я отвечаю за каждое слово, которое произнес. Все эти обвинения господин Драпье бросил мне в лицо.
Председатель. Это ложь! Он лжет!
Господин Этьен. Этот разговор происходил в среду двадцать девятого февраля в вашем кабинете. Не думаю, чтобы вы его забыли.
Председатель. Я предупреждаю совет, что он имеет дело с лжецом. Мы потеряли массу времени из-за лжеца.
Господин Льеже-Лебо. Вы хотите сказать, что никогда этого не говорили?
Председатель. Никогда!
Господин Оэттли. Отлично. Пусть совет примет это к сведению. Для меня инцидент исчерпан.
Господин Льеже-Лебо. Извините, но для меня нет.
Господин Эрекар. Для меня тоже.
Председатель. Эрекар, я не привык, чтобы мои слова ставили под сомнение.
Господин Этьен. К несчастью, мы были не одни. При этом разговоре присутствовала ваша секретарша. Я думаю, она сможет подтвердить, что вы это говорили.
Председатель. Ни черта она не подтвердит. Вы гнусный лжец!
Господин Этьен. Здесь, в моей папке…
Председатель. Знаю я, что там у вас в папке. Я изучил ваши бумажки от доски до доски. Все это сплошная ложь. Просто чудовищно, что вы там городите про мои отношения с Массипом!
Господин Этьен. Меня удивляет, что вы могли ознакомиться с содержимым моей папки.
Председатель. Я принял меры предосторожности.
(Движение в зале.)
Я умею защищаться от всяких морелей! Здесь они не будут хозяйничать!
Господин Брюннер. Все же было бы небезынтересно выслушать мадемуазель Ламбер.
Председатель. А вот и другой пошел в атаку!
Господин Льеже-Лебо. Выслушать мадемуазель Ламбер совершенно необходимо. Я предлагаю решить этот вопрос тайным голосованием.
Господин Сопен. Ставлю это предложение на голосование.
Председатель. Замолчите, господин Сопен! И прошу вас, сядьте на свое место. Кто здесь председательствует?
Господин Драпье сменяет господина Сопена на председательском месте.
Председатель. Давайте разберемся. Выходит, для вас недостаточно моего слова? Вы не верите своему председателю? Вы это хотите сказать? И притом тайно, путем закрытого голосования? Побольше мужества, господа! Пусть поднимут руку те из вас, кто не верит своему председателю.
Господин Брюннер. Речь идет только о том, чтобы выслушать мадемуазель Ламбер.
Большинством голосов (10 против 4) совет решает выслушать мадемуазель Ламбер.
Господин Льеже-Лебо. Пусть ее вызовут.
Председатель. Не спешите! Совет еще не решил, когда он ее выслушает. Я предлагаю завтра.
Господин Эрекар. С тем же успехом это можно отложить до будущего года.
Господин Оэттли. Уже первый час, господа.
Господин Льеже-Лебо. Я настаиваю, чтобы ее выслушали немедленно.
(Голоса с мест: «Уже первый час!»)
Председатель. Скажите прямо: вы подозреваете меня в том, что я хочу оказать давление на свидетельницу.
Господин Льеже-Лебо. Я предпочитаю, чтобы с этим делом было покончено немедленно. Предлагаю продолжать заседание!
(Голоса с мест: «Уже первый час!»)
Господин Дус. Значит, мы останемся без обеда?
В тоне господина Дуса прозвучало неподдельное отчаяние. Он опасался не только того, что пропустит обед. Он опасался, что будет нарушено все его душевное равновесие, что его выведут из того летаргического сна, в который медленно погружаются большинство людей с помощью сложной системы привычек. Он произнес решающее слово, самое человечное за все заседание. И Марк знал, что перед этим словом все аргументы окажутся бессильными.
Был объявлен перерыв до 16 часов.
5
Марк спустился на свой этаж. Выйдя из лифта, он увидел Эрекара, который сидел в коридоре на красной банкетке. Марк быстро прошел мимо него.
— Этьен! — окликнул его Эрекар.
— Да?
Эрекар встал. Он улыбался очень приветливо и хотел было взять Марка под руку, но Марк слегка отстранился.
— Этьен, вы говорили… Вы упомянули господина Дандело? Уверены ли вы, что господин Драпье…
— Я уже ответил на этот вопрос.
— Конечно, но…
— Вам не кажется, что это просто смешно? — спросил Марк. — Важно только одно: действительно ли я продаю сведения господину Дандело. Я полагаю, что на этот вопрос вы сами можете ответить не хуже меня.
— Конечно, такой человек, как господин Дандело, не станет покупать секретные сведения.
— Даже если бы я был способен их ему продать?
— Я этого не говорю. Но господина Дандело я знаю лучше, чем вас. Вот уж скоро тридцать лет, как я с ним сотрудничаю. Вы, наверно, знаете, что я ему многим обязан.
— Конечно, — сказал Марк. — Хотя вы весьма любезно заявили, что я не блещу умом, я тем не менее это заметил.
— Мне бы хотелось, чтобы вы забыли мои слова, Этьен. Я ведь ввязался в этот спор, можно сказать, вслепую. Мне не нужно объяснять вам, что такое совет. Существует большинство и меньшинство, это в порядке вещей, не так ли? И когда принадлежишь к большинству, приходится поддерживать председателя. Вполне естественно, я пытался вас потопить. Служащие приходят и уходят, а председатель остается…
— Председатели тоже приходят и уходят.
Эрекар кивнул головой, как бы уступая ему из любезности.
— Собственно говоря, — сказал он, — я вовсе не считаю себя обязанным оправдываться перед вами за свою позицию на заседании. Я хотел бы, чтобы дело приняло другой оборот, но теперь мне нужны некоторые гарантии. Вы вполне уверены в этой Ламбер?
— Я, как вы изволили заметить на заседании совета, всего лишь служащий, а служащий никогда ни в ком не может быть уверен. Мадемуазель Ламбер вольна поступить, как ей заблагорассудится. У меня нет возможности заставить ее говорить правду.
— Она очень дорожит своим местом у Драпье? Много ей платят?
— Не знаю.
— У меня есть к вам предложение, Этьен. Не могли бы мы сейчас пообедать вместе, втроем. Мы условимся, в какой ресторан пойти, и я буду вас ждать там. А вы ее предупредите по секрету. Все это можно проделать без огласки.
— Не думаю, чтобы это было необходимо, — сказал Марк. — Я ей доверяю.
— Тем лучше для вас, мой дорогой. Я умываю руки. Имейте в виду, я ничего не имею против того, чтобы она вас опровергла.
— Я знаю, — сказал Марк.
* * *
Марк рассказал Полетте, что произошло на заседании. Полетта заметила, что эта девица не внушает ей доверия и что он не должен на нее надеяться. Но Марк понимал, чего стоит эта оценка. Кристина Ламбер относилась, по его мнению, к тому типу женщин, которых решительно не выносят другие женщины.
После беседы с Кристиной в те дни, когда на нее пало подозрение Шава, он не искал больше случая заговорить с ней. Марк считал Кристину очень одиноким существом — ведь ей надо было противостоять не только неприязни, которую она внушала женщинам, но и влечению, которое испытывали к ней мужчины. Он тоже был одинок, а одинокий человек всегда узнает одинокого. Он был уверен, что не ошибся. И дело здесь было не в тех или иных подмеченных им деталях, а во всем ее душевном складе.
Марк испытывал к ней уважение. Он считал, что Кристина поступила мужественно, так прямо и откровенно объяснившись с ним насчет бойкота, которому решил ее подвергнуть Шав. Она пришла не жаловаться. Ее слова настолько отличались от того, что он ожидал услышать, так не походили на то, к чему он привык, настолько противоречили всем его представлениям об отношениях с подчиненными, что он даже не очень хорошо понял цель ее прихода. Чего она, собственно говоря, от него хотела? Он не догадывался, что Кристина пришла просто для того, чтобы заявить ему: «Это сделала не я. Я не могу доказать, но это сделала не я, и я была бы счастлива, если бы вы мне поверили». Она произвела на него очень хорошее впечатление.
— Я знаю, — сказала Полетта. — Она произвела на вас прекрасное впечатление. И в этом все дело. Но еще не известно, были ли обоснованы падавшие на нее подозрения. Вы так и не пожелали выяснить это до конца.
— А зачем? Если бы доносчицей была она, это и так выяснилось бы. Уж вы сумели бы это доказать.
— Кто это мы?
— Почтенная, всемогущая корпорация женщин.
— Вы находите это остроумным?
— Нет, нет, — сказал Марк.
Он сел и положил свою папку на стол.
— Какой идиотизм, — проговорил, он. — Я всецело завишу от мадемуазель Ламбер. — Он спокойно закурил. — Просто идиотизм. Но раз так, уж лучше верить в нее. Вы не находите?
— Если все произойдет, как вам хочется, вы сможете остаться здесь?
— Нет. Все же не смогу.
Он посмотрел на свою папку.
— Вы не печатали мои материалы в двух экземплярах?
— Нет. Я вам уже говорила. Почему вы спрашиваете?
— Просто так, чтобы быть в этом уверенным.
— Почему вы мне задаете все один и тот же вопрос? У вас что, создалось впечатление, что он знает ваши материалы?
— Как он может их знать, раз вы печатали их в одном экземпляре?
— Но он все же их знает? Да?
— Нет.
— Нет — нет или нет — да?
Полетта старалась поймать взгляд Марка.
— Послушайте, — сказал он. — Вы же знаете, что…
Она пожала плечами.
— Который час? — спросила она.
— Без четверти час.
— Вы не могли бы отвезти меня домой?
— Разве вы завтракаете не в столовой?
— Сегодня — нет.
— Меня ждет Женер, но…
— Очень жаль, — сказала она.
— Ну конечно, мой мальчик, — ответил Женер, — это неважно, приходите, когда сможете, не торопитесь. Сделайте все, что вам нужно. В котором часу вы думаете быть у меня?
— Около половины второго.
— Очень хорошо.
— До скорой встречи, господин Женер.
— Алло… Марк… Что это за история с Морелем?
— Я вам объясню, — сказал Марк.
Он вспомнил вечер, когда Дениза так поносила Ансело, что ему казалось это почти неприличным. Марк подумал тогда, что Дениза ругает Ансело, чтобы оправдать себя за то, что она его бросила.
— Впрочем, нет, — поспешно добавил он. — Мне нечего вам объяснять. Я полагаю, господин Брюннер уже у вас?
— Да, он уже здесь. И мы не спеша будем пить «порто», поджидая вас.
— Договорились, — сказал Марк.
Они проехали через площадь Согласия как раз в то время, когда начался ливень. Полетта молчала. Она сидела прямо, в неестественно-напряженной позе и, казалось, ничего не видела перед собой. Когда они, переехав на тот берег Сены, миновали дом Инвалидов, ливень уже стих. Ветер трепал зеленоватый брезент палаток, неизвестно зачем поставленных здесь.
Марк гнал машину, радуясь, что может быстрой ездой успокоить взвинченные нервы. Затянувшееся заседание совета измотало его меньше, чем он ожидал. Когда он вышел на улицу, у него слегка закружилась голова и зарябило в глазах, но и только. Лучше всего было бы идти и идти, без оглядки, без цели, чтобы устать и забыть обо всем. Ему не хотелось думать о вечернем заседании совета. Быть может, он внутренне уже покончил все свои счеты с банком. Ему был неприятен предстоящий разговор с кузенами.
— Полетта, — сказал он, — знаете, чего мне сейчас хочется больше всего? Чтобы на этом все кончилось. У меня нет никакого желания узнать конец этой истории. Вы меня понимаете?
— Да, — ответила она.
Но Марк даже не был уверен, что Полетта слышала его слова. Когда он взглянул на нее, она машинально улыбнулась.
— Странно, — снова начал Марк. — Но, пожалуй, все это было даже как-то слишком легко.
— Пока…
— Конечно, пока.
Она закурила, сделала три затяжки и загасила сигарету. Вообще курить она не умела и курила мало.
— Это трудный момент, — сказала она. — Надо, чтобы у вас было желание продолжать борьбу. Надо найти в себе это мужество. Вы еще не выиграли сражения.
— Да, — сказал он. — Я этого и не думаю. Я не думаю даже, что мне есть что выигрывать.
— Предположим на минуту, что мадемуазель Ламбер опровергнет ваши слова…
— Но предположим обратное, предположим, что она скажет правду…
— Тогда все кончится для вас хорошо.
— Нет, — сказал он. — Именно тогда-то все и обернется плохо. Они сейчас обдумывают сложившуюся ситуацию. Они не очень-то мужественны, но все же не оставят в беде своего дорогого председателя. Можете быть уверены, что они сейчас разрабатывают план действий на случай, если она скажет правду.
— И они найдут выход, — сказала Полетта. — Как вы думаете, они с той же легкостью читают мысли, что и чужие секретные материалы?
— Не знаю. Собственно говоря, мне это безразлично. Я больше ни о чем не думаю.
Авеню д’Орлеан была забита грузовиками. Марк вдруг представил себе, как хорошо было бы больше ни о чем не думать до четырех часов. Спать. Или ходить по улицам. Или долго гнать машину, как сейчас, чтобы нужно было так же часто переключать скорости и чтобы не было никаких забот, кроме привычной мысли о сцеплении, которое с рождества заедало. Они подъехали к дому Полетты.
— Не могу же я в конце концов желать, чтобы она солгала! — воскликнул Марк и улыбнулся.
— На вашем месте, — сказала Полетта, — я бы ничего не желала. Я бы спокойно ждала четырех часов.
— Так я и поступлю, — ответил Марк. — До свидания.
— Мне бы хотелось, чтобы вы зашли к нам выпить рюмку аперитива.
— Не могу. Меня ждет Женер.
— Я прошу вас, — сказала она. — Я вас не часто о чем-нибудь прошу. Зайдите хоть на минуту.
Полетта быстро поднялась по лестнице. Марк едва поспевал за ней. Рей открыл им дверь. Он все еще был в своем боксерском халате. Должно быть, после ухода Полетты он снова завалился спать — волосы у него были растрепаны. Сейчас он завтракал. Он снова сел за стол. Под его прибором была расстелена салфетка. Он ел сырой бифштекс, посыпанный сверху мелко нарубленным репчатым луком. Он придумал это блюдо в дни своей спортивной славы. «При такой жратве хоть кто станет чемпионом», — говорил он. За три дня до его матча с Бобби Дэем какой-то репортер сфотографировал его перед прилавком, заваленным луком.
— Ну как, — сказал Рей, — все уже кончилось? Да?
— Нет еще.
— Рей, — спросила Полетта, выходя из кухни с бутылкой «мартини» в руке, — где дети?
— В школе.
— Как, уже ушли?
— Они завтракают в школьной столовой.
— А я считала, что они едят дома, с тобой.
— Ну да, так оно и было до последних дней. Я сперва им не разрешал, но они так настаивали, прямо не знаю, что на них нашло с этой проклятой столовой…
— Ты мог бы мне об этом сказать.
— Я тебе говорил.
— Нет.
— Я ведь пошел на это, — сказал Рей, — только чтобы доставить им удовольствие.
Он нарезал свой бифштекс тоненькими ломтиками.
— Ты не можешь подождать немного? — спросила Полетта.
— Охотно! Тем более, — добавил он со смехом, — что моя еда не остынет. Извините меня, господин Этьен. За ваше здоровье!
— За ваше! — сказал Марк.
Полетта села за стол напротив мужа и закурила. Затем поднялась, выключила радио и снова села.
— Рей, — сказала она.
— Да?
— Что бы ты сказал, если бы узнал, что Драпье стали известны заметки господина Этьена?
— Я бы сказал, что Драпье подлец, но меня это не очень удивило бы. Я уже давно думаю, что ваш банк прогнил. А вы так не считаете?
— Пойми меня правильно, Рей. Речь идет о тех материалах, которые, как ты видел, я печатала здесь на этих днях.
— Ну, тогда это совершенно невозможно. Наверно, это просто блеф!
— Да, — сказал Марк, — только так это и можно объяснить. Извините меня, я должен идти.
— Подождите минуточку, — сказала Полетта.
— Послушай, — остановил ее Рей, — чего ты задерживаешь господина Этьена? У него, наверно, еще куча дел.
— Скажи, Рей, как у тебя сейчас обстоит дело с деньгами?
— Спасибо, не так уж плохо. Правда, не блестяще, но могло быть и хуже.
Полетта порылась в своей сумке.
— Вот твой бумажник, — сказала она, — возьми его.
— Ты что, теперь уже шаришь по моим карманам?
— Откуда у тебя эти деньги?
— Не будь идиоткой. Мне их дал тот парень за кетч. Понимаешь? Он ведь мне еще не заплатил за последнее выступление в Амьене.
— Тот парень не дал тебе ни гроша. Ты и так остался ему должен сто пятьдесят тысяч франков аванса.
— Да речь идет совсем о другом. Ты ничего не понимаешь в этих делах!
— Когда ты перепечатал эти бумаги?
— Какие бумаги? Господин Этьен, надеюсь, вы ей не верите?
— Конечно, нет, Рей.
Марк встал. Полетта тоже встала. Рей посмотрел на них с печальной улыбкой.
— Может, еще рюмочку, господин Этьен? — сказал он.
— Нет, спасибо.
Рей подошел к Марку и пожал ему руку. Хотя теперь он и мало тренировался, он все еще был в хорошей спортивной форме.
— Простите ее. Мне кажется, что из-за всех ваших неприятностей она просто рехнулась.
— Господин Этьен, вам все-таки лучше остаться, — сказала Полетта, удерживая Марка за руку. — Сейчас нам Рей расскажет по-хорошему, как все это произошло. Кто к тебе приходил?
— Никто ко мне не приходил. Все это ложь, от начала до конца.
— Он тебе сразу дал деньги или только после того, как ты отдал ему бумаги?
— Господи! — воскликнул Рей.
— Ты сейчас же нам все расскажешь, — сказала Полетта и схватила Рея за отвороты халата. — Слышишь!
Он резким движением высвободился, и тогда она дала ему пощечину, одну-единственную, тыльной стороной руки. Ее кольцо стукнуло о зубы, и, когда Рей вновь открыл рот, Марк заметил, что верхняя губа кровоточит.
— Господи! — снова воскликнул Рей. — Ты что, совсем сошла с ума! Это он внушает тебе такие мысли?
— Он здесь ни при чем. Я знаю тебя десять лет. Мне не пришлось долго ломать себе голову. Я сразу поняла, кто это сделал. Я ожидала, что это случится, что это сделаешь ты. А теперь я знаю еще и то, что бесполезно просить тебя вернуть эти деньги. Но ты их все же вернешь! Ты пойдешь к ним, вернешь деньги и скажешь…
— Я сделал это не ради денег! Вовсе не ради денег!
— Какой подлец! Значит, это все-таки сделал ты, — прошептала Полетта.
— Да, — сказал Рей, — но не ради денег.
Он спокойно смотрел на них. Его взгляд перебегал с Полетты на Марка, словно они были в его власти.
Верхняя губа Рея начала опухать, и это придавало его лицу веселое и задорное выражение.
— И я сделал это не потому, что ты мне не доверяешь. — Рей двинулся на Марка. — Да, не поэтому, господин Этьен! — Он отошел, открыл дверь в спальню и на пороге обернулся. — Ты ведь прятала от меня свои бумаги, ты нашла хороший тайник. Но не это заставило меня так поступить.
— Да, ты сделал это ради денег, — сказала Полетта.
— Ты хочешь, чтобы я сказал, почему я это сделал? Ты в самом деле хочешь, чтобы я сказал это при нем?
— Убирайся вон! — крикнула она.
Он посмотрел на них, на этот раз с ликующим видом, и это выражение появилось на его лице не из-за опухшей губы.
— Дорогая моя кошечка, — сказал он. — Неужели ты думаешь, я не заметил, что ты влюблена в этого типа?
Он захлопнул за собой дверь. Полетта повернулась к Марку. Она не плакала, и тяжелый взгляд ее сухих глаз был устремлен не на Марка (он это понял), а на ее собственную жизнь. Он тихонько погладил ее по щеке. Она еле слышно засмеялась. Марку захотелось обнять ее, утешить, но он не мог этого сделать сейчас, как, впрочем, не мог никогда, с того самого дня, когда Полетта вошла в его кабинет с тем решительным видом, который его сразу же покорил.
— Пойдемте, — сказал Марк и, так как Полетта не двинулась с места, добавил: — Так будет лучше, во всяком случае, сейчас. Вы не думаете?
— Да, да.
На улице ветер толкнул их друг к другу. Марк сказал ей, что позвонит Женеру, чтобы предупредить его, и они вместе позавтракают, он и она. Полетта отказалась. Она хотела вернуться в банк, в свой кабинет и решила поехать на метро, уверяя, что это ее успокоит.
— До скорой встречи, господин Этьен, — сказала Полетта.
Они пожали друг другу руки.
С большим трудом Марку удалось разыскать цветочный магазин, открытый в этот час. Бетти Женер обожала розы. Но те, что ему предложили, имели на редкость жалкий вид, и ему пришлось остановить свой выбор на тюльпанах, впрочем тоже не очень свежих, да к тому же еще какого-то дурацкого фиолетового цвета.
— Это сущее безумие! — воскликнула Бетти Женер. — Сколько времени вы потратили, чтобы найти эти цветы?
— О, не так уж много!
— Вы представляете себе, который час?
— Да, извините меня.
— Я не хотела в это верить, но вы и в самом деле легкомысленный человек. Бедный Марк, давно ли вы стали таким?
— Давно, очень давно. Господин Брюннер…
— Да, он здесь. — Она приложила палец к губам. — Будьте осторожны, он очень настроен против вас.
— В самом деле?
— Марк! Наконец-то! — воскликнул господин Женер и, приветливо протянув к Марку руки, направился ему навстречу.
Он на минуту задержал руки Марка в своих, потом несколько раз дружески похлопал его по плечу.
— Марк, старина!..
Женер умел улыбаться особым образом, всякий раз вновь покоряя Марка. Это была немного усталая улыбка, исполненная доверия и доброты. Марк не знал лица, которое лучше выражало бы доброту. Собственно говоря, он не знал ни более красивого, ни более одухотворенного, ни более привлекательного лица. Продолговатое лицо Женера дышало возвышенным благородством, как лицо Рузвельта. И хотя черты его были, пожалуй, более правильными — подбородок резче очерчен, разрез губ изящней, — все же Женер чем-то напоминал Рузвельта.
«У него лицо франкмасона», — говорил Морнан, который не любил Женера.
Брюннер первым сел за стол.
— Вы выпьете «порто», Марк? — спросила Бетти.
— Не думаю, чтобы он нуждался в возбуждающем, — пробурчал Брюннер, медленно развертывая салфетку, и, откашлявшись, продолжал: — Простите меня, дорогая, но поскольку мы все собрались, я хотел бы сказать несколько слов…
— Нельзя ли немного отложить этот разговор? спросил Марк.
— Я тоже так думаю, — сказал Женер. — Вы голодны, Марк?
— Умираю от голода.
— Отлично, — сказал Брюннер.
— Ах, молодость! — проговорил Женер, обращаясь к своему кузену. — Помнишь наше детство? Каникулы, пляж… Помнишь Кабург? Этот городок так нравился моей матери. Там все было как у Пруста. Мне казалось, что коридоры гостиницы…
— Кабург — грязная дыра, — перебил его Брюннер.
— Этьен, — строго спросил Брюннер, как только все четверо расселись, держа в руках чашки кофе, в очень красивой гостиной господина Женера (фотографии этой гостиной были даже помещены в журнале «Конессанс дез Ар»), — вам не кажется, что вы совершили самую крупную ошибку в своей жизни?
— Простите, — ответил Марк, — но я еще не рассматривал этого вопроса в таком аспекте.
— Однако это весьма важный аспект, — продолжил Брюннер, — и вам было бы очень полезно над этим задуматься. Чего вы надеетесь добиться?
— Ничего. Во всяком случае, я не преследую никакой личной выгоды.
— Так что, это месть, просто месть?
— Нет, отнюдь нет.
— Прекрасно. Ибо, если бы это была месть, то я бы преподал вам, Этьен, одну истину, которую вам было бы полезно усвоить: вполне естественно, а иногда даже достойно мстить врагам, но при условии, что тем самым ты не губишь своих друзей.
— Боюсь, что я вас не совсем понимаю, — сказал Марк.
— Однако это совершенно ясно. Господин Женер уступил свой банк Драпье, и тот, естественно, вправе ожидать известной… ну, что ли, лояльности по отношению к себе. Так вот, что бы вы сейчас ни предприняли против Драпье, все ваши действия он будет истолковывать, хотите вы того или нет, как инспирированные Женером.
— Понимаю, — сказал Марк. — Признаться, мне никогда не приходило в голову, что банк можно сравнивать с бакалейной лавочкой.
— Постарайтесь на этот раз обойтись без колкостей. Обратите внимание, что я к ним не прибегаю. Значит, для вас это вопрос принципа?
— Да. Для меня это вопрос принципа.
— Это не ответ, — сказал Брюннер. — Этот глупый ответ не ответ.
— Однако для меня, — сказал Марк, — это единственно возможный ответ.
Бетти Женер встала и налила всем еще кофе. Брюннер с раздражением следил за ней взглядом.
— Обратимся к фактам. Простите нас, Бетти, но мы здесь, так сказать, в кругу семьи. И я полагаю, пришло время выяснить до конца некоторые вещи. Вы знаете, как высоко я ценю нашего молодого друга. Это человек исключительно способный, блестящий, я бы сказал, выдающийся. Все это очевидно, и нет нужды говорить ему комплименты.
— Безусловно, и я был бы вам весьма признателен, если бы вы поскорее покончили с этим вступлением, — сказал Марк.
— Охотно. Тем легче мне будет сказать, что, по моему мнению, ваш характер не на высоте вашего интеллекта. Если бы я вас не знал, то без колебаний заявил бы, что вы вели себя сегодня утром, как хулиган. Есть вещи, которые делать непозволительно. Вас должны были бы этому научить. Сколько я ни роюсь в памяти, я не могу припомнить, чтобы генеральный секретарь восстанавливал совет против председателя. Это беспрецедентно! Может быть, ты, Альфонс, знаешь такой пример?
— Да нет, — ответил Женер.
— Теперь, Аль, я хочу задать тебе один вопрос: ты считаешь, что Этьен поступил правильно?
— Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос.
— Но мы ведь в кругу семьи.
— Я предпочитаю не отвечать на него даже самым близким, даже самому себе. Я давно уже задаю себе этот вопрос и…
— Отвечай без уверток, Аль. Ведь мы с тобой об этом говорили и, помнится, пришли к единому мнению, не так ли? Я понимаю, ты щадишь чувства Этьена, но на сей раз тебе придется высказаться со всей определенностью. Считаешь ли ты его поведение приличным?
— Нет.
— Превосходно! — воскликнул Брюннер. — Я прежде всего хотел, чтобы ты высказал ему свое осуждение.
— Вот как? — спросил Марк. — Осуждение?
— Нет, — сказал господин Женер. — Ничего подобного. Меня шокирует только одно обстоятельство…
— Об этом мы потом поговорим, — перебил его Брюннер. — Нам нужно обсудить немало вещей, поэтому давайте придерживаться определенного порядка.
— Послушайте, господин Брюннер, — сказал Марк, — у меня нет никаких оснований придерживаться вашего да и вообще какого-бы то ни было порядка. Вот уже шесть месяцев как я не работаю с господином Женером. Я предпочел бы об этом не напоминать, но, поскольку это обстоятельство кажется вам совершенно несущественным, я вынужден обратить ваше внимание на то, что многие вопросы я могу теперь решать по своему собственному разумению.
Женер улыбнулся.
— Именно это я и хотел сказать, Марк. Я ни минуты не смотрел на вещи иначе и никогда не осуждал вас. Мне бы хотелось, чтобы вы мне поверили, мой мальчик.
— Не волнуйся, он тебе верит, — вставил Брюннер. — Мне не хотелось бы оскорблять ваши чувства. Вы ведь относитесь друг к другу, как отец и сын. Такие отношения для меня священны. Но, черт возьми, может же отец руководить своим сыном? Могу ли я просить вас, Марк, отвечать на мои вопросы так, как если бы вам задавал их господин Женер?
— Я вас слушаю, — сказал Марк.
— Что вам сказала мадемуазель Ламбер?
— Когда?
— Сейчас, пока мы вас здесь ждали.
— Я ее не видел.
— Вы нас всерьез уверяете, что были все это время не с ней?
— Не вижу оснований уверять вас в обратном.
— В самом деле? Но тогда, боюсь, я переоценил ваш интеллект. Я начинаю сомневаться в ваших способностях. Итак, ситуация ясна: у нас, значит, нет никакой гарантии благоприятного исхода вечернего заседания?
— Никакой, — подтвердил Марк. — Никакой, если не считать вашего доверия к моим словам.
— Ваша добросовестность вне сомнений, мой бедный друг! Но мне шестьдесят лет, а вам? Тридцать!
— Ошибаетесь, больше, и не думаю, что мне предстоит узнать много нового. Во всяком случае, в этой области.
— Возможно, — сказал Брюннер. — Вполне возможно. В таком случае не будете ли вы так любезны рассказать нам о характере ваших отношений с Льеже-Лебо?
— Немного коньяку? — предложила Бетти.
— Разве что самую малость, — отозвался Брюннер.
— Аль, — спросила Бетти, — нельзя ли обойтись без этого разговора?
— Оставь, оставь, — мягко остановил ее Женер.
— Что, я действительно должен ответить на этот вопрос? — спросил Марк.
— Да, Этьен, мне кажется, так будет лучше для всех. Вы, наверно, знаете, что в известный период Льеже-Лебо и Драпье были тесно связаны?
— Нет, я этого не знал!
— В самом деле? Но вам, конечно, известно, как Льеже-Лебо уничтожил Драпье после Освобождения?
— Нет, — сказал Марк.
— Но вы не можете не знать, — сказал Брюннер, — что Мабори ввел Льеже-Лебо в совет специально для того, чтобы свалить Драпье при первом же его промахе.
— Допустим, что я об этом догадывался, — сказал Марк, — допустим, что я не законченный болван. К чему вы клоните?
— А вот к чему. Напрашивается простой вопрос: почему вы стали на сторону Льеже-Лебо против Драпье?
— Боюсь, вы слегка искажаете истину. Произошло как раз обратное. Это Льеже-Лебо стал на мою сторону.
— Я не вижу здесь разницы. — Брюннер громко вздохнул. — Хотите, чтобы я вам сказал, какая мысль пришла мне в голову в этой связи?
— Позвольте, — сказал Марк. — Эта мысль пришла и господину Женеру?
— Перестаньте противопоставлять нас друг другу. Мы с Алем не расходимся во мнениях, мы идем рука об руку.
— Прекрасно, — сказал Марк. — Что ж, говорите.
— Мы, Аль и я, подумали, что Льеже-Лебо посулил вам неплохую карьеру у Мабори, если вы поможете ему устроить скандал в нашем банке. И мы, Аль и я, решили, что вы не остались вполне равнодушны к этому предложению.
— Нет, — сказал Марк. — Что вы так думаете, это вполне естественно. Я искренне верю, что вы так подумали. Но господин Женер не мог этого подумать. Он знает, что это неправда. Не то чтобы… — Марк старался говорить спокойным голосом; он не хотел, чтобы показалось, будто он взывает к чувствам Женера, — …не то чтобы я категорически отказывался работать у Мабори. Я буду работать везде, где мне предложат применять свои знания на честных условиях…
— Меня весьма удивило бы, — сказал Брюннер, — если бы после вашего выступления сегодня утром вам предложили какую-нибудь должность.
— …но, — упрямо продолжал Марк, повышая голос, — господин Женер никогда не мог подумать, что я был готов получить должность у Мабори в награду за такого рода махинацию.
— Быть может, у него были некоторые основания так думать, не правда ли, Аль?
— Нет, — ответил Женер. — Я никогда этого всерьез не думал. Я просто был встревожен. Я вас хорошо знаю, Марк, но святых не бывает. Каждому человеку ведомы искушения. Я был встревожен. Я опасаюсь ловушек. Я вам уже говорил это сегодня утром по телефону. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать, ибо вы попались в ловушку Льеже-Лебо.
— Конечно, — поддакнул Брюннер, — для финансового мира вы теперь конченый человек. Зарубите это себе на носу!
— Я и так пытаюсь внушить себе это, — сказал Марк. — Благодарю вас за помощь.
— Ну что вы, что вы, — проворчал Женер, — вы же знаете, что я сделаю для вас все, что будет в моей власти.
— Ну конечно, — подхватила Бетти, — все уладится наилучшим образом, вы увидите. А теперь — конец! Вы забудете все, что здесь было сказано, и будете спокойно говорить о другом…
— Простите, Бетти, — перебил ее Брюннер. — Когда я утверждаю, что у Аля есть некоторые основания изменить свое мнение об Этьене, я знаю, что говорю. Аль сделал вид, что пропустил мои слова мимо ушей. Но хоть он и сама доброта, я уверен, в душе у него остался неприятный след. Быть может, Этьен, вы помните, как он сказал в начале нашего разговора: «Меня шокирует только одно…»
— Перестаньте! — воскликнула Бетти.
Она встала. Все трое посмотрели на нее. Она покраснела и тяжело дышала. Марк только теперь заметил, как красива эта женщина, которую обвиняли в тяготении к буржуазному благополучию и беспечной, богатой жизни. («Мне невероятно повезло, — доверительно сказал ему Женер вскоре после своей свадьбы. — Просто невероятно».)
— Скажите ему, чтобы он замолчал. Я прошу вас, Аль. Я вас прошу.
— Успокойся, дорогая. Это трудная минута. Бог видит, что это трудная минута для каждого из нас, но нужно через это пройти, — ответил Женер и взял ее за руку.
— Речь идет, как вы, вероятно, догадываетесь, о Мореле, — сказал Брюннер. — Похоже, что в этом отношении у вас совесть не совсем чиста. Когда я вас спросил о Мореле, вы заверили меня, что не встречались с ним в последнее время. Вы можете сейчас это подтвердить?
— Даже если бы я и встречался с ним, я не должен был бы перед вами отчитываться. Я считаю, что вас это не касается.
— Однако сегодня утром вы ответили мне гораздо определенней.
— Я и тогда считал, что это вас не касается.
— И все же утром вы мне ответили. Вы плохо лжете, Этьен, вы чертовски плохо лжете!
— Да, лгать я не умею. Уж извините меня великодушно. Этому мне тоже следовало бы научиться.
— Это была не то чтобы ложь, а скорее отсутствие доверия к нам, но меня это немного огорчило, — сказал Женер.
— Не вы задавали мне этот вопрос.
— Ну, конечно, Аль, если бы ты его спросил, он бы ответил тебе откровенно. Я внушаю куда меньше доверия, чем ты. Поэтому спроси теперь его ты, что он делал двадцать шестого января на бульваре Шарон.
— Раз вы так хорошо осведомлены об этом, — сказал Марк, — почему вы не говорите, сколько времени я провел с Морелем.
— Я не имею об этом понятия.
— Однако это важно.
— Нет. Важно другое — место вашей встречи. Надо думать, вы не часто попадаете на бульвар Шарон. Это довольно далеко и от вашего дома и от тех мест, где вы бываете. Припомните-ка, сколько раз за десять лет вы попадали туда.
— Неужели вы не способны понять, что человек может иногда оказаться и на бульваре Шарон и в любом другом месте Парижа без определенных причин. Имеет для вас какой-то смысл слово «случайность»?
— Для меня? Никакого! Впрочем, мне совершенно безразлично, встретили ли вы Мореля на бульваре Шарон или на Пляс д’Опера. Мне только кажется, что если это умело подать, то вполне может создаться впечатление, что у вас там было назначено свидание.
— Вы и так это неплохо подали.
— Ну, хватит! — воскликнул Брюннер. — Мне надоела ваша враждебность. Сам говори с ним, Аль!
— Марк, — произнес Женер подчеркнуто спокойным тоном, — в свете всего сказанного мне представляется, что вам было бы лучше не присутствовать на вечернем заседании совета.
— Понятно, — сказал Марк. — Только незачем было это так обставлять. Я знал, что этим кончится, но…
— Могут быть два варианта…
— …но мне представляется, что я, напротив, должен присутствовать на заседании.
— …два варианта, мой мальчик. Мадемуазель Ламбер либо станет отрицать ваши слова, и тогда ваше присутствие не даст вам никакого преимущества, либо она изобличит Драпье, и тогда…
— И тогда вытащат историю с Морелем. Я знаю, — сказал Марк.
— Брюннер пойдет на заседание, мы же — Бетти, вы и я — спокойно останемся здесь. А там будет видно.
— Нет, — ответил Марк.
— Подумайте, — сказал Женер. — У нас еще много времени. Подумайте еще.
Воцарилось долгое молчание.
— Господин Брюннер, — сказал Марк, — мне хотелось бы знать, когда вы виделись с Ансело? Это не могло быть после заседания. Ведь из банка вы приехали прямо сюда, не правда ли?
— Да.
— Значит, это было до заседания. Значит, когда вы задавали мне этот вопрос, вы прекрасно знали, как обстоит дело. Вы пошли к Ансело и сказали: «Я заплачу, сколько надо, но вы должны во что бы то ни стало повторить мне все эти гадости про Этьена».
— Я в отчаянии, что вам это представляется в таком свете! — воскликнул Брюннер.
— Ну, все, — сказал Марк. — Я думаю, господину Женеру ясно, с чьей стороны отсутствует доверие?
— Аль в курсе дела, ему не в чем меня упрекнуть.
— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Марк. — Я полагаю даже, что он поблагодарил вас за вашу предусмотрительность. А может быть, он сам попросил вас это сделать?
— Прошу вас, Марк…
— Предупреждаю вас, — заявил Брюннер, — что мы, Аль и я, не привыкли выслушивать нотации. Если вы не понимаете, что мы действовали в ваших же интересах, значит вы законченный болван. Да, я узнал про вас это, а заодно и немало других вещей, которые вам вряд ли будет приятно услышать на заседании совета.
— Что, например?
— Ваш отец работал в страховом обществе «Секанез», не правда ли?
— Да, ну и что?
— Быть может, вы помните, что в 1934 году — о, это очень, очень старая история — его обвинили в растрате некоторой суммы?
— Четырнадцати тысяч четырехсот двадцати восьми франков, — сказал Марк, — я это прекрасно помню. Но я должен вас предупредить, что это было ложное обвинение.
— Я знаю. Вероятно, это было ложное обвинение. Однако это дело никогда не было вполне ясным.
— Оно всегда было вполне ясным! — воскликнул Марк.
— Подумайте вот о чем, Этьен: кажется, с тех пор прошло двадцать два года. Спустя двадцать два года очень трудно доказать, что дело такого рода было вполне ясным. Я полагаю, что вы очень любили своего отца и готовы защищать его память. Но вы никому не помешаете утверждать, что его считали мошенником в течение…
— В течение восьмидесяти семи дней, — уточнил Марк. — Только восьмидесяти семи дней. Затем перед ним извинились. Разве Ансело вам этого не сказал? Он не сказал вам, что отцу вернули должность, с которой его прогнали.
— Нет, — сказал Брюннер, — что-то не припоминаю. Впрочем, если хотите знать мое мнение, это особого значения не имеет.
Марк встал. У него слегка кружилась голова. Брюннер смотрел на него в упор, да и Женер тоже не сводил с него глаз, ставших вдруг какими-то невыразительными и пустыми. Серый мартовский свет, проникая сквозь высокие окна, едва освещал комнату. Марк на мгновение вспомнил фотографию, на которой они были сняты втроем — Брюннер, Женер и он. Он — в центре. Они стояли, взявшись под руки, на одной из аллей парка Монсо.
— Я тоже могу поделиться с вами своим мнением, — сказал Марк, — я могу вам высказать свое мнение о вас, если вам угодно.
— В этом нет необходимости, — с улыбкой ответил Брюннер.
— Замолчите! — сказал Женер. — Я потрясен! Я не думал, что это будет так…
— Да, да, — перебил его Марк.
— Вы понимаете… — продолжал Женер.
— Понимаю, — сказал Марк. — Что бы со мной ни случилось в дальнейшем, ничего более гнусного я уже не переживу. Я не знаю, всерьез ли вы рассчитывали таким способом убедить меня не пойти на заседание. Но, во всяком случае, вы избавили меня от неожиданностей. Мы провели прекрасный вечер в кругу семьи. Благодарю вас.
Господин Этьен сам руководил занятиями Марка. Ни один отец в мире не желал так страстно устроить судьбу своего сына.
Когда Марк в первый раз пошел в коллеж, отец провожал его до самых дверей. Держась за руки, они прошли через весь Немур. Было чудесное октябрьское утро, и Марк до сих пор помнил все, что они видели по дороге: продавца газет, повозку молочника, возвращавшиеся с Лазурного берега в Париж шикарные автомобили, которым приходилось тормозить на повороте перед мостом. «Смотри хорошенько и запоминай», — повторял Марку отец, хотя понимал, что мог бы и не говорить этого. Есть дни, когда каждая мелочь врезается в память. «Пожалуй, ни у одного человека за всю жизнь не наберется и десяти знаменательных дней, но этот день ты никогда не сможешь забыть, и накажи меня бог, если ты потом не будешь вспоминать о нем, как о твоем самом счастливом дне». Они прошли через мост. «И ты не должен разочаровывать меня. Ведь я люблю тебя больше всего на свете». Они подошли к перекрестку, от которого коллеж был уже в двух шагах. «И еще вот что, Марко. Ты первый в нашей семье будешь изучать латынь. Ты поступаешь не в обычную школу. Если бы это была обычная школа, не о чем было бы и говорить…»
Марк уже не помнил, когда отец сказал, что вместе с ним засядет за латынь, но вначале ему это показалось прекрасной идеей. Господин Этьен стал раньше возвращаться из конторы. «Что мы сегодня прошли?» — спрашивал он с довольным видом, потирая руки. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим». Он даже лез из кожи вон, чтобы не отстать от сына. Марку приходилось ему все объяснять с азов. Это было трогательно и немножко глупо. Отец очень огорчался, что он такой тугодум. Сколько часов провели они вместе в отведенной для занятий комнате на первом этаже флигеля, где не было ничего, кроме дубового стола, грамматики Жоржена, пузырька с чернилами «Паркер» и настольного календаря на мраморной подставке! Марк не мог подумать об этом, чтобы на него вновь не нахлынула нежность, смешанная с досадой и жалостью.
Но именно там, в этой пустой комнате, Марк познал возмущение, гнетущее чувство несправедливости и враждебности мира, мучительные подозрения и страх, особенно страх, — все то, что он так старался забыть и что он, наверное, так никогда и не забудет. Мельчайшие подробности «истории с деньгами» остались связаны в его памяти с календарем на мраморной подставке и пузырьком с чернилами «Паркер», на которые он смотрел, слушая отца, как будто пережитая ими драма от начала до конца развертывалась в стенах этой комнаты. Это там однажды вечером отец сказал Марку: «Сегодня мне не до латыни. Меня обвиняют в растрате четырнадцати тысяч четырехсот двадцати восьми франков, а у меня даже нет таких денег. Мне негде взять четырнадцать тысяч четыреста двадцать восемь франков, чтобы возместить недостающую сумму и исправить таким образом мою „ошибку“, как они это называют, что я мог бы сделать, если бы действительно их украл!» — «Предположим, ты достал бы эти деньги, — сказал Марк. — Ты бы их вернул?» — «Нет. Конечно, нет».
«Потому что, — объяснил он (но уже позже, недели через три после второго вызова к следователю), — я всегда считал, что нужно бороться против малейшей несправедливости. Но я ошибался. Теперь я вижу, до какой степени я ошибался».
И в этой самой комнате однажды, поздно вечером, Марк застал отца в страшной и неестественной позе: он полулежал на стуле, запрокинув голову, с открытым ртом, бледный и недвижимый, как мертвец. Марк бросился к нему и стал трясти его, пока он не очнулся от этого жуткого сна, пока в его глазах не промелькнул безмолвный ответ: «Нет, нет! Не бойся, я этого не сделал и никогда не сделаю».
И в той же комнате спустя восемьдесят семь дней он сказал: «Вот и все. Не будем об этом больше говорить». И добавил: «Теперь я могу прогуляться по городу, не правда ли?» Марк смотрел ему вслед, пока он, высокий, худой, нескладный, шел через сад своей развинченной походкой, которую Марк, слава богу, не унаследовал.
Марк считал, что многое унаследовал от отца. Его наивность, его восторженность. («Быть может, мой опыт когда-нибудь пригодится тебе. Не правда ли, сынок?») Все, что было в нем трогательного и чуточку глупого. Но у Марка эти качества были все же не так резко выражены и часто видны лишь ему одному. Так смягчаются из поколения в поколение фамильные черты.
На следующий день они отправились поблагодарить комиссара Ансело, который показал себя в этом деле с такой хорошей стороны. Ансело жили совсем близко от них, через дорогу, на берегу Луена. «Наши соседи — наши друзья».
Жак был дома. Ангельское личико, матросский костюмчик…
«Подонок, — подумал Марк. — Хороши же мои старые друзья! Подлец на подлеце!»
Он медленно шел по улице Ром. Когда показались красные огни вокзала Сен-Лазар, он решил повидать Морнана. Он взглянул на часы и не без досады убедился, что еще успеет его повидать, если действительно хочет этого. Он знал, где его найти. Филипп каждый день завтракал в своем клубе и проводил там час-другой во второй половине дня. Клуб предоставляет экономное и изысканное решение многих проблем. Позавтракать или пообедать там обходится не слишком дорого: четыреста — четыреста пятьдесят франков. Это столовая преуспевающих людей.
Клуб «Ламет» находился на улице Миромениль и занимал два этажа невзрачного здания. Лифт не работал, а лестница была грязноватая. Однако «Ламет» принадлежал к старейшим парижским клубам, а Руэр и Морни сделали его модным. Долгое время он был «политиканским», потом стал клубом финансистов, а в кризисные тридцатые годы и мелких биржевых дельцов, но несколько «чисток» вернули ему его настоящее лицо, и он снова приобрел репутацию шикарного и солидного заведения. Там можно было встретить всех, кто имел вес в банках и кредитных обществах. Филипп стал завсегдатаем «Ламета» очень рано, когда он еще не преуспевал и даже не был на пути к этому, а был просто студентом. Он записался туда вскоре после Освобождения, как только устав клуба был пересмотрен и туда получили доступ евреи (которые, правда, этим не воспользовались) и другие лица, ранее не принимавшиеся в «Ламет».
В то время Марк удивлялся такой поспешности. Он знал взгляды Филиппа, вернее — думал, что знает. Филипп был членом МРП[2]. Христианские демократы тогда не бог весть как далеко заходили в своих программных требованиях, и Филипп был посмелее других. На него возлагали большие надежды как на будущего специалиста по экономическим и социальным вопросам, одного из тех немногих, кто был способен создать более или менее стройную экономическую теорию (при условии, что зайдет очень далеко), и он не раз блистал на их теоретических конференциях, внося смятение в умы, — это было в его вкусе.
— Что тебя там привлекает? — как-то раз спросил его Марк. — Какое ты находишь удовольствие в том, чтобы общаться с этими старикашками из «Ламета»?
— Они мне нравятся. Мне кажется, что в глубине души я их люблю. Они восхитительны и притом восхитительно упорны в своих заблуждениях. Все, что я о них знаю, вызывает у меня симпатию к ним. Словом, они мне по душе, разумеется, как люди.
— Как люди, — сказал Марк, — они при случае мигом проглотили бы такого юнца, как ты.
— Ты думаешь? — спросил Морнан. — Я на твоем месте поразмыслил бы над тем, какая пропасть разделяет финансовые теории и финансы, финансовое дело. Я нетерпелив. Я чертовски нетерпелив. Мне всегда казалось, что читать «Искусство любви» далеко не то же самое, что спать с женщиной.
Марк и трех раз не был в «Ламете», но когда он вошел, ему показалось, что все взоры обратились к нему.
Он быстро прошел через первый салон, где потертые кресла выставляли свои язвы напоказ при ярком свете слишком большой, слишком внушительной хрустальной лампы, сел за стойку и спросил кофе.
— Добрый день, — раздался голос господина Ласери, который сидел рядом с ним, согревая в руке рюмку коньяку.
— Добрый день, — сказал Марк.
— Простите, сударь, — спросил бармен, — вы член клуба?
— Нет, — ответил Марк.
Господин Ласери вскинул голову и, посмотрев на него поверх очков, сказал:
— Я могу вам дать поручительство.
— Спасибо. Я ищу господина Морнана.
— А! Он играет в бридж, — сказал гарсон.
— Скажите ему, пожалуйста, что я здесь.
— Не могу, сударь. Нам не полагается беспокоить господ во время игры. Извините, но здесь такой порядок. Вам лучше самим туда пройти.
— Боюсь, что вы никогда не усвоите стиля «Ламета», — сказал господин Ласери.
— Я тоже так думаю, — ответил Марк.
— Это в самом конце, — сказал бармен. — Четвертый салон.
Четвертый салон был меньше и светлее трех остальных, стены его были недавно выкрашены, а перед отделанным под кирпич ложным камином стояла обтянутая зеленой кожей банкетка в форме полукруга. Филипп Морнан вистовал.
— Здравствуй, Этьен, — сказал он довольно холодно.
— Здравствуй, Филипп. Как поживаешь, дружище? (Это, должно быть, тоже не совсем отвечало стилю «Ламета».) Я хотел бы поговорить с тобой.
— По какому поводу?
— По поводу того, что произошло сегодня утром. Ты обычно даешь неплохие советы.
— Еще бы, — сказал Филипп. — Вы знакомы? Марк Этьен.
Он представил ему своих трех партнеров — Марк плохо расслышал их имена.
— Так это вы Этьен? — спросил пасовавший игрок, толстый мужчина среднего возраста, который, как и двое других, не был «человеком с именем» и, хотя держался вполне в духе «Ламета», едва ли мог когда-нибудь стать им. — Позвольте вам сказать, что, на мой взгляд, вы поступаете неразумно.
— Неужели? — сказал Марк.
— Ты выпьешь что-нибудь? — спросил Филипп. — Что тебе заказать? Виски?
— Что хочешь, дружище… Это не так просто. Вероятно, вы не знаете всех обстоятельств дела.
— Вы сами себя топите, это совершенно ясно, — сказал толстяк.
— Это второстепенный вопрос, — ответил Марк, — но те, кто знает все обстоятельства дела, могут сказать, что я правильно поступаю, пытаясь свалить этого негодяя.
— Вы, в самом деле, так смотрите на вещи? — спросил толстяк.
— Безусловно, — сказал Марк, беря стакан, который ему протягивал Морнан. — Мы с Филиппом как раз говорили об этом сегодня утром. Вы ведь знаете, мы старые друзья и всегда работали вместе. Конечно, он может быть пристрастен ко мне, но все же его мнение что-то значит, а он, наверное, вам говорил…
— Старина, — прервал его Филипп, — уж не считаешь ли ты себя пупом земли? Мы говорили о многом, но не о твоих неприятностях. — И, улыбнувшись, добавил снисходительным тоном: — Ну, пойдем.
Они сели перед камином со стаканами в руках. Филипп принялся помешивать угли. Помешивать угли, усердно помешивать угли входило в стиль «Ламета».
— Ты помнишь, что я тебе говорил на берегу озера? — спросил Марк.
— Да. Отлично помню.
— Помнишь, ты мне сказал в то утро, что как бы тихо мы ни разговаривали, нас кто-то слышал.
— Я не сказал «кто-то». Я сказал: «Как бы тихо мы ни разговаривали, они нас слышали». Я думаю, ты понимаешь, кого я подразумевал, говоря «они».
— Да. Прекрасно понимаю. Я не привык, как ты, играть словами, но должен признать, что это было неплохо сказано.
— Дай твой стакан, — проговорил Филипп и поставил пустой стакан на камин. — Черт возьми, Марк, почему ты говоришь со мной таким тоном?
— Я хочу только задать тебе два-три вопроса. Ты помнишь первый прием, который устроил Драпье, когда пришел в банк?
— Признаюсь, не очень. Кажется, мы оба тогда основательно выпили. А разве там произошло что-нибудь из ряда вон выходящее?
— Нет. Ничего из ряда вон выходящего. Но именно тогда нас и слышали.
— Что слышали?
— Помнишь, ты мне сказал, что не сможешь по-настоящему уважать человека, который никогда не станет вмешиваться в то, что его не касается.
— О ком шла речь?
— О некоем Этьене и о роли, которую он будет играть в банке Драпье.
— Возможно. Это на меня похоже. Я вполне мог это сказать, но не берусь утверждать, что сказал.
— Ты не мог бы засвидетельствовать это?
— Зачем? Зачем это надо? — спросил Филипп и, залпом осушив свой стакан, поставил его на камин. — Всякий раз, когда ты нуждался в моей помощи, я был к твоим услугам («Когда? Что ты имеешь в виду? Разве я когда-нибудь обращался к тебе за помощью?»). Не понимаю, черт побери, куда ты клонишь, но можешь быть уверен, что ради тебя я готов засвидетельствовать все что угодно.
— Но ты мог бы засвидетельствовать, что эту фразу произнес именно ты, а не я?
— А был при этом кто-нибудь еще? Я хочу сказать, не присутствовал ли кто-нибудь при разговоре?
— Не думаю.
— Очень возможно, что это сказал я. Не помню. Решительно не помню.
— Это не так уж важно, — сказал Марк, — но я прошу тебя, постарайся вспомнить.
— Хорошо, хорошо. Я попытаюсь. А я думал, ты собираешься поговорить со мной о том, что произошло сегодня утром.
— Об этом я и говорю.
— Кто-нибудь привел эту фразу?
— Да, привели и ее.
— И ее приписали тебе? Для того, чтобы тебе повредить?
— Вот именно, — сказал Марк. — И я хотел точно выяснить, как обстояло дело.
— На случай, если об этом опять зайдет речь?
— Вот именно. Тогда я скажу, что мне казалось, будто эту фразу произнес ты, но что ты об этом не помнишь. Или что я ошибался, что ее произнес я, кто угодно другой, только не ты. Или, наконец, что она вообще не была произнесена.
— Это было бы лучше всего, — сказал Филипп. — А действительно, была ли она произнесена?
— Это не доказано.
Филипп вздохнул.
— Неужели ты потерял ко мне всякое доверие?
— Не знаю, — сказал Марк. — Я отвечу тебе завтра.
— Почему?
Вернувшись в свой кабинет, Марк нашел письмо, которое ему принесли от Женера. «Все это ужасно, — писал Женер. — Я искренне хотел вас убедить не ставить себя под удар. Но и только. Вы не должны думать, что я преследовал какие-то другие цели, вы не должны даже допускать подобной мысли. С тех пор как вы ушли от меня, я совершенно подавлен. Я не нахожу себе места. Я вам звонил, но вас еще не было. И вот я вам пишу…»
Марк снял трубку и позвонил Женеру.
— Послушайте, — сказал Марк, — вы сделали выбор между Льеже-Лебо и Драпье. А я — нет. Что бы вы ни говорили по этому поводу, что бы ни говорил господин Брюннер, я не перешел на сторону Льеже-Лебо. Но вы, господин Женер, перешли на сторону Драпье.
— Послушайте, — сказал Марк, — Драпье выставил вас из вашего собственного банка. Почему? Вы так и не пожелали мне это сказать. Между нами как будто все ясно, но есть много темных вопросов такого рода. Разве вы хоть единым словом дали мне понять, почему вы ушли? Вы знали, кто такой Драпье, какие силы он представляет, и все-таки ушли. Без сопротивления.
— Послушайте, — сказал Марк. — Драпье вас выгнал из вашего банка, Драпье представляет все то, что вам ненавистно, против него вы боролись по крайней мере в течение многих лет, лучших лет вашей жизни, — вы сами мне это говорили, и я вам охотно верил, — и вот теперь вы соглашаетесь меня поддержать… Нет, нет, вы мне ничем не обязаны, я получил больше, чем дал. Кем я был? Вы ведь помните, кем я был!.. Вы соглашаетесь меня поддержать только при том условии, что я не скажу и не сделаю ничего такого, что могло бы даже не повредить Драпье, а хотя бы бросить на него малейшую тень. Я не понимаю этого. Я чего-то здесь не понимаю. Не говорите мне опять о моей карьере. И не говорите, что вы заблуждались, но у вас были самые благие намерения. Вы слишком умны. Мне наплевать на мою карьеру. Считайте, что я поставил на ней крест.
— Послушайте, — сказал Марк, — вы очень умны. Быть может, завтра я буду думать о вас много плохого, но я всегда буду помнить наши долгие беседы о судьбах мира. Я считал вас самым умным, самым проницательным человеком на свете, хотя это может показаться вам странным, хотя я подчас не соглашался с вами и иногда вас потом опровергали события, — и не только самым умным, но и самым справедливым, самым благородным человеком. Вы были в моих глазах либеральным финансистом — не таким, каковы в действительности либеральные финансисты, не таким, как те, которых можно встретить в клубах вроде «Ламет» и которые пожизненно носят это звание, а таким, каким должен быть либеральный финансист, если, как я тогда думал, это не просто вымышленное понятие. И если вы когда-нибудь полагали, что все, что я делал, например работал по ночам, приходил в банк по воскресеньям, я делал только ради карьеры, то вы ошибались. Я делал это также ради вас, из величайшего, непоколебимого уважения к вам. По-моему, я никогда не говорил вам этого, но я вас уважал и восхищался вами. Благодаря вам, даже когда мне приходилось заниматься самыми неприятными вещами, неизбежно связанными с нашей профессией, мне всегда казалось, что я продвигаюсь вперед и выше. Я даже преодолел чувство стыда, которое прежде всегда испытывал, когда мне приходилось иметь дело с деньгами. Мне это было нелегко, но я этого достиг. Я дошел до того, что мне доставляло удовольствие подсчитывать… Теперь, когда я вижу, какой я проделал путь и как я был одинок, мне становится страшно. Нет, нет, я не устал, я знаю, что говорю… Я был уверен, я ни минуты не сомневался, что вы всегда будете со мной. И я могу вам признаться: я свыкся с мыслью умереть в шкуре старого либерального клоуна. Но самое тяжелое — жить в этой шкуре.
Вы так не считаете?
Нет, я не очень благоразумен. Надеюсь, вы никогда не принимали меня за благоразумного человека.
6
19 марта, понедельник. Второе заседание.
Заседание открывается в 16 часов 15 минут под председательством господина Эрнеста Драпье, председателя административного совета.
Господин Ласери просит слова по вопросу о протоколе.
Председатель. Слово предоставляется господину Ласери.
Господин Ласери. Мне вручили, как и каждому из вас, экземпляр протокола. И я должен сказать, что если наше утреннее заседание и велось в несколько повышенном тоне, то этот документ способен дать о нем совершенно превратное представление. Мы видим здесь такую необузданность, такой разгул страстей, такой поток непристойных выражений, которые, на мой взгляд, немыслимы в столь порядочном обществе, как наше.
Господин Ласко. Несомненно; и я сожалею, что господин Этьен поддался запальчивости. Ибо нужно признать, что он порой выражался несдержанно.
Господин Ласери. Да, но только он. Он, и только он. Мы не пошли по его стопам. Между тем меня, как и всех вас, господа, представили здесь в таком свете, что я не могу себя узнать и не буду голосовать за утверждение протокола.
Протокол, поставленный на голосование, не утверждается.
Согласно уставу в десятидневный срок на рассмотрение совета будет представлена исправленная редакция протокола.
Господин Оэттли. Господин Эрекар по не зависящим от него обстоятельствам не может присутствовать на заседании. Он просил меня принести вам его извинения.
Председатель. Господин Льеже-Лебо также дал мне знать, что будет отсутствовать, так как, если не ошибаюсь, на это время у него уже были назначены деловые свидания.
(Улыбки.) Я уверен, что совет не обессудит обоих наших друзей.
(Общее одобрение.)
Господин Ласери. Я весьма рад, что это заседание открывается в столь спокойной атмосфере. Уж на этот раз нелегко будет усмотреть необузданную горячность в наших дебатах! И если мне будет позволено прибавить еще два слова, я воспользуюсь случаем, чтобы выразить признательность нашему дорогому председателю, обремененному, как нам всем известно, множеством серьезных дел, за то, что он с такой невозмутимостью согласился на этот до смешного пустой спор.
Председатель. Когда хотят свернуть кому-нибудь шею, годится любой повод. А они хотели свернуть мне шею, но даже не осмелились прийти.
Господин Ласко. Браво, председатель!
Председатель. Господин Ле Руа, распорядитесь, пожалуйста, известить мадемуазель Ламбер, что мы ее ждем.
Заседание прерывается в 16 часов 25 минут.
— Вы прекрасно сделали, что пришли, — сказал господин Оэттли. — Поздравляю вас, Этьен. Не у всех хватило бы на это мужества.
Марк не ответил. У него за спиной, в камине гудел ветер. Почти все поднялись со своих мест и со смехом обменивались любезностями.
Марк был рад, что чувствует себя таким одиноким. Ему казалось, что он составил себе довольно точное представление о подлинном одиночестве — одиночестве, которое избавляет от всяких слов, которое избавляло его от необходимости отвечать Оэттли и избавит сейчас от надобности прибавлять что бы то ни было к показанию Кристины Ламбер, будь оно правдивым или ложным, выгодным или невыгодным для него. Он с утра смутно ощущал это одиночество, и он еще лучше, гораздо лучше осознал его, когда говорил с Женером, когда, охваченный каким-то странным чувством, похожим на желание довести свое одиночество до высшей степени, завершить его, так легко находил нужные слова, чтобы порвать последние связи, изгнать из своей жизни Женера с его немощной привязанностью, которая иначе, вопреки всему, оставила бы на нем свой отпечаток, как след давнего прошлого. Но только в этом зале с лепным потолком и панелями красного дерева, где он еще мысленно видел самого себя, каким он был прежде, сидящего слева от Женера, потом от Драпье и озабоченного тысячью важных пустяков — воплощенную добрую волю (слепого осла на нории)[3], — только в этом зале он вступал во владение своим одиночеством, наслаждался им, все глубже погружался в него, словно там, на самом дне, где угадывалось гнусное равнодушие, с ним уже не могло произойти ничего серьезного.
Оэттли произнес еще фразу, которую Марк пропустил мимо ушей.
Он рассеянно смотрел на группы беседующих, не понимая смысла улыбок, игравших на их сытых лицах. Он думал о фразе из романа, который он прочел в Немуре: «У меня такое впечатление, будто мы — десять медведей, оказавшихся воскресным днем в одной клетке». Что их было десять, не считая его, и что они были всецело заняты им, не имело никакого значения. Равным образом ничего не меняло и ничего не прибавляло то, что в воздухе пахло победой. Все было отмечено смертью. Он давно знал, что эти люди — нули, он, конечно, знал это, но еще не так, как теперь. До сих пор Женер придавал им видимость существования; интересы Женера требовали, чтобы они появлялись время от времени, то один, то другой; исчезновение Женера возвращало их в небытие.
Впервые в жизни он испытывал неописуемое чувство небытия, но оно уже казалось ему знакомым. Он думал о давно минувшем. О том, что сказала ему Дениза как-то вечером, когда была у него: «Мне нравится, что мы оба так ужасно заняты и что, когда мы находим часок-другой для нашей любви, нам это кажется почти чудом. Ведь эти встречи не могут стать привычными, правда, милый»? И он ответил: «Нет, не могут». Она прижалась к нему, закрыв глаза, словно засыпая, — она всегда засыпала внезапно, иногда посреди фразы, и сказала: «Я люблю тебя. Я люблю тебя за то, что ты такой, как ты есть». — «А себя ты не любишь?» — спросил он. Он знал, что она живет именно так, как решила жить. Для Денизы не существовало проблемы женской независимости. Ей достаточно было чувствовать себя красивой, умной и здоровой. Ей явно никогда не случалось испытывать чувства собственной неполноценности перед лицом мужчины, и она даже не гордилась тем, что вытеснила большинство мужчин, которых ей противопоставляла «Шелл» в Соединенных Штатах. Она кончила юридический факультет, изучила английский язык, проведя год у скаредных истборнских буржуа, и все это для того, чтобы заткнуть за пояс заносчивых и самоуверенных господ из «Шелл» и откуда угодно, ибо, должно быть, еще совсем юной сказала себе, что самое важное бороться с этими самоуверенными людьми, которых на свете полным-полно.
Привратник принес красное кресло, которым пользовались в тех редких случаях, когда совет решал выслушать служащего или постороннее лицо, ужасное кресло в стиле королевы Анны с ножками в виде львиных лап.
И Марк также знал, что для нее было не безразлично его положение, что ей импонировала роль, которую он играет как деловой человек, и приятно было чувствовать, что он озабочен тысячью важных мелочей даже в те минуты, когда, казалось бы, должен всецело принадлежать ей. В этом не было никакого тщеславия, просто ей была по вкусу жизнь, которую она вела, и потому хотелось, чтобы и повсюду вокруг кипела такая же жизнь. Ей нравилось отбиваться от множества дел, чтобы увидеть его, и, когда возникало какое-нибудь препятствие, которое надо было преодолеть, это тоже доставляло ей удовольствие. Дениза была не создана для рая в шалаше, и он спрашивал себя теперь, сможет ли она, если предположить, что она все еще любит его, любить его новый облик — не облик «конченого человека», преждевременно оказавшегося не у дел, в чем, впрочем, он не очень себя винил, а тот новый облик, который сообщало ему одиночество.
Вошла Кристина Ламбер, и он перестал думать о Денизе.
На ней было платье из серого твида, слегка морщившее на бедрах. Она шла, высоко держа голову, ни на кого не глядя и стараясь придать себе уверенный вид, отчего ее губы складывались в презрительную гримасу. Сделав несколько шагов, она остановилась. Ей указали на ужасное кресло в стиле королевы Анны. Она с минуту посмотрела на него, как посмотрела бы на какое-нибудь диковинное, древнее орудие пытки.
В ее лице было что-то такое, что не давало Марку думать о Денизе и о чем бы то ни было и что, быть может, не позволяло ему чувствовать себя совсем одиноким.
Заседание возобновляется в 16 часов 35 минут.
Председатель. Мы должны допросить мадемуазель, но если я сам сделаю это, в чем только меня не обвинят! Так что я поручу это одному из вас. Что вы об этом думаете, господин Брюннер?
Господин Брюннер. Мне это совершенно безразлично.
Председатель. Хотите вы ее допросить?
Господин Брюннер. Конечно, нет. И я не понимаю, почему вы с таким упорством обращаетесь ко мне.
Председатель. Я уважаю оппозицию. Я всегда предоставляю оппозиции доводить свои маневры до конца.
Господин Брюннер. Я не представляю оппозиции. Мы не оппозиция! Когда мы пришли в ваш кабинет…
Председатель. Знаю, знаю…
Совет, посовещавшись, решает, что мадемуазель Ламбер будет допрашивать господин Ласери.
Господин Ласери. Я до сих пор еще не был с вами знаком, мадемуазель, но хочу воздать должное вашей красоте и грации, полагая, что выражу общее мнение.
(Улыбки.)
Прежде всего мы просим вас отвечать с полной откровенностью. Конечно, конфликт между двумя нашими друзьями не очень важен и не будет иметь серьезных — последствий. По правде говоря, я думаю, что он, вероятно, объясняется лишь вполне извинительным пробелом в памяти у того или у другого. Тем не менее ваши ответы будут для нас не лишены ценности.
Помните ли вы, что двадцать девятого февраля этого года в кабинете господина председателя произошел спор между ним и господином Этьеном?
Мадемуазель Ламбер. Да.
Господин Ласери. По какому поводу?
Председатель. По поводу Женера. По поводу непрестанных визитов Женера. Мне они надоели.
Господин Этьен. Господин Женер приходил всего два раза.
Председатель. Я издал приказ, запрещающий частные визиты. Он с ним не посчитался. Он приходил сюда, как к себе домой. Я сказал, что хочу быть хозяином у себя в банке. Вот что я сказал Этьену.
Господин Ласери. Это верно, мадемуазель?
Мадемуазель Ламбер. Да.
Председатель. И я сказал ему, что мне надоело их шушуканье у меня за спиной. Я сказал ему, что плачу генеральному секретарю не за то, чтобы он рассказывал о моих делах своему прежнему патрону.
Господин Ласери. Это так, мадемуазель?
Мадемуазель Ламбер. Да.
Господин Ласери. Нам хотелось бы знать, было ли произнесено по этому поводу слово «шпионаж»?
Мадемуазель Ламбер. По-моему, нет. Я не помню.
Председатель. Было, надо это признать! Я прямо заявил, что мне надоело видеть, как за мной шпионят в пользу Женера. Да, я сказал это. Я сожалею об этом, господин Брюннер.
Господин Брюннер. Не стоит об этом говорить! Я вас слишком хорошо знаю, чтобы не понимать, что такие слова в ваших устах не имеют столь серьезного значения, как можно было бы подумать.
Председатель. Вы не отнеслись бы к ним трагически?
Господин Брюннер. Нет, не думаю.
Господин Ласери. Не можете ли вы пояснить, что именно помешало бы вам отнестись трагически к этим словам господина председателя? Не хотите ли вы сказать, что у него несколько горячий, несколько… непосредственный темперамент, и потому иногда слова увлекают его далеко за пределы его собственной мысли?
Господин Брюннер. Да. Скажем, так.
Господин Ласери. Теперь, мадемуазель, я хотел бы поставить вам тот же вопрос. Работая с господином председателем, вы его хорошо знаете. Не думаете ли вы, что в данном случае слово «шпионаж» можно истолковать как простой оборот речи? Не смущайтесь. Отвечайте откровенно.
Мадемуазель Ламбер. Я думаю, что да.
Господин Ласери. Я вам охотно верю, тем более что вы даже забыли, что это слово было произнесено. Мы знаем об этом только благодаря честности нашего председателя. Ну вот, тучи уже начинают рассеиваться. Тому доказательство хотя бы позиция господина Брюннера. При своем блестящем уме господин Брюннер, очевидно, понял, что должен заставить умолкнуть страсти. Поблагодарим его за это. Совет возложил на меня миссию, которую я по мере сил выполнял, но я сомневаюсь, есть ли надобность продолжать.
(Общее одобрение.)
Господин Этьен. Конечно, продолжайте! Имеются четыре вопроса, а вы поставили всего лишь один. Вы должны задать все вопросы, а не только те, которые вам нравятся.
Председатель. Вы на этом настаиваете? Вы в самом деле, на этом настаиваете? Предупреждаю вас, вы об этом пожалеете.
Господин Этьен. Почему?
Председатель. Потому что, помнится, я обрушился на вас по поводу ваших отношений с Морелем.
Господин Этьен. Неправда. До нынешнего дня вы никогда не говорили со мной о Мореле.
Председатель. Я утверждаю, что я обвинил вас в том, что вы снабжаете сведениями Мореля, и вы на это ничего не ответили. Раз вы стоите на своем, извольте немедленно объясниться на этот счет.
Господин Этьен. Я объяснюсь, когда захочу. Мадемуазель, было или не было произнесено имя Мореля во время нашего разговора?
Господин Ласери. Вам не надо отвечать на этот вопрос. Вы должны отвечать только на вопросы, которые я вам задаю.
Господин Этьен. Было ли произнесено это имя?
Мадемуазель Ламбер. Нет. Я не помню этого.
Господин Ласери. Можете ли вы утверждать, что оно не было произнесено?
Господин Ласко. Можете ли вы это утверждать?
Господин Ласери. Мы просим вас сохранять спокойствие, полное спокойствие. Пусть вас не выводит из равновесия разгоревшийся спор. Он далеко не так серьезен, как это кажется. В конце концов, возможно, что господин председатель ошибается, что он не в тот день говорил о Мореле с господином Этьеном. Если вы считаете своим долгом утверждать это, говорите смело.
Мадемуазель Ламбер. Нет, я не могу этого утверждать.
Господин Этьен. О ком мы говорили?
Господин Ласери. Призываю вас к порядку, господин Этьен! Мадемуазель, припоминаете ли вы хотя бы одно слово, произнесенное во время этого спора, которое задевало бы честь господина Этьена? Будьте осторожны, мадемуазель, это важный вопрос. Подумайте, не торопитесь отвечать. Честь человека — это не шутка. Я говорю, разумеется, не о тех слегка запальчивых словах, которые могут быть брошены в пылу спора, но о которых тут же забывают. Я говорю о тяжелых обвинениях, которые высказываются серьезно, обдуманно, уверенно, с явным желанием повредить, нанести страшный удар, способный навсегда погубить честь другого. Перед вами человек, господин Этьен… о, подумайте, заклинаю вас! То, что вы скажете нам, будет означать, может ли еще этот человек высоко держать голову…
Господин Этьен. По-моему, это не стоит под вопросом.
Господин Ласко. Ваша честь в ее руках, неужели вы этого не понимаете?
Господин Ласери. Вы нам скажете, запятнана ли честь этого человека, притом так серьезно, так непоправимо, что это может отразиться на всей его жизни, на его исключительной карьере, одной из самых блестящих в послевоенные годы…
Мадемуазель Ламбер. Нет. Нет.
Господин Ласери. Скажите нам, вышел ли он обесчещенным из спора, свидетельницей которого вы были?
Мадемуазель Ламбер. Нет.
Господин Ласери. Значит, ничего подобного не было, не так ли? Благодарю вас. Мы вам признательны.
Господин Этьен. Не можете ли вы перейти к серьезным вопросам?
Господин Ласери. Дорогой Этьен, вы только что слышали, как беспристрастный свидетель утверждал, что ваша честь не была задета. Таким образом, напрашивается вывод, что вы до смешного раздули совершенно безобидные слова. Вы говорили нам об обвинениях, о клевете, и вот к чему все это сводится.
Господин Ласко. Господин Этьен, по-видимому, очень щепетилен в вопросах чести. Но он упускает из виду, что такое совет. Совет не может больше терять на него время. Мы здесь не для того, чтобы разбираться в уколах, нанесенных его самолюбию.
(Общее одобрение.)
Господин Этьен настаивает на том, чтобы мадемуазель Ламбер сообщила, что было сказано о его отношениях с господами Мабори и Дандело.
Господин Оэттли. Это излишне. Я завтракал с господином Эрекар. Мне известно, что он думает по этому поводу. Утверждение мадемуазель, что господин Этьен отнюдь не подвергался обвинениям, которых заставляли нас опасаться его слова, в достаточной мере успокаивает господина Эрекар. Я заявляю от его имени, что излишне входить в подробности.
Голоса. Очень хорошо! Очень хорошо!
Господин Этьен. Мадемуазель, вы знаете, о чем я хочу говорить. И вы знаете, что речь идет не о пустячной ссоре, как вам это изобразили. Вы знаете: меня обвинили в том, что я продался перекупщикам предприятия Массип. Вы ведь чувствуете всю низость этих разглагольствований о чести, этого шантажа, которому вас подвергли, ссылаясь на мою честь? Вы знаете все это, не так ли?
Господин Ласери. Вы не обязаны отвечать господину Этьену.
Господин Этьен. Нет, она должна отвечать. И это она тоже знает. Она должна отвечать, даже если вы не хотите ее слушать. Нужно говорить. Вы это знаете, не правда ли, мадемуазель? Тем более что они не хотят вас слушать. Нужно. Чего бы вам это ни стоило. Для них это не очень опасно. Они правы, когда говорят, что это не так уж важно. Они сумеют приспособиться к истине. Они сумеют приспособить истину к истине в их понимании. А я — нет. Нужно говорить. Сейчас. Нужно!..
И тут наступило нечто худшее, чем одиночество: ощущение пустоты.
Марк понял, что торопил себя самого, что в порыве чувств, столь же внезапном и безрассудном, как тот, что толкнул его против Женера, он вдруг решил ускорить свое собственное движение к пропасти, падения в которую, он знал, ему уже не миновать. Он слушал себя, словно говорил не он, а кто-то другой. Он видел, и, быть может, только он один и видел, что его слова, поток которых он уже не помышлял остановить, непоследовательны, бессвязны, лишены смысла, хотя, приходя ему на язык с такой непреложностью и с такой удивительной легкостью, они, казалось, подчинялись какому-то неведомому порядку — перевернутому порядку, господствующему в сновидениях. Он заметил, что, упоминая о людях, которые смотрели на него, ерзая на стульях, о членах совета, к которым принадлежал и Ласко, такой маленький, что, сидя, не доставал ногами до пола, он говорил «они». Ему еще казалось вполне законным требовать, чтобы Кристина Ламбер покинула их спокойный мир ради мрака, который окружал его. Он больше не думал о себе. Казалось, он хотел в некотором роде спасти ее, спасти от них и заставить, наконец, понять не их игру, которую она и без того видела, а ту истину, что она не может, не должна участвовать в этой игре.
Он решил с самого начала не прибавлять ничего к тому, что она скажет, будь то правда или ложь. Он дал себе слово не умолять ее, и тем не менее он ее умолял.
Он умолк. «Но не может же быть, — подумал он, — чтобы этим все и ограничилось».
Он посмотрел на нее. Он ждал. Он был уверен, что она заговорит, и почти не беспокоился. Он смотрел на нее со своего рода нежностью и желал бы, чтобы она прочла ее в его взгляде, поняла ее, отдалась ей. «Я совершенно не практичен, — подумал он. — Было какое-то средство заставить ее заговорить, и я его не нашел. Было какое-то слово, одно-единственное слово, которое следовало произнести, и я его не произнес». Однако он был уверен, что она заговорит. По крайней мере он говорил себе, что уверен, не веря этому, прекрасно зная, что ему себя в этом не убедить.
Она слишком низко наклонила голову, чтобы он мог заглянуть ей в глаза. Он видел только ее нос и рот и улавливал учащенное, как ему казалось, дыхание; ее нижняя губа слегка дрожала.
— Ну, ладно, — сказал господин Ласери, — хватит попусту терять время!
Она выпрямилась, словно вдруг решилась на что-то, но Марк прочел на ее лице лишь благоразумную бесчувственность. Он заметил, что губа у нее больше не дрожит.
Она не заговорила.
— Спасибо, детка, — сказал Драпье. — Спасибо. Мы вас благодарим.
В его тоне звучали доброта и умиление. Этот человек с бритым затылком и короткой шеей походил на бывшего игрока в регби, на одного из знаменитых когда-то спортсменов, ставших клубными тренерами, слегка ворчливых, но сердечных, которые умеют всего добиться от молодежи.
Мадемуазель Ламбер покидает зал заседаний.
Господин Ласери. Все ясно. Увы, все совершенно ясно!
Председатель. Чего я никогда не пойму, Этьен, так это…
Господин Этьен. Боюсь, что вы этого действительно никогда не поймете. Боюсь, что в Мексике вы многое позабыли.
Председатель. Неужели? Неужели?
Господин Этьен. Боюсь, что Дропперы никогда не смогут понять, почему на свете столько Этьенов.
Председатель. Если вам неприятен мой вид, можете успокоиться — вам недолго придется его выносить. Не знаю, что вы будете делать, продавать носки или рекламировать пылесосы, но у меня есть все основания думать, что нам не часто придется встречаться. В этом вы можете положиться на меня!
Господин Этьен. Я знаю.
Председатель. Я хотел бы узнать вашу точку зрения в одном вопросе. Ведь вы, должно быть, очень рады, что не будете больше работать со мной?
Господин Этьен. Да, очень.
Председатель. Хотя…
Господин Брюннер. Прошу вас, господа, без частных разговоров!
Председатель. Хотя ваша щепетильность не помешала вам работать с таким человеком, как Женер, почти десять лет, не так ли?
Господин Этьен. Да. Ну и что?
Господин Брюннер. Это просто смешно! Я должен предупредить совет, что воздержусь при голосовании.
Господин Ласко. Какое голосование? Неужели нужно голосовать, когда совет не находит слов, чтобы выразить свое негодование?
Совет единогласно при одном воздержавшемся решает освободить господина Этьена от его обязанностей с сегодняшнего дня.
Председатель. Встаньте, Этьен. Выйдите из зала.
Господин Этьен покидает зал заседаний. Совет постановляет, что его следующее заседание состоится завтра, в 9 часов 30 минут и будет посвящено назначению нового генерального секретаря.
Заседание закрывается в 17 часов.
Марк собирал в своем кабинете личные вещи и бумаги. Письма («Приходи обедать, дружище. Мари-Лор и я напоминаем тебе, что мы тебя любим. Фил». «Корфу, 16 июля… И я уверен, что Бетти вас усыновит и будет любить, как она любила бы моего сына, если бы у меня был сын. Мы так часто говорим о вас! Не сочтете ли вы меня очень глупым, если я скажу, что плод моего брака с банком — это вы… Мы вас любим. Аль Женер. Привет. Бетти». «Люблю, люблю, люблю. Д.»), пара старых перчаток. Он открыл несколько ящиков стола. Больше ничего не было. Он вспомнил о бутылке шампанского в стенном шкафу. Застегнул портфель и положил его перед собой. Позвонил Полетте.
Она тут же вошла. Сколько времени она ждала, что он ее позовет? Не стояла ли она у двери, дожидаясь знака войти? Он не поднял головы. Он не хотел видеть ее лицо. Боялся увидеть ее лицо.
— Все, Полетта, — сказал он, как ему показалось, преувеличенно важным тоном, куда более значительным, чем он того хотел. — Не знаю, имею ли я еще право находиться в этом кабинете, но, вероятно, вы видите меня здесь в последний раз.
— Я знаю, — проговорила она.
— Очень рад, — сказал Марк. — Мне не особенно хотелось самому сообщать вам об этом.
(«Почему у тебя не хватает духу смотреть ей в лицо? Разве ты не понимаешь, что так нельзя? Разве ты не понимаешь, что она будет судить о тебе в зависимости от того, каким ты покажешь себя в эти минуты? Она не упрекает тебя за то, что она вынесла ради тебя, за то, что она потеряла из-за тебя, но она ждет, что ты найдешь для нее нужные слова. Неважно какие. Она и сама не знает, какие именно, но уверена в том, что ты их найдешь, что ты сотворишь это крохотное чудо. Только в этом она и уверена».) Его знобило. Он вдруг почувствовал себя старым.
— Я смотрел как будто везде, — сказал он, — но если вы увидите что-нибудь мое, будьте добры, отложите для меня. Если это будет письмо, порвите его.
— Хорошо, — сказала она.
— Я надеюсь… — проговорил он. — Надеюсь, что все обойдется.
(С кем? С кем все обойдется? С Реем?)
— Я не знаю, кто займет мое место. Мне хотелось бы, чтобы это был человек, с которым вы сможете поладить.
— Мы наверняка прекрасно поладим. Ведь это так несущественно.
(«Вы имеете в виду работу? Вы самая превосходная секретарша, какую я знаю. Мерзавец, который сюда придет, будет донельзя доволен, что найдет вас. А знаете, чего я хотел бы? Я хотел бы быть достаточно важной персоной, чтобы иметь возможность попросить вас последовать за мной: „Бросьте эту лавочку. Я позабочусь о вас. Мы с вами еще поработаем на славу, не так ли?“ Достаточно важной персоной или просто человеком, уверенным в себе, в своем собственном будущем.
И это тоже я должен был бы сказать вам, даже если это несущественно».)
— Мне кажется, я смогла бы поладить с кем угодно, — сказала она.
— Я в этом уверен.
(«Послушайте, детка. Послушайте, детка, что я вам скажу. Вы понимаете, что я не могу с вами говорить о Рее? Ведь вы это понимаете, верно? Быть может, это правда, быть может, вы действительно были влюблены в меня в какой-то момент, но не спрашивать же мне у вас, как вы могли полюбить его. Что с вами будет? Должен ли я сказать вам, чтобы вы подумали о детях? Должен ли я сказать вам что-нибудь столь же глупое, как я сказал бы, можете не сомневаться, если бы дело было только в этой истории с досье? Здраво рассуждая, я не могу желать, чтобы вы остались с ним. Здраво рассуждая, я не могу даже притворяться, что я этого желаю. Что будет с вами, с вами и с ним?»)
— Надеюсь, что у вас все будет хорошо.
— Конечно. Не волнуйтесь за меня.
(«Разве я волнуюсь за вас? Разве я вам говорил о чем-нибудь таком? По правде сказать, я забыл о вас. Я думал, что покончил со всем этим, когда вычеркнул из моей жизни Женера. Но остались вы, и я не знал, что расстаться с вами будет так трудно».)
— Не один этот банк на свете.
(«Да, есть уйма банков на свете, а я молодой человек, у которого блестящее будущее. Я в последний раз могу сойти за молодого человека, у которого блестящее будущее».)
Он поднялся и взял под мышку портфель.
— Полетта, мне очень нравится ваш сын. («Зачем говорить ей это? Почему я считаю себя обязанным сказать ей это?») Сегодня утром, в машине, мы с ним болтали, и он меня просто очаровал. Это удивительный ребенок, совершенно удивительный.
— Да, — сказала она, — я знаю. Очень мило с вашей стороны…
Она улыбнулась. («Уж не нашел ли я те слова, которых она ждала? Неужели это так просто?»)
— Он очень чувствителен. Как и его сестра. Она тоже очень хорошая девочка. Я не думаю, что смогу бросить Рея.
— И не надо, — сказал Марк. — Я рад вашему решению.
— Это не решение, — сказала она. — И не думайте, что я поступаю так исключительно из-за детей. Ему я тоже нужна. Так же, как им, если не больше. Это вам покажется странным, но…
— Нет, нет, — сказал он.
(«О, упрямая башка, зачем ты лжешь? Почему ты считаешь себя обязанной лгать мне? Почему мы оба считаем себя обязанными… Лги же до конца! Скажи, что ты его любишь!»)
— Можно мне вам звонить?
— Нет, — сказал он, — не надо. Я наверняка буду очень занят. Я еще толком не знаю, что буду делать. Лучше я сам вам позвоню.
— Когда?
— Скоро.
— Нам не следовало бы терять связь.
— Об этом не может быть и речи, — сказал он. — Я позвоню вам на этих днях, и мы постараемся позавтракать вместе.
— Да. Надо. Я попытаюсь…
— Мы скоро увидимся, — сказал Марк.
Зазвонил телефон на столе у Полетты.
— Подойдите, — сказал Марк.
— Если попросят вас, что мне ответить?
— Меня наверняка не попросят, — сказал Марк.
Он подождал, пока она сняла трубку, потом поискал сигарету, но пачка была пуста. Он с минуту растерянно смотрел на нее. Перед ним пронеслась вся его жизнь. Он мысленно задержался на том времени, когда ради Женера проводил бессонные ночи за письменным столом, подчас отказывая себе в сигарете, чтобы не терять ясности мысли, злоупотребляя курением: он считал, что должен беречь себя как «ценного работника». Теперь, как никогда, он понимал всю смехотворность этого понятия. Его называли «редкой птицей», и это казалось ему достаточным доказательством признания его ценности. Но он был одинок. Он всегда был одинок. Он вошел в этот банк как чужеродное тело в живой организм, он был подобен занозе под кожей, маленькой занозе, которая уже перестала быть деревом и никогда не станет плотью. Что он мысленно видел теперь, так это свое огромное одиночество — изначальное одиночество. Он вышел из кабинета.
— Добрый вечер, господин Этьен, — сказал ему служитель.
— Добрый вечер, Лоран, — сказал Марк, пожимая ему руку.
— До завтра?
— Нет. Я не приду завтра.
— Я знаю, — сказал Лоран.
— Уже?
— Весь банк знает, что состряпали против вас эти сволочи из административного совета.
— Я полагаю, вы не должны в таких выражениях говорить о совете, — сказал Марк.
— Плевать мне на это! Вы знаете, что можете рассчитывать на меня. Если я могу что-нибудь сделать для вас, скажите.
— Хорошо, — сказал Марк. — Дайте мне сигарету.
— Вы мировой парень, — сказал Лоран с грустной улыбкой. — Вы держитесь просто сногсшибательно.
— Лоран, — сказал Марк, — бывают обстоятельства, при которых только и можно держаться сногсшибательно. Поразмыслите над этим. Мне кажется, теперь все склонны находить мое поведение сногсшибательным. Это легче всего. До свидания, как-нибудь на днях увидимся.
— Желаю удачи, — сказал Лоран, крепко пожимая ему руку.
Марк направился к выходу. Он раздумывал, зайти ли ему к Ле Руа, когда тот вышел из своего кабинета с листком бумаги в руке.
— Я шел к тебе, — сказал Ле Руа. — Прочти это.
— Что это такое?
— Мое заявление об уходе.
Это были примерно тридцать строк, набросанных его неразборчивым почерком, еще более неразборчивым, чем обычно.
— Это прекрасное заявление, — сказал Марк. — Ты пишешь именно то, что я ожидал. Мне бы очень хотелось его сохранить, но я слишком боюсь, что его кто-нибудь прочтет.
— Почему? Я написал его не из дружеских чувств к тебе. Пойми меня правильно, Марк, это не жест солидарности или что-нибудь в этом роде. Мною движет возмущение и отвращение. Я действительно хочу его подать.
— Я знаю, — сказал Марк. — Очень жаль.
Он разорвал заявление в клочки и сунул его в карман.
— Я могу написать его сызнова, ты же понимаешь. Я помню каждое слово.
— Да, — сказал Марк. — Но я прошу тебя не делать этого.
— А ты уверен, что никогда не пожалеешь о том, что помешал мне это сделать?
— Никогда. Никогда я об этом не пожалею.
— Прекрасно, Марк. Ты настоящий друг.
— Ты тоже настоящий друг, — сказал Марк, — а я нуждаюсь во всех моих друзьях.
— Ты знаешь, что можешь рассчитывать на меня. Я сделаю все, что ты попросишь.
— Я не это имел в виду, — сказал Марк.
— Я провожу тебя. Можно мне тебя проводить?
— Да, — сказал Марк. — Постараемся выйти с достоинством.
Они спустились по парадной лестнице.
— Я, кажется, говорил тебе о неком Флежье? — спросил Ле Руа. — Это была утка. Никакого Флежье не существует. Они нарочно пустили этот слух, чтобы… Многие зарятся на твое место, но хочешь, я скажу тебе кто…
— Нет.
— Ты был бы очень удивлен.
— Нет, не думаю, — сказал Марк.
На нижней площадке лестницы болтало с десяток служителей, среди которых Марк узнал Шава. («Внимание. Теперь внимание. Пожалуй, это самый трудный момент. Только постарайся быть естественным».) Раздались аплодисменты; двое или трое крикнули: «Да здравствует Этьен!» Марк улыбался. («А ты и не ожидал этого. Ты не ожидал, что они даже будут выкрикивать твое имя».) Люди, сидевшие в холле, обертывались на шум. Марк робко поднял руку, как, ему казалось, он должен был сделать, как сделал бы на его месте каждый, кто видел в кино какого-нибудь деятеля, выходящего из самолета с этим заимствованным и слегка смущенным жестом. («Все это наивно и немножко глупо, — подумал Марк. — В духе папы».)
7
Марк не заметил, как стемнело. Ему помнилось, что в конце заседания совета было еще светло, хотя горела люстра (впрочем, люстра всегда горела, когда шло заседание совета). Теперь была уже ночь. Вспыхнула светящаяся вывеска «Прентан», вырвав из темноты поток машин, мчавшихся вверх по бульвару. Продавец каштанов был на своем обычном месте. Он напевал. Он ждал погожих апрельских дней. Тогда он положит в сарай свой котел и начнет продавать мороженое. Он будет стоять здесь весь год. Но Марку не часто придется его видеть.
Когда Марк воображал, как он будет покидать банк, ему всегда рисовалась одна и та же картина: он проходит через холл и медленно, размеренными шагами, с внушительным видом спускается по ступенькам подъезда, преисполненный чувства собственного достоинства. И все действительно так и произошло, только была ночь. Вам всегда почему-то казалось, что это будет днем. Конечно, это ребячество, совершенное ребячество, но вы представляли себе чуть ли не все подробности. Особенно в последние дни. Особенно после поездки в Немур. Вы бы не поверили, что это приобретет для вас такое значение, но не раз ловили себя на мысли о том, что это произойдет так-то и так-то.
Вы могли бы поставить машину во дворе, но вы оставили ее на улице Пепиньер. Для того, чтобы вам пришлось пройти через холл. Для того, чтобы вы, или, вернее сказать, та часть вашего я, которая не посвящена во все это, нашла естественным, что вы прошли через холл. В сущности, вы еще очень привязаны к этому банку. Вы искренне, глубоко любите его. Вам кажется важным, чтобы завтра о вас хорошо говорили. На этот раз против обыкновения вы очень заботитесь о том, чтобы производить на людей выгодное впечатление. И, пожалуй, это хорошо, это правильно. «Я тебя понимаю», — сказала бы Дениза, если бы у вас хватило мужества объяснить ей это. И вы тоже себя прекрасно понимаете. Но вы еще слишком полны чувства собственного достоинства и слишком хотите показать это хотя бы самому себе, ибо это все, что у вас остается. Вы еще не можете трезво судить о себе.
Разве только в одном вопросе. Ибо одна вещь, понятно, вызывает у вас чувство неловкости. Это аплодисменты. Вам кажется, что вы их не совсем заслуживаете. Вы даже не считаете, что они предназначались вам, хотя и слышали, как кричали ваше имя. Вы сочли своим долгом ответить, но, делая этот нелепый жест рукой, вы думали: «Они выступают не за меня, а против Драпье». И у вас даже мелькнула мысль: «Вожаки (ибо это в вас сидит. Вы всегда воздерживались от употребления подобных слов. Вы слишком хорошо воспитаны. Интеллигентный человек с хорошим вкусом умеет воздерживаться от известного рода выражений. Вы даже охотно разоблачили бы этот миф о злокозненных вожаках, созданный тупыми буржуа, но при всем том вы вели себя всегда так, как будто не может не быть вожаков. В каждом осложнении вы искали руку вожаков, и разве вы можете, не кривя душой, сказать, что не подозревали Шава с того дня, когда он хотел вам помочь?), вожаки, — мелькнула у вас мысль, — знают, кто такой Драпье. Это старый-престарый прием в политике: они рады всякому предлогу для демонстраций».
— Вы многому научитесь, — сказал вам Женер в тот вечер, когда ваше назначение было утверждено советом. Ему слегка нездоровилось, он принимал вас в своей спальне, и вы были счастливы таким образом вступить с ним в близкие отношения, которые как бы подчеркивал его голос, его чарующе доверительный тон. — Я последним упрекну вас за ваше великодушие. Насколько я вас знаю, а мне кажется, я вас уже знаю, вы, несомненно, вкладываете много великодушия в большинство ваших поступков. Но я должен предостеречь вас против мелких благодеяний, на которые подчас разменивают великодушие, против частных благодеяний. Они всегда вызывают беспорядки.
И вы неплохо усвоили этот урок.
В продолжение вашей карьеры вы видели немного стачек — всего три, и первая из них тут же закончилась соглашением. Вы хотели бы их избежать. Это вы и говорите себе. По крайней мере вы с удовлетворением думаете, что не вызвали ни одну из них какой-нибудь оплошностью или «частным благодеянием». Вы даже знаете, что каждая из этих стачек приводила вас в смятение, обрекала на душевную борьбу.
Ваш отец всегда отказывался бастовать. Это был человек порядка. Эту черту вы унаследовали от него. Вы тоже человек порядка, хотя, конечно, гораздо более просвещенный, что и помогло вам вести себя в конечном счете довольно хорошо.
А это было не так-то легко. Особенно в последний раз, во время третьей, самой долгой стачки. Она измотала Женера. Однажды вечером он вызвал вас на бульвар Малерб. Вы застали его в постели. Он очень исхудал. Вы вдруг заметили, что его продолговатое лицо, тонувшее в подушке, стало совсем восковым, и вас охватило острое чувство жалости. Он объяснил вам, что должен принять делегатов четырех профсоюзов. Это будет пятая встреча. Первые четыре совершенно изнурили его. Он больше не может. «Я выдохся, Марк. Примите их». И вы согласились, даже не спросив, следует ли пойти на уступки и по каким пунктам. Вероятно, вы поняли его в том смысле, что не должны идти ни на какие уступки. И когда он вам сказал: «Так будет лучше. Они меня знают, и хотя я не думаю, чтобы они меня ненавидели, я для них… слишком заинтересованное лицо — они видят во мне хозяина. Вы молоды, вы ближе к ним. У вас это пройдет лучше», вас ничуть не покоробило это соображение: вы видели, что Женер очень болен. Вы боялись только одного: как бы он не умер. Вы были с ним слишком близки — словно отец и сын. Он сказал: «Передаю вам бразды правления», и вы не усомнились в том, что принимаете бразды правления.
Но вы провели прескверную ночь. После ужина вы долго бродили с Морнанами по Монпарнасу в надежде, что уснете, как только ляжете в постель. Однако сон не приходил. Вы считали часы. Наконец вы задремали. Но когда вы проснулись, было еще темно, и вам не очень-то хотелось, чтобы поскорее наступил день.
Разумеется, вы обдумали, что будете говорить. Можно вести переговоры с противниками в вежливой и даже любезной форме. Вы научились этому на различных конференциях, в которых принимали участие. Но, быть может, вам даже не было надобности учиться этому: вы молодой человек, которому все по плечу. Но вы были одни. На сей раз вы были одни, и это обстоятельство все еще пугало вас, когда на следующее утро вы сидели в своем кабинете, ожидая делегатов. Вы хотели придать своим отношениям с ними как бы личный характер, создать сердечную, теплую атмосферу. («Все дело в том, как говорить, — утверждал Ле Руа, — а ты умеешь говорить как надо».) Но когда они, все четверо, предстали перед вами, вам показалось смешным деликатничать с ними. Делегация из четырех человек, которые — по крайней мере вначале — на каждой фразе перебивают друг друга, выглядит очень глупо. И вот вы заняли очень жесткую позицию. В какой-то момент вы отдали себе отчет в том, что говорите с ними в недопустимом тоне, чего от вас никак нельзя было ожидать. Вы немного успокоились, но что бы они вам ни заявляли, вы стояли на своем: пусть они возобновят работу, а там будет видно. Вы знали, сколько времени длится забастовка, какое уныние царит среди младшего персонала, и очень умело играли на этом.
Потом наступил очень тягостный момент, когда вас спросили: «Если мы возобновим работу, будут ли продолжаться переговоры? Можете ли вы это утверждать?» Вы почувствовали, к чему они апеллируют, к какому вашему душевному качеству. И вы ответили, на удивление вам самим, совершенно спокойным голосом: «Конечно. Я это утверждаю». Вы знали, что лжете. Но вы сказали себе, что они тоже это знают, не могут не знать. Ведь в конце концов вы не пустяками занимались, надо это понять, дело затрагивало серьезные интересы, на вас была возложена определенная миссия. И ради нее вы ни с чем не считались. Вы все брали на себя. Это они изменяли своему делу, соглашаясь вам верить, хотя им было очевидно, что вы лжете. И вы их слегка презирали.
Сидевший в вас интеллигент — интеллигент хорошей закваски (и при том «передовой») — презирал их за то, что они предавали дело, которое теоретически было вам дорого.
После этого забастовка кончилась, совет одобрил ваши действия, и вы приобрели славу примирителя — так вас и называли.
И вот теперь эти аплодисменты. Вы подумали, что в отношениях с людьми вам везет. Так везет в любви — когда женщины любят вас вопреки вам. Он не сел в свою машину, а зашагал без цели, довольно быстро, не выбирая дороги. Ветер улегся, воздух был теперь спокойный, теплый, немного душный. На авеню Вилье он купил «Монд», не подумав о том, что не станет читать ее, что пройдет немало времени, прежде чем он снова сможет интересоваться хорошо документированными статьями, которые печатаются в этой газете. Он подивился силе привычки. Он подивился также тому, что ноги сами принесли его к парку Монсо: всю жизнь он был незримыми узами связан с этим кварталом. Он прошел вдоль ограды парка и немного дальше, перед домом Женера, опустился на скамейку.
Это было внушительное здание с большими балконами, на которых весной появлялось множество веселых оранжевых тентов. В этот час были освещены только окна кабинета. Без сомнения, Брюннер рассказывал Женеру, как прошло заседание. Марк подумал: сидит ли с ними Бетти? В последнее время, если Женеру и ему приходилось поздно работать, Бетти не покидала их. Она напоминала им, который час, готовила для них кофе. Теперь Марк чувствовал себя изгнанным из этого мира — уютного и спокойного мира.
Вы прекрасно понимаете, как глупо торчать под их окнами. Вы не жалеете об этом мире, но вы любили его, и, как ни странно, о Бетти вы и сейчас еще думаете почти с нежностью. Они там, все трое. Брюннер рассказывает. А вы здесь, но если бы они и знали об этом, это было бы вам безразлично. Ибо теперь вам почти все безразлично.
В первый раз вы приехали сюда в машине Женера. Он привез вас из банка, где дал вам понять, что, весьма возможно, остановит свой выбор на вас. (Вы этого не ожидали. Вы не ожидали ничего подобного. Вы были слегка ошеломлены.) У него был тогда большой «шевроле», одна из первых американских машин, которые появились во Франции после Освобождения. Ему стоило огромного труда ее импортировать из-за валютных ограничений. Он попытался вам объяснить, в чем была сложность, потом вдруг сказал: «Если нам придется работать вместе, я бы хотел, чтобы вы каждый вечер читали и досконально изучали „Монд“. Это важно». (Он даже сказал «Тан»[4], но для человека довоенной закалки это был вполне простительный ляпсус.) Вы ответили ему, что давно уже делаете это, и он проронил: «Прекрасно, прекрасно, я так и думал…»
Вам открыл слуга-китаец. Слуга-китаец!.. Вы все время говорили себе, что не будете смотреть на вещи трагически. Вы знали, что после решения совета вам предстоит провести несколько неприятных часов. Надо было провести их прилично. До завтра — никаких черных мыслей. Потом будет легче.
Итак, у господина Женера был слуга-китаец. Господин Женер — это целая эпоха! Его мать вращалась в высшем обществе. Она была подругой детства Морено, которая в роли Арисии в свое время вызывала слезы и у Женера, и потому часто бывала у Швоба. На мысль о слуге-китайце и натолкнул ее Швоб, у которого был такой слуга с очень изысканными манерами. Но к тому времени, когда вы познакомились с Женером, ему, по-видимому, или слегка надоел китаец, или он стыдился его держать: в этом был известный снобизм. Когда китаец умер, он не заменил его другим.
«Кто вы? — спросил Женер. — Расскажите немного о себе». Вам следовало бы начать со слов вашего отца: «Ты первый в нашей семье будешь учить латынь. Это не обычная школа». С этого все и началось — с того, что вы так хорошо учили латынь. Вы были послушным и прилежным учеником, неизменно получающим первые награды, — умилительным мальчиком из семьи скромного достатка. С каждым годом становилось все яснее, что вы превосходите надежды, которые на вас возлагались вначале. Ваш отец, понятно, хотел, чтобы вы тоже служили в «Секанез», конечно, на более высокой должности, чем он, но ваши способности бросались в глаза, и скоро стало очевидным, что вы не остановитесь и на положении бухгалтера. Quo non ascendam?[5]. Когда ребенком в летние дни вы сидели с удочкой на берегу Луена, он думал, наивно мечтая о будущем: «До каких только вершин не поднимется мой мальчик?»
Вы много работали. По натуре скорее пассивный, вы не так уж стремились сделаться важной персоной, но за вами стояло не одно поколение Этьенов, мелких буржуа, гордостью и славой которых вы должны были стать. Это вы осознали очень рано. «Твое счастье в том, что ты работаешь для себя, — говорил вам отец. — Большинство людей работает для людей, которых они никогда не узнают, но ты работаешь только для себя, для человека, которым ты будешь через пятнадцать или двадцать лет». И вы в это верили. Вы не сомневались, что знание латинских глагольных основ и герундия обернется к вашей выгоде. Муниципальный советник, присутствовавший при раздаче наград, потрепал вас по щеке. Вы не давали себе передышки: в июле сдали экзамены за математическое отделение, в октябре — за философское[6].
Вы стали очень красивым юношей. В силу различных обстоятельств вы сами заметили это и получили тому известные доказательства, но продолжали работать с тем же рвением и так же упрекали себя за потерянные два часа, которые провели, бродя по набережным или сидя с девушкой в кино. Разумеется, многие студентки юридического факультета были влюблены в вас, и они вам твердили, повторяя чужие слова, что вы гордость Политехнической школы, что у вас блестящее будущее. Вы это знали. Вы все сделали для этого. Вы действительно были молодым человеком, подающим блестящие надежды, а не одним из тех болтунов, которые способны лишь на блестящие тирады. Вы сочетали форму и содержание, знания и элегантность. Вы не кичились своим умом и не впадали в высокомерие, но всякий, кто вас знал, считал вас молодым человеком, подающим блестящие надежды. И вы им долго оставались — десять или пятнадцать лет, вплоть до сегодняшнего дня, когда вдруг увидели, что отныне уже не подаете блестящих надежд.
Вы участвовали в войне, и это еще увеличило ваш престиж. Когда вы вернулись из Германии, все взоры обратились к вам: что может сделать молодой человек, подающий блестящие надежды, в данной исторической ситуации? В Политехнической школе все были страшно возбуждены, все слегка ошалели. Преисполнились благородных чувств и слегка ошалели. До сих пор здесь существовала классическая правая, весьма симпатизирующая деголлевцам, и вдруг не стало классической правой и вообще правой. Славные молодые люди, которые пили привезенное американцами виски, рассуждая о том, что марксизм должен быть превзойден, надеялись, что вы возглавите какую-нибудь группу, какое-нибудь течение. Но вы сохранили полное спокойствие. В сущности, вы вели себя в точности как человек, принадлежавший к классической правой и отнюдь не потерявший голову. Вы показали, как должен поступать в данной исторической ситуации подающий надежды молодой человек, который трезво смотрит на будущее.
Как и положено такому молодому человеку, вы всем обязаны только самому себе. «Вы прекрасно вели себя весь этот период, — сказал вам немного позже старик Болле, один из тех профессоров, чрезмерно благонамеренные лекции которых чаще всего освистывались. — Вы уже совсем зрелый, вполне сложившийся человек. Я говорил о вас Л. Он уже слышал о вас из других уст и, мне кажется, хотел бы с вами познакомиться». Пустые слова. Академика Л. вы интересовали как прошлогодний снег. Но Болле не оставил своего намерения. «Я видел Л., — сказал он вам через некоторое время. — Он ждет вас, сходите к нему, не откладывая. Он принимает по понедельникам, с четырех до шести. Вы ведь знаете, где он живет, не так ли?» — «Конечно», — ответили вы и поспешили найти адрес Л. в телефонной книге. Он жил на улице Турнон.
И вот однажды в понедельник вы пришли на прием к академику Л. Никто не обращал на вас внимания, но вы были там, куда, должно быть, мечтает когда-нибудь попасть каждый молодой человек, подающий надежды. Когда большинство посетителей разошлось, вы заколебались, ждать ли вам еще или тоже уйти. К счастью, Л. вас задержал. Он похвалил вас за ваше поведение, за вашу умеренность. «Она делает вам честь. Ведь вы, кажется, скромного происхождения?» — сказал он, и вы сперва не поняли, при чем тут ваше происхождение. Потом вы это прекрасно поняли. Л. хотел сказать: «Вам было нечего терять и некого щадить, вы могли бы не стесняться». Но было уже поздно. Вы никогда не принадлежали к тем, о которых говорят: «Он за словом в карман не полезет». Молодой человек, подающий надежды, прежде всего должен научиться молчать. Потом Л. заговорил с вами о большом труде, который он задумал, и о трудностях, с которыми сталкивается. Он предложил вам помогать ему, если, конечно, это не будет для вас слишком обременительно. Вы, понятно, согласились: «Я почту это за честь», и он сказал: «Прекрасно. Мы завтра же начнем». Это действительно началось на следующий день и продолжалось около года. Национальная библиотека, библиотека Мазарини, банковские архивы, национальная библиотека, нотариальный архив в Бове, библиотека Мазарини. «Я даже не негр, а переписчик, — думали вы, — жалкий переписчик!» Вы злились на Л., который не платил вам ни гроша, но не осмеливались говорить ему о том, что из-за него пренебрегаете своими занятиями и нарушаете свои планы. В июле он вам сказал: «Мы хорошо поработали. Теперь воспользуйтесь каникулами. Осенью я дам вам знать о себе», — и в первый раз оставил вас обедать. Это было все ваше жалованье. Тушеное мясо, морковь по-вишийски, земляничное варенье.
Осенью Л. не дал вам знать о себе. Вы все прекрасно поняли и больше не появлялись на его понедельниках.
Однако как-то вечером, когда вы встретили его на бульваре Сен-Жермен, у института, откуда он выходил после заседания, он вам сказал: «Этьен, мой дружок, я много думал о вас в последнее время. Мне кажется, вы не подходите для государственных постов. Вы, как бы сказать… слишком изолированы в социальном плане. Что вам было бы нужно, так это хороший банк».
Все это было брошено так, невзначай.
Однако почти тотчас нашелся хороший банк.
Но когда Женер попросил, чтобы вы рассказали о себе, вы не начали со слов отца. Вы заговорили о Л.
— Вы хотите сказать, что вы принимали участие в подготовке его выдающихся трудов?
Для финансиста все книги по финансовым вопросам «выдающиеся труды».
— Только одного, последнего. (И вы сказали название.)
— Это его самая замечательная работа. На мой взгляд, самая замечательная. Знаете, что я вам скажу, Этьен? У меня есть чутье. Я всегда умел разбираться в людях.
«Это мне повезло. Я родился в сорочке», — подумали вы.
Пришел Брюннер, и вы нашли его тоже очень милым, очень сердечным. Он долго говорил с вами о Л., которого встречал у общих знакомых, и засыпал вопросами о том, что он делает, что говорит, как работает и как вы с ним познакомились. «Вероятно, через вашего отца?» — «Нет, нет». Вам пришлось объяснить ваше положение — положение молодого человека, подающего надежды, который может рассчитывать только на самого себя. «Ах, вот как, у вас нет связей?»
Женер. Ничего, теперь вашими связями будем мы!
Брюннер. Так гораздо лучше. Я нахожу прекрасным и трогательным, что вам послужили рекомендацией к моему кузену только ваши собственные достоинства.
Женер. Мой бедный друг, вы, должно быть, испытали немало трудностей!
Брюннер. Да. Какое мужество, а? Аль, дорогой Аль, вот уже два года мы ищем такого молодого человека, но на сей раз… Господин Этьен не чета этому бедняге Кавайя… — Они оба рассмеялись. — Он был до того уродлив, до того уродлив! Очень способный, безусловно очень способный человек, но с такой наружностью, что я сказал Алю: «Нет, дорогой Аль, нет, он нам решительно повредит!»
Так они обхаживали вас около часа, смеясь, расспрашивая, делая комплименты. Это был очень приятный час. «Твое счастье в том, что ты работаешь для себя, только для себя, для человека, которым ты будешь через пятнадцать или двадцать лет». Теперь этот момент наступил.
— Вы доставили бы вашему отцу много радостей.
Язык, которым говорят с лицеистами, язык классного наставника. Как хорошо вы знали этот язык! Это была еще одна раздача наград. Последняя, самая волнующая, заключительная. Венец всему. Вы были все тем же отличным учеником скромного происхождения, и, когда они заговорили о вашем окладе, когда они назвали цифру, вы вдруг поняли, что нет более назидательной истории, чем ваша. Вы не надеялись и на половину того, что вам обещали. Вам понадобилось услышать эту цифру, чтобы отдать себе отчет в том, чего вы достигли.
После того как вы столько работали для себя, вы могли, наконец, поработать немного и для других.
Теперь у вас, должно быть, восемьсот тысяч франков на текущем счету. Сколько времени может жить человек на восемьсот тысяч франков? Не будем говорить о квартире: остается двадцать два года и семь месяцев, двести семьдесят один взнос, или, в общей сложности, около трех миллионов. Сколько времени вы сможете жить на эти деньги? Быть может, вам бы следовало принять чек, который предлагал Леньо-Ренге. Есть своего рода глупая честность, и теперь вы узнали…
В самом деле, Марк, в самом деле?
О, это был чудесный вечер! Их речи были вам по сердцу, но не это главное. Главное было в том, что вы уже втайне любили председателя Женера. (Вы так называли его, вспомните. Всякий раз, когда вы думали о нем, вы называли его про себя «председателем Женером», но это продолжалось не очень долго.) Вы еще не встречали людей такого склада. Вы считали, что это один из тех редких людей, которые способны придать жизни смысл. Когда вы уехали, они позвонили Л., чтобы проверить ваши слова. Это вы знали. Вы с самого начала понимали, что они это сделают. Но Л. показал себя неплохим человеком. Он не питал к вам особой неприязни за то, что вы столько переписывали для него.
Потом было много других вечеров, которые вы провели в этом доме. «Ах, как я счастлив, что вы оба здесь, — говорил Женер какой-нибудь месяц назад. — Все, чего я еще жду от жизни, это чтобы вы были со мной до конца, Бетти и вы. В Бетти и в вас вся моя жизнь». Бетти, милая Бетти… Вы не ловелас. Иначе все, быть может, было бы легче. А может быть, вы и ловелас в глубине души, у вас темперамент ловеласа, но вы никогда не располагали временем, чтобы отдать себе в этом отчет. Бедная Бетти, сколько вечеров она провела с этими стариками. И сколько вы сами провели с ними вечеров и ночей еще до Бетти. Корейская война, потом окончание индокитайской, незабываемые ночи, когда Женер звонил в Женеву, кружил по кабинету и снова звонил в Женеву.
Но вы дали себе зарок не смотреть на вещи трагически. Вам показалось бы довольно глупым думать, что мальчик из Немура работал уже на Женера. Это трагическая мысль, притом дурного вкуса. Молодой человек, подающий надежды, ни на что не смотрит трагически. Он для этого слишком умен. Вы, правда, уже не молодой человек, подающий надежды, но еще не утратили чувства меры.
— Меня зовут Марк Этьен. Не скажете ли вы господину Ансело, что я хотел бы его видеть?
Молодая, густо накрашенная секретарша, наконец, соблаговолила поднять на него глаза.
— Вы условились с ним встретиться?
— Нет.
— Как, вы сказали, вас зовут?
— Этьен.
Он заметил, что она очень умело моргает глазами, показывая изогнутые ресницы. Должно быть, она немало времени провела перед зеркалом, изучая способы производить впечатление на людей. Без особого успеха.
— Боюсь, что господина Ансело сейчас нет, — сказала она.
— Это глупое опасение, — сказал Марк. — Ступайте, моя крошка.
Он видел маленькую «М. Г.» Ансело, стоявшую на улице Аркад. Поэтому, собственно, ему и пришла в голову мысль подняться к нему.
— Я не люблю, чтобы со мной говорили таким тоном! — громко сказала секретарша и добавила еще громче, явно надеясь, что ее слова будут услышаны за перегородкой. — Я не обязана выполнять ваши приказания, господин Этьен!
— Нечего кричать, — сказал Марк. — Это дело вас совершенно не касается. Делайте, что вам говорят.
Секретарша встала и вышла с презрительным и оскорбленным видом.
Она тихо закрыла за собой дверь, но, несмотря на все ее предосторожности, Марк отчетливо услышал, как щелкнул ключ в замочной скважине. На мгновение он задумался над тем, что он скажет Ансело и действительно ли скажет ему что-нибудь. В тот вечер, когда его родители вместе с ним нанесли визит комиссару Ансело, Жак увел его в глубину сада, и они долго оставались там, глядя на Луен и от робости не говоря ни слова. Они вернулись, держась за руки, и кто-то из взрослых заметил, что они будут очень дружить, что подобные обстоятельства скрепляют дружбу. «Этьен, — сказал господин Ансело, — теперь я могу вам признаться: вначале я не был в этом уверен, но, выслушав вас, я сразу понял, что вы не виновны». Мадам Этьен всплакнула при этих словах, и мадам Ансело тоже.
Минуты через две дверь открылась, и в приемную вышла вторая секретарша — маленькая, тощая, некрасивая, в туфлях на низких каблуках, фланелевой юбке и вылинявшем от стирок свитере.
— Мне очень жаль, — сказала она. — Господин Ансело будет огорчен, когда узнает о вашем визите, но он только что уехал.
— Я думаю, что это неправда, — сказал Марк.
Секретарша, решительно очень некрасивая, но с виду гораздо более умная, чем ее товарка, улыбнулась и сказала:
— Да, он был здесь. Но он уехал. Мне кажется, он не жаждал вас принять.
— Я тоже так думаю. Но как же он вышел?
— Через другой выход.
— Другого выхода нет, — сказал Марк, опускаясь в кресло.
— Вы ошибаетесь! Не стоит настаивать. Вы попусту теряете время.
— Не имеет значения. У меня много времени. Вы можете ему сказать, что теперь в моем распоряжении сколько угодно времени.
Секретарша вышла, пожав плечами.
На столе валялся экземпляр «Банк д’Ожурдюи». Он пробежал статью, в которой шла речь о нем, и сразу пожалел, что отказался прочесть ее, когда его просила об этом Дениза. Он не мог предположить, что она до такой степени гнусна. Если бы он это знал, он посмотрел бы на вещи по-другому. Познакомившись с этой статьей, в которой его обливали грязью, он пришел бы в гнев, и это придало бы ему силы… Подняв глаза от газеты, он увидел, что вернулась первая секретарша. Она села за свой стол, достала пудреницу и принялась мазаться. По правде говоря, он всегда испытывал чувство неловкости по отношению к Ансело, словно у него была совесть нечиста. Никто не мог бы сказать, что он отбил у него Денизу, но он признавал за ним известные права на нее. До этой минуты он даже толком не знал, зачем пришел сюда.
— Я закрываю помещение, вам лучше уйти, — сказала секретарша и добавила, кокетливо улыбаясь: — Если у вас машина, с вашей стороны было бы очень мило отвезти меня домой. Я живу далеко.
— Это очень заманчиво, но все-таки не настолько, чтобы я ушел, — сказал Марк.
— Что же, вы так и будете здесь сидеть до скончания века?
— Мы можем, пожалуй, немного ускорить дело, — сказал Марк. (Это была фраза Льеже-Лебо. Та самая фраза. Вам казалось, что вы очень умно договорились в лифте с Льеже-Лебо. Он хотел ускорить дело, но вы все же не думали, что все произойдет так быстро.) Он поднялся. У него почему-то дрожали руки, и он спросил себя, не теряет ли он чувство меры, на что, впрочем, имел теперь право, не будучи больше молодым человеком, подающим надежды.
— То есть? — сказала секретарша.
Марк поднял со стола большую пишущую машинку «Ремингтон». Он даже не ожидал, что она такая тяжелая.
— Что вы делаете? — закричала секретарша.
Он раскрыл руки. Клавиши разлетелись во все стороны.
— Вы что, свихнулись? — сказала секретарша.
— Я сделал это в ваших же интересах. Разве вы видите другое средство заставить его выйти?
— Я вызову полицию, — сказала она. — Тогда с этим будет сразу покончено.
Марк смотрел на дверь.
— Вы ищете, чего бы еще разбить?
— Только если это будет необходимо, — сказал Марк, — но боюсь, что все-таки придется.
Почти в ту же минуту открылась дверь.
— Господин Этьен, — объявила секретарша, — я считаю своим долгом предупредить вас, что вызову полицию.
— Подождите, — сказал Марк, — я не уверен, что он хочет вмешивать в это дело полицию.
— И все-таки я это сделаю.
— Хорошо, — сказал Марк.
Он ногой придержал дверь, не давая ее закрыть. Секретарша с минуту сопротивлялась, но она была такая худенькая и легкая, что ему не составляло никакого труда ее оттолкнуть. Он это и сделал, внутренне иронизируя над самим собой. Потом запер изнутри дверь на ключ.
Теперь он находился в узком вонючем коридоре, куда выходили три застекленные двери. Ни одна не была освещена. Он наугад толкнул одну из них и зажег свет. Ансело с тусклым взглядом сидел за своим письменным столом, положив перед собой руки.
— Ты боишься света? — сказал Марк.
— Нет, — проговорил Ансело, — я не боюсь света. Я…
Он встал. Он был не лишен изящества, недурен собой и походил на актера кино — не на такого-то или такого-то, а на любого, словно заимствовал свои черты у них всех, так что при взгляде на его лицо казалось, что вы уже где-то видели этого человека. На улицах и в кафе женщины обращали на него внимание. Он вышел из-за стола и остановился перед Марком.
— Ну? — сказал он. — Все еще сердишься? — И протянул ему руку.
Бывает много невероятного в отношениях между людьми. Однажды Ансело сказал: «Я искренне желаю вам счастья и думаю, что ты действительно будешь счастлив с Денизой: я неплохо сформировал эту женщину». Теперь он протягивал ему руку.
Вы, разумеется, ходили в гимнастический зал. Все молодые люди, подающие надежды, ходят в гимнастический зал. На этом настоял Женер. Он не хотел, чтобы вы одрябли и закисли, преступно подрывая свое здоровье. Он сам выбрал для вас гимнастический зал на улице Ром, дни и часы занятий с таким расчетом, чтобы вам было легче заходить к нему после каждого сеанса. В последнее время Бетти готовила вам чай, который вы не очень-то любили, и к нему всякие вкусные вещи. Вы ходили в гимнастический зал, но вы не могли вообразить, до чего вы сильны, не представляли себе, как вы бьете кого-нибудь, и не знали, что значит получить от вас пощечину. Уже много лет вы ни с кем не дрались. Со времени лицея. И вам казалось, что для вас время драк минуло. А если не считать детских потасовок, вы, собственно, еще ни разу в жизни не ударили человека.
Ансело попятился к письменному столу. Он машинально поглаживал щеку. Слегка наклонив голову, он смотрел на Марка с удивлением, с неподдельным удивлением, почти без злобы.
— Осторожно, — сказал он. — Теперь прошу тебя выйти. Не поступи опрометчиво.
Только тут Марк заметил, что, поглаживая одной рукой щеку, Ансело в другой держит револьвер. И, по-видимому, на лице Марка было написано недоверие, потому что Ансело несколько раз подряд кивнул головой в знак того, что он действительно выстрелит, что он твердо решил это сделать. Но Марк не испытывал никакого страха. Он лишь находил, что Ансело с револьвером в руке донельзя смешон, и это зрелище неизвестно почему доставило ему облегчение.
У Марка болела голова. Ему надоела вся эта история. Пощечины было достаточно. Он собирался вернуться домой, принять таблетку аспирина и лечь в постель. Впоследствии он часто спрашивал себя, какой инстинкт или какие кадры из фильмов, застрявшие в памяти, побудили его броситься на Ансело и что было бы, если бы он не схватил так проворно его руку и не вывернул ее, хотя его этому не учили в гимнастическом зале. Если бы Ансело действительно выстрелил. Впрочем, Марк не верил и никогда не поверит, что он был способен выстрелить.
Когда револьвер упал к его ногам, он наклонился и, пока поднимал его, все ждал удара. Но Ансело сложил руки на животе и не шевелился. «Вот и все», — хотелось бы сказать Марку. Чего бы он только не дал, чтобы иметь возможность это сказать! Он подождал еще секунду, оставляя себе последний шанс, потом сунул револьвер в карман и принялся избивать Ансело.
Ансело не защищался. Ему был присущ тот особый род трусости, который заключается в нежелании защищаться. Каждый раз, когда Марк на мгновение останавливался, он чувствовал, что у него отчаянно дрожат руки. Он не мог сдержать эту дрожь. Ему приходилось сделать усилие, чтобы опять сжать кулаки. «Он хочет, чтобы я его убил, — думал Марк. — Он в самом деле хочет, чтобы я его убил». Но, сжав руки в кулаки, он уже не мог их остановить. Он уже не испытывал особого гнева. Он никогда бы не поверил, что способен бить человека, не желающего защищаться, в особенности если это нежелание защищаться не приводит его в ярость. И тем не менее он его бил и знал, что мог бы бить еще долго, не видя причины остановиться, пока Ансело держится на ногах. Он подумал, что его надо ударить под ложечку, в живот, а не только в лицо, но не решился на это. Он сохранял чувство меры и был убежден, что никогда не утратит его.
У него болели руки. Ему было противно окровавленное лицо Ансело. Он и сам себе был противен. Он решил уйти.
— Марк! — окликнул его Ансело.
Марк обернулся. На залитом кровью лице Ансело было трудно различить слезы, но Марк понял, что тот плачет. И вот тут-то он пришел в ярость. Нежелание защищаться он еще мог понять — это было в духе Ансело. Но нежелание оставаться самим собой!.. Если уж ты Ансело, так будь им по конца. У Марка было определенное мнение об Ансело, и он не мог его изменить. Он ушел в бешенстве.
Он медленно вышел на улицу Пепиньер, стараясь что-то понять, убежденный, что ему надо что-то понять, осознать какую-то истину, и с отчаянием чувствуя, что ему это не удается, потому что какой-то внутренний голос непрестанно требовал от него подсластить пилюлю. Он сел за руль и включил мотор. Он подумал, что у него недостанет сил проехать через весь Париж, переправиться на ту сторону Сены и добраться до улицы Газан, где он жил, — за тридевять земель. То была даже не усталость, а отчетливое ощущение полной изнуренности. Все, что произошло с ним за этот нескончаемый день, еще раз всплыло в его памяти, и ему самому показалось невероятным.
Ему исполнилось тридцать шесть лет. Он был уже не молодой человек, а в лучшем случае еще молодой человек. В лучшем случае. Если хотите. Сам он уже немногого хотел. До вчерашнего дня он считал себя молодым человеком. Конечно, он не думал об этом, не сосредоточивал своих мыслей на этой успокоительной уверенности, а впрочем, и не испытывал потребности успокаивать себя на этот счет. Однако в зависимости от возраста человек по-разному относится к самому себе. Теперь он видел это очень ясно. И прекрасно понимал, что в его случае означают тридцать шесть лет. Он попытался вспомнить свой последний день рождения — не испытал ли он тогда какого-нибудь предчувствия. Проснувшись, он сказал себе: «Сегодня мне исполнилось тридцать шесть лет», но его вовсе не угнетало, что он стареет, — ему казалось, что еще рано по этому поводу портить себе кровь. Потом, занятый своими делами, на бегу, он раза два или три повторил себе это. Он долго был, по сведениям, полученным из Соединенных Штатов, самым молодым в мире генеральным секретарем банка. Вероятно, это слегка вскружило ему голову. Он был почти удивлен, внезапно отдав себе отчет в своем возрасте, а также и в том, что теперь он не может принять любое предложение — он слишком известен для этого, слишком на виду, слишком привык, чтобы люди приходили к нему, а не он к ним, что внушало ему ложные представления. Но настоящая проблема была не в его возрасте и не в этих вопросах. Настоящая проблема таилась в том, что он столько работал до Женера и вместе с Женером, что он дал столько доказательств преданности этому человеку, которого считал своим провидением, но который с тем же успехом мог бы быть провидением любого другого стесненного в средствах мелкого буржуа, и что он служил всего только десять лет. Он так быстро сгорел, что даже не заметил этого. Слишком рано и слишком быстро. Десять лет — небольшой срок. Для многих они пролетают незаметно — не успеешь оглянуться, но для некоторых это трудные годы, через которые, как через бурную реку, не так-то просто переправиться. Он сыграл для других роль перевозчика. Столь превозносимый в трудные времена, он теперь выглядел, как ни посмотри, выскочкой, парвеню.
Он ехал так медленно, что полицейские на перекрестках делали ему знак поторапливаться, и только на другом берегу Сены спросил себя, ехать ли ему на улицу Газан, действительно ли после сурового удара хорошо вернуться домой, принять аспирин и лечь в постель. Есть много способов переносить суровый удар, и лучший из них — войти в первый попавшийся бар и выпить немножко больше, чем положено, разговаривая о совершенно незначительных вещах с людьми, которых вы больше никогда не увидите. По крайней мере так кажется, пока еще ничего не произошло. Потом все оказывается иначе. Во всяком случае, для него дело обстояло иначе. Уже не говоря о том, что у него не было к этому привычки. Он резко затормозил — подумал, что кого-то сшиб. Но это был всего лишь гонимый ветром старый мешок из-под цемента. Вы угощаете человека стаканом вина, и он готов рассказать вам всю свою жизнь. Только Марк не мог представить себе, как он угощает стаканом вина незнакомого человека.
Он остановился на улице Алезиа, купил аспирина и кстати зашел в итальянскую лавку. Ему не хотелось есть, но он решил, что заставит себя. Ему долго придется, как это ни глупо, заставлять себя делать то, что ему вовсе не хочется. Бывать в разных местах, встречаться с людьми, выслушивать их, не веря им. Это будет его вторая битва за принцип, еще менее привлекательная, чем первая, которая по крайней мере возбуждала его. Он купил ветчины, маслин и итальянский хлебец, «самый вкусный хлеб в Париже», как говорила Бетти, часто просившая Марка принести его. Он чувствовал себя совершенно опустошенным. Бессонными ночами в Немуре он предвидел все — все до этого момента. Теперь он уже не знал, что будет дальше; он был лишен всякого ориентира и не способен даже надеяться на новую жизнь, потому что слишком хорошо видел все, что привязывало его к прежней, потому что всякая мелочь возвращала его к Женеру.
У него не хватило сил поставить машину в гараж. Это была старая машина, которой уже ничего не было страшно, и он не раз себя спрашивал, зачем он держит для нее гараж. Когда он вызвал лифт, подошла дама с седьмого этажа со своей дочкой, девочкой лет восьми или девяти, которая несла скрипку в футляре, обтянутом красивой шотландкой. Он посторонился и пропустил их вперед.
— Господин Этьен, — сказала дама с седьмого этажа, — как это мило с вашей стороны! Нет, нет, пятый. Только пятый.
Марк путал всех этих дам, которые носили одинаковые скунсовые манто, имели детей одного и того же возраста и находили, что он очень мил.
— Спасибо, большое спасибо. — Она расстегнула воротник своего скунсового манто. От нее пахло крепкими духами, такими же, как от Оэттли, разве только чуть более крепкими. — Какая чудесная погода, не правда ли?
— Действительно, — сказал Марк.
— Я была сегодня в магазине. Там можно было задохнуться. Вам не кажется, что в этом году весна придет раньше времени?
— Да, я тоже так думаю.
Он думал о том, что для большинства людей это самый обыкновенный день. Он думал о магазинах, о людях, толпившихся в магазинах. Все это казалось ему каким-то странным.
— Господин Этьен, я давно хотела вас попросить об одной вещи, и с вашей стороны было бы так мило, если бы вы согласились! У меня бывает бридж. Вы прекрасно играете. Я знаю от мадам М., что вы просто исключительно играете. Приходите на следующей неделе.
— Боюсь, что не смогу, — сказал Марк.
— Вопрос о дне не имеет никакого значения, господин Этьен. В любой день, когда вам будет удобно. Поверьте мне, я это прекрасно улажу.
Она протянула Марку руку не то для поцелуя, не то для пожатия, предоставляя ему выбор. А он думал: «Неужели она до такой степени несообразительна, неужели она не видит, в каком я состоянии, неужели это можно не заметить?» Но тут же его почти испугал устремленный на него взгляд девочки. На лестничной площадке она даже несколько раз обернулась, стукаясь коленками о футляр со скрипкой.
Когда он открыл дверь, ему ударил в нос доносившийся сразу отовсюду запах кофе, ужасающий запах кофе, казалось нагнетенный в квартиру, как сжатый воздух. Он вспомнил, что, уходя, не выключил электрический кофейник. Сигнальная лампочка уже не горела, но на дне кофейника еще булькала жижа. Он налил ее в чашку и, прибавив три куска сахару, выпил одним духом. Он подождал, пока эта горькая и обжигающая жижа попадет в желудок, потом сел и стал опять поджидать — на этот раз наступления глубокого и разумного спокойствия, которое должно было каким-то усилием обрести его сердце. И он долго сидел так, рассматривая при ровном свете неона ссадины на своих кулаках.
Выйдя из кухни, он спокойно подошел к радиоприемнику и повернул регулятор. Он испытывал известное удовлетворение оттого, что без особого труда вновь возвращается к своим привычкам. В своей квартире ему всегда удавалось обрести душевный покой. Она помогала ему немного отвлечься от всего, что было связано с банком. Вначале он был слегка помешан на ней и даже отказывался от приглашений только ради того, чтобы поскорее оказаться дома. Лучшие минуты своей жизни он провел здесь, наедине со своим приемником. «Существует ли что-нибудь такое, чего ты желаешь и чего у тебя нет?» — спрашивал он себя. «Нет, нет». — «Мог ли бы ты быть счастливее?» — «Конечно. Всегда можно быть счастливее, но я не знаю толком, что…», и так далее — тысяча глупостей в том же духе. Нечто вроде спокойного эгоизма, а также известная душевная простота позволили ему прекрасно свыкнуться с одиночеством. Ему было не внове быть одному, по этой части у него был большой опыт, и он знал, что может ждать от него немалой помощи.
Он сел за свой письменный стол и позвонил Денизе. Он насчитал десять гудков. Обычно она подходила сразу. Он повесил трубку со смутным чувством облегчения. Потом он позвонил в Немур. Слегка суховатым тоном он сказал матери то, что решил ей сказать, — это был целый доклад, бессознательно приготовленный для нее: что он уволен; что его признали неправым по всем пунктам; что он встретил у Женера мало помощи и отныне не может ждать от него никакой, так как не хочет ни о чем его просить.
— Не может быть! Почему ты так говоришь о господине Женере? Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?
— Вполне отдаю.
— Нет, нет! Я в это никогда не поверю! Только не господин Женер! Это неправда! Ты не имеешь права! Он так тебя любит! Он тебя любит, и ты его любишь. Вы поссорились? Не говори глупостей, дорогой. Он любит тебя, как сына. Я совершенно уверена, что все это плод твоего воображения. Откуда ты говоришь?
— Из дому.
— Что это за музыка?
— Радио.
— У тебя взвинчены нервы! Я чувствую, что у тебя взвинчены нервы!
— Вовсе нет.
— Да, да. Ты не в своей тарелке. Я так хотела бы быть возле тебя! Ты не говорил бы таких вещей, если бы был в нормальном состоянии. Нужно быть рассудительным, мой мальчик. В жизни встречаешь не много друзей.
— Я знаю.
— Ты никогда не найдешь такого друга, как он.
— Я знаю, — сказал Марк.
— Ты ему обязан всем.
— Он тоже мне многим обязан.
— Послушай, Марк, ты не имеешь права…
— Я не обязан ему всем, — сказал Марк. — По-моему, у тебя довольно ложное представление о наших отношениях. Не беспокойся о нем. Ему совершенно безразлично, что я о нем думаю, и больше того: он, вероятно, дорого дал бы, чтобы я провалился сквозь землю.
— Что же происходит? — глухим голосом спросила мадам Этьен.
Она, должно быть, умирала от страха. Она считала, что без поддержки Женера он погибнет. «Это тяжелый удар для нее, — думал Марк, — но не более тяжелый, чем для меня, наверняка не более тяжелый».
— Ты можешь мне спокойно объяснить, что случилось?
— Да, — сказал Марк. — Это было сегодня утром. — Он положил палец на рычаг. — Брюннер пришел в банк, и я…
Он нажал на рычаг. В трубке едва слышно щелкнуло. Разговор был прерван так внезапно, посреди фразы, что она должна была подумать, будто их разъединили. «Она, конечно, так и подумает», — сказал себе Марк.
Впрочем, он и не смог объяснить бы ей предательство Женера. Он не нашел бы слов. Здесь все слишком зависело от точки зрения. Люди ни за что не дали бы себя убедить в том, что Женер поступал по отношению к нему не совсем так, как был бы должен. Миф о Женере было нелегко развеять. Марк видел его прочность на примере своей матери.
Он пошел на кухню. Проглотил две таблетки. Прислонился к холодильнику. У него кружилась голова. Мысли неслись, как щепки, подхваченные течением.
Он никогда не подлаживался к Женеру. Если между ними происходила размолвка, Женер всегда шел ему навстречу, всегда старался загладить недоразумение, предлагая что-нибудь такое, о чем Марк часто и не думал, — повышение оклада, интересную командировку. Надо было отдать ему справедливость.
Марк прекрасно понимал, что должен отдать ему справедливость, но это ничего не меняло.
Из привязанности, которую питал к нему Женер в течение десяти лет (привязанности подлинной, а не показной, иначе все было бы ясно и просто), следовало, что этот Женер, «человек, который любит вас, как сына», был лишь легендарным персонажем, необходимым для поэтизации банка, призванным иллюстрировать всемогущество чувства даже в этом суровом мире, по самому существу своему чуждом чувствительности; что сам Женер заблуждался относительно этой привязанности, которую он испытывал не испытывая; что он и сам был жертвой, и сам был обманут и, быть может, в этот момент совершенно искренне страдал подобно охотнику, вынужденному убить собственными руками свою больную собаку, забыв о том, как он был добр к этой собаке, что не помешает людям сохранить в памяти лишь его доброту, а не этот смертельный выстрел.
Марк встряхнулся. Он дрожал. Он возвращался издалека. У него было такое ощущение, будто он возвращается издалека.
Он открыл холодильник, взял бутылку «перье» и унес ее в комнату. Достал коньяк, налил в стакан сколько следовало, добавил шипучки. Со стаканом в руке он посмотрел в зеркало, и ему стало как-то не по себе. Он был так спокоен, так внимателен к себе, так тщательно отмерял коньяк и «перье» (четверть стакана коньяку, три четверти «перье»), стоя возле освещенного радиоприемника и слушая тихую музыку. Но ему было страшно. Страшно думать, страшно возобновить ход своей мысли. Этот страх он и увидел в зеркале. Он был очень спокоен, он вполне владел собой. Это было нелепо.
Но так или иначе, это не могло продолжаться. Он знал, что этого спокойствия ненадолго хватит.
«Ложись спать, — сказал он себе. — Ложись спать, старина. Ты действительно очень спокоен, но, кажется, это уже не зависит от тебя».
Он погасил свет и, не раздеваясь, бросился на кровать. В темноте, без зеркал, не видя отражения своей смехотворной уверенности в себе, он чувствовал себя лучше. Он подложил руки под голову. Ему нечего было особенно бояться. Он не привык много размышлять.
Ему опять приходили в голову лишь мысли о его жизни, притом не слишком новые: все «я», «мне», «мое»…
Он думал о том, что был неплохой машиной, делающей деньги. Что ему тридцать шесть лет. Что он послужил перевозчиком. Что в качестве перевозчика он служил дольше, а в качестве машины, пожалуй, меньше, чем это обычно бывает. Что все случившееся с ним было совершенно нормально, даже если ему и не хочется с этим согласиться.
Он повернулся, и из его кармана выпал револьвер Ансело. Он легонько погладил его и бросил на мягкое кресло.
«Я сознательно взял на себя, — подумал он, — роль надсмотрщика, и Женеру даже не пришлось меня об этом просить — вот и все, что можно сказать».
Кому? Кому сказать?
И это тоже было не ново. За десять лет, которые он провел в банке, он уволил всего семь служащих, и четыре из них по той простой причине, что они явно не справлялись со своими обязанностями. Что касается трех остальных, то у него еще и теперь стояли перед глазами их лица.
8
Когда зазвонил телефон и Марк проснулся, ему показалось, что он спал долго и крепко. По всему телу была разлита усталость, но головная боль прошла. Он сильно вспотел. Воздух был горячий, сухой, спертый. По-прежнему стоял густой запах кофе. Марк сразу почувствовал, что голова у него совсем ясная.
— Господин Этьен? — спросил женский голос.
— Да, да, — сказал он. — Это я.
— Добрый вечер, господин Этьен. Говорит…
Сначала он не понял. Переспросил. Она опять назвалась и прибавила очень тихо, очень быстро:
— Я звоню вам по поводу сегодняшнего заседания.
— Я знаю, — сказал он, — я знаю! Боже мой, по какому же еще поводу вы можете звонить?
— Я очень сожалею о том, что произошло.
— Конечно, — сказал он. — Я вам верю, я вам искренне верю. Вполне естественно, что вы сожалеете. А теперь спокойно ложитесь спать и больше не думайте об этом.
— Я не могу, — сказала она. — Я не могу. Я не думала, что…
— Чего вы не думали? — спросил Марк. — Что из этого выйдет такая история? Не начинайте лгать. Вы это прекрасно знали!
— Да, я знала. Но я не это хотела…
— Наплевать мне, что вы хотели. По-моему, нам не о чем разговаривать.
— Одну минуту! — взмолилась она. — Прошу вас, не вешайте трубку!
У нее был действительно умоляющий голос, и Марк это заметил. Он, со своей стороны, не испытывал ни малейшего желания повесить трубку.
— Ладно, — сказал он. — Зачем вы мне позволили? На вас что-то нашло? Или вы хотите узнать, как себя чувствует жертва? Если дело в этом, — продолжал он после паузы, — то вы можете быть совершенно спокойны. Жертва чувствует себя хорошо. Можно надеяться, что она оправится.
— Нет, — сказала она и, помолчав, проронила: — Я хотела… Вы правы, нам с вами, по-видимому, не о чем разговаривать.
— Кажется, вы намеревались объяснить мне, как вы сожалеете о случившемся.
— Я это уже сделала, — сказала она. — Спокойной ночи, господин Этьен.
— Подождите! Я хочу знать, о чем именно вы сожалеете. О том, что произошло, или о том, что вы…
— Я не лгала, — сказала она.
— Это верно. Я забыл, что они обставили дело так, чтобы вам даже не пришлось лгать.
— Я не лгала, — повторила она. — Это была не ложь, а нечто большее.
— Более страшное?
Она не ответила.
— Не глупите, — сказал он. — Говоря серьезно, неужели вы думаете, что, если бы вы не солгали, что-нибудь изменилось бы?
— Нет.
— Так в чем же дело? Послушайте, — сказал он, — если вы придаете какое-нибудь значение таким вещам, я вас охотно прощаю. Вы были бессильны что-нибудь изменить. И вы и я были бессильны что-нибудь изменить.
— Я знаю, — сказала она. — Но это мне безразлично.
— Я думал, что вам хотелось услышать это от меня.
— Конечно.
— Я думал, что для этого вы мне и позвонили.
— Нет, — сказала она. — Я сама не знаю, зачем я вам позвонила. Должно быть, на меня действительно что-то нашло.
— Я, конечно, шутил, — сказал он. — Алло! Алло! Мне нужно вас видеть. Где вы находитесь?
— Нет! Я не хочу!
— Я приеду через минуту.
— Нет, нет!
— Послушайте, — сказал он, — вы передо мной виноваты. Надеюсь, вы согласитесь с этим? Вы мне сейчас же скажете, где я могу…
Она повесила трубку.
Марк посмотрел на часы. Было тридцать пять минут десятого.
Он позвонил начальнику личного стола, приветливому, чрезвычайно робкому человеку, который жил со своей матерью где-то в Отей. Он был очень предан Марку. Как-то раз он пустился с ним в откровенность, и Марк до сих пор не мог понять, как у него хватило на это смелости. Впрочем, сперва он и сам, казалось, был изумлен и слегка испуган тем, что позволил себе такую фамильярность, но потом, видимо, у него отлегло от сердца, и он заговорил с очаровательной непринужденностью. Ему помешала жениться война. Правда, в начале войны, когда ему было сорок лет, он познакомился в Эльзасе с одной женщиной, которую полюбил. Она была эльзаска из очень хорошей семьи. Он впервые был вдали от матери и впервые чувствовал себя более или менее свободным. Но потом он пять лет провел в плену. «Что вы хотите? Она наверняка вышла замуж. Или умерла». Теперь он был уже слишком стар. А тут еще мать с ее деспотическим характером — он привел несколько примеров ее тирании. Все это было так грустно…
К телефону долго никто не подходил.
Наконец послышался сонный голос:
— Алло.
— Алло, — сказал Марк, — говорит Этьен.
— О!.. Добрый вечер, господин генеральный секретарь.
— Я уже не генеральный секретарь, — сказал Марк. — Я думал, вы в курсе дела.
— Нет, я не знал. Я ушел из банка очень рано. Но мне очень жаль. Что касается этой истории… Все это, как говорится, не нашего ума дело, высокая политика, в которую меня не посвящают. Мне очень жаль.
— Спасибо, — сказал Марк. — Вот уже четыре часа, как вы не находитесь у меня в подчинении, но я думаю, вы мне все же окажете одну услугу.
— От всей души, господин Этьен. Я окажу ее вам, как другу, если позволите, в знак моего глубокого уважения.
— Вы можете дать мне адрес мадемуазель Ламбер?
— Нет. То есть, я хочу сказать, не сию минуту. У меня здесь нет адресов. Я не держу личные дела дома. Но я вам позвоню, как только…
— Мне нужен этот адрес сейчас.
— Я могу дать вам его завтра. Обещаю вам прийти в банк как можно раньше, с самого утра. Можно вам позвонить в восемь часов?
— Нет.
— В половине восьмого?
— Послушайте, Эмери, — сказал Марк. — Я не обращаюсь к вам по служебному делу, а прошу об одолжении. Оденьтесь, сядьте в машину и поезжайте в банк.
— Нет. Это невозможно.
— Почему?
— Я не могу сейчас выйти. В данный момент… Нет, я не могу.
— А если бы я еще был генеральным секретарем и дал вам такое распоряжение, вы и тогда бы этого не сделали?
— Мне трудно ответить на такой вопрос, господин Этьен. Я действительно не могу выйти. Маме нездоровится. Вы должны понять.
— Я понимаю, — сказал Марк. — До свидания.
— До свидания, господин генеральный секретарь.
Таким образом, ему оставалось только обратиться к Морнану — через это надо было пройти. Он помнил, что после приема, который устроил Драпье, Филипп предложил Кристине Ламбер отвезти ее домой. Он очень увивался вокруг нее, но, по-видимому, без особого успеха. Как бы то ни было, Марк прекрасно помнил, что они ушли вместе.
Итак, ему пришлось обратиться к Морнану; это ему не очень-то улыбалось, но другого выхода не было.
К телефону подошла Мари-Лор. Мари-Лор, какой он ее еще не знал, — надутая и язвительная. Она сразу начала пыжиться:
— Это вы? Ну, знаете! Вы?
Он попросил ее позвать к телефону Филиппа. Она нашла это «возмутительным».
— Вы при всех устраиваете ему сцену в «Ламете» и после этого к нему еще лезете. Вы поносите его на чем свет стоит, а потом к нему же и пристаете! Бог видит, что я не привыкла думать об этих ужасах, но я себя спрашиваю, уж нет ли у вас какого-то комплекса по отношению к нему или чего-нибудь в этом роде.
— Не задавайте себе столько вопросов, — сказал Марк. — Вы слишком красивы и изысканны, чтобы думать об этих ужасах.
— Забавно, иногда вам почти удается быть любезным.
— Боюсь, что да, — сказал Марк. — А теперь, пожалуйста, скажите ему, что его дружище хочет с ним говорить.
— Я думаю, что у него нет ни малейшего желания вас слушать.
— Разумеется, и даже больше того: ему это наверняка будет очень неприятно.
— Алло, — сказал Филипп. — Ты напрасно так думаешь. Я тебя слушаю. Мне безразлично, что ты скажешь, но я тебя слушаю. В чем дело?
— В тот вечер, когда у Драпье был прием, ты провожал домой Кристину Ламбер?
— Да. Ну и что?
— Ты помнишь ее адрес?
— Да. Улица… А почему ты спрашиваешь? Зачем тебе ее адрес?
— Какая улица?
— Я лучше оставлю это при себе. Ведь я ненадежный человек, не так ли? А есть сколько угодно надежных людей, которые с удовольствием дадут тебе справку. Всякий раз, когда ты нуждался во мне, я был к твоим услугам, но теперь — все. С этим покончено. И я даже рад случаю высказать тебе все, что я о тебе думаю. Я хотел сделать это еще в «Ламете». Ты знаешь, что я о тебе думаю? Нет? Хочешь, я тебе скажу?
— Валяй, — сказал Марк.
— Primo, я всегда считал тебя бездарью. Когда ты приехал из своего Немура, я сразу понял, что тебе грош цена. Терпеть не могу бездарных педантов! И все в Политехнической школе поняли, что ты типичная бездарь, жалкий зубрила, вообразивший о себе бог знает что. Правда, в тебе было что-то такое, что прельщало дураков, и еще ты обладал способностью, которую я за тобой всегда знал, тоже, быть может, характерной для бездарности, — вылезать, протискиваться вперед с какой-то наивной убежденностью, что ты имеешь на это право. Я даже думаю (извини меня, я только хочу поставить все точки над «i»), что ты никогда не останавливался перед тем, чтобы погубить товарища. И это-то позволило тебе в течение долгого времени сохранять свои иллюзии. Я думаю, ты понимаешь, на что я намекаю?
— Не совсем, — сказал Марк, — но все равно продолжай.
— Secundo, — сказал Филипп. — Ты совершенно лишен чувства юмора. Ты из тех людей, которые все принимают всерьез. Ты всегда был таким. Когда тебе невероятно повезло и тебя назначили генеральным секретарем, можно было по-разному к этому отнестись. Ты, не задумываясь, повел себя так, что стал смешон в глазах всех, и тебя все невзлюбили. Если бы ты был просто умный и удачливый человек, который сделал блестящую карьеру, против тебя никто ничего не имел бы, но ты сразу стал генеральным секретарем и принял это как должное. В сущности, ты всегда считал, что так оно и должно быть. Когда в первый раз ты появился в обществе, помнится у Мабори, в своем слишком коротком смокинге, все посмеивались над тобой. Мне сейчас напомнила Мари-Лор, что как раз в этот вечер Аньес Мабори и Мартина Дандело прозвали тебя цаплей. Не из-за смокинга — это достаточно простые и достаточно умные люди, чтобы простить человеку слишком короткий смокинг, нет, они дали тебе это прозвище, потому что ты так держался. И уже тогда я подумал, что ты слишком вульгарен и именно поэтому когда-нибудь непременно сорвешься. Даже поверить трудно, до чего важно, как человек воспитывался с детства. Будь ты получше воспитан, ты был бы безупречен. Когда там, на берегу озера, ты говорил все эти прекрасные слова, мне казалось, что ты в самом деле замечательный человек, но что-то мешало мне считать тебя действительно безупречным. Было в тебе что-то такое… ты понимаешь…
— Понимаю.
— А в тот день, когда мы завтракали на авеню Монтень, помнишь…
— Да. Прекрасно помню.
— Стоило посмотреть, как ты чистишь грушу, — я просто умирал со смеху.
— Не задерживайся на этом, переходи сразу к tertio.
— Tertio, — сказал Филипп, — я никогда не считал тебя человеком, на которого можно положиться. В твоей преданности Женеру было нечто чудовищное. Я имею в виду дело Морисса.
— Морисс работал в твоем отделе. Я уволил его на основании твоей докладной записки.
Морисс был одним из троих служащих, чьи лица еще и теперь стояли перед глазами Марка.
— Не помню, что было в моей докладной записке, но что я хорошо помню, так это лицо Морисса в ту минуту, когда он вышел из твоего кабинета. Ты знаешь, что я думаю обо всех этих людях, по мне, пропади они пропадом, но ты обошелся с этим человеком довольно гнусно, разве нет? Это мне открыло глаза, и я начал тебя остерегаться. Я понял, что интересы Женера для тебя превыше всего, и ради них ты способен предать самого верного друга. И я молил бога, чтобы мне никогда не пришлось попасть в зависимость от тебя. Тогда многие стали тебя остерегаться. Если бы ты знал, сколько людей разгадало, что в тебе сидит полицейский! Полицейский-фанатик. Твоим божеством был Женер, но мог бы быть кто угодно. Ты знаешь, почему из бездарных типов, вроде тебя, выходят такие хорошие жандармы? Потому что это в их поганой натуре.
— Это все? — спросил Марк. Он знал, что это все, что quatro не будет. Речи Морнана всегда состояли из трех пунктов, да quatro и не говорится. — Мне кажется, я тоже тебя знаю. Надеюсь, что теперь ты чувствуешь себя совсем хорошо. Надеюсь, что ты вновь обрел уважение к самому себе. За это я тебя и люблю. До свидания, дружище.
Марк повесил трубку. Он никогда не придавал особого значения мнению других о себе. Теперь он сомневался в том, что поступал правильно. Во мнении других всегда есть доля истины. Как бы ни были огрублены и искажены почти все черты, портрет в целом остается довольно похожим.
Минуту спустя он был опять на кухне и, сделав отличный бутерброд с ветчиной, пытался убедить себя в том, что съест его. Было без пяти десять.
И тут-то он вспомнил об одной записной книжке, которую Полетта держала в левом ящике стола. Она заносила туда адреса всех важных лиц и всех тех, кто мог когда-нибудь стать важным лицом. Последние страницы этой книжки были отведены для адресов служащих, которых надо было иметь возможность вызвать в любое время суток в случае чрезвычайных обстоятельств, например биржевой паники или разразившееся войны. Он был уверен, что найдет там адрес Ламбер.
Он подумал, не позвонить ли привратнику.
Если бы в банке был прежний привратник, он, не задумываясь, так и сделал бы. Но Драпье его уволил. Он съехал под рождество, когда валил снег. Бумаги о его увольнении пришлось подписать Марку. Но старик не был на него в обиде, он все понимал. За себя он не беспокоился, он только волновался за свою старуху. «Здесь написано, где я буду жить, — сказал он Марку, — и я бы попросил вас и господина Женера как-нибудь невзначай навестить нас в ближайшее время. Это доставило бы ей удовольствие, помогло бы свыкнуться…» — «Идет, — сказал Марк. — Я вам это обещаю».
Его преемник был бывший полицейский, человек ненадежный.
Марк снова проехал через весь Париж. Париж безлюдный и прекрасный, каким он бывает от десяти до одиннадцати. Полная луна, озаряющая купол Гран Пале, порывы ветра на пустынных перекрестках, ярко освещенная площадь Согласия — все это вместе создавало впечатление праздника в мертвом городе. Через час, когда люди начнут выходить из театров (к тому времени он уже будет возвращаться), это волшебство исчезнет. Но теперь ему было даже трудно представить себе заполненные публикой театральные залы.
Он остановил машину на улице Пепиньер и открыл служебный вход: Женер, любивший церемонии и символы, когда-то вручил ему ключ от этой двери на обеде у Лассера, где присутствовали Дандело, Ласери, — словом, те же, что и всегда. Он поднялся по маленькой лестнице, которая вела в холл, но не сел в лифт. Сколько раз он приходил сюда вот так в темноте, как вор! Только обычно он садился в лифт.
Он нашел записную книжку в ящике стола и адрес Ламбер на последней странице.
Он погасил свет и с минуту тихо сидел, вслушиваясь в тишину, бездонную тишину опустевшего банка.
И тут он вдруг почувствовал тишину, царившую в нем самом, — тишину пустоты. Как ни странно, до этой минуты она не удивляла его, он ее даже не сознавал. Он дал себе слово не смотреть на вещи трагически, гнать от себя горькие мысли, но ему это слишком хорошо удавалось, решительно слишком хорошо: у него не было ни единой мысли — ни горькой, ни какой бы то ни было. Он с тревогой видел, что не способен извлечь урок из того, что с ним произошло.
Даже когда его в этом уверяли, даже в тех редких случаях, когда он мог бы, не слишком покривив душой, согласиться с этим, он не считал себя выдающимся человеком. Умным — да. В течение целого периода своей жизни, героического периода, когда ему был присущ известный романтизм (глупое слово, но точное, или, вернее, то слово, которое в данном случае само приходит на язык, а быть может, и следует судить о себе по словам, которые приходят вам на язык), когда у него было мужество, а к тому же свободное время, он посвящал час в день критике чужих идей, исходя из своих собственных. Потом почти без всякого перехода начался долгий и довольно однообразный период, до отказа заполненный деловой суетой и ознаменованный лишь двумя или тремя событиями (начало войны в Корее, сближение с Денизой, окончание индокитайской войны), которые давали пищу его уму и научили его подвергать критике свои собственные идеи, исходя из чужих идей. Он прекрасно понимал, что между этими двумя формами мышления была немаловажная разница. У него, понятно, уже не было времени для того, чтобы задумываться над «проклятыми вопросами», да не было и вкуса к этому; прежде они мучили его, теперь он отмахивался от них и, плывя по течению, был способен с сегодня на завтра совершенно изменить свой взгляд на вещи.
Неверно думать, что с возрастом человек становится все умнее. Бывает наоборот — он ужасающе регрессирует. Марк потерял в этом банке не только молодость, «лучшие годы жизни», но и умение мыслить и жить по-своему. Он не мог бы сказать, когда это началось. До сих пор он не знал, что умственные способности можно утратить, как и все остальное. Он чувствовал себя опустошенным и обнищавшим.
Время от времени он читал какой-нибудь роман — только этим он еще поддерживал то, что не называл, не решался называть своей культурой. Прочесть один роман в месяц, словно выполняя положенный ритуал, он считал вполне достаточным, и если, случалось, останавливал внимание на какой-нибудь фразе, то только по одной причине: его удивляло, что есть или по крайней мере могут быть люди с таким сложным душевным миром.
Он стал очень простым существом. Это его не радовало. Не исключено, что он мог стать человеком чрезвычайно утонченным и умным. Этого не произошло — то ли потому, что он увяз в трясине этого банка, то ли потому, что у него действительно не было для этого данных. Он склонялся ко второму.
Он сам — Женер — Драпье… Драпье — Женер — он сам… Марк не мог выйти из этого замкнутого круга. Ему хотелось бы, чтобы у него были высокомерные, немного крамольные мысли. Если бы он понимал ход истории, он мог бы смотреть на себя, как на политическую жертву. Но он вовсе не был политической жертвой. К тому же он всегда отказывался допустить, что история ходит, как человек.
И вот потому-то он так страдал, хотя по нему этого не было видно.
Он встал. В окне краснели отблески вывесок, горевших на бульваре, всех вывесок квартала Сен-Лазар. У него было простое и счастливое детство. Он мог бы написать какую-нибудь диссертацию, преподавать латынь в провинции или торговать лошадьми на озере Чад. Он чувствовал одно только отвращение при мысли о том, что ему придется столько говорить, чтобы убедить Кристину Ламбер сказать правду, хотя это ничего не изменит. «Ты обаятелен, — как-то раз сказала ему Дениза, — и вдвойне обаятелен потому, что у тебя всегда такой вид, будто ты не замечаешь этого». Он не знал, как себя повести. По тем немногим словам, которые Кристина Ламбер произнесла по телефону, он понял, что она в смятении. Пустить в ход свое обаяние было бы, пожалуй, неплохо, но он был просто не способен заключить ее в объятия и заговорить о том, как он подавлен, о том, что она должна его понять, что она нужна ему больше всех на свете, что только она может вернуть ему веру в будущее. Он чувствовал отвращение к красивым словам и вообще ко всяким словам. Он еще никогда ни на ком не испытывал своего обаяния, по крайней мере умышленно, если не считать одной пухленькой брюнетки, с которой они поладили так быстро, что ему было трудно судить, какую роль здесь сыграло его обаяние.
Когда он уже собирался уходить, открылась дверь, и в ту же минуту зажглись все лампы. Привратник спрятал в карман свой фонарик. Это был полный рыжий человек, уже немолодой, в плотно облегавшей его тело одежде — черном свитере, брюках из толстого черного сукна, короче, во всем черном, как и подобает блюстителю порядка. Он уставился на Марка, стараясь придать своему лицу свирепое выражение, но по глазам его было видно, что он доволен.
— Вы не имеете права находиться здесь, — сказал он. — Полагаю, вам это известно?
— Мне этого никто не говорил, — ответил Марк, — но я вам верю.
— Как вы вошли?
— Не волнуйтесь, я ухожу.
— Вы что-нибудь взяли?
— Еще бы, кучу всяких вещей.
— Не отшучивайтесь, — сказал привратник. — Зачем же вы пришли, если ничего не хотели взять? У меня есть распоряжение.
— Какое распоряжение?
— Я не должен вас сюда пускать.
— Будьте спокойны, я никому не скажу.
Привратник грустно улыбнулся, словно оценил иронию, прозвучавшую в словах Марка, и сказал:
— Очень жаль, но мне придется вас обыскать.
— Ну, ну, без глупостей!
— Я имею на это право. У меня есть распоряжение.
— Вы этого не сделаете, — сказал Марк и спокойно застегнул пальто. — Еще чего не хватало.
— Что вы воображаете? Я и не с такими справлялся!
— Возможно. Рад за вас. Что ж, действуйте.
Привратник пожал плечами.
— Вы что, с ума сошли? — сказал он. — Уж не думаете ли вы, что я стану с вами драться? На вашем месте я спокойно дал бы себя обыскать, и дело с концом.
— Не выйдет, — сказал Марк.
— Прекрасно. В таком случае попрошу вас следовать за мной.
— Понятно, — сказал Марк. — Сразу видно, что для вас это дело привычное.
— Что?
— Произносить такие фразы.
Они вышли в коридор.
— Сюда, — сказал привратник.
Они с минуту шли молча. Привратник опять зажег свой фонарь.
— Вы принимаете меня за шпика, да? А я только выполняю свои обязанности, соблюдаю инструкции. Все принимают меня за шпика, и знаете почему? Потому что я раньше служил в полиции. Из-за этого все и говорят, что я веду себя, как шпик.
— Понимаю, — сказал Марк, — тут уж ничего не поделаешь.
— Если бы не это, все, что я делаю, казалось бы в порядке вещей. Обойдемся без лифта, так будет лучше.
Марк не спросил, почему так будет лучше. Через окно, выходившее в коридор, Марк увидел свет в кабинете Драпье.
Не успел привратник постучать в дверь, как Драпье открыл.
— Счастлив вас видеть, — сказал он, впуская Марка в кабинет, и хотел было протянуть ему руку, но вовремя удержался, — счастлив вас видеть именно теперь!
В кресле сидел Женер. Увидев Марка, он вскочил. Марк заметил, что у него совсем старое лицо.
— Добрый вечер, Марк, — пролепетал Женер.
Марк, не ответив ему, повернулся к Драпье.
При взгляде на Женера в глаза бросались не столько его лиловые губы и красные прожилки на щеках, сколько белый круг, явственно обозначавшийся вокруг рта, как это бывает у стариков в минуты волнения, белый круг, казалось нарисованный мелом, делавший его лицо похожим на маску клоуна.
— Садитесь, — сказал Драпье. Марк не тронулся с места.
«Мне-то что, — думал он, — но ему в его шестьдесят пять лет нелегко пережить такую минуту. Чего бы он только не дал, чтобы избежать этой встречи?» Впрочем, Марк отнюдь не был уверен, что Женер что-нибудь дал бы за это. Он был человек мужественный и умел отвечать за себя.
— Можно с вами поговорить? — спросил Драпье.
— Я не вижу в этом необходимости, — сказал Марк.
— Послушайте-ка, — сказал Драпье, — послушайте-ка, вы оба. Не я пришел к вам, а вы ко мне.
— Но что касается меня, — сказал Марк, — то я, во всяком случае, не собирался разговаривать с вами.
Драпье улыбнулся, потом засмеялся — он понял, что ему нет надобности объяснять, зачем пришел к нему Женер.
— Не глупите, — сказал тот непривычным для Марка сухим, категорическим тоном. — Будьте уверены, вам не удастся убедить Марка Этьена, что я пришел сюда не для того, чтобы отстаивать его интересы.
— У меня больше нет никаких интересов, связанных с этим банком, — сказал Марк. Он произнес это, не повышая голоса, даже без нотки презрения — просто констатируя факт.
— Марк, — вздохнул Женер, — вы всегда были таким: когда дело касается вас, вы ничего не понимаете, ни о чем не догадываетесь.
— Вы мне противны, Женер, — сказал Драпье. — Вы мне глубоко противны.
Марк повернулся к Женеру. Тот провел по лбу своей морщинистой рукой и прикрыл ею глаза.
— Знаете, зачем он пришел? — спросил Драпье, проследив за взглядом Марка и повернувшись к нему на своем вращающемся кресле.
— Знаю, — сказал Марк. — Чтобы заверить вас, что он не имеет никакого отношения ко всей этой истории. Он пришел сказать вам, что он сделал все, чтобы меня удержать, и что…
— Неправда, — сказал Женер.
— Что? Что неправда?
— Я вовсе не говорил, что…
— Вы только об этом и говорили! Не пытайтесь отпираться — он это знает. Вы же видите, он это знает!
— Нет, нет. Он сказал это сгоряча. Правда, Марк?
— «Драпье, дорогой Драпье, — заговорил Драпье плаксивым голосом, совсем не похожим на голос Женера, которого он пытался передразнить, и Марку показалось забавным, что Драпье или кто-нибудь еще может так представлять себе характер Женера. — Драпье, дорогой Драпье, я способен на многое, но настраивать этого мальчишку против вас! Поверьте…» Что же, я все это выдумываю? Он когда-нибудь признавался вам, что способен на многое? Почему я должен был ему верить? Почему большинство людей склонно ему верить? Так он вас действительно удерживал? Что он сделал для того, чтобы вас удержать?
— Немало, — сказал Марк. — В ход были пущены разные средства.
— Не можете ли вы сказать, какие именно?
Марк снова посмотрел на Женера, и тот, по-видимому, почувствовал его взгляд, потому что отнял руку от глаз и провел ею по волосам. Даже когда Женер, казалось, был при смерти, он не выглядел так жалко. Однако взгляд его оставался все тем же — открытым, ласковым, почти нежным.
— Я мог бы оказать ему еще и эту услугу, — сказал Марк, — но лучше воздержусь.
— Хорошо, — сказал Драпье. — Я вам верю.
Он встал и подошел к Марку.
— Я очень рад, — продолжал он. — Рад, что это исходит от вас. Знаете, кто вы, Этьен? Политикан, жалкий политикан!
— Не думаю, — сказал Марк. — Тогда, конечно, все было бы проще, но я…
— Нет, — прервал его Женер. — Я могу подтвердить, что Этьен никогда не принадлежал ни к какой политической партии.
— Что вы об этом знаете? Откуда вы это знаете? Разве вы наводили справки о нем?
— Конечно, — совершенно спокойно ответил Женер. — В самом начале. Он это знает.
— Да, — сказал Марк. — Я это знаю.
Драпье резко повернулся к Женеру и сказал:
— А о Кавайя вы тоже наводили справки?
— При чем тут Кавайя?
— Не знаю, — сказал Драпье. — Просто мне хочется поговорить о Кавайя. Как только Этьен вошел в эту комнату, я понял, что должен поговорить о Кавайя.
— Не смейте! — крикнул Женер, протестующе воздев руки, и этот жест, которым он безуспешно пытался выразить негодование, старчески бессильный жест был довольно трогателен. — Что вы знаете об этом деле? Что может такой человек, как вы…
— Такой человек, как я, видал виды. Правда, в то время я еще не принадлежал к вашим кругам, но, быть может, вы знаете, что я имел честь предстать перед судом? Быть может, вам известно, Этьен, что я имел эту честь?
— Да, — сказал Марк.
Он не сказал: «Я не считаю это честью». Не потому, что не хотел, чтобы его приняли за человека, который занимается политикой, а потому что прекрасно понимал, что Драпье (а возможно, даже несомненно, и Женер) ждут от него этих слов. Драпье подождал еще с минуту, потом прошел через всю комнату к своему письменному столу, взял с него какую-то бумагу и, даже не взглянув на нее, произнес напыщенным, театральным тоном: — Это было тринадцатого февраля 1945 года. — Потом добавил: — Меня судили в то же время, в тот же день, на том же судебном заседании, что и Кавайя.
— Что вы делаете, Драпье, — проговорил Женер, — что вы делаете?..
— Этьен, вы слышали о некоем Кавайя?
Марк не ответил.
— Брюннер выкопал его в Нанси. Поймите меня правильно: я пытаюсь разгадать, ради чего вы сломали себе шею, как дурак. Поэтому я и рассказываю вам о Кавайя. Не знаю, заметили ли вы это, но Женер имеет пристрастие к молодым людям, подающим надежды. Охотнее всего он берет их прямо из колыбели. Кавайя Брюннер выкопал в Нанси. Это был очень способный молодой человек, безусловно, не менее способный, чем вы. Провинциал, трудившийся в поте лица и ослепленный перспективой, которая перед ним открылась, он так ничего и не понял — ни тогда, ни позже. Потому что Женер, разумеется, любил его, как сына. Он сделал для него даже то, чего не сделал для вас: взял его к себе в дом, кормил и поил. Потом…
— Никто не имеет права говорить об истории с Кавайя! — вскричал Женер.
На этот раз ему удалось встать, отодвинув назад кресло. Теперь все трое стояли, и двоим из них было страшно — Марк не мог скрыть от себя, что ему страшно.
— Никто, кроме меня! Никто не знает драмы Кавайя. Никто, кроме меня! Но вы, Драпье, позволяете себе говорить, так вы уверены во всем!
— Потом, — продолжал Драпье, — во время оккупации, не в самом начале, а немного позже, Женер и Брюннер по причинам, которые, полагаю, нет надобности вам объяснять, уехали на отдых, а Кавайя остался как честный, но совершенно незначительный представитель обоих кузенов. И как ни странно, состояние Женера, настоящее состояние Женера сложилось именно в это время.
— Вы бредите, Драпье!
— Мне кажется, можно отдать справедливость Кавайя: он работал не ради денег. Он работал ради Женера, вы понимаете, что я хочу сказать? Этот невзрачный провинциал, получавший у Женера каких-нибудь пять тысяч франков в месяц, а может быть и меньше, сумел — невероятная вещь! — убедить немцев, что он наиболее подходящий человек для того, чтобы действовать в интересах «И. Г. Фарбениндустри»[7].
— Это бред! — повторил Женер. — Я никогда не вступал в сделки с «И. Г. Фарбениндустри»!
— Вы клянетесь в этом? — спросил Драпье. — Вы можете дать честное слово, что это так? — Он сел в свое вертящееся кресло, открыл ящик стола и достал оттуда какую-то папку. — В вашем распоряжении одна минута. Даете вы честное слово?
— Вам?
Женер схватился рукой за спинку стула. Было слышно, как он тяжело дышит. Он засмеялся, но маска смеха тут же спала с его лица.
— По правде говоря, — сказал он, — мне до сих пор еще не приходило в голову, что по такому поводу от меня может потребовать честного слова человек, чье прошлое…
— Поосторожнее, — сказал Драпье. — На вашем месте я бы воздержался от громких слов. Вы рискуете испортить благоприятное впечатление, которое произвел на меня ваш визит. — Он тоже засмеялся и тоже сразу оборвал смех. — Так как же насчет честного слова? Дайте его, если это вас больше устраивает, Этьену. Хоть он и не политик, я полагаю, ему очень хотелось бы услышать от вас, что вы никогда не получали деньги от «И. Г. Фарбениндустри».
— Нет, — сказал Марк.
— Вот великодушный человек, — сказал Драпье. — Поблагодарите его, Женер. Таких, как он, вам больше не сыскать! — Он открыл папку и перевернул два листа. Не в силах вынести воцарившуюся тишину, Женер кашлянул. — Однако я хочу сказать другое. Это касается пресловутого судебного заседания тринадцатого февраля. Кавайя судили до меня, и, должен сказать, ему куда меньше повезло. На редкость некрасивый, почти уродливый, бедняга был совершенно подавлен. Он попросил вызвать в качестве свидетеля Женера. Женера ждали, но он не приехал. Он прислал письмо. Прекрасное письмо. Одно из самых прекрасных писем, какие я знаю. Любовное письмо, вы понимаете?
— Да, прекрасно понимаю, — сказал Марк.
— Он ни в чем не обвинял Кавайя. Он писал, что слишком любит этого человека, чтобы его судить.
Он просил понять его. Забавнее всего в эту минуту был вид Кавайя…
— Представляю себе, — сказал Марк. — Надо думать, вид у него был ужасный.
— Вы работали с Женером десять лет, не так ли? Когда я спрашивал вас об этом, я имел в виду…
— Понимаю, — сказал Марк, — вы имели в виду эту историю, и я…
— Вы ее знали? Я не сообщил вам ничего нового?
— Решительно ничего, — сказал Марк. — Я все это знал.
До сих пор он считал себя неспособным лгать, не будучи уверенным, что это действительно необходимо. Женер коснулся его руки и произнес:
— Марк, почему вы лжете?
Марк посмотрел на него. На лице Женера не было написано ни тени лукавства — оно напоминало морду доброй, умной лошади.
— Почему гнев заставляет вас лгать? — сказал он. — Как вы можете это знать, когда этого не было?
— Я могу теперь идти? — спросил Марк.
Он направился к двери, но Женер тем временем заговорил:
— Чего только они не способны выдумать, чтобы оторвать вас от меня! Богу известно, что мы с вами боролись против этих людей. Я долго боролся вместе с вами и до вас, но теперь я устал и не хочу больше бороться. Я скоро сойду в могилу, но сойду в могилу, не запятнав своей чести! Отрекитесь от меня, я ничего не скажу! Отрекитесь от меня, теперь это уже не имеет значения!
Марк не понимал этого языка, метафоричного, как библия.
9
Он все же поехал к Кристине Ламбер. Еще никогда в жизни он не совершал такого нелепого, заведомо ненужного поступка. Он сделал это, потому что решил это сделать, потому что…
Она жила у черта на рогах — на улице Бербье де Мец, в Гобелен.
…Потому что люди дела как бы по инерции продолжают действовать даже тогда, когда остается только уйти в себя и ждать. Марк был человек дела. Банк здесь был ни при чем. Ему всегда казалось, что, действуя, он отвращает несчастья — как заклинают судьбу. Несчастьем для него было думать.
Был двенадцатый час. Марк с трудом добудился консьержки, спросил у нее, на каком этаже квартира Ламбер, и медленно поднялся по лестнице. На площадке у него вдруг потемнело в глазах и подкосились ноги. Он обеими руками уцепился за перила. Казалось, сердце вот-вот остановится, как механизм, у которого кончился завод. Марк изо всех сил старался прогнать образ Кавайя, не поддаться чувствам, которые должны были охватить Кавайя. Не быть Кавайя. Наконец он встряхнулся и позвонил.
Кристина Ламбер не спала. Она ждала его.
— Зачем вы пришли? Зачем? — спросила она, но по ее голосу, в котором не прозвучало особого удивления, да и по ее прическе, слишком аккуратной, слишком тщательной, по всему ее виду он понял, что его приход не был для нее неожиданностью, что она его ждала. Но он не знал, чего она ждет от него, и не знал, чего он сам от нее ждет.
— Просто так, — сказал он. — Клянусь вам, просто так.
— Я не могу, — сказала она.
— Я знаю, — ответил Марк.
Но она не спросила его, зачем же он пришел, если он отказался от надежды убедить ее сказать правду, хотя, по-видимому, не думала, что он пришел упрекать ее за то, что она солгала. Вероятно, она не верила, что он действительно отказался от надежды ее убедить.
А может быть, она догадывалась, что его привело к ней то же чувство, которое побудило ее позвонить ему, — смутная потребность найти облегчение в словах, потребность, которую нельзя заглушить, даже если сознаешь, что все это бесполезно и глупо.
Она провела его в комнату. Маленький радиоприемник, книги в веселых переплетах из клубной библиотеки — все было на своих местах и все, как у всех. Она села напротив него. Он подумал, что она скоро встанет, чтобы достать бутылку вина, неизбежную бутылку шартреза, столь же неизбежную у одинокой девушки, как маленький радиоприемник и книги из клубной библиотеки. Она была решительно очень молода. Марк не дал бы ей и двадцати пяти лет.
— Что вы будете делать? — спросила она.
— Не имею ни малейшего представления, — сказал Марк.
— Я думала, господин Женер вам поможет.
— Разве что утопиться! Вы подумали о будущем, которое ждет такого человека, как я, после того, что произошло?
— Да.
— Если вас не затруднит, скажите, пожалуйста, к каким выводам вы пришли?
— Мне очень жаль, что…
— Понятно. По-моему, это вы уже говорили.
— Что мы будем делать?
Она вздохнула. Это «мы» вызвало у Марка улыбку. В ее отношении к нему его поражала ее пассивность — пассивность, граничившая с покорностью. Он понимал, что она хочет быть приятной ему, но тут было нечто большее: казалось, он гипнотизировал ее. Она думала, что он страдает из-за нее, и теперь встала в тупик: у него был такой спокойный, невозмутимый, совсем не страдальческий вид. «Именно в этом все дело, — сказал себе Марк. — Ее ошеломляют даже не мое спокойное и трезвое отношение к происшедшему, а то, что я так спокойно и трезво говорю обо всем этом ей». Каждый ее взгляд был вопросом, на который он совершенно сознательно отказывался отвечать. Он знал, на чем зиждется его власть над ней, и знал, что может как угодно долго сохранять эту власть. Он знал, что она не в состоянии отказать ему в чем бы то ни было, но еще лучше знал, что ничего не потребует от нее.
— Это зависит от вас, — сказал он и подумал: «Нет, не так. Пока это будет зависеть от нее, она не перестанет отвечать „нет“. Надо, чтобы это зависело от нас. Она сказала „мы“. Она хочет, чтобы я ей помог, чтобы я не спрашивал у нее, как она поступит, а сказал бы ей: мы поступим так-то и так-то».
— Нет, — сказала она. — Нет. Я не могу.
И снова Марк сказал, что он это знает. Вот эта-то фраза и приводила ее в замешательство. Она всякий раз натыкалась на эту фразу, на это пренебрежительное «я знаю», на этот отказ считаться с ее слабостью. У нее был такой потерянный вид, что он почувствовал желание взять ее за руку, глупое желание взять ее за руку или просто коснуться ее. Она была красива и очень молода. До сих пор он видел ее только в банке. Здесь она выглядела иначе. Она казалась ему совсем другой. Он еще раз подумал, что ему тридцать шесть лет; теперь это означало, что он достиг того возраста, когда становятся чувствительнее к прелести действительно молодого лица. У нее эта прелесть сочеталась с тем необъяснимым обаянием, которое свойственно только что плакавшей женщине.
— Выйдем, — сказал он, улыбнувшись, и подумал про себя, что эта улыбка, должно быть, ни на что не похожа. — Одевайтесь. Поедем куда-нибудь, где мы сможем поговорить за стаканом вина.
— Мы прекрасно можем поговорить и здесь, — сказала она. — Я вполне могу сказать вам, что мне мешает сделать то, что вы требуете.
— Нет, нет! Ступайте одеваться. Поторопитесь, детка.
Она открыла рот, казалось готовая отказаться, но через мгновение сдалась и, взяв из шкафа платье, скрылась в ванной комнате.
— Кстати, я ничего от вас не требовал, — сказал Марк.
— Я знаю! — крикнула она из ванной. — Но чего я не понимаю, так это…
Он так и не узнал, чего она не понимала. Когда она вышла из ванной комнаты, он подал ей сумочку. Она порылась в ней и достала помаду. Он заметил, как она дрожала. Она сказала, что ей очень неприятно, — она всегда так спокойна. Он тихонько повел ее к двери. «Можно мне все-таки надеть пальто?» — спросила она. Он сам достал в платяном шкафу неизбежное скунсовое манто и, прежде чем выйти, погасил бра, неизбежное бра на консоли под мрамор.
Марк и сам не знал, почему он привез ее сюда. На улице Бербье де Мец, когда он уговорил ее поехать куда-нибудь, где можно поговорить за стаканом вина, ему было ясно, что они поедут на Монпарнас, но он имел в виду «Купол». Только потом, представив себе террасу «Купола», калориферы, снующих взад и вперед людей, он выбрал это кафе на улице Вавен, где он был всего один раз, три года назад, вместе с Морнанами. Она, должно быть, даже не заметила его колебаний и покорно вошла за ним в кафе с таким видом, будто выполняла какой-то нелепый обряд. Она не верила, что он отказался от мысли ее убедить. Напротив, соглашаясь на этот обряд (Марк и сам не мог бы сказать, зачем он нужен), она старалась понять, каким образом он собирается воздействовать на нее. Однако она не была настороже. Быть может, она и не желала, чтобы он отказался от своего намерения. Быть может, ей нужна была его помощь, чтобы преодолеть слабость, которую она выражала словами «Я не могу» и которой он не хотел признавать. Быть может, она в душе взывала к нему. Что он об этом знал? Что он знал о ней, кроме того, что она позвонила ему по телефону, не удержалась, чтобы не позвонить? Отсюда все и шло. Сначала этот звонок, потом Кавайя — одно цеплялось за другое. По сравнению с Кавайя все остальное выглядело пустяком, совершенным пустяком.
«Все это чрезвычайно логично, — подумал Марк. — Я все предвидел, вплоть до того, что у нее не хватит мужества меня поддержать, я учел все обстоятельства, кроме одного, самого важного: и до меня существовал мир, а в мире — Женер». Свет, сутолока, теснившиеся вокруг люди, разгоряченные танцами и алкоголем, действовали на него, как тонизирующее средство: все представлялось ему ясным и логичным. Здесь он чувствовал себя лучше. Он заказал виски, она что-то еще, но он и для нее заказал виски, и она ничего не сказала.
Ему захотелось танцевать. Она с недоумением посмотрела на него. У нее были очень красивые глаза. Нет, она не походила на веснушчатых американок. Он заново открывал ее. Это была не та женщина, которая солгала на заседании совета, не та женщина, которую он безмолвно умолял не лгать, потому что хотел в некотором смысле спасти ее. Это была другая женщина, неважно какая, но не такая, как все. Он слишком быстро выпил свое виски. Он не узнавал места, где они находились. Раньше это было самое обыкновенное кафе, а теперь что-то чертовски экзотическое. Она танцевала очень хорошо, а он плохо, потому что ему некогда было научиться, и в этом тоже сказывался недостаток светского лоска. Она что-то говорила ему. Кажется, спрашивала, действительно ли он не чувствует к ней ненависти, и почему, и как это возможно.
«Я работал только ради этого подлеца, — думал Марк, — а вовсе не из законного честолюбия, не из стремления завоевать общественное положение и прочее и прочее. Этот мерзавец обвел меня вокруг пальца. Я не знал, и никто не объяснил мне, что этот добропорядочный финансист — старая, потасканная шлюха, которая находит удовольствие в том, чтобы награждать дурной болезнью молодых людей, подающих блестящие надежды».
Нет, он не чувствует к ней ненависти. Он старался придать своему голосу теплоту и убедительность. Он мог бы доказать ей это любым способом. Он мог бы, например, чуть покрепче прижать ее к себе и поцеловать ее в волосы. Но он этого не сделал.
Он сделал это только потом, когда они опять пошли танцевать. А пока они вернулись за свой столик, и он спросил еще виски и опять выпил. На мгновение у него помутилось в глазах, потом, он пришел в себя, будто по необъяснимой причине внезапно очнулся от сна на заре серого пасмурного дня и столь же необъяснимым образом вдруг увидел свое «я», или, вернее, мелодраматическое подобие своего «я», представшее ему как нечто замаранное и ни на что не годное. Он положил руки ей на плечи, а она вытерла носовым платком пот, выступивший у него на висках, и пригладила прядь волос, упавшую ему на лоб. «Вот этого она и хотела, — подумал он. — Позаботиться обо мне, поухаживать за мной. Я так и знал, что мы к этому придем. Я знал, что доставлю ей случай…» Он знал также, зачем она была ему нужна: она должна была помочь ему прогнать образ Кавайя — не самим своим присутствием, а тем, что она будет говорить о своих угрызениях совести, о той злосчастной роли, которую она сыграла на заседании совета, обо всей этой дурацкой истории. Он взял ее за руку.
«Некрасивый, почти уродливый». «До того уродлив, до того уродлив!..» Я сказал Алю: «Нет, дорогой Аль, нет, он нам решительно повредит!»
Легко понять, что означала привязанность Женера для этого молодого человека, которого никто не любил. То же, что для вас.
Эта привязанность заменяла ему любовь всех женщин. Можно представить себе, как он важничал перед слугами, расположившись на бульваре Малерб (наверное, в той самой зеленой комнате, куда Женер распорядился вас поместить однажды вечером, когда вам стало плохо в банке).
Марк прекрасно понимал, что им владеет ревность.
Ревность заслоняла от него все остальное, мешала ему думать о другом и о других, например о Кристине Ламбер, чтобы прогнать мысль о Кавайя. Впрочем, Кристина Ламбер не могла вытеснить Кавайя.
Теперь она говорила. Марк не заметил, когда она решилась заговорить — быть может, когда он взял ее за руку. Для этого достаточно было, чтобы он дал ей вытереть пот, выступивший у него на лице, чтобы он доставил ей случай поухаживать за ним. Она так жалела Марка, что он слегка пожалел ее самое. Она рассказывала свою жизнь. Он слушал ее. Слушал краем уха. Улавливал только общий смысл. Очень рано оставшись сиротой, она была воспитана дядей, а дядя ее работал у Дроппера, на старом предприятии Дроппера в Монруж. Дядя восхищался Дроппером, мало сказать — был без ума от Дроппера и во всем старался ему подражать. («Вот, вот. Вечная потребность восхищаться. Они всегда будут находить таких, как мы. Почему мы тянемся к ним? Что в них такого, что мы их так любим? Женер еще куда ни шло, но Драпье? А чем, собственно, Женер лучше Драпье?») Потом началась оккупация, и дядя пустился во все тяжкие, чтобы угодить Дропперу («чтобы быть таким, как Дроппер»). Это кончилось, как и следовало ожидать, камерой Френ[8].
Он ничего не мог с собой поделать — думал о другом. О Кавайя на скамье подсудимых. О некрасивом, почти уродливом Кавайя, не вызывавшем никакой симпатии, никогда не вызывавшем симпатии ни у кого, кроме Женера, который, однако, вознаграждал его за все своей привязанностью — глубокой и безраздельной. Марк, казалось, видел его перед собой в застегнутом на все пуговицы, строгом, безукоризненного покроя пиджаке от портного Женера; он сидел позади своего адвоката, блестящего адвоката, нанятого Женером, и ждал свидетельских показаний Женера.
— Подождите, — говорил Кавайя, — не торопитесь. В сущности, все совершенно ясно. Я понимаю, что вы еще не можете разобраться в этом деле, но я спокоен: господин Женер вам все объяснит, и вы посмотрите на меня другими глазами.
— Очень жаль, но я должен вас разочаровать, — раздается сухой голос председателя, возвращая его к действительности, — господин Женер не приедет. Он нездоров. Я получил от него письмо.
Лицо Кавайя.
— Какое письмо? Какое письмо?
Или, быть может, он еще верит, что это правда, что Женер действительно болен, что ему просто не повезло, что он жертва рокового стечения обстоятельств? Сколько лет было Кавайя? Страшно подумать, какое множество первых учеников скромного происхождения из года в год съедают женеры!
— Но не он, — сказала Кристина.
Не дядя. Всякий другой на его месте, честно отбыв наказание и не видя от Дроппера ни утешений, ни награды, решил бы, что пострадал напрасно. Всякий другой, но не дядя. Он знал, что Дроппер о нем не забыл. Не было дня, когда бы он не ждал его.
— Именно знал. Иначе я не могу это объяснить. Потому что Дроппер пришел. Правда, положение его было не блестящее. Он уезжал в Мексику. Сказал, что поправит там свои дела и что надо подождать. Мне было шестнадцать лет. И вот дядя опять принялся ждать. Он не хотел, чтобы я поступила на службу до возвращения Дроппера.
— Пойдемте танцевать, — сказал Марк. — Остальное нетрудно себе представить. Пойдемте танцевать.
И вот, когда они танцевали во второй раз, он и коснулся губами ее волос — так осторожно, что она, наверное, даже не заметила.
Когда они вернулись за свой столик, она сама взяла его за руку.
— Я не верила. Да и дядя под конец почти перестал верить. Он нашел мне место — двадцать три тысячи франков в месяц. А потом Дроппер все-таки вернулся. Восемь месяцев назад. Для дяди он уже ничего не мог сделать — старик совсем одряхлел. Но меня он взял к себе. Назначил мне жалованье, в семьдесят пять тысяч франков в месяц. Много вы знаете секретарш, которые получают семьдесят пять тысяч франков в месяц?
— Нет, — сказал он. — Не много. Я тоже зарабатывал немалые деньги у Женера. И хотел бороться за это. А вы?
— Я тоже.
— Понимаю, — сказал Марк. — А теперь, пожалуй, поедем.
— Но я сделала это не потому, — сказала она, когда они уже сидели в машине.
На улицах было еще очень людно. Это была странная ночь. Казалось, никто не собирался ложиться спать.
— Не из-за семидесяти пяти тысяч франков.
— Я знаю. Простите.
— Я сделала это из-за того, что было между ним и дядей. А значит, между мною и им. В память о том времени, когда я еще не знала его, а дядя его ждал. Нас что-то связывало…
— Да. Своего рода солидарность… Хотя вы ему ничего не обещали.
— Я с самого начала знала, что не смогу не сделать этого. Мне не сказали, чего от меня ждут. Он даже не счел нужным меня предупредить. Когда я поняла, в чем дело, мне показалось, что я смогу сказать правду. Но нет. Я заколебалась, вы ведь видели, я заколебалась.
— Да. На одну минуту. Мне тоже показалось, что это продолжалось долго, но вы помедлили всего лишь минуту.
— Что вы теперь будете делать?
— Не знаю. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь сказал мне, что делать.
— Я могла бы пойти и сказать им правду.
— Блестящая мысль, но я не думаю…
Он остановил машину.
— Проснитесь же, черт возьми! — сказал он. — Вам все это не снится! Меня зовут Марк Этьен, и меня сегодня уволили из банка. По вашей милости. Отчасти по вашей милости. Вы представляете себе, как вы будете им объяснять, что вы солгали?
— Да, да. Когда вы со мной, я чувствую, что могу это сделать.
— Что вы хотите им сказать? Посмотрите на меня! Вы сами-то понимаете, что вы хотите сказать?
— Я не знаю. Мне хотелось бы забыть всю эту историю.
— Есть прекрасное средство забыть эту историю.
Он взял ее за плечо, словно собирался прочесть ей нотацию, и она оказалась почти в его объятиях. Ему не в чем было себя упрекнуть: он ничего от нее не требовал и не старался очаровать ее.
— Через некоторое время вы пойдете и скажете им, что вы солгали. Но не на заседании совета. Вы найдете Оэттли, и вы ему скажете: «Я солгала». Вы скажете им через него: «Этьен — вполне порядочный человек». А они вам ответят: «Мы это знаем. Нам очень жаль». Вот и все. Вы это сделаете как-нибудь на днях или вообще не сделаете. В обоих случаях эта история будет забыта.
Она сказала, что этот выход ее не устраивает.
— А между тем это превосходный выход, — сказал Марк. — Вы не считаете? — спросил он и поцеловал ее.
Она чуть сильнее сжала его руку.
— Вы будете в банке завтра утром?
— Я не знаю, пропустят ли меня, но попытаюсь их уговорить.
— Я бы хотела вас видеть после заседания совета.
— Идет, — сказал Марк. — Я буду у себя в кабинете, а если нет…
— Если нет?
— Тогда в табачном магазине на улице Паскье, знаете?
— Хорошо, — сказала она.
Он опять поцеловал ее. Это был долгий поцелуй.
— У вас нет никаких причин вступать в объяснения с ними, — сказал он, но она ответила, что есть нечто такое, что ей хочется считать достаточно веской причиной.
Он довез ее до дому и поехал к себе. Монпарнас вдруг опустел, точно все вымерло, и огни погасли. На авеню д’Орлеан тряпичники рылись в мусорных ящиках. Приехав на улицу Газан, он заметил свет в окнах своей квартиры.
Когда-то он дал ключ Денизе. Видно, он тоже любил торжественные жесты и символы, а может быть, просто хотел во всем подражать Женеру. Правда, он не всегда хотел ему во всем подражать. Он даже вспоминал много случаев, когда, проявляя полную самостоятельность, он отказывался от того, что называл про себя «школой Женера». Он не усваивал всех его взглядов. Напротив. Но что касается ключа, то тут он должен был согласиться, что поступил в точности, как Женер. Вероятно, он бессознательно находил что-то прекрасное и благородное в жесте Женера и с удовольствием повторил его. Теперь он это признавал. Даже обстановка была примерно та же: он вручил ключ Денизе в конце обеда в павильоне Генриха IV в Сен-Жермен. Однажды вечером, в 1954 году, почти два года назад, когда они долго гуляли за городом, она расчувствовалась — быть может, от усталости, как она сама сказала, — и со слезами на глазах, в свою очередь, дала ему ключ. Пожалуй, напрасно, это слишком походило на ответную любезность. Впрочем, не желая злоупотреблять правом, которое он ей предоставил, она всего четыре или пять раз приходила без предупреждения, а он лишь однажды, весной 1955 года. Он застал тогда ее за работой, в очках, которых она при нем никогда не надевала, и вид у нее был сосредоточенный, отсутствующий. Это отбило у него всякую охоту повторять такие визиты.
Дениза лежала на диване в гостиной, положив голову на руки, и, казалось, спала.
— Дорогая, — сказал он. — Маленькая…
Он заметил, что она навела порядок. Стакан и бутылка с коньяком были убраны. Револьвер Ансело лежал на письменном столе. Он не сразу сообразил, что означает этот револьвер. Он совсем забыл о нем. Должно быть, ей бог знает что пришло в голову… Он охотно забыл бы многое, почти весь этот день. Она приподнялась, опершись на локоть. У нее было усталое, помятое лицо и опухшие глаза. Она, очевидно, плакала, но он не находил, что это придает ей обаяние.
— Кажется, я соснула, — сказала она. — Я пришла, потому что ты не позвонил. Ты ведь обещал позвонить. Странно, что ты этого не сделал.
— Ничего странного, — сказал Марк. — Я тебе звонил, но тебя не было дома.
— В котором часу?
— Часов в девять.
— А после девяти ты не мог еще раз позвонить?
— Нет.
— Должно быть, уже поздно?
— Пятый час.
— Что же ты делал все это время?
— Шатался по барам.
— Один?
— Да, один.
Он закурил сигарету и пустился в объяснения: конечно, он все же не думал, что дело пойдет так быстро… Он остановился в замешательстве, не зная, что еще сказать, чтобы она поняла. Пошататься по барам было неплохое решение; ему не пришло в голову ничего лучшего.
Он начинал кривить душой, извращать истину. Через несколько дней все, что с ним случилось за эти сутки, предстанет в ложном свете, и он сам не сможет отличить правду от фальши. Он знал, что потребность смягчить горечь признаний, которые он должен был сделать себе, так и не позволит ему до конца разобраться в том, что произошло.
— Я могу понять, что тебе хотелось побыть одному, — сказала она. — Я как раз об этом думала и вполне понимала тебя. Только…
Он подошел к ней и тихонько погладил ее по голове. Она слегка вздрогнула и едва уловимым движением подалась назад.
— Что только? — спросил он.
— Ничего.
Марк пожал плечами.
— Извини меня, — сказал он и пошел в ванную комнату. Он медленно разделся и открыл душ.
Вдруг он увидел, что она стоит, прислонившись к дверному косяку, и смотрит на него.
— Почему ты не защищался? — спросила она.
Из-за шума воды он не расслышал и переспросил.
— Почему я… Что ты мелешь? Как ты смеешь говорить такие вещи? — Он закрыл душ.
— Не знаю, не знаю. У меня сложилось такое впечатление, Марк.
— Послушай, — сказал он. — Мы сейчас поговорим об этом. Но пока выйди, пожалуйста.
— Почему? Ты стесняешься?
— Нет. Чуть-чуть.
— Подожди. Дай я потру тебе спину.
— Нет, нет. Лучше бы ты вышла.
— Это только мое впечатление, и, возможно, ты сочтешь меня идиоткой, но я думаю, что ты не имел ни малейшего желания защищаться. Мне даже кажется…
— Да, по-моему, это идиотская мысль, совершенно идиотская мысль.
— Прекрасно.
— Дай мне халат.
В халате он почувствовал себя лучше, сразу почувствовал себя гораздо лучше.
— Что тебе кажется? — спросил он. — Ты думаешь, что я не защищался и даже более того… Так?
— Да. Мне кажется, что ты этого хотел. Что ты это намеренно вызвал. Ты сделал так, чтобы собрался совет. Ты не ладил с Драпье, но это могло тянуться долго. Ты мог оттягивать решительное столкновение. Всякий на твоем месте так и поступил бы. Ты ведь знаешь, что почти всего в жизни люди добиваются оттяжками. Но я поняла, что вот уже месяц или два, а пожалуй, даже с самого начала, с того дня, как Драпье пришел в банк, ты хотел с этим покончить, что инициатива исходила от тебя.
— Когда ты это поняла?
— Не знаю, не помню. А что?
— Мне было бы интересно это знать.
— Значит, ты согласен со мной?
— Нет.
Она схватила его за руки повыше кистей и, впившись в него взглядом, сказала:
— Я хотела бы знать, действительно ли можно покончить самоубийством без…
Он толкнул ее в гостиную, бормоча:
— Самоубийством, самоубийством…
— Да, — сказала она, — Драпье — это только предлог, на его месте мог бы быть всякий другой, ничего не изменилось бы, раз это был бы не Женер. В какой-то момент тебе все осточертело, и ты захотел переменить жизнь, людей, которые тебя окружают, женщину — словом, все.
— Нет, — сказал он. — Неверно, что Драпье только предлог. Это неверно и несправедливо.
— Да, я знаю. Я не то хотела сказать. Но тебя никто не знает, и ты сам не очень хорошо себя знаешь. Ты как будто не похож на авантюриста, на человека, который может в один прекрасный день бросить все, чем он жил. Но что, если твоя настоящая натура именно такова? Ты никогда не задавал себе этого вопроса? Способен ты хотя бы ответить на него?
— Совершенно не способен, — сказал он. — И мне хотелось бы, чтобы ты поняла еще одно: я вообще не способен философствовать о самом себе.
— Тем не менее в этом и кроется истина.
— Истина в том, что мне надоело рассуждать. По-моему, это вполне понятно и естественно.
— Хорошо, дорогой, — сказала она. — Поцелуй меня.
Марк поцеловал ее, думая о том, что он измучен, издерган, измотан и что ему больно чувствовать, как она несчастна. Он подошел к окну и поднял штору. Еще не рассвело, и обсерваторию нельзя было различить, но водохранилище Ван уже начинало вырисовываться серой громадой.
Дениза подошла к нему сзади; он почувствовал ее тяжеловатую грудь. Она отвернула воротник его халата и стала покрывать поцелуями его шею и плечо.
— Марк, мой Марк…
— Да, — сказал он. И добавил: — Тебе не следовало бы приходить.
10
Вторник 20 марта. Протокол заседания.
Заседание открывается в 9 часов 30 минут под председательством господина Эрнеста Драпье, председателя административного совета.
Господин Ласери просит слова по поводу протокола предыдущего заседания.
Председатель. Слово предоставляется господину Ласери.
Господин Ласери. Решительно может показаться, что у меня это вошло в привычку, но документ, призванный дать отчет о наших вчерашних дебатах, рисует нас в таком свете, что я при всем желании не узнаю ни себя, ни вас, господа. Я задавал вопросы мадемуазель Ламбер, но, позвольте, разве я делал это с такой настойчивостью, с такой страстью, словом, в такой форме, что, по существу, диктовал ей ответ? Я не помню этого. Однако если вы, господа, считаете, что я вел себя таким образом, то утвердите протокол. Я склонюсь перед вашим приговором, хотя он и нанесет мне бесчестье, которого я не заслужил.
Голоса. Нет! Нет!
Господин Ласко. Именно это я и собирался сказать.
Господин Ласери. Спасибо, господа. И еще одно. Если не ошибаюсь, после того как мы отпустили мадемуазель Ламбер, между господином Этьеном и нашим председателем произошла легкая перепалка. Они позволили себе кое-какие намеки, это верно, но всего лишь намеки, а в протоколе все это расписывается, так сказать, разъясняется, раздувается…
Господин Ласко. В общем комментируется! Господин Ле Руа явно не справился с делом.
Протокол, поставленный на голосование, не утверждается.
В соответствии с уставом в десятидневный срок на одобрение совета будет представлена его исправленная редакция.
Председатель. На повестке дня назначение нового генерального секретаря. Кого вы предлагаете?
Господин Эрекар. Слово за вами, господин председатель. Вы наиболее заинтересованное лицо. Это вам с ним работать!
Председатель. Можно было бы, конечно, выдвинуть господина Ле Руа.
Господин Оэттли. Он молод, очень молод.
Господин Ласко. И неловок. Эта история с протоколом… Вы показали себя с самой невыгодной стороны при обстоятельствах, когда могли бы завоевать наше расположение. Не в обиду вам будь сказано, вы не отличаетесь тактичностью. Я прямо заявляю, что буду голосовать против вашей кандидатуры.
Председатель. Мне не хотелось бы, чтобы по этому мелкому вопросу голоса членов совета разделились. Достаточно того, что было вчера. Нам нужна такая кандидатура, которая получила бы единодушную поддержку. Мне говорили об одном человеке…
Голоса. Морнан!
Господин Льеже-Лебо. Я всецело за него.
Господин Оэттли. Филипп Морнан — светлая голова и умеет себя держать. Лично я всегда восхищался этим молодым человеком. Какие прекрасные манеры, какая элегантность!.. Этот выбор сделает нам честь.
После краткого обмена мнениями совет единогласно высказывается за кандидатуру Филиппа Морнана.
Председатель. Господин Ле Руа, мы освобождаем вас от обязанностей, которые вы временно исполняли. Благодарю вас. Известите, пожалуйста, господина Морнана, что мы его ждем.
В 9 часов 50 минут заседание прерывается.
Марк приехал в банк в начале десятого. Чтобы избежать встречи с Полеттой и необходимости говорить с ней, он прошел не к себе, а в кабинет Ле Руа.
Он почти не спал. В конце концов он оставил у себя Денизу. Он видел, как она устала и подавлена, чувствовал, что она о многом догадывается, и у него не хватило духа отослать ее. Они немного поговорили. Она приготовила кофе. Потом она легла на диван, и он пришел к ней. Они оба сожалели, что лишены воображения и не могут найти нейтральную тему для разговора, а о главном не хотели говорить из трусости. Он пришел к ней, а потом немного соснул. Она завела будильник: на 10 часов у нее было назначено свидание с этими ужасными типами из «Шелл», а ей еще нужно было забежать к себе. В восемь часов зазвонил будильник, и он очнулся от сна, как от обморока.
Он велел передать вахтеру, который стоял у его кабинета, чтобы тот посылал посетителей в кабинет Ле Руа. Он не ждал, что будет много посетителей. Но один нежданный посетитель пришел. Это был Леньо-Ренге.
— Я был не прав, — признался он. — Мои вчерашние опасения оказались необоснованными. Я только что видел председателя. Он попросил меня передать вам этот чек.
— Хорошо. Благодарю вас.
— Вы… вы не посмотрели на него?
— Как же, посмотрел.
— Вы видели сумму?
— Да.
— А! — выдохнул Леньо-Ренге и сел без приглашения; для него это была удивительная смелость, но он уже не владел собой. — Какой странный человек председатель, не правда ли? Вы ожидали увидеть такую цифру?
— Нет.
— Не знаю, в чем дело, но у вас такой вид, будто вы этого ожидали.
— Нет, уверяю вас.
— А!.. Между нами, сколько вы ожидали получить?
— Нисколько, — сказал Марк. — Я никогда об этом не думал. Я ничего не ожидал.
— В самом деле? От ничего, от нуля до этой цифры, надо сказать… — Леньо-Ренге вздохнул, и взгляд его затуманился, словно он ушел в себя, мысленно измеряя это бесконечное расстояние. — Можно мне задать вам один вопрос? Я хотел бы услышать это из ваших уст. Говорят, что совет вас уволил, но мне думается, что вас попросили подать заявление об уходе по собственному желанию.
— Нет, — сказал Марк, — меня уволили.
— Не понимаю. Не понимаю. Если бы вы ушли по собственному желанию, все было бы ясно.
— Что было бы ясно?
— Этот чек, господин Этьен. Вы не хуже меня знаете устав этого банка.
— Думаю, что хуже, — сказал Марк. — Я знаю его из рук вон плохо. Леньо, я сделаю вам одно признание: в уставе есть целый раздел, которого я даже не читал, потому что никогда не думал, что он может коснуться меня.
— Я понимаю, господин Этьен. Но в случае увольнения вам в принципе причитается, да и то при условии, что председатель не захочет ущемить ваши интересы, лишь трехмесячное жалованье за вычетом надбавок, то есть около семисот тысяч франков.
— Так. А в случае ухода по собственному желанию?
— Больше. Сколько именно, зависит от целого ряда обстоятельств, но, безусловно, больше, много больше. Однако, во всяком случае…
— Во всяком случае, — сказал Марк, — не два миллиона.
— Конечно, — подтвердил Леньо-Ренге и добавил, вставая и глядя на чек: — И я должен вам заметить, что здесь больше двух миллионов.
— Да, — сказал Марк. — Немного больше.
Он сложил чек. Леньо-Ренге сделал два шага к нему, не спуская глаз с чека.
— Значит… — сказал он. — Значит, вы его возьмете?
— Да, я думаю. Ведь тут все в порядке, не так ли?
— Конечно. Значит, вы его возьмете.
— Послушайте, — сказал Марк. — Я десять лет работал в этом банке. Благодаря мне этот банк получил десятки миллиардов прибыли. Мне все равно, что вы обо мне думаете. Я вас глубоко уважаю, Леньо, но не вижу здесь ничего такого, что может покоробить порядочного человека. Вы не убедите меня в том, что я украл эти два миллиона. Вы меня в этом не убедите.
— Это только одна сторона вопроса, — сказал Леньо-Ренге. — Так сказать, сентиментальная сторона.
— Да, — сказал Марк. — Вот именно. Сентиментальная сторона.
Леньо-Ренге понурил голову.
— И я не могу отказаться от этого чека, — сказал Марк. — Не могу, понимаете?
— Понимаю, господин Этьен. И такой ответ мне больше по душе.
Леньо-Ренге схватил свою папку и по привычке потянул за завязки. У него кривились губы, как будто он только что пережил душевное потрясение.
— Они сейчас назначают нового генерального секретаря, не так ли?
— Да, наверное.
— Кто это будет?
Он был из тех, кто всегда говорит напрямик то, что хочет сказать, и так, как нужно сказать.
— Морнан. Вероятно, Морнан.
— Это очень печально.
— Да, — сказал Марк. — Не понимаю… Почему никто не подумал о вас, Леньо? Это вам следовало бы быть генеральным секретарем. У вас есть для этого все данные.
— Может быть, — сказал Леньо-Ренге. — Впрочем, не знаю, серьезно ли вы это говорите. Мы, Леньо, часто служим мишенью для насмешек, оттого что у нас такой серьезный вид. Я не умею пускать пыль в глаза. Быть может, я слишком серьезен для действительно серьезной должности.
Он протянул Марку руку.
— Бывают дни, когда меня охватывает уныние, — сказал он, — глубокое уныние.
Заседание возобновляется в 10 часов.
Председатель. Совет поздравляет вас, господин Морнан. Вы избраны единогласно. Никто не возражал против вашей кандидатуры. Я хочу, чтобы вы знали: ваши достоинства были всеми так высоко оценены, что вы оказались вне конкуренции.
Господин Морнан просит у совета разрешения сказать несколько слов, чтобы выразить свою благодарность.
(Общее одобрение.)
Господин Морнан благодарит совет и в заключение выражает надежду, что покажет себя не слишком недостойным преемником господина Этьена.
Господин Ласко. Традиция нашего банка не требует, чтобы вы воздавали хвалу своему предшественнику.
(Улыбки.)
Председатель. Я должен вам сообщить, что мадемуазель Ламбер просит выслушать ее.
Господин Ласери. По какому поводу?
Председатель. Не имею понятия.
Господин Ласери полагает, что это совершенно излишне.
Господин Ласко не хотел бы, чтобы совет возвращался к тому делу, которое обсуждалось вчера.
Господин Оэттли предостерегает совет против такой практики, когда по всякому поводу и без всякого повода выслушивают служащих.
Председатель заявляет, что ему одному принадлежит право решать такие вопросы.
Мадемуазель Ламбер приглашают в зал заседаний.
Мадемуазель Ламбер выражает желание внести некоторые поправки в свои показания.
(Сенсация.)
Господин Ласери. Неужели совет согласится на эту комедию? Сегодня нам говорят «белое», завтра — «черное». Комедия, да и только.
Председатель. Оставьте. Дайте ей говорить. Мне это интересно.
Господин Ласко. Вам, но не нам!
Господин Ласери. Я хотел бы знать, не причастен ли Льеже-Лебо к этому повороту на сто восемьдесят градусов.
Господин Льеже-Лебо. Уверяю вас, ни в коей мере.
Господин Эрекар. И я тоже.
Господин Ласери. Прекрасно, но если уж она будет говорить, я потребую, чтобы ее слова по крайней мере не заносились в протокол. Это диктует само благоразумие.
Совет единогласно при одном воздержавшемся (господине Брюннере) решает, что слова мадемуазель Ламбер не будут занесены в протокол.
………………………………….
…………………………………
Господин Ласери. Когда вам следовало верить, вчера или сегодня? Когда вы лгали, когда вы не лгали? Не знаю, какими чувствами вы руководствуетесь, но не думаю, чтобы они заслуживали уважения. Выходит, в вас нет ничего благородного, возвышенного, что могло бы вас удержать от лжи? Ведь если предположить, что сегодня в вас заговорила совесть, значит, хотя я и не могу этого допустить, вы солгали вчера. Как ни смотри — все ложь, ложь! Перед вами пожилые, серьезные люди, позвольте же вам сказать, что они не склонны отнестись к вам снисходительно. Они многое видели, но все же не ожидали ни такого позора, ни такого разочарования. И подумайте о том, что они могли бы составить себе очень дурное мнение о молодежи, если бы не противились побуждению судить о французской молодежи по вас. Вы не достойны французской молодежи!
(Горячие аплодисменты.)
Господин Эрекар. На что же она рассчитывала? На что она рассчитывала?
Председатель. Вы можете идти.
Господин Ласко. О нет! Нужно вынести ей взыскание. Мы требуем взыскания.
Председатель. Это моя секретарша. Она подчиняется только мне!
Господин Ласери. Пусть она подчиняется только вам, совет тем не менее имеет право сказать свое слово. Он был свидетелем поступка, по поводу которого хочет выразить свое негодование. Совет требует порицания, по меньшей мере порицания! Я предлагаю порицание.
Председатель. Оставьте меня в покое.
Господин Ласери. Ну, нет! Вы должны поставить на голосование мое предложение.
Совет единогласно при двух воздержавшихся (председатель и господин Брюннер) принимает решение занести порицание в формуляр мадемуазель Ламбер.
Совет, предоставив председателю вновь созвать его в надлежащее время, закрывает свое заседание в 10 часов 20 минут.
«Я отказываюсь от него. Вот он. Возьмите его обратно. Отнесите ему этот чек и скажите, что я не хочу его принять. Скажите ему, что я не нуждаюсь в его щедрости. Я хочу получить то, что мне причитается, и только то, что мне причитается, — трехмесячное жалованье за вычетом надбавок».
Вот что хотел бы сказать Марк. Вот что он должен был бы сказать. Он знал, что, если бы у него хватило на это воли, он вновь обрел бы душевное спокойствие и веру в себя. Но, положа руку на сердце, он не мог не признаться, что у него не хватает на это воли.
Если бы он это сказал, он имел бы право на понимающую улыбку Леньо-Ренге. Он оказался бы в числе действительно безупречных людей, людей высокой морали.
Но он не был человеком высокой морали. Он был человеком компромисса. Десять лет своей жизни он потратил на то, чтобы стать человеком компромисса. Десять лет своей жизни он потратил на то, чтобы подготовиться к мысли, что ему следует принять этот чек. Десять лет своей жизни он потратил на то, чтобы научиться не быть дураком.
Но хотя могло показаться, что он обманывался на свой счет, что он нисколько не сожалел о том, что не принадлежит к людям высокой морали, и принял эти деньги как чаевые, считая это вполне естественным, те, кто так думал, глубоко заблуждались. Марк всегда был даже слишком щепетилен во всем, что касается денег. Он то преуменьшал, то преувеличивал их значение, но никогда не смотрел на них просто. Это был прочный комплекс. Здесь играли роль primo, четырнадцать тысяч четыреста двадцать восемь франков, в растрате которых когда-то обвиняли его отца, secundo, тот факт, что с ранних пор деньги для него олицетворялись Женером и его окружением. Tertio, его отношения с Женером, которые всегда имели под собою денежную почву, всегда получали денежное выражение. Играли роль и менее ясные факторы. Однажды ему сообщили, что его вызовут в следственную комиссию, которая расследовала некоторые спекуляции. Он твердо решил ничего не скрывать, по крайней мере из того, что ему достоверно известно, и не его вина, что его так и не вызвали. Таким образом, он чуть было не стал человеком высокой морали. Но когда, например, шофер такси не мог дать ему сдачи, он досадовал на свою глупость и либо говорил: «Возьмите все», либо бегал из кафе в кафе с бумажкой в руке, как будто его честь зависела от того, разменяют ли ему эту бумажку. Он не раз говорил себе, что ему нужен хороший психоаналитик.
Кристина Ламбер вошла, когда он болтал с Ле Руа. На ней было очень красивое платье — первое дорогое платье, которое она купила себе, когда поступила к Драпье и стала получать семьдесят пять тысяч франков, подумал Марк и спросил себя, надела ли она это платье для него или для того, чтобы хорошо выглядеть на заседании совета. Она сначала пожала руку Ле Руа, а когда повернулась к нему, он спокойно встал и поцеловал ее в губы.
— Черт возьми, — сказал Ле Руа, — у меня, должно быть, идиотский вид! У меня всегда в этих случаях такой идиотский вид, будто я с луны свалился. Я никогда ничего не замечаю. Оказывается, есть важные новости.
— Чертовски важные, — сказал Марк.
Кристина покраснела, и Марк нашел, что она очаровательно краснеет. Он прижал ее к себе, но она почти тут же высвободилась.
— Порицание — вот и все, чего я добилась, — сказала она.
— Я так и знал, — сказал Марк. — Я ведь вам говорил.
— Ничего, — сказал Ле Руа. — Пока вы не получили трех порицаний, не стоит беспокоиться. Увольняют только после третьего.
— Я знаю, — сказала она. — Да это и не так уж важно. Я, наверное, уйду из этого банка.
— Я тоже так думаю, — с улыбкой сказал Марк.
— Вы… Я понимаю, — проговорил Ле Руа. — Кажется, я должен пожелать счастья вам обоим?
— Да, — сказал Марк. — Вот именно.
— Желаю вам счастья, — сказал Ле Руа проникновенным тоном. — Я люблю Марка. Это звучит банально, но это правда. Я люблю его всей душой. Он прекрасный человек.
— Не трудись это доказывать, — сказал Марк. — Я думаю, она склонна тебе поверить. Она тоже прекрасная девушка. Мы оба прекрасные люди и вполне довольны друг другом.
— Да, да. Она была изумительна. По правде сказать, я не думал, что вы это сделаете.
— Она это сделала, хотя это было для нее еще труднее, чем ты думаешь.
— Я тоже хотел бы уйти.
— Я знаю, — сказал Марк.
— Мне бы следовало отослать то письмо. И заметь, я готов был это сделать! Но, черт возьми, кто это сказал, что в тот день, когда человек женится, он теряет девять десятых своего человеческого достоинства? Это ужасная глупость: если бы у меня оставалась одна десятая моего человеческого достоинства, я наверняка ушел бы отсюда. Скорбите, скорбите о тех, кого самые законные привязанности держат в аду.
— Это не ад, — сказал Марк, — а всего лишь чистилище, и оно так хорошо устроено, что проходит много лет, прежде чем замечаешь, что это не рай.
Они пожали друг другу руки. В последнюю минуту Ле Руа удержал Марка за рукав.
— Я хотел бы тебя обнять, если ты ничего не имеешь против. Ты воплощенное человеческое достоинство.
— Не думай так, — сказал Марк. — Не думай так…
Марк крепко держал Кристину за локоть, как держат за руку ребенка в темноте. Они, не обмениваясь ни словом, шли по коридорам. Марк здоровался со служителями; у Кристины был слегка растерянный вид, и она еще ни о чем не решалась его спрашивать.
В лифте он опять не мог удержаться, чтобы не поцеловать ее. Это предвещало настоящую страсть.
В холле он сказал ей:
— Знаете, сколько он мне выписал?
— Нет.
— Два миллиона. Два миллиона с лишним.
Он с минуту помолчал, чтобы дать ей время спросить, принял ли он эти деньги. Он боялся, как бы она не задала ему этот вопрос, но, с другой стороны, даже желал этого.
Однако он был все же не так простодушен, чтобы думать, что если она не задает его, значит он и не приходит ей в голову.
— Вы ни о чем не жалеете?
— Нет, — ответила она. — Ни о чем. Уже много лет я не была так счастлива.
— Сколько лет?
— Не знаю. Как странно, ведь мы виделись каждый день.
— Да.
— Когда я солгала, я уже любила вас.
— А! — проронил он и выжидательно посмотрел на нее.
— Вы и я… Я считала это невозможным. Я была в вас влюблена с самого начала.
— Сколько раз вы были влюблены?
— Один раз. Один-единственный, и…
Когда они вышли, сквозь туман весело поблескивало солнце. Марк увидел Бетти Женер, выходившую из такси. Она бросилась к нему. Она разыскивала его повсюду. Она приехала с улицы Газан.
— Познакомьтесь, пожалуйста, — сказал Марк. — Мадемуазель Ламбер. Мадам Женер.
Бетти, казалось, не слышала.
— Поедемте, — сказала она. — Вы должны поехать к нему.
— Думаю, что не смогу, — сказал Марк.
— Почему? Почему вы не хотите мне верить?
— Чему верить? — спросил Марк.
— Он… Вы ведь знаете, что я никогда не лгу. Вы ведь знаете, что я говорю это не для того, чтобы вы… Что с ним случилось вчера вечером? Скажите мне, что с ним случилось? Хотя нет, нет, что это может изменить? Поедемте, прошу вас!
— А что произошло вчера вечером? — спросил Марк.
— С ним случился удар. Почти сразу же, как он вернулся домой. Я его застала в его кабинете. И все из-за вас, я знаю, что из-за вас! Я всю ночь боролась за его жизнь. Неужели вы не понимаете, что должны приехать к нему, хотя бы из жалости?
— Простите, — сказал Марк, — он просил меня приехать?
— Он умирает. И теперь вы боитесь его видеть?
— Нет, — сказал Марк. — Но он просил меня приехать?
— Нет, и это самое плохое! Зачем вы довели его до такого состояния? Что вы ему сделали?
— Ничего. Я здесь ни в чем не повинен.
— О, я понимаю! — сказала она. — Все дело в вашей гордости, в вашей глупой гордости.
— Моя глупая гордость здесь ни при чем, — сказал Марк. — Боюсь, что он сам теперь не может меня видеть.
— Марк, — сказала она, — что бы ни произошло между вами, я умоляю вас поехать к нему!
— Нет, я не поеду. Я понимаю ваши чувства. Ведь я его любил. А вы…
Марку хотелось сказать: «А вы тоже не смогли устоять перед его обаянием. Даже вы, женщина, как какой-нибудь Кавайя, поддались тонкому обаянию этого немощного старика!» Но он сказал только:
— А вы и теперь его любите.
Она была очень бледна и подавлена. Запахивая воротник мехового манто, она сказала:
— Почему вы его ненавидите? Что вам сделал этот несчастный человек? Вы знаете, зачем он поехал к Драпье вчера вечером, почему он унизился до того, что попросил Драпье принять его? Знаете, почему?
— Да, прекрасно знаю.
— Вы можете мне это сказать?
— Да. Но предпочту не говорить.
— Тогда я вам это скажу. Брюннер сообщил ему, что вам собираются дать какие-то гроши, и он поехал сказать Драпье, что это было бы позором для банка и что если Драпье не выплатит вам приличного вознаграждения, то он, Женер, сам это сделает.
— Из своих собственных средств?
— Да.
— Не думаю, что бы он это сделал.
— За эти слова, Этьен, вас мало убить! В последний раз спрашиваю, вы поедете?
— Нет, — сказал Марк.
— Я вам этого никогда не прощу!
— Я знаю, — сказал Марк. — Но я себе никогда не простил бы, если бы поехал к нему.
Он подошел к Кристине, ожидавшей его поодаль, и сказал:
— Это была мадам Женер.
— Я знаю, вы ведь уже сказали.
— А! — проронил он с отсутствующим видом, вне себя от ярости.
Он сказал ей, что, по словам Бетти, Женер умирает, но что, может быть, это и не так, — он не желает больше верить чему бы то ни было, коль скоро это исходит от Женера.
Он сказал ей, что она должна его понять, хотя ему даже неловко теперь говорить ей это: ему нужно поразмыслить, два-три дня побыть одному, и он сейчас же уезжает в Немур. Она не сделала никаких возражений, только спросила, когда он думает вернуться. Он сказал сначала — в пятницу, потом — в четверг, в четверг вечером.
— Примерно в котором часу?
— Часов в пять, может быть, немного раньше.
— Я буду дома, — сказала она и подставила ему губы для поцелуя.
Когда он подъезжал к лесу Фонтенбло, поднялся легкий туман, в воздухе потянуло сыростью, и даль подернулась серой осенней дымкой, как это иногда бывает весной.
В Немуре он будет до четверга размышлять, то есть грезить наяву в своей комнате, да каждый вечер около пяти часов совершать прогулку к старому каменному мосту, чтобы купить «Монд», которая приходит в пять. Потом он вернется в Париж на похороны Женера.
Ему навстречу пронесся мотороллер. Он подумал о лете, о каникулах, о славных парочках, которые ездят на мотороллерах по лесу Фонтенбло. Газеты в миллионах экземпляров воспроизводили фотографию одной такой пары. Девушка была в крестьянской юбке и в крестьянской косынке, парень — в замшевой куртке, и оба улыбались Жизни. Это была прекрасная реклама. Людям приятно видеть Жизнь в образе этой милой пары, которая будет глядеть на них с приемника или пылесоса, отличного приемника или пылесоса, купленного в рассрочку с небольшой надбавкой в 9,87 процента. Марк хорошо знал условия продажи в кредит. Он изучал их всего лишь месяц назад.
Известного рода приятный взгляд на жизнь — вот, быть может, и все, что он потерял. А это была не такая уж ценность.
Он вступил в новый этап жизни и находился в общем и целом в гораздо лучшем положении, чем думал, учитывая, что у него было около трех миллионов франков.
Учитывая также, что ему было только тридцать шесть лет.
Учитывая, наконец, любовь Кристины.
Как бы ни хотелось ему смягчить горечь полученного им урока, он не забудет этот день. Он уже не будет так входить в побуждения людей, а станет судить о них прежде всего по их делам.
Быть может, потому, что в его жизнь вошла Кристина и сделала для него, решилась сделать то, на что у него самого, пожалуй, не хватило бы мужества, ибо хотя он и подшучивал над советом, хотя он и говорил, что совет — пустое место, в нем прочно сидели старые представления и бросить вызов совету казалось ему чем-то невообразимым, чуть ли не безумным, ему без труда удавалось снова смотреть на себя, как на человека, у которого все впереди. И хотя Марк не забывал о том, что для финансового мира он конченый человек, он чувствовал себя вполне способным действовать так, как будто он об этом забыл, многому научившись за один день и сохранив еще достаточно сил для того, чтобы преодолеть в себе самом ту смесь робости, восторженности и наивности, которую почему-то считают добродетелью.
Примечания
1
Материнские школы — начальное звено системы народного образования во Франции, воспитательные учреждения, обслуживающие детей в возрасте от трех до шести лет. (Здесь и далее примечания переводчиков.)
(обратно)2
МРП — «Народно-республиканское движение» — правая клерикально-буржуазная партия.
(обратно)3
Нория — ковшовый элеватор с черпаками на движущейся ленте для подъема сыпучих тел, воды и т. д.
(обратно)4
Газета «Тан» — рупор министерства иностранных дел. Была закрыта в 1942 году. «Монд», начавшая выходить с декабря 1944 года, считается ее преемником.
(обратно)5
Чего только не достигну? (лат.)
(обратно)6
Во французской средней школе (лицеях и коллежах) последний год обучения представлен классами, носящими название философского и математического. Этьен, очевидно, сдал экзамены за тот и за другой.
(обратно)7
«И. Г. Фарбениндустри» — крупнейший немецкий химический концерн.
(обратно)8
Френ — тюрьма во Франции.
(обратно)








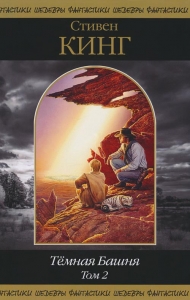
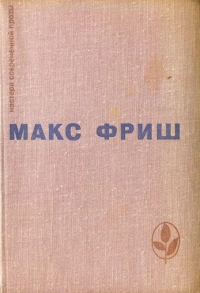
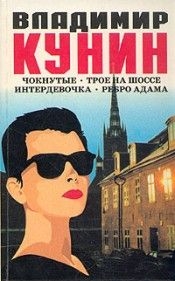
Комментарии к книге «В конечном счете», Жорж Коншон
Всего 0 комментариев