Владислав Кетат Дети иллюзий
© ЭИ «@элита» 2014
* * *
Часть первая Очки за бабки
1
– Чей гомункулюс? – слышится из-за перегородки высокий голос Востокова.
В ответ раздаётся громкое молчание находящихся в шоу-руме молодых мужчин: коммерческого директора Игоря Климова, технического директора Олега Розова, и заместителя генерального директора по международным отношениям Валерия Сурова, то есть меня.
– Последний раз спрашиваю: чей? – повторяет Востоков.
Снова молчание. Мы удивлённо переглядываемся, и у каждого в глазах: «да чтобы я, да никогда!»
Поясняю: гомункулюсом у нас называют то, что вырастает в оставленной на неделю-другую недопитой чашке с чаем, или кофе. Плесень, короче.
– В самый последний раз спрашиваю…
На самом деле гомункулюс – мой. Это мою кружку нашёл Игорь Востоков, наш генеральный директор, когда лично полез разбирать чайный угол – место, отделённое от шоу-рума не очень устойчивой перегородкой, где мы пьём чай и питаемся. Вернее, одну из моих. У меня их несколько – не буду же я, в самом деле, пить кофе, чай и вино из одной и той же ёмкости! А молчу потому, что уличённый в выращивании гомункулюса сотрудник однозначно приговаривается к мытью чашек остальных сотрудников, а мне этого делать, сами понимаете, не хочется.
Востоков выходит из-за перегородки с моей чашкой в одной руке и сигаретой в другой.
– А гомункулюс уже, между прочим, почти созрел, – говорит он, проводя длинным, с небольшой горбинкой, носом над зеленовато-коричневатой жижей, – скоро будет шлёпать ластами и кричать: «Папа, папа!»
Мы молчим. Востоков обводит нас троих недобрым взглядом:
– Внимание, вопрос: «Кто у нас папа?» Минута на обсуждение.
Я понимаю, что отвертеться не удастся, поднимаюсь с рабочего места, подхожу к Игорю и с деланым любопытством заглядываю в чашку.
– А ведь как похож, засранец! – восхищённо говорю я. – Но, гражданин судья, при вынесении приговора прошу учесть факт добровольной явки с повинной.
– Хрена лысого! – заявляет Востоков. – Марш в сортир!
Держа в руках четыре самые грязные чашки во всем юго-западном округе Москвы, разделочную доску и два ножа, я поднимаюсь на пятый этаж. На четвёртом, нашем, мужской туалет закрыт – завхоз приспособила его под кладовку. Вот такой половой шовинизм.
Примерно в центре коридора мне попадается девушка Зоя, которую за длинные золотистые волосы и крупное туловище мы прозвали «Забавой». Общаться с нею не хочется, поэтому ускоряю шаг, чтобы успеть проскочить в заветную дверь.
– Привет, очкарикам! – кричит Зоя, перехватывая меня почти у входа в. – У вас что, опять пьянка? Готовишься?
– Нет, – отвечаю я, открывая спиной дверь, – внеочередной ПХД.
Зоя делает непонимающее лицо:
– Пэ-хэ-что?
– Парко-хозяйственный день, – говорю я оттуда, куда Зое вход запрещён, – уборка, в общем.
– А то, если пьянка, позвали бы! – кричит она вслед, но я включаю воду и делаю вид, что не слышу. Понимаю, не очень-то вежливо, но что поделать: от Зои не так-то просто отделаться.
Хотя по-человечески её понять можно. Зоя сидит на телефоне в небольшой фирмёхе, толкающей в регионы прибалтийскую косметику. Работы у Зои мало, свободного времени много. Зоя перманентно скучает, Зое хочется праздника. Кроме того, Зоя не замужем, а у нас в фирме из четырёх мужиков только один по-настоящему женатый, один женатый условно и двое не женаты вовсе. Так что Зоин интерес к нам вполне обоснован. А очкариками она нас назвала потому, что Фирма, в которой мы все работаем, занимается оптовой продажей изделий очковой оптики иностранного производства, проще говоря, очков, линз и оправ, на территории Российской Федерации. Оправы и всё остальное мы возим в основном из Испании, там у нас для этого есть специальный человек, родственник Востокова со стороны жены, кажется. Короче говоря, несём народу, как удачно выразился один наш клиент из Махачкалы: «Очки за бабки».
Сейчас январь девяносто восьмого года, доллар стоит шесть рублей ноль-ноль копеек. Мне двадцать четыре года, в фирме я работаю с лета, то есть с момента окончания института, и пока всё идёт нормально. В мои обязанности входит деловая переписка на иностранном (английском, разумеется) языке с нашими иностранными коллегами, телефонные переговоры с оными, поддержание в рабочем состоянии оргтехники – компьютера, принтера и факса, ведение складского учёта, и, кроме всего этого, замещение любого из директоров фирмы в их отсутствие. За всё про всё мне не всегда регулярно, но причитается триста долларов США ежемесячно, плюс премии, которые, впрочем, случаются нечасто. Да, забыл сказать: фирма наша называется: «Регейн[1]», убей бог, не знаю почему.
Я выхожу из сортира с вымытыми до характерного скрипа чашками коллег и спускаюсь обратно в офис. Зои в коридоре уже нет, зато есть сладковатый запах её духов, видимо, позаимствованных из ассортимента фирмы. Из-под собственной коровы, так сказать. Странно, но фактом отсутствия Зои я даже несколько разочарован.
Пока меня не было, к нам в шоу-рум пожаловали гости – две бизнес-девушки под тридцать. Обе брюнетки с короткими стрижками, в одной весовой категории, возможно, ровесницы. Из того, что очки наблюдаются на носу только у одной, можно заключить, что вторую она взяла за компанию. Девушки часто так делают, и совершенно, на мой взгляд, неоправданно. Но об этом чуть позже.
Судя по всему, Востоков только что начал процесс их «окучивания». Я захожу на том месте, когда он с лёгким апломбом сообщает, что оправа, которую держит в руках, была покрыта сначала слоем палладия, затем слоем пятнадцатикаратного золота, и только потом слоем двадцатидвухкаратного золота. Не уверен, что девушки запомнят такие подробности, но упоминание о золоте, судя по блеску в глазах, действует на них благотворно.
– И сколько такая стоит? – спрашивает одна.
– Пятьдесят пять условных единиц, – отвечает Игорь.
– А какой у вас курс? – спрашивает другая.
– Шесть двадцать, – объявляет Игорь и тут же оговаривается: – мы не бандиты, мы благородные пираты.
Девушки вяловато хихикают.
Я бочком пробираюсь в чайный угол, избавляюсь там от вымытого и усаживаюсь на рабочее место. С него мне видно всё, что происходит в шоу-руме.
Я люблю наблюдать, как Игорь «окучивает» клиентов, особенно девушек. Есть в его болтовне что-то такое, что заставляет их широко раскрывать рот, глаза и кошельки. Я, например, так не умею. Вообще-то наша фирма занимается оптовой продажей очков и оправ, но если кто-нибудь приходит в офис и просит продать одну или две пары в розницу, мы обычно не отказываем. Что, собственно, в данный момент и происходит.
Игорь, словно экскурсовод, водит клиенток по шоу-руму, ненадолго задерживаясь у каждой выставочной стойки с оправами. Они у нас развешаны тематически – по фирмам-производителям. С чуть прикрытых пшеничными усами губ Игоря то и дело слетают названия европейских и мировых брендов, раззадоривая того самого маленького хищного зверька, который живёт в каждой женщине. Попутно Игорь выведывает, что же на самом деле хочет клиентка, и после того, как принципиальный выбор оправы сделан – «металл», «пластик», «на леске», «флекс» и пр. – происходит процедура примерки. Девушку сажают в кресло, ставят перед ней большое зеркало и раскладывают на столе десятка два разных оправ. От такого разнообразия у девушки обычно начинают разбегаться глаза, но на помощь тут же приходит Игорь.
– Вот, смотрите, эта оправа вам немного маловата, – говорит он тоном доброго учителя, – происходит эффект «много лица». Видите?
– Много лица… – как зачарованная повторяет девушка.
– А вот эта оправа, наоборот, велика, – продолжает Игорь, – происходит обратный эффект…
– Много очков? – спрашивает озадаченная девушка.
– Нет, «мало лица», – поправляет Игорь.
Девушка откладывает очередную оправу в сторону и берётся за следующую.
– А как мне вот эта? Какой у неё эффект?
– Никакого, – мягко произносит Игорь, – вам она просто не идёт. Надо, чтобы форма окуляров снизу примерно соответствовала форме нижней части лица, а сверху – форме бровей.
– Боже мой, как всё сложно! – сокрушается девушка.
Наконец из первоначальной кучи остаётся всего три оправы, которые по всем Игоревым правилам одинаково подходят клиентке, и вот тут на сцену вызывается вторая девушка. Теоретически она должна помочь подруге выбрать из трёх самую подходящую, но на практике такого никогда не происходит – одна девушка никогда не посоветует другой то, что ей по-настоящему идёт. Так работает тысячелетиями формировавшийся механизм женской ненависти.
И действительно: вторая девушка однозначно выбирает ту, которая меньше всего подходит первой. Первая же, несколько одуревшая от примерки, ничего не замечает. Только Игорь чуть заметно улыбается.
– Отличный выбор, – заключает он, – к этой оправе у нас идёт вот такой очечник, – у Игоря в руках из ниоткуда появляется продолговатый светло-коричневый предмет, – снаружи натуральная кожа, внутри замша.
Игорь раскрывает створки, демонстрируя замшевые внутренности, кладёт внутрь выбранную оправу и со щелчком захлопывает очечник. От неожиданности девушки ойкают.
– Рояльная петля, – сообщает он, – пройдёмте, расплатимся.
Кассовый аппарат у нас стоит на самом видном месте, прямо на столе генерального директора, рядом с факсом. Это сделано, чтобы никто не сомневался в наших честных намерениях, хотя чеки при его помощи выбиваются далеко не всегда.
Игорь с девушками подходят к аппарату.
– С вас пятьдесят пять долларов, – говорит Игорь, – как будете платить?
Девушка молча достаёт из сумочки стопку «зелени» и ловко отсчитывает обозначенную сумму.
– Может, это и не вполне законно… – Игорь берёт у неё купюры и обмахивается ими, словно веером, – зато чертовски приятно!
Девушки неискренне улыбаются в ответ. Продолжая обмахиваться денежным веером, Игорь поворачивается ко мне:
– Валера, будь ласка, выпиши дамам приходничек. Модель «Passion», цвет «Habana Oro»
– Будет исполнено, ваша честь! – бодро отзываюсь я с рабочего места.
Достаю из ящика пачку пропечатанных приходных ордеров, отрываю один и быстро заполняю нужные графы чертёжным шрифтом. Игорь в это время своими длинными пальцами исполняет соло на кассовом аппарате. Тот трещит, как брошенный в Чернобыле счётчик Гейгера. Игорь отрывает нехотя выползший из чёрной щели кургузый чек и прикрепляет степлером к «приходничку», который в этот момент я вкладываю ему в руку. На всё у нас уходит не более тридцати секунд.
– Вуаля! – Игорь передаёт девушкам платёжные документы. – Гарантия на оправу двенадцать месяцев, только не рекомендую вставлять линзы «на улице» – могут оправу запороть. Идите в приличную оптику.
– Спасибо, я знаю, – кивает девушка, – у нас как раз рядом с работой есть, только там оправы в три раза дороже, чем у вас.
– Тем и живём, – усмехается Игорь, и как бы невзначай переводит взгляд на её подругу:
– А вы не хотите себе приобрести что-нибудь?
– Спасибо, у меня стопроцентное зрение, – отвечает та.
Правая бровь Игоря саркастически ползёт вверх:
– Понимаете, очки – не только оптический прибор, но и составляющая имиджа. Грамотно подобранные очки – это почти как сумочка. Или туфли…
– Туфли! – хмыкает девушка. – Сравнили тоже!
– Не скажите, – качает головой Игорь, – к нам как-то пришла одна дама со стопроцентным зрением, и заявила, что хочет выглядеть, как стерва.
– И что?
– Мы подобрали ей оправу, у которой на заушниках была имитация кожи гадюки, и дама стала выглядеть как десять стерв. Заметьте: превращение было достигнуто исключительно выбором оправы.
У девушки слегка вытягивается лицо, и широко открываются глаза. Видимо, рассказ Игоря задел её за живое.
– А бывают очки специально для соблазнения, – развивает успех генеральный директор.
– Это как, простите? – не понимает девушка.
– Как украшения. Ведь украшения, на самом деле, предназначены для ношения исключительно на обнажённом теле. Я имею в виду, конечно, тело женское. Золото подходит только для смуглой кожи, а серебро и платина – для светлой. Только представьте: золотое ожерелье на мягко загорелой шее, золотые браслеты на запястьях, тонкая цепочка на бёдрах и ещё один браслет на левой ноге, который нельзя снять, не расклепав… Так и аккуратная золотая оправа на обнажённой девушке… очень возбуждает.
Даже с моего места видно, как у девушки от удивления приоткрылся рот, и уехали далеко вверх выщипанные полоски бровей.
– Это я к тому, что очки могут носить самые разные функции, – заканчивает мысль Игорь.
Неожиданно в разговор вмешивается отоваренная девушка, которая только что закончила любоваться хапнутым и уже затолкала оное в сумочку.
– Марина, нам пора, – с деланым нетерпением дёргает она подругу за рукав, – пойдём, Марин.
Марина делает неуверенный шаг в сторону подруги.
– Не смею задерживать, – с лёгким поклоном говорит Игорь. – Выход там.
Девушки прощаются. Игорь провожает их до двери, продолжая что-то рассказывать на ходу. Хлопает железная дверь, и образовавшийся сквозняк доносит до нас запах двухкомпонентной смеси женских духов, заставляя каждого глубоко вдохнуть носом, а потом глубоко задуматься. Через пару секунд возвращается Игорь с долларами в руках и непонятной улыбкой на лице.
– Гарри, зачем ты её отпустил? – поднимаясь со стула, спрашивает Игоря коммерческий директор нашей фирмы Игорь Климов, он же Игорь номер два.
– Понимаешь, Гарри, сейчас всё равно бы ничего не вышло, – отвечает Востоков, он же Игорь номер один, – но я заронил в её душу сомнение. Готов поспорить, она к нам ещё придёт. Одна.
Игорь номер два протягивает Игорю номер один руку:
– Пари?
– Бутылка «Smirnoff» на то, что она в течение этой недели появится, и две бутылки, если придёт в понедельник, – и Востоков, словно в ножны, вкладывает свою узкую ладонь в красную растопыренную пятерню Климова.
– Валер, разбей, – через плечо бросает мне Климов.
Встаю и ребром ладони символически разбиваю их рукопожатие, после чего возвращаюсь на рабочее место.
Мой рабочий день официально заканчивается в восемнадцать тридцать, но ухожу я домой, разумеется, позже – всегда найдутся какие-нибудь дела, которые, как известно, невозможно переделать до конца. Сегодня это письмо к нашим японским друзьям, которое нужно обязательно отправить до конца дня, поскольку японцы любят, чтобы на их письма отвечали день в день, или, в крайнем случае, на следующий.
В офисе я один – шефья давным-давно смылись. Первый – домой, второй, надо понимать, к любовнице, а третий – технический директор Олег Розов – чинить служебную, т. е. генерального директора, машину. Я совершенно не расстроен тем фактом, что они там, а я здесь. Во-первых, идти мне, по большому счёту, некуда, а во-вторых, эта работа мне скорее нравится, чем нет. Писать деловые письма нашим партнёрам – японцам, испанцам, немцам, итальянцам, без разницы – на самом деле, просто: в девяти из десяти случаев это набор стандартных фраз, кочующих из письма в письмо. Бывают, конечно, исключения, но нечасто. Никаких особенных языковых навыков сие занятие не требует, главное – внимательность, ну и элементарное владение терминологией, разумеется.
Но есть и третье обстоятельство, по которому мне не грустно остаться после работы в офисе: дело в том, что я имею наглость писать. В смысле, художественные произведения, и такие вот вечера – идеальное для этого занятия время. Поэтому у меня на компьютере сейчас открыто два окна: в одном – письмо японским товарищам, во втором – недописанный роман. Рабочее название: «Мультфильмы для взрослых».
Роман, понятное дело, обо мне, любимом. Я выведен главным героем в истории, странно похожей на историю моей жизни – никакой другой я, к сожалению, пока описать не в силах. В историю эту подвёрстаны мои друзья, подруги, учителя, враги, короче говоря, все, кто попались мне на моём недлинном жизненном пути.
Пишется роман плохо. Медленно. Я крепко застрял – уже неделю топчусь на сто двадцатой странице. Для того, чтобы хоть как-то продвигаться вперёд, я вставил в повествование совершенно не относящуюся к описываемым событиям подслушанную в транспорте байку, и вот теперь мучаюсь: байка хороша, да только на черта она мне в романе сдалась…
Возвращаюсь к письму господину Ямомото. Тут, наоборот, всё хорошо и понятно, хотя оно и есть то самое исключение, о котором я говорил выше. В письме от имени генерального директора мне приходится упрашивать японцев разрешить нам быть их дилерами на территории России. Это уже второе наше письмо с таким содержанием. На первое пришёл элегантно-уничижительный отказ: мол, вы, ребята, молодцы, да только малы ещё, чтобы нашими очками торговать.
Прочитав перевод письма, Игорь понимающе улыбнулся и высказался в том смысле, что это ничего не значит, потому что японцы никогда не соглашаются на первое предложение, и надо срочно писать второе, что я, собственно, и делаю:
Дорогой господин Ямомото.
Мы очень благодарны Вам за Ваше письмо от…
Мы понимаем Ваши опасения, и отдаём себе отчёт, насколько почётно представлять на российском рынке продукцию Вашей компании…
Наша фирма хоть и молода, но уже зарекомендовала себя как серьёзный и надёжный деловой партнёр. Мы являемся дилерами таких известных европейских фирм-производителей изделий очковой оптики, как…
Мы имеем дилерскую сеть в таких городах России, как…
В прошлом году годовой оборот нашей фирмы составил более…
Обобщая изложенное, мы гарантируем высокий уровень представления продукции Вашей фирмы в России, что позволит Вашей фирме в ближайшем будущем занять достойное место в оптическом сегменте российского рынка.
Искренне надеюсь, Вы примете взаимовыгодное решение о предоставлении нашей фирме права представлять Вашу продукцию на территории Российской Федерации.
Искренне Ваш,Director General Igor B. Vostokow«Было бы так просто и понятно в написании художественного произведения, – думаю я, – стандартное вступление, стандартные персонажи, набор стандартных диалогов и поворотов сюжета через каждые десять страниц, и, наконец, стандартный финал-апофеоз, только…»
– …такое никто не будет читать, – неожиданно для себя произношу вслух окончание моей мысли.
– Что читать?
Голос из глубины шоу-рума заставляет меня подпрыгнуть вместе со стулом. Оборачиваюсь. Это Зоя с каким-то пакетом в руке.
– Как же ты меня напугала, – на протяжном выдохе говорю я, – будь добра, стучись в следующий раз, а то найдёшь вместо меня мой ещё тёплый труп.
– Какие мы нежные, – фыркает Зоя, – я, между прочим, стучалась.
– Не слышал…
Зоя, от которой пахнет спиртным, плюхается на свободный стул и ставит рядом с клавиатурой пакет, с которым вошла. В пакете однозначно угадывается бутылка.
– Я подумала, может, у вас всё-таки пьянка, – Зоя медленно стягивает пакет вниз, обнажая завёрнутое в серебристую плёнку горлышко.
– Зой, мне работать надо… – пытаюсь сопротивляться я, только на Зою это не действует: пакет продолжает ползти вниз, расшевеливая срамные ассоциации. Становится видна жёлтая этикетка, а потом и надпись на ней: «Монастырская изба».
– Пусть трактор работает, – говорит Зоя.
– Мне ещё целое письмо писать…
– Потом напишешь.
Скомканный пакет летит в ведро.
– …а завтра вставать рано.
– На том свете отоспишься.
У Зои в руке, словно кинжал, сверкает штопор.
– На, открывай, – она протягивает мне его рукояткой вперёд, – а где у вас бокалы?
Беру бутылку в левую руку, штопор – в правую.
– Бокалов нет, есть кружки. Вон там, – показываю на поднос в углу, на котором стоят вымытые мной наши кружки, – все чистые.
Зоя встаёт и, якобы ненароком касаясь бедром моей руки, проходит в угол; берёт с подноса две кружки – мою и Игоря – и возвращается на стул. За это время я успеваю справиться с пробкой.
– Наливай.
Рывками покидая горлышко, бледно-жёлтая жидкость наполняет до половины Зоину кружку, а затем, также до половины, мою.
– За любовь, – говорит Зоя, но в голосе её почему-то слышится: «За родину!»
– За неё, – подтверждаю я и тихонько чокаюсь своей кружкой с Зоиной.
Делаю большой глоток. Холодное вино падает в пустой желудок, и через секунду мне становится тепло. «Парадокс», – думаю я, делая ещё один.
Зоя с грохотом ставит пустую кружку на стол:
– Ещё по одной?
– Закусить бы, с обеда ничего не ел, – пытаюсь отмазаться я, но Зоя достаёт откуда-то плитку шоколада «Алёнка».
– Пойдёт?
Обречённо киваю. Это лучше, чем ничего.
Своими пухлыми, на которых я насчитал семь колец, пальцами Зоя через обёртку ломает «Алёнке» кости. Потом поднимает глаза на меня:
– Чего замер, разливай.
Пока я наполняю кружки, Зоя разрывает обёртку и вываливает на стол увечные Алёнкины внутренности:
– Кушать подано.
– Мерси.
Зоя снова тостует:
– За любовь!
– Так вроде за любовь уже пили?
– За неё, сколько ни пей, всё равно мало.
И Зоя махом опрокидывает в себя кружку.
«Э-ге, – думаю я, – эдак она накушается раньше времени. Что тогда?»
– Валер, я давно хотела тебя спросить, – сквозь хруст шоколада, говорит Зоя, – у тебя девушка есть?
Понимая, к чему она клонит, решаю отвечать так, как обычно делает Израиль, когда у него спрашивают о наличии атомной бомбы:
– Зой, это сложный вопрос…
– Красивая?
– Как тебе сказать…
– Моложе меня?
– Знаешь, возраст – такое дело…
– Блондинка? Брюнетка?
Мне надоедает отпираться, и я сообщаю то, что Зоя хочет услышать:
– У меня была девушка: брюнетка, двадцать два года, на мой вкус, очень даже ничего, но мы расстались. Сейчас у меня никого нет.
Зоя удовлетворённо кивает:
– Тогда наливай.
Наливаю, и мы снова пьём за любовь.
– А я тебе нравлюсь? – спрашивает Зоя уже чуть заплетающимся языком.
Я не нахожу, что ответить: Зоин вопрос застаёт меня врасплох.
– Ну, хоть немно-о-ожечко? – повторяет она.
Моё красноречивое молчание продолжается. Зоя наливает себе сама и, не чокаясь со мной, выпивает залпом. Поставив на стол кружку, она проводит в воздухе указательными пальцами, изображая контур женской фигуры.
– Валера, пойми, всё это – рекламный ролик, – говорит она грудным голосом, – когда выключают свет, длина ног и цвет волос перестают быть важны, остаются груди, рот, задница, и то, что между ног. Да, у меня лишний вес, короткие ноги и прыщи по всей морде, но всё, что я только что перечислила, у меня такое же, как и у всех остальных баб, а кое-что и получше.
Зоя сжимает крупными, почти мужскими ладонями свои немаленькие груди, отчего у меня теплеет в паху.
– И потом, важно не содержание, а форма.
Зоя делает паузу, пристально глядя мне в глаза. Я выдерживаю её взгляд.
– Возьмём тачку, поедем ко мне, – горячо шепчет она, – тут недалеко. Если совсем противно, можно выпить коньяку, у меня дома всегда есть. Или, хочешь, я тебе глаза завяжу? А утром ты просто встанешь и уйдёшь…
Ошарашенный, я буквально теряю дар речи, а Зоя, видимо, приняв моё молчание за согласие, идёт в наступление: поднимается со стула, обходит меня с правого фланга и мягко наваливается грудью на плечо:
– Валер, перестань ломаться, я никому не скажу…
– Зоя, не надо… – только и могу выдавить из себя я.
Горячие и влажные, с кислинкой от «Монастырской избы», Зоины губы тазом накрывают мой рот, руки заплетаются вокруг шеи, а сама Зоя медленно сползает ко мне на колени. Её грудь теперь подпирает мой подбородок. Зоя тяжело дышит, я слышу, как гулко бьётся её сердце, и воображение тут же рисует перспективу, которую десять секунд назад озвучила Зоя.
Вот, мы у неё дома, уже пьяные… вот, с неё падает одна тряпка, затем вторая, третья… вот она голая лежит на кровати, груди в потолок, а я с отяжелевшей от алкоголя челюстью стою напротив, не в состоянии понять, как мне захотеть этот распластанный на кровати труп…
Видение покидает меня. Чтобы меня не заподозрили в попытке обнять Зоино туловище, демонстративно опускаю руки и отворачиваюсь в сторону. Знаю, это нехорошо, не по-мужски: не отвечать взаимностью женщине, но ничего не могу с собой поделать – Зоя мне совершенно безразлична, а в пьяном виде даже противна, – поэтому я холоден и неподвижен, как фараон при входе в Карнакский храм. До Зои, похоже, потихоньку доходит моё настроение. Некоторое время она ещё елозит по мне задом и давит крупом, но, так и не дождавшись ответной реакции, постепенно затихает.
– Ты что… – прерывистым шёпотом спрашивает она, – совсем меня не хочешь?
– Извини, – отвечаю я, отводя глаза в сторону, – чего-то никак.
Зоя медленно встаёт с моих колен.
– Сволочь ты, Суров, – говорит она с обидой в каждой букве, – все вы, мужики, сволочи!
– Зой, не обижайся… – совершенно искренне начинаю я.
Зоя резко разворачивается в мою сторону на каблуках – платье перекошено, на голове кошмар, в глазах слёзы.
– Расскажешь кому – убью! – кричит она и, напоследок вильнув задом, широким шагом покидает комнату.
Откидываюсь на спинку стула. Пустая Зоина бутылка летит в ведро для бумаг, вслед за ней – скомканная Алёнкина обёртка. На душе противно: такое чувство, будто только что сделал кому-то гадость, хотя на самом деле никакой гадости никому не делал. И от понимания этого становится ещё противнее.
Время – двадцать один час двадцать минут. Пора домой. Встаю, выключаю компьютер, выдёргиваю из розетки нашу гордость – электрический чайник с антипригарным покрытием спирали, проверяю, не осталось ли в пепельнице тлеющих окурков, и только после этого иду одеваться. Зима в этом году не особенно холодная, поэтому чтобы не замёрзнуть, мне вполне достаточно тёмно-синего демисезонного пальто, клетчатого шарфа и чёрного декадентского берета. Одетый, подхожу к большому зеркалу в коридоре. В таком прикиде, да ещё с длинными волосами и бородкой, я похож то ли на молодого батюшку, то ли на художника, по неизвестной причине сбежавшего из Монпарнаса в Черёмушки. Хватаюсь за циклопических размеров тумблер электроавтомата, что есть сил жму его вверх – х-дыщ! – и шоу-рум погружается во тьму.
– Спите спокойно, изделия очковой оптики, – говорю я поблёскивающим в свете уличных фонарей очкам и оправам, – завтра вас снова будут разглядывать, щупать, тереть тряпочками, надевать на чьи-то носы, засовывать в маленькие, обитые изнутри замшей гробики-очечники.
Ничего не отвечают мне изделия очковой оптики. Молчат: видно, уже уснули. Подхожу к самой дальней стойке, на которой покоится артефакт, который ещё никому не удалось продать. Эту ужасающую по дизайну оправу из коллекции «Гауди» с дикими попугайного цвета заушниками, тремя сменными накладками на окуляры и керамическим очечником Востоков привёз из последней поездки в Испанию со словами: «Это не оправа, а произведение искусства». Не знаю, как насчёт искусства, а клиенты от неё шарахаются. Возможно, их отталкивает цена – целых сто пятьдесят условных единиц – а может, они просто не доросли до высокого эстетического уровня нашего генерального директора… Так или иначе, Востоков обещал тому, кто её продаст, премию в размере оклада единовременно.
«Вот забрёл бы к нам какой-нибудь сумасшедший «новый русский, – мечтательно думаю я, – и влюбился бы в неё с первого взгляда. Я бы, конечно, наврал с три короба про то, как сам Гауди носил такие очки, когда строил «Саграда Фамилиа», или ещё что-нибудь в стиле Востокова, и впарил бы ему это произведение искусства, пока тот ещё тёпленький, причём не за сто пятьдесят, а за целых двести условных единиц, неимоверно бы вырос в глазах начальства и получил вдобавок триста долларов оклада единовременно…»
Закрываю дверь офиса на все три замка и, сдав ключи на охрану, выхожу из здания под мягкий январский снег. Кривенькая улочка с гордым названием «Научный проезд», на которую чёрными окнами смотрит здание института «Гипромедтехника», где мы снимаем офис, не по-московски пуста. На другой её стороне толкаются угрюмые металлические гаражи, а за ними в заснеженной темноте Александрийским маяком светит серая скала «Газпрома». Некоторое время смотрю на несгибаемый газовый фаллос, машу рукой сторожу Саше и его собаке по кличке Тумбочка, и, разгребая ногами успевшие вырасти за день сугробы, иду к метро.
Идти недолго – бывшая когда-то конечной, станция «Калужская» находится в десяти минутах неспешного променада от «Гипромедтехники». По дороге я обычно захожу в магазин «Калужская застава», чтобы купить там плюшку или пирожок. В магазине меня уже знают, и время от времени беззлобно подкалывают.
– Вас что, жена дома не кормит? – с искринкой в голосе спрашивает полная молодая продавщица с кольцом не на том пальце, когда я подхожу к кассе со сдобой в руках.
– Кормит, – говорю я, протягивая ей пригоршню мелочи, – только мало.
– Может, другую завести? – смеётся она.
– Не знаю, надо с ней посоветоваться, – как можно серьёзнее отвечаю я, и под её звонкий смех выхожу из магазина.
Морозец даёт о себе знать – винный хмель из головы почти выветрился. Жуя на ходу, спускаюсь по скользким ступенькам перехода метро, толкаю плечом стеклянные двери-убийцы и, показав сонной «красной шапочке» добытый контрабандой студенческий проездной, попадаю на станцию. Снимаю запотевшие с мороза очки и вытираю о шарф. Мои близорукие глаза видят вестибюль уходящим в пелену и слегка размытым по краям. Немного фантазии – и он превращается в колоннаду храма Ирода Великого, а усталые личности, слоняющиеся между колоннами – в жрецов или воинов. Самому себе я вижусь начальником тайной службы, который следует на встречу с прокуратором. Я даже знаю, что скажу ему: «Прокуратору здравствовать и радоваться…»
Грохот цвета морской волны превращает мою хрупкую иллюзию в развалины. Жрецы и воины возвращаются в усталые личины офисных служащих. Надеваю очки и захожу в вагон.
Вот что я вам скажу: андеграунд хорош только тем, что здесь можно читать. Поглощение печатного слова помогает убивать время и наполняет образами одуревший после рабочего дня мозг. Проезд же на личном авто, наоборот, позволяет ощутить всю продолжительность пути во времени и напрочь его опустошает. Даже в плотной метрошной толчее можно почерпнуть свою порцию печатного слова, а в пробке, извините, нет. Только автомобильный невроз. Все мои друзья автолюбители – неврастеники. Они и в жизни ведут себя, как на дороге: пытаются всех обогнать с нарушением правил, и орут, как потерпевшие. Разумеется, «консервы» нервов тоже не успокаивают, но здесь есть звуковая завеса и книга. И если книга хорошая, можно улететь так далеко, что иногда трудно бывает вернуться обратно. Хотя, будь у меня личный автомобиль, я бы, наверное, рассуждал по-иному.
У меня в руках «Чапаев и пустота» – чёрный «Вагриусовский» томик неделю назад забыл у меня приятель. На самом деле, книгу я прочитал уже два раза, сейчас читаю третий. Не с начала до конца, а выборочно, самые чудесные куски.
Ну почему, ответьте мне, почему эту книгу, эту прелесть, этот отрыв башки без наркоза написал не я? Чем таким отличается от меня В. О. Пелевин, родившийся, кстати, со мной в один день? Почему, блин, он, а не, блин, я? Ну, почему? Что нужно с собой такого сделать, чтобы писать так же?
Понятное дело, это зависть. Самая обычная зависть писателя-неудачника писателю настоящему. Я знаю, что научиться писать так же, как он, нельзя. Never. No way. Единственное, что в моих силах – научиться писать так, чтобы написанное было не стыдно показать друзьям или отослать в издательство. Но для этого, товарищи, надо работать, как папа Карло, привязав себя к стулу, до одури сидеть за письменным столом, тысячу раз переписывать одну и ту же фразу, пока не выползет из-под пера одна единственно верная…
«И другого пути, вероятно, не-е-ет…» – блеет в моей голове ехидный Борис Борисович.
Отрываюсь от невесёлых мыслей и снова ныряю в книгу. Не закрывая глаз, вижу перед собой заснеженную Москву, монгольскую степь, высокого красного командира с перебинтованным мизинцем, коротко стриженую барышню холодной красоты, взрывающийся над моей головой стеклянный шар…
– Станция «ВДНХ», – слышится откуда-то сверху, – Следующая «Ботанический сад».
Еле успеваю выскочить из вагона.
Чтобы добраться до дома, мне теперь нужно, выстояв очередь, сесть в автобус № 392, или маршрутку аналогичного номера, доехать до города Королёва Московской области и выйти на остановке у библиотеки имени Н. К. Крупской, так называемой «Крупы». Время в пути в зависимости от пробок занимает от тридцати минут до часу, так что дома я буду, в лучшем случае, в половине двенадцатого. Есть и другой вариант исхода: доехать на метро до Ярославского вокзала и сесть там на электричку Монинского или Фрязинского направления, но много таким образом не выиграешь, можно даже серьёзно проиграть: маршрутки ходят гораздо чаще электричек. Вообще, дорога из дома на работу и с работы домой – это проклятье всех, кто живёт за МКАДом, а всё потому, что за этим самым МКАДом, то есть в области, нормальной работы нет, а Москве – есть, но до неё ещё надо доехать.
Очередь оказывается короткой, и я удачно впихиваюсь в первую же подошедшую маршрутку. Сажусь спиной к водителю. Место не особенно завидное – придётся передавать деньги за проезд, – но зато тут есть, куда девать ноги. Читать в маршрутке из-за тряски тяжело, поэтому в дороге обычно я слушаю плеер. Сегодня у меня там кассета «Несчастного случая» – «Это любовь». Сильная вещь. Слушаю её всю неделю, и она мне никак не надоест. Ярославское шоссе сейчас, скорее всего, свободно, так что одной стороны кассеты до дома должно хватить. Давлю на «Play» и, словно по моей команде, набитая под завязку «Газель» тяжело отваливает от остановки, а ко мне начинают тянуться руки, сжимающие по две десятки новыми.
Я живу отдельно от родителей совсем недавно, с тех пор, как окончил институт. Снимаю однокомнатную квартиру с мебелью, стиральной машиной «Эврика» и телефоном – за сто десять долларов в месяц. Обретя долгожданную свободу, я, тем не менее, далеко от них не ушёл – дом, в котором я обитаю, находится через дорогу от родительского. Думаю, это не самый плохой вариант отделения от родственников: вроде бы сам по себе, но всегда можно прийти к ним пообедать или отдать в стирку белье. И при этом довольны все: и я, и предки – а больше всего младший брат, занявший мою комнату.
Захожу в успевший стать родным слабо освещённый подъезд, по щербатым ступенькам поднимаюсь к лифту – и вдруг замечаю торчащий из-под перекошенной дверки почтового ящика с номером 89 белый уголок. Открываю ящик, и мне в руки падает тощий на ощупь конверт. Мой прежний, то есть родительский адрес в графе «Куда» выведен немного расхлябанным, но однозначно женским почерком. В графе «От кого» – заковыристая подпись. Светка, будь она неладна. Третье письмо за месяц.
Его, по-видимому, принёс кто-то из родителей, скорее всего, мать, добрая женщина. Странное дело: Светка ей никогда не нравилась, но после того, как мы разбежались, у матери проявилась в Светкином отношении малопонятная нежность: то она собрала все её фотографии в альбом и как бы невзначай подсунула мне, теперь вот носит её письма. Чудеса. Должно быть, схожий механизм заставляет любить почивших тиранов. Подавив в себе желание прочитать письмо прямо в подъезде, сую конверт в карман и пешком поднимаюсь на второй этаж.
Здравствуй, Лерик.
Можешь мне не верить, но я понятия не имею, зачем строчу тебе письма. Просто сажусь и пишу. Прямо мания какая-то.
Как ты там без меня, бедный Лерик? Говорят, квартиру снял. Один? Вообще-то я почти уверена, что один. Не могу представить, что ты сможешь с кем-нибудь жить, кроме своей мамы. Извини, конечно.
Что у меня? Сегодня год, как мы с Сержиком официально живём вместе, а праздновать не хочется, потому что нечего. Я где-то прочитала, что супружеская близость проходит три основных этапа: первый, когда супруги начинают друг перед другом без стеснения переодеваться, второй – ругаться матом, и третий, извини, пукать. Мы с Сержиком пока на втором.
Честно тебе признаюсь: основным приобретением от моей семейной жизни оказалось вовсе не так страстно желаемая «до» регулярная порция здорового секса, а ничем неконтролируемый поток мужских неудобств. Я хотела мужчину, а получила ребёнка, которого можно трахать. Кстати о трахе: раньше, сразу после свадьбы, мы делали «это» два раза в день, потом как-то незаметно перешли на один, потом на три в неделю, а сейчас совокупляемся (ненавижу это слово, но именно оно в полной мере отражает то, чем мы занимаемся) один – два раза в неделю, обычно по выходным. И чаще, честно тебе скажу, не хочется.
Что ещё? Сержик толстеет. Недавно загнала его на весы – сто пять кэгэ. Он аж присвистнул. Сказал: «Ни хрена себе», слез с весов и пошёл жрать. Времени было полдвенадцатого…
Вообще, чем дольше я с ним живу, тем чаще вспоминаю тебя. Ты только не подумай, что я хочу к тебе вернуться – не дождёшься – просто ты всплываешь в моей памяти как прямая его противоположность. Недавно я даже назвала Сержика твоим именем. Слава богу, тот ничего не заметил. Он последнее время вообще меня не очень замечает.
Ну, всё, писать больше не о чем. Ответа от тебя, я так понимаю, не дождусь никогда.
Не твоя Света.P.S. Надеюсь, у тебя всё так же плохо, как у меня.Ещё раз перечитав две последние строчки, не спеша складываю из письма самолётик и иду с ним на кухню. Запускать лучше всего оттуда. Примёрзшая форточка открывается с костным хрустом. Морозный воздух врывается внутрь, попутно занося с собой эскадрилью снежинок-самоубийц. Беру самолётик в правую руку, зажигалку в левую; щелкаю колёсиком и подношу синий язычок к хвосту. Прикрываю пламя ладонью, пока оно медленно и нехотя перебирается на бумагу. Когда хвост основательно пылает и гарантированно не потухнет, плавно отпускаю самолётик в холодный прямоугольник, за которым чернота. Маленький факел почти сразу входит в штопор и после двух широких витков падает в снег. Какое-то время бумага горит, освещая кусочек сугроба вокруг, затем резко тухнет – от факела остаётся лишь одна ярко-красная точка. Через секунду гаснет и она.
Задраиваю форточку и сажусь на подоконник. Сигарета сама собой оказывается во рту, пальцы ещё раз щелкают колёсиком зажигалки. Сладковатый дым наполняет лёгкие, налетевшие мысли хватают меня под локти и волокут из кухни прочь, в моё не слишком-то давнее, но, надо полагать, навсегда ушедшее прошлое…
Я понял, что влюбился, когда в первый раз увидел её в домашней одежде: синей полосатой кофточке с коротким рукавом и облегающих трениках. Это было зимой девяносто первого. Не помню, зачем, мы зашли к ней домой с одной нашей одноклассницей, Танькой Васильевой. Я был посажен на диван в большой комнате перед телевизором, а Светка будто бы случайно прошла мимо, на секунду замерев, как раз на линии, соединяющей мои глаза и экран. Этой самой секунды оказалось достаточно, чтобы я зафиксировал её тонкую талию, обтянутые кофточкой острые груди и стройные ножки. Помню, в тот момент я подумал: «Какая же она тоненькая». Следующей мыслью было: «Хана, влюбился».
Со Светкой у нас развивалось так: мы начали встречаться в последнем классе школы, вскоре после описанного выше случая. Я ходил к ней домой, якобы для занятий английским. Мы запирались в её комнате и, ловя каждый шорох за дверью, обжимались на диване. На втором курсе института я её бросил (уже не помню, почему), на третьем вернулся (это было непросто), на четвёртом она бросила меня, потом мы на непродолжительное время сошлись на пятом, потом опять разошлись, потом, на шестом, она сделала робкую попытку начать всё сначала, но я тогда уже был с другой, поэтому взаимностью не ответил, а потом она как-то стремительно вышла замуж. И всё бы, как говориться, ничего, но только после окончательного разрыва стало понятно, что любил я её по-настоящему.
Как я ни старался, забыть Светку совсем или же вспоминать о ней редко, с лёгким апломбом первого владельца, не получалось. Я думал о ней постоянно и совсем в другом контексте. Есть такой кинематографический приём, когда необходимо одновременно показать, что происходит с героями ленты, находящимися в разных местах. В этом случае кадр делится пополам, и в каждой половине совершается некое действие: слева, например, едят, а слева, наоборот, пьют. Вот так мне и представлялась наша с ней несовместная жизнь. Слева она с кем-то спит, а справа с кем-то сплю я. Слева она одна, справа я сплю ещё с кем-то. Справа я один, слева она… ну, понятно. Я часами смотрел такое кино. Только не подумайте, что я специально наводил о ней справки или, прости господи, шпионил. Ни в коем случае. За меня всё делали общие знакомые. Эти добрые люди почему-то очень любят сообщать новости о бывших. Видимо, считают, что от таких рассказов становится легче. Встретишь такого, а он тебе: «Видел вчера Светку с мужем. Загорелые, с югов вернулись» – и стоит, довольный. Придурок. Или: «Светка недавно звонила, они с мужем квартиру сняли…» или: «Встретили в мебельном магазине Светку с Сержиком, мы там гардины выбирали, а они – кровать…» Короче, лучше любой разведки. А с недавних пор стали приходить ещё и письма.
Разумеется, я знаю, как от этого избавиться. Главное – определить проблему, а она в том, что я глобально и совершенно бесперспективно одинок, и ничего не могу с этим поделать. За последние четыре месяца у меня не было ни одного, даже самого пустякового романа. И, соответственно, секса. Вот если бы с головой окунуться в отношения, да так, чтобы разом забыть обо всём на свете: работе, курсе доллара, недописанном романе, Светке с её письмами, идиоте Сержике, Борисе Николаевиче, мать его за ногу… Но где раздобыть такие? Или вообще какие-нибудь…
Неожиданно мне вспоминается Зоя, её жаркие объятия и влажный, благоухающий «Монастырской избой» рот. Повинуясь мимолётному желанию, встаю, открываю скрипучие дверцы кухонного шкафа, где хранится всякий хозяйский хлам, и достаю оттуда оставшуюся с выходных недопитую бутылку «Каберне».
2
Считается, что творческих личностей тянет друг к другу. Правда, тянет. Но только когда личности молоды и ничего не достигли на творческой ниве. Это происходит оттого, что каждому нужна аудитория, а найти её проще всего в себе подобных. И ещё потому, что вместе всё-таки веселее. Позже такие союзы обычно распадаются, поскольку любая творческая личность по определению эгоистична.
Ваш покорный слуга в данном вопросе не исключение. Вот уже много лет мой круг общения состоит из поэта Коли Комарова по прозвищу «Дон Москито», актёра Серёжи Четверикова по прозвищу «Че» и сумасшедшего скульптора Олега Петрова, к фамилии которого, словно немецкое «фон», из-за того, что он на одном новом году пил шампанское из вантуза, приклеилось слово «Панк». Разумеется, у каждого из обозначенных товарищей есть и другие, вполне человеческие профессии, посредством которых те зарабатывают на жизнь, я лишь обозначил их направления в творчестве.
Дона Москито я знаю дольше всех, мы познакомились ещё в институте. Это произошло в курилке – небольшом помещении рядом со столовой – и, хотя там всегда толкалось с десятка два студентов, мы как-то вычислили друг друга среди толпы, и уже после первой раскуренной на двоих сигареты обменялись работами – я дал ему почитать свой рассказ «Локоть судьбы», а он мне – свою поэму «Муза», из которой я запомнил только начало: «Моя печальная муза – рыжая стерва в синих рейтузах»; с Че – самым старшим и самым мудрым из нас – мы сошлись на пьянке у общих знакомых; Панк Петров оказался соседом Че по подъезду и влился в коллектив последним.
Нас действительно тянет друг к другу. Мы довольно часто собираемся, не только чтобы обсудить произведения друг друга, но и ради самого дорогого – того, что в нашем возрасте ещё совершенно не ценится – ради общения. С приходом новых времён и некоторым улучшением материального благосостояния всех четверых места встреч постепенно перекочевали из подъездов (зимой и осенью) и скверов (весной и летом) в клубы и рестораны, коих в столице нашей родины к этим самым новым временам развелось до чёрта. Конечно, здесь нет той романтики и достаточно дорого, но зато тепло, сухо и почти всегда есть чем закусить.
Сегодня …-ое января, четверг. Мы сидим в клубе «Жёлтая кофта», что недалеко от театра имени Маяковского. Это поэтический клуб и одновременно ресторан с демократичными ценами на водку, где ошиваются не очень известные московские поэты и поэтессы, а также люди, не имеющие никакого отношения к поэзии, коих большинство. Разумеется, нам всем бы очень хотелось коротать вечера не здесь, а в «Ротонде[2]» или «Хромой собаке[3]», но так как существование подобных заведений в ельцинской Москве невозможно даже теоретически, приходится довольствоваться тем, что есть.
Хотя, если быть откровенным, «Жёлтая кофта» – не самый плохой вариант. Здесь гораздо приличнее, чем, скажем, в «Балаганчике», где есть шанс отравиться водкой, а за плохие стихи из зала может запросто прилететь пустая бутылка. Неверное по этому «Кофта» пустует редко. По четвергам здесь особенно многолюдно, поскольку по этим дням работает режим свободного микрофона. На практике это означает, что любой желающий, заранее предупредив конферансье, может выйти на сцену и в течение пяти минут насиловать слух всех присутствующих, включая официантов и гардеробщика, своими виршами. Собственно, поэтому мы сегодня здесь – Дон Москито на выходных накарябал, как он только что выразился, мини-поэму «Ушла!», и теперь ему необходимо зачитать её перед независимой аудиторией. На поэтической фене это называется приступом лирического эксгибиционизма. Время от времени все мы страдаем такими приступами (понятное дело, у каждого эксгибиционизм свой), поэтому с радостью откликнулись на приглашение друга прийти сегодня вечером к «Маяку».
Есть только одна проблема: Дон Москито от природы очень стеснителен, и выступать перед незнакомыми людьми для него сродни пытке, поэтому, чтобы набраться уверенности, ему необходимо прилично набраться, уж простите за каламбур. Так что наша задача – не только составить компанию нашему поэту в распитии спиртных напитков (что, в общем-то, несложно), но ещё и следить за тем, чтобы он к моменту выхода на сцену был во вменяемом состоянии. А вот с этим дело обстоит несколько тяжелее, поскольку Дон Москито после определённой дозы выпитого может стремительно отключиться. Однажды мы упустили этот момент и последствия были плачевны – наш поэт просто не смог подняться из-за стола, чтобы дойти до сцены. Это произошло месяц назад в «Балаганчике», куда нам теперь стыдно показываться. Но сегодня всё идёт хорошо, по крайней мере, пока; мы выпили по две кружки пива каждый и заказали ещё. Дон Москито умеренно навеселе, и по выражению его лица можно понять, что требуемое состояние им ещё не достигнуто, но приближение оного уже не за горами.
На сцене сейчас его коллега по цеху, который громко и отчётливо, словно выплёвывая, швыряет в зал строку за строкой. На коллеге надет длинный красный пиджак с фантастических размеров золотыми пуговицами и штаны от спортивного костюма «Adidas». Под пиджаком, видимо, ничего нет, поскольку из глубокого выреза торчат кудрявые рыжие волосы поэта, а в просвете между пуговицами угадывается пупок. Поэт стоит в позе самого известного обладателя жёлтой кофты – широко расставив не слишком длинные ноги и чуть наклонив вперёд квадратную голову; правая его рука душит микрофон, а левая – совершает загадочные ритмические пассы, будто бы её хозяин безуспешно пытается стряхнуть с рукава грязь.
Насколько мне удаётся понять по первым строфам, поэтическое произведение, которое поэт несёт со сцены, представляет собой зарифмованное описание неудачной коммерческой сделки, а его основная мысль умещается в одной фразе, которую поэт, будто песенный припев, повторяет после каждой строфы:
…бабло упало, упало мало, и то, безналом…Мне известна эта колоритная личность на сцене, я даже коротко с ней, точнее, с ним, знаком. Это некто Пётр Тарасов, довольно известный в узких кругах рекламщик, и по совместительству поэт-самоучка. Он знаменит тем, что по несколько раз в год публично меняет псевдоним заодно со стилем, в котором творит. Давным-давно, когда мы только с ним познакомились, он был футуристом и представлялся: «Питирим Тарантасов, поэт будущего», потом его качнуло в символизм и он стал Петром Дебелым, затем на короткое время примкнул к новым имажинистам под личиной Тарзана Нарзанова, и вот теперь, если верить объявившему его конферансье, он: «Просто Петька, поэт – универсал».
– Хорошо хоть имя осталось, – легонько толкает меня в бок Дон Москито, – интересно, куда его дальше шарахнет?
– Думаю, этого никто не знает, даже он сам, – сквозь на мгновенье закрывший его лицо табачный дым, отвечает Че, – но в каком стиле он сейчас творит? И что это вообще такое, поэт-универсал?
– Возможно, это означает его способность одинаково хорошо зарифмовывать муки истосковавшегося по женскому телу молодого самца и, например, детали финансовых операций, – предполагаю я.
Че смотрит на меня с подозрением, Дон Москито сосредоточенно трёт виски, а Панк Петров расплывается в непонятной по характеру улыбке.
– Ты считаешь, что это хорошо? – спрашивает Дон Москито, мотнув кудрявой головой в сторону сцены.
Я понимаю, что сморозил глупость, похвалив в его присутствии другого стихоложца.
– Ну, я же не сказал, что он пишет хорошие стихи, – оправдываюсь я, – я сказал, что он хорошо рифмует…
– Это одно и то же, – перебивает меня Панк Петров, – рифмовать и писать стихи, это синонимы.
– Ну, началось… – сокрушается Че.
Поясняю: Панк Петров публично презирает литературу вообще и поэзию в частности, а также тех, кто их обеих создаёт, то есть писателей и поэтов. Он, видите ли, воспринимает только осязаемые виды искусства, то есть живопись, ваяние и архитектуру. Не знаю, с чем связана его странная позиция, в которой, кстати, нет ни капли искренности: Олег много читает, и дома у него прекрасная библиотека. Дону Москито это хорошо известно, но он в сотый раз ведётся на дешёвые провокации.
– Нет, не синонимы! – резко заявляет он, раскрасневшийся от пива и клубной духоты. – «Спасибо нашим поварам – варили свиньям, дали нам» – это зарифмовка, а «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» – это стихи. В них есть душа.
– Не вижу разницы, – отрывая ото рта пустую кружку, небрежно бросает Панк Петров, – а души, между прочим, не существует.
– Души не существует в беременных штангистках, которыми уставлена, не будем говорить чья, мастерская, – наносит ответный удар Дон Москито.
Я еле сдерживаю улыбку: уж больно точно Дон Москито определил внешний вид творений нашего скульптора. А вот Олегу не до смеха, он, похоже, тоже завёлся.
– Да что ты понимаешь в скульптуре, стихоплёт! – шипит он.
Услышав страшное для любого поэта слово, Дон Москито буквально взрывается:
– Ты кого стихоплётом назвал, скульптурщик?
Резкий хлопок ладони об стол заставляет спорщиков замолчать.
– Последний раз говорю вам, придурки, хватит валять дурака! – рявкает Че так, что мы втроём вздрагиваем. – Если не прекратите, оба будете лишены следующей кружки. Миритесь, несчастные!
Противники привстают и церемонно пожимают друг другу руки, но у самих в глазах пляшут костры и скачет монгольская конница. Или мне это просто кажется?
В это время поэт-универсал заканчивает выступление, вставляет микрофон в стойку, и под редкие хлопки, широкой пошатывающейся походкой удаляется со сцены. Проходя мимо нашего столика, он приподнимает руку в вялом приветствии, мы отвечаем ему точно такими же.
– Поаплодируем Просто Петьке, – гнусавит подскочивший к оставленному микрофону конферансье, одетый по моде начала прошлого века, – а теперь перед вами выступит мадемуазель Анна из поэтической коммуны «Убийцы Маяковского». Да-с, господа! Именно так-с! Прошу вас, мадемуазель!
Из-за спины конферансье появляется высокая худая девушка, стриженная под Ахматову. Она выше конферансье на полголовы и в два раза тоньше, потому рядом они выглядят весьма комично. У девушки вытянутое лицо с довольно широкими скулами и пронзительные карие глаза; нос с благородной горбинкой, длинные худые руки, и длинные, должно быть, также худые ноги. Обтягивающее чёрное платье без рукавов выдаёт почти полное отсутствие женских выпуклостей.
Откуда-то сзади слышится:
– Красота страшна…
После смешков с соседнего столика:
– Нос маловат, а так, ничего, похожа…
А девушка, которая, к своему счастью, всего этого не слышит, истерически заломив руки и выпятив вперёд острый подбородок, начинает:
По улице Газгольдерной, Он к девушке совсем одной, Идёт… В его глазах расстёгнутых, Её портрет издёрганный, Стоит… А сердце серной горною, По улице Газгольдерной, Летит… Где девушка совсем одна, Любви своей, испив до дна, Лежит…[4]Отступив от микрофона на шаг, поэтесса делает паузу, давая понять, что стихотворение окончено. На этот раз из зала не доносятся аплодисментов вообще, только редкие смешки. Девушка, кажется, не обратив на это никакого внимания, вновь подходит к микрофону и принимает позу «для чтения».
Теперь слова вырываются из неё с большим остервенением, чем в первый. Видимо, поэтесса вошла в образ, и не собирается его покидать. Меня всегда восхищали люди, способные вот так преображаться на публике, поэтому я испытываю мгновенный прилив уважения к странной девушке на сцене, который, впрочем, испаряется после фразы: «Офелия ли я…» – больно уж пафосно и ненатурально это звучит. Отворачиваюсь от сцены. Оказывается, друзья это уже сделали, и преспокойно общаются. Из разговора я понимаю, что они вернулись к первоначальной теме, от которой нас отвлёк знакомый нам многоимённый поэт. А обсуждали мы внешний вид Панка Петрова, а точнее, отцветающий «бланш» под его левым глазом, из-за которого, кстати, Олега не хотели пускать в клуб; его спасло лишь дипломатичное вмешательство Че и небольшая взятка администратору.
На резонный вопрос: «Откуда «фонарь»?» наш раненный друг поведал леденящую душу историю о том, как в понедельник на них с Марго напали хулиганы в количестве трёх рыл, и как он всех троих бесстрашно раскидал, получив при этом по репе лишь единожды.
– Один раз раскрылся – и на тебе! Пропустил! – сокрушался он. – Правый прямой. Хорошо, что я удар отлично держу, а то бы кранты…
Немного погодя, то есть после первой, Панк Петров пересказал ту же историю, но в существенно более точных подробностях, чем в первый раз. Неизвестные злодеи теперь обрели вполне ясные очертания: нам стали известны их возраст, черты лиц, детали одежды и даже имена и клички. Единственное, в чём не был уверен рассказчик, так это в цвете глаз нападавших. Панк Петров также продемонстрировал нам, как кричала Марго, чтобы он пожалел поверженных врагов, отчего соседи справа испуганно вздрогнули. Сейчас, после третьей, Панк Петров рассказывает нам всё сначала:
– А этот четвёртый, видно, боксёр был. Я от него и так, и так, – рассказчик показывает, как именно он ставил «блоки» и уворачивался, задевает при этом локтем свою кружку, но Че подхватывает её в последний момент и приводит в вертикальное положение.
– Четвёртый? – переспрашивает он, вытирая салфеткой руки. – Ты же сказал, что их трое было.
От неожиданности Панк Петров икает баритональным тенором, но быстро приходит в себя и, якобы не заметив, что его застукали, продолжает:
– Слава богу, я в детстве карате занимался, а то бы кранты…
Видимо, для большей убедительности рассказчик, воздев очи к люстре, размашисто крестится.
– Это очень убедительно, осенять себя крестным знамением, когда ни хрена в бога веришь, – меланхолично язвит Че.
Я улыбаюсь про себя: что верно, то верно – большего безбожника, чем Олег, ещё поискать.
Вообще-то Панк Петров – враль, каких мало. Мы это прекрасно знаем, и потому ничему не удивляемся. Наоборот, киваем, задаём наводящие вопросы, а сами терпеливо ждём, когда у него развяжется язык и он поведает нам, как же всё было на самом деле. Возможно, это не совсем по-товарищески, зато весело. Тем более что сам рассказчик на это не обижается. По большому счёту, его басни – не вранье вовсе, в привычном понимании слова, а неукротимый полёт фантазии, с которым он просто не в состоянии справиться. Ну не может человек просто сказать, что сходил, например, за хлебом – он непременно поведает, что в магазине произошло ограбление со стрельбой, или что продавщица ни с того ни с сего устроила стриптиз, или что перед ним в очереди стоял сильно постаревший Элвис Пресли в спецовке дорожного рабочего. С такими данными, как говориться, прямая дорога в писатели, но Панк Петров почему-то выбрал скульптуру. Он даже где-то этому делу учился, кажется, в Суриковке или Строгановке, но по какой-то причине бросил. Чтобы не попасть в армию, наш герой пошёл в Московский Лесотехнический институт, с горем пополам его закончил, и теперь работает озеленителем. Скульптура же осталась у него в ранге хобби, благо жилищные условия позволяют – от дослужившегося до красных лампасов деда ему досталась дача в подмосковной Валентиновке, с примыкающей к дому оранжереей, которую внук приспособил под мастерскую. Там он, собственно, и творит в свободное от основного занятия время. Основным мотивом его творчества, как было сказано, является женское тело. Полностью или частями воссоздаёт он его из доступных материалов: дерева, алебастра, гипса и какого-то сероватого камня. Моделью чаще всего служит его нынешняя девушка, вышеупомянутая Марго, которую он почему-то скрывает от родителей. Однажды, когда те в очередной раз попросили её им показать, Панк Петров немного подумав, сказал: «Сейчас», удалился в мастерскую, вынес оттуда скульптуру обнажённой размером с пенный огнетушитель и взгромоздил на стол.
Вот такой он у нас, Панк Петров. Единственный и неповторимый.
– Ну, так что там с четвертым? – осведомляется Че.
– С каким четвертым? – с деланым непониманием спрашивает Панк Петров и фальшиво кашляет.
– Ну, с тем, что был боксёром, – не без яда уточняет Дон Москито.
– Ах, четвёртый…
– Да, да, четвёртый!
– Тот, что боксёр?
– Он самый, Олеж, он самый!
Панк Петров озадаченно чешет сивый затылок. Долго чешет.
– Ну ладно, чёрт с вами, слушайте, – сдаётся он, наконец, – только, чур, не смеяться. И никому ни слова!
Мы показываем жестами, что скорее умрём, чем у нас развяжутся языки. И только после этого Панк Петров рассказывает, что же на самом деле случилось.
А всё, оказывается, было просто. Действительно, в понедельник он провожал Марго домой, но по дороге на них никто и не думал нападать. Панк Петров остался у её на ночь со всеми вытекающими, и когда доставлял ей оральное удовольствие (он так и сказал: «оральное удовольствие»), Марго лягнула его коленом. В самый кульминационный момент. Случайно.
– Прямо в глаз, представляете! – громким шёпотом сообщает нам Панк Петров. – Думал, рассосётся… утром глянул в зеркало, а там – капитанский фонарь…
Приступ хохота буквально валит нас под стол.
– Кончайте ржать, сволочи! – рычит на нас потерпевший.
Только мы и не думаем заканчивать. Слишком уж смешно вышло.
– Пива раненому на эротических фронтах! – сквозь смех кричит Че.
– Два пива! – поддерживает Дон Москито.
– Три! – кричу я.
– Гады, я же просил! – чуть не плачет Панк Петров.
Привлечённая криками, из другого конца зала к нам спешит полная, но весьма подвижная официантка.
Тем временем запас хохота во мне иссякает, и я замолкаю. В голову приходит неприятная мысль о том, что при всей комичности ситуации, Олег всё равно оказался на высоте, по крайней мере, относительно меня, поскольку у него есть кому доставлять оральное удовольствие, хотя бы и с такими последствиями. Внезапно мне становится грустно, как бывает, когда ты слегка пьян, и чтобы разбавить эту грусть, я припадаю к недопитой кружке.
– Клиент созрел, – тихо говорит мне Че, мотнув головой в сторону Дона Москито.
Смотрю на нашего друга, и действительно: клиент, то есть Дон Москито, и правда созрел – судя по блуждающей по его физиономии странноватой улыбке, он уже прилично пьян. «Как же мало ему надо, – думаю я, – три кружки всего».
– Коль, – обращаюсь я к Дону Москито, – а не пора ли нам прикоснуться к истинной поэзии?
Панк Петров снова громко икает, затем открывает рот, чтобы что-то сказать, но Че так выразительно на него зыркает, что тот захлопывает рот ладонями и зачем-то зажмуривает глаза.
– Я ещё не готов, – после паузы отвечает Дон Москито, – я бы выпил ещё… чего-нибудь покрепче… и в бой…
Я поворачиваюсь к Че, но тот делает успокаивающий жест рукой: мол, всё в порядке.
– Девушка! – щёлкает пальцами он. – А водочки можно нам?
Услышав заветное слово, официантка, которая до этого скучала у барной стойки, срывается с места и спешит к нам с подносом в руке, на котором стоит пузатый графинчик о четырёх рюмках. Вообще-то я не собирался сегодня пить водку, поскольку не очень приветствую так называемое «смешение жанров», короче говоря, не люблю ершить, но чего не сделаешь ради друзей.
Графинчик перекочёвывает с подноса на стол. Че, отблагодарив официантку улыбкой, начинает разливать.
– Что-то как-то очень быстро принесли, тебе не кажется? – спрашивает Панк Петров.
– Чему ты удивляешься, они на водке самые большие деньги делают, – отвечает Че, – графинчик-то, небось, о-го-го сколько стоит!
Я прикладываю ладонь к графину:
– Ледяной. И рюмки, видимо, тоже.
– Да, их в морозилке держат, я видел, – кивает Че, – это чтобы не заметили сивухи. Водка-то наверняка палёная.
Его слова заставляют меня поморщиться:
– Давайте не будем о грустном, вечер только начался. За что, кстати, пьём?
– За нас в искусстве! – бодро заявляет Панк Петров.
– Может, лучше за искусство в нас? – несмело предлагает Дон Москито.
– Давайте, просто за нас, – Че поднимается, держа на вытянутой руке рюмку, – мы лучшее, что есть за этим столом!
– Принимается, – говорю я, вставая.
– Не люблю пить стоя, вы же знаете, – ворчит Панк Петров, но тоже встаёт.
– Нескромно, ну и ладно… – Дон Москито присоединяется к компании, возвышаясь над нами, он среди нас самый длинный. – Сам себя не похвалишь…
Мы дружно чокаемся, и хотя желаемого звона наши рюмки не производят, на мгновение в окрестности нашего стола образуется атмосфера праздника, ради которой и затеваются все новые годы, дни рождения, юбилеи и просто рядовые пьянки. Ледяная водка пьётся легко, хотя в ней чувствуется нехороший привкус – Че был прав, она действительно палёная.
– Ну, я готов, – говорит Дон Москито, с характерным звуком ставя на стол пустую рюмку.
– Тогда иди, поэт! – хором отвечаем ему мы. Это уже своего рода традиция.
Дон Москито делает знак рукой подзаснувшему на сцене конферансье. Получив от того подтверждение в виде утвердительных кивков, он выходит из-за стола и направляется к сцене бодрым, почти строевым шагом, что внушает нам некоторую уверенность в том, что в этот раз всё обойдётся. На ходу Дон Москито извлекает из одного кармана листок с текстом и очки из другого.
– А теперь-с, – переходя на фальцет, объявляет подскочивший к микрофону конферансье, – вы будете иметь удовольствие прослушать новое сочинение нашего дорогого гостя, поэта, чьи произведения не раз и не два звучали в этом зале. Поприветствуем знаменитого Николая Комарова!
Из зала, а точнее, из-за нашего столика, доносятся энергичные аплодисменты и одобрительные возгласы. Объявленный подходит к микрофону и жестом просит нас помолчать. Мы подчиняемся и принимаем, наконец, сидячее положение. Лично я с удовольствием плюхаюсь на стул и вытягиваю под столом ноги. Дон Москито в это время безо всякого вступления начинает:
Мне тут моя закатила истерику: «Мол, всё надоело, хочу в Америку!» «На кой ляд, – говорю, – ты там сдалась?» А она мне с размаху по морде – хрясь! Я ей: «Давай лучше в Питер на майские!» Она ни в какую, коза валдайская! «Тогда, может, с друзьями на дачу?» «Гопники, – говорит, – твои друзья, и алкаши в придачу!»«Что бы это могло значить?» – думаю я, переваривая смысл услышанного. Додумать мысль мне не удаётся, поскольку мой взгляд, который был прикован к читающему Дону Москито, вдруг сам собой фокусируется на девушке, сидящей за столиком между нами и сценой. Оказывается, она смотрит, и, вероятно, смотрела раньше, в мою сторону. Наши взгляды встречаются, но девушка не отводит глаз, напротив, продолжает смотреть, чуть повернув голову влево, видимо, демонстрируя свой самый выгодный ракурс.
Честно скажу, в таких случаях я всегда чувствую себя неловко – не могу спокойно выдержать женский взгляд, особенно такой. Может, какие наглые красавцы на это и способны, но только не я. Поэтому после нескольких секунд гляделок я отвожу взгляд в сторону, то есть на Дона Москито.
Со сцены доносится:
Вот так и живём – ни друзья, ни враги, Я ей: «Люблю!»; Она: «Купи сапоги!» Ведь женщина – очень капризный предмет: Кончились деньги – её сразу нет.– Последнюю фразу я бы приказал высечь в камне, – шепчет мне на ухо Че.
Машинально киваю в ответ, а у самого не выходит из головы та, что с полминуты назад активно на меня таращилась. Бросаю якобы случайный взгляд в её сторону, но она занята разговором с тем, кто сидит рядом, и мне виден сейчас только её затылок.
«Может, она меня с кем-то спутала? – думаю я. – Или с одеждой что-нибудь не так?»
Критически осматриваю себя, и, ничего странного не обнаружив, снова смотрю на девушку, теперь всем телом повернувшуюся к сцене. В это время Дона Москито, сделав довольно длинную для декламации стихов паузу, неожиданно резко повышает тон:
Без неё не могу, а с нею – никак! На сердце камень, в душе – бардак! Я знаю, есть средство, как мир простое: В петлю тот камень, на шею и в море…«Что же ей всё-таки от меня было нужно? – вертится в голове. – И с чего это Коля так разорался?»
– Серёж, тебе никого не напоминает вон та девушка в сером свитере? – спрашиваю я Че, взглядом показав, кого я имею в виду.
– За тем столиком? – уточняет он, мотнув головой в её сторону.
– Угу, – подтверждаю я.
Че близоруко щурится и смешно вытягивает тощую шею из воротника рубашки в направлении объекта исследования.
– Не-а, – заключает он, – первый раз вижу. Только, знаешь, это ни фига не свитер, а вязаное платье. А почему ты, собственно…
Нас прерывают аплодисменты. Не жидкие хлопочки, сделанные из вежливости, а самые настоящие рукоплескания со свистом и топотом. Бросаю взгляд на сцену и – о ужас! – там, всё ещё сжимая в правой руке микрофон, а в левой – листок с бессмертными стихами, с опешившего конферансье мокрым комбинезоном свисает наш поэт.
Мы с Че вскакиваем с мест и что есть сил рвём на сцену. В три прыжка достигаем места крушения, хватаем нашего опавшего друга под руки и, словно раненого, уносим со сцены. К счастью, Дон Москито не сопротивляется, он лишь вяло сучит ногами по полу и что-то бормочет – видимо, ту часть своей мини-поэмы, которую не успел дочитать. Шум в зале, между тем, не утихает, напротив, становится громче.
– Уважаемый, успокойте народ! – шипит Че в сторону конферансье, который увязался за нами.
– Не могу-с! – отзывается из-за моей спины тот. – Не в силах-с! Вот сюда, пожалуйста, в уборную-с!
Проблема в том, что уборная-с находится в противоположном конце помещения, и чтобы в неё попасть, нам нужно протащить Дона Москито через весь зал.
Трудно передать, что творится за столиками. Издевательские аплодисменты – это полбеды, каждый, то есть, абсолютно каждый считает своим долгом крикнуть в наш адрес что-нибудь обидное. «Не вынесла душа поэта», «Сгорел на работе», «Опал, как озимый», «Обожратушки – перепрятушки» и тому подобное – всё это приходится нам выслушивать, пока мы совершаем проход по залу.
– Вот ведь гады, – говорю я на ходу, – ничего святого нет. Ну, напился человек, ну вырубился, чего орать-то?
– Они хотели зрелища, – бурчит Че, – они его получили, теперь наслаждаются. Подобные случаи лучше всего обнажают зловонные стороны гнилых душ.
– Да, вы, батенька, тоже поэт! – пытаюсь острить я, как всегда неуместно.
– Ты-то хоть помолчи! – огрызается он. – Без тебя тошно. Это я во всём виноват, не надо было водки ему давать! Теперь нас и сюда перестанут пускать…
– На сцену – это уж точно-с! – снова подаёт голос конферансье. – А в зал, пожалуйста! Бухайте-с!
– Вот ведь козёл, – говорю я негромко, но так, чтобы тот расслышал.
Наконец добираемся до вожделенного сортира. К счастью, он свободен – об этом позаботился Панк Петров, убедивший мужика в очереди пропустить нас вперёд.
– Только давайте, недолго, – говорит тот, – а то я ноги ошпарю.
Заносим тело в небольшую квадратную комнату с узким оконцем, из которого виден освещённый фонарём кусочек улицы Герцена, в смысле Большой Никитской. Че наклоняет поэта над раковиной, Панк Петров открывает кран, из которого после серии неприличных звуков на склонённую голову обрушивается ледяной водопад, и пшеничные кудри Дона Москито, которыми тот так гордится, мигом превращаются в мокрые крысиные хвостики.
Реанимация протекает успешно. Не проходит и минуты, как Николай начинает оживать – мотать головой и вяло материться, ещё через минуту он уже пытается вырваться и брыкается правой ногой, но друзья крепко удерживают его голову под краном. Неожиданно я замечаю, что в туалете оказывается невероятно тесно, он явно не рассчитан на единовременное присутствие четверых крупных мужчин.
– Думаю, я тут лишний, – говорю я.
– Да, иди за стол, последи за вещами, – не оборачиваясь, бросает мне Че, – не хватало ещё, чтобы у кого-нибудь шапку спёрли.
Выхожу из туалета с перекошенным от злости лицом, но, сделав всего пару шагов, меняю его на беззаботное – пусть думают, что мне тоже весело. Пробираюсь между столиками на место, но никто не смотрит в мою сторону – видимо, уже забыли. Около нашего нос к носу сталкиваюсь с девушкой, которой несколько минут назад проиграл в гляделки. Она, оказывается, почти с меня ростом и довольно широка в плечах, для девушки, разумеется. На её лице озабоченность.
– С вашим другом всё в порядке? – спрашивает она.
– Да, спасибо, – отвечаю я, – он просто перебрал.
– Видимо, не просто, раз так упал?
– Ну, не так уж он сильно и упал… и потом, быстро поднятый поэт упавшим не считается…
Улыбаюсь, чтобы обозначить шутку, но девушка не реагирует. Наступает неловкая пауза.
– Татьяна, – девушка довольно резко протягивает мне руку.
Слегка пожимаю прохладную ладонь:
– Валерий, можно Лерик.
– Лерик, как мило. А это, – Татьяна показывает отогнутым большим пальцем себе за спину, – Аня.
Из-за её спины появляется девица с густо накрашенным, но совершенно детским личиком, в которой я узнаю ту самую «Ахматову», то есть мадемуазель Анну. Она тоже подаёт мне руку, только, скорее, для поцелуя, нежели для рукопожатия. Мне не остаётся ничего другого, как, слегка нагнувшись, приложиться к ней губами.
– Так это вы – убийца Маяковского? – спрашиваю я, выпрямившись.
– Одна из, – отвечает мадемуазель Анна, – нас много.
– И чем же, простите, вам не угодил Владимир Владимирович?
– Он убил русскую поэзию, и за это мы должны убить его.
– Но он ведь уже, – быстро произвожу расчёт в уме, – шестьдесят восемь лет как мёртв.
На Анином скуластом лице появляется странное выражение – смесь гнева и удивления.
– Это, безусловно, делает вам честь, – медленно и отчётливо произносит она, – что вы знаете официальную дату кончины Маяковского, но на самом деле он ещё жив.
Трудно описать то, что происходит в моей голове.
– И сколько ему стукнуло? – должно быть, несколько эмоционально осведомляюсь я. – Пардон, запамятовал, когда Владимир Владимирович уродился.
– Не в прямом смысле, конечно, жив, – оговаривается Аня, – физически он, разумеется, мёртв. Его застрелила Вероника Полонская, но дух его мечется над нашей родиной, находя пристанища в неокрепших поэтических душах, например, в душе вашего друга. Наша задача – изгнать его оттуда…
– Ладно тебе, перестань, – перебивает её Татьяна, – может, лучше сядем?
Бегло осмотрев наши шмотки на предмет пропажи чего-либо, я принимаю приглашение, и вместе со стулом и недопитой кружкой перемещаюсь за столик к девушкам, на котором вижу два конусообразных бокала и тарелочку с орешками. Перехватив мой взгляд, Аня выдаёт:
– Абсент здесь не наливают. Наверное, поэтому тут читают такие дерьмовые стихи.
– Абсент? – не понимаю я.
– Напиток поэтов, – поясняет Татьяна.
– Ах да, «Зелёная фея»! Читали, читали… Только мне как-то ближе напиток не поэтов, а варваров.
– От абсента – стихи, а от пива – бодун и очередь в сортир, – презрительно роняет Анна.
И хотя её слова мне не особенно приятны, по сути, она права – очередь туда, откуда я только что вернулся, вызвана именно им.
– Как бы там ни было, – говорю я, поднимая кружку, – за наше случайное знакомство!
Девушки тоже поднимают бокалы и благосклонно со мной чокаются.
– А вы, Валерий, имеете какое-нибудь отношение к литературе? – спрашивает Аня, ловко закидывая в рот пару орешков.
– В некотором роде, – отвечаю я, – аз есмь писатель. Пишу роман.
– Тогда вам надо пить водку.
– А лучше всего, кальвадос, – поддакивает Татьяна, – без закуси.
– Не, кальвадос нельзя, – мотаю я головой из стороны в сторону, – «Триумфальная арка» получится.
Моя фраза почему-то вызывает у девушек необъяснимый восторг. Обе, как по команде, заливаются звонким, таким школьным смехом.
– Не получится! – сквозь него говорит Татьяна.
Я киваю в ответ: мол, понятное дело, не получится – какой из меня Ремарк. Наши с Татьяной взгляды встречаются, и в этот момент в моей голове проносится мысль о том, что передо мной сейчас не просто девушка, а «та самая», о которой я думал вчера на кухне.
«Так вот же она, – стучит у меня в голове, – вот она! Она! Она! Она…»
А девушка эта смотрит на меня с любопытством и хитринкой, которая так привлекает; во взгляде её – смесь кокетства, задора и интереса, будто она меня дразнит и одновременно изучает. Но я держусь, не отвожу взгляда от её серых, самую капельку раскосых глаз, в которых отражается огонёк коптящей на столе свечи, словно кто-то невидимый могучей пятерней держит меня за затылок, не давая малодушно уронить глаза в стол или отвернуться.
Откуда-то извне до меня доносится высокий Анин голос:
– Эй, про меня не забыли?
– Ну как про тебя забудешь! – на выдохе произносит Татьяна, и второй раунд гляделок заканчивается. Вничью.
Я прикладываюсь к кружке и делаю большой, должно быть, самый большой за сегодня, глоток. Затем ставлю кружку на стол и закуриваю. В голове творится что-то странное.
Появляется реанимационная бригада, мои друзья. Первым идёт Че, за ним, чуть пошатываясь, прилизанный мокрой пятерней Дон Москито, замыкает процессию чему-то улыбающийся Панк Петров. Все трое подходят к нашему столику.
– Я смотрю, ты времени даром не терял! – воодушевлённо произносит Че. – Не представишь нас дамам?
– Разумеется. – Я встаю. – Так, по порядку: Сергей, Николай, Олег. Они же: Че, Дон Москито и Панк Петров. А это, – показываю на девушек, – Анна и Татьяна.
Девушки синхронно кланяются, что выходит у них очень мило.
– Ну, с Анной мы все знакомы, – льстиво говорит Че, – прекрасные стихи.
– Спасибо, – кивает Анна, – не искренне, но, всё равно, спасибо.
Че пропускает её слова мимо ушей и делает небольшой шажок в сторону Татьяны.
– А вас я вижу впервые. Тоже пишете?
– Н-е-ет, – отвечает Татьяна с ухмылкой, – упаси бог. Моё отношение к поэзии ограничивается дружбой с поэтессами.
– И поэтами, – вставляет Аня.
– Ну, не без этого, – пожимает плечами Татьяна, – мне нравятся мужчины со странностями.
– Со странностями? Это ко мне! – восклицает Че, хватает свой стул и оказывается между нашими новыми знакомицами, причём ближе к Татьяне, от чего я испытываю несильный, но достаточно чувствительный укол ревности.
– Так, и в чём же странность? – по-медицински интересуется Татьяна, – Сергей, правильно?
– Да, в общем-то… – начинает Че.
– Серёжа у нас актёр, – встреваю я, – играет в театре.
– Надеюсь, не в анатомическом? – уточняет Анна.
– Нет, он лицедействует на четверть ставки в театре в прошлом красной, а теперь трёхцветной армии.
– Разрешите представиться: король массовки, – Че привстаёт и, махая русой чёлкой, словно поп кропилом, картинно кланяется по очереди вправо и влево, Татьяне и Анне. Девушки хихикают, а я переживаю второй, гораздо более ощутимый укол ревности.
– А вот этот молодой человек с боевой раскраской, которую заработал, защищая свою барышню от хулиганов – скульптор, – не давая девушкам сосредоточиться на Че, – говорю я, – ваяет, в основном, обнажённых дам, так что если хотите быть увековечены в мраморе или граните, милости прошу в натурщицы.
– Ну, насчёт мрамора ты загнул, и, тем более, насчёт гранита, – отзывается, закуривший одну из своих длиннющих сигарилл, Панк Петров, – я работаю в основном с песчаником, туфом, иногда с гипсом… а насчёт натуры, это да, всегда, пожалуйста. Моя студия к вашим услугам.
Девушки молча переглядываются. Че смотрит на меня с плохо скрываемым удивлением, я же отвечаю на его взгляд страшными глазами, в которых аршинными буквами написано: «Уйди, я её первый увидел!»
– Что же до нашего четвёртого друга, – показываю рукой на Дона Москито, – то, как вы уже догадались, он – поэт.
– Да, мы догадались, – кивает головой Татьяна.
– Слышали, – подтверждает Анна, – и видели.
– От лица компании прошу его извинить, – мёртвым голосом произносит Че, – он сегодня немного не в форме. Перебрал-с. Обычно Коля себе такого не позволяет, но сегодня, видимо, что-то не так на небосводе.
Услышав своё имя, Дон Москито поднимает на нас мутный, полный страданий взгляд, но уже через пару секунд его мокрая голова поникшим бутоном снова свисает с плеч. Девушки, чуть скривив лица, отворачиваются.
– Судя по содержанию его стихов, – на вдохе сообщает Анна, – у него личная драма. Возможно, в этом причина.
– Очень даже может быть, – соглашается Че, – он у нас нежный. Не мужчина, а облако в штанах.
Анна мечет на него негодующий взгляд, на что мы с Татьяной, предварительно переглянувшись, реагируем улыбами.
– Не вижу ничего смешного! – фыркает Анна.
– Я что-то не так сказал? – удивляется Че.
– Анна считает, что Маяковский убил русскую поэзию, – поясняю я, – и поэтому ненавидит всё, что с ним связано.
– Не совсем так, – чуть успокоившись, произносит Анна, – но, по сути, верно.
– Простите великодушно. – Че прикладывает сложенные руки к груди. – Не знал, что это для вас так важно. Чем я могу искупить свою бестактность?
– Разве что смертью, – сощурив глаза до щёлочек, сообщает Анна после секундного раздумья. – Скажите, а в театре, где вы служите, ставят Маяковского?
– Это «Клопа», что ли? – уточняет Че. – Или эту, как её, «Баню»?
– Не только, – кивает Анна, – ещё бывают спектакли по мотивам его поэм.
Че сосредоточенно трёт лоб.
– Нет, ничего такого у нас не ставят. Раньше, может быть, но не теперь. Сейчас идут: «Мария Стюарт», «Гамлет», «На бойком месте» и «Мастер и Маргарита». Я в нём, кстати, задействован…
– «Мастер и Маргарита»? – в унисон спрашивают девушки.
Видимо, почувствовав интерес к себе, Че принимает академическую позу.
– Да, да, я знаю, спектакль очень сложный, – с апломбом вещает он, – но в нашем театре ставили и не такое. Может быть, вы слышали, в восьмидесятые был такой спектакль…
Анна перебивает его.
– А кто играет Маргариту?
– Воробьёва, – удивлённо отвечает Че, – Гиена, в смысле, Елена Львовна. А что?
– Эта та, которая в «Гусар-девице», что ли играла? – спрашивает Татьяна.
– Она, – кивает головой Че.
– Так ей же сто лет в среду! – кричит Анна. – Какая из неё Маргарита?
Че разводит руками:
– Какая есть. У нас говорят: «Возраст для актрисы не главное, главное, чтобы её муж был директором театра».
Девушки задорно смеются, а вот мне не до смеха. Ревность тонюсенькой, но чертовски острой шпажкой колет меня под ребра слева после каждой удачной реплики Че, который подводит свой спич про театр к логическому завершению.
– Кстати, если у вас есть желание лицезреть госпожу Титову в образе Маргариты Николаевны, – вкрадчиво начинает он, – а заодно и вашего покорного слугу в роли третьего легионера в пятом ряду, буду счастлив устроить вам контрамарки.
Девушки снова переглядываются. По выражению их лиц я пытаюсь понять, какова будет реакция на предложение Че, что у меня, разумеется, не получается.
– Мы на секундочку вас покинем, – объявляет Татьяна, делая глазами знак Анне.
– Да, надо припудрить носик, – откликается та. – Мы быстро.
Девушки встают и, взяв сумочки, направляются в сторону уборной. Мы провожаем взглядами их удаляющиеся тылы. Девушки движутся строем «пеленг», давая нам возможность всё внимательно рассмотреть и сравнить. После того, как они выходят из нашего поля зрения, Панк Петров также отбывает в, как он выразился: «тронный зал», оставляя нас с Че наедине. Чуть тёплый Дон Москито не в счёт.
– Ну и чего ты завёлся? – вопрошает Че после долгого и неудобного молчания.
– Ревность, – отвечаю я, чувствуя приливающую к лицу кровь.
– Понятно, – кивает головой он, – запал, что ли?
– Ещё не знаю, – честно признаюсь я, – просто, понимаешь…
Че делает снисходительный жест рукой:
– Валер, это называется: «чувство собственника».
Он абсолютно прав, и от понимания этого мне становится ещё гаже.
– Называй, как знаешь, – бурчу я в ответ.
Че только пожимает плечами: мол, всё равно.
Напряжённое молчание продолжается. Смотрю на дверь женской уборной, в надежде, что та распахнётся и явит наших новых знакомиц, но та остаётся закрытой. Проходит ещё некоторое время в молчании.
– Интересно, чего они так долго? – наконец, не выдерживаю я.
– Надо полагать, общаются, – невозмутимо отвечает Че.
– Интересно, о чём?
– О нас, скорее всего. Распределяют цели.
– Может, и мы с тобой распределим?
Че смотрит на меня с неподдельным удивлением.
– Да не нужна она мне тысячу лет! И прекрати вести себя, как идиот, ладно?
Киваю в знак согласия. Я не верю тому, что он говорит, но правду выяснять не хочется. Через минуту возвращается помрачневший Панк Петров.
– Где бабы? – спрашивает он, зевая.
– Ещё не вернулись, – отвечает Че.
– Понятно, а вы чего такие кислые?
– Цели распределяли, – поясняю я.
Лицо Петрова вытягивается:
– А мне-е-е-е?
– У тебя рука в этом самом… – говорит Че совершенно серьёзно, – давайте решать, что будем делать с Колей.
Смотрю на Дона Москито, и понимаю, что он совсем плох, и с ним действительно надо что-то делать. Раньше он достаточно уверенно держался в седле, то есть на стуле, теперь же это получается у него совсем плохо – он вот-вот завалится на бок. Только поддержка подошедшего Панка Петрова спасает его от второго за сегодняшний день падения.
– Да, надо бы его на воздух, – заключает Че.
– Может, лучше сразу домой? – предлагает Панк Петров, с трудом удерживающий Дона Москито в состоянии неустойчивого равновесия.
– Согласен, – говорю я, – кто его повезёт?
– Один не справлюсь, – стонет Панк Петров, – он тяж-ж-жёлый.
– Если уходить, то всем, – подытоживает Че, – возьмём вскладчину мотор.
Я соглашаюсь, хотя такой исход дела для меня не особо выгоден – Татьяна будет для меня наверняка безвозвратно потеряна, хоть и не достанется никому из нас. В смысле, нас с Че. «Бесприданница», блин.
– Тогда давайте расплатимся, – говорю я, сжигая, таким образом, за собой мосты.
Че высоко поднятой рукой подзывает официантку. Та появляется довольно быстро с кислой миной на лице и какой-то тряпкой в руках.
– Девушка, посчитайте нас, пожалуйста, – произносит он, улыбаясь. – И, если можно, побыстрее.
– Оба столика вместе? – уточняет подобревшая «девушка».
Мы переглядываемся.
– Да, сделайте общий счёт, – уверено заявляет Че, и, обращаясь к нам: – Сделаем девушкам приятное.
– Ты уверен? – осторожно интересуется Панк Петров, когда официантка, лихо вильнув кормой прямо перед нашими физиономиями, уходит. – Может, они до этого «Курвуазье» пили?
– Честно говоря, я ни в чём не уверен, но, как говорится, кто не рискует… да и «Курвуазье» тут не подают.
Возвращается официантка со счётом. Че берет небольшую кожаную книжечку и с умным видом изучает содержимое. Мы с Панком Петровым замираем в ожидании.
– А девушки, оказывается, на диете, – объявляет Че, – два Мартини и пакетик арахиса.
Панк Петров облегчённо выдыхает.
– Джентльмены, с нас тысяча сто рупий за всё, из чего следует, что с носа примерно по триста. За Колю, так и быть, плачу я.
Мы лезем за бумажниками и отсчитываем требуемую сумму. Че вкладывает всё вместе в книжечку, и, подумав немного, добавляет ещё.
– На чай, – поясняет он.
Официантка забирает счёт ровно за секунду до того, как на горизонте появляются девушки. Татьяна идёт впереди, Анна следом. Мы поднимаемся.
– Дамы, ваше общество прекрасно, но долг зовёт, – говорит Че, когда те подходят.
– Что-то случилось? – спрашивает Анна.
– Ничего страшного, – отвечает он, – просто Колю нужно везти домой.
– Благородно, – говорит Татьяна.
– Да, очень, – поддакивает Анна, – нажравшихся друзей надо выручать.
Мы пожимаем плечами, мол, ничего не поделаешь.
– Тогда, до свидания, Лерик, – с грустью в голосе говорит Татьяна и протягивает мне ладонь.
Во второй раз за вечер прикасаюсь к её руке и вдруг чувствую, как мне в ладонь ложится что-то плоское и квадратное. Смотрю на Татьяну и вижу в её глазах знакомый лукавый блеск.
– До свидания, мадемуазель, – картинно раскланиваюсь я и сую то, что получил, в карман.
«Хач-мобиль» подъезжает к тому месту, где мы стоим, кажется, даже раньше, чем Че поднимает руку.
– Новогвинеево[5], двести, – заявляет он голове лица кавказской национальности, высунувшейся из опущенного окна.
– Куда в Новогвинэево? – уточняет голова.
– Улица Молостовых.
– Двэсти пэтдэсят.
Че утвердительно машет рукой, и с сарайным скрипом открывает пассажирскую дверь «Хач-мобиля». Мы втроём садимся сзади. Первым залазит Панк Петров, затем мы общими усилиями заносим внутрь Дона Москито, а уже после залезаю я.
В машине жарко. Пахнет табачным дымом и освежителем воздуха. Дон Москито почти сразу роняет голову мне на плечо и, кажется, засыпает.
– Пеэрэбрал да? – спрашивает повернувшаяся к нам голова лица.
– Есть немного, – отвечаю я, с трудом поборов желание скопировать акцент.
– Блэвать нэ будэт?
– Не должен, – заверяет Панк Петров, предварительно осмотрев Дона Москито, – но мы проследим.
Удовлетворённая ответом, голова отворачивается.
Сделав разворот на пятачке, «Хач-мобиль» выруливает на улицу Герцена, которая теперь Большая Никитская, затем на Моховую, где сразу же уходит в левый ряд.
За окном начинает мелькать замёрзшая и грязная Москва.
– Курить можно? – опережает меня вопросом Панк Петров.
– Курыте, пацаны, – отвечает голова.
Закуриваем. В машине становится совершенно нечем дышать, и Панк Петров опускает стекло со своей стороны, а я со своей. Холодный ветер хлещет меня по щёкам, немного отрезвляя.
Терпение лопается, когда мы выезжаем на шоссе Энтузиастов. Запускаю руку в карман и достаю оттуда то, что мне всучила Татьяна – сложенный вчетверо листок. Аккуратно, чтобы никто не видел, разворачиваю: семизначный номер и подпись «Т. А.»
Смотрю в окно на ночную Москву, которая, оказывается, так прекрасна.
3
Утро понедельника. Весь наличный состав фирмы «Регейн» стоит перед большим зеркалом, в которое обычно смотрятся клиенты. На каждом из нас надеты оправы из недавно полученной детской коллекции нашего любимого испанского поставщика. Маленькие и разноцветные, они выглядят на наших широких лицах до того комично, что выдержать такое зрелище, не рассмеявшись, под силу не каждому.
Это развлечение, которое по аналогии с известной японской игрой называется «Каменное лицо», придумал сам Востоков, когда мы однажды всей фирмой примеряли свежеполученные оправы. Правила просты: можно вытворять всё, что угодно, чтобы рассмешить соперника, единственное условие – делать это молча. Проигравшим считается тот, кто первый «расколется»: засмеётся или просто не сможет сдержать улыбки. В качестве наказания несчастный покупает всей фирме обед.
Идёт вторая или третья минута поединка, но победитель не только не выявлен, нет даже ярко выраженного лидера. Все, включая вашего покорного слугу, держат невероятный серьёз. И тогда Востоков пускает в ход до сего момента никем не применённое оружие: для отвлечения нашего внимания он закладывает на лице страдальческую мину, а в это время сам тихонько расстёгивает штаны. Щелкает застёжка ремня, и его брюки стремительно падают на пол, обнажая тощие кривоватые ноги, местами покрытые пегой растительностью. От неожиданности мы втроём – Климов, Розов и я – синхронно «раскалываемся». Нас складывает пополам и начинает трясти. В этот момент дверь в шоу-рум приоткрывается и внутрь просовывается удивлённая Зоина физиономия. На ней сменяется несколько совершенно разных выражений, пока Зоя, кажется, совершенно искренне ни произносит следующее:
– Господи, Игорь, какой ты худой!
Всю эту сцену я наблюдаю уже с пола, поскольку находиться в вертикальном положении невозможно. Хохот, который уложил меня на пол, теперь заставляет биться в конвульсиях. Примерно то же творится с коммерческим и техническим директорами, которые корчатся по обе стороны от меня. Один Востоков на коне. Как ни в чём не бывало, он продолжает беседовать с Зоей.
– Видишь ли, Зоя, – продолжает он, не снимая очков и не подтянув брюк, – я искренне полагаю, что именно смех сделал из обезьяны человека, а не труд, как считал Энгельс. Поэтому то, что ты сейчас наблюдаешь, есть не что иное, как болезненное превращение офисных павианов в homo sapiens.
Зоя недовольно фыркает:
– И для этого ты снял штаны?
Игорь расплывается в улыбке:
– Эволюция, Зоя, требует жертв.
Так и не поняв юмора, и, видимо, забыв, зачем приходила, Зоя задним ходом покидает шоу-рум.
К этому моменту нас потихонечку отпускает. Помогая друг другу, мы с трудом поднимаемся с пола. Тяжелее всего пришлось, по-видимому, Игорю номер два – его ещё потряхивает; лицо, как помидор, красное, в глазах слёзы. Мы с Олегом тоже хороши, но до Игоря нам далеко.
– Вот ведь засранец! – только и может выговорить тот, имея в виду Востокова.
А надменный победитель с сигаретой в одной руке и зажигалкой в другой уже сидит, нога на ногу, на краешке своего стола.
– Ну что, несчастные, – победоносно объявляет он, закуривая, – я бы с удовольствием отобедал. Разумеется, если вы не против.
– Что предпочитает в это время суток ваше генеральское директорство? – спрашивает, подскочивший к нему Розов, принимая лакейскую позу.
Игорь начинает загибать пальцы.
– На первое – суп из Галапагосской черепахи, на второе – слоновьи уши с трюфелями, на третье – кофе «Лювак» и печёные Гесперидовы яблоки на десерт.
– К сожалению, могу предложить только быстрорастворимую лапшу «Китайский мальчик», пирожки с мясом инопланетянина и чай «Липкий», – не меняя позы, произносит Розов, – да, и ватрушка на десерт, от которой меня вчера пронесло.
– Меня тоже, – из-за угла подтверждает Климов.
Востоков делает презрительный жест рукой:
– Подите прочь, болваны! Несите, что есть!
Идти за едой приходится мне, поскольку я самый младший. Меня просто снаряжают деньгами и задают направляющий косинус.
Еду в нашем здании можно купить только в одном месте – в стеклянном ларьке на первом этаже, рядом с будкой охраны. Там-то и продаётся чудесная и необыкновенно полезная быстрорастворимая лапша, на упаковке которой изображён маленький улыбающийся китаец, из-за чего, собственно, она и получила своё название. Ещё в ларьке можно купить нехитрую и не всегда свежую выпечку, чай в пакетиках, растворимый кофе и сахар. Несмотря на ущербность ассортимента, ларёк процветает – в обеденный час туда всегда выстраивается очередь. Причина проста: у данного предприятия нет конкурентов, ни в нашем здании, ни в соседних. Невидимая рука рынка по какой-то причине ещё не дотянулась до «Гипромедтехники» и окрестностей. Так что у нас нет выбора, а идти по морозу до «Калужской заставы» или в какой-нибудь ресторан на улице Намёткина, откровенно говоря, лень.
Сегодняшний день – не исключение. От ларька тянется приличный хвост из голодных офисных служащих. Некоторых из них я знаю, в основном, по этой очереди, с некоторыми знаком по работе. А вот продавщица новенькая, я её ещё не видел. Из вежливости спросив, кто последний, пристраиваюсь в конец.
От нечего делать смотрю на продавщицу, рассчитывающую парня с третьего этажа, кажется, Сергея. В профиль она похожа на Изабеллу Росселин из «Синего бархата». Приятная женщина. Не красавица, но приятная. Вот и продавщицу красавицей не назовёшь, но что-то в ней такое есть… и тут я вспоминаю, что так не позвонил по телефону, который мне дала Татьяна.
«Неужели потерял?» – с ужасом думаю я, запуская руки в карманы.
К счастью, поиски длятся недолго – сложенный вчетверо листок довольно скоро обнаруживается в заднем кармане брюк. Достаю его, и, чтобы убедиться, что это тот самый, а не какой-то ещё, раскрываю…
– Чего, деньги забыл? – слышу из-за спины.
Машинально прячу листок обратно в карман и оборачиваюсь. Оказывается, за мной стоит наш конкурент, хозяин фирмы «Оптика Тайдзо», некто Эдуард, которого у нас почему-то называют «похотливым». На нём фиолетовый пиджак, белая с отливом рубашка, и жёлтый галстук, покрытый замысловатым орнаментом.
– Нет, – медленно приходя в себя от увиденного, отвечаю я, – показалось, что потерял список того, что надо купить.
– По-ня-т-но, – нараспев говорит Эдуард, – а то могу одолжить, для конкурентов ничего не жалко.
С этими словами он выуживает из кармана перехваченную резинкой пачку «зелёных».
– Спасибо, не надо, – вложив всё имеющееся у меня безразличие во взгляд на пачку, отвечаю я, а сам думаю: «Вот ведь козел! Хлебом не корми – дай повыпендриваться».
Но Эдуард, к счастью, мысли читать не умеет. Довольный собой, он улыбается.
– О’кей, мистер, – говорит он с нижегородским прононсом, – тогда привет Игорям.
Кивнув в знак понимания, отворачиваюсь от щедрого конкурента и снова достаю листок. Открываю.
Почерк аккуратный, не то, что у Светки: цифры написаны с небольшим одинаковым наклоном, подпись – «Т. А.» – имеет разумное количество женских завитушек. «Т» – это, понятное дело, Татьяна, «А» – соответственно, фамилия. У Светки тоже фамилия на «А» – Аннушкина. Может, это что-то значит?
«А ведь странное дело, – оторвавшись от графологии, думаю я, – одна девушка навела меня на мысли о другой, а другая о третьей…»
Незаметно подходит моя очередь. Спина в сером свитере, которую я наблюдал последние десять минут, с пакетом наперевес отваливает прочь, и вместо неё передо мной утомлённое личико «Изабеллы Росселини».
– Что будете брать, молодой человек? – устало спрашивает она.
– А пирожки с кем? – вместо ответа говорю я, окончательно вернувшись из забытья.
– Сложно сказать, – пожимает плечами девушка, – по накладной с говядиной, по вкусу, вроде, с курицей, а по запаху…
– С инопланетянином, – вставляю я.
Девушка улыбается:
– Может быть…
– Тогда, будьте добры, четыре «Китайских мальчика», четыре вот этих пирожка и четыре рогалика. И ещё ваш пакетик.
Девушка собирает заказ, не снимая улыбки.
– Ой, а рогаликов всего два осталось, – виновато произносит она. – Может, возьмёте ватрушки? Они, правда, вчерашние, но вкусные.
Я поднимаю руки:
– Нет, только не ватрушки! Давайте лучше ещё два с инопланетянином!
Девушка непонимающе раскрывает глаза.
– Ватрушки мы ели вчера, – поясняю я, – и не всем, так сказать, понравилось…
– Хорошо, возьмите тогда булочки с джемом, их только что привезли.
– Давайте с джемом, – соглашаюсь я.
Девушка ловко цокает пальчиками по клавишам видавшего виды калькулятора.
– С вас сто пятьдесят рублей сорок копеек за всё.
Расплачиваюсь под расчёт и получаю в знак благодарности приятную улыбку, надо полагать, искреннюю. Сделав несколько шагов от ларька, оборачиваюсь. Эдуард, по пояс просунувшийся в ларёк, уже о чём-то воркует с продавщицей.
«Теперь понятно, откуда взялось прозвище», – думаю я и иду к лифту.
С поклажей возвращаюсь в офис. Голодные коллеги, словно коршуны, набрасываются на мой пакет, и скоро по шоу-руму расползается запах свежезаваренного «Китайского мальчика». Я тоже заливаю кипяток в пенопластовый стакан с лапшей, беру булки и сажусь на один из свободных «гостевых» стульев рядом с окном. Не знаю, почему, но мне нравится есть и одновременно смотреть в окно. Хотя, если честно, смотреть особо не на что: скала «Газпрома» на заднем плане, свалка и гаражи на переднем. Сверху усталое московское небо.
– На что уставился? – спрашивает меня подошедший сзади Климов.
– На «Газпром», – отвечаю я. – В те три минуты, пока заваривается китайская лапша, я всегда смотрю на это сооружение. Оно напоминает мне наивного титана Атласа, который на своих плечах держал небо.
Климов понимающе кивает:
– А мне оно напоминает хрен, которым сношают всю страну и ближнее зарубежье.
– Да вы, батенька, фрейдист! – усмехаюсь я.
– Я – реалист, Валер, – немного высокомерно отвечает Климов, – а вот ты, кажется, ещё не избавился от романтического бреда.
– А ты, надо полагать, уже избавился?
Игорь снова кивает:
– Ещё в армии. Я даже помню, когда именно.
– И когда же?
– Когда трое нетрезвых военнослужащих второго года службы сначала пытались склонить меня к минету, а потом изнасиловать.
Его слова заставляют меня широко открыть глаза и рот:
– Что, серьёзно?
– Абсолютно. Я тогда, понимаешь, «молодой» был. Худенький, маленький.
– И чем, извини, закончилось?
Игорь не по-доброму улыбается:
– Отбился. А потом одному из этих трёх ночью по башке табуреткой вмазал. Чтобы спалось лучше.
Мне ничего не остаётся, кроме как многозначительно покачать головой:
– Да уж, непобедимая и легендарная. Слава богу, сия чаша меня миновала.
– В мирное время не годен, в военное время опасен? – уточняет Игорь.
Приставляю два пальца к стёклам очков:
– Да, по глазам.
– На самом деле не всё так плохо. Армия, конечно, может сломать, а может и человека сделать. Это как повезёт. Мне, например, повезло.
– Скажи, а когда ты сам стал военнослужащим второго года службы, ты склонял к чему-нибудь «молодых»?
Игорь усмехается:
– Я знал, что ты об этом спросишь. Нет, не склонял. «Дедовал» помаленьку, но ничего такого. Угрызения совести не мучают, кровавые мальчики в погонах по ночам не посещают.
Смотрю на Игоря, и вдруг понимаю, как я на самом деле далёк от этого человека. Во всех смыслах. А ведь ему, как и остальным моим шефьям, всего-то тридцать.
«Неужели, и я скоро таким буду? – думаю я. – Избавлюсь ли от романтического бреда в пользу капиталистического реализма?»
Игорь начинает нетерпеливо потирать руки:
– Ладно, хватит трепаться, давай жрать, а то остынет.
– И то верно, – говорю я и, тщательно протерев салфеткой вилку и ложку, принимаюсь за еду.
Дверь открывается, когда с трапезой практически покончено. Первой в шоу-рум уверенной походкой входит Зоя, а за ней лёгкой рысцой забегает какая-то женщина в длинном пальто и с кошмаром на голове.
– Фу-у-у, китайское зловоние! – морщится Зоя, помахивая ладонью перед носом, и, обращаясь к женщине, говорит: – Вот, это и есть фирма «Регейн».
Женщина кивком головы благодарит Зою и обводит шоу-рум цепким взглядом чуть прищуренных глаз. По очереди проходится она по всем нам, на долю секунды задерживаясь на каждом.
– Вы, наверное, директор, – с недобрыми нотками в голосе произносит она, остановившись на Востокове.
– Да, это я, – говорит он, поднимаясь со стула и закрывая собой разбросанные по столу объедки, – чем могу служить?
Женщина делает несколько быстрых шагов в его сторону.
– На прошлой неделе к вам приходил инспектор пожарной охраны? – отрывисто спрашивает она.
– Да, было дело, – почти сразу отвечает Игорь, – а в чём, собственно…
– Вы дали ему это! – не даёт ему закончить женщина и резким движением выхватывает из кармана пальто продолговатый предмет, в котором я не сразу, но узнаю очечник.
От неожиданности Игорь вздрагивает, но вовремя берёт себя в руки.
– Действительно, мы преподнесли инспектору солнцезащитные очки в качестве подарка ко дню пожарной охраны, – соглашается он, – но я положительно не понимаю, в чём дело?
– А дело в том, что моему мужу не нужны эти очки! – взвизгивает женщина. И, после паузы: – Очки нужны мне!
В шоу-руме повисает молчание. Мы, ошарашенные напором пожарницы, молчим; она сама, видимо, испугавшись собственной наглости, тоже.
– Нельзя ли их обменять? – наконец произносит она почти извиняющимся голосом.
Игорь моментально оценивает ситуацию и расплывается в кошачьей улыбке:
– Разумеется, можно. Пальто вот сюда повесьте…
Пока Игорь помогает гостье раздеться, мы с Олегом быстро убираем со столов стаканы из-под лапши и прочий мусор, оставшийся после приёма пищи.
Я вспоминаю, что на прошлой неделе, кажется, во вторник, у нас действительно был с официальным визитом местный инспектор пожарной охраны, высокий седой мужик с военной выправкой. В процессе осмотра нашего офиса у него, естественно, возникли некоторые вопросы, и, чтобы они не так бросались в глаза, Игорь подарил ему тёмные очки из коллекции «Lois», в которых тот стал похож на героя боевика. Фактически, это была взятка, но другого выхода у нас не было – устранить то, что обнаружил у нас пожарный, в разумные сроки и за разумные деньги не представлялось возможным. Наш гость, кстати, остался весьма доволен подарком, видимо, ему до смерти надоел «Белый аист», который ему совали в других конторах.
– А когда этот день пожарной охраны? – тихо, чтобы не услышала гостья, спрашиваю я Олега.
– Тридцатого апреля, кажется, – отвечает тот и, немного подумав, добавляет: – рановато подарили…
В это время Игорь подводит разоблачившуюся пожарницу к самой крайней выставочной стойке, где висят недорогие оправы, но та, ведомая женским чутьём проходит мимо и устремляется к другой, с оправами «побогаче».
– Мне нравятся вот эти, – показывает она пальцем на искрящуюся в электрическом свете оправу коллекции «Pertegas», золотую со стразами «Swarovski» на заушниках. Ну, и, соответственно, дорогущую – целых сто десять у.е.
– Боюсь, она слишком вызывающая, – Игорь мягко уводит пожарницу в глубь шоу-рума, – такие у нас только торговки с рынка берут. Попробуйте лучше эту.
Пожарнице на голову водружается оправа попроще, из коллекции «Oh!» всего за пятьдесят условных единиц. Подведя не успевшую опомниться клиентку к зеркалу, Игорь давит на самую главную кнопку.
– Эта модель имеет замечательное свойство, – вкрадчиво произносит он, – женщины в ней выглядят моложе.
Пожарница тает на глазах. Готовность к отражению хамских выпадов, ровно как и к совершению оных, с которой она вошла в шоу-рум, уже не просматривается. Во всём её поведении чувствуется предвкушение маленького женского счастья. Теперь она ведёт себя, как любая другая тётка – вертится перед зеркалом, нацепив на голову оправу, которая, со слов Игоря, делает её моложе. Кажется, она уже и сама в это верит.
– Дизайн модели разработан в Париже специально для женщин, которым немного за тридцать, – мурлычет ей на ухо Игорь, – она идеально подходит к такому типу лица, как у вас. Эффект омоложения достигается в первую очередь за счёт использования так называемых экологических, то есть естественных цветов. Видите, оправа очень органично вписывается в контуры лица и почти незаметна на коже?
– Да… – еле слышно отвечает пожарница.
– И ещё, в Москве таких оправ всего две, – Игорь делает долгую паузу и поправляется: – нет, одна. Валерия Мацца уже уехала.
– А кто это, Валерия Ма…?
– Это та блондинка, которая снималась с Бандерасом в рекламе колготок «Сан Пелегрино». «Нашу любовь не разорвать никогда», помните? Вот она у нас здесь, в красном углу.
Игорь указывает рукой на постер, с которого на нас поверх маленьких очёчков взирает обозначенная модель, насколько мне известно, никогда не бывавшая в Москве. Да и очки на ней совсем не те, которые впаривает пожарнице Игорь.
– Ах, да, точно, – шепчет жертва, – похожа…
Игорь аккуратно снимает с её головы оправу и укладывает в очечник.
– К этому очечнику у нас идёт салфетка с микрофиброй, – говорит он, – лучшая на сегодняшний день защита линз от пыли мегаполиса.
Пожарница, которая уже в одной трамвайной остановке от оргазма, смотрит на Игоря полными подросткового тумана глазами; Игорь отвечает ей спокойным взглядом профессионального вруна. Пока та не опомнилась, он помогает ей одеться и, не дав положить глаз на что-нибудь ещё, плавно выпроваживает из офиса.
– Разработан в Париже специально для женщин немного за тридцать, говоришь? – спрашивает его Климов, когда тот возвращается на рабочее место. – И что это за экологические цвета?
– Врать надо поэтично, Гарри, особенно женщинам, – отвечает тот, закуривая. – Разве ты не понимаешь, что враньё – это искусство?
– Ещё один романтик, – вздыхает Климов, – Гарри, почему ты её просто не выставил?
– Ты что, сдурел? – удивляется Востоков. – Хочешь навсегда испортить отношения с пожарным? Кроме того, мы остались в выигрыше. Солнцезащитные очки стоят дороже, чем тот «Oh!», что я ей впарил.
– И этого человека ты только что назвал романтиком? – вырывается у меня.
Климов открывает рот, чтобы что-то мне ответить, но Востоков его опережает:
– Валера, романтика, – говорит он, подавив улыбку, – всего лишь идеализация ужасающей действительности, и никто не запрещает с её помощью зарабатывать деньги. А женщины, как тебе должно быть известно, наиболее падки на романтическую белиберду, и нам, мужчинам, сам бог велел этим пользоваться. Так что романтика – обратная сторона прагматики.
– То есть ты – прагматик?
Востоков теперь улыбается во весь рот:
– Нет, Валера, я именно романтик, поскольку, пусть на короткое время, но создаю для женщин идеальный мир, в котором они красивы и желанны. Я дарю им счастье, понимаешь?
– Продаёшь, – уточняю я.
Игорь отрицательно мотает головой:
– Именно что даю. Счастье невозможно продать. Полученные от них деньги – это гонорар за спектакль.
Наш разговор прерывается резким щелчком открывающейся входной двери. Поворачиваем головы на звук и видим вошедшую девушку, лицо которой кажется мне знакомым. Приглядевшись, я соображаю, что это та самая девушка, насчёт которой поспорили мои шефья.
– Я пришла, – прямо с порога заявляет она. – Мне нужны одни очки, чтобы выглядеть как стерва, и вторые, чтобы я была похожа на маленькую девочку.
Игорь принимает задумчивую позу.
– Другими словами, вы хотите, как и все женщины, иметь в своём арсенале образ херувима и дьяволицы? – уточняет он.
– Ну да, – пожимает плечами девушка. – А что тут такого… Это можно сделать?
Востоков разводит руками, словно радушный хозяин:
– Ну, разумеется! Для этого мы тут и сидим, добро пожаловать в сказку!
Девушка уверенно проходит вглубь шоу-рума. Игорь принимает у неё дублёнку, и, когда гостья поворачивается к нам спиной, делает в отношении Климова жест, который в новые времена стал означать намерение кого-либо позвонить кому-либо по телефону, а в старые означал предложение выпить. На что Климов отвечает жестом, которым по слухам японские проститутки заманивают клиентов, проще говоря, кукиш.
– Как свидетель пари, могу засвидетельствовать ваш проигрыш, сэр, – говорю я ему тихо, чтобы не было слышно в зале, – поэтому считаю ваш жест неуместным.
– Да иди ты! – отмахивается он от меня. – Это же не ты бутылку Смирновки проиграл.
– Две бутылки, – поправляю я, – сегодня понедельник.
– Вот непруха, – сквозь зубы цедит Климов, – целых две бутылки…
Будто услышав нас, Востоков поворачивается и высовывает на полную длину розовый язык.
– Во всём нужно видеть хорошую сторону, – говорю я, не меняя тона, – будет лишний повод выпить хорошей водки. Вряд ли господин генеральный директор выжрет целый литр в одно лицо.
– Тоже верно, – вздыхает Климов, – хотя, как знать…
Игорь в это время трудится над гостьей. Первую пару очков он подобрал ей без труда, так что дьявольский лик той уже обеспечен, осталось только решить вопрос с ангельским. А с этим возникают некоторые проблемы, поскольку девушкино личико давно и навсегда растеряло все ангельские атрибуты, если таковые вообще присутствовали. По мне так она похожа на повидавшую виды кошку, что и обусловило лёгкость подбора ей «инфернальной» оправы.
– Думаю, вам стоит поменять причёску, – предлагает Игорь, – как вы на это смотрите?
– Забрать всё назад, или вообще сделать хвост, – отзывается девушка. – Вот так?
Она показывает, как примерно это будет выглядеть.
– Нет, назад не надо, – задумчиво произносит Игорь, – у ангелов хвоста быть не может, это аксессуар совсем других персонажей. Давайте лучше волосы совсем распустим и немного распушим.
Девушка делает, что ей говорят. Заколка, которая держала её причёску, ложится рядом с оправами. Волнистые светло-русые локоны рассыпаются по плечам. Девушка достаёт из сумочки расчёску и в несколько взмахов приводит волосы в распушённое состояние.
– Теперь сотрите помаду, – Игорь протягивает ей оставшуюся с обеда салфетку.
Девушка повинуется.
– А теперь попробуем вот эту оправу. – Игорь протягивает девушке тот же самый «Oh!», который несколько минут назад втюхал пожарнице.
– Ну как? – спрашивает он.
– Охренеть, – только и может сказать девушка, – нет, правда охренеть!
Преображение действительно потрясающее. Правда, я не совсем уверен, что достигнуто оно исключительно оправой, но факт остаётся фактом: девушка из инфернального персонажа превратилась в практически небесный. Мы с Климовым и Розовым в восхищении аплодируем. Востоков картинно кланяется:
– Некоторые называют это чудом, а я называю это работой.
Какое-то время девушка любуется собой в зеркале, потом, будто опомнившись, спрашивает:
– Сколько с меня?
– Два раза по пятьдесят пять за всё, – чётко отвечает Игорь, – по курсу – шесть двадцать.
– Спасибо, я помню. – Девушка достаёт из сумочки новенькие доллары. – Вот как раз без сдачи, сто десять.
Игорь берёт из её рук деньги.
– Вы что, там у себя их печатаете?
– Храним, – отвечает девушка, – я в банке работаю.
– В каком, если не секрет?
– «СБС-Агро».
– Подумать только, какое совпадение! – Игорь складывает ладони, будто собирается молиться. – Мы держим у вас наши капиталы.
– Приятно слышать, – улыбается девушка, – а можно получить какой-нибудь платёжный документ?
– Валера, приходничек! – командует Востоков.
Я выписываю приходный ордер и отношу девушке. Та пробегает по нему глазами, попутно смерив меня оценивающим взглядом.
– Спасибо, вы очень любезны, – говорит она.
– Не за что, – отвечаю я, – некоторые называют это чудом, я называю это работой.
Девушка смеётся, как мне кажется, немножко ненатурально. После того как она успокаивается, мы раскланиваемся.
– Только не ходите с демонстрационными линзами, – на прощание говорит ей Игорь, – обязательно пойдите в оптику и вставьте «нулёвки».
Девушка кивает:
– Обязательно вставлю.
Игорь помогает ей одеться, после чего провожает до двери. Насколько мне видно со своего места, девушка покидает нас со счастливой улыбкой на лице.
– Ещё одна жертва обмана, – говорю я Климову, – сколько их ещё будет…
Тот отмахивается от меня: мол, отвали, без тебя тошно. Возвращается Востоков. Закурив сигарету, начинает расхаживать по шоу-руму с видом триумфатора.
– Ну что, бездари-охламоны-двоечники, поняли, как надо работать? – ковыряя указательным пальцем воздух, вещает он. – Вот это я и называю классикой! Высший пилотаж! Две цели за двадцать минут! И, я вам скажу, цели нетривиальные. Чего стоит одна моя идея с причёской… это было, как озарение… должно быть, так поэту приходит рифма, а писателю – единственно верная метафора…
Не в силах это терпеть, встаю, подхожу к нему и тихонько говорю на ухо:
– Игорь, ты человек…
Он моментально замолкает и становится серьёзным:
– Спасибо, что сломал кайф.
– Пожалуйста, – отвечаю я, – если что, обращайся.
– Ладно, хватит разводить ля-ля, – встревает в нашу беседу Климов, – Гарри, поехали в «Ломо-оптик» на Смоленскую. Олег, приготовь машину, а тебе, Валера, кажется, надо переводить инвойс.
– Ой, точно, совсем забыл! – мысленно стучу себя по лбу. – Сейчас переведу, там работы на семь минут.
Поездки в оптики, расположенные в центре, то есть в пределах Садового кольца, являются обязательными мероприятиями для такой фирмы, как наша. Как я уже говорил, «Регейн» – фирма оптовая, и своей розничной сети не имеет, поэтому для поддержания штанов моим шефьям приходится самим предлагать себя оптикам или аптекам с соответствующими отделами. Заниматься этим, понятное дело, лучше всего в центре, поскольку там самая торговля, и делать это нужно регулярно, иначе о тебе просто забудут. Поэтому после каждой новой поставки оба Игоря надевают свои лучшие костюмы, садятся в машину и объезжают по очереди все центральные оптики, демонстрируя тамошним директорам новинки европейского очкового рынка. Для таких поездок у нас даже имеется специальный чемодан, внутри которого есть выдвижные ящики с ложементами под оправы. С виду он как обычный дорожный, крупноватый, правда, а раскроешь, и можно прямо с него торговать. За это мы называем его: «Мечта спекулянта».
Сборы занимают у Игорей примерно полчаса. В «Мечту» кладутся все новые оправы, какие у нас есть, в том числе и те детские, в которых мы играли в «Каменное лицо». Ещё пятнадцать минут уходит на приведение себя в порядок и завязывание Климову моего галстука, поскольку тот почему-то явился сегодня без оного. Наконец, к двум часам всё готово к отъезду. Чемодан собран, шефья приведены в порядок, машина с Розовым внутри ждёт у главного входа «Гипромедтехники».
– Не вздумай смыться раньше, – говорит мне на прощанье Востоков, – мне было видение, что к концу рабочего к нам нагрянут клиенты.
Я беру под козырёк:
– Не извольте сомневаться, ваше генеральское директорство! От звонка до звонка!
– Гляди, проверю, – скептически прищуривает глаза Игорь.
– А мы ему из оптики позвоним, – предлагает Климов, – без пяти шесть.
– Меня оскорбляет ваше недоверие, господа директоры, – обиженным тоном заявляю я, – разве за мной водилось что-нибудь подобное?
Востоков многозначительно поднимает палец:
– Капитализм, Валера, есть учёт и контроль.
– Мне кажется, вы не очень верно цитируете классиков… – начинаю я, но в ответ слышу только хлопок входной двери. Шефья, наконец, отбыли.
«Контролёры хреновы, – устало думаю я – кто только вас будет контролировать…»
Обозначенный выше инвойс я перевожу, конечно, не за семь, а примерно минут за сорок. У меня уже раз десятый возникает желание позвонить Татьяне, но я дал себе слово, что позвоню только после того, как последнее английское слово в документе станет русским.
И вот, наконец, наступает момент, когда на экране не остаётся ни одной латинской буквы. Я отправляю документ на печать, и пока наш видавший виды «Epson» хлюпает дюзами, набираю номер, который успел запомнить. На том конце трубку поднимают мгновенно, будто сидящий там знал, что я позвоню именно в этот момент.
– Агентство «Идея – дисконт»! – слышу я бодрый женский голос. – Добрый день!
– Здравствуйте! – столь же бодро говорю я. – Будьте добры Татьяну!
– А вам какую? – уже не так бодро интересуются на том конце.
– Честно говоря, не знаю… – говорю я, мысленно разводя руками, – у неё фамилия на «А»…
– На «А» у нас только Аннушкина, – отвечает голос, и после паузы добавляет: – Это я.
Еле сдерживаюсь, чтобы не прыснуть в трубку.
– Привет, это Валерий, – сообщаю я настолько серьёзно, насколько могу.
– Валерий? Какой Валерий? – переспрашивает трубка.
– Ну, Лерик. Мы познакомились в «Жёлтой кофте», в пятницу. Тогда ещё Дон Москито, ну, мой товарищ, со сцены упал… а потом мы к вам подсели… Нас трое было, то есть с Доном Москито четверо, – достаточно сбивчиво поясняю я, и от глупости сказанного мне становится очень неловко.
В трубке слышится сначала молчание, а затем издевательский смешок.
– На самом деле, я сразу поняла, с кем говорю – у тебя голос очень необычный. Здравствуй, Лерик.
Камень, размером с вагон метро, всё время болтавшийся у меня в районе солнечного сплетения, отрывается и отчаливает в небытие.
– Привет, Тань – говорю я с облегчением, – как дела?
– Нормально. А у тебя?
– Тоже ничего. Я, это, звонил в выходные, только никто трубку не брал, – в порыве вдохновения вру я.
– Понятное дело, никто не брал, – хмыкает Татьяна, – это же рабочий телефон.
– Я думал, ты дала мне домашний.
– У меня почти нет домашнего телефона.
– Что значит, почти нет? – не понимаю я.
– Это значит, что телефон есть, но он спаренный, а соседка по нему постоянно треплется.
– Понятно. Тяжкое наследие советского режима.
– Можно и так сказать. – Татьяна делает долгую паузу, словно готовится сказать что-то очень важное, но произносит следующее: – Скажи мне, милый ребёнок, у тебя на сегодня какой план?
– Честно говоря, никакого, – отвечаю я, а сам быстро соображаю, сколько у меня наличных денег, – может, просто…
– Тогда, есть предложение, – обрывает меня она, – мне тут сказали, что в «Третьяковке» после реставрации открыли Врубелевский зал. Ты как насчёт Врубеля?
Избавляюсь ещё от одного вагона – билеты в Третьяковку я себе точно смогу позволить.
– «Демон», Врубель. Я бы дал больше, – говорю я голосом дорогого Леонида Ильича.
– Старо, – отрезает Татьяна, – так как?
– Я не против, даже за, но туда, небось, только часов до пяти пускают.
– Кассы работают до половины седьмого, я узнавала. Ты вообще где работаешь, и до скольких?
– На «Калужской» до шести. А ты?
– О! А я на «Ленинском», тоже до шести. Раньше смыться можешь?
В моей голове мгновенно прокручивается разговор с шефьями, точнее, та его часть, где они обещали меня проконтролировать.
– В принципе, могу… – не особо уверенно говорю я.
– Тогда так, – подытоживает Татьяна, – на «Третьяковской», которая на нашей ветке, у эскалаторов, в шесть пятнадцать. Идёт?
– Идёт, – отвечаю я, – только…
Короткие гудки не дают мне высказать сомнения в том, что мы не успеем.
«Странный, однако, получился разговор, – думаю я, аккуратно укладывая трубку на рычаг, – такое впечатление, будто Татьяна знала, что я позвоню. У неё в голове был чёткий план действий на вечер, да и то, что она работает со мной на одной ветке метро, тоже неспроста…»
Встаю и направляюсь к вешалке, где рядом с пальто на плечиках болтается мой коричневый «зимний» пиджак. Извлекаю из его внутреннего кармана бумажник и, о ужас! обнаруживаю в нем всего сорок рублей.
– Этого даже на Третьяковку не хватит… – произношу я вслух.
Некоторое время бессистемно перемещаюсь по офису в растерянности, пока ни соображаю, что занять денег можно у Зои. Разумеется, делать мне этого совсем не хочется, но другого выхода, похоже, нету. Надеваю пиджак и направляюсь к выходу. Проходя мимо зеркала, обнаруживаю, что на мне нет галстука.
«Ну всё одно к одному! – думаю я. – Не хватало ещё, чтобы Зоя куда-нибудь смылась».
К счастью, дверь с небрежно приклеенной на ней табличкой: «Косметика Балтии» оказывается незапертой. На радостях с силой дёргаю ручку на себя, и мой взгляд упирается в гостевой диванчик, на котором сидит Зоя в объятиях Эдуарда или, если быть более точным, Эдуард в объятиях Зои. Моя челюсть отвисает до мечевидного отростка, а застуканные мной любовники замирают в нелепых позах. Эдуард при этом делает такое глупое лицо, что мне становится одновременно смешно и страшно; Зоя сдавленно взвизгивает.
– Привет, – говорю я, даваясь со смеху, – давно не виделись.
– Ты. Это. Чего? – отрывисто спрашивает Эдуард, лихорадочно высвобождаясь от Зоиного захвата.
Я не выдерживаю и прыскаю в кулак. В это время Зоя с невероятной ловкостью для своих габаритов буквально выстреливает с дивана и, поправляя на бегу блузку и одёргивая юбку, исчезает в соседней комнате.
– Тебе чего? – повторяет свой вопрос, пришедший в себя Эдуард.
– Помнишь, ты мне в обед денег одолжить предлагал?
У Эдуарда расширяются глаза.
– Помню…
– Ну, я, типа, созрел.
Эдуард лезет в задний карман за бумажником, не глядя, вынимает оттуда несколько разномастных банкнот и протягивает мне.
– Надеюсь, увиденное не покинет пределов… – начинает он.
– Не бойся, не покинет, – подтверждаю я, – только можно у тебя ещё кое-что попросить?
– Что? – с тревогой в голосе спрашивает Эдуард.
– Галстук.
На станцию метро «Третьяковская» я прибываю ровно в шесть часов пятнадцать минут московского времени, для чего мне приходится отчалить с работы в половину шестого. Я не особенно беспокоюсь по этому поводу, хотя неприятный осадок присутствует. Даже не знаю, что мне будет, если Игорь выполнит своё обещание и проконтролирует меня. Оштрафует? Лишит премии?
К платформе с воем подползает переполненный поезд, облепленные изнутри расплющенными пассажирами двери распахиваются и практически пустовавшая до этого платформа наполняется людьми. Часть из них идёт на пересадку, другая – большая – на выход, то есть на меня. Мой взгляд мечется между лиц, идущих к эскалатору. В подавляющем большинстве лица молодые, людей в возрасте почему-то совсем мало. Всматриваюсь в каждую проходящую мимо девушку, и неожиданно соображаю, что не помню Татьяниного лица. Отчаянно пытаясь его вспомнить, закрываю глаза, но не тут-то было: как назло из памяти лезут другие, совершенно не относящиеся к делу женские лица. На переднем плане, конечно же, Светка, за ней по очереди ещё несколько персонажей из прошлого, а совсем сзади проплывает растрёпанная Зоя.
«Да что же со мной такое! – думаю я, мысленно возвращаясь на станцию. – Неужели так сложно вспомнить лицо девушки, которую видел всего три дня назад!»
Снова закрываю глаза, но опять ничего не выходит – образ Татьяны по-прежнему остаётся мутным или скрывается за другими; максимум, что удаётся – вспомнить её в профиль, так, как я её наблюдал в «Жёлтой кофте» до падения Дона Москито.
К платформе прибывает уже третий состав, но Татьяны всё нет. Мне начинает казаться, что она уже прошла мимо, а я её не узнал.
«Как же так можно! – сокрушаюсь я про себя. – Наверное, она тоже забыла, как я выгляжу, и прошла мимо. Надо было ей по телефону сказать, во что я буду одет…»
Четвёртый по счёту поезд подкатывает к платформе невероятно медленно, словно в намерении извести меня окончательно. Со знакомым с детства грохотом раскрываются двери, и из первого вагона в мою сторону выбегает высокая девушка в чёрном пальто и пёстром палантине на плечах. Полы её пальто на бегу весело развеваются, демонстрируя всем вокруг, и мне в том числе, серую выше колен юбку, высокие черные сапоги и кроваво-красную подкладку пальто. Девушка стремительно приближается, я вглядываюсь в её лицо, и не сразу, но узнаю знакомые глаза и улыбку. Не снижая темпа, Татьяна хватает меня за рукав и тащит на эскалатор.
– Извини, шеф задержал, – скороговоркой произносит она, когда мы занимаем место на ступеньках, – у нас есть семь минут. Придётся бежать.
– Здравствуй, – говорю я, – я очень рад, что ты пришла.
Татьяна улыбается глазами:
– А ты милый.
– Стараюсь…
Она приподнимается на носочки и целует меня в щеку. Касание её губ и лёгкий запах духов даёт странный эффект, сравнимый с ударом надувным молотком по голове. Сначала ощущается лёгкое головокружение, а затем пробежавший по позвоночнику холодок.
«Как молодой, ей богу», – усмехаюсь я про себя.
Должно быть, переживания отражаются на моём лице, поскольку Татьяна, сдвинув брови, интересуется:
– Что-то не так?
– Всё так, – отвечаю я и, чуть нагнувшись, целую её маленькую холодную ладошку.
Из метро мы выбегаем, держась за руки, словно два прилипших к палочке эстафетных бегуна. Бежим в ногу. Татьяна чуть впереди, я, отягощённый сумкой и тяжёлыми скользкими ботинками, сзади.
«Наверное, лёгкой атлетикой занималась, – думаю я, стараясь выровнять дыхание, – а может, лыжница…»
– Не отставай, – подгоняет меня Татьяна, – шире шаг!
– Куда уж шире… – отзываюсь я, теряя последний воздух.
Сворачиваем в Лаврушинский. Не встретив ни души, пробегаем мимо Инженерного корпуса галереи, затем вдоль кирпичной ограды, из-за которой виднеется знаменитое трёхшатровое крыльцо и засыпанный снегом памятник отцу-основателю. Наконец, ворота. Поддерживая друг друга, тормозим на скользком пятачке, синхронно хватаемся за ручку, дёргаем, но ворота не поддаются.
– Чёрт, опоздали! – упавшим голосом говорит Татьяна, ещё раз дёрнув холоднющую железяку.
Смотрю на часы, согласно которым у нас ещё есть целая минута, потом на закрытые ворота, потом на Татьяну. У той на лице выражение Пьеро из небезызвестного фильма, которое неожиданно меняется на крайне удивлённое.
– Ах, вот оно что! – вскрикивает она, пальцем показывая на небольшую табличку на воротах. – Выходной день – понедельник!
И вот тут, непонятно с чего, меня разбирает, что называется, нервический смех, но, так как смеяться мне уже нечем, я складываюсь пополам и в полусогнутом состоянии беззвучно вибрирую.
– Ты чего? – озабоченно спрашивает Татьяна. – Тебе что, плохо?
Делаю ей знак, что всё в порядке, а когда меня немного отпускает, говорю:
– Наоборот, хорошо. Это я к тому, что сегодняшний дурацкий день по-другому просто закончиться не мог.
– День ещё не закончился. Кстати, чем он такой дурацкий?
– Знаешь, бывают дни, – в перерывах между вздохами отвечаю я, – когда кажется, что мир действительно создал Котовский, давно перешедший с кокаина на тяжёлые наркотики. Вот сегодня именно такой.
Татьяна смотрит на меня с плохо скрываемым подозрением. Я понимаю, что брякнул лишнего, и спешу оправдаться:
– Просто, чтобы оказаться здесь, перед этими закрытыми воротами, мне пришлось раньше смыться с работы, доскакать от офиса до метро и от метро досюда…
Лицо моей спутницы становится серьёзным:
– Да, человек быстрее всего бежит к давно закрытым дверям…
«Вот это да, – думаю я, – она ещё и философствует. За двоих».
Скорее по привычке, достаю из кармана сигареты, и, прежде чем закурить, предлагаю Татьяне. Она жестом отказывается:
– На морозе не хочется.
Закуриваю в одиночестве. После пробежки сигаретный дым жжёт горло. Чтобы не затягивать паузу, спрашиваю:
– Стесняюсь спросить, а что мы будем делать дальше?
Татьяна разводит руками:
– Собственно, вариантов у нас немного. Точнее, всего два. Первый – пойти дальше, перейти по Лужкову мосту на другую сторону, покидаться снежками в памятник Репину, насладиться вечерним видом на Кремль, окончательно замёрзнуть и спастись от обморожения в каком-нибудь метро.
– А второй?
– Вернуться обратно к «Третьяку» и пожрать в «Маке». Честно говоря, у меня живот сейчас к спине прилипнет. Пардон, конечно.
– Тогда и думать нечего, – говорю я, подставляя ей локоть, – ведь путь к сердцу мужчины лежит через желудок.
Татьяна с силой шлёпает меня перчаткой по заду:
– Зараза…
– Ой, – вырывается у меня, – за что?
Вместо ответа она берётся за мой локоть двумя руками, и мы идём обратно к метро.
Лаврушинский живописно заметает. Ветер вьюжит по переулку миллионами, а может, и миллиардами снежинок, которые в фонарном сиянии кажутся цветными. Татьяна пытается поймать одну из них рукой.
– Ты посмотри, какая красота! – кричит она. – Знаешь, в детстве я думала, что облако, из которого идёт снег – это огромная пуховая подушка, проткнутая самолётом.
– А я думал, что там висит гигантский холодильник «Саратов‑2» открытой дверцей вниз, – отвечаю я.
Татьяна поворачивает голову в мою сторону:
– Врёшь.
– Вру, – соглашаюсь я, – честно сказать, я слишком рано понял физику процесса снего и дождеобразования. Как-то раз мы с родителями в Крыму ходили в горы, и попали там в облако. Очутившись внутри него, я мигом избавился от романтических представлений об облаках вообще. Изнутри оно выглядело, как среднестатистический туман, причём не очень плотный.
– Ещё один материалист-прагматик, – морщится Татьяна.
Я улыбаюсь.
– Ты чего? – спрашивает Татьяна.
– Понимаешь какое дело: не далее чем три часа назад один из моих шефьёв назвал меня романтиком за то, что я сравнил здание «Газпрома» с держащим небо титаном Атласом, а ты заклеймила прагматиком из-за того, что я не смог поддержать твоей фантазии о проткнутой самолётом подушке. Вот теперь я думаю, что же является критерием романтизма, а что нет?
– Одно только слово «критерий» убивает весь романтизм, – улыбается Татьяна.
– То есть, по-твоему, я всё-таки прагматик?
– Получается, – пожимает плечами Татьяна.
– Это плохо?
– Чего ж хорошего…
От такого поворота в разговоре мне становится грустно, что, должно быть, отражается на моём лице.
– Ладно, ладно, – примирительно гладит меня по рукаву Татьяна, – ты способен на образное мышление, и это в нашем деле главное.
– И на том спасибо, – кланяюсь я в пояс.
– Всегда пожалуйста, – отвечает она мне шутовским книксеном.
Остальную часть пути мы проделываем молча, но меня это нисколько не смущает, да и Татьяну, кажется, тоже.
«Макдоналдс» на «Третьяковской» примечателен тем, что он очень маленький. Народу здесь вечерами всегда полно, мест на всех не хватает, да и очереди к кассам, кажется, длиннее, чем в других «Маках».
Основательно подмёрзшие, заваливаемся в тёплый, кишащий людьми предбанник. Я сразу занимаю очередь в кассу, а Татьяна идёт в зал с целью захватить столик или хотя бы половину оного. Мне велено взять стандартную картошку с кисло-сладким соусом, «филе-о-хек» и маленький чай. Что я буду брать для себя, я ещё не решил. Очередь небольшая – передо мной человек пять-шесть, судя по всему, студентов. Двое основательно навеселе.
«Пришли закусить, – думаю я, – мы тоже так раньше делали».
Очередь движется медленно. По другую сторону прилавка, поминутно сталкиваясь друг с другом, мечутся одетые в красные полосатые рубашки и черные брюки ветераны Броуновского движения, так называемые «крушники[6]». На их лицах странная смесь отрешённости и оптимизма.
Проходит достаточно много времени, пока двое первых из очереди отходят от кассы со счастливыми физиономиями и гружёными подносами в руках. У меня рождается надежда, что теперь-то дела пойдут быстрее, но на сцену выходят поддатые студенты, которые, оказывается, не в состоянии быстро сформулировать свои требования. Возможно, это вызвано дозой выпитого, а может, банальной нехваткой денежных средств.
Проходит ещё минуты три, ситуация не меняется.
– Я не понял, это ресторан быстрого или медленного обслуживания? – кричит кто-то сзади.
– Мы тут сейчас с голоду подохнем! – подхватывают слева.
С разных сторон слышатся смешки и ругань. Кто-то пытается не особенно умело свистеть.
Переговоры между тем продолжаются. Один из студентов, маленький и плотный, что-то горячо втолковывает «крушнику» на кассе; второй, высокий и тощий, молча кивает. Что делает «крушник», не видно. Наконец, студиозусы разворачиваются спиной к кассе и, соответственно, к очереди лицом. В руках у маленького поднос, на котором лежит один единственный гамбургер.
– Свободная касса! – хрипит простуженная девушка в чёрной фирменной кепке с козырьком.
Делаю шаг вперёд, озвучиваю заказ и протягиваю деньги.
– Возьмёте пирожок с вишней? – словно робот спрашивает девушка.
– Возьму, – отвечаю я.
– С вас семьдесят шесть рублей восемьдесят пять копеек, – гнусавит девушка.
Протягиваю ей два мятых полтинника.
– Ваша сдача, – говорит она, отсчитывая деньги на вытянутых руках прямо перед моим носом, и удаляется в толкотню.
За то время, пока мне собирают заказ, я со всех ракурсов успеваю рассмотреть её, а также всех достойных внимания девушек, и в очередной раз делаю неутешительный вывод об асексуальности фирменной маковской одежды.
«А ведь они смотрелись бы куда более привлекательно в коротких юбках и футболках с глубокими вырезами, – думаю я. – Не понимаю, почему эта мысль не пришла никому из руководства «Макдональдса», это же наверняка прибавило бы заведению популярности…»
На секунду я представляю, как это бы это могло выглядеть. В моём воображении появляются улыбающиеся девушки в стиле pin-up; задорно развеваются плиссированные юбочки, цокают каблучки, мелькают стройные ножки и глубокие декольте. Красота! Не успеваю я как следует размечтаться, как в мою фантазию из реального мира тяжёлым танком вламывается, судя по форме, какая-то мелкая командирша, живого веса в которой приблизительно центнер.
– Так, улыбаться не забываем, – басит она в адрес «крушников», – и руки вытирать тряпочкой.
«Нет, лучше уж так, как сейчас», – думаю я, отводя от неё взгляд.
Мой поднос медленно, но верно заполняется. Сначала на нём появляются стаканы с кипятком – маленький и большой – затем один за другим «бутеры», и после длинной паузы девушка кладёт на поднос последнее – два красных картонных стакана с торчащим из каждого ворохом ядовито-жёлтой картошки.
– Спасибо за заказ, ждём вас снова! – скороговоркой гнусавит она и вскидывает руку вверх: – Свободная касса!
С подносом отчаливаю от прилавка и, словно ледокол, пробираюсь сквозь строй покрытых зимней росой людей. Те медленно и нехотя расступаются, внимательно рассматривая содержимое моего подноса.
Татьяне удаётся захватить не столик, а такой прилавочек у окна, к которому приставлены высокие «барные» табуреты. На одном из них она и восседает, изящно закинув ногу на ногу, другой «забит» для меня её пальто. Ещё раз отметив про себя стройность Татьяниных ножек, подхожу и ставлю поднос на стол.
– Ну, наконец-то! – вздыхает Татьяна. – Я уж думала, ты с деньгами сбежал. Чего так долго-то?
– Сегодня у них профессиональный праздник, – объясняю я, раздеваясь, – день медленного работника. Они тут тормозные, не то, что на «Пушке».
Чуть отодвинув Татьянино пальто, взбираюсь на табурет. Татьяна в это время ловко открывает крышки, которыми закрыты стаканы с кипятком и закидывает в них пакетики с чаем. Мне и себе.
– Можно я возьму у тебя сахар? – спрашивает она. – Чертовски хочется глюкозы.
– Бери, сколько влезет, – отвечаю я, – хоть два.
Выражение лица Татьяны внезапно меняется. В её глазах ужас.
– Где ты взял эту пошлятину? – кричит она.
– Какую именно? – не понимаю я.
– Я про твой галстук. Сними его сейчас же!
– Да что в нём такого?
– Снимай, говорю!
Я вижу, что Татьяна рассердилась всерьёз, и потому повинуюсь: быстро развязав узел, стягиваю с шеи объект раздражения и убираю под стол.
– Вот так гораздо лучше, – намного спокойнее говорит Татьяна, – пуговку только расстегни.
Расстёгиваю. Дышать становится во всех смыслах легче. Но перед тем, как свернуть и отправить в карман пиджака злосчастный галстук, как бы невзначай бросаю взгляд под стол, пытаясь понять, что же такого страшного нашла Татьяна в узкой пёстрой тряпке, и с ужасом для себя обнаруживаю, что узор, которым эта тряпка декорирована, представляет собой хитроумное переплетение обнажённых женских тел.
– Вот, чёрт! – вырывается у меня. – Удружил, называется!
– Кто удружил?
– Ну, хозяин галстука, – поясняю я. – Эдуард похотливый.
Татьянины глаза сужаются:
– Ты хочешь сказать, что пришёл на свидание с девушкой в чужом галстуке?
– Понимаешь, свой галстук мне пришлось отдать коммерческому директору, потому что тот забыл дома свой…
Моя спутница изображает на лице гримасу крайней заинтересованности.
– Продолжай, продолжай, очень люблю слушать, как мужчины оправдываются.
– …а потом я пошёл в дружественную фирму, чтобы занять денег, потому что у меня оных не оказалось, и застукал там менеджериссу Зою по кличке «Забава» с вышеупомянутым Эдуардом. В результате я занял денег у него, поскольку Зоя убежала в глубину офиса, а заодно попросил заимообразно галстук… Это, если коротко.
Татьяна громко хлопает в ладоши, чем заставляет соседей справа обернуться в нашу сторону:
– Браво! Качественное враньё возвращает тебя на вершину моего Олимпа.
– Но я сказал правду…
Татьяна меняется в лице.
– Ну вот, опять все испортил… – упавшим голосом говорит она. – Давай-ка, Лерик, лучше поедим.
Мало чего понимая, принимаюсь за еду.
Татьяна тоже начинает есть. Делает она это грациозно, я бы сказал, красиво: кончиками пальцев берет соломинку картошки, макает её в соус, потом медленно отправляет в рот, откусывает немного и снова макает. Да и бутерброд она кушает как-то по особенному, отламывая от него маленькие кусочки.
Наблюдая за всем этим, я замечаю, что на Татьяне то же вязаное платье, что и в тот раз в «Жёлтой кофте», а вот причёска, кажется, другая.
– Что-то не так? – озадаченно спрашивает она, перехватив мой взгляд.
– Я заметил, что у тебя новая причёска.
Глаза моей спутницы заметно увеличиваются в размере.
– Зач-ё-ё-ёт. – Татьяна несколько раз хлопает в ладоши. – В качестве награды можешь задать мне какой-нибудь нескромный вопрос. Обещаю, что не обижусь.
– Лучше расскажи о себе, – говорю я, – вопросы будут потом.
Татьяна морщится:
– Удар ниже пейджера.
Я пожимаю плечами:
– Не хочешь – не говори.
– Ладно, – Татьяна вытирает о салфетку руки, – уговор дороже денег. Слушай: мне двадцать четыре года, я правша, мой естественный цвет волос – тёмно-русый, у меня вторая группа крови, резус-фактор положительный, рост – сто семьдесят пять сантиметров, вес – шестьдесят один килограмм, размер лифчика – второй. Я окончила Московский институт стали и сплавов, потому что там учились мои родители, учусь там же в аспирантуре, потому что дура, каких мало, работаю в рекламном агентстве, чтобы хоть в чём-то быть независимой, работу свою ненавижу. Девственность потеряла на втором курсе. Серьёзные отношения с молодыми людьми у меня случились дважды. Инициатором разрыва оба раза была я. Замужем никогда не была, хотя один раз собиралась. Что ещё… – Татьяна смешно трёт переносицу, – живу с родителями, чего очень стыжусь, но пока никакой разумной альтернативы не вижу. Всё. Теперь ты.
Откашлявшись, начинаю. Оказывается, не так-то это просто, коротко и ясно поведать о себе незнакомому, в общем-то, человеку, да так, чтобы человек этот не заскучал, а наоборот, загорелся желанием узнать тебя лучше. Проблема ещё и в том, что всегда есть соблазн приврать, насвистеть слушателю в лапоть… Примерно в середине повествования я ловлю себя именно на такой на мысли. Очень уж хочется приукрасить ужасающую реальность, но я сдерживаюсь и выкладываю всё так, как оно есть. Может, оно и к лучшему, время покажет.
– …последние мои серьёзные отношения, – заканчиваю я свой рассказ, – завершились не по моей инициативе примерно четыре месяца назад (делаю паузу). С тех пор и до того момента, когда я прочитал твою записку, никаких связей у меня не было.
Татьяна будто не замечает моего намёка, но почему-то отводит глаза.
– Кстати, ты заработал мне бутылку «Мартини», – говорит она рассеянно.
– Каким образом?
– Мы с Анькой поспорили, кто из вас нам раньше позвонит.
– В смысле, кто из нас?
– Анька дала телефон твоему дружку.
– Кому? Че? – спрашиваю я громче, чем требует ситуация.
Татьяна мотает головой отрицательно:
– Нет, тому, который напился. Николаю, правильно?
– Да, Николаю, – подтверждаю я.
– Ну, мы и поспорили, кто из вас позвонит первым, ты или твой друг. Я выиграла. Кстати, я так поняла, у него сейчас никого нет? Или есть?
Такой поворот разговора меня совершенно не радует – терпеть не могу обсуждать чужую личную жизнь. В подобных случаях я обычно отнекиваюсь или ухожу в тину, мол, не моего ума это дело.
– Честно говоря, не уверен, – осторожно говорю я. – Коля действительно недавно поссорился со своей девушкой, Катрин, но он с ней уже раз десять ссорился и столько же раз мирился, так что его нынешний статус мне неизвестен.
Татьяна смотрит на меня удивлённо:
– А ты его об этом спрашивал?
– Нет, а зачем?
– Зачем, зачем, – передразнивает она, – неужели самому не интересно?
– Вообще-то, нет, – совершенно искренне отвечаю я. – Вызывает интерес другое: что в нём нашла твоя Аня? Она что, падка на алкоголиков? Или Колины вирши на неё так подействовали?
Татьяна ёрзает на стуле, будто ей неудобно сидеть:
– Не совсем так. Она всё ищет своего Гумми.
– Кого, кого?
– Ну, Гумилёва, – говорит она так, будто за незнание Гумилёвской кликухи расстреливают. – Если ты не понял, Аня, которая, кстати, по паспорту совсем не Аня, а Алёна, самоидентифицирует себя с Анной Ахматовой, и для полноты образа ей не хватает соответствующего спутника жизни. Оный должен зваться Николаем, и непременно писать стихи. Короче, твой друг подходит.
– Но он же ведь совсем не похож… – начинаю рассуждать я, вытаскивая из памяти и попутно сравнивая образы обоих, – у того морда длинная, взгляд полудурошный…
Татьяна грозит мне острым кулачком:
– Ты только при ней этого смотри, не ляпни, а то она тебе глаза выцарапает, – и, немного подумав, серьёзно добавляет: – Хотя, ты прав, взгляд у него, действительно, не приведи господи.
Я улыбаюсь:
– Странно, если она сама не Анна, на кой чёрт ей непременно нужен Николай?
– Понимаешь, она по фамилии подходит, – дирижируя в воздухе кусочком картошки, отвечает Татьяна, – в этом, собственно, всё дело.
Я чувствую, как мои глаза начинать вылезать из орбит:
– Она что, Ахматова?
– Хуже, она – Горенко.
– Горенко?
– Настоящая фамилия Ахматовой.
Понимающе киваю, хотя на самом деле не понимаю ни капельки.
– Извини, а ненависть к Владимиру Владимировичу из того же источника?
Татьяна отправляет в рот очередной кусочек картошки:
– Из того же. У неё всё из одного источника. Понимаешь, человеку не нравится ни тело, в котором он, то есть она, находится, ни время, в котором это тело живёт, ни то, чем в этой жизни занимается. – Татьяна поднимает на меня чуть прищуренные магнитные глаза, заставляя моё сердце пару раз стукнуть сильнее. – Вот и придумал человек себе другое имя и другое время…
Монолог спутницы внезапно прерывается. Взгляд её сощуренных глаз фокусируется на точке, расположенной где-то справа за моей спиной. Поворачиваю туда голову, но не замечаю там ничего достойного внимания, только голую стену.
«Зависла, – думаю я, – со мной такое тоже бывает…»
– …но больше всего Аньку оскорбляет, – заканчивает свою мысль, неожиданно пришедшая в себя Татьяна, – что она – дама с университетским дипломом – вынуждена работать секретаршей.
– Ну, тут я бы на её месте не особенно беспокоился, – вставляю я, – Иосиф Виссарионович тоже был секретарём.
Наш столик освещает Татьянина улыбка:
– Зачё-ё-ёт…
– А вообще, в её возрасте такие закидоны простительны, – говорю я после паузы, чтобы закрыть тему. – Она же ведь нас с тобой младше?
Татьяна морщится, будто ей в стакан с картошкой какой-то шутник положил чёрного перца, и она только что его нашла.
– Анька косит под девочку, поэтому и пользуется нездоровой популярностью среди мужчин среднего и очень среднего возраста. На самом деле она старше меня почти на год.
«Почти на год» Татьяна произносит так, что слышится: «почти на десять».
– Да, девушки любят поиграть на педофильских струнах мужских душ, – неосторожно замечаю я, о чём сразу жалею.
Татьяна усмехается:
– Нечего до пенсии таскать в себе образ девочки, отказавшей в детском саду, тогда играть будет не на чем. А то вас на нормальных баб силком не затянешь.
Эта её фраза меня задевает. Мне хочется заступиться за весь мужской род, сказать что-нибудь женофобское, но в результате вступаюсь только за себя:
– Спешу напомнить, что я пришёл на свидание с тобой, а не с Аней, а единственная девочка, которую я помню по детскому саду, была выше меня на голову и похожа на Брежнева. И это я отказал ей, а не она мне.
На мою спутницу это признание действует странно. Она мерит меня хитрющим взглядом, будто секунду назад ей открылась какая-то страшная тайна относительно меня.
– Ладно, не обижайся, – говорит она примирительным тоном. – Раз уж мы заговорили об Анькиной шизе, скажи, как ты относишься ко всей этой серебряновековой шушере?
– К сифилитичным неврастеникам, накокаиненным альфонсам, педикам и их экзальтированным шлюхам? – уточняю я.
– Именно.
– Я им завидую.
Татьяна внимательно смотрит мне в глаза, потом накрывает мою ладонь своей:
– Это я и хотела от тебя услышать.
Остаток вечера проходит спокойно. Мы, не спеша, заканчиваем трапезу, одеваемся и выходим на воздух, где из-за снега не видно входа в метро, а сугроб вдоль тротуара стал таким огромным, что его смело можно использовать в качестве бруствера.
– Вот это да! – говорю я. – Видно подушка-то была ого-го!
– Проводи меня, пожалуйста, до дома, – не обращая внимания на мою плоскую остроту, просит Татьяна, – так будет романтичнее. Только дальше порога я тебя не пущу, идёт?
– Идёт, – соглашаюсь я. – Честно говоря, я и не рассчитывал.
– А зря, – говорит Татьяна тоном учительницы, – надо всегда замахиваться на невозможное.
– Учту. Как тебе сегодняшний вечер?
– Как тебе сказать, – вздыхает она, – мы же хотели приобщиться к русскому искусству, а получили американский фаст-фуд.
– Чему ты удивляешься, – также на выдохе говорю я, – мы с тобой живём в стране, по большому счёту, променявшей вообще всё на американский фаст-фуд, в том числе и искусство.
Татьяна невесело улыбается:
– Принеси мне в следующий раз то, что ты пишешь. Хорошо?
Я машинально киваю и зачем-то спрашиваю:
– А следующий раз будет?
– Будет, дурачок, конечно, будет, – смеётся Татьяна и за грудки притягивает меня к себе.
Я наклоняюсь, и наши губы, хранящие ароматы того самого фаст-фуда, встречаются. Аккуратно беру Татьяну за плечи и прижимаю к себе. Поцелуй длится, пока меня ни толкает в спину случайный прохожий.
– Нашли место… – слышу я сзади раздражённый голос.
Я отрываюсь, чтобы ответить, но Татьяна возвращает меня в исходное положение.
– Не связывайся, – тихо шепчет она, – здесь интереснее.
Прерванный поцелуй продолжается. По-женски закрыв глаза, я крепко обнимаю мою спутницу и буквально впиваюсь в неё губами. Татьяна не сопротивляется, напротив, прижимается ко мне всем телом, обвивая руками мою шею. Неожиданно я начинаю понимать, что нахожусь совсем в другом месте, возможно, на другой планете, или в другом измерении. Вокруг нет ничего, кроме меня, её и того, что высшие приматы называют…
– Ну ладно, для первого раза достаточно, – слышу я извне прерывистый Татьянин голос.
Открываю глаза и вновь оказываюсь в зиме, под снегом, стоя между «Макдональдсом» и входом в метро «Третьяковская».
– Пойдём, – говорит Татьяна с улыбкой, – а то нас тут снегом завалит, как полярников.
Нехотя размыкаю объятия. В голове шумит почти как после двух-трёх бутылок пива.
– Тань, ты знаешь, я, кажется…
– Потом расскажешь, – прерывает меня она, настойчиво дёргая за рукав, – идём…
Не в силах продолжить то, что начал, киваю, и беру Татьяну под руку.
Кое-как форсировав сугроб и прорвавшись сквозь завесу летящего абсолютно со всех сторон снега, мы спускаемся по скользким ступеням в тёплые объятья московского метрополитена.
4
Раньше, то есть когда я жил с родителями, мне очень хотелось жить так, чтобы не знать, что такое утро. Просыпаться к обеду, завтракать в кафе, заниматься чем-нибудь (типа, работать) до вечера, а с наступлением темноты валить куда-нибудь, где потно и пьяно, душно и шумно или темно и тихо. Без разницы.
Когда я съехал, мечта трансформировалась в прямо противоположную. Я понял, что, на самом деле, утро – самое прекрасное время дня, когда ты, ровно, как и вечером, предоставлен самому себе, и сознательно вычёркивать его из своей жизни есть страшное преступление, расплата за которое – сама жизнь. Поэтому теперь я встаю как можно раньше, варю себе кофе, и потом долго сижу на кухне, размышляя о том, о сём, пописывая или почитывая что-нибудь. Есть ещё такой вариант: выйти из дома на час раньше и засесть в каком-нибудь кафе обязательно у окна и, попивая кофе с вроде как круассаном, глазеть на бегущих снаружи прохожих, попутно занося гениальные мысли в записную книжку.
Сегодня я выбираю вариант с кафе. И хотя сильно заранее из дома выйти не удаётся, и свободного времени образуется не так много, из метро «Калужская» я выхожу в противоположную, относительно работы, сторону. Дело в том, что подходящих кафешек в районе метро просто нет, зато чуть подальше в центр по «Профсоюзной» есть советского образца гастроном с бакалейным отделом, где под видом кофе по гранёным стаканам разливают что-то коричневое из алюминиевого чайника. Не бог весть что, конечно, но обозначенное выше действо здесь провернуть можно, особенно если принести круассан с собой.
По невероятно скользкому тротуару минут за пять добираюсь до гастронома. Беру у необъятной тётки с золотой фиксой горяченный стакан с «кофе» и встаю за ближний к окну столик. Достаю блокнот для гениальных мыслей, ручку, на которой красуется логотип нашей фирмы – мы раздаём такие на выставках – и купленный заранее круассан.
За мутноватым окном-витриной мне виден тротуар и улица Профсоюзная, по которой в камуфляже из дорожной химии и грязи катятся разномастные авто со счастливыми обладателями оных внутри. Обросший же ледяными торосами тротуар практически пуст. Редкие прохожие (за минуту я насчитал четырёх), балансируя, словно канатоходцы, пробираются мимо, к метро. На лице у каждого выражение, которое можно определить одним словом: «неприятности».
Так как за окном смотреть не на что, начинаю вертеть головой по сторонам, и моё внимание привлекает мужчина у соседнего столика – лохматый и седой, с длинным некрасивым лицом. Упёршись локтями о стол, тот гипнотизирует стоящий на столе стакан, в котором, похоже, совсем не кофе. На мужике, с виду тяжёлое длинное пальто без воротника и высокие грязные валенки, на руках – дырявые перчатки. Заменяя утраченный воротник, вокруг шеи обмотан грязно-зелёный шарф.
«Пропил, – доходит до меня, – воротник отпорол и пропил».
Продолжая рассматривать соседа, замечаю, что под его столом, оказывается, лежит собака с ошейником, от которого к ноге хозяина тянется грязная бельевая верёвка. Собака, свернувшись калачиком вокруг ножки стола, спит.
«Интересно, кто тут к кому привязан? – думаю я. – И кто кому хозяин?»
Эта мысль кажется мне занятной, и я незамедлительно записываю её в блокнот.
Мужик делает попытку выпить то, чем до половины наполнен стакан. В смысле, донести до ротового отверстия. Сжимая стакан обеими руками, он резким движением подносит его к губам, но в последний момент несчастного начинает бешено колотить, и, видимо, поняв, что ничего не выйдет, ставит стакан обратно на стол и обречённо разводит в стороны трясущиеся руки. Похоже, это уже не первая его попытка, поскольку стол покрывают небольшие лужицы, а в воздухе улавливается запах спиртного.
Неожиданно я проникаюсь сочувствием к этому человеку.
– Вам помочь? – спрашиваю я.
Мужик медленно поворачивает ко мне торчащую из шарфа голову.
– Сделайте одолжение, – произносит он таким голосом, от которого хочется раз и навсегда завязать со спиртным.
Оставив на столе недоеденный круассан, беру со стола стакан и аккуратно подношу к трясущимся губам страждущего. Тот открывает рот, немного выпятив вперёд нижнюю губу. Досчитав до трёх, резко опрокидываю стакан.
То, как мужик глотает эту отраву (я даже боюсь представить, что это), показывает, насколько ему хреново. В какой-то момент едва не происходит помпаж, но мужик, для верности зажав рот ладонями, глотками загоняет-таки жидкость внутрь. Мучительные спазмы ещё какое-то время сотрясают его переломленное где-то чуть повыше пояса тело. Наконец он успокаивается, убирает руки ото рта и, навалившись грудью на стол, затихает.
Бросив взгляд на тётку у прилавка, которая, занятая собой, кажется, ничего не заметила, возвращаюсь к кофе и круассану. На душе неспокойно – вроде бы доброе дело сделал, а вроде…
– Эвтаназия… – еле слышно произносит спасённый мужик.
– Что, простите? – переспрашиваю я.
– Я говорю, в этом есть что-то общее с эвтаназией, – немного погодя поясняет он. – Вы мне помогли, избавили от мучений, но приблизили неизбежное…
– Я думал, вы скажете мне спасибо.
– Спасибо, – стонет мужик, – и простите за ненужную болтовню – язык мой, враг мой.
Я киваю и отворачиваюсь обратно к окну, за которым всё то же: грязные авто и редкие прохожие.
«Наверное, стоит отложить утренние посещения кафе до весны, а то и до лета, – думаю я, – зимой тут делать нечего».
Закрываю глаза и пытаюсь представить, как должен выглядеть вид из окна, чтобы пробудить во мне вдохновение. В моей фантазии голая и ледяная улица Профсоюзная оттаивает и одевается в зелёное и шелестящее; на широких тротуарах появляются девушки в коротких платьях с маленькими собачками на длинных поводках, мужчины в белых шляпах и летних костюмах; авто, все как одно дорогущие и блестящие, деловито урча, шуршат в сторону области; не по-московски голубое небо наискосок пересекает белый спортивный самолёт с молодой авиатриссой внутри. На моём столе сама собой образуется клетчатая скатерть, бутылка красного вина и пузатый бокал, а на мне самом – тёмно-синий пиджак с золотым гербом на нагрудном кармане, белые штучные брюки, итальянская рубашка с запонками и часы «Petek Filip» на левом запястье… Картинка выходит приторной и яркой; люди и предметы видятся чуть размытыми, как делается в кино, когда необходимо показать, что герой замечтался.
«Штампы… – с отвращением к себе думаю я, – интересно, у всех так, или у меня одного?»
– Говорят, Высоцкого мог бы спасти всего один стакан, но тот от него отказался, – слышу я бодрый голос слева. – А вот я никогда не отказываюсь!
Оборачиваюсь. Ба! Мужик-то, оказывается, преобразился. Руки его теперь совсем не трясутся – правой он поигрывает чем-то вроде брелока для ключей – а его лицо, до этого сморщенное, стало практически гладким и даже несколько симпатичным, хотя прочие атрибуты его опустившегося состояния, разумеется, остались.
– Как же вам удалось так быстро прийти в себя? – удивляюсь я.
– Долгие годы упорных тренировок, молодой человек! Кстати, Михаил, – мужик протягивает мне руку, предварительно стянув с неё перчатку, – БИЧ – бывший интеллигентный человек.
– Валерий, – отвечаю я и не без опаски пожимаю грязноватую ладонь.
Мужик достаёт из кармана сушку, ломает пополам и отправляет одну половинку в рот, а вторую – под стол, откуда сразу начинает раздаваться бодрый хруст.
– Я заметил, вы что-то записывали в блокнот, – говорит он, пытаясь справиться со своей половиной. – Вы пишете? В смысле, вы писатель?
Немного ошарашенный, молчу, совершенно не зная, как ответить. Кровь приливает к лицу, и мне вдруг становится так стыдно, будто меня только что уличили не в графомании, а в публичном онанизме.
– Вижу, я вас смутил, – расплывается жутковатой, из-за состояния зубов, улыбке мужик, – простите великодушно. На самом деле я вас прекрасно понимаю. Сам, знаете ли, писал в молодости, и даже печатался. В «Литературной газете», в «Молодой гвардии», в «Юности», но до издания книги дело не дошло.
– Почему? – аккуратно интересуюсь я.
Мужик делает непонятный жест рукой, устремив глаза в потолок:
– Видимо, так было угодно высшим силам. Рукопись прошла все круги ада, была включена в план издательства на счастливый восемьдесят второй год, но после смерти дорогого Леонида Ильича её почему-то передвинули на восемьдесят третий, потом на восемьдесят четвёртый, а при Горбачёве из плана исключили и вообще признали неактуальной, а потом я запил…
Мужик отрешённо и расслабленно роняет руку вниз, будто навсегда прощается с кем-то или с чем-то.
– А в каком издательстве вы пытались печататься? – спрашиваю я.
– В «Детской литературе», больше никуда не приняли.
– А что за книга?
– Роман… – мечтательно произносит мужик. – «Одна восьмая истины» – о маленьких детях со взрослыми чувствами. Пятнадцать авторских листов, не хухры-мухры. Два года писал с перекурами. В смысле, с перерывами.
– И где она теперь? – не унимаюсь я.
– Рукопись-то? – удивляется мужик. – Дома где-то валяется. А что?
– Может, сейчас попробуете издать?
Мужик заходится беззвучным смехом:
– Сейчас-то? Точно не получится.
– Почему?
– Потому что сейчас это уже никому не ин-те-ре-сно, – произносит он по слогам. – Да и мне, если честно, тоже. Есть такая болезнь, когда очень хочешь, чтобы тебя издали, и я ей уже переболел.
– А я вот нет, – признаюсь я.
На лице у моего собеседника проявляется странная гримаса – страдальческая и насмешливая одновременно.
– Проблема в системе ценностей, – говорит он почти ласково. – Согласитесь, то, что раньше было важным, сейчас кажется смешным. Вспомните своё детство, и вам всё станет кристально ясно. Лет десять-пятнадцать назад я только и думал о том, чтобы меня издали, теперь же просто не могу понять, как я мог быть таким дураком, и насколько это было глупо.
– А что же важно для вас сейчас? – спрашиваю я, хотя прекрасно знаю ответ.
– Для меня-то? Вот это, – мужик показывает пальцем на стакан.
– То есть, писательская стезя вас больше не интересует?
Мужик по-лошадиному мотает головой:
– Понимаете, мой юный друг, людьми движет вполне нормальное стремление оставить после себя потомство, в данном случае, творческое, или же самое обычное тщеславие. Я же давным-давно от того и от другого избавился, чего и вам желаю. А всё потому, что в этом нет ни грамма смысла!
– Не могу с вами согласиться, – уверенно говорю я, – смысл есть.
На лице у моего собеседника возникает ленинский прищур:
– А вы уже ответили себе на вопрос, почему вы хотите напечататься? Вы сами-то знаете, зачем вам это нужно?
Ненадолго задумываюсь. Вопрос не то чтобы ставит меня в тупик, просто он один из тех, на которые вроде бы знаешь сразу несколько ответов, но если тебе его вдруг задают, быстро выясняется, что, на самом деле, не можешь выдавить из себя ни одного. Разумеется, я не раз и не два отвечал себе на него, и в разное время по-разному. Когда-то мне хотелось вписать своё имя в историю отечественной, а может и мировой литературы. Стыдно в этом признаваться, но так оно и было. Теперь же, понимая всю невыполнимость поставленных задач, я объясняю себе собственное стремление быть напечатанным исключительно желанием подтвердить наличие у себя писательских способностей. Ну, и ещё, может быть, доказать кое-кому кое-что…
«Вот так вот и девальвируют мечты юности, – с горечью думаю я, – ещё год, два, и я, возможно, тоже приму сторону моего безымянного собеседника…»
– Что молчите? – отрывает меня от размышлений мой собеседник. – Никак не придумаете, что бы такое соврать?
Откашливаюсь для важности:
– Отчего же, знаю. Мне это нужно для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал, который, как мне кажется, у меня имеется.
– Для этого совсем не обязательно печататься! – хохочет мужик. – Достаточно писать «в стол».
– Нет, не достаточно! – протестую я. – Реализация творческого потенциала подразумевает под собой результат, которым и является изданная на бумаге книга.
– Понимаю, – кивает мужик, – техническое образование не пропьёшь.
– Причём здесь моё образование? – не понимаю я.
Вместо ответа мужик вяло машет на меня рукой:
– Вот представьте: ну, будет стоять у вас на полке «кирпич» с вашей фамилией на обложке. Представили? (я киваю) Что изменится?
– Да, по большому счёту, ничего.
Мужик негромко мне аплодирует:
– Вот и я о том же. Ни-че-го!
Его самоуверенность начинает меня доставать. Тоже мне, умник нашёлся.
– Тогда, следую вашей логике практически всё можно подвести под категорию «ничего», – говорю я медленно, чтобы не дать воли эмоциям, – а есть хоть что-то, что им не является?
– Я вам уже сказал – вот это! – мужик снова показывает пальцем на стакан и противно улыбается. – In vino veritas! Истина в вине!
Неожиданно мне становится грустно. Настроение, ещё пять минут назад бывшее приподнятым, неизвестно куда испаряется, а вместо него приходит знакомое с детства и мало контролируемое раздражение. Мужик, видимо, уловив моё расположение духа, снимает с лица бесящую меня (и, почти уверен, всех остальных, кто когда-либо с ним общался) улыбку и заговорщицки мне подмигивает:
– Ладно, хватит о грустном. У меня с собой кое-что есть (из-за пазухи показывается горлышко с пластмассовой крышкой) может, составите компанию?
– Нет уж, спасибо. Мне на работу надо.
– Как знаете, а я всё-таки приму.
С этими словами собеседник достаёт бутылку, зубами срывает с неё крышку и, совершенно не соблюдая конспирации, выливает примерно треть содержимого в тот самый стакан, из которого я его поил.
– Тогда за ваше счастливое литературное будущее! – говорит он голосом диктора и, легко донеся стакан до рта, опрокидывает содержимое в себя.
Не успевает опустошённая тара коснуться поверхности стола, как универсам оглашается басовитым вокалом, заставляющим любого советского мужчину прижать уши.
– А ну-ка, алкаши, – летит из-за прилавка, – пошли отсюда!
Мы с мужиком чуть приседаем, как при близком разрыве, а разбуженная шумом собака отвечает задорным лаем.
– Ещё и кобеля с собой притащили! – громче прежнего голосит тётка. – А ну, пошли вон, не то я милицию вызову!
– Пойдёмте лучше на воздух, – говорит мужик, пряча бутылку обратно за пазуху, – если она выполнит своё обещание, то нам с вами несдобровать.
Поспешно выходим. Тётка, почему-то окрестив меня и моего случайного спутника вдогонку лишенцами, провожает нас тяжёлым и всё понимающим взглядом. Мне очень хочется думать, что она не запомнит меня в лицо, и я как-нибудь ещё зайду сюда без приключений выпить «кофе», но что-то подсказывает мне обратное. От таких мыслей я ещё больше злюсь на своего утреннего знакомца, которого меня чёрт дёрнул «спасти».
– Что ж, прощайте, мой нечаянный спаситель, – нараспев говорит он, выписывая в воздухе рукой замысловатую фигуру, – быть может, мы ещё встретимся.
– Обязательно встретимся, – без энтузиазма отвечаю я и поспешно отчаливаю в направлении работы. Слава богу, он меня не преследует.
– И выбросьте эту блажь из головы, – слышу я за спиной его голос, – всё это пустое! Слышите, пус-то-е!
В унисон хозяину подаёт голос собака. Громко и, как мне кажется, достаточно зло, гавкает она мне в спину, расталкивая до этой минуты мирно спящий где-то в глубине меня первобытный страх. Гонимый этим страхом, ускоряю шаг.
«Только не оборачиваться! – говорю я себе. – Нельзя показать, что я испугался».
Собака продолжает лаять. Ускоряюсь ещё больше, оскальзываюсь на льду и падаю на правое колено. Жгучая боль умножает обиду раз в двадцать. Помогая себе матюгами, встаю и всё же поворачиваюсь назад.
Мужик с собакой стоят, где мы с ним расстались; на лице у него та же мерзкая улыбочка.
«На самом деле я испугался не собаки, а того, что на секунду поверил в то, что мне наплёл этот алкаш, – соображаю я. – Но на самом-то деле его слова недорогого стоят, просто всякий неудачник пытается окрестить любого встречного в свою веру», – вспоминаю я чьи-то умные слова, и от этого становится намного легче. Улыбаюсь «в тридцать шесть зубов» и посылаю в адрес моего несостоявшегося собутыльника жест из одного пальца. Мужик на мою выходку не реагирует, но улыбки на лице уже не видно.
Разворачиваюсь и, не спеша, даже медленно, шагаю в сторону Научного проезда. Не из гордости – просто болит ушибленное колено. Какое-то время за спиной ещё слышится хриплый собачий лай, но очень скоро он растворяется в уличном шуме.
Разумеется, Востоков позвонил вчера в офис без пяти шесть и, как и следовало ожидать, никто ему не ответил. Так что утро рабочего вторника начинается для меня с неприятного разговора.
– Ты понимаешь, что ты не просто оставил пост, но и подорвал наше к тебе доверие? – вещает Игорь тоном проповедника. – Что ты можешь сказать в своё оправдание?
– Моим оправданием может служить лишь то, что я пошёл на служебное преступление ради девушки, – неожиданно для самого себя говорю я.
Выражение лица Игоря мгновенно меняется с укоризненного на хитрющее.
– Я требую подробностей! – заявляет он, взгромоздившись на собственный стол.
– Мне как-то неловко, Игорь… – пытаюсь я отвертеться, но господин генеральный директор непреклонен:
– Значит, уйти с работы раньше времени тебе было ловко, а рассказать старшему товарищу о том, куда ты направился в рабочее время, и что ты там делал, НЕловко. Так?
– Так, – соглашаюсь я.
– Ну и что же прикажешь с тобой делать? Я же не могу просто спустить это на тормозах. Может, наказать для профилактики… премии, например, лишить…
– А что, будет премия?
– Кому-то, может, и будет, а кому-то хрен по всей морде…
Несмотря на серьёзность темы – деньги это всегда серьёзно – в словах Игоря не слышится злобы или чего-то подобного, из чего я делаю вывод, что наказывать он меня не собирается.
«Ему, видимо, просто хочется с утра немного развлечься, – думаю я, – и развлекать его, похоже, придётся мне».
– Хорошо, я расскажу, – соглашаюсь я, – только прошу ваше генеральское директорство сохранить сказанное мной в тайне.
– О чём разговор! – Востоков кладёт свою узкую ладонь на нагрудный карман бежевого в тонкую синюю полоску пиджака. – Скорее небеса упадут на землю, и Дунай потечёт в обратную сторону, чем с моих губ сорвётся хоть что-то из того, что я сейчас услышу.
С недоверием смотрю на Игоря, но тот уже сама честность: губы поджаты, бровки «домиком», а голубенько-сероватенькие глазки широко раскрыты и буквально светятся правдой.
– Не, на меня такие штуки не действуют, – отмахиваюсь я, – ошиблись полом, ваше генеральское директорство.
Игорь без труда расстаётся с маской невинности и возвращается в своё обычное естество – нагловатого хлыща.
– Ладно, не будь жлобом, расскажи, – просит он, – и потом, чем больше ты мне расскажешь, тем меньше я растреплю.
Кажется, я понимаю, о чём он, и поэтому рассказываю. Не всё, конечно. Эпизод с Зоей и Эдуардом я опускаю, как и не было, во всём же остальном мой рассказ полностью соответствует произошедшему. Ну, и ещё меняю имя девушки – вместо Татьяны она у меня становится Аней. Закончив спич, закуриваю.
Рассказ мой выходит не слишком длинным, но Востоков, кажется, доволен. Он сидит на краешке своего стола, сложив руки на груди, и качает ногой в кожаном ботинке, не помню какой испанской фирмы. Где-то с минуту, не говоря ни слова, смотрит мне прямо в глаза, будто пытается прочитать мысли и узнать ещё что-нибудь.
– Интересно, – не меняя позы, говорит он, – правда, интересно. Больше всего мне понравилось то, как твоя девушка поспорила с подругой о том, кто из вас позвонит первым.
– Да, мне тоже понравилось, – отвечаю я, – это был нестандартный ход.
– А ты не задумывался над тем, почему ты, а не твой друг позвонил первым?
– Должно быть, у него на тот момент была более выгодная альтернатива, или же он просто…
– Испугался? – заканчивает Игорь мою мысль.
– Вы как всегда правы, ваше…
Дверь офиса тихо открывается, и в шоу-рум буквально вваливается Эдуард.
– Доброе утро, коллеги, – быстро говорит он, выглядывая обратно в коридор перед тем, как закрыть за собой дверь.
– Тамбовский волк тебе коллега, – отвечает Игорь, – за тобой гнались, что ли?
Эдуард неловко улыбается:
– Это я просто так… привычка.
Игорь меряет его с ног до головы долгим взглядом и только после этого произносит:
– Зачем пожаловали, Эдуард? Если насчёт рекламы в твоём известном на весь мир издании, то ничего не выйдет: слишком дорого, я тебе тысячу раз говорил.
– Нет, что ты, – качает головой Эдуард и снова улыбается. – Я бы хотел с Валерой поговорить.
Игорь вопросительно смотрит на меня, потом на гостя:
– Говори, кто тебе мешает.
Эдуард смущённо опускает взгляд на ковровое покрытие:
– Я бы хотел наедине…
– Боже ж ты мой! – Игорь хлопает себя по коленям, а я получаю ещё один вопросительный взгляд.
Мотаю головой из стороны в сторону, поскольку сам не понимаю, зачем понадобился Эдуарду.
– Если тебя не затруднит… – не отрывая взгляда от ковролина, произносит незваный гость.
Игорь легко спрыгивает со стола и направляется к двери.
– Не затруднит, – на ходу бросает он, – мне всё равно надо в комнату для маленьких мальчиков. Так что, голубки, у вас есть пара минут на всё про всё.
Дождавшись, пока хлопнет дверь, Эдуард подходит ко мне почти вплотную. По напряжённому выражению его лица я понимаю, что ему нужны не только деньги и галстук, но и ещё что-то.
– Я насчёт вчерашнего, – начинает Эдуард.
Достаю из сумки сложенный галстук.
– Ой, оставь себе, – ненатурально морщится гость, – и про деньги тоже забудь, я за другое хотел спросить.
– О чём же? – также ненатурально интересуюсь я, попутно всё же вкладывая ему в руку злосчастный галстук.
Эдуард выдерживает паузу.
– Ты, это, Зою, тоже… того? – существенно понизив голос и подмигивая после каждого слова, спрашивает он.
– Чего? Того? – так же тихо переспрашиваю я.
У Эдуарда расширяются глаза.
– Чего, чего! – яростно шепчет он. – Ты маленький что ли? Не понимаешь? Ну, того, трахнул!
– А, трахнул! – кошу я под дурачка. – Так бы сразу и сказал.
Эдуард, похоже, теряет терпение:
– Ну?
– Нет, я её не того, в смысле, не трахал. Не мой тип. А тебе зачем?
Эдуард ожесточённо чешет обеими руками затылок:
– Просто вчера, понимаешь, мы с ней без глушителя…
– И чего?
– Чего, чего… как думаешь, был ли у меня шанс намотать на винт?
Теперь до меня, наконец, доходит, что именно его беспокоит.
– Всё может быть… – серьёзно начинаю я, – Зоя девушка популярная, к ней многие ходят… думаю, ты у неё, как Боинг – семьсот сорок седьмой.
– Да-а-а? – удивляется Эдуард.
– Да-а-а! – подтверждаю я. – Так что я бы на твоём месте в целях личной и общественной санитарной безопасности срочно обратился бы к врачу.
Вселенская тоска и скорбь всех до единого христианских мучеников умещается во взгляде моего визави. В ответ я многозначительно качаю головой – один отец небесный знает, каких сил мне стоит сохранять серьёз. Видимо, регулярная игра в «Каменное лицо» не прошла для меня даром.
– Понимаешь, у меня есть девушка, – гнусавит Эдуард, – у нас, вроде, всё серьёзно, и если я её… ну, ты понимаешь?
Я снова киваю, чувствуя, что запасы стойкости во мне иссякают с каждой секундой. На моё счастье заходит Востоков.
– Ну что, девушки, поговорили? – спрашивает он.
– Да, Эдуард хотел предложить мне небольшую халтурку, – сочиняю я на ходу, – но я отказался.
Эдуард, неуверенно принимая мою подачу, глупо улыбается.
– Что за халтура? – вяло интересуется Игорь.
– Ерунда, инструкция к фотоаппарату… – отмахиваюсь я, чувствуя, как во мне просыпается желание ещё как-нибудь подколоть нашего похотливого друга. Не в силах с этим бороться, выдаю: – А ещё он расспрашивал меня о том, не знаю ли я, где здесь поблизости можно познакомиться с девушками.
Игорь моментально оживляется:
– Неужели? И что же ты ему ответил?
– Я ответил, что не знаю.
Игорь переводит полный изумления взгляд с меня на ошалевшего Эдуарда.
– Так что же ты меня об этом не спросил? Я же крупный специалист в этом вопросе!
– Да, как-то не догадался… – кривится Эдуард.
– Ты один пойдёшь, или с товарищами? – набрасывается на него Игорь.
– Ещё не знаю, я просто… – мямлит тот.
– Короче, в любом случае тебе прямая дорога в «Коко Джамбо», там девушки входят в счёт. Он тут, недалеко, на Херсонской, во дворах. Ты на какую сумму рассчитываешь?
– Ну, не знаю…
– Там недорого! – хлопает его по плечу Игорь. – И сауна есть. Ты как насчёт сауны?
– Да не особо… – мнётся Эдуард.
– Жаль. А какие там коктейли! Там смешивают отличные коктейли, почти как в «Дикой утке»!
Игорь продолжает перечислять достоинства ночного клуба, а на самом деле публичного дома «Коко Джамбо», в котором я лично не был, но много чего о нём слышал. Изрядно покрасневший Эдуард под его напором медленно пятится к выходу задом. Дойдя таким Макаром до двери, он прощается и, немного поборовшись с несговорчивой дверной ручкой, вываливается в коридор.
Игорь возвращается в шоу-рум, обтряхивая руки, словно после грязной работы.
– Во всех смыслах противный субъект, – заключает он, подождав, пока удаляющиеся шаги нашего гостя перестают быть слышны, – не люблю таких.
– За что, если не совсекретно? – спрашиваю я.
Игорь подходит к своему креслу и принимает, что называется, «англосаксонскую» позу.
– Во-первых, Эдуард глуп, – констатирует он, – во-вторых, он глуп, и он глуп, в-третьих.
– И только поэтому ты его выставил? Это же дискриминация по интеллектуальному признаку! Я иду звонить в Страсбургский суд.
Игорь улыбается:
– Нет, не поэтому.
– Тогда почему? – не понимаю я.
Добрая улыбка на лице моего начальника медленно мутирует в саркастическую.
– Ты же мне не скажешь, о чём вы с ним действительно говорили? – отчётливо, будто я слабослышащий и понимаю только по артикуляции, произносит он. – Вот и я тебе ничего не скажу.
Я открываю рот, чтобы возразить, но тут раздаётся длинная трель телефонного звонка. Игорь прикладывает указательный палец к усам и подходит к телефону.
– Алло, «Регейн»! – говорит он в трубку с интонацией автоответчика, некоторое время молчит, а затем протягивает её мне:
– Это тебя.
Беру из его руки тёплую шершавую трубку.
– Привет, – слышу я в потрескивающей глубине голос Дона Москито.
– Хай, – отвечаю я. – Как сам?
– Ничего. А ты?
– Нормально.
Шум в трубке усиливается, и мне кажется, что связь вот-вот оборвётся.
– Надо бы поговорить, – слышу я где-то совсем далеко голос моего друга.
– Давай, после работы встретимся, – ору я в ответ, хотя прекрасно понимаю, что в этом нет никакого смысла.
– Нет, я сейчас хотел, – отвечает Дон Москито, – прямо сейчас.
– Ну, давай сейчас… что-то случилось?
– Случи-и-илось… – эхом повторяет за мной Дон Москито, и мне в душу закрадывается сомнение: уж больно хорошо мне знакомы эти его затягивания букв.
– Коль, ты в порядке? – аккуратно интересуюсь я, одновременно поглядывая на Игоря, который бродит по шоу-руму и делает вид, что рассматривает оправы, а у самого уши по-кошачьи развёрнуты в мою сторону.
– Нет, не в поря-я-ядке, – отвечает упавший голос, окончательно утверждая меня в предположении, что Дон Москито пьян.
– Ну, давай, рассказывай.
– Понима-а-аешь, Вале-е-ер, – тянет каждое слово Дон Москито, – ничего не происходит, время встало… двигаться некуда… мы топчемся на месте… на месте, понимаешь?
– Стоп, стоп, стоп, – останавливаю я его, – объясни нормально, что у тебя случилось?
– Всё случилось… – отвратительно блеет Дон Москито, – всё уже случилось, понимаешь? Больше уже ничего не будет! Ни-че-го!
Разговор начинает надоедать, но бросить просто так трубку я не могу – товарищ всё-таки.
– Слушай, – говорю я доверительным тоном, – извини, конечно: у тебя что-то не так с Катрин?
Некоторое время я слушаю треск, а затем долгий протяжный вздох, стоящий тысячи слов.
– Я не знаю, что мне теперь делать… за что хвататься… – рыдает Дон Москито. – Катрин ушла… навсегда…
Значит, Татьяна была права, и в этом всё дело. Я уже собираюсь сказать что-то вроде «Жизнь продолжается» или «На ней что, свет клином сошёлся?» и повесить трубку, как в мою голову падает совершенно невозможная мысль.
– Коль, а ты сейчас в каком пиджаке? – спрашиваю я.
– Что значит, в каком? – от неожиданности трезвым голосом отвечает Дон Москито. – Ни в каком… я в трусах на кухне сижу, а за окном снег…
– Почему дома? – удивляюсь я. – Почему не на работе?
– Отгул взял, – поясняет он, – чтобы напиться…
– Понятно… а в каком ты был в «Жёлтой кофте»?
– В каком, в каком… у меня он, вообще-то, один.
– Тогда пойди, найди его и поищи в карманах.
– Поискать что?
– Сложенный вчетверо листок.
– Сложенный вчетверо листок, – как попугай повторяет за мной Дон Москито, – ну, хорошо, подожди…
Я слышу, как трубка на том конце грохается на что-то твёрдое.
Долго, очень долго длятся секунды, пока Дон Москито изучает содержимое карманов своего единственного пиджака. Я вслушиваюсь в телефонный треск, сквозь который еле-еле пробивается далёкая тихая музыка.
– Нашёл, – наконец, слышу я, – что дальше?
– Разворачивай.
Снова пауза, на этот раз не такая продолжительная, но всё равно достаточная для развёртывания десятка сложенных вчетверо листков.
– Слушай, тут телефон какой-то, – донельзя удивлённо сообщает Дон Москито, – и подпись есть: «Анна».
Я радостно выдыхаю:
– Звони по нему, и будут тебе перемены в жизни.
Дон Москито долго молчит.
– Просто представь, что это твой пропуск в новую жизнь, – говорю я.
Снова молчание, изредка прерываемое вяловатым шмыганьем.
– Катрин уже не вернёшь, – использую я последний аргумент, – просто позвони.
– Спасибо, – произносит Дон Москито голосом, в котором уже больше надежды, чем отчаяния, – позвоню.
– Только прямо сейчас не звони…
– Не буду, нажравшийся в любви несовершенен…
Неимоверным усилием подавляю смешок:
– Вот и молодец, не пей больше.
– Да у меня и нечего… – упавшим голосом говорит Дон Москито, – пойду спать.
– Ну, тогда спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Лерик. Пока.
– Пока, – говорю я уже в короткие гудки.
«Странно, – думаю я, положив трубку, – первый раз кто-то из моих друзей таким вот образом излил мне душу. Раньше я ничего подобного ни от кого из них не слышал, да и сам никому в жилетку не плакался. Может, это возраст? Конечно, доверие ко мне со стороны Дона Москито радует, но на него принято отвечать ответственностью…»
– Значит, твой друг не испугался позвонить, а просто не нашёл бумажку с телефоном? – подаёт голос Востоков, который, разумеется, внимательно слушал наш разговор от начала и до конца и теперь стоит рядом.
– Это некультурно, – назидательным тоном отвечаю я, – подслушивать чужие разговоры.
Игорь подходит ко мне и садится на соседний стул. В его глазах – вся хитрость мира.
– Ладно, не сердись, – улыбается он, – можешь считать, что у меня сильно развито женское начало. Очень люблю погреть уши.
– Всё равно это тебя не красит.
– Если тебе станет легче, то я считаю, что самые интересные истории не придумываются, а случаются. Надо только их замечать.
– Подслушивать, Игорь, – поправляю я, – подслушивать.
Востоков пропускает мои слова мимо ушей.
– У твоего друга, я так понял, запой? – как бы невзначай осведомляется он.
– Я бы не сказал, – отвечаю я хмуро, – просто напился с утра.
– Так это и есть – запой! – хохочет Игорь.
Снова звонит телефон. На этот раз поднимаю трубку я.
– Игоря дай, – слышу я тихий с присвистом голос, в котором с удивлением узнаю Игоря номер два, то есть Климова.
Передаю трубку Востокову.
– Там Игорь, – говорю я тихо, чтобы тот не услышал, – и он, похоже, заболел.
Востоков прикладывает трубку к уху и делает добренькое лицо.
– Да, Гарри, – говорит он ласково, – я тебя внимательно слушаю.
Что говорит Климов, мне, естественно, не слышно, но из того, как стремительно сползает фирменная улыбка с лица моего генерального директора, а вместо неё проявляется гримаса отвращения, я делаю вывод, что дело там пахнет скипидаром. У Востокова чрезвычайно выразительная мимика, любое изменение в настроении моментально отражается на лице, поэтому, скорее всего, я прав.
Между тем Игорь продолжает кривиться и мрачнеть. Делает он это молча, что придаёт сцене лёгкий антураж немого кино, где лишённые голоса актёры могли уповать только на корчение рож и заламывание рук. «Разговор» длится долго, минуты три, а может, и все пять, а Игорь всё молчит.
«Что же там такое? – думаю я. – Уж не случилось ли чего?»
Окончательно превратившись в усатую тучу и так ничего не сказав, Востоков кладёт трубку на рычаг.
– Климов сегодня не придёт, – сообщает он, вырывая сигарету из пачки, – так что тебе придётся выполнить кое-что из его обязанностей. Да и мне тоже.
– Он заболел, да? – спрашиваю я.
– Да, той же болезнью, что и твой друг! – резко отвечает Востоков. – Алкаш хренов!
Игорь садится в кресло и закуривает. Прежде чем задымиться, сигарета выписывает несколько пируэтов в пшеничных усах. Глубоко затянувшись и выпустив дым «горынычем», то есть из обеих ноздрей, он начинает:
– Как ты помнишь, – произносит так, словно он мой отец, а я, соответственно, его сын, – вчера господин коммерческий директор проиграл мне две бутылки водки.
– Конечно, помню, – отвечаю я учтиво, совсем как примерный сын.
– Так вот, по просьбе проигравшей стороны мной было принято решение, не откладывая дело в долгий ящик, распить выигрыш прямо вчера вечером. – Игорь делает многозначительную паузу. – Но так как мы, по независящим от нас причинам, так и не смогли вчера друг до друга дойти, опять же мной было предложено призвать на помощь современные технологии общения.
Делаю вид, что заинтригован:
– Это, простите, какие?
– Всего лишь телефон, – небрежно бросает Игорь, – Гарри на одном конце, я на другом. Бутылка у каждого своя.
– И как?
– Знаешь, нормально. Сначала непривычно, но после пятой – в самый раз. Ставишь телефон на громкую связь, и, гуляй, рванина…
– Тогда почему же столь разный эффект?
Востоков делает растерянно-виноватое лицо.
– Я-то свою выпил только до половины, – говорит он, потупившись, – а вот господин коммерческий директор, похоже, полностью. А может, потом и ещё за одной сбегал…
Меня разбирает смех, но я сдерживаюсь.
– Только вам могла прийти в голову гениальная идея нажраться по телефону! – говорю я с восхищением в голосе. – Обещаю, что обязательно применю полученные знания на практике!
Востоков, похоже, принимает мой восторг за чистую монету – разваливается в кресле и начинает разглагольствовать:
– У этого способа есть свои плюсы, но, к сожалению, есть и минусы. Бездушный телефонный провод не заменит небольшого воздушного зазора между тобой и собутыльником; ты не видишь выражения его лица, его глаз… – Игорь на секунду задумывается, глядя мимо меня и покусывая губу, – хотя это смотря с кем пьёшь… иногда лучше не видеть пьяную рожу визави, да и ему, возможно, не особо приятно наблюдать твою, опухающую с каждой рюмкой харю. И потом, можно завершить посиделки одним нажатием на кнопку. Если надоест.
Явно довольный собой, Игорь поднимается из кресла и начинает расхаживать по шоу-руму, продолжая рассуждать:
– В любом случае, будущее пьянства за подобными технологиями. В наши дни, когда люди всё больше общаются посредством всевозможных средств связи, только телефон, или то, что придёт ему на смену, сможет соединить удалённых собутыльников. Только представь: в самом недалёком будущем станут возможны междугородние, международные и даже межконтинентальные пьянки… а ещё через какое-то время и…
– …межпланетные, – ехидно вставляю я.
Игорь осекается, вмиг становясь серьёзным:
– Вот зачем ты это сделал?
– Мерзость характера, ваше генеральское директорство, – отвечаю я откровенно, – простите, если опять сломал вам кайф.
Игорь снисходительно машет рукой:
– Прощаю, только в следующий раз будь осторожен – могу и врезать.
В знак согласия и примирения замираю в театральном поклоне. Внезапно меня накрывает желанием сказать ему что-нибудь приятное или же просто увести разговор в другое, более нейтральное русло.
– Игорь, можно тебя спросить, а ты сам бывал там, куда послал Эдуарда? – спрашиваю я.
Он поворачивается ко мне на каблуках:
– Думаешь, я бы послал человека в непроверенное место? Бывал, и не раз! Израненная мужская душа иногда требует похода по таким местам… Только тебе, надменный азиат, я не расскажу ровным счётом ничего! Изволь придумывать всё сам… И вообще, мы что-то слишком много болтаем. За работу!
Вновь замираю в поклоне, а затем удаляюсь на рабочее место.
Рабочий день докатывается до своего астрономического окончания спокойно. Генеральный директор не вылезает из начальственного угла, я же, лишённый контроля с его стороны, бессовестно использую принадлежащий фирме компьютер в личных целях: пишу роман. Мне, конечно, велено делать совсем другое: выписывать какие-то счета-фактуры – но мне сейчас совершенно не до этого, у меня появилась мысль, в какую сторону бросить повествование и, главное, к чему, в конце концов, привести главного героя. Возможно, на неё натолкнул разговор с Востоковым, а может, и нет. Мне сейчас не до выяснения причин – поскорее бы записать придуманное.
Незаметно подкрадывается так вожделенная ещё полчаса назад половина седьмого, но восторгов по этому поводу почему-то нет. Игорь встаёт с места и молча выходит из офиса, надо полагать, в сортир. Я тоже встаю, но, побродив немного по шоу-руму, снова сажусь за компьютер.
Надвигающийся вечер рождает массу проблем, особенно когда тебе ещё нет двадцати пяти: ты не можешь просто так поехать домой, потому что дома тебе, по большому счёту, делать нечего, надо чем-то обязательно заняться.
«Ну, куда? – думаю я. – К Татьяне нельзя – к ней я поеду только послезавтра; ходить-бродить по улицам – холодно, да и неохота; кого-нибудь вызвонить уже не получится, потому что поздно; остаётся сидеть здесь и писать, писать, писать…»
Возвращается Игорь. На голове у него – творческий беспорядок, а на лице – малопонятная улыбка.
– Ты ещё здесь? – похоже, искренне удивляется он. – Решил отработать за вчерашнее?
– Как вы могли меня в этом заподозрить! Просто мне сегодня некуда пойти.
– Понимаю, – Игорь по-отечески улыбается, – мой тебе совет: если не знаешь, куда деть вечер, потрать его на что-нибудь совсем бесполезное.
– На что, например?
Игорь медленно облачается в бежевую дублёнку с капюшоном, становясь похожим на гнома-переростка:
– Тут я тебе не советчик, придумай что-нибудь, ты же умный.
– Вы мне льстите, – говорю я, делая корявый книксен, – а можно ли уточнить, насколько бесполезным должно быть дело?
– Чем бесполезнее, тем лучше, – отвечает он, нахлобучивая на голову подозрительно пушистую светло-рыжую шапку, – бесполезные дела хорошо убивают время, но после них не бывает угрызений совести, как от телевизора. Ну всё, до завтра, не забудь закрыть дверь.
Пожав мне на прощанье руку, Игорь быстрым шагом исчезает из офиса. Хлопает дверь, и я снова остаюсь один в обществе очков, оправ и компьютера.
«Что может быть бесполезнее, чем вечер, проведённый в таком приятном обществе!» – думаю я и утыкаюсь в четырнадцатидюймовое пиксельное бездонье.
Родничок творческой мысли окончательно пересыхает в девять часов пятнадцать минут московского времени. Без удовольствия пролистываю свеженаписанные страницы и выключаю наш четыреста восемьдесят шестой компьютер, которому давно пора если не на свалку, то уж точно на покой. Ещё полчаса уходит на выпивание большой кружки чая и выкуривание двух подряд сигарет. Без четверти десять с немного затуманенной головой я выкатываюсь на улицу, на мороз.
Из неизвестных соображений решаю ехать на электричке. Без приключений доезжаю до «Комсомольской». Выхожу на переполненную людьми площадь перед Ярославским вокзалом, пытаясь сквозь летящий снег рассмотреть то, что высвечивается на табло. Взгляд мой с трудом выхватывает на чёрном фоне слово «Болшево», затем время – 22.35, а потом номер пути. Воздав хвалу родителям за то, что у меня длинные ноги, прыжками устремляюсь к платформе.
Судя по вокзальным часам (своих у меня нет), до отправления остаётся всего пять минут. Подавляя в себе желание запрыгнуть в последний вагон, бегу до самой «головы» электрички – только там есть надежда, хоть и призрачная, сесть, в других же вагонах совершенно точно придётся ехать стоя.
Добегаю до второго вагона и, чуть не свалив мирно курящего у дверей мужика, вламываюсь в тамбур. Извиняюсь и прохожу внутрь. Свободное место обнаруживается сразу, прямо у тамбура – между двух похожих на колокола тёток в шубах. С трудом протиснувшись меж мохнатых глыб и выслушав с обеих сторон недовольное ворчание, наконец-то усаживаюсь.
Не успеваю перевести дух после пробежки, как дверь с характерным грохотом распахивается, и передо мной вырастает высокий седой субъект с полуприкрытыми глазами и скрипучим голосом. Подняв вверх газету, которую собирается предложить общественности, субъект начинает кричать так, чтобы услышали люди в другом конце вагона:
– Уважаемые граждане пассажиры! Вашему вниманию предлагается газета «УФО»! Читайте в сегодняшнем номере! Смертельный укус таракана-мутанта! Школьница родила тройню прямо на уроке домоводства! Чтобы выйти замуж за Киркорова, Пугачёва развелась с инопланетянином! Тело Ленина голышом разгуливает по ГУМу! Это и многое другое в свежем номере газеты «УФО»!
Продолжая пороть ересь, мужчина быстро проходит по вагону, на ходу обменивая газеты на деньги. Правда, желающих ознакомиться с бредятиной находится немного – всего трое, но даже наличие в вагоне этих троих заставляет меня задуматься об умственной деградации нашего народа. Не успевает первый «коробейник» покинуть вагон, как его сменяет другой, немного на него похожий, только заметно ниже ростом. Этот предлагает купить «элемент западной культуры» – пластиковые мешки для мусора на десять, двадцать и пятьдесят литров. У этого торговля идёт бойчее – «элементы западной культуры» приобретают человек пять-шесть. Этих понять можно: мешки для мусора, в принципе, вещь полезная, я тоже их покупаю и тоже в электричках. И вот тут появляется третий – маленький взъерошенный мужичок с огромной сумкой через плечо.
– Вашему вниманию предлагается новый роман американской писательницы Марии Ремарк «Жизнь взаймы»! – хрипит он. – В этом романе есть всё: погони и перестрелки, тонкие интриги и восточная эротика! Роман читается на одном дыхании и не отпускает до последней страницы! Книга издана в прошитом коленкоровом переплёте и станет прекрасным подарком или украшением вашей домашней библиотеки! Цена – всего двадцать рублей! За эти деньги вы можете купить бутылку пива, а можете – эту замечательную книгу…
Давясь со смеху, останавливаю продавца. Действительно, Ремарк, «Жизнь взаймы».
– Извините, – спрашиваю я, – почему так дёшево?
– Мы работаем напрямую от издательства, – отвечает тот.
– А что за издательство?
– Да какая вам разница! Вы берёте или нет? – торопит продавец. – Электричка сейчас отходит!
– Беру, – я протягиваю ему как раз оказавшиеся в кармане две десятки.
– Спасибо за покупку, – бурчит он и быстрым шагом удаляется в сторону тамбура, буквально расталкивая попадающихся ему на пути пассажиров.
– Это продавцы самой высокой касты, – слышу я голос напротив.
Отрываю глаза от только что приобретённой книги и вижу перед собой средних лет мужчину, лицо которого кажется мне отдалённо знакомым.
– Не понял, что вы говорите?
– Я говорю, это продавцы самой высокой касты, – отвечает тот, чуть подавшись ко мне, – они никуда не ездят и ходят по электричкам до их отправления. Те, что работают на ходу – каста низшая. В смысле, чем дальше от Москвы, тем ниже.
– Откуда вы знаете?
Вместо ответа мой сосед набирает побольше воздуха в лёгкие и выдаёт:
– Граждане пассажиры, обратите внимание на вашу обувь. Не сегодня, так завтра ей понадобиться чистка. Вашему вниманию предлагаются кремы для обуви «Радуга плюс», разработанные специально для наших климатических условий…
– Теперь понятно, – прерываю его я, – покупал я ваши кремы – дерьмо редкостное, уж, простите за откровенность.
– Совершенно с вами согласна, – вставляет женщина в шубе, сидящая справа от меня, – один раз так перемазалась, что аж кошмар!
– Я вообще-то знаю, – как ни в чём не бывало, отвечает попутчик, – что поделать: «не обманешь, не продашь» – первый и единственный закон рынка.
– Я думал, что первый закон рынка звучит несколько по-другому, – говорю я без особой охоты вступать в дискуссию и тем более в спор.
– Неужели «спрос рождает предложение»? – смеётся он. – Нет, молодой человек, только не в нашей стране. У нас наоборот, ненавязчивое, но настойчивое предложение рождает спрос.
– И оно, по-вашему, и заставляет людей покупать заведомо дерьмовые вещи?
– Именно! И ещё лень человеческая! Вот вы, – делая ударение на слове «вы», говорит он, – зачем вы купили эту книгу?
– Скажем так, мне вдруг захотелось её прочитать… – вру я.
– Нет, просто вам её принесли в руки. Раньше люди сами бегали, как савраски, за любой ерундой, а теперь им эту ерунду на блюдечке приносят. В этом всё дело.
– Просто у людей нет времени ходить по магазинам за всякой ерундой! – ворчит женщина слева. – А вы бессовестно этим пользуетесь!
– Вот именно! – мужчина поднимает вверх чуть кривоватый указательный палец. – Прошу не обижаться, но на фене «коробейников», пассажиры – это бараны, а сам процесс торговли называется: «доить электричку».
– Несколько унизительно, вам не кажется? – спрашиваю я.
Глаза собеседника вырождаются в две узенькие щёлочки.
– Кажется. Но и вы тоже смотрите на них свысока, да? Вы же считаете, что находитесь на более высокой ступени социальной лестницы, чем те, кто предлагает вам купить у них крем для обуви?
– Ну, да… – неуверенно отвечаю я, понимая, к чему он клонит.
– Вот, они это прекрасно чувствуют и таким образом вам мстят…
– Или просто завидуют, понимая, что действительно находятся на более низкой ступени социальной лестницы, – вставляю я. – Думаю, каждому из них хочется оказаться на месте пассажиров – не бегать по электричкам с баулами, а спокойно ехать домой, от безделья покупая всякий хлам у туземцев.
В глазах бывшего продавца кремов для обуви на мгновение вспыхивает нехороший огонёк.
– Возможно, вы правы, молодой человек, – произносит он напряжённо, – всем нам свойственно завидовать. Как, например, пассажиры набитой электрички с завистью смотрят в окно на проезжающие мимо авто.
Непроизвольно бросаю взгляд в окно и понимаю, что мы уже едем.
– Ух ты, я и не заметил, что мы тронулись! Кстати, а что вас повергло расстаться с вашим прибыльным бизнесом?
Мой собеседник тяжело вздыхает:
– В первую очередь, отсутствие перспектив. Максимум чего можно добиться – это нанять несколько дураков, чтобы ходили вместо тебя, но выше никак – в этом, как вы изволили выразиться «прибыльном бизнесе» всё уже давно и надёжно схвачено.
– И чем вы теперь занимаетесь?
Мужчина наклоняется ко мне:
– Фирму открыл на пару с приятелем, – говорит он тихо, – торгуем обувной косметикой.
– Какой косметикой? – переспрашиваю я.
– Обувной! – повторяет он громче. – Ну, кремами для обуви, только нормальными.
Обе женщины – та, что справа, и та, что слева – начинают одновременно хихикать.
– Вот моя визитка, – не обращая на них внимания, продолжает мужчина, – может, понадобиться.
Беру из его рук глянцевую коричневую карточку, на которой изображена золотая обувная щётка, под которой золотом же выведено:
ООО «Чистильщик» Леонов Сергей Сергеевич Генеральный директор
– Это, конечно, громко сказано: «генеральный директор», – будто оправдываясь, говорит мой новый знакомый, – в фирме, кроме меня, ещё три человека всего.
– Попробую угадать, все трое – тоже какие-нибудь директора?
– Точно, – смеётся он, – коммерческий, технический и исполнительный.
Я тоже улыбаюсь: фантазии ступивших на коммерческий путь соотечественников на большее не хватает, в кого ни плюнь – обязательно в директора попадёшь.
– Это потому, что всем хочется руководить, – будто читает мои мысли Леонов, – или, по крайней мере, чтобы другие думали, что ты – руководитель. И я тут, к сожалению, не исключение.
– Самокритично. Говорят, это и называется «понты», хотя я могу ошибаться.
На лице собеседника появляется выражение чрезвычайной задумчивости.
– Я под этим словом понимал публичную демонстрацию показателей некого статуса… – проговаривает он медленно, – собственно, что я только что и сделал!
Мой собеседник смеётся совершенно искренне, как ребёнок. Глядя на него сложно поверить, что передо мной представитель наиболее циничного сегмента российской коммерции – мельчайшего бизнеса.
– У меня с собой пиво, – неожиданно говорит он, – составите компанию?
Так как я никогда ничего не имею против вечернего пива, у меня в руках тут же оказывается зелёная бутылка с золотой этикеткой.
– О, «Золотой фазан»! Поохотимся…
Я открываю свою бутылку зажигалкой, а генеральный директор Леонов С. С. для этой цели достаёт из чемодана предмет, в котором я узнаю металлический футляр печати. Ребром футляра он ловко подцепляет крышку и – пшик! – бутылка открыта. Женщина справа, та, что когда-то покупала у него крем для обуви, саркастически хмыкает.
– За что пьём? – спрашивает Леонов, слегка поклонившись даме.
– За смычку спроса с предложением, – предлагаю я.
– Принимается! – хохочет тот.
Делаю маленький глоток – пиво в бутылке, скорее всего, совершившей продолжительное путешествие по морозу, холоднющее. Леонов, напротив, употребляет своё богатырскими порциями.
– Я давно заметил, – говорит он, причмокнув от удовольствия, – что дорога домой покажется вдвое короче, если пьёшь пиво, и вчетверо, если при этом ещё и разговариваешь.
– Это если пива хватит, – замечаю я.
Согласительно кивнув, Леонов внимательно смотрит на ватерлинию своей бутылки.
Беседа начинает утомлять, когда мы подъезжаем к станции Лосиноостровская. Мой собеседник, для которого бутылка «Золотого фазана» совершенно точно была не первой и, скорее всего, не второй, пускается в пространные рассуждения об устройстве российского бизнеса. Наш разговор быстро превращается в монолог, из которого я заключаю, что Леонова сильнее всего гложет зависть к более успешным конкурентам.
– Всё дело в том, что на коммерческой ниве нет, и никогда не будет равных возможностей, – вещает он, прихлёбывая из горлышка, – одни, как я – с серпом, а другие на комбайнах…
Чтобы хоть как-то участвовать в беседе, я киваю.
– …а комбайны эти они, разумеется, не купили, а украли! А что делать тем, у кого не было такой возможности? Правильно, ничего! Они неминуемо окажутся в аутсайдерах…
– Да, тем, кто прощёлкал этап первоначального накопления капитала, на вашем поле делать нечего, – подтверждаю я.
– Вот-вот! – радостно восклицает Леонов. – Потому-то я и в жопе!
Пиво заканчивается в Мытищах. Беседа к этому времени иссякает совсем, и до следующей станции – «Подлипки – Дачные» – мы едем молча. Когда за окном показываются освещённая площадь у магазина «Заря», Леонов начинает спешно собираться. После нескольких безуспешных попыток подбить меня выйти с ним и продолжить, новый знакомец, попрощавшись и зачем-то прихватив с собой мою и свою пустые бутылки, покидает вагон. Сжимавшие меня с флангов женщины тоже выходят, и я остаюсь на целом сидении один, чему, если честно, несказанно рад. Хоть одну остановку проеду, как человек.
До дома от станции я иду пешком. Мой путь лежит по так называемой «Аллее фаллоимитаторов» – улице, с обеих сторон обрамлённой поставленными ещё в восьмидесятые бетонными столбами, на которые новая власть так и не удосужилась водрузить фонари. Совершенно безлюдная, с накатанной ледяной колеёй, циклопическими сугробами по берегам, и, по вышеописанным причинам абсолютно неосвещённая, она сошла бы за иллюстрацию к Пушкинской «Метели», если бы не глухие пятиэтажки и огни проспекта Королёва, светящиеся вдали.
По дороге мне попадаются трое замёрзших до дрожи в конечностях бомжей, впряжённых в заваленную каким-то хламом волокушу. Медленно, с остановками, движутся они в сторону станции – там есть пункт приёма лома цветных металлов, работающий круглосуточно. Один из них – коренной – на секунду останавливает на мне неласковый взгляд, пристяжные не удосуживают и этим.
Даже сквозь мороз я чувствую их жуткий удушливый запах; всматриваюсь в изуродованные пьянкой и побоями лица – и мне становится противно и стыдно разом, будто я чем-то виноват в их бедственном положении, противно, что я живу этой стране, стыдно, что я – русский…
Одолеваемый невесёлыми мыслями, захожу в свой подъезд. По привычке бросаю взгляд на почтовый ящик – и сквозь круглые отверстия вижу, что там что-то есть. Открываю: пухлый конверт без адреса, с одной лишь однозначно узнаваемой подписью в графе «От кого». Любопытство побеждает, и я раскрываю конверт прямо тут, в подъезде.
Здравствуй, Лерик.
Я сама не знаю, зачем написала тебе в прошлый раз всякого. Точнее, знаю – была пьяна. Прости.
На самом деле, не всё так плохо. Мне кажется, я всё-таки люблю Сержика, потому что иногда его ненавижу. Помнишь, ты говорил, что по-настоящему ненавидеть можно только любимого человека? Вот так у нас и выходит. Я люблю его. Когда его нет рядом, люблю; люблю, когда он спит, когда бреется в ванной, когда ест… И ровно столько же раз ненавижу: когда он пропадает непонятно где, когда храпит, как трактор, когда утром занимает ванную, когда жрёт, как свинья… Он нужен мне, а я, кажется, нужна ему. И плевать, сколько он сейчас весит. Я тоже, знаешь, не тростиночка.
Ладно, с Сержиком разобрались. Теперь с тобой.
Ты, конечно, в курсе, какое место в моей жизни занимаешь, и что никто тебя с этого места уже не спихнёт. Поэтому я и пишу тебе – пойми, я хочу тебя забыть, выбросить тебя и всё, что с тобой связано, из головы навсегда, но не получается. Никак. Нет-нет, да всплывает что-нибудь в памяти, плохое или хорошее. Иногда я даже говорю с тобой, когда сижу дома одна, жду Сержика с какой-нибудь гулянки. Было бы у меня побольше мужиков, я бы, наверное, вспоминала вместо тебя кого-то другого, а так выходит, что вспоминать-то мне больше и некого. И вот сажусь я, как дура, за письмо и думаю: вот напишу ещё раз, последний-препоследний, запечатаю конверт, брошу его в почтовый ящик и забуду тебя навсегда. Но не выходит…
Так что, скорее всего, это моё письмо не последнее.
Не твоя Света.P.S. Шлю тебе фотографии, где есть ты. Делай с ними, что хочешь – я бы всё равно когда-нибудь их сожгла…– Что пишут, сынок? – слышу я сзади голос скрытно подобравшейся ко мне соседки снизу – незлобливой замшелой бабки, которой я иногда по вечерам отдаю оставшуюся в карманах мелочь.
– Пишут, что ненавидят, но на самом деле, похоже, ещё любят, – отвечаю я, запихивая набитый фотографиями конверт в карман.
– А так оно всегда, сынок, и бывает, – кивает бабка. – Мелочишкой-то не поделишься?
Часть вторая Волшебная сила искусства
1
Мы лежим с Татьяной в постели голые. Она – кверху попой, читает «Вальсирующих» Бертрана Блие; я – на спине, изучаю трещины на потолке. Они напоминают мне зубцы крепостной стены, строители которой злоупотребляли джазом.
За окном только март, но солнце бьёт сквозь незашторенные окна так, что в комнате по-настоящему жарко.
– Если ты хочешь стать писателем, тебе в первую очередь надо отрастить нормальную бороду, – говорит Татьяна, не отрываясь от чтения.
Я молчу. Татьяна мне это уже говорила.
– И ещё курить трубку, а не твои дурацкие сигареты. Кстати, что ты куришь?
– «Золотую Яву».
– Брось сейчас же! Я имею в виду не курить, а «Золотую Яву».
– Чем тебе не угодила «Золотая Ява»? Хорошие сигареты…
На Татьянином лице появляются признаки подступающего раздражения:
– Пойми, писатель не может курить ни «Золотую Яву», ни «Приму», ни даже «Космос» с ментолом. Он может курить только трубку, или, на худой конец, сигары, причём чем вонючее, тем лучше. – Татьяна перелистывает страницу. – В писателе очень важен экстерьер. Это же очень существенно: что он курит, что ест, во что одевается, какую носит бороду, с кем спит…
Татьяна на секунду замирает, словно её отключили от основного источника питания, а резервный ещё не включился. Такое состояние длится не дольше секунды, но мне становится понятно, что за эту секунду в Татьяниной голове произошла тысяча-другая мыслительных построений, сомкнулись и рассыпались миллион логических цепочек, выстроились и смешались в хаос миллиард ассоциативных рядов. И всё для того, чтобы явить в эфир вот это:
– И ещё, тебе просто необходимо заиметь гомосексуальный опыт.
Разумеется, это уже слишком, но я не подаю вида, что удивлён. Уточняю:
– Заиметь или поиметь?
– Валера, фи! – мне в правую бровь мягко ударяет ватный шарик, который она разминала между пальцами, – неужели это так важно!
– Это важно!
Жёлтый кирпичик Бертрана Блие летит на пол. Татьяна поворачивается ко мне всем телом.
– Если у тебя есть гомосексуальный опыт, то неважно, заимел ты его или, как ты изволил выразиться: «поимел». Всё равно он у тебя есть.
Убойный аргумент. Действительно, разницы никакой. Мне не остаётся ничего другого, кроме как молча поднять руки. Татьяна явно довольна: это у неё называется «вербальный оргазм».
– Почаще так делай, дурачок, – мурлычет она, обнимая меня за шею.
Наш диалог прерывается на долгий влажный, как его называет Татьяна «кинематографический», поцелуй. Окружающая меня вселенная сужается до размеров Татьяниного рта.
– Хорошо, с писательским экстерьером худо-бедно разобрались, – говорю я, отдышавшись, – хотя это отнюдь не означает моё согласие с последним его штрихом. Ответь, что тогда не важно в писателе?
– То, что он пишет, разумеется! – отвечает Татьяна удивлённо. – С того момента, как на пишущего человека стараниями средств массовой информации приклеивается ярлык «писатель», обществу становится наплевать на то, что он написал и, тем более, на то, что напишет в будущем. Он переходит в категорию публичных фигур, и на передний план выступает его личная жизнь, внешний вид, привычки и фобии, а также прочая, не относящаяся к писательскому труду, шелуха. Поэтому, чтобы стать «писателем» тебе необходимо обзавестись соответствующими атрибутами заранее. Согласен?
– Согласен, – обречённо подтверждаю я, – так как ты всегда права.
– Вот и умница, – грудным голосом произносит Татьяна, – иди сюда, дурачок, я ещё не закончила.
Через десять минут, пять из которых заняло выкуривание ритуальной сигареты:
– Скажи, почему мужики так не любят пользоваться презервативами? – спрашивает Татьяна, которая лежит на боку, используя мою грудь в качестве подушки.
– У меня есть два варианта ответа, – говорю я, предварительно выпустив упругую струю дыма в потолок, – первый: им просто лень, и второй: они боятся, что пока будут натягивать презерватив, у них упадёт.
Татьяна откидывается на подушку:
– И какой из двух относится к тебе?
– Ни тот и ни другой. Мне просто не нравится вид моего органа любви, завёрнутого в плёнку. Поверь, с эстетической точки зрения это безобразно. Кроме того, рождает неправильные ассоциации.
Татьяна смотрит на меня с подозрением. Я прекрасно понимаю, что мой ответ её не удовлетворил, но другого у меня нет. Кроме того, я всегда следую правилу, которому меня научили на военной кафедре в институте: «Ближе к положительной оценке тот, кто озвучил неправильный ответ, чем тот, кто промолчал правильный».
– Теперь твоя очередь, – говорит Татьяна, – только давай быстрее, а то мне становится скучно.
Быстренько отыскиваю в памяти подходящий вопрос:
– Почему женщины в постели закрывают грудь простыней даже после того, как провели с мужчиной ночь?
Татьяна косится на свою прикрытую простыней грудь, при этом у неё образуется сразу три подбородка, но она это вовремя замечает и задирает голову как можно выше, отчего создаётся впечатление, что она неожиданно решила изучить те самые трещины на потолке.
Меня очень забавляют эти эволюции, но я не подаю вида.
– Так что там с грудями? – напоминаю я о вопросе.
– Здесь тоже два варианта, – отвечает Татьяна. – Первый: банальный стыд. Очень редко бывает, чтобы женщина была абсолютно уверена в безупречности своей груди. И второй: привычка слегка прикрываться с целью совращения. В этом случае над краем простыни обязательно будут видны соблазнительные округлости, вот так, – и Татьяна левой рукой чуть приподнимает снизу грудь, и над простыней появляются два полушария и край ареолы левого соска, – понял, дурачок?
Я киваю. Действительно, всё понятно: женщиной, как обычно, движет стыд и желание соблазнить мужчину. А чем движет мужчиной, то есть мной? Не то же ли самое? Стыд – тот же страх – и желание овладеть женщиной. Неужели у нас нет ничего другого? Если так, то всем родом человеческим руководит желание прикрыться и справить физиологические потребности. А как же тогда…
– Э-ге-й, – Татьяна теребит меня за плечо, – ну-ка выходим из посткоитальной прострации.
Медленно возвращаюсь в реальность.
– О чём задумались, молодой человек?
– О чём ещё может задуматься молодой человек? – вздыхаю я. – Разумеется, о женщинах.
Татьяна смеётся:
– Обычно мужики в постели думают о чём угодно, только не о женщинах.
Я поднимаюсь с кровати и начинаю слоняться по комнате в поисках трусов.
– Честно говоря, я думал о женщинах в контексте мужчин. Точнее, я думал, насколько же мы – мужчины и женщины – на самом деле друг на друга похожи.
– Уже начал себя морально готовить к приобретению гомосексуального опыта?
Швыряю в неё только что найденными трусами, но Татьяна ловко прячется под одеялом и мой снаряд с большим перелётом приземляется на кровать.
– Тебе, как писателю, такие мысли полезны, – вещает она из-под одеяла. – Я бы даже сказала, необходимы.
Залезаю обратно на кровать и хлопаю по тому месту, где предположительно находится Татьянина попа.
– Мимо, – слышится из-под одеяла.
Хлопаю ещё раз – в ответ доносится подтверждающий прямое попадание визг.
– Ладно, вылезай, – говорю я, приподнимая одеяло, – а то я тебя защекочу.
Татьяна аккуратно высовывается из укрытия.
– Щекотка запрещена Женевской конвенцией наряду с химическим оружием и кассетными бомбами. Тебя будут судить как военного преступника!
Обнимаю её через одеяло и сильно прижимаю к себе.
«Я люблю эту женщину, – говорю я себе, – люблю, люблю, люблю…»
– Задавишь, дурак! – пищит Татьяна. – Отпусти.
Разжимаю объятья и валюсь рядом.
– Мне хорошо с тобой, – говорю я и целую её в торчащую из-под одеяла макушку, – очень.
Татьяна покидает свой кокон и всем телом поворачивается ко мне. Её волосы взъерошены, а в глазах – знакомые искорки. Такой она была в «Жёлтой кофте», и совсем не похожа на ту серьёзную даму, которая полчаса назад читала «Вальсирующих».
– Как мне кажется, ты ждёшь от меня ответного признания, – говорит она, – так?
В знак согласия я ещё раз целую её, на этот раз в губы. Татьяна принимает поцелуй, но затем слегка отстраняется:
– А ты не боишься, что я тебе совру?
– А ты соврёшь?
На Татьянином лице образуется гримаса удивления:
– Конечно совру, я же женщина!
Эти её слова повергают меня к действиям. Запахнувшись в одеяло, словно в тогу, я поднимаюсь на одно колено, и делаю театральный жест рукой.
– Тогда не отвечай ничего! Пусть лучше я умру в незнании, чем буду ложью одурачен!
Татьяна громко хлопает в ладоши:
– Браво, Лерик! Всё или ничего, как это по-мужски!
Устало ложусь обратно:
– А как будет по-женски?
– По-женски? – переспрашивает Татьяна. – А женщину совершенно не смущает незнание чего-либо. Она спокойно может себе придумать то, чего не знает, проще говоря, «накрутить», а потом убедить в своей правоте мужчину, для чего ей, чаще всего, приходится устраивать скандал.
– И всё равно, мне хочется знать…
Татьяна прикладывает палец к моим губам, не давая договорить:
– Глупенький, если я лежу с тобой в постели, то, значит, мне с тобой тоже хорошо. Если бы мне было с тобой плохо – меня бы тут и близко не было.
«Где-то я это уже слышал, – думаю я, – или читал…»
– Положим, я тебе поверю, – говорю я вслух, – расскажи мне, для общего развития, о чём женщины врут мужчинам чаще всего?
Татьяна очаровательно морщит лоб:
– Основное женское вранье мужчинам старо, как мир. Разумеется, от возраста оно меняется по форме, оставаясь одинаковым по сути. Сначала женщина, смущаясь и краснея, говорит мужчине, что он у неё первый, потом, когда приходит определённый возраст, она говорит уже другому мужчине, что он первый, с кем она испытала оргазм, ещё через несколько лет, что он первый, с кем она испытала вагинальный оргазм…
– Это, извините, что за зверь?
Татьяна обвивает мою шею руками:
– Какой же ты у меня ещё дурачок…
Мы сливаемся в ещё одном «кинематографическом» поцелуе. Татьяна прижимается ко мне, и я чувствую на себе её всю – теперь мы нашедшие друг друга и скреплённые воедино половинки одного целого; обнимаю её, провожу ладонями по гладкой спине, спускаюсь к ягодицам и ниже, на сколько хватает рук, затем снова поднимаюсь вверх и запускаю руки в её мягкие пахнущие цветами волосы. Татьяна отвечает на ласку, ещё сильнее прижимаясь ко мне, я чувствую, как стучит её сердце – чаще и легче моего, с силой бьющего о грудину. Когда в лёгких кончается воздух, мы отрываемся друг от друга, но не размыкаем объятий.
– Мне хорошо с тобой, – шепчет мне Татьяна, тяжело дыша.
Молчу – слова тут ни к чему. По-кошачьи зарываюсь в её волосы носом, что есть силы, вдыхая сказочный аромат.
Не знаю, сколько мы лежим так – друг на друге, молча, слушая стук сердец. Может, минуту, а может и час – время в такие моменты перебирается в будильники к соседям. Наконец обоим становится жарко. Татьяна не спеша высвобождается из моих рук, и медленно, словно нехотя усаживается на меня верхом.
Смотрю на неё, красивую молодую женщину, которую я, совершенно точно, люблю, на её очаровательно растрёпанные волосы, будто бы изнутри освещённое лицо, небольшую, но очень красивую грудь, плоский живот с маленьким каплевидным пупком…
– Я хочу тебя, – говорит она, – прямо сейчас.
– Определённо, мне понадобится твоя помощь.
У Татьяны на лице появляется улыбка, за которую мужчины иногда готовы отдать полжизни.
– Так? – спрашивает она, плавно двигая бёдрами вперёд-назад.
Чувствую на своём паху влажный жар.
– Ты меня с ума сведёшь… – выдыхаю я.
За окном слышится звук подъезжающего автомобиля. С характерным для старой «классики» скрипом открываются двери, и к нам в комнату врывается «Люсия» Литл Ричарда, а вместе с ней в моё воображение – набриолиненные парни в узких брюках, кожаных куртках и длинноносых шузах, которые яростно подбрасывают в воздух кудрявых девиц в широченных юбках. Не успевает моя фантазия как следует развернуться, как двери машины захлопывается и Литл Ричард со своей Люсией под раскаты дырявого глушителя отбывает из нашей комнаты вместе с парнями и девахами пятидесятых.
– Интересно, а что останется от нашего времени? – спрашиваю я в пространство.
Татьяна отрывает немного затуманенный взгляд от книги.
– Что, не поняла?
Я поворачиваюсь на правый бок, лицом к ней.
– Ну, от пятидесятых остались битники и рок-н-ролл, от шестидесятых – хиппи, от семидесятых – хард-рок, от восьмидесятых – попса, а что останется от девяностых? Ведь должно от них что-то остаться, кроме того кошмара, что творится в стране.
Татьяна откладывает книгу в сторону.
– Хороший вопрос, ты сегодня в ударе, – говорит она серьёзно, – но ответить на него сейчас, боюсь, проблематично, поскольку девяностые ещё не кончились. Одно можно сказать совершенно определённо: период времени, который мы с тобой определяем как девяностые, у нашего с тобой поколения будет ассоциироваться исключительно с развалом Союза и последующей деградацией всего, что с ним связано, в том числе и искусства. Ты согласен со мной?
Я киваю – она, безусловно, права.
– Но всё дело в том, – продолжает Татьяна, – что параллельно с деградацией в нашей стране могут и должны протекать и другие процессы, которые мы с тобой, в силу нашего воспитания, образования и образа мышления пока просто не замечаем…
Я снова киваю, а у самого мысли уходят в другом направлении. Дело в том, что Татьяна – не совсем обычная в смысле общения девушка: она любит, чтобы ей задавали вопросы. О чём угодно. Поэтому я стараюсь иметь про запас парочку-троечку. Это для неё, как она выразилась: «гимнастика мозгов и языка». Слушать её рассуждения на всевозможные темы чаще интересно, чем скучно. Иногда, правда, это напрягает – надо постоянно думать о том, что бы такого ещё у неё спросить, но иногда очень даже весело. Вчера, например, я спросил у неё, как можно адаптировать старинные сказки для того, чтобы они стали интересны современным российским школьникам, и новый сюжет «Золушки», согласно Татьяной версии, был таков: героиня отправляется на бал, соблазняет принца, делает ему миньет в отдельном кабинете, за что получает определённую сумму денег; роняя туфельки, бежит на ближайший строительный рынок, покупает там бензопилу, возвращается на бал и кончает мачеху и сводных сестёр. Кровища. Занавес.
– …поэтому мы с тобой сейчас ни за что не угадаем, чем же на самом деле человечеству запомнятся девяностые, – заканчивает мысль Татьяна, – когда они закончатся, нам по телевизору скажут.
Успеваю вернуться реальность и снова киваю.
Короткий зимний день умирает. Бледный, как покойник, свет пробирается к нам в комнату, но уже понятно, что его часы, скорее даже минуты, сочтены. Не знаю, как другим, а мне в такие моменты становится невыносимо грустно.
– Может, винца? – предлагаю я. – Помянём световой день…
Татьяна делает отрицательный жест ладонью:
– Не-а. Я голосую за духовную пищу. Ты, кажется, говорил, что твой друг-скульптор звал нас в гости.
– Говорил… – бормочу я.
Наши взгляды встречаются, и я замечаю в её серых с карими прожилками глазах непонятного сорта энтузиазм.
– Я бы с удовольствием посетила его мастерскую, – мягко, но уверенно произносит Татьяна, – если ты, конечно, не против.
Ну как я могу быть против! Панк Петров действительно позвал нас к себе в прошлые выходные. У него там что-то такое случилось: то ли появилось что-то новое, то ли он продал что-то старое, точно не помню.
– Тогда нам пора, – говорю я, глянув на часы.
На сборы уходит совсем мало времени. Татьяна не из тех девушек, которые собираются часами, что меня, если честно, очень радует. Не проходит и пяти минут, как ей для полной боевой готовности остаётся только привести в порядок волосы, а мне – надеть носки.
Должно быть, я – извращенец, но мне нравится наблюдать за ней, когда она одевается – уж больно грациозно и соблазнительно у неё получается. Выходит эдакий стриптиз наоборот.
– Обычно мужчинам нравится обратный процесс, – бросает через плечо Татьяна, замечая мой интерес.
Поднимаюсь с кровати и подхожу к ней сзади.
– Может, я – необычный мужчина, – говорю я, обнимая её за плечи, – и мне нравится всё необычное…
Татьяна ловко выскальзывает из моих объятий.
– Пойдём, необычный мужчина, – говорит она с улыбкой, – поздно уже…
Мы решаем дойти до дачи Панка Петрова пешком, это не так далеко – она находится между платформами «Валентиновка» и «Болшево», ближе к последней.
Совсем стемнело. Из лишённой звёзд темноты еле сыплет мелкой крупой снег. Мы с Татьяной идём под ручку вдоль железнодорожных путей по слабо освещённой заваленной снегом улице, по обеим сторонам которой из-за покосившихся заборов просматриваются черные дачи с белыми шапками на крышах.
Татьяна выглядит задумчивой, видимо, темнота и лёгкий мороз повергли её в меланхолию. Мне, напротив, моцион придал сил и энергии.
– Эта улица раньше была улицей Свердлова, – озвучиваю я неожиданно всплывшее воспоминание, – а в конце восьмидесятых после долгих дебатов в местной прессе она стала улицей Цветаевой.
– Причём здесь Цветаева? – рассеянно спрашивает Татьяна.
– Она жила здесь в войну, кажется, – поясняю я. – Дальше по улице её дом-музей, правда, я там ни разу не был.
– Да? Интересно…
– Помню, наша училка по литературе, по кличке «Синяя», очень за это переименование ратовала. Она, видите ли, считала страшным кощунством тот факт, что дом, где жила Цветаева, находится на улице Свердлова, потому что его сын, якобы бывший следователем НКВД, вёл дело сына Цветаевой, которого впоследствии расстреляли…
Татьяна, до этого момента спокойно внимавшая моим россказням, отрывается от неизвестных мне, всецело занимающих её мыслей.
– Ты серьёзно?
– Абсолютно. Вообще, это была ужасно политизированная и, как мне кажется, весьма недалёкая дама. Вместо знакомства с шедеврами русской литературы рассказывала нам об ужасах большевизма.
– А вы, что?
– Спорили с ней до хрипоты, идиоты. А надо было послать подальше…
Татьяна поддевает носком сапога ледышку размером с кирпич и проворно отшвыривает в сугроб.
– У нас такая флюгерша-историчка была, Анна Павловна Костылева. Мы её звали: Анна Напалмовна. Была членом партии и председателем парткома школы, кажется. А после перестройки у неё вдруг прорезались дворянские корни, она поставила в кабинет икону вместо портрета Ленина, стала носить огромный крест на впалой груди и при каждой удобной возможности крыть матом советскую власть, которая, между прочим, её вырастила, выучила и выкормила. А может, ещё и квартиру дала.
С удивлением гляжу на спутницу. Татьяна отводит глаза:
– Не смотри на меня так, я не верующая коммунистка. Я, между прочим, из семьи репрессированных, и у меня масса претензий к советской власти, просто я ненавижу таких сук беспринципных. Если служишь дьяволу, то делать это надо беззаветно и преданно, иначе не стоит и пытаться. Дай сигаретку, пожалуйста.
Достаю из кармана пачку «Золотой Явы», в которой обнаруживается всего две сигареты.
– Хороший знак, – говорю я, – доставая обе.
– Хороший, хороший, – соглашается Татьяна, – прикури, будь другом.
Делаю то, что меня просят. Татьяна берёт зажжённую сигарету губами и шумно затягивается.
– Далеко ещё? – элегантно выпустив дым, как умеют делать только симпатичные девушки, спрашивает она.
– Не очень, – отвечаю я, – ты что, замёрзла?
Татьяна отрицательно болтает головой и снова глубоко затягивается.
Дальше, до самой дачи, мы идём быстро и почти не разговариваем.
В мастерской Панка Петрова прохладно. Помещение, бывшее когда-то оранжереей генеральской дачи, теплотой не отличается – из огромных окон, призванных давать как можно больше света растениям, ощутимо сквозит. Немного спасает положение стоящий по центру исполинских размеров калорифер, похожий на футуристическое надгробие. Панк Петров рассказывал, что лет двадцать назад его бабка-генеральша выращивала здесь всяческую экзотику: манго, авокадо, разные пальмы и фикусы, и ещё много всякого разного, косточки чего его дед-генерал привозил в Союз с колониальных войн. После бабкиной смерти весь этот ботанический сад без должного ухода довольно скоро захирел, а в память о былой роскоши остались эти самые окна и неимоверное количество горшков, некоторые из которых внучок приспособил под свои нужды, но многим так и не нашлось должного применения, и они, словно художественно оформленные урны, расставлены теперь по дому и во дворе.
Собственно мастерская, или «пространство для творчества» – как его называет нынешний хозяин дачи – занимает приблизительно половину бывшей оранжереи, остальное завалено всевозможным дачным хламом – старой мебелью, одеждой, фантастических размеров чемоданами и перевязанными шпагатом пачками книг. В центре того, что осталось, находится деревянный поворотный круг, сделанный когда-то самим Панком Петровым из половины кабельного барабана. Этот круг, служащий постаментом для модели, с трудом, но может поворачиваться вокруг своей оси, предоставляя на обозрение скульптору любой интересующий его ракурс. Метрах в трёх от круга прямо на полу располагается глыба из неизвестного мне материала высотой с человеческий рост, от которой, надо полагать, скульптор в ближайшее время собирается отсечь всё лишнее. Остатки свободной площади занимают продукты творчества – разновеликие изваяния, в которых не всегда однозначно, но всё же угадываются женские фигуры, почему-то все как одна приземистые и пузатые.
В момент, когда мы, щурящиеся от непривычно яркого света, заходим в мастерскую, на кругу, широко раскинув руки, стоит обнажённый по пояс незнакомый мне молодой человек. Напротив него – Панк Петров в грязном халате с засученными по пояс рукавами, а чуть поодаль, меж двух статуй, плотный молодой мужчина с круглым розовым лицом и маленькими влажными глазками. На мужчине надето не застёгнутое длинное чёрное пальто, из-под которого выглядывает огромный усыпанный каменьями крест, чей вид воскрешает в памяти Татьянину историчку.
При нашем появлении молодой человек на кругу принимает обычную позу и проворно облачается в висевшую до этого на стуле длинную белую рубаху без пуговиц. Когда он, уже одетый, покидает место, на котором стоял, становится видна торчащая примерно из середины круга Т-образная деревянная конструкция. Мужчина в пальто, складывая пальцы в замок на выпирающем из пальто брюхе, молча поворачивается в нашу сторону всем телом.
– Это мои друзья, – представляет нас Панк Петров, – Валерий и Татьяна.
Делаю приветственный жест рукой (Pies!). Обозначенный мужчина реагирует на него странно: продолжая молчать, смотрит на нас, словно посетитель зверинца на экзотических тварей – с нескрываемым детским любопытством в глазах.
– Добрый вечер, – говорю я, протягивая руку.
– Отец Матвей, – будто очнувшись, отзывается он, – а это, – он показывает рукой на парня на кругу, который успел поверх рубахи надеть ещё и какой-то несуразный пиджак, – Серафим. Наш служка.
Пожимаю по очереди сначала пухлую мягонькую ладошку отца Матвея, которая с мороза кажется горячей, а затем узкую и холодную Серафима. Татьяна ограничивается пожеланием доброго вечера обоим и кивком головы.
Как обычно бывает в случаях, когда рядом оказываются незнакомые люди, повисает неудобное молчание.
– Мы обсуждали мою новую работу, – нарушает его Панк Петров, – для церкви.
– Для чего, не понял? – переспрашиваю я.
– Для церкви… – отвечает тот и отводит глаза.
– В Пушкино строится храм Вознесения Господня, – берёт слово отец Матвей, – я курирую внутренне убранство. Нам удалось кое на чём сэкономить, поэтому принято решение украсить южный неф скульптурной композицией. Мы с Олегом как раз обсуждали её состав.
Всё ещё не понимая, что происходит, смотрю на вчерашнего безбожника и не могу сдержать удивления. На моём лице, должно быть, даже ничего не смыслящий в физиономистике мог бы с лёгкостью прочитать: «И как же всё это понимать, дорогой товарищ?» Но дорогой товарищ будто бы ослеп – стараясь не встречаться со мной взглядом, делает вид, что всё в порядке.
– В центре будет, естественно, распятие, – не обращая внимания на наши гляделки, продолжает отец Матвей, – по обе стороны от которого будут стоять коленопреклонённые фигуры Иосифа и Марии. Возможно, за ними будут стоять святые, также приклонившие колени перед сыном божьим, но это ещё под большим вопросом, смета у нас не резиновая. Осталось решить, как быть со святым духом…
На полуслове он замолкает. Похоже, в его расширяющуюся книзу голову залетела какая-то важная мысль. Упёршись взглядом в Серафима, который, пользуясь моментом, слез со стола и придвинулся вплотную к калориферу, стоит он молча и недвижимо, подобно окружающим его статуям.
«Завис, – думаю я, – плохо дело…»
– Прошу прощения, – неожиданно подаёт голос Татьяна, – можно попросить чего-нибудь горячего попить, а ещё лучше выпить. Я замёрзла очень.
Услышав заветное слово, Панк Петров удаляется куда-то за статуи. Через секунду оттуда, куда он скрылся, раздаётся звук падающего на пол тяжёлого предмета и негромкие матюги.
– Это не очень-то вежливо, девушка, перебивать старших, – с укоризной произносит спустившийся с небес ОТЕЦ Матвей, – особенно когда те духовного звания…
– Я думала, вы закончили, – отвечает Татьяна спокойно.
– Нет, я не закончил, я сделал паузу, задумался… – хмурится отец Матвей, – а вы меня с мысли сбили…
Я вижу, что они с отцом Матвеем встречаются взглядами, и что в глазах у обоих ни капли уважения друг к другу.
– Ну, извините, – примирительно говорит Татьяна, – в следующий раз дождусь, пока вы кончите, обещаю.
Появляется Панк Петров с парящей эмалированной кружкой, на ручку которой намотан непрезентабельного вида носовой платок. Не снимая перчаток, Татьяна принимает из его рук дымящий источник тепла.
– У меня он уже был готов, – виновато поясняет Панк Петров, – я просто забыл про него, чёрт…
– Не ругайтесь, Олег, – одёргивает его отец Матвей.
– Прошу прощения, – отвечает тот с неестественным поклоном в его сторону и, обращаясь к нам: – давайте тоже чаю попьём, я сейчас табуретки принесу.
Не дожидаясь нашей реакции, он снова скрывается в статуях.
– Ну, чаю, так чаю! – бросаю я ему вслед, но он не обращает ни малейшего внимания на мой сарказм.
Всё дело в том, что здесь, в подвале, хранятся буквально тонны самодельного вина, различных настоек и наливок, некоторые из которых остались ещё с генеральских времён. Распитие какого-нибудь сливового или грушевого, или даже рябинового вина до сегодняшнего дня было обязательным пунктом посещения мастерской, а теперь вот, на тебе – чай.
Когда мы шли сюда по заснеженной улице Марины Цветаевой, одной из моих мыслей было, что мы непременно выпьем сейчас красного из высоких, больше похожих на мензурки, стаканов, потом Панк покажет нам что-нибудь новенькое, и мы это новенькое будем долго и восторженно обсуждать, потом, когда винный хмель захватит мозг, станем говорить об искусстве в нас и наоборот, потом об искусстве вообще, пока хозяин не станет предлагать Татьяне ему попозировать, разумеется, в первородном состоянии… Но всё выходит по-другому.
Мы рассаживаемся на принесённые Панком Петровым табуретки вокруг постамента, на котором недавно стоял Серафим. Усилиями хозяина на «столе» появляется чайник и кружки, такие же убогие, что и та, которую он принёс Татьяне. В качестве закуски нам предлагается нечто среднее между бубликами и сушками. Я выкладываю на наш с Татьяной вклад в общий стол – вафельный тортик, приобретённый в ларьке у станции Болшево. Слуги божьи, как и полагается, принесли в гости только свои тела.
– Я думаю, вопрос со святым духом достаточно понятен, – неуклюже разливая кипяток по кружкам, говорит хозяин, – обычно его изображают в виде голубя, как, например, а Исаакиевском соборе.
Отец Матвей, который в этот момент только-только пригубил божественный напиток, кивает в ответ, но как-то неуверенно.
– Но у нас не к чему его крепить, – кривясь от горячего, сообщает он, – разве что между стен на растяжках…
– Может, лучше, на длинную такую спицу нанизать, – предлагает Панк Петров, – с резьбовым концом. Спицу в цвет стен покрасим – незаметно будет – а сверху навертим птицу.
– А что, это мысль! – оживляется заскучавший было отец Матвей. – Палку, то есть, спицу только надо потоньше…
– А центр тяжести сместить птице в зад, для устойчивости… в смысле, в гузку…
Мне представляется голубь со смещённым в гузку центром тяжести, и этой же частью насаженный на длинную металлическую спицу. Пернатый в моей фантазии выходит с растопыренными в стороны крыльями, открытым клювом и донельзя выпученными глазами. Непроизвольно улыбаюсь – хорош святой дух, ничего не скажешь.
– Мне кажется, лучшая аллегория для изображения святого духа – это луч света во тьме, – слышу я голос моей спутницы, – почему бы вам не придумать что-нибудь подобное, а?
Воцаряется молчание. Отец Матвей переводит на источник звука, то есть на Татьяну, недобрый взгляд. Панк Петров шмыгает носом и отворачивается.
– Вот вы опять нас перебили, девушка, – с напускной укоризной произносит первый, – простите, как вас?
– Татьяна, Матвей, – отвечает моя спутница ровно, но твёрдо, – Тать-я-на. Легко запомнить.
– Отец Матвей, – поправляет её помрачневший священник, – потрудитесь и вы запомнить.
Татьяна ставит кружку на «стол», отряхивает ладошки и скрещивает руки под грудью.
– Мой отец, – не спеша, с деланной ленцой в голосе произносит она, – крупный седой мужчина пятидесяти шести лет, на которого вы совсем не похожи. Других отцов у меня, извините, нет.
Отец Матвей также ставит кружку, только с более громким звуком.
– Да будет вам известно, девушка, что к лицам духовного звания следует обращаться соответственно. Ко мне, например, отец…
– Возможно, – перебивает его Татьяна, – если бы мы с вами были на вашей территории, я бы так и сделала: с волками жить, как говориться, по-волчьи выть. Но так как мы находимся на территории светской, я имею полное право обращаться к вам так, как это принято в светском обществе – по имени и отчеству. Но так как по возрасту до отчества вы не дотягиваете, я буду обращаться к вам только по имени.
Взгляды всех присутствующих за столом, кроме Серафима, которому, похоже, вообще всё фиолетово, скрещиваются на моей спутнице. Отец Матвей за время её тирады собравший кожу на лбу в одну тугую складку, глядит на Татьяну так, будто пытается усилием мысли раздеть её догола, но только не с целью совершения развратных действий, а чтобы запороть до смерти.
– Мрачные времена атеизма, голубушка, прошли, – проговаривает он столь же напряжённо, сколь и выглядит, – наступили времена новые. Богоугодные, правильные. Государство и церковь находится сейчас совсем в иных отношениях, нежели десять лет назад. Думаю, говорить о каком-то светском обществе в нашей стране уже нельзя – в чистом виде его не существует, и нечего на него ссылаться. Есть установленная форма обращения к священнослужителям, так что будьте добры, девушка, её придерживаться.
Татьяна кивает, но это совершенно не означает согласие, скорее она даёт понять, что просто поняла собеседника.
– Нынешняя власть тяготеет к церкви, – говорит она, – поскольку испытывает острую потребность в замаливании грешков, коих за ней накопилось немало. Известно, что многие преступники жертвуют церкви средства, порой значительные, исключительно с этой целью. Наше коррумпированное правительство – не исключение. Кроме этого, при помощи религии оно хочет сделать народ тупым и послушным, хотя куда ещё тупее и послушнее, непонятно. Но, как бы там ни было, согласно конституции Российской Федерации, которую никто не отменял, церковь в нашей стране отделена от государства, так что ваши претензии не обоснованы: я буду обращаться к вам так, как принято в цивилизованном светском обществе – по имени.
Отец Матвей отвечает громким молчанием, его лицо начинает приобретать нехороший багровый оттенок, а белки глаз розоветь. Будто не замечая перемен в образе собеседника, Татьяна спокойно продолжает:
– Кстати, вы совершенно зря обозвали социалистические времена мрачными. Несмотря на то, что в СССР церковь действительно была отделена от государства, советская мораль куда ближе к морали христианской, нежели мораль, понимаешь, россейская, когда, как вы совершенно верно заметили, церковь остаётся де-юре отделённой от государства, а де-факто уже проникла во все сферы общества.
– С чего это вы взяли? – удивлённо-озлобленным голосом осведомляется отец Матвей.
Татьяна снова кивает:
– Объясню. В СССР не приветствовался, а иногда и был вовсе запрещён добрачный секс, пестовались семейные, читай: христианские ценности, в средствах массовой информации была запрещена пропаганда секса и насилия. А кодекс строителя коммунизма – это же десять заповедей в чистом виде! Вопрос: так ли был плох Советский Союз, и стоило ли его менять на общество, где секс и насилие пропагандируются открыто, а проституция и воровство стали практически нормой поведения?
Окончательно залившийся краской отец Матвей инстинктивно поднимает вверх правую руку.
– Главное, что времена воинствующего атеизма и богоборчества канули в лету, – видимо, от напряжения хрипит он, – страна возвращается к своим православным истокам, восстанавливаются разрушенные и строятся новые храмы. Люди пошли в церковь, а церковь пришла к людям – это главное!
Татьяна подаётся всем телом вперёд, будто собираясь броситься на оппонента через стол:
– То есть церкви глубоко наплевать, по каким законам живёт общество? Её интересует только власть над ним? Так?
– Власть у нас, голубушка, одна – небесная… – немного спокойнее произносит отпрянувший отец Матвей.
– А вы, разумеется, полноправные её представители здесь, на земле русской! – восклицает Татьяна, звонко хлопнув себя по коленям. – У вас на это монополия! А все, кто против – враги?
– Православная вера потому и называется православной, что является правой, то есть единственно верной! И чем больше людей примут нашу веру, тем мир станет лучше!
– Знаем, знаем! Нам нужен мир и желательно весь!
Сказав это, Татьяна бросает в мою сторону вопросительный взгляд, который выводит меня из мысленного ступора. Я понимаю, что просто обязан принять какую-либо из сторон – нейтралитета, пусть и насупившегося, мне не простят.
– На мой взгляд, всё проще, – уверенно заявляю я, – любая церковь, это прежде всего организация, всеми способами рвущаяся к власти не только в отдельно взятой стране, но и во всём мире. А религия – средство завоевания этой власти. Она учит бояться жрецов и ненавидеть инаковерующих. Думаю, высшее духовенство вообще не верит ни во что – ни в бога, ни в чёрта – а только в собственный гешефт, наивно полагая, что его можно будет утащить за самый дальний кордон.
В мастерской становится тихо. Слышно только, как за окном вдалеке шумит электричка, и как Серафим – первая православная супермодель – ковыряется в ухе пальцем.
– Давайте, может, не будем ссориться, – подаёт голос хозяин дачи, только его робкий призыв мало действует на нашего оппонента.
– Во всей этой истории меня радует только то, что вы всё равно когда-нибудь придёте в церковь, – медленно, видимо, из всех сил стараясь держать себя в руках, проговаривает тот, – точнее, приползёте, когда припрёт.
В ответ Татьяна начинает несколько наигранно аплодировать:
– Ну, наконец-то! А я-то думала: когда же вы пустите в ход свой последний и единственный аргумент, и вот дождалась. Только я вам скажу вот что: это не мы, а вы приползёте к нам.
Сквозь гнев на лице отца Матвея проступает крайнее удивление:
– Это к кому это, «к нам»?
– К нам – это к людям, не разделяющим средневековых взглядов на устройство мира и общества, которые исповедуете вы. Проще говоря, к здравомыслящим людям – людям науки.
Теперь отец Матвей подаётся всем своим мощным телом вперёд, на стол.
– К кому, к кому? – вопрошает он.
– К людям науки, – спокойно повторяет Татьяна. – В данном конкретном случае, к медицинским работникам, ко врачам…
– И откуда у вас, голубушка, такая уверенность?
Татьяна саркастически кривится:
– От верблюда. У вас лишний вес, судя по всему, вы мало двигаетесь, употребляете спиртное, пьёте чай с тремя ложками сахара… Матвей, поверьте мне на слово, вы, с очень большой долей вероятности, поимеете огромные проблемы после сорока. Моя родная тётка работает в «Каширке», я знаю, о чём говорю…
Молнии, которые мечет священник в Татьяну, теперь ярче, чем лампочка, висящая над «столом». Меня даже на секунду посещает мысль, что он собирается её задушить, настолько много ненависти в его маленьких глазках.
– То есть, когда вы поймёте, – размеренно продолжает Татьяна, – что стояние раком перед расписными досками при лечении болезни столь же эффективно, сколь и танцы с бубном вокруг костра, вы явитесь в ближайшее медицинское учреждение соответствующего профиля с просьбой хоть немного продлить вашу жизнь. Думаю, там вы не будете против, если к вам будут обращаться по имени и отчеству.
– В прошлые времена вас бы сожгли на костре, молодые люди, – словно сквозь засорившийся фильтр процеживает отец Матвей, – живьём.
– Может, в будущие? – не без язвы интересуется Татьяна.
– Искренне на это надеюсь!
– Вот вы и показали своё истинное лицо, – заключаю я, – большое вам за это человеческое спасибо!
Теперь о примирении не может быть и речи. Должно быть, понимая это, отец Матвей, тяжело вздохнув и, не то перекрестив, не то просто фигурно махнув на нас рукой, поднимается из-за стола.
– Нам, наверное, пора, – обращаясь исключительно к Панку Петрову, устало произносит он. – Благодарствую за чай.
Панк Петров тоже поднимается. На его лице растерянность. Отец Матвей не спеша подходит к моему другу и покровительственно кладёт пухлую ладонь ему на плечо.
– Олег, не сочтите за труд, проводите меня до калитки, – говорит он ласково, но в каждой ноте его голоса чувствуется дичайшее раздражение.
– Конечно, конечно, отец Матвей, – торопливо ответствует Панк Петров, чем вызывает у меня кратковременный приступ ненависти к нему.
Слуга божий между тем не спеша уносит свои телеса в направлении входной двери.
– Матвей, в приличном обществе полагается прощаться, – назидательно замечает Татьяна.
– Прощайте, – без выражения бросает он ей через плечо, одновременно хамовато поманив к себе Серафима – не хватает только команды «К ноге!»
Серафим, как подорванный, вскакивает со стула и трусит за ним, словно собачонка. Думаю, если бы природа наделила его хотя бы маленьким хвостиком, он бы им обязательно повилял.
– До свидания! – кричит им Татьяна. – Приятно было познакомиться!
Но отец Матвей и ухом не ведёт. Его широкая туго стянутая пальто спина скрывается в статуях. А вот Серафим, напротив, поворачивается к нам и отвешивает поясной поклон, улыбаясь при этом, мягко говоря, придурковато: глаза чуть навыкате, рот перекошен. Удивлённо взираю на это дело и вдруг соображаю, что он вовсе не паясничает. В его позе и выражении лица нет ни капли фальши или наигрыша: он совершенно искренен; абсолютно, на сто процентов натурален.
– А у парня-то, по всей вероятности, не все дома, – шепчет мне Татьяна. – Это, кстати, прекрасно объясняет то, как он странно держался за столом – не проронив ни слова и всё время глядя куда-то в сторону, а точнее, в себя.
Мне становится жалко этого маленького обиженного природой человечка, которым холёный мошенник духовного звания помыкает, будто собакой, и одновременно стыдно оттого, что я о нём совсем недавно плохо подумал.
«Странно, почему люди в чёрном решили распять именно его, путь понарошку, но всё же распять? – спрашиваю я себя. И сам себе отвечаю: – Да потому что только такой, как он – беззащитный человек с неподдельными чувствами – может сгодиться для этого».
От мыслей о Серафиме меня отвлекает Панк Петров, который, на ходу надевая куртку, проходит мимо. Выставленный в мою строну кулак и страшная рожа говорят о том, что он не очень-то доволен моим, вернее, нашим с Татьяной поведением. Отвечаю ухмылкой – пошёл он к чёрту! Он и уходит.
Мы с Татьяной остаёмся за «столом» одни. Наши с ней взгляды встречаются, и мы синхронно начинаем хихикать, точно, как нашкодившие школяры.
– Чего ты на него набросилась? – спрашиваю я.
– Он первый, – с трудом проговаривает Татьяна, продолжая трястись.
Хозяин дачи возвращается, когда нас уже отпустило, но по нашим раскрасневшимся физиономиям можно однозначно понять, чем мы только что занимались.
– Вот вы тут ржёте, а я чуть заказчика не потерял, – с порога выпаливает он, – вы чего, с ума посходили? В кой-то веки подвернулся стоящий заказ, а вы взяли и устроили чёрт знает что!
– Олег, не ругайтесь! – стараясь скопировать выговор отца Матвея, говорит Татьяна.
Меня снова скрючивает хохот. Панк Петров звереет на глазах:
– Ну, какого хрена? Что, сложно было сделать то, что он просит?
Татьяна поднимается с места и походит к нему настолько близко, насколько позволяют неписаные правила поведения не спящих друг с другом разнополых человеков.
– Олежек, прости нас, – говорит она тихо, глядя ему в глаза, – я понимаю, что это невежливо, устраивать разборки в гостях, просто у людей бывают свои убеждения.
Панк Петров обмякает на глазах – былой ярости на его лице и след простыл. Вот она – женская сила убеждения.
– Давайте лучше посмотрим твои новые работы, – продолжает Татьяна тем же тихим голосом, – а потом выпьем вина.
Окончательно замирённый Панк Петров медленно сползает на табурет.
– Давайте, – говорит он, – только лучше наоборот…
2
В помещении фирмы «Регейн» темно. Генеральный директор восседает в кресле лицом к окну и спиной к нам. За окном валит стеной мокрый снег. Не видно даже «Газпрома». Вот такая в этом году весна.
Приблизительно с периодом в тридцать секунд в офисе раздаётся характерный звук, ассоциирующийся у всех, кто вырос в Советском Союзе, с чукчами, чумами и творчеством Кола Бельды. Звуки эти при помощи хомуса издаёт сам генеральный директор, который после работы должен куда-то ехать и таким образом пытается заговорить снег. До конца рабочего дня остаётся сорок минут.
Рядом с Востоковым директор коммерческий пытается отправить счёт-фактуру по факсу в соседнее здание. Получается это у него это, мягко говоря, не очень – пока прошла только половина.
– Какая половина прошла? – кричит он в трубку. – Правая? Хорошо, я сейчас её другим концом вставлю. Стартуйте!
Чуть дальше сидит ваш покорный слуга и занимается самой интеллектуальной в мире работой – вставляет в пластиковые оправы тёмные стекла, предварительно нагрев первые на зажатом между ног фене.
Заходит Зоя:
– Вы чего в темноте-то сидите?
– Игорь Борисович опять снег заговаривает, – отвечаю я, – при помощи передовых северо-восточных технологий.
– Победа близка, – не прерывая игру, сообщает Игорь. – Если бы Валерка не шумел, давно бы уже всё разогнал.
Зоя переводит слегка ошалелый взгляд с него на меня.
– А ты-то чем занимаешься?
– Делаю из оправ медицинских корригирующих и цветных светофильтров очки солнцезащитные. Вот, видишь, уже сорок штук сделал, осталось ещё столько же.
На глуповатом от природы лице Зои происходят странные преобразования, делающие его ещё глупее.
– А их, что, на заводе не могли вставить? – спрашивает она, подходя ко мне ближе.
– Разумеется, могли! – подаёт голос, оторвавшийся от факса Климов. – Просто в этом случае они бы сразу стали солнцезащитными очками, которые облагаются двадцатипроцентным налогом при ввозе на территорию нашей ушибленной родины, в отличие от оправ медицинских корригирующих, налог на которые составляет всего пять процентов от стоимости.
С Зоиным лицом снова происходит что-то непонятное.
– Вы чего, от налогов уклоняетесь, что ли? – зачем-то понизив голос, спрашивает она.
– Ну что ты! – поднимает вверх руки Климов. – Как ты могла о нас так подумать! Мы просто не платим лишнего!
Раздаётся цифровая телефонная трель. Климов привычным жестом хватает трубку, где-то с секунду, нахмурившись, ей внимает, а затем кричит дурным голосом:
– Как не прошла? Вообще не прошла? Или всё-таки что-то прошло? Как мне вставить?
И вот на этом месте входит она. Женщина с деньгами. В расстёгнутой короткой белой шубке, под которой виднеется ещё более короткое платье с глубоким, как Марианская впадина, декольте, высоких сапогах, надетых на длинные загорелые ноги, она буквально вплывает к нам, гоня перед собой ароматную волну.
Зоя, сметённая всем этим великолепием, исчезает из офиса сама собой, Востоков перестаёт насиловать хомус, Климов – орать в трубку, я – вставлять стекла в оправы.
Женщина с деньгами останавливается в центре шоу-рума и обводит нас уверенным взглядом.
– Мальчики, мне нужны солнечные очки, – говорит она, чуть затягивая окончания слов, – что-нибудь подоро-о-оже.
Востоков приходит в себя первым – вскакивает из кресла и, одёрнув пиджак, направляется к ней.
– Да выключи же ты чёртов фен! – на ходу пихает он меня в бок. – И включи уже свет!
Щелкаю выключателями по очереди. В шоу-руме становится светло и тихо, слышно лишь негромкую музыку улицы.
– Добрый день, – говорит гостье подошедший Востоков, – меня зовут Игорь, чем я могу вам помочь?
– Жанна, – без выражения отвечает женщина. – Мы сегодня летим в Андорру на лыжах кататься, а мне подруга сказала, что там без очков нельзя, а у меня ничего нет, одно старье.
– Умница – ваша подруга! – соглашается Востоков. – В горах совершенно нельзя без тёмных очков!
Жанна ненатурально морщится:
– Вообще-то, Машка дура, каких мало. Это ей тренер по фитнесу напел, с которым она спит.
Востоков делает вид, что ничего не слышал.
– У нас есть то, что вы ищете, – говорит он, снимая со стойки очки, которые Жанна тут же надевает себе на голову.
Некоторое время она по-всякому смотрится в зеркало, потом спрашивает:
– А почему так темно?
– Это специальная модель, для занятий горнолыжным спортом, – объясняет Востоков, – линзы полностью закрывают глаз и поглощают сто процентов ультрафиолетового излучения. Понимаете, в горах сверху солнце, а снизу снег, который это солнце отражает, поэтому в обычных очках там делать нечего – катаракта не дремлет.
Его объяснения на Жанну не действуют, она явно недовольна. То снимая с себя, то надевая очки, она вертится перед зеркалом. Мы с Климовым с удовольствием следим за её эволюциями, поскольку теперь можем как следует разглядеть достоинства гостьи, и в первую очередь её выдающуюся вперёд грудь. Мне она, кстати, кажется несколько крупноватой, а вот Климову, судя по его негромким, но выразительным вздохам, в самый раз.
– Так они мне нравятся, – говорит Жанна, разглядывая очки, – но я себя в них не вижу ваще!
Тут до Игоря доходит, что надо сделать.
– Валера, принеси, пожалуйста, лампу со стола, – просит он, – и удлинитель.
Приношу то, что просили, втыкаю удлинитель в ближайшую розетку и ставлю на столик у зеркала мою видавшую виды лампу, которую я, между прочим, ещё летом принёс из дома.
Игорь направляет плафон прямо на гостью, которая в потоке яркого света становится похожей на какую-то голливудскую звёздочку.
– Вот, примерно так там светит солнце, – говорит Игорь с такой уверенностью, будто всю жизнь только и делал, что катался на горных лыжах в Андорре.
– Су-у-у-пер! – шепчет, наконец увидевшая себя в зеркале Жанна. – Беру. Сколько?
– Семьдесят у.е. А вы подумали, в чём вы будете ходить в ресторан или в клуб?
– Действительно, в чём? – повторяет за ним Жанна.
Игорь мягко улыбается:
– Обычно люди берут с собой на горнолыжные курорты две пары всего: одну для спорта, а вторую для вечеринок. Это называется: «Сент-Мориц комплект». То есть, всё в двойном комплекте, в том числе и очки.
Снявшая с себя очки Жанна, удивлённо хлопает ресницами:
– А что такое Сент-Мориц?
– Это горнолыжный курорт в Швейцарии, – ответствует Игорь. – Очень дорогой.
Гостья кивает. Мне кажется, она уже знает, куда поедет отдыхать в следующий раз.
– Так вот, – продолжает Игорь, не давая ей опомниться, – для вечеринок у нас есть очки «Элизабет Арденн», коллекция «Лето девяносто восемь».
– Как лето? – удивляется Жанна. – Сейчас же ещё зима.
– Летнюю коллекцию выпускают всегда зимой, – поясняет Игорь, – а зимнюю – летом. Иначе не успеть. Примерьте.
Жанна с готовностью надевает предложенные очки и становится похожа на какую-то другую голливудскую знаменитость.
– Чума-пылесос… – вздыхает она, – я валяюсь… вот что значит красота…
Дверь открывается резко и бесшумно. Широким уверенным шагом в шоу-рум входит низкорослый бритый налысо крепыш в чёрной обливной дублёнке. Быстро обшарив глазами офис, видимо, на предмет опасности, он выдаёт:
– Жанна, ну ты, блин, в натуре, где была? Еле тебя нашёл.
– Ой, Макс, смотри, что я себе приглядела! – верещит девушка и по очереди надевает на себя обновки.
– Ну как?
– Класс, – быстро отвечает крепыш, даже не взглянув на неё, – пошли, опаздываем.
– Ну, я ещё не расплатилась! – пищит Жанна. – Кстати, тебе тоже нужны очки! Там без них нельзя!
У крепыша на лице происходит перераспределение мускулов, свидетельствующее о некой умственной деятельности:
– Точно, Милка что-то болтала. Вот эти, сколько?
Крепыш снимает с дисплея ближайшие к нему очки и одной рукой надевает их себе на лысую голову, делаясь примерно в два раза страшнее, чем был.
– Супер! – искусственно ахает Жанна. – Это тебе для спорта, а надо ещё для вечеринок…
– Обойдусь, – отмахивается крепыш. – Сколько?
– Двести двадцать за всё, – быстро отвечает Игорь.
Гость снимает очки и подозрительно прищуривается.
– Чё так дёшево? Палёные, что ли?
Игорь становится очень серьёзным.
– Никакого палева, всё из Европы, – медленно произносит он. – Просто мы оптовая фирма, но иногда делаем исключения…
– Понятно, – обрывает его крепыш, протягивая «капусту», – проверяй.
Игорь пересчитывает купюры.
– Всё точно. Спасибо за покупку, прекрасный выбор…
Крепыш качает лысым шаром в знак согласия и тащит свою спутницу к выходу. Прежде чем быть аккуратно выпихнутой из офиса, Жанна успевает сделать нам на прощанье ручкой.
– Пока, мальчики! – кричит она из коридора.
– Пока, Жанна, – отвечает ей Климов грустно. – Приходите ещё!
Счастливый обладатель шикарной дамы на секунду замирает в дверях, оборачивается и обводит шоу-рум взглядом непонятного содержания.
– Как-нибудь зайду к вам, – произносит он медленно, – поболтаем…
– Милости просим, – с улыбкой отвечает Игорь, тихо добавив: – Догадываюсь, о чём.
Дверь закрывается так же резко, как и открылась.
Востоков, заработавший для фирмы двести двадцать долларов США за несколько минут, сидит в своём кресле, уставившись в потолок. В правой руке у него дымящаяся сигарета, в левой – привезённая из Испании сувенирная тарелочка, которая служит нам пепельницей. Хомус отброшен в сторону – снег перестал.
– Знаешь, Гарри, – говорит он Климову, – этот бандит навёл меня на мысль о том, что нам надо срочно повысить цены на некоторые позиции из нашего ассортимента. Народ отказывается верить в подлинность вещей, если они дёшевы.
– Полностью согласен с тобой, Гарри, – отвечает Климов из-за факса, – «Мерседес», предлагаемый по стоимости «Москвича», наводит только на одну мысль.
– Вот именно! – щелкает пальцами Востоков. – Надо выделить из нашего модельного ряда группу оправ и задрать на них цену до неприличия, специально для таких вот клиентов. Думаю, тогда спрос именно на эти оправы непременно возрастёт.
– А вам не кажется, что ситуация несколько абсурдна, – встреваю я. – Вы же собираетесь поднять цены на товар, чтобы он лучше продавался, если я правильно понял.
Востоков выпускает дым и тушит окурок в пепельнице.
– Ты, Валера, всё правильно понял. Ситуация была бы абсурдной где-нибудь в просвещённой Европе, а у нас она близка к нормальной: чем дороже товар, тем на него выше спрос. И пока деньги в этой стране находятся у людей, подобных нашим сегодняшним гостям, ситуация не изменится.
– А что тебе не понравилось в наших сегодняшних гостях? – интересуется Климов. – Скажи ещё, что ты на Жанну глаз не положил?
Игорь вновь возносит очи к потолку.
– Жанна мне, разумеется, понравилась, но лишь в антропологическом контексте.
– В каком? – в унисон спрашиваем мы с Климовым.
– В антропологическом, дурни. Сейчас объясню.
Игорь встаёт, но только за тем, чтобы приземлиться на краешек стола. Так ему, наверное, удобнее с нами, немытыми, говорить.
– Сейчас под влиянием самых разных факторов, – начинает он менторским тоном, – формируется совершенно обособленная от всех остальных женских особей популяция, отличительными особенностями которой являются прямые или слегка вьющиеся бледно-золотистые волосы, кожа цвета равномерно прожаренной сосиски, длинные эпилированные ноги, высокая колышущаяся при ходьбе грудь и пухлые розовые губы. В некоторых кругах это не просто стандарт красоты и даже не униформа, это – нечто большее. Это – показатель статуса. Кстати, обладание такой женщиной тоже показатель и тоже статуса.
– Высокая колышущаяся при ходьбе грудь, – задумчиво повторяет за ним Климов.
– Спешу тебя разочаровать, Гарри, – хлопает его по плечу Востоков, – скорее всего, это доступные теперь и нашим женщинам чудеса маммопластики.
– Чего? – снова в унисон спрашиваем мы.
– Блин, ну вы дремучие… – кривится Востоков, – ну, груди у не нашей Жанны ненастоящие.
Глаза Климова слегка выкатываются из орбит:
– А какие?
– Силиконовые, Гарри, силиконовые.
Обдумывая услышанное, Климов неестественно громко чешет себе затылок.
– А что, есть разница? – наконец интересуется он.
Востоков поднимает вверх указательный палец:
– Есть! Я тебе больше скажу: искусственные груди – это верх обмана. Они настолько эффектно смотрятся под одеждой, так призывно выглядывают из выреза на платье, так задорно прыгают при ходьбе, что кажется – просто не могут быть неприятны, и даже противны на ощупь. Но, к сожалению, это так. В наши дни практически каждый мужчина, который пользуется услугами очень дорогих проституток, или женатый по расчёту, знает, что это такое.
– Расскажи! – вырывается у меня.
Лицо Востокова из нормального превращается в маску под кодовым названием: «Братец лис».
– Э, не-е-е-т, – тянет он, – ты, Лерик, у нас ещё маленький. Тебе ещё рано.
– Игорь, ну я тебя прошу… – канючу я, – мне это необходимо знать…
Телефонный звонок прерывает моё нытьё. Климов, предварительно взглянув на часы (без пяти минут конец рабочего дня), снимает трубку.
– Аль-лё, – с притворной усталостью говорит он, – фирма «Регейн»…
Следует небольшая пауза, следом за которой лицо коммерческого директора приобретает демонический вид.
– Как не прошла? – рычит он. – Вообще не прошла? Совсем не прошла?
Следует ещё одна пауза, несколько длиннее предыдущей.
– Я понимаю, что уже конец рабочего дня, – говорит он гораздо спокойнее, – я понимаю, что вам нужна она сегодня и что вам завтра в банк, тоже понимаю…
Взгляд его при этом мечется по офису, пока не останавливается на мне.
– Всё, придумал! Высылаю к вам делегата связи. Да, нарочного. Как выглядит? – Оценивающий взгляд в мою сторону. – Мальчик молодой, брюнет в очках, с козлиной бородкой, на молодого Троцкого похож… через десять минут будет у вас… ну, хорошо, через пять…
Игорь на выдохе кладёт трубку.
– Лерик, собирайся, – резко говорит он мне, – вот тебе счёт-фактура, дуй мухой в «Волгу», отдашь её ихнему бухгалтеру, заодно заберёшь у них свежий каталог. Куда идти, знаешь?
– Знаю, – отвечаю я, – только, правильно надо говорить «ихову».
Климов мечет в мою сторону взгляд, способный в засушливое лето поджечь саванну. Не в силах это выдержать, отступаю к одёжному шкафу, для страховки выставив вперёд ладони:
– Ухожу, ухожу, ухожу…
– У тебя пять минут, – завершает он дискуссию, а сам поворачивается к Востокову. – Гарри, рассказывай, что там с искусственными сиськами…
Вышеупомянутый платёжный документ мне необходимо доставить в соседнее по Научному проезду здание, в котором тоже когда-то размещался какой-то научный или проектный институт, а теперь, сами понимаете, офис. Точнее, много офисов, хороших и разных. Вот в один из таких мне и надо занести счёт-фактуру, который Игорь так и не смог отправить по факсу.
Про пять минут Игорь, конечно, загнул – идти тут гораздо дольше, в основном из-за того, что приходится обходить забор это самого НИИ, или чем он там был до развала великого и ужасного.
Захожу внутрь, говорю вахтерше, в какую фирму мне надо, поднимаюсь пешком на третий этаж и попадаю в длиннющий-предлиннющий коридор с мерцающей лампой дневного света в конце. Проходя быстрым шагом по его фарватеру, успеваю заметить, что далеко не все двери здесь отмечены печатью нового времени – вывесками с оригинальными названиями, а‑ля ООО «Алёна и К°» – на некоторых ещё красуются старые добрые: «Отдел технического нормирования», «Метрологическая лаборатория», «Конструкторское бюро»… Не знаю, как другим, а мне в таких местах всегда грустно, потому что ни первого, ни второго, ни третьего за этими дверьми нет, и, думается мне, никогда уже не будет.
«Любой бывший НИИ теперь подобен кладбищу, – приходит мне в голову, – а двери – просто вертикально установленные надгробия».
Вот, наконец, искомая, с номером 342 и черно-красно-рыжей вывеской: «Туристическая фирма «Волга». Дверь открыта, изнутри слышится музыка и женские голоса. Из вежливости стучу о косяк. Захожу.
– Добрый вечер, – успеваю сказать я, но меня прерывают:
– Ну, наконец-то! – баском вступает крупная женщина в шубе и с «халой» на голове. – Вы на локтях, что ли ползли, молодой человек?
– Прошу прощения, – отвечаю я, как можно спокойнее, – руководство переоценило мои скоростные характеристики.
Лицо женщины добреет. В мою сторону протягивается пухлая рука:
– Давайте!
Передаю ей счёт-фактуру. Женщина берёт документ, пробегает по нему глазами.
– Слава богу, хоть правильно заполнили, – бормочет она под нос.
Счёт-фактура исчезает в огромной сумке. Женщина встаёт со стула и, обойдя меня, выходит в коридор.
– Кстати, на Троцкого вы совсем не похожи, – бросает она мне, выходя, – можете так и передать Игорю.
– Хорошо, передам, – отвечаю я. – Мне ещё надо каталог у вас забрать.
– У девушки возьмите, – слышится из коридора.
– У какой девушки…
Поворачиваю голову и вижу сидящую у огромного фикуса улыбающуюся девушку, которую я до этого просто не замечал – весь кадр занимала покинувшая нас мадам.
– Ой, здравствуйте, – кланяюсь я, – я вас не заметил.
Девушка улыбается ещё шире, но это её не портит.
– Меня никто тут не замечает, – говорит она, поднимаясь, – такая моя доля. Во всём виноват Николай Гаврилович.
– Кто? – не понимаю я.
– Мы так зовём наш фикус. Марии Карловне Альтшуль, по чьему авторитетному мнению вы совсем не похожи на Льва Давидовича Троцкого, он напоминает памятник Николаю Гавриловичу Чернышевскому в её родном Саратове.
– Чем, простите, напоминает? Цветом или формой?
– Ни тем, ни другим, – отвечает девушка. – Настроением.
Внимательно смотрю на фикус и совершенно точно понимаю, что этот, высотой в человеческий рост, чуть склонённый в мою сторону цветок (скорее, уже дерево), передаёт только одно настроение:
– Печаль, – говорю я, – печаль или скорбь.
Девушка кивает.
– «И лишь печальный Чернышевский глядит на город с видом шефским…» – декламирует она басом, видимо, стараясь скопировать голос Марии Карловны.
Я улыбаюсь:
– Сами сочинили?
– Нет, что вы, – машет она рукой, – это Мария Карловна… вот, возьмите наш каталог.
Она с улыбкой протягивает мне яркий буклет формата А4, который я с некоторым трудом запихиваю в сумку. Когда я вновь поднимаю глаза на мою собеседницу, до меня вдруг доходит, что предо мной та самая «Изабелла Росселини» из нашей «стекляшки».
– Ой, а я вас знаю! – вырывается у меня. – Вы Иза… в смысле, торговали в ларьке, в нашем здании, на первом этаже. Да?
Улыбка сходит с лица девушки. Моя собеседница поднимает брови и отводит взгляд – явный признак того, что я ляпнул лишнего.
– Да, это была я, – говорит она, изучая Николая Гавриловича.
Спешу извиниться:
– Простите, вырвалось. Я не хотел вас обидеть, честно.
– Ничего страшного. – Девушка меняет гнев на милость, и наши взгляды вновь встречаются. – Я всего неделю там торговала – заменяла заболевшую подругу Марии Карловны – а вы уже седьмой человек, который меня узнал.
– Седьмой, значит счастливый, – улыбаюсь я.
– Возможно. Я, кстати, вас тоже узнала. Пирожок с инопланетянином?
– Вот это память! – совершенно искренне удивляюсь я.
– Настя, – протягивает мне руку она.
Жму маленькую, почти детскую ладошку:
– Валерий, можно Лерик…
Предложение проводить Настю до метро выскакивает из меня само собою, безо всякого намёка с её стороны, или мне это только кажется. На «Калужской» я вызываюсь проводить её до той станции, куда ей нужно (Маяковская), а уже там – до самого её дома. С одной стороны, всё идёт более чем отлично, смущает лишь то, что моя новая знакомая не то, чтобы совсем безразлично воспринимает мою решимость, но и без огонька в глазах.
«Женское кокетство, – успокаиваю я себя, – игра в холодность».
Мысль о том, что я изменяю Татьяне, возникает лишь однажды, когда на перегоне между «Новыми Черёмушками» и «Профсоюзной» вагон сильно болтает, и мы с Настей прижимаемся друг к другу. Я чувствую некоторую неловкость пополам с действительно неповторимым ощущением, когда в первый раз касаешься незнакомой девушки, пусть сквозь одежду, пусть на секунду, но всё же по-настоящему, а не во сне. Вот она, совсем рядом, ближе, чем того позволяют нормы морали. По сути, нас разделяют только одежда; её лицо рядом с моим, её дыхание, запах её духов… Поезд набирает ход, и мы отстраняемся друг от друга, но лишь затем, чтобы снова прижаться при следующем удобном случае, (по крайней мере, мне это так видится). А что до Татьяны, то пока всё невинно… ну, почти.
Вываливаемся из метро на «Маяке» и сразу попадаем в разномастную толпу галдящих, матерящихся и чем-то торгующих людей.
«Боже мой, как давно я не был в центре! – думаю я. – И откуда взялись все эти люди?»
Толпа выносит нас на Тверскую. Здесь становится немного свободнее, хотя и не настолько, чтобы праздно и беззаботно хилять. Кругом люди, люди, люди… Около здания булочной в моё поле зрения попадает какая-то телевизионная знаменитость, но она скрывается за дверцей чёрного «членовоза» быстрее, чем я успеваю сообразить, кого именно я только что видел.
С развесёлой гудящей клаксонами Тверской мы сворачиваем на какую-то тихую плохо освещённую улицу, где становимся свидетелями «смотрин», то есть демонстрации потенциальным клиентам человеческого товара лицом, в смысле, телом. В свете фар грязного, как вся Москва, авто стоят штук пятнадцать разнокалиберных девушек в позе «стреляйте в мою комсомольскую грудь», а рядом, у фонарного столба, делая вид, что просто курят, трутся двое мордоворотов в дублёнках. Пассажирское стекло автомобиля с противным скрипом опускается, и нам становится виден клиент – заросший бородой по самые глаза кавказец в меховой шапке. Высунув из окна смуглую руку, он манит к себе одного из сутенёров. Оглядевшись по сторонам, тот не спеша подходит к машине, наклоняется; второй, оставшийся на стрёме, недвусмысленно поворачивает голову в нашу сторону. Стараясь на него не смотреть, пробегаем мимо.
– Как они надоели тут! – злобно шипит Настя. – Каждый божий вечер свои игрища здесь устраивают. Другого места, что ли, найти не могут?
– Видимо, в этом виноваты ищущие продажной любви гости столицы, – отвечаю я, – должно быть, им по кайфу купить человека в центре Москвы.
– Это ты хорошо сказал: «Купить человека», – говорит Настя очень серьёзно и, как мне кажется, сильнее сжимает мой локоть. – Я не ханжа и не против проституции как таковой, просто есть в этом непонятно кем изобретённом обряде что-то от невольничьих рынков, работорговли, и прочей древней дикости, о которой нам, как о чём-то давно канувшем в лету, рассказывали на уроках истории. Оказывается, нет, никуда эта дикость не делась, она живёт в нас – людях двадцатого, почти двадцать первого века – и при каждом удобном случае вылезает наружу. Получается, вся теория общественно-экономических формаций на фиг!
«Вот это речуга! – думаю я. – С такими способностями бы в горком комсомола, а то и куда повыше…»
– Я что-то не так сказала? – обрывает мою мысль Настя.
– Нет, нет, ты абсолютно права, – спешу согласиться я, – нельзя прыгнуть из рабовладельческого строя в коммунизм с короткой пересадкой в социализме. Всё равно придётся остаться на второй год в феодализме.
Настя одобрительно гладит меня по рукаву варежкой:
– Молодец, именно это я хотела сказать.
Через два квартала улица заканчивается, и мы сквозь полукруглую арку попадаем в заваленный грязным весенним снегом двор огромного сталинского дома.
От выхода из метро и до встречи с «древним миром» мы с моей новой (старой) знакомой говорили, а точнее, спорили, об искусстве. К этой теме нас подтолкнули Дейнековские мозаики станции «Маяковская». Во дворе прерванный разговор возобновляется.
– Когда я слышу словосочетание «современное искусство», – уверенно говорит Настя, – у меня в памяти всплывает карикатура Бидструпа про то, как маленький мальчик опознал в собачьей какашке скульптуру, увиденную им в музее этого самого искусства.
– Помню, помню, прекрасная карикатура! – соглашаюсь я. – Вообще, Бидструп мне в детстве очень нравился, да и сейчас нравится.
– Мне тоже, – кивает Настя. – Так вот, эта самая какашка и есть собирательный образ современного искусства в глазах обывателя. Когда я оказываюсь на какой-нибудь выставке, всегда об этом вспоминаю, и всегда срабатывает.
Мне становится весело, но я не показываю вида.
– Но больше всего меня радуют эти дикие измы! – продолжает Настя. – Это же надо было додуматься! Я половины названий в трезвом виде выговорить-то не могу: систематизм, орфизм, неопластицизм, районизм…
– Ещё этот, как его, суперматизм, – вставляю я.
– Супрематизм, – поправляет меня Настя. – А всё на самом деле просто. Кучка непонятно откуда взявшихся энергичных молодых людей от нечего делать или же от неспособности добиться чего-либо известными способами, сооружает из того, что оказывается под рукой, некую хрень, и объявляет эту хрень искусством. Какое-то время этих людей игнорируют, высмеивают и даже преследуют, но потом, обычно после безвременной кончины одного из них, возносят до небес. Искусствоведы придумывают для этой хрени заумные названия, и теперь любая куча дерьма, к которой изволил прикасаться ушедший и его соратники, на законных основаниях становится произведением искусства, а тот, кто не понимает, почему – совок и ретроград… Ничего не напоминает? Это же религия! Идолопоклонничество! Чёртов культ! – Настя почему-то морщится. – Весь вопрос только, как долго он будет привлекать свежих адептов. На мой взгляд, не очень. В этом смысле современное искусство правильнее было бы называть сиюминутным.
Мне хочется возразить собеседнице в том смысле, что те, кого она назвала энергичными молодыми людьми, хотели, ни много ни мало, запечатлеть на холсте собственные обострённые алкоголем и женщинами чувства, но не делаю этого. Опыт научил меня не спорить с девушками, а соглашаться с ними, если, конечно, хочешь чего-то от них добиться.
– Да, ты права, – вздыхаю я, – в наше время, что модно, то и искусство, а мода меняется стремительно. Только успевай гардероб обновлять.
– А вот я не хочу обновлять свой художественный гардероб! – топает ножкой Настя, чем меня немного пугает. – Мне вот, например, более всех ныне востребованных художников милее так называемые гиганты соцреализма – Корин, Пименов, Дейнека, Пластов, Бродский. Даже Налбандян – и тот мне гораздо ближе, и я не боюсь в этом признаваться.
– Это кто портреты Сталина, что ли, писал?
Настя кивает.
– Ты смелая женщина…
– Скорее, с ног до головы облитая помоями. Знал бы ты, сколько лохматых снобов подозрительной сексуальной ориентации глумились над моими взглядами на изобразительное искусство!
Я принимаю героическую позу:
– Только прикажите, мадемуазель, и я их всех до одного насажу на свою шпагу, как жуков!
– Боюсь, им это только понравится! – хохочет Настя. – С другой стороны, по данному вопросу просто не может быть какого-то объективного мнения. На вкус и на цвет, сам понимаешь…
– Далеко не все так думают, многие слишком уверены в своей правоте. Их ещё называют критиками.
Настя кивает:
– О да! У меня есть одна такая знакомая, которая всё и всегда знает, кроме точного времени, поскольку у неё нет часов.
– Так подарите ей.
– Пробовали, не берёт…
Настя пожимает плечами и отводит взгляд в сторону. Я понимаю, что надвигается момент прощания, и этим бестолковым разговором мы просто пытаемся его хоть немного оттянуть, но долго так продолжаться не может.
– Ну, что ж… – приближаю я неизбежное.
– Кстати, о Сталине, – перебивает меня Настя, – вот тут я и живу.
Рукой в мохнатой варежке она обводит заснеженный двор, окружённый темным каре высокого дома, явно построенного при генералиссимусе.
– Понятно, откуда такая любовь к соцреализму, – пытаюсь шутить я.
Настя на шутку не реагирует, вместо этого выдаёт то, чего я ожидаю меньше всего:
– У нас сегодня гости, не хочешь зайти? Я тебя приглашаю.
Сказать, что её приглашение меня ошарашивает, значит вообще промолчать. Смотрю ей в глаза и понимаю, что она не шутит.
– У тебя что, сегодня день рождения?
– Ага, – смешно хлопает глазами Настя, – двадцать четыре земных года.
– Поздравляю, но меня нет подарка… – бурчу я.
– Потом подаришь, пойдём.
Ухватившись за локоть, она тащит меня по кривенькой тропинке меж просевшими сугробами к угловому подъезду, рядом с которым я замечаю две пары светящихся глаз.
«Весна, – думаю я, – так почему бы и нет…»
За огромным столом, на который, как мне сообщила хозяйка – Настина бабушка – облокачивал локти сам маршал Малиновский, я чувствую себя неуютно. Дело не в том, что я неподобающе одет, и не в отсутствии у меня подарка, а в большом количестве незнакомых людей вокруг, которые делают вид, будто им до меня нет никакого дела, а на самом деле пристально за мной наблюдают.
Публика, кстати сказать, на день рождения фанатки Налбандяна собралась соответствующая. Нет, в мундире припёрся только один – капитан первого ранга, подводник с колодкой до пояса, – но остальные и в штатском выглядят не лучше. Того и гляди начнут строем ходить, или скакать вокруг стола на стульях, как немцы в «Большой прогулке».
Видимо, чувствуя моё настроение, Настя успокоительно пихает меня в бок.
– Расслабься, представь, что мы в кафе, – говорит она тихо.
– В «Ротонде»? – уточняю я.
– Пускай, в «Ротонде». У нас же был разговор о живописи…
«Хороша «Ротонда», один Малиновский чего стоит», – думаю я, но говорю другое:
– А кто у нас будет Пикассо?
Настя улыбается:
– Боюсь, с Пикассо, Модильяни и прочими здесь напряжёнка.
– Я заметил.
– Предлагаю выпить за именинницу! – слышится справа красивый, что называется, бархатный, голос. – Прошу всех наполнить.
Не успеваю я и глазом моргнуть, а в мою рюмку уже льётся, направляемая уверенной рукой соседа слева, янтарного цвета жидкость. А рюмка немаленькая.
– Всё-всё-всё… – пытаюсь остановить его я.
– Всё не влезет, – басит тот.
– Не наливай так много мальчику, Тёмсик, – просит его через стол Настина бабушка, – а то я тебя знаю.
– Всё под контролем, бабушка, – отзывается Тёмсик – здоровенный мужик лет тридцати пяти с «сябровскими» усами, – Тёмсик меру знает.
– Здоровье изменницы, ура! – грохочет он, поднимая свою рюмку.
Над столом прокатывается дружное «Ура!»
«Солдафоны», – следующее после осознания того, что я выпил «рябины на коньяке», приходит ко мне в голову.
Вторую мы пьём за Настиных родителей. Из них на празднике присутствует только отец, высокий худой мужчина с серьёзным волевым лицом. Он сидит практически напротив нас с Настей, рядом с бабушкой. Из того, что другой женщины подходящего возраста возле него нет, а обручальное кольцо он носит на левой руке, я заключаю, что Настины родители находятся в разводе. Не меняя выражения лица, отец моей спутницы опрокидывает в себя рюмку, потом также без выражения ставит её на стол.
«Каменное лицо, – думаю я, – наш человек».
Вторая, как ей и положено, пьётся легко. Спустя полминуты мне становится гораздо спокойнее. Скованность постепенно проходит, по телу расползается тепло и благость.
– Закусывать не забываем, – наставительно шепчет Настя, подкладывая мне в тарелку салат «Мимоза».
Поблагодарив её, закусываю. Салат тоже отменный, даже не знаю, с чем сравнить.
– Это Настёна утром готовила, – читает мои мысли бабушка, – она у нас мастерица.
Поворачиваюсь к имениннице с целью выяснить, так ли это, но та встречает мой вопросительный взгляд сведёнными к переносице глазами, вызывая у меня приступ беззвучного смеха.
– Это недобросовестная реклама, – поясняет она, – я не умею готовить.
Тёмсик снова наливает мне до краёв. Теперь я не против – хмель окончательно успокоил нервы и притупил бдительность.
– Ну что, с вас тост, молодой человек, – обращается ко мне через стол подводник, – дерзайте!
– За прекрасных дам! – говорю я, вставая.
Под одобрительное мычание поднимаются остальные.
– Не подкачали, – хвалебно кивает мне подводник, – не подкачали…
Звенят бокалы. Я замечаю, что, чокаясь, Настин отец избегает встречаться со мной взглядом. В каком-нибудь другом случае меня бы это, наверное, обеспокоило, но сейчас я даже рад. Отвесив поклон сначала в сторону бабушки, а затем Насти, выпиваю залпом.
«Это даже лучше, что меня не воспринимают тут серьёзно, – думаю я про себя, – теперь главное – не напиться».
– Валерий, расскажите нам о себе, – просит меня бабушка после того, как я закусил и расслаблено откинулся на спинку дивана.
Рассказываю. Сначала про себя, потом про родителей, потом про их родителей и так вплоть до моего прапрадеда, участника Русско-японской войны – самого дальнего моего предка, о котором я имею какие-то сведения. Я понимаю, что для женщины возраста Настиной бабушки рассказ о чьей-то семье – это самое интересное, что она может от кого-то услышать, поэтому моё повествование получается подробным, может быть, даже слишком. Я ещё недостаточно пьян, моя речь, как мне кажется, складна, предложения закончены, слов-паразитов практически не наблюдается. Меня никто не перебивает, лишь иногда бабушка и подводник задают наводящие вопросы. Остальные, в том числе и Настя, молчат.
– Ну, спасибо молодому человеку за столь детальный рассказ, – тяжёлым низким голосом заключает Настин отец, когда я иссякаю, – а теперь давайте вспомним, по какому поводу мне здесь сегодня собрались.
Моя рюмка вновь полна. Тёмсик смотрит на меня выжидающе. Отворачиваюсь от него и встречаюсь глазами с Настей.
– Твоё здоровье, Настя, – говорю я, как мне кажется, с наивозможнейшей искренностью в голосе, – всего тебе хорошего… здоровья, денег, любви…
Чуть покрасневшая именинница чокается со мной высоким фужером с шампанским.
– Горько, бля, – слышу я сзади издевательский голосок Тёмсика.
«А почему бы и нет», – думаю я, слегка наклоняюсь к Насте и под звон бокалов целую её в щеку. Кровь приливает к моему лицу; кажется, я даже слышу звон в ушах.
– Ну, ты и нахал, – восхищённо шепчет Настя мне на ухо.
Её слова вгоняют меня в краску ещё больше. Чтобы никто не заметил моего смущения, устремляю взор в свою тарелку, на которой, откуда ни возьмись, появилось горячее – огромная отбивная, в окружении замаскированной зеленью рассыпчатой парящей картошки.
«Это, наверное, повкуснее «Мимозы» будет», – думаю я, начиная все это великолепие энергично уплетать.
– Ну-ка посмотри мне в глаза, – говорит Настя мне чуть погодя.
Смотрю, предварительно сведя глаза к переносице.
– Так, по-моему, тебе уже харэ, – заключает она после тщательного изучения моих зрачков.
– Я в порядке, – отвечаю я, возвращая глаза в нормальное положение.
– Ну да, я вижу, – кивает Настя, – у меня лучшая подруга анестезиолог, она меня научила по глазам определять дозу.
– Валера, вы не рассказали нам самого главного, – неожиданно произносит бабушка, – как вы познакомились с Настёной?
Вопрос ставит меня в тупик. Рассказать ей правду? Про ларёк, пирожки и платёжку? Или соврать… вопросительно смотрю на именинницу, но та уже, похоже, все придумала.
– Я покажу Валере свою комнату, – говорит она, поднимаясь, – мы ненадолго.
Встаю и пробираюсь вслед за Настей к выходу, чувствуя спиной взгляды гостей.
Настина комната огромна. Кажется, она больше, чем вся моя квартира, включая балкон и общую прихожую. Я серьёзно. Настолько огромна, что в ней спокойно помещаются: книжный шкаф, пианино, диван, двухтумбовый письменный стол, платяной шкаф, антикварная этажерка, и ещё остаётся достаточно пространства по центру для ковра. Но самое интересное находится у окна: мольберт, такой, как его принято представлять – деревянный, массивный, и слегка заляпанный краской. На мольберте – натянутый на раму холст, с которого на меня смотрит девушка с короткой стрижкой и озорными глазами. Рядом, в изящном старинном кресле, положив ногу на ногу, сидит оригинал: правая рука ласкает подлокотник, левая поигрывает длинной ниткой жемчужных бус, которые очень идут к чёрному бархатному платью с прямоугольным вырезом, достаточно короткому для того, чтобы мне были видны коленки и часть бедра.
Я открываю рот, чтобы спросить, кто автор, но Настя не даёт мне этого сделать.
– Ну, Цицерон, ты рассказал о себе всё, кроме своего знака Зодиака и размера противогаза.
– Размер противогаза – три, – бодро отвечаю я, – а по гороскопу я – ёж.
Настя издаёт сдержанный смешок.
– Значит ты у нас волжанин из купцов-староверов, – то ли спрашивает, то ли утверждает она.
– Есть немного. А что в этом такого?
– Разумеется, ничего. А по отцовской линии у тебя крестьяне-тверичи.
– Ты же всё слышала, зачем спрашиваешь?
– Жаль, дворян нигде не завалялось. Сейчас это модно.
Её тон меня задевает.
– Тебе что-то не понравилось? – довольно резко спрашиваю я. – Я что-то не так сказал?
– Успокойся, – смеётся Настя, – всё в порядке. Главное, бабушка в восторге. Её основной претензией к моим молодым людям всегда было то, что те не могли связать и двух слов.
– Встречалась с футболистами?
Короткий смешок и непонятный пас свободной рукой говорит о том, что моё предложение недалеко от истины. А может, и нет.
Выдерживаю паузу:
– Можешь внятно объяснить, зачем ты это сделала?
– А, сама не знаю. – Настя качает туфлей, которая вот-вот свалится с ноги. – Просто захотелось чего-то эдакого выкинуть в день рождения.
– И выкинула.
Настя удовлетворённо кивает, роняя на лоб тёмную чёлку.
– Знаешь, я очень рад, что понравился твоей бабушке, что оправдал надежды подводника, что выпил с Тёмсиком, а теперь мне пора, – говорю я, вставая с дивана, на краешке которого сидел.
– Не горячись, – останавливает она меня, – пожалуйста, останься.
Нехотя приземляюсь обратно.
– Есть и ещё одна причина…
– Какая, интересно? Поспорила с анестезиологиней на банку эфира, что сможешь притащить на день рожденья первого встречного?
– Просто ты мне понравился, – продолжает Настя, опустив глаза, – ещё когда пирожки покупал…
Не зная, как поступить, встаю с дивана и подхожу к ней. Настя сидит, потупив взор. С бусами она больше не играет, её руки теперь сложены под грудью. Подойдя ближе, различаю в вырезе её платья соблазнительную ложбинку. Настя поднимает на меня глаза, и я вижу в каждом из них по тёмно-карему чертёнку.
– …но это не значит, что я прямо сейчас готова отдаться тебе на этом диване!
– Тогда я лучше пойду, накачу с Тёмсиком!
– Сидеть! – указывает мне Настя на стоящий рядом стул.
Снова сажусь. У моей визави в руках появляется что-то блестящее.
– Сначала конфета, потом поцелуй, – говорит она шёпотом. – Открой рот, закрой глаза.
Ожидая подвоха, слегка размыкаю челюсти и опускаю веки, но через мгновение ощущаю во рту вкус карамели. После сытного обеда и выпивки сладкое нарушает мой кислотно-щелочной баланс, но карамелька вкусная – прямо как я люблю.
– Что за конфета?
– Ты жуй, глотай, – вместо ответа слышу я Настин голос, которая, судя по звуку, никуда не сбежала и сидит там, где сидела.
Пытаюсь тихонько приоткрыть глаза, чтобы понаблюдать за ней, но моя попытка мгновенно пресекается.
– Эй, с конфетой во рту, не подсматривать!
– И в мыслях не было, Анастасия… извини, запамятовал, как тебя по батюшке?
– Фёдоровна.
– Очень приятно, я меня – Валерий Михайлович. Так вот, у меня и в мыслях не было за тобой подсматривать. Во всём виноват страх темноты – первейший из человеческих. Можешь мне не верить, но в детстве я настолько сильно её боялся, что не мог спать один, и часто наведывался к родителям в постель. Даже теперь, когда мне стукнуло двадцать четыре, я так же неуютно чувствую себя один во мраке ночи, и мне часто бывает невыносимо…
– Доел? – перебивает меня Настя.
– Почти…
– Тогда, иди сюда. Только глаза не открывай, и давай-ка без рук.
Для верности заложив руки за спину, подаюсь вперёд, ориентируясь, скорее, по запаху Настиных духов, нежели по звуку её голоса. Первое, на что я натыкаюсь – её ладони. Мягкие и тёплые, они скользят сначала по моим щекам, потом по лбу, затем Настя запускает пальцы в мои волосы у висков. Когда они смыкаются у меня на затылке, по моей спине проходит ощутимая дрожь. Заметив это, Настя негромко усмехается:
– Во, кудри-то отрастил…
Молчу. Хмель и получаемые приятные ощущения не располагают к беседе. Настя оставляет в покое мои волосы и проводит подушечками пальцев по всему лицу ото лба до подбородка, как слепая, пытающаяся определить форму лица на ощупь. Её прикосновения мне не просто приятны, есть в этом что-то для меня новое и очень волнительное. Я ведь ей не соврал, что боялся темноты, и что сейчас боюсь тоже…
– Не открывай глаза, хорошо? – шепчет она.
– Хорошо, – шепчу я в ответ, – всё, что захочешь…
Наконец наши губы находят друг друга. Поцелуй выходит сладким, но не из-за карамели, а от долгого ожидания.
Осмелев, расцепляю слегка затёкшие руки и кладу их на узкие Настины плечи. Сквозь тонкую ткань чувствую их остроту и теплоту её тела. Пытаюсь аккуратно притянуть Настю к себе, но у меня ничего не выходит – Настя в прямом смысле непреклонна. Тогда я решаю приблизиться к ней сам, но Настя, разгадав мой манёвр, чуть-чуть отклоняется в сторону, и я, словно неопытный боксёр «проваливаюсь» мимо неё. Невероятных усилий мне стоит удержать равновесие и не свалиться со стула, на пол падает только Настина туфля. Издевательский смех становится завершающим аккордом моего позора.
«Смейся, паяц, над разбитой любовью», – думаю я, не в силах взглянуть Насте в глаза.
– Молодёжь! Идёмте пить чай! – слышится за дверью спасительный бабушкин голос.
За чаем ничего интересного не происходит. Гости обсуждают сначала очередное покушение на Шеварднадзе, а затем Чеченскую войну. Стол по обыкновению разделяется на два лагеря: тех, кто считает приемлемым настоящий порядок вещей, и тех, кто за войну до победного конца. Особенно горячими сторонниками последнего оказываются Настин отец и подводник с примкнувшим к ним Тёмсиком; бабушка и ещё двое гостей против. Я храню нейтралитет и помалкиваю – не люблю говорить о том, в чём сам не участвовал и участвовать не собираюсь.
Грозящая перерасти в мордобой, дискуссия заканчивается, когда Настя приносит с кухни огромный чайник с дополнительной ручкой в районе носика. Всем, начиная с бабушки, она разливает из него в синие с золотом чашки невиданный мной доселе красный чай, потом под аплодисменты задувает торт с двадцатью четырьмя свечами, уверенно режет его, и так же начиная с бабушки, раскладывает отрезанные кусочки по блюдцам.
– Это тоже ты испекла? – спрашиваю её я, когда она, слегка офигевшая от всего, приземляется на своё место. – Кстати, очень вкусно, как, впрочем, всё, что ты приготовила…
В ответ получаю испепеляющий взгляд и лёгкий пинок туфлей под столом.
К десяти часам гости начинают расходиться. Первым отчаливает подводник. «Пора в базу, – говорит он, медленно, по-стариковски вставая, – засиделся». Вслед за ним, церемонно со всеми, кроме меня, попрощавшись, уходит Тёмсик. Я тоже порываюсь уйти, но Настя меня удерживает. Не понимаю, зачем ей это нужно, но не сопротивляюсь. В конце концов, в квартире остаются четверо: Настя, её отец, бабушка и я.
– Вот теперь иди, – говорит мне Настя.
Говорю: «до свидания» бабушке, жму руку отцу. Попрощавшись со мной, они оба тактично покидают прихожую, оставляя нас с Настей одних. Мне кажется, они очень милые люди, или это просто я пьяный.
– Тебе, вообще, куда? – спрашивает Настя тихо.
– Город Королёв Московской области, – отвечаю я, подавив зевок.
Настя делает большие глаза:
– Куда-куда?
– Раньше это место гордо именовалось Калининградом Московской области в честь дедушки Калинина, а теперь Королёвым той же области, не трудно догадаться, в честь кого. По Ярославской ветке. Сорок минут кошмара, и ты дома.
– Прости, я думала, ты москвич… мне так стыдно, но я не хотела, чтобы ты уходил раньше…
– Тёмсика? – осеняет меня.
Из уверенной в себе девицы Настя вдруг превращается в виноватого в чём-то ребёнка.
– Угадал, – тихо произносит она.
– Династический брак?
– Вроде того…
– Отцов протеже?
– Угу…
Мне становится тоскливо. Так, будто меня только что бесстыдно обвесили и обсчитали в магазине. Нет, я не злюсь, просто на душе как-то гадко.
– Теперь мне стала понятна моя роль в этой странной пьесе, – говорю я спокойно, – спасибо.
– Ничего тебе не понятно…
Настя смотрит на меня в упор. В её глазах никаких чертят, она серьёзна, как училка ботаники.
– В женском поведении есть вещи, – говорит она, – которые мужчины, в принципе, понять не в силах. Как бы ни старались. То, что я пригласила тебя на день рождения – одна из них. А теперь иди.
Открываю старый, если не сказать, древний, замок с ребристым колёсиком.
– Прощай.
Настя провожает меня странным взглядом.
– До свидания. И смотри, аккуратнее, не прощу себе, если с тобой что-нибудь по дороге случится.
Машу рукой в знак понимания и выхожу на громадную лестничную площадку, заставленную всяким соседским хламом. Дверь за мной закрывается мягко и почти бесшумно, слышен только негромкий щелчок антикварного замка.
«Почему под словом «случиться» в плохом его значении обычно понимается физический, а не душевный ущерб? – думаю я, спускаясь вниз пешком. – Почему на прощанье перед дальней дорогой не говорят: «Смотри не влюбись!», «Не повстречай ту, что разобьёт тебе сердце!» или: «Пусть судьба разминёт тебя с той, которая одурманит тебя ложными надеждами!» Может, оттого, что физический ущерб всегда ставится выше ущерба душевного? То есть, поскользнуться в переходе и сломать руку или получить в электричке от хулигана по морде хуже, чем быть обманутым в лучших чувствах? Бред какой-то…»
За размышлениями выхожу из парадного. Двор, показавшийся мне ранее огромным, оказывается маленьким и кургузым. Занесённые снегом машины и горбатые «ракушки», стохастически по нему разбросанные, рождают у меня в мозгу ассоциацию с брошенной при отступлении вражеской военной техникой. Вокруг ни души, давешних котов и след простыл.
Осторожно спускаюсь по скользким ступенькам. Впереди меж сугробов темнеет дорожка, по которой мы лавировали с Настей, взявшись за руки. Господи, как же давно это было! Неожиданно вспыхнувший огонёк справа заставляет меня вглядеться в темноту. Курильщик, секунду назад совершенно неразличимый в тени одинокой «ракушки», делает шаг в сторону и оказывается моим недавним собутыльником и, как выяснилось, соперником. Раздаётся характерный щелчок, и окурок, роняя искры, по настильной траектории уходит в сугроб.
– Тебе до метро? – спрашивает Тёмсик и, не дождавшись ответа, предлагает: – Пройдёмся?
Немного оправившись от испуга, отвечаю утвердительно.
Человек, идущий справа от меня по улице, на которой мы с Настей стали свидетелями безобразного торга, меня немного ниже, но разница в росте с лихвой компенсируется шириной плеч и, думается, массой. По моим прикидкам, веса в Тёмсике килограмм девяносто пять – сто, если не больше. Короче говоря, в рукопашной схватке, если таковая случится, шансов у меня будет, как у глиста супротив паровоза. Мало, короче.
– Ты, вообще, откуда взялся? – не поворачивая головы, спрашивает меня попутчик.
– Вам с какого места начать? – язвительно уточняю я.
Тёмсик сплёвывает в снег:
– Остряк…
– Скажем так: мы с Настей коллеги по работе, если вас это интересует.
– Коллеги по работе? – переспрашивает Тёмсик. – В одной фирме, что ли, работаете?
– В разных, – поясняю я, – но в дружеских. У руководства общие интересы.
Тёмсик кивает и снова закуривает:
– И давно вы знакомы?
Пытаюсь вспомнить, когда покупал у Насти пирожки, но ничего не выходит.
– Месяца два, примерно. Точнее сказать не могу.
Мой собеседник вновь многозначительно кивает головой, будто из моих слов ему что-то такое открылось, чего неизвестно даже мне самому.
– А вы-то сами, откуда взялись, позвольте спросить? – обнаглев, спрашиваю я.
Тёмсик всё-таки поворачивает в мою сторону взлохмаченную ветром голову. На его лице неподдельное удивление.
– Я-то? – усмехается он. – Я не взялся, я всегда был.
– Вы – бог?
– Не совсем, но близко. Я – друг семьи, бывший сослуживец Настиного отца. С сопливого возраста её знаю.
– А сколько вам, простите?
Тёмсик мрачнеет:
– Да уж побольше, чем тебе. В отцы я Насте вряд ли гожусь, но в дядья-то точно.
Выходим на Тверскую. Главная панель страны встречает нас неласковым ветром, который дует, что характерно, от Кремля, но иронизировать на эту тему не хочется.
– Скажите, а Тёмсик – это Тимур или Тимофей? – спрашиваю я.
– Артём, – нехотя отвечает мой попутчик, – но для тебя Артём Иванович.
– Учту, Артём Иванович, а теперь нельзя ли узнать о цели настоящей беседы?
Тёмсик, он же Артём Иванович, долго молчит. Его взгляд не выражает абсолютно ничего, и направлен сквозь меня, в район площади Маяковского. Со стороны он похож на атлета, готовящегося совершить некое спортивное действо, к которому давно и тщательно готовился. Поднять, например, штангу.
– Настоятельно рекомендую тебе как можно скорее прекратить с Настей всяческие контакты, – наконец произносит он.
Я понимаю, что слова эти дались ему с трудом, и потому не ощущаю в них угрозы:
– А если я этого не сделаю, тогда что?
Тёмсик потирает, видимо, подмёрзшие руки:
– Тогда я попрошу тебя ещё раз. По-хорошему. А потом, если над тобой не возобладает разум, по-плохому.
– Я не собираюсь прерывать отношения с Настей, тем более что они только что начались, – говорю я спокойно. – И ещё: я не боюсь ваших угроз.
Тёмсик хохочет нехорошим ухающим смехом, от которого у меня по спине пробегает примерно батальон конных мурашек:
– Тебя, мальчик, ещё никто не пугал…
Дух противоречия, самый стойкий и нерушимый из человеческих, неугомонный демон, заставляющий делать всё назло и вопреки, вечный двигатель любого молодёжного движения, поднимается во мне бутылочным джином.
– А может, стоит попробовать прямо сейчас? – почти кричу я. – А то я устал слушать подростковую чушь от сорокалетнего мужика!
Мой визави делает в мою сторону уверенный шаг, но вместо логически обоснованного в этом случае удара в голову, за ним следует панибратское похлопывание по моему левому плечу. При этом Тёмсиков лик слегка добреет, приобретая более или менее человеческие черты.
– Ты глянь, не испугался! – удивлённо, но, кажется, вполне искренне, говорит он. – Молодец, уважаю.
– Весьма польщён, но…
Тёмсик прерывает меня жестом:
– Бить я тебя, Валера, не буду, хотя и очень хочется. Лучше я расскажу тебе про Настю кое-что, а ты дальше сам решай, чего, да как.
Сбросить внутреннее напряжение, облегчённо выдохнуть, не получается. Ожидая услышать о Насте килограмм-другой каких-нибудь гадостей, я напрягаюсь ещё сильнее. Тёмсик же, будто не замечая этого, спокойно (раз, наверное, пятый или шестой) закуривает что-то вонючее.
– Понимаешь, какая петрушка, – начинает он, воздев очи к черным московским небесам, – она каждый раз притаскивает на свой день рождения типов, вроде тебя, и каждый раз мне приходится с ними потом беседовать. Это уже своего рода традиция. В прошлом году, помню, был некто Петя, географ из МГУ. Тоже высокий и худой, как ты. Видимо, ей близок этот тип. Если бы ты видел, как сверкали его пятки при полной луне!
Лицо моего собеседника озаряет нехорошая плотоядная улыбка.
– Может, на то есть причина? – спрашиваю я, стараясь не обращать на это внимание. – Может, дело в вас?
Тёмсик моментально становится серьёзным, если не сказать мрачным, чем меня несколько пугает.
– Причина в том, Валера, что у Насти ни с кем не получается долго поддерживать отношения. Молодые люди бегут от неё, как чёрт от ладана. Я же не зря спросил тебя, как долго вы с ней знакомы. Про два месяца ты загнул, да?
– Загнул, – признаюсь я.
– Вот видишь.
Мой собеседник по-отечески разводит руками, приобретая совсем уж медвежий вид.
– Можешь мне не верить, – продолжает он, – но я хочу тебе помочь. Совершенно, причём, искренне. Дело в том, что Настя – не совсем обычная девушка. И эта её необычность отталкивает. Про таких говорят: «девушка со странностями» или «у неё не все дома», или «не от мира сего». Понимаешь?
Пытаюсь переварить услышанное, перевести на понятный мне язык, но ничего не выходит:
– А можно поподробнее…
– К сожалению, нельзя. Просто поверь: общение с Настей не даст тебе ничего, кроме головной боли. Повторяю: ничего не даст.
Тёмсик делает ударение на «не даст», но я пропускаю это мимо ушей.
– И всё-таки, мне бы хотелось услышать какие-нибудь подробности, – настаиваю я, – а то как-то неконкретно…
Тёмсик смотрит на меня изумлённо:
– Неконкретно? Ладно, слушай: Настя очень рано потеряла мать. Мария Яковлевна – очень красивая женщина, кстати – по неизвестной причине покончила с собой, когда Насте было десять лет. Повесилась. Настю тогда к бабушке отвезли, от греха подальше. Сам понимаешь, как вся эта история отразилась на Настиной психике…
Тёмсик неожиданно замолкает и начинает старательно изучать снежную кашу под ногами. Жлобоватый видон, которым он пытался меня напугать, исчезает, словно и не было. Видимо, его сдул тот самый Кремлёвский ветер. По его теперешнему состоянию можно сказать, что он очень сожалеет о том, что сболтнул лишнего. Неудобное положение, в которое он сам себя поставил, растрепав незнакомому человеку чужую семейную тайну, заставляет его снова закурить, пошмыгать носом, сплюнуть в снег и несколько раз прочистить горло. Тем временем пауза затягивается.
– Я думал, её отец разведён, – говорю я, чтобы вывести его из ступора.
– Вдовец, – отвечает Тёмсик, глядя себе под ноги. – Он так сильно любил жену, что чуть было сам в петлю не слазил. Еле удержали. Приходилось руки за спиной вязать и водку в рот через силу лить…
«Вот так история, – думаю я, – лучше бы я ни о чём не спрашивал…»
– …я тогда ещё молодой был, но всё прекрасно помню, и Марию Яковлевну и Фёдора Алексеевича… и Настёну помню девчонкой совсем…
Мой собеседник, в конце концов, преодолевает смущение. Он больше не смотрит себе под ноги, хотя прежней бравады в нём нет. Осматриваю его внимательно и понимаю, что он, оказывается, нешуточно пьян. Я – тоже не образец трезвости, но Тёмсик впереди с большим отрывом – видимо в ожидании меня он успел догнаться пивом или ещё чем покрепче.
– Это, разумеется, многое объясняет, – дипломатично начинаю я с целью как можно скорее свернуть разговор и смыться в метро, – но при чём здесь я и, тем более, при чём здесь вы?
Мой поддатый собеседник снова затихает. Приготавливаюсь к очередной порции пьяных откровений, но совершенно неожиданно для себя замечаю в его глазах то, возникновение чего ещё пару минут назад я и теоретически представить себе не мог. Слёзы.
– Я люблю её, что тут непонятного, – гнусавит Тёмсик, разворачивается на месте и уходит.
Секундный порыв догнать его и продолжить разговор накрывает меня, когда широкая спина в «Аляске» исчезает за ближайшим углом. Я даже делаю несколько шагов вслед, но порыв иссякает столь же внезапно, сколь и появился.
– Бог мой, – говорю я сам себе, – во что я ввязался…
Площадь перед Ярославским вокзалом непривычно пуста. Торговки сигаретами, пирожками, чипсами и прочей отравой уже разбрелись по домам. На боевом посту лишь местная ветеранша Люда – мужеобразная торговка с длинным коричневым лицом, хрипловато зазывающая покупателей:
– Картошечка, мальчики, картошечка…
Прохожу мимо – есть совершенно не хочется. А вот чего мне действительно хочется, так это пива. Взяв в каким-то чудом не закрывшемся ларьке ледяную бутылку, сажусь в последний вагон последней электрички из Москвы. В таких традиционно ездит много пьяных и неадекватных персонажей, кроме того, есть шанс нарваться на гопников, но сегодня мне пофигу. Во-первых, я сам пьяный, а, во-вторых, голова не тем занята. Я ещё мыслями там, на дне рождения странной девушки из странной семьи.
Сажусь у окна. Открываю бутылку зажигалкой – примёрзшая крышка сползает с горлышка медленно, без энтузиазма. Не успеваю сделать и пары глотков, как рядом образуется весёлая компания студентов, у которых одна бутылка «Хванчкары» на всех. Обременённые тубусами двое юношей и три девушки шумно обсуждают какого-то общего знакомого. На лицах у всех счастье, только у одного, самого пьяного, печаль.
«Если верно то, что счастье возможно только в молодости, – думаю я, отхлебнув ещё, – то жизнь есть не что иное, как движение от счастья к несчастью. А если так, то не является ли это доказательством бесцельности жизни как таковой?»
Мои соседи пускают бутылку вкруговую. Деликатно отклоняю предложение поучаствовать в совместном распитии в общественном месте. Одна из девушек, та, что уселась напротив (и у которой, видимо, нет кавалера), бросает на меня исполненный интереса взгляд, на который я отвечаю выражением лица, которое можно перевести как: «не сегодня». Едва заметно двинув бровью, девушка отворачивается.
«Вряд ли это было проявление искренней заинтересованности к моей персоне, – успокаиваю я сам себя, – скорее, девушку под влиянием выпитого накрыло генетически заложенное в ней женское кокетство. Ровно как и мной несколько часов назад двигало также заложенное генетически желание обрюхатить всё, что шевелится, и, понятное дело, под тем же самым влиянием…»
Достаю блокнот, предназначенный для записи поручений начальства и свалившихся с небес на мою голову гениальных фраз, и случайно оказавшийся у меня в портфеле карандаш. Делю чистый лист вертикальной чертой пополам. Вверху левой половины пишу: «Татьяна», вверху правой – «Настя». Проезжаю целых четыре остановки, прежде чем в обеих колонках появляется первая запись: «Кто-нибудь может объяснить, зачем мне всё это нужно?»
3
Сходить в «Бубновый валет» мы с Доном Москито собирались ещё в феврале, но выбраться удалось только в канун дня мужской солидарности, то есть восьмого марта. Так как наши эмансипированные дамы указанный праздник грязно саботируют, считая его чудовищно совковым и немодным, нам с Колей сам бог велел провести его вдвоём, чему я, как ни странно, рад – иногда ведь надо выбираться в свет поодиночке. В общем, как удачно спел Александр Николаевич голосом Бориса Борисовича: «Как хорошо без женщин и без фраз…»
Место, куда мы решили пойти, открыто относительно недавно, но уже довольно знаменито – вечерами тут всегда аншлаг. Секрет популярности заведения, прежде всего, в его месторасположении: оно находится на цокольном этаже одного из помещений Третьяковской галереи. Попасть сюда можно как с улицы, так и из самой галереи, поэтому кроме праздно шатающихся по Лаврушинскому сюда стекаются ещё и окультуренные, но голодные посетители, которые и делают основную кассу.
Я прихожу раньше назначенного времени и захватываю самый дальний от входа столик. Небольшой зал практически пуст – кроме моего, занят всего один, у полукруглого, выходящего на Лаврушинский, оконца. Мужчина и женщина, сидящие за ним, одеты по моде прошлого века – мужчина в бордовую «визитку» и широкие чёрные брюки, заправленные в сапоги; женщина – в изящный костюмчик а‑ля Ия Савина из «Дамы с собачкой», не хватает только шляпки. Ну, и собачки.
«Должно быть, экскурсоводы, которые водят тут по утрам детишек на тематические экскурсии, – догадываюсь я, – видимо, отдыхают после встречи с малолетними чудовищами».
– Чего изволите-с? – обращается ко мне стилизованный под «человека» из того же времени, что и парочка у окна, официант, которого я, как только увидел, окрестил «половым».
– Принеси-ка мне, голубчик, кофею, – манерно, в качестве реакции на «изволите-с», говорю я, – по-турецки.
– По-турецки не варим-с, – не моргнув, ответствует «половой», на котором красная косоворотка, белый фартук до полу, и лихо закрученные, но явно фальшивые усы. – Могу предложить экспрессо, двойной экспрессо, американо, мокко, латэ…
– Пусть будет лате, – прерываю я, – и можно зажигалку попросить…
– Разумеется, – с поклоном отвечает «половой», и, порывшись в кармане фартука, протягивает мне коробку спичек.
– Шведские? – пытаюсь поддеть я, но тот подачи не принимает:
– Нет-с, Балабановской спичечной фабрики.
Закуриваю. Помахав в воздухе потухшей спичкой, «половой» уходит, оставив меня с коробком и в приподнятом расположении духа.
Я не сразу опознаю моего друга в высоком подтянутом человеке в пальто, который заходит в полузатенённый со сводчатым потолком зал спустя сорок минут после назначенного времени. Перемены в его облике настолько разительны, что я забываю о том, что тот опоздал, и что я десять минут назад решил за это задушить его галстуком.
Во-первых, волосы: в сравнении с тем, что было раньше, их, считай, что нету вовсе. Голову Николая теперь венчает прилизанная стрижка первоклассника, столь же маловыразительная на фоне прежних русых, торчащих во все стороны, кудрей, как дореволюционная плюгавая фуражечка против латиноамериканского «аэродрома» Паши Мерседеса. Во-вторых, прикид: полосатый пиджак, штучные брюки, рубашка с воротником-стойкой и завязанный крупным узлом бордовый атласный галстук. Ну, и, в-третьих, тонюсенькие водевильные усишки вразлёт, поселившиеся над его верхней губой.
– Здравствуй, Валера, – говорит мне обновлённый Дон Москито, бросая пальто на свободный стул, – извини, что опоздал. Анюта задержала.
После формального рукопожатия он приземляется на стул и закуривает. Длиннющая папироса (где только достал!) прикуривается от обычной «Биговской» зажигалки. Это, пожалуй, единственный прокол в имидже. Во всем остальном мой друг полностью соответствует уровню дамы без собачки и её спутника. Сизоватый дым папиросы, обволакивающий его после каждого выдоха, накидывает к выбранному образу ещё пару-тройку очков.
Увиденное меня шокирует настолько сильно, что я не могу внятно прокомментировать увиденное – язык совершенно не слушается. Нет, дело не в зависти, просто всё слишком неожиданно. Дабы не обнаружить смятение, лезу за сигаретами. Разумеется, штука «Золотой Явы» ни в какое сравнение не идёт с Колиной папиросиной, и чтобы хоть как-то соответствовать обстановке, я тихонько отламываю от своей фильтр. И прикуриваю от «шведских» спичек.
«Надо будет узнать, где он такие покупает, – думаю я, – наверняка, гадость редкостная, но выглядят отпадно…»
Дон Москито пододвигает ближе ко мне пепельницу, и замечаю на безымянном пальце его левой руки серебряный перстень с каким-то рыжим камнем.
– Анюта подарила, – сообщает он, проследив за моим взглядом, – это сердолик, любимый камень поэтов серебряного века.
Восхищённо киваю:
– Круто…
Довольный произведённым эффектом, Дон Москито немного засучивает рукав пиджака, показывая мне квадратную запонку на белоснежном манжете.
– Гарнитур.
– Реально круто, чувак.
Неожиданно и бесшумно со стороны окна появляется «половой» с классическим полотенцем наперевес:
– Чего изволите-с?
– Бутылку красного, – бросает ему мой друг, – и два бокала.
«Половой», выполнив команду «кругом» с поклоном, отваливает, а ко мне, наконец, в полной мере возвращается способность говорить.
– Что с тобой, Коля? – вопрошаю я. – Что с тобой случилось?
Мой вопрос, кажется, его совершенно не удивляет. Вероятно, Дон Москито к подобному уже привык.
– Теперь я буду выглядеть так всегда, – отвечает он гордо, – надоело чучелом ходить.
– Кому надоело? – уточняю я.
Дон Москито смеётся дымом:
– Скажем так: мне тоже надоело ходить чучелом…
Неожиданно его взгляд фиксируется в одной точке, Дон Москито на мгновение замирает, затем запускает руку во внутренний карман пиджака, судорожно извлекает оттуда записную книжку, а из другого кармана карандаш. За время совершения указанных эволюций в моей голове успевает родиться и умереть три-четыре версии происходящего, пока, наконец, я не соображаю, что моему другу в голову свалилась рифма, и что он просто собирается срочно её увековечить.
– Ну, ты меня напугал… – только и могу выговорить я.
– Извини, – не сразу отзывается Дон Москито, поглощённый записью, – подожди секунду…
Терпеливо жду. В таких вопросах я весьма щепетилен – терпеть не могу, когда мне мешают писать, и не люблю мешать сам. Я не раз и не два наблюдал за тем, как кто-нибудь из друзей впадал вот в такой вот творческий раж, и более всего меня радовал диапазон выражений их лиц – от придурковатого с полуоткрытым ртом, до задумчивого с блуждающей на губах улыбкой.
«Интересно, а как выгляжу я сам, когда делаю вид, что творю? – думаю я. – Надо будет как-нибудь глянуть на себя в зеркало, что ли…»
В этот момент, снова перепугав меня до смерти, Дон Москито громко плашмя приземляет карандаш на стол и облегчённо выдыхает.
– Готово!
Взяв раскрытую записную книжку в левую руку, а воображаемый веер в правую, он начинает декларировать:
Человека потерять, сердце рифмой бинтовать, И страдать, страдать, страдать… Долго чучелом ходить, сердце голодом морить, И творить, творить, творить… Человека отыскать, сердцем до небес достать, И летать, летать, летать… Прыгнуть в омут и поплыть, самого себя забыть, И любить, любить, любить…– Сильно, – говорю я. – Только вместо «страдать» я бы поставил «бухать».
Дон Москито гогочет детским натуральным смехом.
– Сволочь ты, Лера! Но мне всё равно, главное, на сегодня я свободен!
– Что значит, свободен?
Вместо ответа Дон Москито показывает мне несколько исписанных его мелким «бесящим» почерком листов записной книжки.
– И чего? – не понимаю я.
– Как это, чего. Норму я на сегодня выполнил, теперь можно и отдохнуть.
– Какую, извини, норму?
Мой друг не без труда засовывает орудия поэтического труда обратно в карманы.
– Понимаешь ли, Валера, – говорит он, понизив голос, – я тут заделался Саддамом Хусейном от поэзии.
– Это как?
– Ну, у него «Нефть в обмен на продовольствие», а у меня – «Поэзия в обмен на секс».
Он придвигается ко мне ближе и шепчет:
– Понимаешь, у Анюты есть один пунктик… пока я не напишу чего-нибудь, она мне… ну ты понимаешь…
– Не даёт? – так же шёпотом спрашиваю я.
Дон Москито морщится.
– Зачем же так грубо! Ну да, не даёт…
Смеюсь – как же иногда странно бывают устроены отношения полов! Одни девушки отдаются за деньги, другие из жалости, а третьи, как я только что узнал, за стихи.
Приносят вино и два бокала. Бутылку, перед собой, словно икону, несёт «половой», а высокие, больше подходящие для шампанского, бокалы – какой-то молоденький пацанчик в косоворотке.
– Каберне, – сообщает «половой».
– О! Весьма кстати. – Дон Москито буквально выхватывает у него из рук обёрнутую в салфетку тёмную бутыль и не особенно аккуратно разливает по высоким бокалам бордовое вино.
– За что пьём? – спрашиваю я.
Прежде чем ответить, Дон Москито берётся двумя пальцами за «талию» своего бокала и поднимает его на уровень глаз.
– Прекрасен страшный мир при взгляде сквозь вино! – нараспев произносит он. – Да будет же вот так всегда! In vino veritas! Ура!
– Воистину, veritas! – подхватываю я, вставая. – Ура!
Позади нас раздаются негромкие хлопки – это ряженые экскурсоводы. Прежде чем приземлиться, раскланиваемся с ними.
– А как у тебя с Татьяной? – прищурив один глаз и выгнув дугой бровь над другим, спрашивает меня чуть захмелевший Дон Москито. – Только не врать!
Вообще, я не люблю обсуждать такие вопросы даже с близкими друзьями, но, как говорил один симпатичный до оторопи кинематографический людоед: «Qwi pro qwo», что на язык родных осин можно перевести как: «Откровенность за откровенность». Кроме того, терпкое лекарство от меланхолии уже начало делать своё чёрное дело. По этим двум причинам я почти с лёгкостью выдаю то, что портило мне настроение весь вчерашний день и сегодняшнее утро.
– Мы позавчера первый раз за время нашего знакомства поругались, – говорю я. – вернее, не поругались, а поссорились.
У друга на лице появляется озабоченность:
– Из-за чего?
– Не поверишь, из-за литературы. Мы собирались в гости к её друзьям, и она попросила меня купить подарки: бутылку вина на стол и книгу некого писателя Акунина, о котором я до этого момента ни разу не слышал.
Дон Москито поднимает к сводчатому потолку худые длинные руки, ещё раз демонстрируя мне «поэтические» запонки.
– Ты не слышал, кто такой Акунин?
– Представь себе, не слышал!
Руки с грохотом обрушиваются на стол.
– Как такое возможно! Его же сейчас вся Москва читает!
– Ты будешь корчить из себя Веру Холодную, или слушать?
Дон Москито принимает нормальный вид:
– Извини. Что было дальше?
Я продолжаю:
– Ну, прихожу я в «Библио Глобус», спрашиваю: «Где тут у вас модный писатель Акунин?» А продавщица мне и говорит: «Никакого Акунина у нас нет. Может, вам нужен Кунин, это он самый модный писатель»
– И чего ты? – сдерживая смех, спрашивает Дон Москито.
– Чего, чего… Купил я этого Кунина целых две книги, для верности. Названий не помню. В переходе у «Китая[7]», взял бутылку «Киндзмараули» и «Балтику» четвертую, себе для разгона. Стою у метро, курю, пиво хлебаю. Типа, жду. Не успел допить, приходит Татьяна. Говорит: «Покажи, что купил». Я показал.
Теперь смеётся Дон Москито. Громко, как говорила моя бабушка, «по-кобылячьи».
– Вот тебе смешно, – продолжаю я, когда он замолкает, – а меня чуть не убили, ещё и за пиво досталось. Потом, конечно, всё устаканилось: прямо в переходе в книжной палатке мы с ней купили этого самого Акунина, а треклятый Кунин очень пришёлся ко двору Татьяниной матушке. Оказалось, она его тайная фанатка.
Дон Москито хлопает меня по плечу:
– А что ты переживаешь, это же смешно! Сами потом будете вспоминать с удовольствием.
Снимаю его руку с плеча:
– Может, ты и прав. Только, понимаешь, мы с ней до этого ещё ни разу не сорились, а тут она меня натурально оборала. И это при том, что вопрос-то плёвый. Ну, подумаешь, не ту книгу купил! И, знаешь, сразу всё изменилось. Понимаешь, о чём я?
Глаза моего друга перестают смеяться:
– Понимаю. Будто порвалась тонюсенькая плёночка, отделявшая вас от остального мира, разрушилась безупречность отношений, рухнула пирамида совершенства…
– Только не надо глумиться, ладно?
– Ни в коем случае! – серьёзно заявляет Дон Москито. – Но во всём надо видеть свои плюсы. Если она на тебя наорала, значит, ты перешёл для неё из разряда чужих в разряд своих.
Он разводит руками в стороны и вновь широко улыбается:
– Поздравляю, вы стали ближе!
Сперва мне хочется врезать этому сбежавшему из заснеженного Петрограда психологу-любителю между глаз, но спустя мгновение порыв иссякает. По сути дела он прав, да и винить тут некого. Чтоб разрядить обстановку, наполняю бокалы. Вино теперь не кажется мне терпким – я ощущаю совсем другой вкус – возможно, это и называется «букет».
– Знаешь, у нас с Анютой тоже не всё идеально, – сообщает Дон Москито, ставя на стол пустой бокал. – Так, вроде, всё в порядке, но…
– Что, «но»?
Мой друг резковатыми движениями ослабляет узел галстука:
– …мне иногда кажется, что кроме Гумми, то есть меня, она завела себе ещё и Моди. Для полного комплекта.
– Моди? Что ещё, на хрен, за Моди? А, Модильяни! – соображаю я. – В смысле, художника?
Дон Москито грустно кивает.
– А откуда такая уверенность?
– В том-то и дело, что никакой уверенности нет, есть туманная неопределённость. Понимаешь, у неё дома с недавних пор появился очень подозрительный портрет…
– Чей портрет?
– Её, разумеется! Если бы был мой, я бы, наверное, так не дёргался!
«Мести час настал для нас!» – проносится у меня в голове.
– Во всём надо видеть свои плюсы, Коля, – начинаю я с умным видом, – твоя девушка сделала ещё один шажок к осуществлению своей мечты, и ты ей в этом помог.
Дон Москито стреляет в меня дуплетом серых глаз.
– Скотина ты, Валера, редкая. Больше ничего тебе не скажу, а растреплешь кому – придушу чем-нибудь в тёмном парадном.
От сказанного мне почему-то становится немного неуютно. Хочется извиниться.
– Ну, ладно, ладно. Может, ты зря волнуешься, – пытаюсь успокоить его я, – портрет ещё ничего не значит.
Дон Москито разливает остатки вина, оставив в бутылке лишь «благородный» осадок.
– Валера, если мужчина рисует женщину, то портрет всегда что-то да значит, – говорит он устало, – особенно если та, кто на нём, в костюме Евы.
– Голая?
Дон Москито без тоста допивает свой бокал.
– Ну, почти. Простынкой кое-что прикрыто.
– Дашь посмотреть? – без задней мысли спрашиваю я.
Ладонь Дона Москито проносится в опасной близости от моей макушки.
Инстинктивно пригибаюсь:
– Сдурел, что ли? Я же пошутил!
Дон Москито плюхается на свой стул. И когда только успел вскочить!
– За такие шутки, Валера…
Немного отодвигаюсь от стола и аккуратно осматриваюсь по сторонам: вроде бы никто не обратил на нас никакого внимания, ряженые экскурсоводы сидят, как сидели, а «полового» с подавальщиком вообще не наблюдаются.
– Успокойся, ладно, – говорю я тихо. – Я ничего такого не имел в виду.
Дон Москито закрывает лицо руками:
– Извини, Валер. Я просто зверею, когда об этом думаю…
«Да он, оказывается, нешуточный ревнивец! Хотя, я бы на его месте вёл себя так же. Или нет? В любом случае, его надо срочно как-то отвлечь…»
– Коль скоро речь зашла о живописи, – говорю я, – может, приобщимся к великому русскому искусству, благо оно у нас под боком.
Дон Москито улыбается уголками губ:
– Скорее, сверху.
– Искусство всегда сверху, Коля.
Улыбка становится шире:
– Ты прав, самое время приобщиться к русскому искусству! Я знаю, оно спасёт нас!
Я поднимаюсь и делаю характерный указующий жест рукой в сторону выхода:
– Вперёд, товарищи! На Врубеля!
– Врубель ещё жив? – подхватывает Дон Москито. – Добей его без пощады!
– Половой, счёт! – кричу я.
Экскурсоводы вновь нам аплодируют, на этот раз громче.
Несмотря на выходной день, в Третьяковке немноголюдно. Посетители – либо мамаши с детьми, либо молодые парочки, которым надо где-то скоротать время до похода в кино. Иногда попадаются туристы. Организованными стайками движутся они вслед за экскурсоводами, время от времени щёлкая шедевры русской живописи одноразовыми «Кодаками». От нечего делать смешиваемся с группой немцев. Пожилая экскурсовод с фиолетовыми волосами и огромной перламутровой брошью на груди произносит длинные фразы по-немецки, в конце каждой, добавляя: «Russische Kunst[8]». В ответ немцы одобрительно гудят. Продолжается это недолго – нас быстро вычисляют и начинают бросать в нашу сторону косые взгляды. Чтобы избежать международного скандала, отчаливаем.
Ходить по полупустому музею, да ещё в лёгком подпитии, приятно. Картины навсегда ушедшей русской жизни, лица с недоступной ныне глубиной взглядов, сжимающие сердце пейзажи… Мало того, что всё это до последнего мазка родное и с детства знакомое, буквально от каждого полотна исходит нечто, отличающее настоящее искусство от… ну, сами знаете, от чего. Нет, что ни говори, а русскому здесь хорошо. Не знаю, правда, как немцу…
У Тропининской «Златошвейки» мне вдруг вспоминается Настя. Портретным сходством тут и не пахнет, просто срабатывает какая-то ассоциативная связь, даже лень думать, какая именно. Одна за другой всплывают в памяти сценки нашего с ней странноватого знакомства, будто эпизоды старого, давно не смотренного фильма. Мне становится весело и грустно одновременно.
«Может, стоит к ней наведаться? – думаю я. – Просто так, узнать, как у неё дела… посмотреть, как там Тёмсик…»
– Ты чего тут застрял? – спрашивает свесивший голову через моё плечо Дон Москито. – Кого-то напоминает?
– Не совсем, – отвечаю я, отходя от портрета подальше, – просто память как мутная вода из фильмов ужасов: никогда не знаешь, кто и когда оттуда выскочит…
Дон Москито смеётся:
– Для того, чтобы ничего не выскакивало, человечество и придумало алкоголь.
Идём дальше. Из зала в зал, от эпохи к эпохе, из прошлого практически в современность. Тропинин, Боровиковский, Брюллов, Кипренский… Меняется век, меняется стиль. Чем ближе к нашему времени, тем острее я начинаю чувствовать безусловный максимум понимания и приятия того, что вижу. Репин, Верещагин, Серов, Саврасов… Вот он, мой идеал живописи. Вот что я понимаю под этим словом. Вершина, абсолют, совершенство…
В зале Крамского нам попадается интересная парочка: высокий немного нескладный молодой человек с длинными волосами и маленькая девушка с острым профилем. Девушка перемещается от картины к картине лёгкой рысцой; её спутник следует за ней медленной широкой поступью большого человека.
У «Христоса в пустыне» пара делает короткую остановку.
– Вот видишь, пустыня автору не удалась, и сразу Христос пропал! – констатирует девушка.
– Люд, ты уверена? – вопросом отвечает молодой человек. – А я ничего такого не замечаю.
Девушка делает оскорблённо-удивлённое лицо.
– Конечно, уверена! Мне же читали этику с эстетикой, я точно знаю, что красиво, а что нет!
Озадаченный молодой человек остаётся у «пропавшего» Христоса, видимо, в надежде понять, что там не так с пустыней, а девушка устремляется дальше. Неожиданно мне в голову приходит совершенно сумасшедшая догадка. Буквально долю секунды борюсь с нерешительностью, побеждаю по очкам и быстрым шагом устремляюсь за девушкой.
– Извините, – говорю я, догнав её у двери в следующий зал, – вы не подскажете, который час?
Девушка резко разворачивается на месте и впивается в меня тёмными, близко посаженными глазками.
– У меня нет часов, – отвечает она после быстрого осмотра моей физиономии, – не ношу.
– Отлично! – вырывается у меня. – Убеждён, что у нас с вами есть общие знакомые!
Девушка делает шажок в мою сторону и пристально вглядывается в моё лицо, видимо, стараясь разглядеть знакомые черты.
– Какие? – спрашивает она.
– Настя…
– Настя? – переспрашивает девушка. – Какая Настя? Рогачевская?
– Возможно, я фамилии не знаю, – говорю я, постепенно теряя уверенность, – она работает в турфирме «Волга»… на Изабеллу Росселини похожа.
Лицо девушки добреет:
– Точно, Настя Рогачевская. Мы где-то встречались? Я вас что-то не помню.
Облегчённо выдыхаю:
– Нет, мы не встречались, просто она мне вас очень точно описала.
Появляется её отставший кавалер. Покосившимся фонарным столбом нависает он надо мной справа.
– Какие-то вопросы, Люд? – спрашивает он девушку, недобро глядя на меня.
– Всё в порядке, Слав, – успокаивает она. – Молодой человек спросил меня, сколько сейчас времени, а оказался знакомым Насти Рогачевской.
– Половина второго, – невозмутимо сообщает кавалер, – ещё вопросы?
– Спасибо огромное, – кланяюсь я, отступая обратно к «Христосу», – не буду вас более задерживать. До свидания.
Люда делает мне на прощание ручкой:
– Привет Насте, сто лет её не видела.
Ещё раз кланяюсь в знак согласия.
Молодой человек, тоже кивнув в мою сторону, только небрежно, берёт свою всезнающую подругу под руку, и парочка удаляется в следующий зал. Через пару секунд оттуда доносится:
– …ой, Слав, не говори, у неё знакомые такие же чудные, как и она сама…
«На себя бы посмотрели, – думаю я, – а к Насте я теперь совершенно точно зайду – то был знак. Рогачевская, значит…»
– Чего замер? – вклинивается в мои рассуждения подошедший Дон Москито, – опять что-то всплыло?
– Всплыло, Коль, всплыло.
И вот, наконец, Врубелевский зал. Устало опускаюсь на стоящую в самом центре банкетку. Лёгкий винный хмель, создававший в голове иллюзию праздника, практически испарился. Но вот в чём фокус: окружающая меня красота блеска не потеряла. Видимо, на изобразительное искусство закон повышения женской привлекательности от дозы выпитого не распространяется.
– Тебе не кажется, что всё, что мы сейчас вокруг себя видим, написано буквально вчера? – спрашивает меня Дон Москито, присаживаясь рядом.
– Кажется, – отвечаю я, – но тут всё просто: этот зал недавно открыли после реставрации.
– Я не об этом. Не кажется ли тебе, что в его картинах много современного? Или, точнее, в картинах современных художников много из того, что мы видим вокруг?
Удивлённый, поворачиваюсь к другу:
– С каких пор ты стал разбираться в современной живописи?
– С недавних.
Дон Москито встаёт и делает несколько шагов в сторону, но тут же возвращается.
– Это Анюта с недавних пор стала разбираться в живописи, – нервно говорит он, – это она мне про Врубеля напела…
Я тоже встаю:
– Слушай, хватит себя изводить… ты ещё ничего не знаешь. Подумаешь, какой-то портрет! Она-то сама что о нём говорит?
– Говорит, что подарок… чёрт, как курить хочется!
– Чей?
– А вот чей, не говорит!
Дон Москито начинает прохаживаться взад-вперёд. В своём нынешнем прикиде он ужасно стильно смотрится на фоне «Принцессы Грёзы», но я не решаюсь ему об этом сообщить. Пусть лучше сначала остынет. Он не на шутку завёлся, это видно. Чувство собственника, будь оно неладно!
– Дорого бы я отдал за то, чтобы узнать, кто этот художник от слова ху… – говорит он, и я верю каждому его слову.
Тут мне в голову приходит, кажется, весьма здравая мысль:
– Слушай, Коль, художники же обычно подписывают свои картины, – говорю я, должно быть, громче, чем следовало. – Посмотри внимательно в правом нижнем углу, может, там есть чего. Тогда мы узнаем, кто автор.
Неожиданно из-за перегородки появляется пожилая дама с огромным шиньоном на голове.
– Тише, молодые люди, не надо никуда смотреть! – говорит она назидательно. – Здесь все картины Врубеля!
Из музея нас выставляют мягко, но настойчиво. Маленькая и круглая женщина-милиционер с закреплённой сзади рацией, антенна которой задорно виляет при ходьбе, словно хвост, молча провожает нас до выхода. Мы с Доном Москито совершенно не сопротивляемся – нам весело. Хохот отпускает нас только на улице.
– Какой дальше план? – спрашиваю я.
Вместо ответа Дон Москито извлекает из кармана какой-то листок.
– Что это? – спрашиваю я.
– Контрамарка на две персоны. Че дал мне ещё в ту субботу, чтобы я с Анютой сходил.
– А что там сегодня дают?
– «Мастера и Маргариту».
Поднимаю правую руку вверх:
– Голосую за вечернюю чертовщину! Только надо доба-а-вить…
– …ещё, чтобы стало светлей, – подхватывает Дон Москито низким голосом.
И уже дуэтом:
– …хотя бы на ми-и-и-иг!
Мы добавляем ещё дважды: один раз у метро «Третьяковская», и второй – в непосредственной близости от Кремля, на Никольской. Мой выбор приходится на баночную «Баварию», в основном из-за её демократичной стоимости, а выбор Дона Москито – на бутылочное «Останкинское», дизайн этикетки которого подходит к его имиджу. И хотя пиво на вино сами знаете что, нам хорошо. Мир снова становится прекрасным, Москва – красивой и чистой, люди вокруг – симпатичными. Раскрывающая тайну русской души формула Довлатова: «Утром выпил – весь день свободен» работает. Лишь однажды мне вспоминается тот алкаш из гастронома, но я отметаю воспоминание: мне-то такое не грозит, я-то себя держу в руках, в любой момент могу бросить…
Мне снова весело. Моя походка легка, как и мысли. Дон Москито не отстаёт – он также весел и невесом. Словно гонимый лёгким ветерком подсдутый воздушный шарик парит он, почти не касаясь тротуара.
Мы бессистемно бродим по улицам и переулкам выбирающейся из зимних окопов столицы. Чего тут только не встретишь: кургузые допожарные особнячки и пышные дома-дворцы девятнадцатого века сменяются модерном начала века нынешнего, те – шедеврами конструктивизма, последние, в свою очередь, дают место сталинскому барокко и блочным ужасам поздней советской архитектуры. Вот за это я и люблю центр – тут всего полно, и всё рядом. К сожалению, большинство зданий, особенно тех, что не выходят на крупные улицы, имеют запущенный и даже жалкий вид. Но более всего меня бесит попадающиеся то здесь, то там следы лужковского вандализма – старинные дома, от которых остались только стены, а то и один фасад.
– Ждут очередной реинкарнации в банки или офисы, – комментирует Дон Москито.
– Хорошо, что вообще не снесли, – отвечаю я, – а то могли. Это сейчас называется: «точечная застройка». Говорят, скоро в центре ничего старого не останется – всё снесут или перестроят.
– Это характерная черта нашего времени: не делать ничего нового, а только переделывать старое. Что поделаешь – постмодерн!
– А когда старое кончится, что тогда будет?
Дон Москито останавливается посреди тротуара и крайне задумчиво всматривается в обшарпанную стену дома напротив, будто сквозь неё ему видно будущее.
– Возможны два варианта, – произносит он, икнув, – либо совсем ничего, либо что-то революционно новое настолько, что… что… ну, чтобы всё вверх дном… наизнанку… как бы это сказать…
Не в силах подобрать нужных слов, он замолкает.
– Не трудись, – обрываю его я, – всё понятно. Непонятно другое: что из этих двух зол лучше.
– А почему ты считаешь второе злом?
Мои руки сами собой производят семитские эволюции в воздухе.
– Николай, странно слышать такое от рождённого в СССР! Неужели события восьмидесятилетней давности тебя ничему не научили?
Дон Москито обгоняет меня и заглядывает прямо в глаза:
– Знаешь, я часто думаю, может, ещё разок, а? Последний?
– Думаю, не стоит, – отвечаю я твёрдо, – хватит с нас предыдущих трёх. До сих пор расхлебать не можем. Коню ведь понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Надо найти какой-то другой способ, понимаешь, пойти…
– Другим путём? – с ухмылочкой вставляет до этого серьёзно внимавший мне Дон Москито.
– И кто из нас после этого сволочь? – огрызаюсь я. – Я лишь хотел сказать, что и одного раза должно быть достаточно. Вот, возьмём в качестве примера меня. В возрасте двух с половиной лет я случайно схватился за горячий утюг и нешуточно обжёг руку. С тех пор я не хватаюсь за включённые утюги, так как знаю, что можно обжечься. Поэтому мне становится до боли странно, когда я слышу призывы ко всякого рода революциям. А в последнее время я их слышу от самых разных людей. Сегодня вот от тебя услышал.
– А есть, что предложить взамен? – вопрошает Дон Москито. – Чего делать-то?
Совершенно искренне развожу руками:
– Не знаю, Коля, не знаю.
– Вот то-то, что не знаешь! Я тоже не знаю, и никто не знает, кроме того, чтобы «до основанья, а затем…»
Видимо, чтобы притупить охватившее его волнение, Дон Москито закуривает.
– Кстати, – говорит он, выпустив почти ровное кольцо, – ты тоже не чужд революционной пропаганды.
От неожиданности делаю большие глаза:
– Я!?
Дон Москито энергично кивает:
– Да, да! Именно ты! Кто намедни предлагал разобрать «Колумба с газетой[9]», потом переплавить его в огромное ядро, привязать к нему за одно место Церетели и бросить в Марианскую впадину? А? Пушкин?
– Да, но это же совсем другое… Это борьба со злом, святое дело…
– Да всё то же, не отмазывайся! Получается, твой утюг ничему тебя не научил!
Ещё что-то ему возразить мне не удаётся, поскольку следующий мой шаг приходится в глубокую лужу, которую я сослепу не заметил, и вместо аргументированного ответа в эфир вырывается поток нецензурной брани.
Дон Москито реагирует на случившееся достаточно странно. Вместо того чтобы позлорадствовать, он останавливается, принимает «пушкинскую» позу и нараспев произносит:
И в сотый раз рукой измерив, Температуру утюга, По лужам бегает Валерий, Совсем не зная ни фига…– Поэт останется поэтом, хоть ты его осыпь мозгами, – отзываюсь я.
В благодарность за сомнительный комплемент получаю от Дона Москито кривую рожу и комбинацию из одного пальца. Отвечаю ему тем же, только с двух рук.
К счастью, мы оба люди отходчивые, и инцидент продолжения не получает. Мы следуем дальше по неизвестному обоим маршруту.
– Послушай, а действительно: почему мы не учимся? – вдруг спрашивает долго молчавший Дон Москито. – Почему мы обречены на совершение одних и тех же ошибок? Я не только про то, о чём мы с тобой только что говорили. Например, почему мы всякий раз связываемся с женщинами одного и того же типа, который заложен в нас господом богом или же генами, и из года в год изводим себя и их одними и теми же проблемами?
«Интересный поворот разговора, – думаю я, – так вот что на самом деле его тревожит!»
– Что же ты предлагаешь, мой юный друг? – спрашиваю я. – Или ты так же не знаешь ответа на свой вопрос?
Дон Москито допивает бутылку и аккуратно ставит её на краешек тротуара – на радость бомжам.
– Я предлагаю идти против природы! – заявляет он, махнув правой рукой, словно Бендеровский сеятель. – Я предлагаю знакомиться с девушками, к которым не испытываешь необъяснимого влечения! Наоборот, нужно искать встречи с теми, которые нисколько не трогают при первой встрече, при виде которых не перехватывает дыхания, от чьих имён не бросают в дрожь…
– Но в этом случае не будет любви, – вставляю я. – Ты способен жить без любви?
– К чёрту любовь! – кричит Дон Москито. – Зачем она вообще нужна?
Мне смешно это слышать, но я не подаю вида:
– Нужна, Коля, ой, как нужна! Особенно в нашем с тобой возрасте. Но твоя проблема разрешима, и очень даже просто.
На меня наставляются удивлённые пьяноватые глаза:
– Да, и как?
– Элементарно. Кто тебе сказал, что надо обязательно поддерживать отношения только с одной женщиной? Ты что, не в состоянии быть одновременно с двумя или тремя? Тогда можно сравнить и сделать правильный выбор, а если одна изменит или уйдёт, то потеря выйдет не столь горькой – другие-то останутся. Главное, чтобы кто-то постоянно был рядом.
После недолгого раздумья Дон Москито морщится:
– Предлагаешь стать хиппи? Очень привлекательно, только, боюсь, я на это не способен.
– Хиппи, Коля, просто физически не могут выжить в нашей стране по одной простой причине. Они у нас замёрзнут. Подобные молодёжные течения даже теоретически невозможны в странах с низкой среднегодовой температурой.
Дон Москито грустно улыбается:
– Я не о том. У меня вряд ли такое выйдет, но всё равно, спасибо за совет.
Не знаю почему, но мне вдруг становится его очень-очень жалко.
Ещё полчаса променада, и мы оказываемся в Газетном переулке. Он полностью заставлен машинами и невероятно грязен – даже не верится, что Кремль в двух шагах. Негатив усугубляет нависающая сверху стеклянная громада «Макдональдса», совершенно чуждая городу своим инопланетным дизайном.
– Какой кошмар! – вырывается у меня.
– А, ты про мужской туалет? – уточняет Дон Москито, кивая на жёлтую букву «М». – Да, это худшее из того, что мы с тобой сегодня видели. Кстати, тебе туда не надо?
Отрицательно мотаю головой. Заходить внутрь не хочется.
– А я схожу. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Дон Москито уходит. Я остаюсь один, и на меня немедленно накатывает вал из мыслей, как часто бывает по-пьяни. Нехорошее чувство, которое возникает после того, как наврёшь кому-нибудь – и тот поверит – поддавливает горло. Проблема в том, что я сам не верю в то, что только что сказал. У меня никогда не получалось, да, наверное, и не получится сделать то, что я посоветовал несчастному Дону Москито, полностью растворившемуся в своей Анне, и от этого становится мерзко на душе. Единственное, что меня несколько извиняет – искреннее желание так жить. Честно. Иметь нескольких любовниц, каждая из которых являет собой противоположность другим, легко, без сожаления с ними расставаться, не испытывать никаких чувств от их измен, не избегать их при встрече после, вспоминать о прошлом всегда с улыбкой…
«Нет, не могу я так, – признаюсь я самому себе, – не способен, как и Дон Москито. Хотя, единственный способ это проверить – попробовать, благо кандидатура имеется…»
По Газетному начинает гулять притихший было холодный мартовский ветер. Становится зябко. В тщетной попытке от него укрыться, разворачиваюсь спиной к Тверской и поднимаю воротник пальто. Руки сами собой заползают в карманы, и левая вдруг натыкается на что-то бумажное.
Достаю. Разворачиваю и с огромным удивлением узнаю в том, что только что извлёк из кармана, очередное Светкино письмо, которое я вчера нашёл в почтовом ящике, но так и не удосужился прочитать.
Здравствуй, Лерик.
Это опять я. Хочу поделиться с тобой новостью: я завела любовника. Дурацкое слово «завела», да? Будто я собаку завела, или кошку… Лучше сказать: «У меня роман». Так романтичнее, так говорят в американских фильмах.
Короче: мы познакомились в гостях у Маринки Шаховой (помнишь такую?) – машину обмывали. Сержик, как обычно, нализался, и с Маринкиным Сашкой на кухне засел. Я пошла на балкон покурить, а там стоит ОН. Посмотрела ему в глаза – и всё поняла, и ОН тоже. Я не буду говорить, кто это – ты его всё равно не знаешь.
На другой день пошла к нему сама. Он недалеко живёт, в завокзалке. И, знаешь, мне так хорошо стало, передать не могу. Не понимаю: и чего я, дура, раньше до этого не додумалась! Одно плохо: не с кем поделиться радостью. Девкам не расскажешь – растреплют, матери тоже, остаёшься один ты – за тебя-то я спокойна.
Мы встречаемся по вторникам и четвергам уже месяц. То у него, то у моих родителей, когда их нет. Такой экстрим… Ты только не подумай, с Сержиком я разводиться не собираюсь. Никакой любви у меня к НЕМУ нет, но это не просто секс, это приключение.
Не знаю, сколько это будет продолжаться, стараюсь об этом не думать. Надоест – найду другого. Я вообще теперь не задумываюсь о будущем. К чёрту его!
Ну, вроде, выговорилась. У тебя-то как дела? Девушку себе нашёл, да? На меня, небось, похожа? Шучу, не обижайся.
Всё, пока, надо бежать – сегодня четверг.
Не твоя Света.«Ну вот, и она туда же, – думаю я, – наверное, это возрастное, или у дураков мысли сходятся…»
– Что у тебя там? – спрашивает подошедший Дон Москито.
– Письма из прошлого, – отвечаю я, разрывая листок вместе с конвертом в мелкие клочки, – а с прошлым надо расставаться легко…
4
– Центральный Академический театр Российской Армии – первый профессиональный драматический театр в системе Министерства обороны СССР, – читаю я на небольшом стенде, установленном у входа в театр. – Театр образован в 1929 году. Это самый большой драматический театр не только в Москве, но и в Европе. Большой Зал вмещает 1100 зрителей, Малый – 400. Сцена Большого Зала оборудована уникальным вращающимся кругом и подъёмными механизмами…
Расправившись со стендом, переключаюсь на афишу. Скажу честно, она радует. Видно, что неизвестный художник-оформитель не просто так получил свои деньги, хотя и потратил при этом минимум полиграфических средств.
Собственно, афиша состоит из двух чуть скошенных «М» – одной красной, другой чёрной – которые продолжаются газетным «астер» и написанной размашистым женским почерком «аргарита». На секунду у меня возникает сомнение, что красное и чёрное поделено между главными героями справедливо, но, вспомнив ночной полёт и прочее, понимаю, что чёрное отдано Маргарите вполне заслуженно.
– Вы не посмотрите, занят ли в этом спектакле Владимир Зельдин? – обращается ко мне несколько карикатурная пожилая дама в каракулевом берете, которая до этого молча созерцала афишу, – а то я, как на грех, забыла дома пенсне…
Всматриваюсь в напечатанный в самом низу афиши мелким шрифтом состав актёров, но никакого В. Зельдина там не обнаруживаю, ровно как и В. Четверикова, то есть Че.
– Похоже, нет, – говорю я.
– Если он занят в эпизоде, его тут не будет, – встревает Дон Москито. – Надо в программке посмотреть, там всех печатают.
– Зельдин в эпизоде? – восклицает дама. – Это красиво!
– Извините, просто я не в курсе, кто такой Владимир Зельдин, – ретируется он.
От этих слов с дамой происходят странные метаморфозы: глаза угрожающе расширяются, мятый подбородок отвисает и, презирая закон всемирного тяготения, над причёской приподнимается берет.
– Да как вам не стыдно! – срываясь на фальцет, кричит она. – Как такого можно не знать! Зельдин – это же наше всё! Ну и молодёжь пошла! Вырастили на свою голову! Нечего сказать, молодец!
Мы с Доном Москито удивлённо переглядываемся. Ситуация непростая: ругаться с дамой не хочется, а отвечать что-то надо. Лично я выбираю между: «Извините, я не театрал» и «Что я, тут всех знать должен?»
На счастье, за нас вступается неожиданно подошедший справа мужчина с закрученными вверх усами, в пальто с меховым воротником и котелке. В таком виде он ещё более карикатурен, чем сама дама, так что рядом они смотрятся очень стильно.
– Молодые люди просто слишком молоды, чтобы знать, кто такой Зельдин, – деликатно замечает мужчина и слегка приподнимает рукой котелок.
Дама бросает на него негодующий взгляд, который, впрочем, тут же остывает:
– Это, несомненно, их извиняет, но лишь отчасти, – гораздо мягче говорит она, – таких людей надо знать!
– Разумеется, – мужчина чуть кланяется, – а кого, по вашему мнению, Зельдин мог бы играть в этом спектакле? Воланда?
Дама в шляпе красноречиво кривится:
– Владимир Михайлович не может играть антихриста! Я вижу его Мастером!
– Простите, голубушка, но возраст… – разводит руками мужчина, – вам не кажется, что Владимир Михайлович несколько м-м-м… пожилой для Мастера[10].
– Во-первых, для настоящего актёра не существует возраста! – парирует дама, видимо, заранее заготовленной фразой. – И никакая я вам не голубушка, во-вторых!
– Простите великодушно, – мужчина снова кланяется. – Тогда, может быть, Каифу?
– Каифу? – визжит дама. – Нет, только Мастер! И никто другой!
Пока эти двое заняты беседой, тихо покидаем место преступления задним ходом.
В кассу оказывается приличная очередь. Честно скажу, я и представить себе не мог, что люди будут стоять за билетами в этот театр. Ну, не ожидал я подобной популярности самого большого драматического театра в Европе (простите, если кого обидел). Так что с чувством небольшого, но вполне ощутимого превосходства, которое даёт лежащая в кармане у Дона Москито контрамарка, следуем мы ко входу.
В гардероб тоже очередь: древняя, возможно, ровесница театру, единственная гардеробщица не справляется. От скуки верчу головой, разглядывая людей в очереди. Спереди всё банально: две чуть пованивающие старушенции, перед ними измождённая лишним весом пара средних лет, ещё дальше – лохматая мамаша с прыщавой девочкой-подростком. А вот сзади сюрприз: прекрасная девушка, судя по всему, школьница последних классов. Девушка не просто прекрасная, она – сущий ангел: светло-розовое личико – голубые глаза – светлые кудряшки – белая шубка… но в этих голубых глазах столько порока, что мне становится не по себе. В некотором смущении перевожу взгляд на её кавалера, судя по всему, ровесника, но с ним тоже оказывается непросто. По внешним признакам – обычный жирдяй-очкарик, каких обычно в школе мутузят почём зря, но, встретившись с ним взглядом, физически ощущаю исходящую из-за сильных линз недетскую ледяную надменность и даже превосходство. Чтобы не вводить себя в искус дать ему в рожу, отворачиваюсь.
«Ну и детки, прости господи», – думаю я, вспоминая карикатурную даму.
– Молодую шпану заказывали? – читает мои мысли Дон Москито. – Извольте-с.
– Мне казалось, я не такой старый, чтобы участвовать в конфликте поколений на стороне старших, – говорю я тихо, – но, похоже, я ошибался.
– Да, Валера, мы с тобой уже полный хлам, – вздыхает в ответ мой друг.
Минут через десять наши пальто и шапки всё-таки оказываются в руках у карги-гардеробщицы, и мы, спрятав номерки, направляемся в фойе, где бесцельно слоняются освободившиеся от верхней одежды редкие зрители. Пройдя его насквозь, упираемся в большое зеркало, у которого прихорашиваются две девицы с распущенными волосами. Встаём рядом.
Из-за стекла на нас с удивлением смотрят два немного растрёпанных молодых человека и две густо накрашенные девицы разной степени причёсанности. Приступ хохота – ни с того, ни с сего – возвращается, сначала ко мне, а потом и к Дону Москито. Мы начинаем трястись и бесшумно корчиться. Испуганные девицы моментально исчезают из зеркала, а там, где они только что были, появляется его величество Че.
– Вы чего тут устроили? – говорит он удивлённо. – Пойдёмте, покажу, где сесть, – и, осмотрев Дона Москито, добавляет: – клёвый прикид.
– Спасибо, я старался, – ответствует тот. – А у вас, я смотрю, аншлаг.
– Когда я занят в спектакле, у нас всегда так, – небрежно бросает Че.
Быстрым шагом покидаем фойе, поднимаемся по широкой лестнице на второй этаж, проходим сквозь большую залу с батальной сценой на потолке, и останавливаемся у маленькой, не выше полутора метров, двери в стене. Че достаёт из кармана огромный для такой двери ключ, привычным движением открывает её и делает пригласительный жест рукой:
– Знакомьтесь, господа, это самая маленькая дверь в Москве.
Дон Москито кланяется в пояс.
– Здравствуй, дверь, – говорит он. Затем разгибается, и, опершись рукой на ребро открытой двери, вопрошает:
– А нет ли у вас какой-нибудь волшебной жидкости, чтобы уменьшиться и комфортно её преодолеть?
Че внимательно смотрит в глаза сначала ему, а затем мне:
– Вы, по-моему, уже выпили одной волшебной жидкости.
– Ну, не без этого…
Страдальческое выражение лица нашего друга стоит больше дюжины самых выразительных матерных слов:
– Можно было хотя бы сегодня не бухать!
– Серёж, успокойся, мы оба в порядке, – вступаю я, – сам же видишь.
– В том-то и дело, что вижу! – повышает он голос. – Смотрите, только мне без глупостей, а то меня из театра выгонят.
Дон Москито складывает руки в положение «прости господи»:
– Не извольте беспокоиться, господин артист. Будем сидеть, как мышки.
Че трагически вздыхает:
– Ладно, пошли. Берегите головы.
Дон Москито, как самый длинный, идёт первым. Я просовываюсь следом и оказываюсь в квадратном тамбуре, который заканчивается лестницей в темноту.
– А там что? – Дон Москито указывает пальцем на лестницу. – Кукольный театр?
– Нет, человеческий, – отвечает Че. – Подниметесь до конца, займёте позицию.
Я киваю:
– Что-нибудь ещё?
– Ничего. Наслаждайтесь. Вот, возьмите ключ. Если вдруг спросят, кто такие, скажите, от меня. «Светики» на подмену.
– Кто-кто? – спрашивает Дон Москито.
– Осветители.
– Понятно.
– Ладно, мне пора, у меня сложный грим, – Че салютует нам двумя пальцами и исчезает за дверью, через которую мы попали в тамбур.
Путь к отступлению закрыт. Я вздыхаю, ещё раз смотрю на закрытую дверь и начинаю подниматься по ступенькам вслед за лакированными туфлями Дона Москито.
Лестница приводит нас в небольшую ложу, расположенную под огромными осветительными приборами. Ложа совсем маленькая, на одного, максимум на двух человек. Перегибаюсь через деревянный бортик и сквозь натянутую металлическую сетку далеко внизу вижу ряды не занятых зрителями кресел. Высоты я никогда не боялся, но отсюда смотреть вниз, честно говоря, страшновато – непроизвольно отступаю на полшага назад. А вот моему спутнику, похоже, здесь нравится: переломившись пополам, как охотничье ружьё, он свешивается вниз и мечтательно произносит:
– Люблю смотреть на всё с высоты. Сверху всё кажется по-другому.
– Это потому, что ты длинный.
– Что есть, то есть, – соглашается он.
Осмотревшись вокруг, соображаю, что поспешил классифицировать то, куда нас занесло, как ложу. Скорее всего, это техническая площадка для обслуживания этих самых осветительных приборов. Кресел тут нет, но есть два щедро заляпанных белой краской стула. Предварительно проверив рукой, что ничего не мажется, сажусь.
– Не, я садиться не буду, – говорит Дон Москито, – штаны жалко.
И тут он достаёт из внутреннего кармана маленький серый с красными окулярами бинокль.
– Да ты, я смотрю, подготовился! – говорю я восхищённо. – Дай позырить!
Дон Москито вкладывает мне в руку холодную «игрушку».
– Смотри, только не урони, это чужой.
Вся сцена большого зала, того самого, который вмещает 1100 зрителей, с нашей площадки отлично просматривается даже без оптики, а уж в десятикратный бинокль и подавно. Без труда я рассматриваю заштопанные дыры в занавесе, дефекты покрытия сцены и какие-то неприятного вида не до конца оттёртые пятна на полу.
– Да, позиция что надо, – говорю я, отрываясь от окуляров, – Че просто молодец. Всё для друзей.
– Знал бы ты, сколько баб он сюда переводил, – устало отзывается Дон Москито.
Зал заполняется медленно, но верно. К моменту, когда в помещение начинает затекать темнота, свободных мест уже нет. Дон Москито устал стоять и опускается-таки на стул, подложив под пятую точку программки – свою и мою.
Действие начинается, как и должно – с разговора на Патриарших. Две половины занавеса разъезжаются, и мы видим засаженную искусственными липами пустую аллею, фанерную будку «Пиво и воды», небольшой кусочек бутафорского ограждения и, несомненно, настоящий металлический турникет. Вдали угадывается нарисованный пруд. Освещение на сцене таково, что создаётся полное ощущение жаркого майского вечера.
– Лихо, – тихо говорит Дон Москито, – посмотрим, что будет дальше.
Из левой кулисы появляются обсуждающие известную проблему Берлиоз с Бездомным, неспешным шагом подходят к ларьку, выпивают «абрикосовой» и направляются к скамейке. Садятся.
– Нет ни одной восточной религии, – высоким до визглявости голосом начинает Берлиоз, – в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога…
Навожу на актёров оптику. Берлиоз оказывается совсем пожилым дядькой с лицом, покрытым толстым слоем сценической «штукатурки», сквозь которую проступает неровная щетина; Бездомный – неестественно рыжим (наверняка в парике) парнем лет двадцати пяти, похожим на уголовника. Несмотря на близость образов к оригиналу, оба мне почему-то не нравятся, о чём я и сообщаю Дону Москито.
– А мне так ничего, особенно рыжий, – отвечает тот.
Через минуту из правой кулисы на сцену тяжеловатой походкой жалует Воланд.
А вот этот хорош: в точности такой, как у автора – высокого роста, в сером костюме, серых туфлях и сером берете, с чёрной тростью под мышкой. Взяв его в прицел, я различаю венчающую трость голову пуделя, разноцветные глаза и даже блеск коронок во рту.
Воланд садится на свободную лавочку, затем поднимается и подходит к Берлиозу с Бездомным.
– Извините меня, пожалуйста, – говорит он с чудным акцентом, – что я, не будучи знаком, позволяю себе…
Ещё до начала спектакля мне было интересно, каким образом действие перенесётся с Патриарших в Иудею. Я наивно думал, что в зале на короткое время выключат свет, а шустрые рабочие сцены быстренько соорудят новые декорации, но всё выходит гораздо проще, а точнее сказать, сложнее. Проблема смены места действия решается при помощи разрекламированного на стенде перед входом в театр огромного вращающегося круга. Декорации размещаются на сём кругу так, что при его повороте на определённый угол новая картина полностью сменяется предыдущей; остальные же при этом затеняются и становятся совершенно не видны.
– Всё просто: в белом плаще… – произносит Воланд, и вместо старой Москвы я и все зрители в зале видят интерьер дворца Ирода Великого.
Крупный, лысый, с тяжёлым выступающим вперёд лбом Пилат мне нравится – хочется верить, что вот сидит пятый прокуратор Иудеи, всадник «Золотое копье», такой же настоящий, как и огромный мраморный дог, лежащий рядом. Видимо, чтобы показать, что он живой, дог пару раз порывается встать и направиться куда-нибудь по своим собачьим делам, но оба раза его останавливает прокураторский рывок за ошейник.
Когда пред ясные очи Пилата приводят Иешуа – маленького тщедушного паренька в лохмотьях – в зале раздаются энергичные хлопки. Смотрю на того в бинокль, но его узкое вытянутое лицо оказывается мне совершенно незнакомо.
– Товарищ из сериалов, – шепчет мне на ухо Дон Москито, – только фамилию забыл.
Переведя взгляд на конвой, я узнаю знакомую фигуру рядом с Марком Крысобоем.
– А вот и наши, – говорю я, – слева от Крысобоя.
Передаю бинокль Дону Москито. Тот возбуждённо хватает оптику и встаёт:
– О, давай, заценим Серёжу…
Че стоит, широко расставив ноги, держа в левой руке прямоугольный щит, из центра которого к углам расходились четыре изломанные молнии, а в правой – длинное копье. Голова его, как и у остальных легионеров, почему-то слегка опущена, будто они все в чём-то виноваты. Когда Иешуа рассказывает Пилату про Иуду из Кириафа, Че чуть поднимает голову и, как мне кажется, смотрит в нашу сторону. Разумеется, мы начинаем махать ему руками в ответ, после чего его голова опускается, и до конца картины он на нас больше не смотрит.
Наконец Пилат громко кричит в зал: «Варравван!», сцена поворачивается в обратном направлении, и мы снова оказываемся в Москве.
– Блин, мне нравится, как они это делают! – восхищается Дон Москито, – надо будет на эту тему что-нибудь написать.
– Поэма о поворотном круге?
– А что, неплохо… и рифмуется хорошо: круг, друг, вдруг…
– Не будем продолжать логический ряд, – останавливаю я его.
На Патриарших стало довольно темно: лавку с сидящей на ней троицей освещает лишь одинокий фонарь на аллее. Разговор про седьмое доказательство занимает у героев всего пару минут, и вот уже взъерошенный и испуганный Берлиоз бежит к турникету. Весь зал и мы с Доном Москито замираем в ожидании.
– Турникет ищете, гражданин? – противненьким голоском осведомляется у него подскочивший Коровьёв – длинный нескладный дядька в клетчатом пиджаке не по росту, – сюда пожалуйте! Прямо, и выйдете, куда надо…
Несчастный Берлиоз отпихивается от Коровьёва, как от мухи, и выскакивает за турникет. Там он довольно правдоподобно оскальзывается и с размаху шмякается на бутафорские, должно быть резиновые, булыжники. На сцене гаснет свет, лишь место, где нелепо барахтается фигура Берлиоза, выхвачено из темноты лучом единственного прожектора; слышится звон невидимого трамвая, раздаётся оглушительный женский визг, и всё погружается во мрак.
– Стра-а-а-ашно, – шепчет Дон Москито мне на ухо.
Когда всё стихает и освещение на сцене становится прежним, зал в один голос охает: по полу, от кулисы к кулисе, медленно катится отрезанная голова Берлиоза. Обезглавленное же тело (хочется думать, манекен) лежит на месте падения, за турникетом. Прилипаю глазами к окулярам, пытаясь получше рассмотреть голову, но бессмысленно мечущийся по сцене Бездомный заслоняет её спиной; когда же он, наконец, отходит в сторону, головы уже и след простыл.
– Эй, – тянет меня за рукав Дон Москито, – давай-ка назад.
С удивлением обнаруживаю, что я, оказывается, стою, опасно перегнувшись через бортик, и таращусь на сцену в бинокль, хотя точно помню, что ещё несколько минут назад сидел. Глупо улыбнувшись, опускаюсь на стул и откидываюсь на спинку.
– Хотел голову рассмотреть, – поясняю я, – но собака Бегемот спёр её раньше времени.
– Валера, Бегемот – кошка, – устало отзывается Дон Москито.
На сцене начинается погоня. Огненно-рыжий Бездомный совершенно бестолково пытается сначала арестовать Воланда, затем изловить Коровьёва, потом Бегемота, чем лично у меня вызывает приступ сочувствия (то же всегда происходило со мной при прочтении этого момента в книге).
– Жалко дурака, – грустным голосом говорит Дон Москито.
– Не говори, – подтверждаю я.
Далее картины сменяют друг друга тем же манером, то есть, с поворотом круга – действие продолжается. Разумеется, далеко не всё, что вышло из-под благословенного пера Михаила Афанасьевича, попадает в этот вечер на сцену театра Российской Армии, но в целом спектакль соответствует роману, насколько это вообще возможно.
Большинство из того, что происходит на сцене, мне нравится. Представление в варьете, например, сделано вообще распрекрасно. Думаю, сам автор, если бы он чудесным образом сегодня в обед воскрес и оказался сейчас в партере, или даже на галёрке, непременно остался бы доволен происходящим.
Начинается с того, что Воланд, Бегемот и Коровьёв располагаются у самой рампы и начинают вытворять там свои штучки, обращаясь за помощью непосредственно в зал. Из партера им довольно естественно отвечают подсадные. Обнаруживается и колода карт у господина Парчевского в седьмом ряду, и деньги в кармане у кого-то с галёрки. Публика реагирует смехом и редкими хлопками, когда же с потолка в партер начинают ворохами сыпаться червонцы, зал грохочет аплодисментами.
Голову Бенгальскому откручивают и возвращают обратно при помощи циркового трюка, который, если я не ошибаюсь, называется: «Говорящая голова». Выглядит это довольно забавно. После того, как оторванная Бегемотом черепушка водружается на место, Коровьёв даёт конферансье хорошего пинка, выпроводив того со сцены, и обращается к залу:
– Таперича, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин!
– А давайте! – отвечает ему из партера женский голос.
Что тут начинается!
Одетые по моде начала прошлого века, подсадные гражданки из партера одна за другой выходят на сцену (для этого приносят специальную лесенку) и за ширмой в китайских цаплях переодеваются в заграничное. Эти же гражданки бегают потом по «магазину» в неглиже, а одна даже – с самым маленьким бюстом из всех – топлесс. Из амфитеатра слышится густое низкое «Браво!» и яростные хлопки. Мы с Доном Москито на происходящее реагируем бурно, даже слишком. Он свистит, я улюлюкаю – всё равно нас никто не видит.
А вот диалог Бездомного с Мастером, да и сам Мастер, мне совершенно не нравится. Актёр, который должен создать на сцене образ помешавшегося от любви гения, ведёт себя чуть интеллигентнее среднестатистического царицынского гопника, не хватает только семечек, спортивного костюма, кепки и золотой фиксы. Кроме того, складывается впечатление, что актёр банально пьян.
– Тебе не кажется, что он поддатый? – спрашиваю я Дона Москито.
– Нашёл, у кого спросить… – усмехается тот.
После визита в нехорошую квартиру буфетчика из варьете – Андрея Фокича Сокова – что примерно соответствует окончанию первой части романа, объявляется антракт. Мы покидаем «позицию», спускаемся по тёмной лестнице вниз, один за другим преодолеваем самую низкую дверь в Москве и, подхваченные бурным потоком возбуждённых зрителей, буквально плывём к буфету.
Помещение его, как, впрочем, и всё в здании театра, оказывается весьма просторным. Первые достигшие его зрители распределяются между тремя стойками, в надежде съесть заветный бутерброд с красной рыбой и запить шампанским. Выбирая, куда двинуться дальше, я замечаю, что у самой дальней народу толкалось в несколько раз больше, чем у двух остальных, и царит странное оживление. Движимый скорее любопытством, чем здравым смыслом, направляюсь в толпу. Дон Москито, движимый тем же порывом, следует за мной. Отыскать конец очереди оказалось невозможно, поэтому мы просто пристраиваемся за первой попавшейся спиной.
Причина локального ажиотажа выясняется довольно скоро: оказывается, посетителей здесь обслуживает актёр, игравший Андрея Фокича, а на прилавке кроме всего прочего есть осетрина. Разумеется, каждый второй обращается к буфетчику по имени и отчеству и интересуется, какой она свежести, а «Андрей Фокич» всякий раз спокойно ответствует, что осетрина, как известно, бывает только одной свежести – первой, и никакой другой у них в буфете не водится.
Наша очередь подходит к концу антракта. Я прошу бутерброд с осетриной и коньяку. Дон Москито со мной солидарен.
– «Хеннеси», «Арарат», «Кизлярский»? – интересуется «Андрей Фокич».
– «Кизлярский», пожалуйста, – отвечаю я, – поддержим отечественного производителя.
«Андрей Фокич» ловко наливает коньяку в две пузатые рюмки.
– Правильная вещь, – кивает он, – если настоящая.
Дон Москито изображает на лице удивление:
– Надеюсь…
Буфетчик делает успокаивающий жест рукой.
– На все сто… вернее, на все сорок. С вас сто пятьдесят рублей, господа хорошие.
Достаю бумажник – в прошлый приём волшебной жидкости платил Николай. Буфетчик с приятной улыбкой отсчитывает сдачу. Внезапно я проникаюсь к этому слуге двух господ – Мельпомены и Гермеса – пьяной симпатией.
– Выпьете со нами? – предлагаю я.
– Я на службе, – не снимая улыбки, отвечает он.
– Но ведь вы, по-моему, своё на сегодня уже отыграли? – спрашивает Дон Москито.
«Андрей Фокич» отрицательно качает головой:
– Отнюдь. Вы будете иметь несчастье лицезреть меня ещё в нескольких массовых сценах, хотя, скорее всего, не узнаете. В спектакле занято слишком много актёров. Труппа у нас немаленькая, но всё равно не хватает. Да и нельзя мне.
– Язва? – наугад предполагаю я.
Теперь «Андрей Фокич» изображает удивление:
– Вы что, книгу не читали?
Заглядываю в его грязно-голубые глаза, пытаясь сообразить, шутит он, или серьёзно, но не вижу там ничего, кроме бездонной тоски зашитого алкоголика. Мне становится до ужаса неловко; проклиная себя за то, что затеял этот разговор, отвожу в сторону глаза и негромко говорю:
– Извините.
– Ничего, ничего, – улыбается буфетчик. – Это же Андрей Фокич болен, а не я. Пока я – он, мне ничего нельзя, когда я перестаю быть им, пожалуйста.
«Боже ж ты мой, – думаю я, – и здесь всё запущено…»
– А вы не боитесь во всё это поверить по-настоящему? – неожиданно встревает Дон Москито.
– А я верю, – спокойно отвечает буфетчик. – В театре, как в церкви, без веры никуда. Помните Станиславского? Да и в жизни то же самое. Вот вы, всегда верите в то, что вы – это вы? Не случается ли у вас сомнений в нереальности вашей личности? И не хочется ли вам порой сбежать в какую-нибудь другую, натянуть на себя чью-то маску, чью-то, простите, кожу?
Ничего не ответив, Дон Москито опрокидывает в себя рюмку.
– Повторите, – просит он.
«Андрей Фокич» выливает в его бокал остатки коньяка.
– Хочется, – говорит Дон Москито, – только ничего не получается.
Буфетчик измеряет моего друга придирчивым взглядом:
– Думаю, вы слишком увлеклись антуражем. Главное ведь не это, главное то, что вот здесь, – «Андрей Фокич» легонько постукивает через шляпу себе по макушке. – Надо научиться смотреть на мир его глазами.
– Чьими глазами?
– Того, кем вы хотите быть, – улыбается буфетчик, – иначе никак…
Дон Москито осушает бокал. Снова залпом и снова не чокаясь.
– Ещё… – просит он буфетчика.
– Секундочку, – с готовностью отвечает тот, – только за бутылочкой в другой буфет сбегаю…
Я понимаю, что если Дон Москито продолжит в таком темпе, то нас с ним ожидает вполне предсказуемый и очень скорый финал. Положение спасают подбежавшие к стойке две запыхавшиеся девицы, те самые, которых мы видели перед спектаклем в зеркале.
– Шампанского! – выпаливает одна.
– И два эклера! – подхватывает вторая.
Буфетчик начинает выполнять заказ, а я, пользуясь моментом, беру в одну руку рюмку и завёрнутые в салфетку бутерброды, в другую Дона Москито и оттаскиваю к ближайшему столику, основательно загаженному нашими предшественниками. Во избежание соблазнов, разворачиваю ставшего заметно более мягким Николая спиной к стойке и запихиваю ему в рот последовательно два бутерброда – свой и его.
– Коля, закусывай давай, и пошли!
– Знаешь, Валера, – жуя, говорит он, – я только что очень многое понял. Очень многое…
– Твоё здоровье…
Продукция отечественного производителя не по-доброму обжигает глотку.
Когда мы возвращаемся на позицию, действие уже идёт. По сцене дефилирует невысокая женщина в рыжем парике, одетая в короткое чёрное пальто, старомодную шляпку-колокольчик, красные туфли-лодочки и красные же перчатки. Маргарита Николаевна, (а это, несомненно, она) которой согласно роману полагается быть тридцати лет, по факту оказывается минимум в полтора раза старше. И хоть время милостиво к её фигуре и лицу, от мысли о предстоящей обнажёнке становится неуютно.
Заглянув в программку, которую я с некоторым усилием выдёргиваю из-под Дона Москито, узнаю, что под личиной Булгаковской музы скрывается некая Воробьёва Е. Л., видимо, та самая «Гиена Львовна», которую мы поминали всуе в «Жёлтой кофте».
– Местная прима, – просвещаю я Дона Москито, – жена или любовница кого-то важного. Че что-то про неё рассказывал.
– Да, если не сменится руководство, она до пенсии будет играть главные роли во всех спектаклях, включая детские, – смеётся тот.
А действие продолжается. Ночной полёт, разумеется, выполняет дублёрша – молодая девчонка с серьёзной гимнастической подготовкой. С прежней Маргаритой у неё общий только рыжий парик. Освещаемая, словно луной, голубым прожектором, парит она над сценой верхом на метле, от которой в темноту уходят две чуть заметные лонжи. Сцена при этом вращается, и выходит, что летает она и над Москвой и над Ершалаимом и над всем остальными местами, где происходит действие пьесы, что, на мой взгляд, довольно оригинально.
Полёт Наташи на поролоновом борове происходит чуть менее эффектно, в основном из-за того, что хряк напоминает Хрюшу из передачи «Спокойной ночи, малыши», но зато у Наташи оказывается всё в порядке с формами, а телесного цвета купальник практически ничего не скрывает, особенно если смотреть в бинокль.
– Мне-то хоть дай посмотреть, лихоимец, – ноет под ухом Дон Москито, щипая меня за локоть.
Диалог же Маргариты и неизвестного мне актёра, игравшего Воланда, в интерьере квартиры № 50 дома 302‑бис по Садовой улице, практически сводит на ноль всё впечатление о спектакле. Гиена Львовна страшно переигрывает. Ей, постбальзаковского возраста даме, безусловно, хочется показаться зрителям молодой и полной любовных сил женщиной, и желание это, вероятно, настолько сильно, что играет она не на тридцать, а лет так на шестнадцать-семнадцать – в результате чего получается эдакая Лолита на пенсии. Лишь Воланд с Бегемотом, безукоризненно разыгрывающие сцену с шахматной партией, спасают картину от провала.
– Фу, противно смотреть, – голосом Фрекен Бок комментирует происходящее Дон Москито.
Приготовления Маргариты к балу скрываются от публики громадной белой ширмой, так что зрители могут наблюдать довольно забавный театр теней, где Гиену Львовну снова заменяет дублёрша с хорошей фигурой. Прежде чем завести за ширму, слуги дьявола надевают на «приму» отсутствующую в романе золотую маску, зарывающую две трети лица.
– Наверное, чтобы никто не заметил подмены, когда оттуда выйдет кто-то более подходящая по возрасту, – предполагает Дон Москито.
– Будем надеяться, что будет та, которая сейчас за ширмой, – говорю я.
– О, да! – соглашается он.
Наконец, ширму убирают, и в центре сцены, на небольшом возвышении, появляется Маргарита в длинной, до полу, чёрной накидке с опущенным капюшоном. Лица из-за капюшона и маски не видно вовсе. Окружённая воландовской свитой, в этом наряде она похожа на монахиню, попавшую в ад. Сам прародитель зла в каком-то затрапезном наряде, но зато при шпаге, стоит чуть поодаль.
По залу прокатывается сокрушительное «Ах!..», когда сорванная, словно порывом ветра, накидка слетает с Маргариты прочь. Несмотря на протесты, припадаю к биноклю, и… на том самом возвышении, в обществе потусторонних бандитов, вижу прекрасную голую девушку. Прекрасную до такой степени, что мне больно на неё смотреть. При этом нагота её кажется абсолютно уместной и совершенно не смущает – вероятно, срабатывает эффект, который чётко отделяет красоту от похабщины. Только через несколько секунд (или минут) я замечаю, что на ней, кроме маски и парика, надеты крохотные черные трусики.
– Ничего не скажешь, хорошо подготовилась к балу, – тихо произносит Дон Москито.
– Настоящая королева! – вырывается у меня.
Сцена бала я практически проходит мимо меня. Я всё время смотрю только на Маргариту – и не могу налюбоваться. Гости появляются откуда-то из темноты слева, их представляют королеве, Коровьёв с Бегемотом во всеуслышание заявляют, что они в восхищении, а я всё смотрю и смотрю. Мне даже всё равно, прибывают ли дамы, как им положено по книге, обнажёнными. Я весь без остатка поглощён прекрасной Маргаритой.
Но на последнего гостя я всё же обращаю внимание. В образе барона Майгеля – в чёрной паре и белоснежной манишке – на сцене появляется Че, которого хорошенько пошатывает. Взявши друга в прицел, я замечаю, что он, ко всему прочему, невероятно бледен.
«Интересно, как это ему удалось так глубоко войти в образ?» – думаю я.
– А! Милейший барон Майгель! – восклицает Воланд.
Че отвешивает ему неловкий поклон и пятится назад.
– Милый барон, – продолжает Воланд, – был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил мне, предлагая свои услуги…
В ответ Че, как мне кажется, несколько натужно улыбается и снова кланяется.
– Да, кстати, барон, разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности…
– Посмотри-ка на Серёжу, – обращаюсь я к Дону Москито, – тебе не кажется, что…
А в ответ, прямо как у Владимира Семёновича, тишина. Моего друга, как будто тут и не было вовсе.
Некоторое время я пребываю в нешуточном замешательстве, затем начинаю успокаивать себя мыслью, что ему, возможно, просто приспичило, и он решил спуститься вниз, в туалет. Ещё какое-то время я размышляю: не пойти ли за ним, но решаю всё же досмотреть спектакль до конца.
Че, то есть Барон Майгель, теперь ещё белее, чем прежде, и дрожит всем телом. Мне кажется, он что-то тихо говорит, обращаясь сначала к Воланду, а потом к Азазелло, но что именно, я не могу разобрать. Видимо, ничего от них не добившись, он делает шаг назад, но стоящий сзади него Коровьёв пихает его в спину так, что тот оказывается снова там, где был секунду назад.
– …так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, – заканчивает Воланд.
Че смотрит вверх, в зал, возможно, высматривая меня; наши взгляды в какой-то момент встречаются, и я вижу в его глазах неподдельный, мало сказать – страх. Ужас.
То, что происходит дальше, до этого момента я не мог представить даже в самом страшном сне. На сцену со стороны правой кулисы выбегает Дон Москито и, вырвав из рук Азазелло револьвер, с криком: «Беги!» начинает по-ковбойски, с бедра палить в Воланда и свиту. Вокруг стрелка образуется приличное облако сизого дыма. На сцене происходит небольшая паника: напуганные актёры в большинстве своём перемещаются влево, подальше от незапланированного в пьесе персонажа, лишь Воланд и Маргарита стоят, где стояли. Монументами возвышаются они над происходящим.
От возбуждения я вскакиваю с грязного стула, и поэтому на секунду или две теряю Дона Москито и Че из виду. Когда же мне снова удаётся навести на них окуляры бинокля, первый уже сидит на полу безоружный, закрыв лицо руками, а на груди у второго начинает расти алое пятно, к которому, спустя мгновение, кем-то из свиты подставляется золотая чаша.
– Глупец! – громко, словно стараясь кого-то перекричать, произносит Воланд. – Что ты хотел изменить?
По залу прокатывается ропот.
– Я пью ваше здоровье, господа! – Воланд поднимает левую руку в приветствии и прикладывается к чаше.
В зале становится темно, и с промежутком в несколько секунд раздаются три громовых раската. Включается свет, да такой яркий, что вся сцена теперь представляет собой большое белое пятно.
На переднем плане стоит обновлённый Воланд. На нём чёрный бархатный плащ и берет с пером, а сбоку сверкает длинная шпага с золотым эфесом. Рядом с Воландом – Маргарита, которая в потоке яркого света кажется невесомой. Больше на сцене никого нет.
– Пей! – говорит Воланд, протягивая Маргарите чашу.
Маргарита покорно принимает её двумя руками и делает долгий глоток. Капелька ярко-красной жидкости убегает из уголка её рта по шее, затем по левой груди и останавливается на животе. Снова гремит гром, где-то за сценой начинает играть марш, поют петухи, и становится невообразимо темно.
Свет зажигается минуты через три-четыре, за которые зал успевает перейти от недовольного бормотания к предпанической возне. Видимо, верно, что страх темноты из человеческих страхов наипервейший.
Дождавшись, когда на сцене начнётся какое-то действие, покидаю «позицию». Меня раздирают два противоположных желания: узнать, что случилось с Доном Москито и досмотреть спектакль. Я всё-таки выбираю первое, поскольку судьба друга, безусловно, важнее.
К счастью, Дон Москито оставил самую маленькую дверь в Москве открытой. Выбираюсь наружу, прохожу пустыми коридорами до зала с батальной сценой, и в фойе нос к носу сталкиваюсь с каким-то высоким мужчиной в смокинге.
– Эй, я второго нашёл! – кричит тот, завидев меня.
Мы сидим плечо к плечу на неудобной лавке в небольшом кабинете, стены которого оклеены старыми театральными афишами. В центре Че, справа Дон Москито, слева я. Состояние у меня хуже некуда. Подозреваю, что и у остальных не лучше.
– Если бы вы сорвали спектакль, – говорит нам плотный человек с седой шевелюрой, сидящий напротив нас в огромном кожаном кресле, – я бы вызвал сюда наряд милиции, и сдал бы вас им с потрохами. Но так как спектакль удалось спасти, я этого не сделаю. Театру не нужны скандалы.
Мужчина тяжело поднимает свои телеса из кресла и, опершись обеими руками на стол, продолжает:
– Вообще, то, что вы сделали, классифицируется как хулиганство, если я правильно понимаю уголовно-процессуальный кодекс. А за хулиганство, между прочим, можно и срок схлопотать! Да-да, срок! Это я в первую очередь к вам обращаюсь, молодой человек!
Дон Москито поднимает свою, до этого низко опущенную голову.
– Простите, я не знаю, что со мной произошло… – чуть не плачет он, – я правда испугался, я думал, что Серёгу сейчас по-настоящему застрелят… я завтра же пойду ко врачу, обещаю…
Мужчина с седой шевелюрой устало валится обратно в кресло:
– Лучше бросьте пить, пока не поздно! Вы же себя не контролировали, судя по всему! Как вы дальше жить собираетесь?
– Да, да, я брошу, брошу, – ноет виновник, – больше ни капли…
– Скажите спасибо Волкоевскому за то, что он вовремя сориентировался, – не унимается вошедший в раж обвинитель, – иначе бы точно спектакль бы сорвали, а это, как я уже говорил, хулиганство, и сидеть вам сейчас не здесь, а в КПЗ!
Под Волкоевским он, скорее всего, имеет в виду актёра, который играл Воланда, но уточнять не хочется.
Дверь в комнату приоткрывается, и в образовавшуюся щель просовывается голова того длинного, который поймал меня в фойе.
– Товарищ директор, уже половина, спектакль заканчивается, – скороговоркой выдаёт он, – позвать сюда кого-нибудь?
– Ни в коем случае, – шикает на него наш обвинитель, который, оказывается, не кто-нибудь, а директор театра, – самосуда тут нам ещё не хватало! Собери у этих двоих номерки, возьми в гардеробе их одежду и принеси сюда. Не хочу, чтобы они там толкались. Ну, чего смотришь, беги быстрей!
С недовольной рожей длинный делает то, что ему сказали, и быстро удаляется. Наступает пауза.
Посверлив нас глазами вволю, директор встаёт. Мы тоже поднимаемся.
– Приговор таков. Ограничимся бутылкой «Абсолюта» Волкоевскому, бутылкой «Хеннеси» мне, бутылкой водки Денису, который пошёл за вашими шмотками, ну, и бутылкой «Мартини» Женечке Столяровой, нашей дублёрше, она тоже была молодцом, опять же, восьмое марта…
Не могу поверить, что всё так просто заканчивается…
– …ну, а вас, Четвериков, я в понедельник жду здесь со всем перечисленным и с заявлением по собственному желанию. Вы у нас больше не служите. И попрошу не обижаться.
На Че страшно смотреть. Из высокого и импозантного он превратился в маленького и жалкого.
– Но, Михаил Петрович… – тихо начинает он.
– Никаких «но», – отрезает директор, – за свои поступки надо платить!
После стука в дверь появляется Денис с нашими вещами. Одеваемся. До меня только теперь доходит, что Че до сих пор во фраке и гриме. Зелёный китайский пуховик на нём смотрится более чем дико.
– Простите нас, пожалуйста, Михаил Петрович, – говорит Дон Москито.
Директор возвращается на своё место.
– Взрослеть надо, мужики! Взрослеть! А теперь все вон! Слышите, во-о-он!
Выходим из театра из какого-то бокового выхода. Денис с грохотом закрывает за нами тяжеленную с виду дверь.
– Серёж, – говорю я настолько спокойно, насколько могу, – надо поговорить.
– Надо, Валер, – отвечает он. – Даже очень.
Кабак в двух минутах ходьбы от театра, на задах улицы Селезнёвской ещё пуст. Тут до, после, а бывает, что и вместо спектаклей пьют и закусывают господа артисты, а иногда и товарищи режиссёры. Это мне давным-давно рассказал Че. Полностью название заведение звучит как «Приют комедиантов», но обычно его именуют просто «Приют».
Мы занимаем столик в самом дальнем углу заведения, планировкой напоминающего букву «Г». Че берёт нам какой-то безумно крепкий кофе и заставляет выпить. Только после того, как мы справляемся со своими чашками, он начинает говорить. Поначалу медленно и запинаясь, но потом связно и логично. Точкой отсчёта он выбирает свою боевую молодость, которая выпала на времена, когда потенции таких же, как он, молодых ребят, как по волшебству, многократно возросли, а жизнь их, также вдруг, и столь же многократно, потеряла в цене. Многие из них протухли потом на городских свалках или разложились в канализационных отстойниках, но некоторым, как ни странно, фартило (сейчас их разжиревшие до неприличия физиономии можно периодически наблюдать по центральному ТВ).
– Они продали свои души оптом, – говорит Че, смахивая пепел в блюдце, – костлявая в спортивных штанах пощадила их. Выжили те, кто правильно молился богу, коим тогда была пушка – вместилище убитых из неё душ молодых и бестолковых.
От боевой молодости Че переходит к истории про собственное чудесное избавление от самой настоящей смерти. У всех нас есть пара-тройка таких историй, только не у каждого хватает мужества признаться, что они почти всегда липовые.
У Че было так. Неприветливой весной девяносто мохнатого года, мрачные личности в кожаных куртках и спортивных штанах за смешной по нынешним временам долг вывезли нашего героя в Люберецкий карьер и засунули ему в рот самый настоящий ствол, то есть того самого бога, которому надо было правильно молиться, чтобы остаться живым.
– Ты будешь смеяться, но на вкус он совсем даже ничего, чуточку сладковатый, – говорит Че.
Сложно сказать, действительно ли они собирались его убить или просто хотели напугать на всю оставшуюся жизнь, да это и не так важно, а важно то, что в его, Сергея Четверикова, мозгу, в тот момент что-то такое щёлкнуло. Будто замкнуло некое реле, которое у обычных людей вообще всегда разомкнуто.
– Мне до сих пор сложно объяснить, что же тогда со мной произошло, – продолжает он, водя в воздухе руками, как Чумак, – будто голова стала существовать отдельно от всего остального. Ты вот может представить, как себя ощущает, например, всадник без головы?
Мы с Доном Москито отрицательно мотаем головами, в которых уже не так шумит.
Выбор, как нашему другу жить дальше после разговора в карьере, был невеликий. Разумных вариантов всего два: либо с трясущимися конечностями продолжать заниматься бизнесом, чтобы отбить долги; либо, как говорят уголовники: «нарисовать ноги», то есть раствориться каплей чернил в мутном омуте нашей великой родины. Че выбрал третье. Он выбрал счастье.
А для того, чтобы оно случилось, нужно было всего ничего:
– что-нибудь эфедриносодержащее (например, Солутан, он же «банка»);
– спиртовой раствор йода (он же «жёлтый»), из которого путём несложной химической реакции получают кристаллический йод;
– красный фосфор (он же «краснуха») или концентрированная соляная кислота (она же «кислый»).
Всё вместе это называется первитин, он же «винт».
– Считается, что не ты выбираешь наркотик, а наркотик выбирает тебя, – говорит Че, – он, как древнее божество, которому постоянно нужны жертвы, сам подбирает себе целевую группу, поскольку жертвы ему нужны не абы какие, а ему, божеству, наиболее соответствующие.
Выдохнув небольшое дымное облачко, он продолжает:
– Короче говоря, меня выбрал старый добрый хипповский «винт». Это ширево самого дна, если вы знаете, а я именно туда и попал, когда отдал квартиру за долги.
В качестве доказательства сказанного Че вынимает левую руку из рукава фрака и чуть выше локтя закатывает рубашку. Даже теперь, после стольких «чистых» лет, внутренняя сторона его локтевого сгиба выглядит, словно изъеденная какими-то паразитами. Я не знаю, как реагировать на увиденное, и потому молчу. С Доном Москито происходит подобное: он ошарашенно смотрит на боевые шрамы товарища и тоже молчит.
– Вот это, я понимаю, «дороги»… – с грустной гордостью в голосе произносит Че, обратно скатывая рукав.
Кто именно научил его варить «винт», Че не рассказывает, видимо, в нём срабатывает старый наркоманский кодекс чести, или просто не хочет бередить чей-то прах.
Ему было всего двадцать, когда он первый раз под чьим-то чутким руководством «загасил винта». И мир стал таким чистым и кристально ясным, что достаточно просто подумать о какой-нибудь вещи, как эта самая вещь – со всей своей простой или сложной сутью, со всеми своими потрохами, разложенная по полочкам – проносилась в отделённой от всего остального голове нашего героя.
Но так было только один раз. Что же происходило в течение последующих четырёх лет, Че описывает так:
– Были «тёрки» – поддельные медицинские рецепты, ночные кражи «кормушек» – аптечных складов, – драки за последний «куб», выпавшие зубы (проводит пальцами по верхней губе), фурункулёз, недельные запоры, чей-то стуканувший «мотор», чьи-то похороны. Это если вкратце.
Сейчас ему двадцать девять.
То, что он старше, я, разумеется, знал, но разницы в возрасте никогда не чувствовал. Даже наоборот, Че казался мне более ровесником, нежели некоторые мои знакомые погодки. Но разница всё же есть. Заключается она в недоступном мне, касательном, что ли, его отношении к жизни, которое обнаруживалось обычно с наступлением проблем и душевных кризисов. И только теперь, во время его рассказа, мне, наконец, становится несколько яснее, почему оно так.
– Считается, что от «винта» не бывает глюков, – продолжает он, – это неправда. Однажды утром, после трёх или четырёх бессонных суток, я посмотрел в окно и увидел на дереве, там, где обычно полно ворон, маленьких таких ментов, которые сидели на ветках по двое, по трое, и смотрели на меня. Вдруг один из них повернулся к соседу и громко так спросил: «Нар?», а тот, другой, в ответ также громко ответил: «Нар!». Я открыл окно. «Нар! Нар!» – хором закричали маленькие менты и замахали маленькими руками в черных перчатках. Я встал на табуретку, потом на подоконник и вышел из окна третьего этажа…
А вот дальше было самое интересное.
Не успел Че сделать в морозном воздухе и половины медленного неуклюжего сальто, как из утренней дымки образовались четыре ангела, и без усилий подхватили за руки и за ноги его тощее тело. Затем появился пятый и аккуратно приподнял двумя руками запрокинутую голову.
Одеты ангелы были в серые свитера и черные джинсы, а за их спинами равномерно хлопали сделанные из наклеенной на проволочный каркас желтоватой кальки крылья. Че сразу узнал их. Все четверо (пятого он разглядеть не мог) были в разное время покинувшие этот мир его знакомые «наркомы». Тех, кто держал ноги, он знал хорошо. Слева порхал старый торчок по кличке «Хата», не проснувшийся год назад на собственной даче в Ивантеевке, а справа – «Миша-паровоз», молодой ещё парень, склеивший ласты совсем недавно из-за ошибки «аптекаря». Кличек двоих других, держащих руки, Че не помнил, но точно знал, что где-то, когда-то варил с ними, вот только где и когда…
Лица ангелов были невероятно пусты. Че вглядывался в глаза каждого, но не смог разглядеть там ничего живого, даже крохотной, малюсенькой, микроскопической искорки. И тогда он подумал, что раз ему чудятся ангелы, которые несут его на небеса, в какой-нибудь наркоманский рай, то он, Сергей Четвериков, должно быть, уже некоторое время как мёртв. И все эти вороны-менты, ангелы-наркоманы – всё это околосмертное переживание, которое, как уверяли на уроках анатомии, должно скрасить нам последний парад. От этой мысли по его телу пошла сильная судорога, Че непроизвольно брыкнул ногами, и его левый тапок, отделившись от ступни, подлетел на пару метров верх, а затем стремительно ушёл вниз.
Че огляделся по сторонам и понял, что их композиция на самом деле движется не вверх, а вниз, к земле. От неожиданной радости он рассмеялся, и смех его отразился многократным эхом от стен рядом стоящих домов.
Он выжил. Благополучно пережил всех наркоманов-одногодков, и даже тех, кто был младше. После падения из окна третьего этажа в огромный сугроб у него в голове опять что-то переключилось, и он нашёл в себе силы вылечиться, замести следы своего пребывания в «хи-хи», то есть наркологической больнице, и в результате стать таким, каким знаю его я – Че, великим и ужасным.
– Знаешь, мне периодически кажется, что они где-то рядом. Иногда я даже их слышу. – Че разминает пальцами очередную сигарету, и табак коричневыми глистами вываливается на стол. – Только не говорите никому, ладно?
Для приличия я киваю, но это не означает моё согласие держать язык за зубами – слишком уж история странная. Скорее мой кивок можно расценить как знак понимания тяжести ситуации. Дон Москито вообще никак не реагирует – как сидел с открытым от удивления ртом, так и сидит.
Дальше Че рассказывает о том, что завязать с наркотой не просто, а очень просто. Сложно жить без неё дальше. А ещё сложнее приучить себя к мысли, что больше никогда (а в глубину этого слова лучше вообще не вглядываться), никогда не испытаешь того, что испытывал до.
– Самым страшным временем для меня были вечера и выходные, – говорит он, приставив два пальца к горлу.
Неизвестно, как сложилась бы судьба нашего героя дальше, если бы в один прекрасный день случай не занёс его в один московский театр, а точнее, в театр Российской Армии. Как-то по дороге на съёмную квартиру (своего жилья у него тогда ещё не было), обходя распластавшейся на Суворовской площади жёлтый пятиконечник, он заметил объявление о приёме на работу.
– Театру были нужны рабочие сцены: электрики, плотники, маляры, такелажники какие-то. Помню, я тогда подумал, что они все, наверное, работают и по вечерам тоже, поднялся по скользким ступенькам, дёрнул латунную ручку тяжеленной двери и оказался внутри.
Так Че стал рабочим сцены. Грузил, стругал, красил, прибивал гвоздями, натягивал, наматывал… А вскоре, должно быть потому, что был высоким и непьющим, его стали задействовать и в массовых сценах, особенно там, где нужны высокие и стройные персонажи – в таковых театр испытывал особенную нужду. И началась у него совсем другая жизнь. Существование в непосредственной близости от Мельпомены не только заняло его жуткие бесконечные вечера, но и дала возможность примерять на себя чужие, поначалу бессловесные и практически безликие, а потом и со словами, личины.
Это была ограниченная по времени другая жизнь, которую ни при каких других обстоятельствах ему (и никому другому, кстати) прожить ни за что не удастся. Бывал он и суворовским солдатом, и севастопольским матросом, и аргентинским шофёром, на чьи широкие плечи опиралась Эвита Перон, и бандитом из «Кортика», и много кем ещё. Играть ему было приятно. Не в том смысле, что легко – игра давалась ему сложно и порою страшно, – но до болезненности хорошо было, когда он обретал на сцене чужую сущность. Просто ему каким-то образом удавалось перед выходом на сцену убедить себя, что здесь перед ним не сцена театра Российской Армии со всей её жуткой машинерией, а ледяные швейцарские Альпы, бастионы непобеждённого Севастополя, революционные улицы Рио-де‑Жанейро, московские подворотни времён гражданской, или ещё чего. И он в тот миг ощущал лютый холод, пороховую гарь, раскалённый асфальт, или что-то неуловимое, как запах чужого детства…
Даже спустя несколько лет, когда Че нашёл себе сначала приличную, а потом и по-настоящему хорошую в смысле оклада работу, он не поспешил расстаться с театром. Он остался на какую-то там часть ставки, актёром какой-то там категории, и вплоть до сего момента вечера и выходные по-прежнему проводил на Суворовской площади.
– И вот теперь, придурки, – говорит он сквозь слёзы, – объясните мне, как я без этого буду жить?
Часть третья Владимир и Вероника
1
Татьянина комната, и всё, что в ней, покрыто одеялом чередующихся ярко-белых и тёмных полос. Полосато всё: стены, потолок, кровать, голая Татьяна, которая на ней лежит, мятые простыни вокруг, письменный стол, голый я, за ним сидящий, маленький лэптоп «Toshiba», отданный мне на сохранение сбежавшим в Израиль приятелем… даже трубка, торчащая у меня изо рта, и та полосатая.
– …настоящий писатель, – продолжает мысль Татьяна, делая ударение на слове «настоящий», – это жвачное животное, питающиеся окружающей его действительностью и производящее на свет литературные произведения, которые, в свою очередь, являются духовной пищей для читателей. Люди, употребившие эти произведения как духовную пищу, меняются духовно сами и меняют окружающую действительность. «Вуаля!» – круг замыкается. В этом и состоит основное писательское предназначение: изменять мир посредством читателей.
– Допустим, описанная тобой модель духовной пищевой цепочки имеет право на существование, – отвечаю я, оторвавшись от печатания, – но что, прости, из этого следует?
– А то, что писатель – это тот, кто двигает наш мир.
– Но в какую сторону?
Полосатая Татьяна потягивается, демонстрируя весь свой интим.
– А вот это, прости, от тебя не зависит, – томно произносит она, – ты ведь находишься далеко не на вершине пирамиды, а где-то посередине.
– Кто же тогда наверху? Я имею в виду, на самом верху?
Татьяна встаёт с постели и поднимает жалюзи. Полосатое одеяло становится ослепительно белым. Непроизвольно жмурюсь: даже в лете есть свои минусы.
– Этого, Лерик, не знает никто. Версий много, но ни одна из них не выдерживает серьёзной критики. Возможно, там вообще никого нет.
Выходит, что я меняю мир, и надо мной нет никакого начальства. Здорово.
– Тогда меня это устраивает, – говорю я, – не люблю, когда давят сверху.
– А ответственности не боишься? – улыбается Татьяна, прижимаясь к моей спине грудью.
– Ответственности? Об этом я ещё не думал…
Татьяна запускает пальцы мне в волосы и ласково целует в макушку:
– А ты подумай, дурачок. Когда-нибудь за всё, что ты написал, и за то, что напишешь ещё, придётся держать ответ. Во-первых, перед теми, кто это прочитает…
– Мы в ответе за тех, кого заморочили?
– Именно. Ну, и, во-вторых, перед самим собой.
Татьяна снова целует меня туда, где в перспективе будет лысина, и возвращается в постель. Я бы с удовольствием последовал за ней, но нужно допечатать то, что пришло в голову во сне.
Когда вокруг всё так, как сейчас, я чувствую, что счастлив. Мне уже не хочется ничего менять. Придуманный нами мирок меня устраивает. Я – писатель, пишу роман. Татьяна – моя женщина, моя муза. Она лежит в постели, после ночи, проведённой со мной, и рассуждает о моём месте во вселенной. Через полстраницы я закончу и пойду в душ. За то время, пока я там буду, Татьяна прочитает, что я написал за утро, и что-нибудь скажет, плохое или хорошее. Я буду рад и тому и другому, поскольку она не будет врать, а это дорогого стоит. После душа я выпью кофе и пойду на работу.
– Всё, закончил, – говорю я, поднимаясь.
Татьяна уверенным движением бедра отодвигает меня от кресла:
– Так, посмотрим…
Востоков, одетый в светлый костюм, бежевую рубашку и синий галстук, который с его собственных слов подбирался под цвет глаз, стоит у окна в задумчивой позе. За грязноватым стеклом – пыльная летняя Москва. Серо-голубой фаллос «Газпрома» сияет на солнце, как бы внушая всем вокруг, что всё на самом деле хорошо.
– В чём причина вашей утренней меланхолии, господин генеральный директор? – спрашиваю я Игоря вместо приветствия.
– Как обычно: невозможность быстро и точно ответить на смысложизненные вопросы, – грустно улыбается в пшеничные усы Игорь.
Его ответ меня немного удивляет:
– На нас наехала налоговая инспекция, или в вашей жизни появилась новая представительница прекрасного пола?
Игорь делает пальцами глиссандо в воздухе:
– Скорее, исчезла старая.
Пиджак, который я не успел повесить на вешалку, вываливается из рук и падает на пол:
– Ты что, развёлся?
Востоков морщится:
– Валера, я не про жену…
– Ты хочешь сказать, что у тебя есть любовница? – удивляюсь я.
– Я хочу сказать, что у меня была любовница. Теперь у меня её нет, и поэтому мне грустно.
– И так спокойно об этом говоришь?
Игорь отходит от окна и опускается в директорское кресло:
– По-твоему, я должен об этом орать?
– Нет, просто мне казалось, что такие вещи вообще не принято афишировать.
– Я и не афишировал. Ты же, например, не знал, что она есть, в смысле, была. Так?
– Так, – соглашаюсь я, поднимая с пола и отряхивая пиджак, – и всё равно, как-то странно.
Игорь улыбается, но в этой улыбке – вся грусть мира. Ну, может, не всего, но северного полушария точно.
– Может быть, ты меня осуждаешь? – вопрошает он вкрадчиво.
– Ни в коем случае, – отвечаю я, – кто я такой, чтобы тебя осуждать? У меня у самого…
Рот мой захлопывается сразу же, как я понимаю, что проболтался, но поздно. Глаза генерального директора загораются огнём, и следом весь меланхолический налёт испаряется, словно эфир из незакрытой банки.
– Ну-ка, ну-ка, – с неподдельным любопытством в голосе говорит он, – давай-ка, милый друг, колись.
Приходится рассказывать. Опять это чёртово «Qwi pro qwo»!
– Так вышло, – начинаю я, – что в данный момент я поддерживаю отношения с двумя девушками…
– Ты с ними спишь? – уточняет Игорь.
– Нет, только с одной.
– А со второй что делаешь?
– Ну, это… общаюсь, гуляю, в кино хожу…
Игорь откидывается в своём кресле назад.
– Спешу тебя разочаровать, – заявляет он, – отношения с женщиной без секса – это не отношения, это – дружба. А граница между ними – секс. Так что у тебя, Валера, сейчас только одна женщина, а вот когда ты переспишь со второй, будет две.
Его слова меня задевают:
– И откуда у тебя эта пещерная позиция! Можно подумать, не бывает ничего, кроме телесной близости. Ты когда-нибудь слышал о близости духовной? Даю подсказку: это когда с человеком просто хорошо вместе.
Игорь снова улыбается, но на этот раз демонически:
– Валера, между мужчиной и женщиной ничего и никогда не бывает просто. Ты ведь её хочешь? Представляешь её голой, когда ты с другой женщиной?
– Хочу, – признаюсь я. – Представляю.
Левая рука Востокова удовлетворённо потирает правую:
– Что и требовалось доказать! И выкинь ты эту дурь про дружбу – дружить можно только с жёнами друзей, да и то, до поры. Она ведь, надеюсь, не жена твоего друга?
– Нет, не жена. И друзья мои о ней понятия не имеют…
– Тогда всё кончится сексом! Помяни моё слово, вы…
Не закончив фразы, Игорь неожиданно замолкает, и на его лице образуется очередное выражение, значение которого мне сложно понять. Пауза затягивается, вселяя в меня подозрение, что мой руководитель сейчас скажет какую-нибудь гадость.
– Кстати, могу сделать тебе комплимент, – произносит, наконец, Игорь, – регулярная половая жизнь благотворно повлияла на твой темперамент.
Смотрю на шефа ошарашенно. Комплимент у него, как мне кажется, вышел сомнительный, вроде: «Поздравляю, вы перестали мочиться в постель!» Другими словами, раньше с моим темпераментом было что-то не то. Мне хочется ответить, как-то оправдаться, но в голову ничего не приходит.
Видя моё замешательство, Игорь встаёт и, эффектно обогнув свой стол, подходит ко мне вплотную.
– В любом случае, я за тебя рад, – говорит он, дружески хлопая меня по плечу. – То, о чём ты мне сегодня рассказал, говорит о том, что ты правильно понимаешь природу отношений. Искренне надеюсь, что ты в ближайшее время добьёшься желаемого и вступишь, таким образом, в высшую мужскую лигу.
– Высшую лигу? – переспрашиваю я.
– Лигу настоящих мужчин. У настоящего мужчины должно быть одновременно более одной женщины, поскольку он, мужчина, по определению полигамен, и ничего с этим поделать нельзя. Те же, кто сублимируют в себе желание обладать другими женщинами, кроме жены – психопаты, алкаши, домашние тираны, либо потенциальные преступники. Полигамия – залог мужского психического и полового здоровья, и женщины должны это понимать и закрывать глаза на походы налево…
Киваю согласительно, а сам думаю о том, что в Игоре погиб если не партийный главарь, то уж комсомольский вожак – точно. Мысленно дорисовываю к его имиджу стрижку «Брежнев Абманул Молодёжь», комсомольский значок на лацкане пиджака и идиотскую улыбку оптимиста. Образ получается жутковатый, но достоверный.
– Игорь, скажи пожалуйста, – аккуратно интересуюсь я, – а ты, случайно, при советской власти не работал в одной известной молодёжной организации?
Востоков осекается:
– Я был секретарём комсомольской организации института, – проговаривает он медленно, – если ты об этом.
Внутренне улыбаюсь собственной догадке:
– Об этом. А ты не думал: может, стоит продолжить?
От непонимания моего вопроса на лбу у Игоря образуются глубокие и тугие складки.
– В каком смысле, продолжить? – удивлённо спрашивает он. – Не понимаю, что ты имеешь в виду…
– Заняться политикой, что тут непонятного. С твоими данными должно получиться.
Климов заходит в офис, когда складки на лбу у Игоря разглаживаются, а лицо озаряет благородная задумчивость – видимо, мои слова задели что-то такое у него внутри, что заставляет людей совершать поступки с большой буквы П.
Мы синхронно поворачиваем головы в сторону вошедшего, у которого под мышкой пакет со сдобными булками из «Калужской заставы».
– Об чём спич? – с порога спрашивает Игорь номер два, делая вид, что не замечает нашего к нему внимания.
– Говорили о том, кто такой настоящий мужчина, – отвечаю я, – мнения разделились.
Климов вываливает принесённое на столик в чайном углу.
– В каком-то старом фильме было сказано, – говорит он, – что настоящий мужчина – это тот, кто может разглядеть женскую грудь сквозь любую одежду. Валера, наступи, пожалуйста, на чайник.
Перевожу похожий на высунутый язык тумблер в положение «On».
– Интересно, а вот господин генеральный директор другого мнения. Он считает, что настоящим можно назвать лишь того мужчину, который обладает одновременно двумя женщинами.
– Двумя и более, – поправляет меня Востоков.
Климов понимающе хмыкает:
– А что ты хотел от старого развратника!
– Лучше быть развратником, чем вуайеристом, – принимает вызов Востоков, – ибо лучше один раз пощупать, чем семь раз увидеть!
– Ну, при чём здесь вуайеризм! – Климов берёт в руки посыпанную сахаром булку в виде сердца и сосредоточенно в неё вглядывается. – Я говорю о способности любоваться женской красотой не только летом, когда всё понятно, но и вообще, в любое время года – что для нашей страны, как ты сам понимаешь, очень важно…
Забыв про булку, Климов мечтательно воздевает большие тёмные глаза к потолку.
– …и способность эта, – продолжает он, – развивается ещё с молодых ногтей, с самого пионерского детства…
– И ты, разумеется, в этой способности весьма преуспел, – вставляет Востоков.
– Ну да, – беззаботно отзывается тот, – а ты будто одноклассниц не разглядывал на торжественных линейках?
– Бывало, – уклончиво отвечает Востоков, – только я терпеть не мог эти торжественные линейки, равно как и остальные школьные торжественные мероприятия.
– А вот я их просто обожал! – восклицает Климов. – Девочки приходили в белых рубашках, через которые, если очень постараться, можно разглядеть лифчик! И главное, там можно было увидеть всю школу скопом, включая старшеклассниц.
Я одобряюще киваю: помню прекрасно, как засматривался на одну комсомолку с формами, кажется, Лену Куцкую…
Неожиданно цепкий взгляд Игоря нацеливается на пакет с булками, которые принёс Климов.
– Гарри, а что это там такое жёлтое? – спрашивает он. – Конверт, что ли?
Климов, предварительно облизав один за другим сладкие после булки пальцы, за самый уголок извлекает из кучи булок жёлтый конверт.
– Да, на охране нашёл, – сообщает он, – там сплошные иероглифы, но наш адрес по-английски. Я подумал, что…
– Так чего ж ты молчал, сукин кот! – взрывается Востоков. – Валера, быстро вскрывай и переводи!
Конверт моментально оказывается у меня. Действительно, сплошные иероглифы. «Nautchny proezd» и прочее рядом с ними смотрятся жутковато. Дёргаю за небольшой красный язычок под надписью «open here», и конверт раскрывается сам собой.
– Вот, сволочи, – восхищается Климов, – а наш пока разорвёшь…
Внутри оказывается каталог и один-единственный лист из очень тонкой белой бумаги, сложенный втрое. Раскрываю.
– Ну? – из-за моего левого плеча подаёт голос Востоков.
– Чего там? – вторит Климов, нависший над правым.
Казавшаяся ещё полгода назад неприступной, японская крепость под названием «Китагава оптикал», наконец, пала. Мистер Ямамото внял-таки переведённым мной доводам наших директоров и предоставил-таки фирме «Регейн» эксклюзивное право на продажу своих оправ на территории нашей необъятной родины и окрестностей, о чём и сообщил нам по почте.
– Полная победа! – заключает Востоков. – Вот что значит настойчивость и вера в собственные силы. Что я вам говорил: нельзя так рано сдаваться! Это же чёртова Азия! Я же вам всем говорил, а вы не верили!
– Всё-таки мы их заломали! – вторит ему Климов. – Честно говоря, я уже не верил, но мы сделали это! Мы с тобой лучшие, Гарри!
Их радость вполне понятна: представлять на нашем рынке такую фирму, как «Китагава» – очень круто. Теперь у моих руководителей появилось то, чего нет ни у кого в Москве, да и во всей остальной стране – тоже. И цену на это что-то они могут задирать как угодно – всё равно купят.
– Выше нас – только звёзды! – возбуждённо басит Климов.
– Круче нас – только яйца! – соглашается Востоков.
Давно я не видел обоих в таком приподнятом расположении духа. Мне тоже приятно: как-никак я тоже имею отношение к победе – и посему решаюсь использовать сложившийся момент в личных целях.
– Господа генеральный и коммерческий директора, – вклиниваюсь я во взаимную аллилуйщину, – не кажется ли вам, что и я, скромный толмач, также внёс свою небольшую лепту в общую победу и смею рассчитывать на хотя бы незначительную, но всё же осязаемую прибавку к ежемесячному денежному довольствию. Иными словами, премию…
Думаю, если бы я попросил обоих директоров раздеться догола и станцевать в таком виде польку «Трик-трак», выражение их лиц было бы менее удивлённым.
– Гар-р-ри, я не ослышался: наш мальчик, которого мы с тобой вот уже почти год учим уму-разуму, просит у нас с тобой денег? – картавя, спрашивает своего тёзку Востоков.
– Да, Гар-р-ри, он именно это от нас и просит, – тем же Макаром отзывается Климов, – у меня просто нет слов.
Востоков театрально закрывает ладонью глаза:
– Какая же меркантильная нынче пошла молодёжь…
– Не говори, – принимает подачу Климов, – никаких моральных ориентиров, не то, что у нас, стариков…
Востоков роняет сивую голову на грудь коммерческому директору:
– Куда катится мир! Неужели времена альтруизма прошли!
Востоков начинает трястись, изображая рыдания.
– Да, Гарри, прошли, – вторит ему Климов, – их уже не вернёшь!
– Что же мы будем делать? – сквозь рыдания спрашивает Востоков.
– Гарри, надо ему заплатить…
– Да, другого выхода нет…
Климов перестаёт паясничать, запускает во внутренний карман пиджака здоровенную пятерню, которой можно спокойно колоть кокосовые орехи, и извлекает оттуда три бумажки с донельзя огорчённым Б. Франклином на каждой. Одну из них он достаточно изящно протягивает мне.
– Вот это, Валера, твой вклад в общую победу. Бери и помни нашу с Игорем Борисовичем доброту.
Принимаю из его рук новенькую банкноту:
– Даже не знаю, что сказать…
– Скажи: «Спасибо».
Смотрю на своих директоров, которые похожи на двух добрых дядюшек, которые решили-таки облагоденствовать непутёвого племянничка.
– Спасибо, – говорю я, – правда, спасибо.
– Пожалуйста, – отвечает Востоков с улыбкой, – только смотри, не зазнавайся. Садись, пиши ответ с благодарностью, а мы с Гарри подберём оправы для заказа. Как там они написали, не менее пяти штук одной модели?
– Да, и после стопроцентной предоплаты, – отвечаю я.
Климов сокрушительно вздыхает:
– Что поделать, не станут же они нам кредит открывать на первом свидании, – обращаясь к нему, говорит Востоков, – я их прекрасно понимаю.
– Да я их тоже понимаю… только, как бы нам с тобой, Гарри, денег занимать не пришлось…
– Надеюсь, не придётся…
Востоков раскрывает свежеполученный каталог на первой странице, берёт в руку карандаш и садится за стол, где обычно сидят клиенты. Рядом тут же плюхается Климов – теперь мои шефья похожи на двух первоклашек, у которых один букварь на двоих.
По классификации, разработанной лично моим обожаемым генеральным директором, все существующие в мире оправы делятся всего на три группы: «жёсткое порно», «мягкое порно» и «шедевры». Четвёртого не дано. Именно поэтому через полчаса приехавший из далёкой и непонятной Японии каталог украшают карандашные пометки: «МП», «ЖП» и «Ш». Даже при беглом его осмотре видно, что «ЖП» больше всего – новая коллекция, особенно её часть, предназначенная для женщин, вышла с нашей точки зрения несколько революционной.
Эйфория от успеха прошла, и теперь оба директора пребывают в некоем подобии прострации: они не понимают, как это можно продать. Что до меня, то я уже десять минут как написал благодарственное письмо, но не спешу докладывать об этом руководству – не хочу отвлекать.
– Никогда нам их не понять, – с досадой в голосе говорит Климов, то ли нам с Востоковым, то ли самому себе. – Вот, например!
Он тычет пальцем в одну оправу, помеченную как «ЖП». Оправа эта мне кажется странной: у неё сильно сплюснутые эллиптические окуляры и тонюсенькие заушники, на каждом из которых прилеплено по здоровенной искусственной жемчужине.
– Ты не одинок, Гарри, – отвечает Востоков, отбирая у него каталог и откладывая в сторону, – их вообще мало кто понимает.
– В какой-нибудь другой ситуации, Гарри, я бы, наверное, с тобой согласился, но, понимаешь ли, какая штука – этого же никто не будет носить. Для нашего рынка тут всего две-три модели.
Климов встаёт. Видно, что он уже немного на взводе.
– Ты абсолютно прав, Гарри, – с олимпийским спокойствием говорит Востоков, – в этой коллекции для нашего пипла почти ничего. Но мы же не собираемся эти оправы колхозникам на Мытищинском рынке втюхивать! У нас совсем другая целевая группа – люди, которые в состоянии выложить за то, что мы называем «жёстким порно», триста долларов, только потому, что оно из Японии. Наша задача – найти их, а всем остальным просто объяснить, что это охренительно модно.
– Просто? – горько усмехается Климов. – И уж не ты ли будешь это делать?
В ответ Востоков широко улыбается:
– Нет, Гарри, это будем делать мы вместе. Ты лучше взгляни на эти оправы как на предмет выпендра, того, что обычный человек никогда на себя не наденет. Поверь, сейчас в Москве полно молодых людей, которым для того, чтобы выделяться из толпы себе подобных, нужно иметь что-то особенное… понимаешь?
– Всё равно я не верю, что это продастся, – мотает головой из стороны в сторону Климов, – слишком большой риск.
– Думаю, в данном случае, риск будет оправданным, – уверенно говорит Востоков, – я это чувствую.
Ничего на это не ответив, Климов удаляется в глубину шоу-рума. Какое-то время он молча слоняется от стены к стене, видимо, размышляя над услышанным, пока его внимание ни привлекают оправы из коллекции «Pertegas», рассчитанные исключительно на «сорок за сорок», как удачно выразился наш обожаемый генеральный директор. Сняв одну с демонстрационной стойки, Климов сначала её сосредоточенно разглядывает, а затем усердно протирает линзы галстуком, предварительно на них подышав. Я понимаю, что он делает всё это только для того, чтобы хоть чем-то себя занять.
– Гарри, нам нужен независимый эксперт! – неожиданно заявляет он.
Востоков поворачивается к нему на стуле:
– Женщина?
– Да, молодая женщина, которую мы оба знаем. Покажем ей каталог и увидим, что она по этому поводу думает.
– Согласен.
Востоков встаёт и одёргивает пиджак.
– Валера, будь добр, позови, пожалуйста, Зою.
Пойти к нам в офис Зою долго уговаривать не приходится. Она собирается мгновенно, будто знала о том, что она нам понадобится, заранее. Вопросов, зачем именно она нам нужна, Зоя не задаёт, видимо, это для неё не столь важно. По дороге от своего рабочего места до двери она успевает, заглянув в зеркало, поправить причёску, вильнуть в мою сторону задом и поставить факс на «автомат».
– Ну, очкарики, что у вас? – спрашивает она с порога. – Без тёти Зои никак?
– Никак, солнце, – Востоков приветствует её элегантным поклоном, – только ты можешь нам помочь, – будь добра, присядь.
Зоя плюхается на стул, где пять минут назад сидел Климов:
– Ну?
Егоров садится напротив и пристально всматривается ей в глаза:
– Зоя, я тебе сейчас покажу фотографии оправ одной жутко дорогой фирмы, посмотри на них внимательно, и скажи, какие из них ты бы смогла носить.
– Ну, я не знаю, Игорь, – начинает мяться гостья, – я же очков не ношу…
– А ты представь, что это украшение. Я же сказал: оправы очень дорогие.
Перед Зоей раскрывается злополучный каталог.
– Так, вот эта неплохая, – Зоя с ходу тычет пальцем в одну из оправ.
– Не спеши, – останавливает её Игорь. – Дело серьёзное. Посиди, подумай, а мы пока пойдём, покурим.
Он делает нам знак пальцами, и мы с Климовым покидаем помещение.
Перекур даётся нам нелегко. Оба Игоря молчат, изредка поглядывая друг на друга. Я также молча наблюдаю за обоими. Если честно, мне до одури интересно, чем всё это закончится.
Когда мы возвращаемся, рядом с Зоей сидит Эдуард, сосредоточенно вглядывающийся в каталог. При нашем появлении он вздрагивает:
– А что это за каталог такой? Где вы его взяли? Зоя сказала, вы какой-то опрос проводите.
Востоков молча берёт у него из-под носа каталог и убирает себе за спину.
– Тебя кто сюда звал? – спрашивает он.
– Я к Зое проходил, – глупо хлопая глазами, отвечает Эдуард, – её не было, решил у вас поискать…
Игорь переводит вопросительный взгляд на Зою.
– Я всё сделала, – быстро отвечает она, – там галочками отмечено.
– Спасибо тебе, солнце, – улыбается в её сторону Востоков, – я к тебе попозже зайду.
Зоя встаёт, кивает Игорю и удаляется восвояси, не забыв на прощание вильнуть задом. И вроде бы в её поведении нет ничего необычного, только я вдруг замечаю, что перед тем, как нас покинуть, она обменивается с Игорем взглядами, характерными для людей близких, а точнее… любовников. В моей голове происходит небольшая, но довольно яркая вспышка, схожая по воздействию с приходом в иступлённый долгими раздумьями мозг решения непростой задачи.
«Так вот где собака-то порылась! – сдержавшись от высказывания только что понятого, думаю я. – А жизнь-то становится всё интереснее и интересней!»
– Эдуард, тебе тоже пора, – говорит Востоков.
Эдуард медленно поднимается со стула.
– Зря ты так, Игорь, – говорит он, накидывая на плечо сумку, – я могу быть вам полезен.
– Это чем же?
– Вам с такими цацками прямая дорога в Столешников переулок[11], а у меня там знакомые есть в одном бутике, могу познакомить…
Игорь напряжённо смотрит на Эдуарда. Эдуард – на Игоря.
– А тебе с какого края радость? – вмешивается Климов.
– Процент, – мягко улыбается Эдуард, – за посреднические услуги.
Телефонный звонок прерывает повисшее в шоу-руме молчание. Востоков, не отрываясь от каталога, делает мне знак рукой, что его нет. Готовый услышать и тут же отшить кого-нибудь из клиентов, поднимаю трубу:
– Фирма «Регейн», добрый день!
– Алло, привет, – говорит бодрый Татьянин голос, – как дела?
– Отлично! – шепчу я в трубку. – У меня хорошие новости: мне премию дали!
– У меня тоже, – шепчет в ответ Татьяна, – я придумала, как спасти твоего друга! Пораньше смыться можешь?
Закрыв рукой трубку, кошусь в сторону начальства:
– Игорь Борисович, а можно мне…
– Иди уже, иди, – отмахивается он от меня. – Только завтра не опаздывай – работы много.
– Я вас люблю, господин генеральный директор! – кричу я и убегаю в свой угол переобуваться.
Последнее, что я вижу, покидая офис – треугольник из нависших над Востоковским столом макушек.
То, что рассказывает мне Татьяна, пока мы с ней, никуда не торопясь, идём от места её работы до станции метро «Ленинский проспект», меня в прямом смысле шокирует. Мне предлагается – ни много ни мало – написать пьесу, причём не просто так, а на определённую тему и, что самое поганое, к определённому сроку. Я пытаюсь делать вид, что мне это интересно, и что я совершенно спокоен, но у меня плохо получается.
– Это короткая одноактная пьеса, – успокаивает меня Татьяна, поглаживая рукой по плечу, – чего ты боишься-то, не понимаю. Тебя же не роман трёхсотстраничный заставляют родить к понедельнику!
– Тебе легко говорить, – отвечаю я, – я же никогда не писал на заказ. По большому счёту, я ещё вообще ничего не написал, кроме десятка рассказов, которых лучше никому не показывать, и недописанного романа…
– Когда-то же надо начинать! – напирает Татьяна. – Если ты решил стать писателем, то, будь добр, пиши! Или ты думаешь, что оно само собой напишется?
– Разумеется, я так не думаю. Просто мне казалось, что моё увлечение литературой не выходит за рамки безобидного хобби…
Услышав это, Татьяна рывком останавливает меня и берёт за грудки:
– Нет уж, дудки! Опять эта мужская боязнь ответственности! На правах твоей музы я требую, чтобы ты за это взялся!
– Ты понимаешь, сроки… – начинаю мямлить я, но Татьяна не даёт мне закончить. Она прижимается ко мне, сомкнув за моей спиной свои сильные для девушки руки.
– Я не буду ревновать тебя к успеху, и не отвернусь, если вас всех освистают, – говорит она тихо, как обычно говорят в постели самые интимные вещи. – Поверь, я приму и то и другое. Просто возьмись за пьесу, хорошо? Я думаю, это будет очень хороший опыт.
«Если хотите научиться плавать – полезайте в воду… надо непременно поставить себя в неудобную позу, чтобы работать по-настоящему… у художника не должно быть свободного времени…» – вот о чём я думаю во время поцелуя, которым Татьяна заканчивает свою речугу.
– Ну? – спрашивает она после, впившись в меня глазами.
– На правах твой музы, говоришь, – бурчу я, – хорошо сказано…
В качестве благодарности Татьяна ещё раз целует меня, тихонько-тихонько, по-домашнему.
– Пойдём, погуляем в «Нескушный»? Погода-то какая…
И правда, погода – загляденье. Тепло, но не жарко, шумит молодая листва, даже воздух кажется чище обычного. Ужасы московского лета – нудные, начинающиеся сразу после окончания рабочего дня дожди, и нестерпимая влажная жара – ещё впереди.
– А я и не заметил, что вокруг так хорошо, – говорю я, вдыхая – ты открыла мне глаза.
– Это, Валера, возраст! – смеётся Татьяна.
Медленно, как женатые, идём мы под ручку в сторону реки. Воды ещё не видно, но её уже выдаёт едва различимый запах. Деревья, закрывшие собой небо, шумят над нами о чём-то своём, никому из людей неведомом.
В парке достаточно людно. Навстречу нам то и дело попадаются такие же, как и мы – влюблённые парочки.
– По вечерам здесь съезд московских влюблённых, – говорит Татьяна после того, как мимо нас проходят очередные – патлатый парень с огромным тубусом и стеснительная с виду девушка в очень сильных очках.
– Да, пары сегодня нет только у той чугунной девушки, которая с тридцатых годов готовится к прыжку в воду, – говорю я. – Пойдём, кстати, навестим её.
Татьяна странно усмехается:
– Пойдём.
Кривенькими дорожками доходим до живописного, давненько не чищеного пруда, перед которым попой к Ленинскому проспекту замерла знаменитая московская Наяда.
– Мне всегда было её жалко, – говорит Татьяна, глядя на сверкающий на солнце пловчихин зад, – стоит тут одна, в неудобной позе. Зимой, небось, холодно, летом – жарко. Каждый второй норовит по заднице шлёпнуть. Поставили бы ей, что ли, рядом физкультурника в трусах…
– А меня больше всего раздражает то, что даже если она прыгнет, то до воды ей всё равно не долететь, – поддакиваю я.
Татьяна кивает:
– И это тоже. Не понимаю я создателей памятников. Неужели непонятно, что любая скульптура – живая, и живёт своей собственной жизнью, и автор за неё в ответе, как за собственного ребёнка…
– Это надо будет нашему многодетному отцу сказать, когда тот начнёт ваять очередную Беатриче.
Татьяна улыбается:
– Вот ты смеёшься, а я совершенно серьёзно. Кстати, как у него дела?
– У Панка Петрова? Нормально. Он закончил-таки свой божественный заказ и звал всех на торжественное открытие.
– Ты хотел сказать, на освящение, – поправляет меня Татьяна. – И когда?
– Не помню, если честно. Кажется, в следующие выходные. А ты что, хочешь сходить?
В моих словах ясно слышится сарказм, и Татьяна поднимает на меня непонимающие глаза:
– Хочу. Ни разу не была на подобных мероприятиях. А тебе разве неинтересно творчество твоего друга?
Немного пристыженный оправдываюсь:
– Конечно, интересно! Просто, после того, что мы с тобой устроили у Панка Петрова на даче, вряд ли нам там будут рады. Особенно этот, как его, отец Митяй, то есть, Матвей…
Непонимание в Татьяниных глазах сменяется практически презрением:
– Ты что, его боишься, что ли? Этого толстожопого, который нас с тобой хотел на костре сжечь?
– Что ты! Ни в коем разе! Просто скандала не хочется.
– Скандала не будет, – уверенно говорит Татьяна. – Скажи Олегу, что мы придём.
– Хорошо, скажу. Ты только не волнуйся.
– Пойдём лучше к воде, – говорит Татьяна, глядя на небо, – там прохладнее.
По лестнице со сбитыми кое-где ступенями спускаемся на набережную. Тут действительно прохладнее – с воды тянет свежестью, и, закрыв глаза, можно вообразить себе, что мы где-нибудь на курорте, скажем, в Баден-Бадене. Из двух возможных направлений движения – к Парку культуры или к Университету – Татьяна выбирает последний, и мы сворачиваем налево.
На набережной многолюднее, чем в парке. В основном, всё те же влюблённые парочки, но попадаются и компании студентов, которые пьют пиво, курят и громко смеются. Как бы я хотел сейчас присоединиться к такой вот компании беззаботных дуралеев, у которых все мысли только о том, как спихнуть очередной зачёт и затащить подружку на пустой флет! Выпить с ними пива, поржать над их анекдотами, рассказать пару своих… Но нет, я для них чужой, я уже полное старьё, и от осознания этого становится грустно.
Татьяна тоже выглядит печальной. Не мрачной или недовольной, какой она бывает после наших с ней ссор, а минорно-задумчивой. Кажется, мысли утащили её далеко-далеко, в какой-нибудь плохо проветриваемый уголок её памяти, или куда подальше. Близоруко щурясь, молча смотрит она то на реку, то себе под ноги. Я для неё будто перестал существовать.
Её молчание начинает меня напрягать, и в районе моста, на котором когда-то была станция «Ленинские горы», я решаюсь-таки его нарушить – бог её знает, чего она там себе надумала…
– Ты мне всё-таки скажи, чья была идея устроить этот спектакль? – спрашиваю я.
– Анькина, чья же ещё, – не сразу отзывается она. – У неё теперь новая идея – хочет стать первым режиссёром-поэтессой.
– Так чего ж она сама пьесу не напишет? В стихах, как Грибоедов.
Татьяна выпускает из заперти лёгкую улыбку:
– Он плохо кончил… Знаешь, о чём я подумала: надо вас всех припахать к этому проекту. Ты напишешь пьесу, Че – сыграет главную роль, Панк Петров даст нам своих бабищ в качестве декораций, а Дон Москито – какие-нибудь поэтические вставки сбацает. Что скажешь?
– Скажу, что я не понимаю, зачем, – говорю я совершенно откровенно.
– Как, зачем? – удивляется Татьяна. – Практика показывает, что творческие люди до определённого времени хорошо работают в команде. Совместное творчество, понимаешь?
– Кто-то говорит: «совместное творчество», а кто-то: «свальный грех», – огрызаюсь я.
– Ну, ты даёшь! – хлопает себя по бедру Татьяна. – Полчаса назад ты испытывал страх перед заказом, а теперь ревнуешь!
– Не ревную я, просто…
– Не желаешь делиться теоретически возможными лаврами? – не даёт она мне опомниться. – Хочешь захапать всё себе: цветы, овации, восторги поклонниц…
Мне становится смешно от самого себя. Татьяна, конечно, преувеличивает, но, по сути, она права: я действительно ревнивец и собственник. Надо идти на мировую, другого не остаётся.
– Ладно, убедила, – говорю я после примирительного поцелуя, – давай пригласим Панка Петрова и Дона Москито. Только не кажется ли тебе, что ты делишь шкуру неубитого зрителя?
– Главное, чтобы она не оказалась шкурой убитого драматурга, – усмехается Татьяна. – Пойдём, Отелло…
2
Всё, что мне было известно о профессии натурщика до знакомства с Настей, ограничивалось информацией, полученной из советского полицейского боевика «Лекарство против страха», где этот вид деятельности позиционировался как ущербный и недостойный высокого звания советского гражданина. За это же говорили и приведённые там же расценки (кажется, девяносто копеек в час).
Мне Настя не платит и этого.
Оказывается, это очень непросто: стоять совершенно неподвижно на протяжении долгого времени, особенно в неудобных позах. А другие Настю почему-то не интересуют. Сегодня, например, по её воле я изображаю огорчённого геморроем роденовского мыслителя, то есть сижу почти как он, только без опоры под задницей. Голова моя развёрнута относительно тела вбок, а свободная от её поддержания рука прикрывает свободно висящие чресла. В этой милой позе я нахожусь уже минут сорок, и ноги мои затекли неправдоподобно. В качестве успокоительного средства и для отвлечения моего внимания на полу, так чтобы я видел, лежит книга «Импрессионисты», раскрытая на Климте.
– Ты ещё стесняешься своего тела? – спрашивает Настя, выглянув из-за холста.
– После вчерашней позы проштрафившегося подчинённого я уже ничего не стесняюсь, – отвечаю я. – Можно ноги выпрямить? Я их почти не чувствую.
Настя подходит ко мне и немного поворачивает влево мою голову.
– Потерпи ещё чуть-чуть, сейчас выпрямишь. А ту позу, в которой ты вчера стоял, интеллигентные люди называют позой кучера.
– Хорошо, пусть будет кучера, – соглашаюсь я, – а вот чтобы понять, что я чувствую, надо просто немного побыть на моём месте. Не желаешь?
– Не-а.
– Что так? Стесняешься своего тела?
Грязной, как всё свиньи Ивановской области, тряпкой Настя вытирает ворс толстой кисточки.
– Бабушка говорит, что возраст женщины делится на два основных этапа: «хочется раздеться» и «хочется прикрыться».
– Надо полагать, тебе хочется первого?
– Хочется, но не сейчас.
– Знаешь, я это слышу целых три месяца.
Моя мучительница отходит от мольберта.
– Знаете ли вы, что борьба рыцаря с драконом за принцессу, – говорит она ласково, – на самом деле означает борьбу первого с собственной плотью. Именно укрощение плоти, усмирение животных порывов до того момента, пока принцесса не предложит себя сама, и есть воспетый многими авторами поединок. Настоящий и единственный дракон у вас в штанах, сэр. Крепитесь.
Вот и все объяснения. Мы вместе уже три месяца, но дальше поцелуев и пуританских объятий сквозь одежду дело не идёт. Мне бы надо беситься, но я почему-то спокоен. Меня это даже немного заводит.
– Ладно, не будем о грустном, – устало говорю я, – лучше расскажи, зачем я сижу в этой нелепой позе, и что ты сейчас делаешь?
Настя снова исчезает за мольбертом, но только за тем, чтобы появиться вновь с неправдоподобно длинной кисточкой в руке.
– Как и все художники – ищу красоту в окружающем меня мире.
– А мир, значит, это я?
– Сейчас да, – кивает Настя. – Хотя, красоты в твоём теле…
– Я сейчас обижусь и уйду, – бурчу я, – прямо так. То-то бабуля обрадуется.
– Шучу! – улыбается Настя. – Красота есть везде. Задача художника – во что бы то ни стало найти её и запечатлеть на холсте.
– Что ж, удачных тебе поисков…
Настя делает несколько размашистых движений кистью.
– Кстати, Климт с очень большой неохотой писал мужчин, – говорит она, кивая на книгу. – Думаю, он относился к мужскому телу исключительно как к декорации, в которую необходимо вписать тело женское. А я вот так и не решила для себя, что мне нравится больше – мужское или женское. Всё оттого, что мне не удаётся посмотреть на обнажённую натуру беспристрастно, с бесполой, чисто эстетической точки зрения. Красота форм и линий, сам понимаешь, пола не имеет, но чтобы это понять, надо либо одинаково желать как мужчин, так и женщин, или же не испытывать влечения ни к тем, ни к другим.
– Возможно, я понимаю старину Климта, – отвечаю я, мысленно представив, какое удовольствие испытаю, когда распрямлю-таки затёкшие конечности, – тем более что дамы ему удавались куда лучше мужиков, насколько я успел почерпнуть из твоей замечательной книги об импрессионистах, но совсем уж отрицать наличие привлекательности в мясистых торсах, мне кажется, неправильно. То есть я бы с удовольствием рассматривал накаченные бицепсы или «кубики» пресса, но только свои собственные. Чужие меня никогда не манили.
Настино личико искривляется в саркастической гримасе:
– Обычный мужской нарциссизм.
– Но ведь девушки тоже…
– Всё, можешь встать и одеться, – обрывает мою мысль Настя. – На сегодня хватит.
Осторожно приземляюсь на пол и распрямляю затёкшие до неправдоподобия ноги. Испытываемые мной в этот момент ощущения словами не описать, их можно только пережить. Вытягиваюсь на полу, не подумав даже прикрыть самое дорогое. Закрываю глаза. Вот оно, счастье – лежать голым на тёплом от солнца квадрате пола.
– Не шевелись! – слышу я сверху Настин голос. – Умоляю, не шевелись!
– Ради искусства я готов на всё…
Открывать глаза, а тем более двигаться, нет никаких сил. Сладкая дрёма, без труда меня одолевающая, уносит мои мысли в ту систему координат, в которой обычно размещаются сновидения и куда доступ разрешён далеко не всегда. Я чувствую, что становлюсь невесомым и прозрачным. Перед глазами цыганскими юбками начинают пестреть какие-то картинки, затем вспыхивает салютом нечто жёлтое, но тут же гаснет, оставив после себя постепенно бледнеющий кометный хвост. Ещё чуть-чуть, и я буду уже совсем не здесь, и буду это совсем не я, но лёгкое касание кисточкой возвращает меня обратно на пол. Слава богу, не до конца.
– Не молчи, расскажи, что ты чувствуешь, – говорит Настя сверху, из-за ватной завесы, – только не шевелись.
– Я не чувствую почти ничего, – отвечаю я после паузы, – почти как во сне, только не совсем…
– Ага! Пограничное состояние! Говори, что видишь, быстро!
Я пытаюсь выхватить из вороха несущихся перед глазами картинок что-то одно, но выходит это у меня далеко не сразу.
– Вижу огромный бронзовый цветок, – медленно проговариваю я, – вижу чьё-то лицо, мужчину в рубище с кошкой на руках…
– Так, это, наверное, Климт… – доносится издалека чуть изменённый Настин голос, – что ещё?
– …на заднем плане голые бабы… много…
– …точно Климт…
– …какая-то жуткая горилла, цветы, опять бабы…
Настя шумно выдыхает.
– Понятно, Бетховенский фриз[12]. Идея с книгой потерпела фиаско. Спи лучше.
– Спю-ю-ю…
Ещё раз пролетаю «Сецессион» насквозь – как это можно сделать только во сне – и отдаюсь-таки в бездонные, как зрачки наркомана, объятья Морфея.
На отлив открытого окна с шумом приземляется голубь, оскальзывается и с недовольным клёканием отчаливает туда, откуда появился.
– Так, голый мужчина на полу, просыпаемся, – тормошит меня за плечо Настя, – пора мням-мням – и на прогулку.
С огромным трудом открываю глаза. Оказывается, я заснул, и крепко. Пытаюсь подняться, но не тут-то было: от долгого лежания на полу затекла спина, да и давешняя нога отказывается сгибаться.
– Помогите инвалиду от искусства, – прошу я Настю настолько жалобно, насколько умею.
– Инвалиды от искусства – это Ван Гог, Бетховен и Микеланджело, – поучает она, помогая мне подняться, – а ты просто слегка пострадавший, причём по собственной вине: не надо было на голом полу засыпать.
– Не согласен, это производственная травма, – бормочу я, – я требую компенсации.
– В каком же это виде?
Вместо ответа я приподнимаюсь на одном колене и делаю попытку обнять Настю за бёдра – сон придал мне сил, и я полон мужских желаний. Прижимаюсь щекой к горячей округлости, но Настя, не ответив взаимностью, легко выворачивается из моих объятий.
– Ты хоть представляешь себе идиотизм ситуации? – кричит она. – Голый мужчина с негнущейся спиной пристаёт к одетой девушке!
Возвращаюсь обратно в положение «лёжа».
– Вполне представляю. Будем рассматривать мой поступок как пощёчину общепринятым нормам приставания к девушкам. Но если тебя смущает только это, можешь раздеться сама, и тогда обрядовая часть будет соблюдена.
– Фигушки!
Настя показывает мне длинный розовый язык. Затем походкой манекенщицы удаляется в другой конец комнаты, подходит к стулу, на котором развешана моя одежда и оттуда по-баскетбольному бросает мне джинсы.
– У меня для вас плохие новости, сэр, – говорит она, после того, как те приземляются точно мне на макушку, – ваш дракон вас побеждает!
Обычно наши с Настей беседы более содержательны, и частенько смахивают на сеансы у психоаналитика, только непонятно, кто из нас врач, а кто пациент. После «сеансов» мы едим то, что приготовила Настина бабушка, а потом гуляем.
Я бываю у Насти в те вечера, когда свободен от Татьяны. Пока я остановился на такой формуле. Глупо размышлять над тем, честно ли это по отношению к ним обеим, и ещё глупее – как долго это может продолжаться.
С Татьяной я провожу выходные. Иногда она остаётся у меня на ночь. Иногда я у неё на «Бабушкинской», когда её родители уезжают на дачу в Алексин. Нам хорошо вместе, и всего хватает, но, когда я оказываюсь от неё свободен, сразу еду к Насте.
Здесь, как ни странно, мне всегда рады. С Настиной бабушкой у меня сложились почти приятельские отношения. Бабуся, потерявшая своего первого и единственного мужа ещё на финской, оказалась на удивление оптимистичным персонажем, чего нельзя сказать о её сыне – Настином отце – являющим собой вершину отчуждённого пессимизма и мизантропии (хотя осуждать за это мужчину, навсегда потерявшего любимую женщину, у меня не повернётся язык).
Ещё один пациент из этого дома – великовозрастный дебил Тёмсик – появился на моём горизонте всего один раз. Мы пересеклись с ним в прихожей – он уже уходил, а я только что прибыл. Это случилось двадцать второго апреля, поэтому наше общение свелось к обсуждению «проблемы чучела Шушенского дачника». Как ни странно, в этом вопросе мы с ним оказались солидарны, хотя и совершенно по разным причинам. Я высказался в том смысле, что надо оставить всё, как есть, в назидание потомкам, во-первых, и в качестве методического пособия по курсу религиоведения, во-вторых. Мой же визави возжелал оставить вождя мирового пролетариата в теперешнем состоянии исключительно из уважения к его заслугам. На том мы с ним и распрощались, хотя что-то в его нехорошем взоре подсказало мне, что эта наша встреча далеко не последняя.
– Ну что, молодёжь, проголодались? – бодро интересуется Настина бабушка, когда мы появляемся на кухне.
Глаза у старушки поблёскивают знакомым огоньком, что наводит меня на мысль, что она уже приложилась к рябиновой настойке, которой в этом доме всегда навалом.
– Не знаю, как у вашей внучки, а у меня аппетит волчий, – отвечаю я с поклоном.
Настя пихает меня локтём в бок:
– Подлиза.
– Почему подлиза? – возмущается бабушка. – Человек честно признался в своём желании, и это прекрасно! И потом, мужчина всегда должен быть голодным, как художник.
– Это что, камень в мой огород? – интересуется Настя.
– Что ты, Настёна, – спешит оправдаться бабушка, – это же в переносном смысле! Ладно, хватит болтать, давайте за стол.
Рассаживаемся. Мы с Настей с одной стороны, бабушка напротив. На круглом кухонном столе, за которым можно спокойно разместить ещё человек пять – плетёное блюдо с пирожками, пузатый водевильный чайник с кипятком внутри и размалёванной плюшевой бабищей сверху, маленький и аккуратный с заваркой, три чашки о трёх блюдцах, и малюсенькие золочёные ложечки. Есть ещё сахарница с торчащими из неё щипцами, серебряная салфетница с похожими на батистовые платочки белыми салфетками, и вазочка с шоколадными конфетами. Короче говоря, мещанское счастье. Освещает всё это великолепие висящая над столом старинная люстра, вся в полуголых девицах и пузатых амурчиках.
«Вот они, ужасы сталинизма, – думаю я, вкушая пирожок, – огромная кухня, высоченные потолки, трофейные мебеля…»
– Как сегодня поработали? – спрашивает бабушка.
– Нормально, – нехотя отзывается Настя, – хотя бывало и лучше.
Смотрю на неё удивлённо:
– Мне казалось, что всё прошло хорошо.
Настя аккуратно ставит недопитую чашку на блюдце:
– Понимаешь, работает не только художник, но и модель тоже. Модель не должна просто занимать ту позу, которую ей скажут занять. Модель должна вложить в эту позу жизнь, а не просто стоять, как истукан.
– Да я, вроде, вложил…
Настя кривится:
– Ну да, вложил. Всё ныл, что у него ноги затекли!
– Так ведь они и вправду затекли…
Наши препирательства прерывает бабушкин хохот:
– Милые бранятся – только тешатся!
– Бабушка, ты о чём? – с деланым непониманием в глазах спрашивает Настя.
– О том, что вы сейчас находитесь в самой прекрасной фазе отношений.
Настя делает театральный жест руками:
– Я не об этом, бабушка!
– Об этом, внучка, об этом…
Мне остаётся только, отсмеявшись в кулак, взять из блюда ещё один пирожок.
– Брак, кроме всего прочего, – вещает Настина бабушка хорошо поставленным учительским голосом, – отличается от добрачных отношений прежде всего, тем, что люди в браке сразу ложатся в постель голыми, и без особых церемоний начинают заниматься любовью. А до брака они долго ходят вокруг да около, потом раздевают друг друга, а уже после любят. Так вот, самая приятная часть в этом и состоит. Весь смысл плотской любви – в её ожидании.
– Бабушка! – раз, наверное, в двадцатый, назидательным тоном произносит Настя.
– Что, бабушка? Я уже двадцать четыре года и три месяца бабушка, и могу себе позволить такие разговоры. Раньше за такое, конечно, попёрли бы меня отовсюду, но теперь-то всё можно, да и неоткуда меня уже выпирать…
Моё предположение о том, что Настина бабушка приняла-таки перед нашим появлением рябиновой настойки, перерастает в уверенность, когда она заявляет следующее:
– Знаете, при всей мерзотности нынешнего времени, у него есть один неоспоримый плюс: всё, что произошло с нашей страной за последние годы, смыло ханжеские завалы так называемой советской морали. Сейчас, если мужчине нравится женщина, он может запросто сказать: «я вас хочу», и это будет честно, потому что первым у мужчины срабатывает природный инстинкт обрюхатить всё, что движется, а уже потом он начинает искать в женщине человека, если, конечно, вообще начинает. Раньше за подобную фразочку можно было попасть под статью «попытка изнасилования», теперь же это в порядке вещей. Мир стал проще и честнее. Безжалостнее, жёстче – да, но правдивее: никто ничего не скрывает – всё напоказ!
– Бабушка, ты правда так думаешь? – с округлившимися глазами спрашивает Настя.
– Правда, внученька, – отвечает та, – сущая правда. Надо пользоваться моментом, пока вам не придумали какую-нибудь другую мораль взамен советской. Говорить и писать, то, что думаешь, рисовать то, что чувствуешь, делать то, что нравится. А если будете сковывать себя дурацкими рамками, обязательно задушите в себе что-нибудь очень важное. Поверьте мне, я на своём веку такого навидалась столько…
И она очень убедительно проводит рукой поверх причёски. После этих её слов мне хочется аплодировать стоя, но я сдерживаюсь. Кошусь на Настю – та сидит красная, как рак.
– Но ведь можно быть свободным и в обществе с официальной идеологией, – робко встреваю я, – такие случаи описаны в литературе…
– Не дай бог вам это испытать на себе, – с грустью говорит бабушка.
И во влажных её глазах – печаль.
– Извини, твоя бабушка – последовательница Бакунина? – спрашиваю я Настю, когда мы дворами доходим до бульварного кольца.
Настя останавливается, как вкопанная, будто натолкнувшись на невидимое простым глазом препятствие:
– Чего?
– Я хотел сказать: может, она чудом пережившая чистки тридцатых анархистка?
Настино личико искривляется в сердитой гримасе:
– В следующий раз я просто вылью эту рябиновую настойку в унитаз! Со старческим алкоголизмом пора кончать!
Мне становится весело:
– Это же ничего, если бабушка с утра немножечко выпивает!
– Тебе смешно, а мне приходится выслушивать подобное постоянно.
– И часто? – интересуюсь я.
– Не очень. Но раз в неделю точно.
– Ну, это ещё ничего… хотя, если тебя это напрягает, можно её закодировать или вшить «торпеду» в одно место.
Я говорю в шутку, но Настя не реагирует. Носком туфли она зло отшвыривает в сторону пустую пивную банку.
– Проблема не в том, что бабушка периодически поддаёт, – нервно произносит она, – а в том, что ты ей понравился. И она пытается убедить в этом меня!
Даже не знаю, что на такое сказать. Получается, что настоящая проблема – это я. Точнее, проблема в том, что я нравлюсь Настиной бабушке, а самой Насте вроде как нет.
– А ты сама-то что обо мне думаешь? – спрашиваю я, чтобы раз и навсегда всё выяснить.
– Я ещё не решила, – отвечает она твёрдо. – А когда меня ненавязчиво подталкивают к какому-либо решению, я начинаю нервничать… не люблю, когда на меня давят даже самые близкие люди.
Сказав это, Настя замолкает. Неожиданно я замечаю, что она стала другой. Внешне, разумеется, осталась прежней Настей, но в глазах её и в выражении лица появилась отсутствовавшая прежде жестокость. Была девочка-припевочка, а стала снежная королева без грима.
Чтобы проверить, не показалось ли мне, заглядываю ей в глаза. Нет, не показалось: заколдовали Настю.
Едва не задев мой локоть, мимо проносится вихрастый парень на велосипеде, который, одним глазом глядя на дорогу, целуется с сидящей на раме рыжей девчонкой.
– Ого, высший пилотаж! – вырывается у меня.
Но Настя в мою сторону даже не смотрит. Она где-то далеко отсюда, или глубоко в себе. Что, в общем-то, одно и то же.
«Что-то часто девушки в моём обществе стали выходить в астрал, – думаю я, – непонятно только с чем это связано: со мной или с девушками…»
– Люблю бульвары, – глубоко вздохнув, вдруг произносит моя заколдованная принцесса, – когда идёшь по этим шуршащим дорожкам, кажется, будто ты не в Москве, а где-нибудь в деревне.
– Или в Париже, – вставляю я.
– Или в Париже, – соглашается Настя, – а ещё здесь все целуются, даже в дождь. А когда вокруг целуются, значит, всё хорошо.
Я воспринимаю эти слова как руководство к действию и, обняв Настю за талию, притягиваю к себе. Поцелуй получается долгим, но странным. Настя не пытается ни вырваться, ни отстраниться, но и не проявляет никакой инициативы. Эдакая доступная пассивность. Чуть тёплый манекен. Должно быть, так ведут себя резиновые женщины в страстных объятиях их счастливых обладателей.
Виновато выпускаю Настю из рук.
– Почему мужчины воспринимают всё так буквально? – задаёт риторический вопрос она.
– Наверное, потому что с женской точки зрения они, в смысле, мы, примитивны, – пытаюсь ответить я.
Настя морщится:
– Те, кто так думают – дуры набитые. Мужики гораздо сложнее нас, потому что умнее. Это факт. Просто отличительной чертой мужского поведения при достижении цели является движение к оной по кратчайшему направлению, то есть, по прямой. С галантностью тяжёлого танка.
– Есть такое, – усмехаюсь я.
– А смешного-то мало, – продолжает Настя, даже не взглянув на меня, – женщины, в большинстве своём, существа трепетные, а мужики этого не понимают. И прут буром. Такое срабатывает с определённой категорией дам, но не со мной. Я – другая, у меня всё долго. Ещё раз тебе говорю: не дави на меня.
– Так что же мне надо делать? – спрашиваю я.
Настя наконец-то снисходит до меня. Взглядом.
– Я тебе уже говорила: ждать.
Прогулка на этот раз получается короткой и почти безмолвной. Мы проходим совсем немного по Тверскому бульвару, дальше дворами налево, и по Малой Дмитровке возвращаемся обратно к Садовому. За это время мы перекидываемся всего парой ничего не значащих фраз.
Прощание выходит и вовсе смазанным – не глядя мне в глаза, грустная Настя разворачивается и исчезает в тёмном парадном, а я даже не делаю попытки пойти за ней. Точнее, я очень хочу это сделать, но остаюсь стоять, где стоял. Кто бы мне объяснил, почему.
Помаячив немного у подъезда и выкурив три сигареты подряд, я решаю по горячим следам принять на грудь. Так сказать, не отходя от кассы. Ведь для того, чтобы разобраться во всём трезво, сначала надо хорошенько нажраться. Согласны?
Иду в ближайший ларёк и прошу там девятую «Балтику». Продавщица из-за зарешёченной амбразуры смотрит на меня с удивлением – возможно, на неё произвёл впечатление мой решительный вид, или же она не понимает, как можно пить эту гадость в такую жару. Её можно понять: номинально этот варварский напиток считается пивом, но на самом деле находится гораздо выше в алкогольной иерархии. Это чистой воды ёрш, то есть, пиво, только щедро разбавленное спиртом. Две-три пол-литровых банки этой жидкости, выпитые без закуски, способны ввести крупного мужчину в состояние эйфории, а четыре-пять – ненадолго вывести из строя.
Собственно, это мне сейчас и нужно, поэтому я беру четыре банки, чтобы у меня было пространство для манёвра.
– На закуску что-нибудь брать будете? – интересуется продавщица, отсчитывая сдачу.
– Сегодня это лишнее, – уверенно отвечаю я.
Итак, первый шаг к достижению поставленной цели сделан: в сумке лежат три холодных банки с цифрой девять на жестяном боку и ещё одна, открытая, в руке.
Но этого мало. Чтобы всё прошло как надо, нужно ещё выбрать правильное место для распития, а ближайшее ко мне правильное место это – «Пушка[13]». Там и пьётся легче, и публика приятнее. Вообще, эта точка на теле столицы обладает какой-то странной магией, и потому притягивает молодых людей со всей Москвы для проведения вечернего досуга.
Дорога занимает совсем немного времени, за которое я осиливаю примерно полбанки. Теперь надо найти место, где сесть. Мне везёт: прямо перед носом освобождается целая половина лавки с видом на зелёного от грустных мыслей о судьбах родины поэта. Кидаю на неё усталый зад и закрываю глаза. Лёгкий душевный подъём, вполне соответствующий дозе выпитого, очень скоро преобразуется в ощущение благодушия и праздника.
«Началось», – думаю я, делая очередной глоток.
О чём думает человек, когда пьёт один? Разумеется, это зависит от человека. Вашего покорного слугу, например, чаще всего мучают воспоминания о недалёком прошлом, о том, что он, то есть, я, сделал так или не так, но сегодня всё по-другому. Никак не выходят у меня из головы Настины слова о том, что «надо ждать». А всё потому, что в этом словосочетании, которое, по идее, должно внушать надежду, слышится полная безнадёжность.
Помню, в детстве я всегда чего-то ждал: нового года, лета, окончания учебной четверти, свежего номера «Юного техника», повтора «Приключений Электроника», и случайной встречи с милой в тот момент моему сердцу девочкой. Даже светлого будущего – и того ждал. И ведь всего дождался, даже последнего, хотя оно и оказалось вовсе не светлым, а наоборот. Тогда, в золотые восьмидесятые, ожидание составляло значительную часть моей жизни, и теперь, спустя почти десять лет, составляет не меньшую. Всё, как раньше, изменились лишь детали. Теперь я жду зарплаты, встречи с приятелями, выхода нового номера «Техники и вооружения» и, как теперь выясняется, благосклонности Насти. Только со светлым будущим по понятным причинам – облом. Этого уж точно ждать не стоит – с такой, как у нас, рожей из телевизора, понимаешь.
«А всего остального наверняка дождусь, – говорю я сам себе, – что же тогда меня, мать его, так гложет? Неужели то, что после ждать будет уже нечего…»
На секунду поднимаю глаза от асфальта и вижу перед собой высокого седого мужчину с собакой, который расположился ровно на воображаемой линии, соединяющей меня и зелёного поэта. Лицо мужика кажется мне знакомым, но вспомнить, кто он и где я его видел, не получается. Всматриваюсь в его вытянутое, чуть подёрнутое загаром лицо, и потихонечку начинаю вспоминать: зима, утро, гастроном на Профсоюзной…
Звонкий собачий лай развеивает последние сомнения: передо мной тот самый алкаш из гастронома, которого я «спасал» этой зимой. Со стороны, должно быть, отражающийся на моём лице процесс идентификации достаточно комичен, так как мужчина расплывается в щербатой улыбке.
– Добрейший денёчек! – подшепелявливая, говорит он, подойдя ко мне на расстояние вытянутой ноги. – Похоже, мы с вами поменялись ролями, не так ли? Простите, запамятовал, как вас…
– Валерий, – отвечаю я, – а вас?
– Михаил. Позвольте?
Я немного отодвигаюсь влево, и мой старый знакомец аккуратно присаживается рядом. Собака, по-хозяйски обнюхав мою брючину, ложится напротив.
– Так что же вы здесь делаете? – спрашивает когда-то спасённый мной алкоголик, а теперь вполне себе благообразный гражданин по имени Михаил.
– Просто сижу, – отвечаю я, ногой запихивая под лавку пустые банки, – отдыхаю.
– Просто отдыхаете? – хохочет он. – С такими-то глазами?
– А что не так с моими глазами? Ну, выпил…
Михаил отрицательно качает головой:
– Я вам скажу, что не так. В ваших глазах тоска и полное отсутствие мотивации к жизни. Совсем, как у меня тогда, зимой. Поверьте, я в этом разбираюсь. Может, расскажете, что у вас случилось?
Мне вдруг становится противным его жизнерадостный и довольный вид, и, более того, бесцеремонность, с которой он пытается влезть в мою личную жизнь.
– Извините, а какое вам до этого дело? – повысив голос, спрашиваю я. – Вы мне кто, отец родной?
Вместо ответа собеседник достаёт из нагрудного кармана пачку «L&M», медленно вытягивает оттуда сигарету и, никуда не торопясь, прикуривает от спички. Окутавший нас дым вызывает во мне вполне предсказуемое желание покурить, и, пока я закуриваю сам, охвативший меня порыв гнева сам собой куда-то испаряется.
– Я вам объясню, какое мне до этого дело, – отвечает-таки на претензию мой знакомец, послюнявленными пальцами гася спичку. – Понимаете, я, в некотором роде, перед вами в долгу. Не за то, что вы мне тогда помогли донести до рта стакан, нет. Просто разговор с вами странно на меня подействовал. После того, как мы с вами расстались, я направился домой с целью, разумеется, продолжить начатое утром, но, придя в квартиру, зачем-то полез рыться в старых вещах и обнаружил в чемодане ту самую рукопись, о которой мы говорили. Перечитал, кое-что подправил и подумал: чем чёрт не шутит! Помылся, приоделся, сделал у соседа две копии и разнёс экземпляры по издательствам, благо их сейчас в Москве хоть пруд приди.
– И чего? – якобы без интереса спрашиваю я.
Михаил вздыхает.
– В крупных, конечно, отказали, а в одном небольшом – «Ад-Либриуме», может, знаете – взяли без разговоров. Сказали: востребованная тематика, свободная ниша. Кто бы мог подумать! В сентябре-октябре в печать выходит. Кроме этого, у меня с ними контракт ещё на один роман, тоже подростковый. Четырнадцать авторских листов, половина уже есть.
Его граблеобразная ладонь бодро хлопает по чёрной матерчатой сумке, с какими обычно ходит офисное быдло.
– Вы же сказали, что переболели этой болезнью…
– Рецидив, что поделаешь! – улыбается он. – Но, самое главное, можете мне не верить, но я с тех пор ни разу к бутылке не притронулся! Сам от себя такого не ожидал. Болел, конечно, первое время. Так тяжело было, передать не могу, но справился. Человеком себя почувствовал. Работу нашёл, правда, не особенно денежную, но на жизнь хватает…
Он пододвигается ко мне ближе, хотя ближе уже некуда, и, хитро подмигнув, искажённым голосом продолжает:
– И, знаете, у меня в жизни в первый раз за столько лет появилась женщина. Немолодая, конечно, такая же разведённая, как и я. Мы пока живём порознь, но собираемся съехаться. Осталось только Дарику подругу найти, а то он страдает…
Услышав своё имя, собака поднимает голову и негромко тявкает. Хозяин ласково треплет её за ухо.
– А у вас как? Пишете?
– Пишу, – лениво отвечаю я, – но пока «в стол». И заказ у меня тоже есть, только бесплатный. Пьеса о Маяковском.
– Так что же вы на «Пушке»-то сидите, если вам надо писать пьесу о Маяковском? – хохочет Михаил. – Шли бы тогда на «Маяк». Или дело не только в революцией мобилизованном и призванном?
– Угадали. Дело в другом, вернее, в другой.
– О! – Мой собеседник энергично кивает. – Вас оставила женщина?
– Нет, я на ровном месте поссорился с одной и пообещал написать эту самую пьесу другой. А что писать, понятия не имею…
В мою сторону устремляется удивлённый взгляд:
– А в тихом омуте, действительно черти водятся. По вам не скажешь, что вы – Казанова!
– Никакой я не Казанова, – горько усмехаюсь я, – просто я запутался. Пьеса и ссора, на самом деле, тут совсем ни при чём. Просто я понимаю, что долго так продолжаться не может. Не знаю, что с ними делать дальше, не знаю, как жить, простите за банальность…
Меня прерывает сосредоточенный хруст.
– Извините, с этой привычкой я так и не смог расстаться, – поясняет собеседник, протягивая мне «челночок». – Хотите?
– Нет, спасибо, – отказываюсь я, – сегодня я без закуси.
Предложенная баранка длится пополам между хозяином и собакой и мгновенно съедается.
– Есть несколько способов разобраться с этой проблемой, – прожевав, произносит бывший алкоголик, – первый – обратиться к классике, то есть прочесть какое-либо литературное произведение, схожее по тематике к вашему случаю.
– Вы что-то можете посоветовать?
– Что-нибудь, где герой мечется между двумя женщинами?
– Именно.
– Ричард Олдингтон, «Смерть героя». Отличная, но занудная вещь. Правда, как видно из названия, там герой в конце погибает…
– Ещё способы?
Сильные пальцы с хрустом ломают очередную баранку:
– Самому взяться за перо.
– В смысле?
– В прямом. Есть такое старинное правило: ко всем неприятностям в жизни надо относиться так, будто читаешь о самом себе книгу, тогда удары судьбы кажутся не столь болезненными. А для того, чтобы эту книгу прочитать, её надо сначала – что?
– Написать…
– Вот именно. Выплеснете всё, что мучает вас, на всё терпящую бумагу. Поверьте, это помогает не только посмотреть на ситуацию со стороны, но и притупить чувства. Опишите всё, как есть, разделите проблему с читателями, и вам очень скоро станет легче…
Неотвратимо пьянеющими мозгами осмысливаю услышанное: с одной стороны, то, что говорит мне этот счастливо вышедший из алкогольного пике подростковый писатель, абсолютно верно, а с другой как-то не хочется выставлять напоказ собственные чувства. Вдруг кто-нибудь что-нибудь заметит и всё поймёт? Татьяна, например…
– …кстати, тот, про кого вам предстоит написать пьесу, был в точно такой же ситуации, – продолжает мой собеседник, – его, если разобраться, и убили те женщины, меж которых он и метался в последние годы, как лопушок на ветру.
– Лиля и Вероника?
– Они самые. Одна украла у него душу, а вторая – сердце.
Приканчиваю очередную банку и, раздавив пустую тару каблуком, отправляю то, что получилось, в район переполненной урны.
– Красиво сказано, – говорю я, – поэтично.
В качестве благодарности мне отвешивается шутовской поклон:
– Берите, я сегодня добрый! Надеюсь, ваши дамы ещё не проделали с вами такого?
– Сложно сказать, – отвечаю я, затягиваясь предложенной сигаретой, – насчёт сердца, убеждён, что да, а вот по поводу души… не уверен я, что смогу обнаружить в себе её отсутствие, поскольку не совсем понимаю, что это такое.
– Душа – это всё человеческое, что есть в человеке, – слышу я в ответ. – Человек без души – животное.
– По-вашему, Маяковский был животным?
– Я бы сказал: зверем. После долгого общения с этой ведьмой Лилей, он утратил многие человеческие черты, так, по крайней мере, писали его современники. То, как он общался с людьми, его окружавшими… как поступил с Вероникой Витольдовной – я имею в виду их не родившегося ребёнка – во всём этом было очень мало человеческого, если вообще было…
Такой поворот разговора вводит мой опьянённый разум в некое подобие лёгкого ступора. «Маяковский – зверь, – заезженной пластинкой крутится в голове, – Маяковский – зверь…»
– …может, вам стоит на этом сыграть? – не унимается визави. – Вывести поэта оборотнем, который погибает от осознания невозможности стать человеком. А, что скажете?
– Скажу, что вам надо писать триллеры, а не подростковые романы. Маяковский – оборотень, это как раз в духе нашего времени. Можно туда подверстать ещё вампира-Есенина, ведьму-Ахматову и вурдалака-Бальмонта…
Мой собеседник заливисто и совсем по-детски смеётся. Неожиданно мне приходит в голову, что только человек, который способен на такой смех, может и имеет право писать подростковую литературу. Детский смех из щербатого и прокуренного рта – как пропуск в мир детства. Всем же остальным, на подобное не способным, туда вход воспрещён.
Собираюсь сообщить о своём наблюдении Михаилу, но тот меня перебивает:
– Это ещё большой вопрос, куму из нас надо писать триллеры! В любом случае, я за вас спокоен: с таким чувством юмора вы вряд ли сопьётесь.
– Спасибо и на этом, – кланяюсь я.
С кряхтением он поднимается с лавки. Не спеша отряхивается и поправляет на плече сумку, из которой торчит пакет с баранками.
– Ну, мне, наверное, пора. У меня ещё сегодня встреча. Вы меня понимаете…
Я тоже встаю:
– Тогда удачи.
Михаил крепко пожимает мою ладонь:
– Да, в моём возрасте это важно! Спасибо.
Внезапно он меняется в лице, становясь невероятно серьёзным.
– Да, забыл сказать, – озабоченным шёпотом произносит он, – есть ещё один способ разобраться с двумя женщинами…
– Я весь внимание…
– Завести третью!
Я замечаю, что вокруг ощутимо прибавилось народу, когда кончается последняя банка – молодые люди и девушки, вооружённые пивом и чипсами, облепили всё пригодные для сидения места – лавочки, парапеты фонтана и даже бордюры. Меня пронизывает желание прибиться к одной из таких компаний и провести с ними остаток вечера; поехать с ними хрен знает куда, куролесить там до утра, заиметь приключений на свою задницу, но счастливо из них выпутаться и вернуться домой целым и невредимым…
«Это всё тоска по уходящей юности, – слышу я в голове собственный голос, – острее всего такое чувствуешь, когда пьяный».
Решение взять ещё приходит само собой, и не встречает сопротивления со стороны ограничительных механизмов рассудка.
Путь до дома практически не откладывается в памяти. Я даже не могу с уверенностью сказать, на каком именно виде транспорта мне удалось выбраться из столицы. Скорее всего, это была маршрутка, поскольку так меньше вероятность встретиться с жадными до денег и насилия представителями власти. Освещающая прошедшие события лампочка сознания включается лишь в тот момент, когда я, не очень твёрдо держась на курсе, прохожу мимо круглосуточной аптеки. Страдающий нервным тиком вечнозелёный крест рождает в моём пьяном мозгу мысль о том, что если я не выпью на ночь «чёрного золота», то есть активированного угля, утро моё будет страшным. Проверив карманы на предмет мелочи, сворачиваю с курса на зелёный маяк.
Около ночного окна, сделанного по принципу тюремного «телевизора», очередь. Первым стоит худющий патлатый парень в джинсовке с трясущимися руками. Ему нужны два «инсулиновых» шприца. Естественно. Получив желаемое, клиент отваливает. Второй к окошку подходит коротконогая девица в красной кожаной юбке с молнией на всю длину. Этой среди ночи понадобились презервативы, что тоже естественно. Из «телевизора» появляется длинный шуршащий патронташ, который незамедлительно исчезает в красной лакированной сумочке. При ближайшем рассмотрении оказавшаяся страшной, как моё предполагаемое завтрашнее утро, гетера отходит от цели и скрывается в ожидавшем её неподалёку автомобиле «Жигули» девятой модели с наглухо затонированными окнами.
– Упаковку активированного угля, пожалуйста, – говорю я в «телевизор», из которого на меня взирает строгая провизорша в очках.
– Что, простите? – не понимает она.
– Угля, активированного, пожалуйста, – чуть громче повторяю я, – упаковку.
Лицо провизорши заметно добреет. Видимо, в сравнении с двумя предыдущими покупателями я для неё – просто ангел.
– Девятнадцать рублей с вас, молодой человек, – грудным голосом произносит она, – и пусть ваше утро будет добрым.
– Искренне на это надеюсь, – отвечаю я, отсчитывая мелочь, – и большое вам человеческое спасибо.
Захожу в тёмный подъезд. Привычно бросив взгляд на почтовый ящик (пусто), поднимаюсь к себе на этаж и рядом со своей дверью обнаруживаю сидящую на трёхногой табуретке, которую за каким-то лядом выставил сосед, Светку.
– Хорош… – говорит она, поднимаясь и оправляя ладонями юбку.
Подхожу ближе. Потом ещё. Правда, Светка. Живая, настоящая. Осторожно протягиваю ей ключи:
– Если ты не алкогольная галлюцинация, открой, пожалуйста, дверь.
Светка со смешком берёт у меня из рук связку ключей:
– Даже не знаю, что в тебе мне нравилось больше – чувство юмора или… Какой ключ?
– Ж-жёлтый…
Знакомо щёлкает замок, скрипучая дверь медленно открывается в темноту. Сетка делает уверенный шаг внутрь. Включает свет, оборачивается.
– Чего замер, заходи.
Осторожно вхожу. Закрываю за собой дверь. В тесной прихожей мы оказываемся совсем близко. Глаза в глаза. Пьяный мозг фиксирует то, что она почти совсем не изменилась: такая же, как тогда. Даже причёска прежняя – «каре на ножке», как я люблю. От внезапно нахлынувших чувств делаю неуклюжую попытку её обнять.
– Не здесь, – Светка снимает мою пятерню со своей распрекрасной задницы, – и не дыши на меня…
3
У нас перемены. Игорь номер один и Эдуард похотливый теперь друзья. Их сблизили деньги. Эдуард познакомил моих шефьёв со своими людьми из Столешникова, и те пообещали выделить у себя в бутике угол под наши японские оправы, которые привели их в неописуемый восторг. Особенно бурно, со слов Востокова, на них реагировала местная директриса, которая при просмотре каталога по-колхозному охала, употребляла модное нынче выражение «чума-пылесос» и непристойное слово из шести букв.
Эдуарду за посреднические услуги обещан процент с продажи. Какой именно, мне не сказали.
Воодушевлённые произошедшим, Игори сделали неприлично большой заказ, в который вложили все свободные деньги (то есть те, что не на вкладах) и даже немного заняли. Японцы отреагировали мгновенно: прислали копию подписанного иероглифами договора и письмо с заверениями вечной дружбы.
– В данном случае риск оправдан, – сказал Востоков, когда дело было сделано, и деньги ушли, – такого ни в Москве, ни в стране вообще, ни у кого нет. Отобьётся по-любому.
– Дай-то бог, – отозвался осторожный Климов.
Короче говоря, теперь мы существуем в режиме жесточайшей экономии. Ни о каких новых закупках речь уже не идёт, отдавать на реализацию товар без предоплаты мы тоже не можем. Вся надежда на то, что в оптиках быстро продастся что-нибудь из недавно прибывшего, а если этого не случится, то за аренду офиса, телефон и бензин служебной машины в следующем месяце нам придётся платить из своего кармана. И о предстоящей зарплате можно забыть.
Но всё это мелочи. Самое большое потрясение – позавчерашний секс со Светкой. Сначала, то есть сразу после, я не мог до конца поверить в случившееся и спокойно обо всём этом думать. Потом, то есть через день, я думал только об этом и не о чём более, за что (в смысле, за то, что не мог ни на чём другом нормально сосредоточиться) был несколько раз обруган начальством. Сегодня ситуация изменилась к лучшему, но мне по-прежнему трудно, а присутствие рядом Татьяны возводит моё положение в ранг идиотского.
Мы сидим с ней в набитой дачниками и членами их семей электричке и делаем вид, что любуемся видами. В вагоне открыты все окна и одно даже, кажется, выбито, но всё равно душновато – жара таки добралась до столицы.
– Скоро ещё? – спрашивает обмахивающаяся голубым томиком Ницше слегка раскрасневшаяся Татьяна.
– Через одну, – отвечаю я, – потерпи.
Электричка отчаливает от платформы «Заветы Ильича», оставив на ней небольшой десант разновеликих дачников. За окном снова начинает мелькать успевшая поднадоесть листва, а в отсутствие таковой – убогие строения с крохотными участками земли вокруг, на которые и стремятся попасть все эти люди с рюкзаками и завёрнутым в мешковину садовым инструментом.
– Так вот что такое «Раб с хижиной», – в очередной раз ловит выпущенную в эфир мою мысль Татьяна.
– Именно это, – киваю я, а сам мыслями опять возвращаюсь в позапрошлую ночь.
А было всё вот как.
После разговора в прихожей Светка по-хозяйски прошла на кухню и стала варить мне кофе. С трудом протиснувшись в показавшийся спьяну невероятно узким дверной проём, я приземлился на табуретку и начал за ней наблюдать. А наблюдать было за чем.
Выставив на моё обозрение грушевидный, обтянутый узкой юбкой зад, Светка уверенно и грациозно перемещалась вдоль нехитрых моих пищеобразующих приспособлений. Её движения были точны и бесшумны, как у хорошо смазанного киношного робота. Смотреть на неё – одно сплошное удовольствие. Но более всего восхищало то, что она прекрасно знала, где и что лежит. Она без труда нашла кофе, турку, чашки, и всё остальное. Короче говоря, Светка настолько органично вписывалась в мой шестиметровый пищеблок, что в какой-то момент мне стало казаться, будто она здесь уже давно, и я попал в параллельную реальность, где мы с ней женаты. Когда в турке закипело, она, наконец, повернулась ко мне лицом.
– Пей, – сказала Светка, поставив передо мной чашку с дымящим, как пароходная труба, кофе.
Я выпил.
– Ешь, – сказала она, протягивая мне невесть откуда взявшийся бутерброд с сыром.
Я съел.
– Теперь в душ, – и Светка, мягко взяв меня под локоток, словно ребёнка проводила до ванной.
– Горячей воды ещё неделю не будет, – робко попытался откосить я от этого дела.
– Это даже лучше, – сказала она голосом моей первой учительницы и втолкнула меня внутрь.
Когда я, мокрый и практически трезвый, вышел из ванной, Светка была уже готова. Она возлежала на моей кровати голая в позе Энгровской одалиски, в очередной раз представив пред мои очи свой беспроигрышный зад. Несмотря на это, я успел про себя отметить, что, пока я честно плескался под ледяной водой (что на общажной фене цинично называется «Карбышевкой»), моя бывшая успела похозяйничать и в комнате: расстелила постель, предварительно куда-то убрав лежавшие на ней вещи, распахнула окно и накинула газовый шарфик, в котором пришла, на торшер, создав уместный в этих случаях интим. Сказав заветное: «Эни-бени-раба» и мысленно щёлкнув хвостом, я пошёл в наступление.
Годы супружества, несомненно, пошли Светке на пользу. Она стала раскованнее (хотя она и раньше-то не отличалась особой зажатостью) но, главное, горячее. Она приняла меня в свои объятья так, словно провела восемь лет в женской колонии и избегала там лесбийской любви. Я был удивлён, даже шокирован, и при этом растроган. Можете надо мной смеяться, но по ощущениям это было, как возвращение домой. После восьми лет колонии.
Когда первый голод был утолён, я стал замечать, что её тело, знакомое мне от пяток до макушки, увы, претерпело-таки некоторые изменения. Её груди стали полнее, на боках и животе появились лишние складки, а на ягодицах – растяжки. Но запах, запах её кожи, в которую я впивался губами, остался прежним. Так что, закрыв глаза, можно было представить, что мы с ней там, в нашем счастливом прошлом. Что я и делал.
– У тебя есть резинка? – спросила Светка, когда пришло время.
– Боюсь, что нет, – честно признался я, целуя её за ухом, – не люблю я это дело, ты же знаешь…
– Эх ты, Казанова, хренов… – и Светка достала из сумочки, которая, оказывается, лежала рядом с кроватью, хрустящий квадратный пакетик, напомнивший мне давешнюю гетеру.
Дальше был секс.
– Сержику предложили место начальника филиала его банка в Питере, – сказала Светка, после того как застегнула-таки чёрный ажурный бюстгальтер, который был ей, мягко говоря, маловат. Её белые груди тестом поднялись при этом над чашками и чуть не выпрыгнули наружу.
– Успехов в труде, – ответил я, с трудом оторвав взгляд от.
Светка продела руки в рукава блузки и запахнулась.
– Ты не понял: я не хочу с ним ехать. Короче, мы пока будем жить раздельно.
Я уселся на кровати по-турецки и закурил.
– И чего теперь? – глядя на дым, уходящий в темноту за окном, спросил я.
Светка начала сосредоточенно застёгивать маленькие пуговки на блузке:
– А ничего теперь. Мы с тобой теперь любовники, вот чего.
Сказав это, она встала и устало потянулась. Потом подошла к журнальному столику, на котором стоял допотопный хозяйский телефон, и сняла трубку. Её длинный палец семь раз крутанул жужжащий диск номеронабирателя. В таком виде и при том освещении она была похожа на героиню из фильмов стиля «Нуар». Ещё бы ей сигарету. Без фильтра.
– Пожалуйста, такси по городу, – сказала она в трубку, качнув локоном. – Адрес?
Светка закрыла ладонью микрофон и повернулась ко мне.
– Какой здесь адрес?
– Кооперативная семь, – ответил я и, не знаю, зачем, добавил: – Останься.
Ответом мне был полный недоумения взгляд.
Когда за женщиной из моей прошлой жизни захлопнулась дверь ржавой «шестёрки», ведомой уроженцем одной из закавказских республик, я поднялся к себе, сел за письменный стол, схватил ручку и на оборотной стороне листов с собственным романом написал:
«Тридцать седьмой апрель или Владимир и Вероника»
Идея, дремавшая где-то внутри и поднятая на поверхность водоворотом произошедшего, просилась на бумагу. Мне вдруг стало кристально ясно, как должен был чувствовать себя кит, из спины которого торчало миллион гарпунов и миллион миллионов маленьких гарпунчиков.
С трудом поспевая за мыслью, я строчил строку за строкой, боясь даже отойти в туалет. Пепельница очень скоро стала похожа на ежа, который вместо яблок стал собирать окурки. Из творческого «Брусиловского» прорыва меня вырвал подаренный мне родителями на день рождения электронный будильник. Моргающий жидкокристаллическими глазищами, он неприлично громко запиликал сороковую симфонию Моцарта. От неожиданности я выронил недокуренную сигарету прямо на исписанный лист, засыпав пеплом финальный диалог. Это подействовало отрезвляюще. Я потушил сигарету и огляделся. В открытое ещё Светкой окно шпарило утро, в воздухе висели полотнища дыма, а прямо передо мной, на столе, наблюдался писательский натюрморт: переполненная пепельница и с десяток исписанных мелким почерком листов вокруг. Я взял в руки последний, прожжённый.
– Остаётся только написать слово «Занавес», – сказал я вслух, перечитав написанное, будто бы и не мной вовсе.
Что я и тут же сделал.
А похмелья, кстати, не было.
Сработанный из какого-то сероватого камня, похожий, скорее, на школьника, чем на тридцатитрёхлетнего мужчину, пустыми глазницами смотрит распятый спаситель на небольшое круглое окошечко в стене, из которого на него падает узкий луч яркого солнечного света. У его ног, согнутые волей скульптора в три погибели, стоят две фигуры – мужская и женская. Мужчина (скорее, старик) чем-то напоминает обессиленного Дарвина, а женщина – молодую Валентину Толкунову. Между ними, прямо из покрытого кафельной плиткой пола, растёт деревянный крест, на котором и висит сын человеческий.
Чем дольше я смотрю на эту скульптурную композицию, тем больше убеждаюсь, что она мне нравится. Серьёзно. Только мне видится в ней совсем не персонаж из далёкого пошлого, именем которого творились и творятся самые жуткие на свете преступления, а кто-то совсем другой, из нашего времени, кто-то знакомый. Мне представляется мой ровесник, за какие-то грехи подвешенный в подвале бандитами, который в последний раз через маленькое грязное окошко видит солнце. А снизу – его родители, которые ждут сына дома и никогда уже не дождутся.
«О чём он мог думать в тот момент? – пытаюсь сообразить я. – Кого вспоминал? Какому богу молился? Было ли ему страшно, или уже нет…»
Писклявый голос справа возвращает меня в реальность.
– Помнишь, поп говорил, что луч света – на самом деле святой дух? – существенно громче, чем принято делать в церкви, обращается длинноногая, местами блондинистая дама с платком на шиньоне к своему спутнику, чья бритая голова, минуя шею, переходит сразу в пиджак.
– И, чё? – отзывается тот.
– Я только сейчас догнала… – ещё громче поясняет дама, – прикольно…
– И, чё? – мычит мужик. – В чём прикол?
– Да сама, блин, не знаю… – инфантильно пожимает плечиками блондинка, – просто, прикольно…
Мы с Татьяной переглядываемся со значением: верующие, ничего не скажешь. От этой парочки нас отделяет ещё двое таких же набожных прихожан – маленький пузатый хмырь и высокая грудастая шмара в длинном облегающем платье. Мне невольно вспоминается Востоковский спич о новой популяции женщин. С высоты своего роста начинаю изучать всех имеющихся в церкви дам при соответствующих спутниках, и – о чудо! – нахожу минимум три подходящих под игореву формулу.
«Значит, не врал, курилка, – думаю я, – жалко, что я не дослушал тогда про искусственные сиськи…»
– Смотри, неправильно крестится, – отрывает меня от мыслей Татьяна, показывая на ближайшего к нам хмыря, – нужно справа налево.
– Ты-то откуда знаешь? – удивляюсь я.
– Врага надо знать в лицо, – отвечает она, – опять же, помогает затеряться в толпе.
– Может, ты ещё и какую-нибудь молитву знаешь?
– Конечно, «Отче наш». Хочешь, прочитаю?
– Нет, спасибо, в другой раз…
Между тем у скульптурного изображения Серафима с родителями продолжается священнодействие: состоящий из разнокалиберных старушек хор «а капелла» берёт высокие ноты, а художественный руководитель – отец Матвей – прохаживается вдоль строя и дирижирует кадилом. Делает он это весьма своеобразно, чуть покачиваясь в такт одному ему известному ритму.
Курящийся над кадилом дым и манера двигаться главного действующего лица вызывает у меня непроизвольные ассоциации с концертами популярных исполнителей восьмидесятых, когда все дёргались, и всё было в дыму. Возможно, к этому меня подталкивает ещё и интерьер, больше похожий на магазинный, чем на церковный – пластик, кафель, сайдинг – и лубочного вида иконы на стенах.
– Чего лыбишься? – спрашивает Татьяна, бросив на меня острый взгляд.
– Мне отчего-то вспомнились восьмидесятые, – шепчу я ей на ухо, – эстрада…
– Странно, – улыбается она, – мне тоже…
Я даже не удивляюсь.
Мы с Татьяной ровесники – окончили школу за полгода до развала Союза и, таким образом, стали его последними законными детьми. Восьмидесятые для нас – не просто точка, в которую нельзя вернуться и невозможно забыть; это то, что до самой смерти будет жить в каждом из нас, и, я уверен, вместе с нами и умрёт.
Действо заканчивается. Прихожане организованно, парами, покидают церковь. Впереди, словно им обоим приспичило, семенят те, что неправильно крестились.
– Пойдём, и мы, что ли, подышим воздухом, – толкает меня в бок Татьяна, – душно здесь.
– Пошли…
– Ну, что я вам говорил! – слышу я за спиной знакомый бодрый голос. – Явились-таки, голубчики!
Оборачиваемся. Освещаемый со спины свечами, с лоснящейся от трудового пота физиономией перед нами стоит никто иной, как художественный руководитель и главный дирижёр местного вокального коллектива. Собственной персоной.
– Да, – соглашается Татьяна, – пришли, чтобы посмотреть на творение нашего друга, и заодно отметить, как вы лихо прибрали к рукам мою идею с лучом света.
– Кто-то говорит: «плагиат», а я говорю: «традиция»… – ничтоже не сумлявшись, отвечает священник и заходится гаденьким смехом, который не очень вяжется с его габаритами.
– Я так и думала, – непроницаемо кивает Татьяна, – заимствование – это ваш конёк. В широком смысле, у вас своего-то ничего и нет. Всё понатырено не будем говорить у какой мировой религии.
Отец Матвей на её выпад не реагирует никак. Просмеявшись, он вытирает со лба пот извлечённой откуда-то из глубин подрясника тёмной тряпицей и одаривает нас с Татьяной победоносным взглядом:
– А знаете, молодые люди, я даже рад, что мы с вами тогда поцапались. Я потом долго думал об этом, и понял, что наличие таких, как вы, совершенно не должно меня волновать.
– Будьте добры, поясните, – прошу я.
Отец Матвей мигом превращается в одну большую улыбку. Не хватает только усов и хвоста.
– Дело в том, – елейно до противности проговаривает он, – что вы оба, простите, прошлое. Вас уже нет. Настоящее – это я и те, кто приходит ко мне в церковь…
– Интересно, а что же тогда будущее? – спрашивает Татьяна.
Своей пухлой розовой ладошкой, похоже, очень давно не ведавшей никакой физической работы, священник показывает нам на группу детишек, которые вслед за какой-то женщиной в платке и грязно-серой юбке по-детски неловко и старательно крестятся на икону.
– Новое поколение выбирает нас, – тоном победителя произносит отец Матвей.
– Сами выбирают? – уточняет, подобрав губы, Татьяна. – Или с вашей настоятельной помощью?
– Это уже неважно, – отмахивается от неё отец Матвей, – важен ведь результат, а не…
– Цель оправдывает средства, – подсказываю я.
– Грубо, но правда, – соглашается священник. – А в нашем деле все средства хороши.
Татьяна поводит плечами, словно ей зябко:
– Спасибо, хоть, что откровенно.
– Всегда пожалуйста! – усмехается отец Матвей.
Аккуратно подталкиваю Татьяну к выходу.
– Ну, нам пора, – говорю я, – нас ждёт встреча с автором.
– Не смею задерживать, – басит священник. – До свидания, гости из прошлого!
– Прощайте, отец Торквемада, – не оборачиваясь, бросает ему Татьяна, – желаю вам в новом году сжечь на костре как можно больше еретиков.
В ответ раздаётся тот самый противный смех, в котором, правда, чувствуется приличная доля фальши. А значит – мы победили.
Панк Петров ожидает нас снаружи. Он одет не очень-то к месту, в какую-то серую промасленную робу, но при этом у него вид триумфатора, что меня немного бесит, особенно в свете только что закончившегося разговора.
– Привет, Микеланджело, – говорю я, чтобы хоть немного сбить с него спесь.
– Здорово, Лев Николаевич, – глазом не моргнув, отвечает он.
– Не ссорьтесь, – вмешивается Татьяна, – ещё успеете.
Панк Петров выставляет вперёд ладони: мол, сдаюсь.
– Ну как? – обращаясь к Татьяне, спрашивает он.
Вместо ответа Татьяна жмёт ему руку:
– Молодец. Здорово.
– Не понимаю, как такая безбожница, как ты, может восхищаться скульптурой распятого Христа! – восклицаю я, но это говорит во мне ревность к чужому успеху.
– Я же восхищалась скульптурой, а не прототипом, – спокойно парирует Татьяна.
– Вот именно! – хватается за идею Панк Петров. – Искусство вне религии и вне политики!
Татьяна кивает.
– Не совсем так, конечно, но близко.
– А по-моему, совсем не так! – не сдаюсь я. – Искусство запросто может быть инструментом как политики, так и религии. Примеров этому масса, и один из них мы только что видели.
Лицо Панка Петрова натурально каменеет.
– У меня хотя бы искусство, – язвит он, – не то, что у некоторых…
Я закипаю:
– Знаешь, это ещё большой вопрос, является ли то, что ты высек из какого-то серого камня на церковные деньги, искусством!
– Ну, хватит! – встревает между нами Татьяна. – Ещё подеритесь мне тут!
Расходимся. Но о примирении говорить пока рано.
Мне не нравится настрой друга, но, более того, мой собственный. И откуда вообще берётся во мне это, порождающее ругань топливо!
Татьяна, кажется, всё понимает и вызывает огонь на себя:
– Знаешь, мы сейчас при всём желании не сможем сказать, что является искусством, а что нет, – говорит она Олегу, который сосредоточенно кусает губу и щурит левый глаз. – Ответ на этот вопрос может дать только время. Возьмём, например, кино. Сегодня фильм популярный, а завтра его уже никто не помнит; на другой же сейчас никто не ходит, но через несколько лет его назовут классикой и включат в золотой фонд кинематографа. Время – самый объективный судья.
Панк Петров поворачивается к ней, продолжая кусать губу и щурить глаз.
– Наше мнение о кино формируют критики, которые смотрят новые фильмы в режиме ускоренного просмотра, иначе у них просто не хватит времени, – быстро, будто готовился к ответу, проговаривает он. – Это называется: «повышение производительности труда». Мнение критиков формируют кинопрокатчики и американские киноакадемики. Они же по своему усмотрению и причисляют фильмы к так называемой классике. И это будет продолжаться, пока существуют Соединённые Штаты Америки. Время тут совершенно ни при чём.
Панк Петров делает паузу и закуривает. Я замечаю, что когда он прикрывает ладонью огонёк зажигалки, его пальцы заметно дрожат.
– Со скульптурой и изобразительным искусством всё несколько сложнее, – пыхнув дымом, продолжает он. – Металлоёмкие истуканы Зураба Михайловича и циклопические комиксы Ильи Сергеевича[14] сегодня в фаворе в силу близости обозначенных авторов ко власть предержащим, а подконтрольные им средства массовой информации внушают общественности, что именно так и должно выглядеть искусство. Когда же нынешние властители и их прихвостни почат в бозе, про указанных авторов, скорее всего, забудут, и все станут называть классикой то, что сейчас популярностью не пользуется и властью не поддерживается. Так уже было с соцреализмом и русским авангардом. Первый сейчас в загоне, а на второй – разве что не молятся.
Татьяна смотрит на рассказчика почти восхищённо, что приводит меня в бешенство. Ну, почти.
– Иными словами, настоящее искусство можно увидеть только здесь, или, в крайнем случае, в твоей мастерской, – ехидничаю я.
– Ну, отчего же, – театрально вздыхает Панк Петров, – есть ещё Лувр, Третьяковка, Русский Музей, Вашингтонская национальная галерея…
Татьяна смеётся, и от этого мне становится ещё гаже.
Мы выходим с церковного двора, обнесённого высоким сетчатым забором. За воротами нам попадаются двое якобы нищих – один высокий и седой, в джинсовой рубахе без пуговиц, и второй, маленький и плотный, в ношеном военном камуфляже – до нашего появления шумно выяснявших отношения. Из обрывков разговора я понимаю, что предметом спора являлся раздел сфер влияния, то есть места прошения милостыни: тот, что в джинсовой рубахе, заявлял свои права на территорию из соображений старшинства, второй же такую постановку вопроса не разделял в корне. Завидев нас, оба принимают сгорбленные увечные позы, хотя до этого стояли вполне нормально, в полный рост.
– Подайте, Христа ради, православные, – пыхтит в нашу сторону душащим всё живое перегаром тот, что в рубахе.
– На хле-е-ебушек… – следом даёт петуха второй.
– Шли б вы работать, – отвернувшись в сторону, и для верности поглубже заправив руки в рукава куртки, говорит Татьяна.
– Дай бог вам доброго здоровичка, – неискренне откликаются всё ещё бьющие поклоны «нищие».
– Зря ты так, – тихо говорит Панк Петров, когда мы отходим подальше, – эти могут и бока намять. Серьёзные ребята, они сюда из Пушкино на личном транспорте приезжают.
Оборачиваюсь: «нищие», забыв о нашем существовании, продолжают свои разборки; до нас долетают лишь обрывки их заковыристых матюгов.
– Пойдёмте, покажу короткую дорогу до станции, – предлагает Панк Петров, указывая на уходящую серой ленточкой в лес тропинку, – сэкономим минут десять.
Сворачиваем с дорожки, по которой шли, вправо, и над нашими головами тут же смыкаются шелестящие зелёные ладони. Жара и духота остаются позади, нас окутывает прохлада и ворох лесных ароматов.
– В этом и есть прелесть Подмосковья, – восхищённо вздыхает Татьяна, – шаг в сторону, и ты в лесу!
– Это точно. Только вот сколько из этой прелести добираться до столицы нашей родины, – ворчу я.
– Какой же ты, Лерик, зануда! – не меняя интонации, говорит она. – Смотри, какая вокруг красота!
Не разделяя её энтузиазма, молчу.
– Да, тем, кто вырос в мегаполисе, у нас нравится, – включается в беседу Панк Петров, – но выросшим здесь почему-то ближе кирпичные джунгли.
– А ты что скажешь? – дёргает меня за рукав Татьяна. – Тебе где больше нравится: на исторической родине или в городе-геморрое?
– Да мне везде хорошо, – отвечаю я, – и в Москве, и за городом. Не знаю только, смог бы я жить в Москве постоянно. На мой вкус, там слишком много народу и все куда-то бегут. Это немного раздражает.
– Меня тоже, – подтверждает Панк Петров, – но это проклятье большого города. Там есть свой ритм, которому все следуют. Я много раз замечал за собой, что, когда приезжаю в Москву, начинаю быстрее двигаться, будто попадаю на старую киноплёнку.
Татьяна улыбается – видимо, аналогия ей понравилась.
– У нас в Москве такой дёрганый народ, потому что очень шумно, – глубоко вздохнув, говорит она, – шумно в метро, шумно на улицах, даже из телевизора несётся один сплошной шум. Никакой тишины. А здесь у вас тихо, спокойно. И люди приветливые… не все, конечно.
– Неприветливыми они становятся после внутренней иммиграции в Москву, – замечает Панк Петров.
– В смысле? – не понимает Татьяна.
– В прямом. Москва портит. Говорят, после переезда в столицу человек теряет ум, честь и совесть одновременно.
Татьяна внимательно всматривается в собеседника, словно пытаясь понять, шутит он или нет.
– Это в людях говорит зависть, – заявляет она, – хотя доля правды тут есть. Жизнь в кирпичных джунглях действительно меняет людей, и не всегда к лучшему. Но это, знаешь ли, проблема людей, а не города. Рождённые в столице, коренные её жители, в большинстве своём являются людьми спокойными и уравновешенными.
Панк Петров нагло хмыкает:
– Рассмешила! Да будет тебе известно, что население Москвы давно состоит из одних иммигрантов, и ни о каких коренных москвичах говорить не приходится! И кто они вообще такие? Коренные зубы – знаю, коренные лошади – тоже знаю, коренные москвичи – не знаю!
Мне совершенно непонятен тон его выступления, но более всего меня удивляет, почему слово «коренные» Олег произнёс грассируя. Вроде бы ранее в антисемитизме наш товарищ замечен не был. Татьяну, кажется, это тоже возмущает. Она поворачивается к оратору всем телом в намерении истребить того вербально, скрестив на груди руки, что очень нехороший признак, уж поверьте.
– Поясню, – с обычным для себя апломбом, но очень спокойно произносит она. – Упомянутые ранее уроженцы подмосковных деревень рвутся в Москву, поскольку проживание в столице, по их мнению, является показателем богатства и социального статуса. Всеми правдами и неправдами они пытаются там зацепиться и пустить корни, а, таки зацепившись, начинают искать способы возвращения на родину: строить за городом дачи, возделывать жалкие клочки скупой подмосковной земли… но если их спросить, зачем им всё это надо, они, чаще всего, не знают, что ответить.
Татьяна делает небольшую паузу, что на преподавательском сленге называется: «чтобы осело».
– Это называется: «генетическая память», – продолжает она, – как осетры, которые всегда возвращаются на нерест в то место, где родились, так дети и внуки колхозников с упорством маньяков тянутся к земле. Только те жители столицы, которые за много поколений данную память утратили, и не испытывают потребности в бесцельном ковырянии грязи по выходным, и есть коренные москвичи. Это обычно происходит через три-четыре поколения проживания в столице. Я доступно изложила?
Панк Петров заходится оскорбительным смехом:
– Доступнее некуда! Что-то мне подсказывает, что с одной из представительниц этой популяции я сейчас и общаюсь!
– Я не имею в виду себя, – спокойно парирует Татьяна, – мои дед с бабушкой приехали в Москву из Новосибирска относительно недавно – перед самой войной – но, поверь мне, такие люди есть, и их много. А если уж разговор зашёл на эту тему, я лично ничего не имею против понаехавших, пока они не посягают на моё личное пространство, но, честно говоря, лучше бы их было поменьше.
– Чем меньше в столице говна, тем лучше площадь Красная видна? – с вызовом вопрошает Панк Петров.
– Ну, примерно. – Татьяна по-мужски сплёвывает в траву. – Да, и ещё: мы не евреи.
Панк Петров бросает в Татьяну сложный взгляд из сощуренных глаз. Татьяна делает вид, что ничего не замечает. Жестом – двумя приложенными к губам пальцами – она просит меня дать ей сигарету. Лезу в карман, но нахожу там только пустую пачку. Видя моё замешательство, Олег протягивает Татьяне раскрытый дедов портсигар с отчеканенной на крышке баллистической ракетой, которым можно запросто кого-нибудь убить или серьёзно покалечить.
– Прошу.
Татьяна ловко выковыривает из плотного строя крайнюю сигаретку и, зажав её между пальцами, поднимает глаза на Олега:
– Угостите даму спичкой.
В поисках зажигалки Олег начинает комично хлопать себя по карманам, будто исполняя народный танец – вот-вот вприсядку пустится. Татьяна наблюдает за всем этим со снисходительной улыбкой, сквозь которую просматривается внимание к происходящему. Наконец, зажигалка находится, и Олег подносит её к Татьяниной сигарете, одновременно щелкая кремнём и пытаясь добыть огонь.
Пока он возится с зажигалкой, мне в голову залетает мысль о том, что между ним и Татьяной только что произошёл вовсе не обмен ругательствами, а случилось нечто большее – то, что на театральной и киношной фене называется: «химия», проще говоря, ситуация, когда люди начинают испытывать друг к другу интерес. Но открытие это меня почему-то не тревожит.
«Что с того, что им приятно друг с другом общаться», – думаю я.
Я заметил это ещё в прошлый раз, когда мы были у Олега зимой. Тогда у них тоже случилась содержательная ругань об искусстве, из которой мне запомнилась вольная цитата классика, сказанная Олегом в сердцах: «Это не мы в искусстве, а искусство в нас…» Имелось в виду то, что потребность в творчестве даётся свыше и, словно паразит, поселяется в человеке, заставляя его тратить жизненные силы на создание того, что нельзя съесть или выпить, но что радует глаз или ласкает слух, т. е. предметов искусства. При этом она, эта потребность, не умирает вместе с человеком, как обычный паразит, а передаётся другим людям посредством этих самых предметов.
Татьяна была, естественно, против. По её мнению, наша склонность творить является всего-навсего побочным эффектом инстинкта размножения, и ничего божественного в этом нет и быть не может. В завершение она также вольно процитировала классика, только другого: «Нет человека, нет и искусства».
Кстати, об искусстве…
– Скажи, сколько ты можешь нам дать скульптур без ущерба для себя? – озвучиваю я наконец настоящую причину нашего визита, и, хотя я практически уверен, что Олег нам не откажет, чувствую при этом лёгкую неловкость.
В ответ мой друг молчит с задумчивым выражением лица. Со стороны кажется, будто он производит в уме какие-то сложные вычисления.
– Насколько я понимаю режиссёрский замысел, – продолжаю я, – их непременно должно быть больше одной, так как они должны символизировать прошлых женщин поэта. Лучше, чтобы их было штучки три-четыре, а лучше всего, пять…
Панк Петров продолжает молчать. Неожиданно задумчивость на его лице обращается злобой.
– Знаете что, – говорит он тихо, – а я не дам вам ни одной.
Мы с Татьяной смотрим сначала друг на друга, а потом на него с нескрываемым удивлением.
– То есть как, не дашь? – первым подаю голос я.
Олег отводит взгляд:
– А вот так, не дам. Не нравится мне эта ваша идея, равно как и личность, вокруг которой весь сыр-бор.
– Это ты из мести делаешь, или как?
Олег делает пару маленьких шажков назад, будто боится, что я его ударю.
– Или как. Я не хочу, чтобы моё творчество имело хоть какое-нибудь отношение к человеку с мокрой, как Титаник, репутацией.
– Это ты кого имеешь в виду?
– Не тебя. Одного застрелившегося поэта, который точно знал, что такое хорошо и что такое плохо.
– Дело только в этом? – осторожно интересуется Татьяна.
Олег сосредоточенно шмыгает носом, а после шумно сплёвывает в кусты:
– Не только. Я поговорил на эту тему со своим духовником, и он посоветовал мне этого не делать.
Вот от этой его фразы я натурально выпадаю в осадок. Вы только вслушайтесь: «Посоветовался с моим духовником»! С ума можно сойти.
– Послушай, а твой духовник, часом, не отец Матвей? – ещё с большей осторожностью, чем прежде, спрашивает Татьяна.
– Нет, – отвечает Олег, которому объяснение даётся, как мне кажется, с большим трудом, – это другой человек, но он тоже духовного звания.
Мы с Татьяной стоим на платформе «Правда». Около небольшого домика, в котором располагается касса, стоят двое военнослужащих срочной службы с одной бутылкой пива на двоих, мамаша с ребёнком – девочкой лет шести – и две неопределимого возраста старушенции с колясками. Больше на платформе нет никого.
– Странно, – без выражения произносит Татьяна.
– Не то слово, – отзываюсь я.
– Что будешь делать?
Если бы она знала, сколько раз за то время, пока мы тут стоим, я задавал этот вопрос себе сам!
– Если ты про декорации, то не знаю, – говорю я. – А если про Олега, то, ума не приложу.
– Содержательно, – качает головой Татьяна, – ничего не скажешь.
Какое-то время проходит в молчании. Военнослужащие допивают пиво, девочка успевает два раза упасть и один раз получить по заднице, а бабки – обсудить повышение цен на основные продукты питания.
– У тебя пьеса с собой? – неожиданно спрашивает Татьяна.
– С собой, – отвечаю я удивлённо, – а что?
– Дай, пожалуйста, хочу ещё раз перечитать. Кстати, долго ещё нам ждать зелёного счастья?
Достаю из сумки скреплённые «крокодилом» листы и отдаю Татьяне.
– Да уже должна быть…
Будто ждавшая моих слов, из-за леса подаёт голос невидимая пока электричка.
Произошедшее совершенно не укладывается у меня в голове. С Татьяной, кажется, происходит нечто подобное. Она делает вид, что внимательно читает мою писанину, но сама, по-моему, думает совсем о другом. Давно я не видел её такой рассеянной.
– Ты только не обижайся, но то, что ты написал, не пьеса, а рассказ, – говорит она. – Хороший, но рассказ.
– И что?
Татьяна пожимает плечами:
– Ничего. Отдам Аньке всё, как есть, пусть сама разбирается.
– Как думаешь, это можно поставить на сцене?
Татьяна вновь пожимает плечами, но теперь в её жесте гораздо больше равнодушия, чем прежде:
– Ну, если по «Повести о настоящем человеке» оперу поставили… Ты свою задачу выполнил, пусть теперь чета Гумилёвых отдувается.
«И то верно, – думаю я, про себя усмехнувшись, – чего я вообще дёргаюсь…»
За окном становится меньше зелени. Начинают мелькать индустриальные пейзажи.
– Подъезжаем? – спрашивает Татьяна.
– Нет, это только «Мытищи», ещё полчаса трястись, – отвечаю я, поглаживая её по руке. – И всё-таки я не понимаю, что такое случилось с Олегом, хоть ты тресни!
Татьяна тяжело вздыхает:
– Просто он изменился. Это часто происходит с людьми в нашем с тобой возрасте. Бывает, правда, что они останавливаются в своём развитии на уровне седьмого класса школы, но тут не тот вариант.
– Ты считаешь, что произошедшие с ним перемены – это прогресс? – удивляюсь я.
Острые Татьянины плечи поднимаются вверх, а затем резко опускаются:
– Я бы сказала: «эволюция». Он просто пошёл по этому пути развития, вот и всё. – Долгая пауза. – А может, заигрался, как Анька. Сам же его Микеланджело обозвал.
Мы расстаёмся с ней в метро. Она едет домой, я будто бы на встречу с клиентом, а на самом деле к Насте. Мы с ней не разговаривали с того самого дня, когда поссорились. Желание увидеться с ней возникло ещё в электричке, и окрепло после того, как Татьяна заявила, что хочет этот вечер провести одна. Меня в сталинском доме, разумеется, никто не ждёт, но это и к лучшему: хочу сделать сюрприз, совсем в духе художницы-передвижницы.
В знакомый подъезд я захожу, когда только начинает темнеть. Поднимаюсь пешком на этаж, чувствуя, как с каждой преодолённой ступенькой сильнее стучит сердце. И дело тут не в физической нагрузке. Вот, наконец, пятый. Дверь от лестницы налево. Нажимаю на пипку чёрного звонка, к которой какой-то шутник подрисовал на штукатурке уши и улыбку Микки-Мауса.
Мне приходится позвонить ещё трижды, пока из-за двери не слышатся тяжёлые приближающиеся шаги и какой-то странный хруст.
– Кто? – вопрошает искажённый, но всё же легко узнаваемый голос.
– Ёж в манто! – отзываюсь я.
– Манто давай, а сам шагай, – отвечает голос.
Пауза.
– Это Валерий, – говорю я чуть громче, – я к Насте пришёл.
– А, Валерий…
Пауза.
– Артём Иванович, может, вы всё-таки откроете?
– Может, и открою…
Дверь таки открывается, являя довольную жующую физиономию друга семьи, от которой веет какой-то несусветной гадостью.
– Прошу…
– Благодарю, покорно, – я протискиваюсь внутрь, стараясь не попасть под Тёмсиков «факел».
«Чего же надо такого сожрать, чтобы так воняло, – думаю я, разуваясь и спешно минуя коридор, – просто атака на Ипре…»
На кухне меня донельзя удивлённым взглядом встречает Настина бабушка.
– А Настёны нет, – говорит она, отодвигая от себя блюдо с тем, что, судя по запаху, съел Тёмсик.
– А где она, можно спросить?
Бабушка встаёт из-за стола, вытирает руки о передник и подходит ко мне:
– Валерий, врать я тебе не хочу, поэтому слушай.
Мне на плечо ложится сухонькая ладошка:
– Как это ни грустно звучит, но в жизни моей внучки появился другой человек.
– Кто? – чувствуя, как у меня в районе затылка начинает обильно проступать пот.
Бабушка улыбается, и в этой её улыбке я вижу Настю.
– Не знаю, – говорит она ласково, – да и какая теперь разница…
– Действительно, разницы никакой… – отвечаю я машинально, – вы абсолютно правы.
Удивительно, но я совершенно спокоен. Взмокший затылок и спина не в счёт. Ещё в ушах немного шумит, и ноги ватные.
– Кушать будешь? – прорывается бабушка сквозь помехи. – Я как раз крыжовник с чесноком приготовила.
– Нет, спасибо, – отвечаю я, отступая к двери, – я не голоден…
– Смотри, а то Тёмсику очень понравилось…
– Ну, что я тебе говорил? – нагло прочавкивает Тёмсик в прихожей.
Собираю всю оставшуюся волю в кулак:
– Артём Горыныч, шли бы вы в жопу.
– Пока что идёшь ты, – невозмутимо отвечает тот, – причём уверенно.
4
– Оноре де Босяк! – с надрывом выкрикивает конферансье, и на сцену выкатывается ещё больше располневший с нашей последней встречи тот, кто ещё зимой назывался: Просто Петька.
По залу прокатываются смешки вперемешку с хлопками. Я тоже не могу сдержать улыбки при виде субъекта во фраке и полосатых штанах, с причёской а‑ля Алексей Толстой, маленькими усиками-плевочками под носом, и такой же бородкой. На ногах у указанного субъекта ничего.
– Какой образ, – шепчет мне в ухо Татьяна, – два Толстых в одном стакане…
Закрыв рукой рот, чтобы не рассмеяться в голос, я отворачиваюсь от сцены. Поэт начинает:
В моём паху три тыщи фурий! В моём паху ракета «Скад»! В моём паху вулкан Везувий! На баб я падок и богат…– Просто идеал мужчины! – продолжает нашёптывать мне Татьяна. – Богатый бабник с ракетой в штанах…
– Прекрати, – умоляю я сквозь смех, – у меня сейчас истерика начнётся…
Я не хочу с тобой разврата, Я не хочу с тобой любви! Люби меня, как будто брата, Люби меня, но без любви…– О! Это что-то новенькое! – комментирует моя спутница. – Латентный инцест!
Мне уже по-настоящему плохо. Всего трясёт. Я понимаю, что это нервное, но остановиться не могу.
А поэт не унимается:
Ты можешь обосрать мне душу, Ни разу воду не спустив! Но все же, милая, послушай, Я больше весел, чем красив!После его последней фразы весь зал катается со смеху. Мы с Татьяной хохочем, не сдерживаясь. Это действительно смешно: нести такую бредятину да ещё в таком прикиде.
«Оноре де Босяк» раскланивается по сторонам, отклячив выпирающий между фалдами фантастических размеров зад. Зал грохочет.
– По-моему, он нашёл-таки своё место в русской поэзии, – констатирует Татьяна, – эротико-комические куплеты.
– Да, он рождён, чтобы веселить народ! – кричу я в ответ, поскольку вокруг стоит невероятный гвалт. – Ему можно только позавидовать!
Насладившись произведённым фурором, поэт покидает сцену. На его лице – блаженная улыбка. Следом, на ходу докуривая сигарету, появляется конферансье.
– Ну, а теперь, дамы и господа, вашему драгоценнейшему вниманию предлагается постановка: «Тридцать седьмой апрель или Владимир и Вероника» по пьесе некого Валерия Сурового… который, как мне сказали, сейчас прячется где-то в зале…
Конферансье прикладывает ладонь ко лбу и с прищуром Волка Ларсена всматривается в зал.
– Валерий, где же вы? А-у-у!
Смех в зале… но мне всё равно, я слышу только стук собственного сердца. Оно, словно язык в колокол, молотит о грудину. Бам-м-м-м, бам-м-м-м, Ба-бам-м-м-м… от напряжения потеют ладони, закладывает уши. Татьяна впивается мне в локоть, чем немного приводит меня в чувство.
– Ну, держись, драматург, – шепчет она, – грядёт момент истины…
Выпустив пару пижонских колец дыма в зал, конферансье уходит. Словно в замедленном повторе, раскрывается бордово-красный занавес, обнажая место будущего действия. Включается свет. И вот передо мной открывается сцена – освещённый софитами кусок пространства, над которым на разной высоте подвешены наклеенные на картон изображения совершенно разных предметов – от табуретки до рояля. Это, наверное, и есть те самые изыски, которыми с Татьяниных слов «страдала» Анна в процессе постановки пьесы. Я к репетициям допущен не был, поэтому вижу всё в первый раз.
– С роялем всё понятно, – шепчет мне на ухо Татьяна, – это намёк на футуристическое прошлое главного героя, и на вопрос: «Почему он висит вверх ногами?» следует отвечать: «А чтобы ты, дурак, спросил». С табуреткой, примусом и кастрюлей – тоже. Это быт, о который должна разбиться любовная лодка поэта. Автомобиль и шуба – привет от Лили Брик; пистолет – должен в конце концов выстрелить; огромное красное сердце с начерченной в центре мишенью вообще объяснения не требует.
– Спасибо, что пояснила, – отвечаю я, – сам бы никогда не догадался.
Татьяна недовольно фыркает, и в этот момент на сцене появляется Дон Москито. Весь в белом. Он так же элегантен, как тогда в «Бубновом валете». В качестве дополнительного штриха к образу на его прилизанной чёлке красуется седая прядь, слишком белая, чтобы быть настоящей.
– Они сошлись на бегах, – говорит он, делая изящный жест рукой, в которой, откуда ни возьмись, появляется трость. – Он – огромный и хмурый. Она – молодая и хрупкая. Любовь – убийца на крыльях – кружила над его шляпой. «Пойдёмте со мною», – сказал Владимир. «Куда? – спросила Вероника. – Впрочем, неважно. Идёмте». Они вошли в его комнату в три квадратных сажени влюблёнными, а вышли любовниками.
Когда последний произнесённый Доном Москито звук растворяется в прокуренном воздухе, он делает движение, похожее на вольное исполнение команды «кругом», и лёгкой походкой удаляется в глубину сцены. На его месте из темноты образуется загримированный под Маяковского Че под руку с Анной, одетой по моде двадцатых годов – прямом коротком платье с заниженной талией и шляпке «Клош», натянутой до бровей. Вокруг её шеи обмотаны длиннющие бусы, на свободном запястье болтается ридикюль.
Если Дон Москито был элегантен, то Че – убедителен. Кажется, что вот перед нами стоит сам Владимир Владимирович собственной персоной. Анна тоже хороша. Ей идёт этот стиль, гораздо больше, чем тот, в котором она пребывает в обычной жизни.
Пара проходит в центр сцены и останавливается. Че принимает позу, в которой последние сорок лет на одноимённой площади стоит его бронзовый двойник. Анна, она же Вероника, замирает рядом, чуть прижавшись к поэту слева. Так они и стоят, молча, глядя поверх зрительских голов куда-то вдаль, пока рядом не возникает Дон Москито.
– У Владимира было прошлое, – произносит он. – Женщины. Много. Одной он дал подержать свою душу, и та спрятала её к себе в ридикюль. Потому что была старше. И мудрее.
На сцене появляется женщина небольшого роста, в коротком сером пальто и красной косынке на голове. Из-под косынки выглядывают черные, как смоль волосы, из-под пальто – узкая чёрная юбка; на ногах высокие ботинки на шнуровке, в зубах папироса. Женщина подходит к паре со стороны поэта. На её лице улыбка превосходства.
Женщина кажется мне знакомой, но я никак не могу вспомнить, где её видел. Мешает толстенный слой грима, покрывающий лицо и густые чёрные тени вокруг глаз.
– Тебе она никого не напоминает? – тихо спрашиваю я Татьяну.
– Не-е-ет, – отвечает она, – первый раз в жизни вижу.
Неожиданно, словно чёртик из коробки, между актрисой, изображающей Лилю, и манекенно неподвижным Маяковским, возникает Дон Москито.
– У Вероники было Настоящее, – говорит он, почему-то улыбаясь. – Муж. Который делал вид, что слеп. И глуп. Веронике всё сложнее было убеждать себя и в том и в другом.
Из правой кулисы выходит высокий гражданин с расчёсанными на прямой пробор пшеничными волосами. С хорошо поставленной грустью взирает он на спутницу поэта, а затем, как и все, замирает.
– Яншин, – комментирует Татьяна, – несчастный мужик.
– Угу, – киваю я в ответ.
Дон Москито продолжает:
– У Владимира были слова. Много слов. Он менял их на деньги – советские рубли – на которые потом покупал той, что украла его душу, машины и шубы, а себе время, чтобы придумать слова, которые потом можно будет опять обменять на деньги.
Услышав это, Лиля оживает. Она начинает ходить по сцене и по очереди срывать подвешенные над ней картонки с изображениями предметов, начиная с машины. Как только картонкам становится тесно у неё в руках, к ней подскакивает коротко стриженый мужчина с усами и в старомодных очках.
– Прошу любить и жаловать, – шепчет мне Татьяна, – Осип Меерович Брик собственной персоной.
– Спешу тебе напомнить, – шепчу я в ответ, – что эту пьесу написал я.
Татьяна прыскает в кулачок и легонько похлопывает меня по коленке. Осип Меерович в это время забирает у Лили награбленное и так же торопливо, как и пришёл, исчезает за кулисами.
Послав тому эффектный воздушный поцелуй, Дон Москито подходит к Веронике сзади и легонько обнимает за плечи.
– Ещё у Вероники был Театр, – говорит он с грустью, – место, где врут. Где каждый делает вид, будто он не тот, кто он есть. Веронике нравилось быть не собой. Нет, не так: она любила быть не собой. Очень. Поэтому она любила Театр, а Театр любил её. У Вероники был выбор: человек или каменный сарай со сценой и вешалкой…
Дон Москито делает на сцене эффектное па и оказывается рядом с Че:
– …а у Владимира выбора не было. Людям его ремесла полагается уходить первыми, но они не всегда знают, когда именно. «Что же меня здесь держит?» – спрашивал он себя, когда оставался один в комнате в три квадратных сажени. И каждый раз слышал один и тот же ответ: «Вероника». Он любил её сильнее, чем ту, что украла у него душу. И когда на Москву налетел его тридцать седьмой апрель, Владимир понял, что тянуть дальше некуда.
Раздаётся барабанная дробь, и на сцене гаснет свет. Должно быть, это означает окончание картины.
– Слушай, а ничего так, – слышу я слева мужской голос.
Не успеваю я с облегчением выдохнуть, как с другой стороны доносится:
– Чё-то хрень какая-то…
Татьяна в темноте берёт меня за руку, собираясь таким образом меня успокоить или подбодрить, но без толку – я взвинчен до предела.
Свет на сцене загорается медленно, как осенний рассвет. Теперь действующих лиц всего двое – Лиля и Вероника. Они стоят друг к другу лицом в одинаковых позах – чуть подавшись вперёд и уперев руки в боки. Словно продолжая начатый ранее разговор, Вероника начинает:
– Володя устал! Двадцать лет он штампует строку за строкой… Скажите мне, Лиля, когда ж он… когда же Володя уйдёт на покой?
Лиля в ответ хохочет, запрокинув голову назад.
– Покой? Рассмешили! Аж закололо в бок… Гении не уходят на пенсию! Гении – сразу в гроб!
– Боже мой, в гроб! Ему – тридцать шесть! Известен, талантлив, и денег не счесть!
– Талантлив, не спорю, но дело не в этом. Нельзя до седин называться поэтом! Он вышел в тираж, он лежалый товар!
– Ответите, Лиля, вы мне за базар!
С этими словами Вероника бросается на обидчицу, но у той в руке непонятно откуда появляется шпага. Лихо, будто всю жизнь этим занималась, прочерчивает она ею в воздухе знак Зорро. Вероника отскакивает в сторону, выхватывая (тоже из ниоткуда) здоровенный топор, который, возможно, является не только оружием, но и метафорой (коню понятно, кто здесь старуха).
– Да я заколю тебя, дрянь, как жука! – кричит Лиля.
Лиля корчит издевательскую гримасу:
– Рука, извините, у вас коротка!
Тут раздаются звуки канкана, и обе женщины начинают истово скакать по сцене, периодически изображая бутафорское фехтование. По залу прокатывается рокот, а мне становится дурно. Я уже готов первым экспрессом отправиться в обморок.
– Я ничего такого не писал! – из последних сил говорю я Татьяне, – клянусь!
– Знаю, – отзывается она, – знаю, не волнуйся.
Битва продолжается. В самый её разгар сверху на лонже спускается Дон Москито. По-прежнему во всём белом.
– Море волнуется раз, – ласково произносит он, – море волнуется два, море волнуется три! Фигура мегеры на месте замри!
Женщины замирают в тех позах, в которых их застало его появление. Свет гаснет также медленно, как и зажёгся. На этот раз зал реагирует аплодисментами.
– Я уже ничего не понимаю, – в сердцах говорю я.
В ответ Татьяна ласково похлопывает меня по руке.
– Вероника пришла к нему последний раз четырнадцатого. Утром, – начинает следующую картину Дон Москито. – Владимир кричал. Он хотел, чтобы она осталась. Здесь. С ним. Навсегда. Но Вероника ушла. На репетицию.
Стоящие неподвижно по обе стороны от него актёры пробуждаются, словно ото сна, и удивлённо смотрят друг на друга.
– Что же, вы не проводите меня? – спрашивает Вероника Че.
– Нет, девочка, иди одна… – отвечает он. – Будь за меня спокойна.
Свою первую, и как скоро выясняется, последнюю реплику Че произносит настолько убедительно, что мне хочется встать и крикнуть: «Браво!» Меня пронзает мысль, что способность так произносить самые простые фразы и отличает лицедеев от банщиков.
Вероника уходит за кулисы, а Че вглубь сцены, и исчезает в темноте. На его месте в луче прожектора появляется Дон Москито с водевильной тростью в одной руке и цилиндром в другой.
– А дальше всё было вот как, – заявляет он, снимая с верёвки пистолет, – Владимир взял «маузер» в левую руку. Переложил в правую. Приставил дуло к тому месту, за которым стучало…
Дон Москито направляет оружие на висящее под самым потолком сердце.
– …нажал на спуск. Грохнуло…
Раздаётся нешуточный грохот (мы с Татьяной синхронно подскакиваем на стульях), и сердце, внутри которого, видимо, была спрятана петарда, разлетается в клочья у Дона Москито над головой. На сцену и ближние к ней столики летит что-то похожее на новогоднюю мишуру, которой было начинено сердце поэта. Свет снова гаснет. Когда же он зажигается вновь, сердца под потолком уже нет, как нет и пистолета в руках у Дона Москито. Его заменяет раскрытый томик Маяковского.
– К лицу прихлынула кровь, – произносит Дон Москито, глядя в книгу, – в ноздри ударило гарью. Гильза затанцевала по полу. Вероника не сразу, но вернулась. Владимир лежал на ковре, обнимая руками воздух. На груди раздавленной вишней краснело пятно. Она подошла, только чтобы в студёных зрачках увидеть себя. Комната и коридор набились людьми. Стало душно. Кто-то сказал: «Поздно. Умер». Вероника вышла во двор и, не оглядываясь, побежала в театр. «Простите, я опоздала, – сказала она режиссёру, – только что застрелился Маяковский. Я прямо оттуда».
Дон Москито с треском захлопывает книгу и убирает за спину. Затем долго-долго держит паузу, раскачиваясь на каблуках.
– В мае даже днём Москва полна теней, – наконец говорит он, – это призраки миллиона чистых любовей и миллиона миллионов маленьких грязных любят. Осторожней в переулках.
Свет снова гаснет и через секунду загорается вновь. Но Дона Москито и след простыл, сцена пуста. Лишь на полу лежит раскрытая книга, а на ней – дымящийся пистолет.
– Браво! – вдруг слышу я бас справа. – Отпад! – вторит ему женский голос слева.
В следующий момент меня кастрюльной крышкой накрывают аплодисменты. Зал снова грохочет, но в этом грохоте нет и намёка на свист и улюлюканье, сплошь одобрительные аплодисменты, а от криков «Браво!» я буквально глохну.
Трудно предать, что я в этот момент чувствую. Восторг, восхищение, эйфорию, экстаз, технический оргазм… И наплевать мне, что и половины из того, что я написал, не попало на сцену, и что я чуть не отчалил в обморок во время безобразной дамской дуэли. Главное то, что сейчас происходит в зале.
– Ты – человек, – шепчет мне на ухо Татьяна.
Поворачиваюсь в её сторону.
– И лицо попроще…
В любой другой день я бы обиделся, но сегодня я обнимаю Татьяну за талию и горячо целую в щёку.
– Ну-ну-ну, – осаживает она меня, – до дома потерпи…
Тем временем актёры выходят на поклоны. Все они явно довольны происходящим, на их лицах улыбки. Один только Че держит серьёз – видимо, ещё не вышел из образа. Зато белый и пушистый Дон Москито – сияет.
– Я понял! – орёт кто-то слева, нарушая наш с Татьяной интим. – Это – дух поэта, который будет вечно витать над Москвой!
Наконец, актёры уходят, и зал успокаивается. Наступает всеобщая прострация, как после хорошего анекдота – когда все уже просмеялись, и что дальше делать, непонятно. В этот самый момент на сцену лёгкой для своей комплекции походкой выходит конферансье: в зубах бычок, на носу тёмные очки.
– Вы посмотрели драму «Пиф-паф»! – баритоном произносит он. – Поэт и актриса! Кто прав, кто не прав?
Зал, оценив каламбур, реагирует смехом. Конферансье благодарно кланяется:
– А теперь, дорогие мои, вашему драгоценному вниманию предлагается новое творение мадемуазель Анны из её знаменитого цикла «Мужское и женское».
Сказав это, он дважды хлопает в ладоши, довольно громко. В следующую секунду из обеих кулис выходят двое парней с большими – метра полтора в высоту и по метру шириной – картинами в руках. Остановившись рядом с конферансье, они устанавливают картины прямо на пол, чем-то подперев сзади. Как роботы из «Тайны третьей планеты» отряхнув руки, парни уходят, каждый в свою кулису.
Теперь сцену украшают: если смотреть из зала слева – портрет стоящей в вызывающей позе обнажённой женщины и портрет лежащего обнажённого мужчины, справа.
– Что я вам говорил, – конферансье показывает бычком на правый холст, – мужское. И женское, – тем же Макаром показывает он на правый. – А теперь встречайте! Мадемуазель Анна!
Он удаляется, так же бодро, как и появился. Вслед за ним на сцену вышагивает Анна, как и была – в образе Вероники Витольдовны Полонской. С топором в руках. Она подходит к микрофону и занимает ту самую позу «для чтения», в которой я увидел её здесь в первый раз. Глядя поверх наших голов, она начинает:
Во мне живёт с детства кто-то другой, Его не увидишь на фото. За двадцать пять лет он сожрал мой покой, Я ненавижу его до рвоты…Так как слушать Аннины вирши невозможно, я начинаю изучать художественное оформление сцены. Первым делом, разумеется, исследованию подвергается женщина. Несмотря на то, что она абсолютно голая, никаких эмоций во мне она не вызывает. Слишком костлява. На мой вкус, разумеется. И форм никаких. Стройна, но стройность её граничит с концлагерной грацией. Короче говоря, долго моё внимание она к себе не приковывает. Перехожу к лежащему мужчине. А вот на этом я задерживаюсь существенно дольше. Не подумайте ничего такого, просто этот субъект на картине мне кого-то очень сильно напоминает. Чтобы разобраться, достаю из широких штанин тот самый бинокль, при помощи которого наблюдал «смерть» барона Майгеля, и навожу на сцену. Татьяна бросает в мою сторону удивлённый взгляд:
– Чего, баб голых не видел?
– Люблю искусство, – на автомате отвечаю я.
Только-только поймав в окуляры голого, понимаю, где я его видел. На портрете – я, собственной персоной! Голый с ничем не прикрытыми чреслами! Отрываю оптику от глаз и несколько секунд, а может, и минут, нахожусь в некоем подобии транса. Вокруг всё плывёт. Снова прикладываю бинокль к глазам, и вдруг чувствую, как начинает сама по себе отбивать неровную чечётку левая нога. Потом правая. За ногами следуют руки. Мне до зарезу надо посмотреть на портрет, проверить, действительно ли на нём я, а не кто-то другой, но навести туда бинокль не получается. Кто-то невидимый крепко хватает меня за оба запястья и начинает водить ими из стороны в сторону. Я понимаю, что это всё мои распроклятые нервы, и ничего более, но пересилить себя не могу. Закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, как учила нас, немытых, статья в «Науке и жизни» о мудрости индийских йогов, угнетаемых британским империализмом.
– Что с тобой? – спрашивает Татьяна. – Ты не пьян, часом?
– Всё в порядке, – отвечаю я, собрав остатки воли в кулак. – Живот только что-то скрутило.
Татьяна ласково берёт меня за руку:
– Бедненький… до антракта дотянешь?
– Постараюсь, – кряхчу я, а сам отвожу глаза в сторону, чтобы она не заметила, как я покраснел.
А в голове у меня тем временем выстраивается ужасающая картина мира, недоступная мне ещё несколько минут назад. Теперь-то становится ясно, кого мне напоминала актриса, игравшая Лилю! Господи, каким надо быть слепцом, чтобы не заметить этого с самого начала!
Настя, боже мой, Настя… теперь всё встаёт на свои места: и голый я, и голая Анна, которая сейчас стоит во фривольной позе рядом с Анной настоящей, зарифмованным глаголом жгущей сердца слушателей, и тот портрет, который не давал покоя Дону Москито, и его ревность, и Настина неприступность, и Тёмсиково «ничего не даст»…
«Что же теперь будет-то?» – задаю я себе самый важный вопрос, хотя прекрасно знаю ответ.
А варианта, на самом деле, всего два. Первый: после того, как у Анны закончатся стихи, она в сопровождении Дона Москито, Че и Насти спустится к нам в зал отмечать спектакль. Второй: мы с Татьяной поднимемся к ним за кулисы, как это принято у господ актёров. В любом случае встреча Насти и Татьяны неизбежна, и чем она закончится, представить несложно. Или я драматизирую?
Времени на то, чтобы что-то придумать, не остаётся. Смотрю на сцену, пытаясь угадать, сколько ещё будет над нами издеваться поэтесса, но она, похоже, уже заканчивает. Подняв топор высоко над головой, она произносит, видимо, завершающую поэму строфу:
А вдруг ты станешь мной? А если я стану тобой? Кто из нас первый поедет дальше? Разбудит ли нас мой явственный кашель?Топор совершает в воздухе непонятный пируэт и с грохотом втыкается в пол. Анна с поклоном отходит от микрофона. И в этот момент, когда слушатели ещё не решили, свистеть им или аплодировать, в голову врывается спасительная мысль: «Бежать! Как можно дальше и как можно скорее!» Корчу страдальческую рожу и бочком-бочком выбираюсь из-за стола.
– Слушай, не могу больше, – шепчу я удивлённой Татьяне, – пойду, прогуляюсь.
– Беги, беги, – участливо отзывается она, – это у тебя нервное…
Под адресованные, слава богу, не мне, аплодисменты спешно пробираюсь через весь зал в направлении того самого клозета, в котором мы зимой вытрезвляли Дона Москито. Хвала небесам – он свободен. Забегаю внутрь, запираю за собой на шпингалет дверь и буквально валюсь на стульчак. Шумно выдыхаю, но облегчения при этом не испытываю.
– Что же мне делать? – вопрошаю я в жёлтый от табачного дыма сводчатый потолок. – Что же мне делать-то, чёрт!
– Снимать штаны и бегать! – слышится из женской секции.
– Спасибо! – кричу я в ответ.
Поднимаюсь с трона и встаю обеими ногами на батарею. Иначе до окна не достать. Держась одной рукой за раму, а второй за видавший виды чугунный бачок, пытаюсь подтянуться к узкому окошку. Не с первого раза, но это у меня получается. Сажусь боком на не слишком чистый подоконник и аккуратно высовываюсь наружу. До асфальта где-то метра полтора. Я понимаю, что даже при большом желании с такой высоты не разбиться, но всё равно страшно. Прямо как сидел – боком – вываливаюсь из окна. Перед глазами успевают мелькнуть кусок красного фасада театра имени Маяковского и белые полосы пешеходного перехода. Посадка выходит не слишком мягкой – на локоть и левую половину задницы.
– Ма-а-ать… – вырывается у меня.
– Смотри мама, дядя из окна выпал! – показывая на меня пальцем, кричит белобрысый мальчишка с другой стороны улицы. – Видела, выпал!
– Замолчи! – шикает на него испугавшаяся женщина и прячет сына за мощный зад.
Я встаю, отряхиваюсь, и с достоинством объясняю ей свой манёвр:
– Замок клозета заклинило, пришлось уходить через окно. Прошу прошения, мадам, если напугал.
Фальшиво улыбнувшись, женщина торопливой походкой покидает место происшествия, таща за собой мальчишку. Тот, поминутно на меня оглядываясь, вопит:
– Мам, а почему дядя выпал? Я не понял, почему он выпал?
– Почему, почему, – говорю я тихо, потирая ушибленный окорок, – потому, что дядя – дурак.
* * *
– Что, правда? – вытаращив на меня глаза, раз, наверное, в пятый спрашивает Светка. – Не врёшь?
– Правда, – отвечаю я, для верности полосонув себе по горлу ногтём большого пальца. – Верил бы в бога, перекрестился!
– Прямо через окно в сортире?
– Прямо через окно. Прямо в сортире. А что мне оставалось делать? Я был, как Барон Мюнхгаузен – между крокодилом и львом. Одна девушка сидит рядом, другая на сцене…
Светка стряхивает с простыни нечаянно упавший туда пепел:
– А третья у тебя в постели…
– Ты что, мать, ревнуешь?
– Конечно, ревную. Я же женщина!
– Странная логика, тебе не кажется?
Добившая очередную сигарету Светка выпускает дым в люстру и гасит окурок в хозяйское блюдце, которое служит здесь пепельницей с момента моего вселения.
– Женщина ревнует любого находящегося в зоне её интересов и досягаемости мужчину, – поучительно объясняет она. – Ты разве не знал?
– Знал, конечно, – на выдохе отвечаю я, – просто каждый раз удивляюсь, когда мне об этом напоминают.
Светка переворачивается на бок и прикладывает ухо к моей груди.
– Ух, как у тебя сердце громко бьётся!
– Остановится, скажешь…
Не обращая внимания на мою остроту, она продолжает:
– Понимаешь, Лера, женщины боятся двух вещей: конкуренции со стороны других женщин и отсутствия мужского внимания к собственной персоне. Кроме того, им нужно всё и сразу, даже если на самом деле им это на фиг не нужно. Может, я не совсем понятно объясняю, но смысл в том, что пока я здесь с тобой, ты должен быть весь мой. Поэтому сейчас я тебя ревную к этим двум шмарам. Прости, к твоим девушкам.
– А когда уйдёшь? – уточняю я.
– А когда я уйду, – делая ударение на слово «уйду», говорит моя «учительница», – я забуду тебя до следующей встречи и стану ревновать кого-нибудь другого.
– Сержика?
Светка отрывается от моей груди. На её лице кислая мина:
– Лера, фу… мужья в конкурсе не участвуют!
Смеюсь:
– А кто участвует?
– Все остальные, подходящие по полу и возрасту, – сообщает она уверенно. – А насчёт Сержика… понимаешь, супружеская измена – это улица с двусторонним движением. Раньше я думала, что глаза выцарапаю любой, кто на моего мужика позарится. А теперь, знаешь, по барабану. Даже как-то интересно, когда он начинает врать и оправдываться. Мне и самой налево ходить спокойнее стало после того, как я про его шашни узнала.
– Сержик, что, тоже? – вырывается у меня.
– Только шуба заворачивается! Это он дома тюфяк тюфяком, а на работе, в банке папашкином, ни одной юбки не пропускает.
– Так чего же вы тогда не разведётесь?
Светка поднимает голову и смотрит на меня, словно на сбежавшего из дурдома в одной пижаме психа.
– Что я, дура совсем, такого мужика отпускать! Сам подумай: я с ним, как сыр в масле катаюсь, тьфу три раза – одета, обута, упакована по полной программе. У нас отдельная квартира с евроремонтом, машина, правда, советская, но зато новая, работа у обоих хорошая… Чего ещё надо-то? Я со всем этим ни за какие коврижки не расстанусь, даже из-за каких-то там блудей. Ну, сам подумай…
Действительно, подумать есть о чём.
– Мне это не очень понятно, – говорю я, вставая с кровати, – я с тобой спорить не буду, просто мне кажется, что всё должно быть как-то по-другому.
– По-другому, это, прости, как?
– Ну, не знаю… по любви…
Светка ржёт, как полковая лошадь:
– Ой, насмешил! По любви! А у тебя, с теми двумя, от которых ты сбежал, тоже по любви было?
Хороший вопрос. Я бы даже сказал, очень хороший.
– Ты будешь смеяться, Свет, но по любви.
Светка поворачивается на бок, принимая позу Венеры Урбинской.
– А знаешь, Лера, а я тебе верю. У меня с тобой тоже всё было по любви, потому что я тогда дура была. Теперь я умная, и больше таких глупостей не наделаю.
Смотрю на «Венеру», и вижу в её глазах то, чего никогда не видел – ум. Или, если хотите, мудрость. Не хитрость, не лукавство, а именно мудрость. Теперь она и не «Венера» вовсе, а молодая и успешная Middle class woman[15], только голая.
«И когда это все вокруг меня успели измениться? – думаю я. – Почему мне никто не сказал?»
– Ты чего так на меня смотришь? – удивляется Светка. – Что-то не так?
Сажусь на краешек кровати:
– Как тебе сказать… Последнее время я что-то слишком часто стал чувствовать себя дураком. В том смысле, что всё и вся вокруг меня меняется, а я как будто на месте стою. Дело даже не в машинах, квартирах и дачах. Я словно растение в саду, которое почему-то забывают поливать – вокруг всё колосится, а я так и остался с тремя листочками.
Светка проходится по мне взглядом, в котором скепсиса больше, чем иронии.
– Да лишний листочек тебе сейчас не помешал бы, – заключает она.
Инстинктивно прикрываю руками самое дорогое. Светка довольная моей реакцией, улыбается:
– До чего же вы, мужики, чувствительные…
– Извини, не понял?
Светка машет на меня ладошкой, мол, не бери в голову.
– Я, кажется, понимаю, о чём ты, – произносит она серьёзно, – не обижайся, но я чувствовала похожее, когда мы с тобой вместе были. Помню это состояние прекрасно. Действительно, все куда-то бегут, что-то делают; женятся, разводятся, детей рожают, за бугор валят, работу меняют, с ума сходят, умирают… а я, словно статуя в Эрмитаже, где стояла, там и стою. Что-то нужно изменить, чтобы… – Светка делает длиннющую паузу. – Надо тебе жениться, друг дорогой. Тогда всё как рукой снимет. Обещаю.
– На ком, не подскажешь?
– Да хоть на одной из тех, от которых ты сегодня сбежал. Кстати, который час?
– Десятый, – отвечаю я, глянув на будильник, – почти половина.
Перевернувшись на живот, моя старая/новая любовница из Венеры Урбинской превращается в сытую домашнюю кошку, только что глаза не светятся. Берёт меня за руку и тащит обратно в постель.
– Давай-ка ещё разок, и харэ…
Я, понятное дело, не сопротивляюсь.
Мы только что сделали то Светкой то, что было для всех советских детей запретным и грязным. Лежим теперь рядом, но при этом каждый где-то в другом месте. Конечно, за неё с уверенностью сказать нельзя, но я-то уж точно не здесь. Точнее сказать, не сейчас.
Мне вспоминается, как мы ней сделали «это» в первый раз на кровати её родителей в зимние каникулы 1991‑го года. Как долго-долго топтались вокруг да около, не решаясь перейти к самому главному; как потом стремительно раздели друг друга и, словно за нами гнались директриса с военруком, молниеносно разделались с нашей девственностью. Всё произошло настолько быстро, что ни я, ни она так и не поняли, что же мы такого наделали, и для того, чтобы во всём как следует разобраться, пришлось через некоторое время повторить. Странно вспоминать это теперь, будто и не с нами было. Смешно и грустно.
– Ладно, мне пора, – говорит Светка, потягиваясь, – вызови мне, пожалуйста, таксо.
Нехотя поднимаюсь. Такое ощущение, что весу в моём некрупном ещё теле основательно прибавилось. Прохожу через всю комнату к журнальному столику, на котором гнездится телефон. Кивнув голому гражданину с постельной причёской на голове в зеркале серванта, набираю записанный на краешке газеты номер и заказываю машину. Усталый женский голос говорит мне, что её придётся ждать минимум час.
– Час, – сообщаю я и кладу трубку.
Светка шумно вздыхает:
– Тогда я в ванную.
Встаёт и, виляя задом, следует в конец коридора.
Час, так час… Щелкаю выключателем торшера, от которого несёт побитым молью советским уютом, как, впрочем, и от всей моей квартиры. В комнату возвращается темнота. Её разбавляет только свет от далёкого фонаря с улицы и фары редких авто. И ещё полоска света из-под двери в ванной. Судя по шуму листвы за окном, приближается гроза.
Валюсь на кровать. Тяжесть в теле такая, что сил нету даже курить. Лежу, уперев глаза в потолок, по которому периодически скачут тени от люстры. В голове – мутный кисель из всего, что случилось сегодня со мной: секса, алкоголя (мы со Светкой выпили принесённой ею текилы), табачного дыма и размышлений о произошедшем. Хочется как-то от всего этого избавиться – надолго уснуть и проснуться в другом месте и времени, а лучше всего, в другом теле. Закрываю глаза – всё без толку, становится только хуже. В смысле, кисель гуще. Встаю и, не придумав ничего лучшего, присасываюсь к бутылке.
Решение позвонить Татьяне возникает само собой. Оно, до настоящего момента тихо точившее меня изнутри, наконец вырывается наружу, как нарыв. И ощущения схожие: облегчение вперемешку с болью, слегка притуплённой алкоголем.
Крадучись, хотя в этом нет ни малейшей необходимости, добираюсь до телефона. Тихо снимаю трубку. Воровато озираясь, набираю номер. После нескольких щелчков из тишины вырывается бодрый Татьянин голос:
– Да!
– Привет, – говорю я и не узнаю собственный голос.
– О, привет, как дела?
Честно говоря, я ожидал услышать что угодно, от: «Ты зачем позвонил?» до звука падающей на рычаги трубки, но «Привет, как дела?» для меня оказывается полной неожиданностью. Должно быть поэтому у меня возникают некоторые трудности со следующей репликой.
– Чего молчишь? – не выдерживает Татьяна. – Я, вроде бы, не сложный вопрос задала.
– Дела нормально, – выдавливаю из себя я. – У тебя как?
Татьяна снисходительно хмыкает:
– Ты за этим мне позвонил?
– Нет, просто… просто я хотел услышать твой голос.
– Ну, услышал, дальше что?
Если бы я знал, что! Думаю, никто, то есть вообще никто, не знает, ЧТО дальше! Хотя…
– Прости меня, пожалуйста, – говорю я тихо, – я больше так не буду. Так вышло…
Смех, горький женский смех.
– Это всё, что ты можешь сказать? Прости меня, пожалуйста! Тебе самому-то не смешно? Ты что, маленький мальчик? Тебе сколько лет…
И вот тут происходит страшное: из телефонной глубины выплывает прерывающий Татьянину тираду гнусаво-требовательный мужской голос:
– Тань, заканчивай там уже… я тут соску-у-учился!
Татьяна осекается на полуслове и, судя по характерному шороху, закрывает трубку ладонью.
– Кто у тебя там? – оторопело бормочу я, хотя и так знаю, кто. Я узнал голос.
Трубка молчит долго, очень долго. За это время по моей спине успевает несколько раз прокатиться холодная, как холодильник, дрожь.
– Извини, так вышло… – наконец слышу я.
Теперь молчу я. Не потому, что сказать нечего – просто у меня словно граната в голове взорвалась.
– …я на тебя обиделась, – продолжает Татьяна, – ты сбежал, а он остался. Мы выпили…
Не могу в это поверить. Всё кажется дурным сном, абсурдом, бредом пьяного кавалериста, кошмаром наяву!
«Он же мой друг, – стучит у меня в голове, – друзья так не поступают… Это же святое – девушка друга… Как же он мог, скотина…»
А голос из трубки, теперь совсем спокойный, не всё умолкает:
– …не обижайся, Лерик. Я знаю, тебе сейчас тяжело, но ты сам всё испортил. Надеюсь, ты ЭТО понимаешь?
Понимаю ли я ЭТО? О, да! Я всё понимаю, даже больше, чем всё. И от этого мне невероятно погано. Хуже, кажется, ещё ни разу не было. Перед глазами всё медленно плывёт, кажется, ещё чуть-чуть, и я, словно непочатая барышня, неспортивно потеряю сознание. Я даже не очень-то разбираю, что именно мне втолковывает Татьяна – в ушах шумит.
– Ты там где, вообще? – вдруг громко спрашивает она, немного приводя меня в чувство. – Я, часом, не в пустоту говорю?
– Я здесь, – подаю я голос. – Где мне ещё быть?
– Ну, прощай тогда. – Шумный выдох в трубку. – Жалко, конечно, что у нас ничего не вышло. – Ещё один выдох. – С тобой было весело.
– Прощай, – говорю я уже в короткие гудки.
Кладу трубку так же тихо, как и снимал. И в этот самый момент появляется завёрнутая в полотенце Светка с причёской «Мадам Рекамье».
– Ей звонил? – интересуется она.
– Откуда ты…
Она не даёт мне договорить:
– Не мог дождаться, пока я уйду?
– Не мог, – честно отвечаю я, – не мог…
Светка обрывает меня жестом:
– Я так понимаю, у вас всё плохо?
Киваю в ответ. Что-то говорить нет никаких сил, тем более, объяснять. Всё понимающая Светка протягивает бутылку.
– Вот, выпей. Может, полегчает.
Подношу горлышко ко рту. Странное дело: запаха алкоголя не ощущается. Делаю глоток – и вкуса никакого: вода-водой. Делаю следующий, побольше – тот же эффект. В смысле, никакого эффекта. Хлебаю из бутылки ещё и ещё, пока, наконец, не достигаю ожидаемого результата: из пищевода прямо в мозг питоном заползает хмель.
– Эй, товарищ, харэ, – останавливает меня Светка, – а то обратно пойдёт.
Ставлю квадратный в сечении пузырь на стол. Даже при таком освещении видно, что я одним махом выдул почти полбутылки. Обалдеть… Алкоголь растекается по телу и мозгу, и мир начинает приобретать новые краски и формы. Хорошеет.
Светка сбрасывает с себя полотенце и начинает одеваться. Медленно, даже как-то с ленцой. При других обстоятельствах зрелище это меня бы возбудило, но теперь её телеса, бледно-голубоватые в лунном свете, будят во мне несколько другие чувства.
– Красотища… – вырывается у меня, – просто Эль Греко…
Светкин взгляд, брошенный на меня после сказанного, я, должно быть, не забуду до самой смерти.
– Смотри не переусердствуй с этим, – говорит она через пару долгих секунд, показывая пальчиком с ярко красным ногтем на бутылку. И ещё через пару секунд с характерной ухмылочкой добавляет: – Хорошо, что не Пикассо.
Делаю рукой согласительный жест. По крайней мере, мне кажется, что согласительный. Конечности уже поролоновые.
Раздаётся телефонная трель.
– Я сама возьму, это такси.
Светка подходит к телефону, небрежно снимает трубку, произносит туда: «Ал-л-лло» и неожиданно замирает.
– Извини, – говорит она, виновато и ошарашенно глядя на меня, – это было не такси…
Бросаюсь к телефону, но размягчённые алкоголем ноги не дают сделать мне и шага. Я просто перехожу из положения «сидя на кровати» в положение «лёжа на полу». Боль от падения не ощущается совершенно, но её с лихвой компенсирует боль изнутри.
Представить не могу, каких трудов стоит Светке взгромоздить мою обездвиженную тушу на кровать. Последним, что фиксирует моя память, становится её фраза, донёсшаяся откуда-то сверху:
– Тяжело будет первую неделю. Не пей много. Я позвоню.
Следующее утро (скорее, день) начинается для меня труднопереносимой головной болью и сообщением о прошедшем над Москвой ночью крупнейшим со времён смерча 1904 года урагане, который я, оказывается, добросовестно проспал.
Вместо заключения
Лето на излёте. Оно пронеслось как обычно – стремительно и бездарно, ну, может, чуть стремительнее и бездарнее, чем прошлое. И хотя по календарю ещё август, уже ясно, что лету конец – трудное московское небо не даёт повода сомневаться в обратном.
Курс доллара скакнул вчера ещё – теперь его зеленейшество стоит почти десять деноминированных рублей. За последние полгода люди так привыкли, что его курс неизменен, как вид из окна нашего офиса, что абсолютно все в шоке. От учителей до бандитов. Даже не верится, что ещё две недели назад курс был каких-то несчастных шесть пятьдесят. Из-за этого у всего города паника. Да что там у города – у всей страны. Слишком много у кого за последние недели обесценились сбережения. Лично я знаю таких несколько, и все в предынфарктном состоянии. Телевизору уже никто не верит.
Что до вашего покорного слуги, то хоть у меня и нет рублёвых сбережений, я тоже пострадал. Точнее, скоро пострадаю. В результате этого валютного пур-де-бра плата за съёмную квартиру выросла более чем на треть, если платить в рублях. Так как валютных поступлений в ближайшее время ждать не приходиться, скорее всего, в следующем месяце мне придётся съехать и вернуться к родителям. А это печально.
В фирме тоже все, кроме меня, посходили с ума. Начальство находится в напрасных попытках вернуть у оптик хотя бы часть средств за реализацию оправ, и потому в перманентных разъездах, а меня оставляют в офисе на хозяйстве. Вернее, на телефоне. Но нам никто не звонит. Мы уже давно ничего не продаём, у нас море незакрытых договоров, нам должна куча народа, да и мы должны не меньше. Но мне, если честно, на всё наплевать.
Моё спокойствие объясняется просто: все ужасы, происходящие в стране, меркнут в сравнении с тем, что творилось и творится у меня внутри. Сейчас, конечно, мне стало гораздо легче, чем сразу после, но всё равно, воспоминания иногда возвращаются и противно давят грудь.
Со времени «Бегства в Египет» я не общался ни с кем из моих друзей, кроме Дона Москито. Он как-то заезжал ко мне на работу – привозил мои вещи, которые я забыл у Татьяны. От него я узнал, что Че и Татьяна уже живут вместе, и у них всё хорошо; что Панк Петров получил заказ на какой-то там алтарь и ради этого уволился с основной работы; и что сам Дон Москито готовится к изданию сборника стихов и вполне комфортно ощущает себя одной из вершин странного семейного треугольника, состоящего из него, Анны и Насти. Я отметил про себя, это наша поэтесса поступила экономно, заведя себе Моди и Коломбину[16] в одном лице, но промолчал. Также Николай открыл мне тайну знакомства Анны и Насти, которая оказалась донельзя простой: девушки всего лишь вместе учились в художественной школе (Анна в юности тоже рисовала). Когда мой гость закончил свой печальный рассказ, я попросил его уйти и не появляться в моей жизни хотя бы некоторое время. Надеюсь, что он не сильно обиделся.
Чтобы хоть чем-то отвлечься от того кошмара, которым я сам себя накормил, я уселся за роман. Сложно сказать, чего в этой схватке было больше – упрямства или отчаяния. Одно можно сказать с уверенностью: творчества там точно не было. Видимо поэтому где-то пару недель назад работа окончательно зашла в тупик. Действию, словно тому паровозу во Владивостоке, было некуда двигаться. Я во всех смыслах остановился.
* * *
Сегодня двадцать четвёртое, вторник. С утра к нам в офис не заходил никто, даже Зоя. Я выпил семь кружек кофе и три раза протёр все оправы – ничего не помогает. Никого.
Время в офисе точно остановилось. Застыло всё и снаружи: за окном не летают птицы, не ездят машины, не слышно шагов в коридоре… Как в дешёвом фильме ужасов – не сильно, но всё же пугает. Думаю, если бы к нам в офис случайным ветром занесло какого-нибудь шального коробейника, я бы, наверное, ему обрадовался, как родному.
Никого.
Вот уже сорок минут я смотрю на газовый фаллос и не могу понять, в чём же состоит его привлекательность. По большому счёту, он ещё более уродлив, чем XXC[17], но по непонятным причинам притягивает взгляд. Возможно, здесь работают недоступные простому смертному технологии, подобные тем, что заставляют нормальных людей часами пялиться в телевизор. А может, в его геометрии скрыт некий секретный код, манипулирующий сознанием человека, долго смотрящего на здание… Усилием воли заставляю себя перевести взгляд с недонебоскрёба на гаражи, затем на свалку около и, наконец, отхожу от окна.
Неожиданно и громко щелкает ручка замка.
«Надо же, – восхищённо думаю я, – наколдовал!»
Первым на нашу территорию вторгается раскрытый чемодан системы «Дипломат», заваленный каким-то цветным хламом, а уже за ним молодой коробейник северо-славянской внешности.
– Офисные обереги, защита от наезда и конкурентного сглаза, снятие венца безпродажности, исцеление бизнеса по визитке… – скороговоркой выдаёт он с порога, а сам так и шарит глазами по шоу-руму. На лице при этом дежурная улыбка до ушей.
– Спасибо, не интересует, – отвечаю я также с улыбкой.
– Тогда возьмите притягивающий деньги ежедневник, – не сдаётся юное дарование, но в голосе его уже нет прежнего оптимизма, – или генератор принятия правильных решений.
– Спасибо, нет…
– Возьмите, хоть что-нибудь, – жалобно произносит парень, – недорого, ведь…
Улыбка сползает с его лица, словно краска, смытая сильным растворителем. В глазах появляется тоска. Кажется, ещё секунда – и из них, серых, как грязное московское небо, польются горючие слёзы. Неожиданно я проникаюсь симпатией к этому труженику малого и бестолкового бизнеса. Моя рука сама собой лезет в карман.
– Ладно, – сдаюсь я, – давайте один оберег. От кризиса есть?
– Есть! – бодро отвечает мигом повеселевший коробейник, протягивая мне желтоватый камушек на чёрном ремешке, формой напоминающий сильно сплюснутый диск. – Всего пятьдесят рублей.
Нехотя достаю синенькую купюру из бумажника.
– Дороговато, что-то…
– Что вы! Это очень сильный оберег, хорошо помогает. Освящён лично целительницей Эльвирой.
– Ну, раз лично Эльвирой…
Отдаю мошеннику деньги, а взамен мне в руку ложится прохладный кругляшок. Толком не разглядев, убираю его в карман брюк. Так спокойнее.
Но на этом торг не заканчивается.
– Может, ещё что-нибудь желаете? – идёт в атаку воодушевлённый первым успехом коробейник. – У нас есть книга заговоров для успешного бизнеса и очень точный бизнес-сонник…
– Спасибо, больше ничего не нужно, – говорю я, аккуратно подпихивая гостя к двери, – до свидания.
– Вы ещё не видели обереги для оргтехники! – будто и не слыша меня, продолжает тот. – Избавляют от глюков и защищают от вирусов!
– До свидания, молодой человек, – практически рычу я, – спасибо, что зашли… удачного дня…
Наконец, мой противник сдаётся. На его физиономии – усталое безразличие. Вероятно, это его истинное лицо. Испытывая практически физическое удовольствие, закрываю за ним дверь, а сам иду на рабочее место.
«Вот так вот, – говорю я сам себе, – надо быть осторожней с желаниями…»
Останавливаюсь у стоек с оправами. Теперь они выглядят совершенно непрезентабельно: оправ на них мало, а те, что остались, развешаны кое-как, то есть бессистемно. Чтобы хоть чем-то себя занять, начинаю перевешивать их, пытаясь создать видимость изобилия, но у меня это, ясное дело, не получается. Оправ, блин, мало. Бросаю это дело и возвращаюсь к окну – смотреть на «Газпром» всё-таки интереснее – и в этот момент за дверью снова раздаётся знакомый щелчок.
– Больше я ничего покупать не стану, – бросаю я через плечо, – а будете упрямствовать, вызову охрану.
– А я вообще-то ничего не собирался вам продавать, – слышится в ответ приятный баритон, – я совсем наоборот.
Оборачиваюсь быстрее, чем если бы услышал за спиной щелчок затвора.
– Здравствуйте, – мягко произносит гость – невысокий мужчина в зелёной майке, джинсах и с неким подобием барсетки в руке.
– Здравствуйте, – отвечаю я, – извините, секунду назад выпроводил назойливого коробейника…
Гость улыбается:
– Да, я его видел в коридоре, он нашёл новую жертву – какую-то полную девушку, и она у него, кажется, уже что-то купила.
«Бедная Зоя, – думаю я, – увяз коготок…»
Гость продолжает, не снимая улыбки, стоять, где стоял.
– Что желаете? – спрашиваю я, опомнившись.
– Мне вас посоветовали друзья, – начинает он, походя ближе, – они сказали, что у вас можно приобрести европейские очки по оптовым ценам.
– Да, очки и оправы, – подтверждаю я, – всё из Европы. Что именно вас интересует?
Мужчина отводит взгляд в сторону, как бы изучая то, что расположено за моей спиной.
– Мне нужны солнцезащитные очки, говорят, у вас большой выбор…
– Честно говоря, никакого выбора уже не осталось, – пожимаю плечами я, – сезон подходит к концу… всё, что осталось от «солнца», вот тут, на этой стойке.
Я показываю гостю на остатки былой роскоши. Он подходит ближе и внимательно рассматривает каждую. На это у него уходит совсем немного времени, поскольку их всего-то восемь штук.
– Да, не густо, – говорит он, снимая самую верхнюю, – где у вас тут зеркало?
Подвожу его к нашему волшебному зеркалу, в глубине которого произошло немало чудесных преображений. Но сегодня чудес не предвидится – очки гостю откровенно малы. На его азиатском лице они выглядят несуразно.
– Не то, – безо всякой моей помощи соображает клиент, – можно что-нибудь другое?
Приношу другие, но те ещё меньше, и наш гость в них становится похож на китайского шпиона из фильмов по Джеймса Бонда.
– Опять не то, – констатирует «шпион», – хотя определённый шарм в них есть…
Снимаю со стойки ещё одни, так называемые «капельки», которые висит тут с тех пор, как я пришёл сюда работать. Заваль тысячелетия.
– Вот эту попробуйте, – не к месту улыбаюсь я.
Гость пробует, но, едва взглянув на себя в зеркало, снимает очки и передаёт мне.
– Что-то не так?
– Как вам сказать…
– Скажите, как есть. Мне любопытно.
– Такие очки занимают определённое место в гей-культуре, – говорит он. – Вспомните, например, покойного Фредди.
Вспоминаю. Действительно, покойный Фредди именно в таких в каком-то там клипе вытанцовывал.
– Хорошо, клиент всегда прав. Может, озвучите свои пожелания, и мы тогда будем ориентироваться на что-то конкретное?
Гость некоторое время мнётся, видимо, подбирая слова, потом произносит:
– Знаете, мне бы хотелось, чтобы они были как можно темнее. Желательно, самые тёмные, какие существуют в природе. В смысле, на рынке.
– А вам для чего? – удивляюсь я.
Гость откатывается на стуле от зеркала:
– Понимаете, я собираюсь варить, а маска сварщика мне не идёт. Я в ней страшный.
«А товарищ, похоже, колючий, – думаю я, – с таким надо аккуратнее».
Дипломатично, по-востоковски, улыбаюсь.
– Я же не просто так спрашиваю. Люди ведь для разных целей тёмные очки берут: чтобы в покер играть, чтобы встречные фары не слепили, для пляжа, для горных лыж, для спорта всякого… и для всего, поверьте, специальные модели есть. Просто сейчас нет…
Гость улыбается:
– Ну, хорошо. Мне нужны очки, сквозь которые не были бы видны мои мысли. Такая формулировка вас устроит?
– Не было видно, чего? – уточняю я.
– Мыслей. – Гость встаёт. – В том смысле, что опытный человек, пристально посмотрев другому человеку в глаза, может понять, врёт этот человек или нет. Так вот мне это не нужно.
Меня осеняет:
– Переговоры?
– Не совсем, но близко. В любом случае, у вас ничего, достойного моей красоты, не наблюдается.
Делаю шаг в сторону, чтобы пропустить его.
– Ну, извините.
– Ничего страшного. Прощайте.
– Всего доброго.
Гость, повернувшись ко мне спиной, направляется к выходу, а мне, наконец, удаётся рассмотреть его странную барсетку. Оказывается, это не барсетка вовсе, а вышитая бисером замшевая торба с небольшой петлёй сверху, сквозь которую продета бледная для настоящего времени года рука хозяина. Сказать по правде, я никогда не видел, чтобы мужики ходили с такими, больше подходящими для женщин цыганской национальности, штуками. Поднимаю глаза выше, и понимаю, что с майкой у парня тоже не всё в порядке: со спины она сплошь покрыта каким-то странным орнаментом, при взгляде на который у меня возникают непроизвольные ассоциации с турецкими огурцами на халате моей бабушки.
«А странный всё-таки тип, – думаю я, – и одет странно. Может, кришнаит какой?»
В этот момент почти дошедший до двери гость неожиданно останавливается.
– А что это у вас там? – показывает он кривоватым пальцем на крайнюю стойку.
Следую взглядом за пальцем и утыкаюсь в наш артефакт.
– А, это «Гауди»! Как её… концептуальная оправа из Испании. Сделана по эскизам самого Антонио Гауди, который строил собор святого семейства в Барселоне, который…
– Я знаю, кто это, – торопливо прерывает меня гость. – Разрешите?
Пожав плечами, снимаю «Гауди» со стойки. Гость немедленно надевает их и возвращается к зеркалу.
На первый взгляд, очки на его лице смотрятся дико, но это только на первый. На второй и на третий – ещё хуже. Он похож на монгольского воина, который чудом попал в современную Испанию, убил там кого-то и нацепил на себя трофей. В ожидании предсказуемой реакции скромно молчу.
– А вот эти, похоже, подойдут… – медленно проговаривает гость.
Не верю своим ушам:
– Простите, что вы сказали?
– Я говорю, эти мне подойдут, – повторяет гость, – а вы что скажете?
Изо всех сил я пытаюсь не выдать лицом своего мнения.
– Вы знаете, в них что-то такое есть… парадоксально привлекательное.
– Вот и я думаю, есть. Беру. Сколько с меня?
– Сто пятьдесят, – быстро отвечаю я.
Гость спокойно кивает и достаёт из глубин своей «барсетки» небольшую стопку «зелени».
– Вот, возьмите, – говорит он, протягивая мне три купюры.
Я понимаю, что только что сделал большую глупость: судя по заинтересованности клиента, он мог бы выложить и больше. Сую полученные денежные средства в карман и неожиданно для себя нащупываю там что-то плоское и округлое.
– Что-то не так? – спрашивает гость, видя моё замешательство.
Достаю из кармана руку и обнаруживаю у себя на ладони тот самый оберег от кризиса, который мне мастерски втюхал лицедей-коробейник, и о котором я напрочь успел забыть.
– Откуда это у вас? – интересуется гость.
– Продал один шустрый… – отвечаю я, – да вы его видели.
Гость с улыбкой кивает:
– Можно?
Протягиваю ему оберег. Тот берёт его двумя пальцами, как обычно берут линзы и долго-долго рассматривает на просвет.
– Сколько вы за него заплатили? – наконец спрашивает он.
– Пятьдесят.
– Рублей?
– Ну, не долларов же…
Гость усмехается:
– Продешевил ваш шустрый. Это амулет из родонита, причём довольно редкой окраски. Обычно он бывает розовым, а этот, как видите, жёлтый.
– Из чего, простите, амулет?
– Из родонита, – поясняет гость, продолжая вертеть в руках оберег, – камень такой. Другое название – орлец. Не слышали?
– Нет. Он что, дорогой?
Гость отрывает взгляд от камня:
– Как вам сказать, считается полудрагоценным.
– А что означает?
– О! Родонит – камень иллюзий. В странах Востока его считают божественным, пробуждающим любовь и талант. Современные практикующие маги и медиумы используют шары, сделанные из родонита, для медитации.
Чтобы сдержать улыбку, отворачиваюсь, но гость это замечает:
– Я сказал что-то смешное?
– Нет-нет, просто он был продан мне как оберег от кризиса.
Гость усмехается, обнажая некрасивые зубы:
– Получается, сработал – я же к вам пришёл, и оправу купил.
– Получается…
Внезапно мой собеседник меняется в лице, становясь донельзя серьёзным.
– На самом деле, всё не так просто, – понизив голос, произносит он, – родонит – это старинный талисман писателей и поэтов. По легенде, он способен разбудить в человеке скрытые таланты и принести своему хозяину известность.
– Это как раз мой случай! – вырывается у меня.
Услышав это, гость устремляет в меня удивлённый взгляд, который быстро превращается в изучающий, который, в свою очередь, трансформируется в прожигающий насквозь. Чуть склонив голову вбок, он буквально испепеляет мои зрачки, как та девочка у Стивена Кинга. Я принимаю вызов и не прячу глаза, но хватает меня ненадолго – на электросварку смотреть легче.
– Теперь я, кажется, понимаю, зачем вам нужны тёмные очки, – усмехаюсь я, проморгавшись, но гость на моё замечание не реагирует.
Он отворачивается в сторону и протягивает мне камень на раскрытой ладони:
– Думаю, просить у вас продать его – бессмысленно?
Забираю камень и сразу прячу в карман:
– Безусловно. Такая корова нужна самому.
– Виктор, – с улыбкой подаёт он мне свободную от своей торбы руку.
– Валерий, очень приятно.
Рукопожатие странного человека оказывается несообразно его небольшим габаритам – довольно мощным.
«Спортсмен, наверное», – думаю я, высвобождая руку.
– У вас всё получится, – говорит гость на прощание, – главное, в это хорошенько поверить, – и, не снимая улыбки, направляется к выходу.
Когда за ним закрывается дверь, в мою голову залетает безумная догадка о том, кого только что занесло в наши пенаты, но я выгоняю её, как незваного голубя с чердака. На уме у меня теперь совсем другое.
Словно подорванный, бегу к компьютеру, открываю последнюю сохранённую версию своего бессмертного произведения и начинаю делать то, что уже давно пора сделать – закончить его к чёртовой матери. Во всех уголках своего тела я чувствую невероятный прилив работоспособности, каких у меня не было давно. Пальцы сами тянутся к клавиатуре, а задница к стулу.
Когда под сомнительный аккомпанемент винчестера на четырнадцатидюймовом экране появляется мой многотрудный текст, меня уже не остановить. Я весть там, в романе, и, главное, я уже точно знаю, ЧТО я буду там делать.
Финальную сцену – прощание героя с возлюбленной и его встречу с новой жизнью – я осиливаю за каких-то полчаса. Сцену, ей предшествующую – ещё быстрее. Двигаясь таким образом от конца романа к началу, поправляю несколько неудачных эпизодов и с лёгкостью придумываю один новый. Скоро мне становится очевидно, что целых две главы совершенно лишние, и я, ни секунды не раздумывая, отправляю их к праотцам. Через пару минут избавляюсь ещё от одной. Роман на глазах худеет, но это только к лучшему. Он наконец-то становится похожим на литературное произведение, в нём появляется стержень, ярко выраженная сюжетная линия, до этого терявшаяся в многочисленных отступлениях, словно в плохо освещённых подворотнях. Бритва Оккама в моих руках блистает в лучах августовского солнца: фальшивые диалоги – к чёрту, ненужные подробности – туда же, воспоминания и переживания – ещё дальше.
Наконец, после трёх с половиной часов сидения за машиной, я с чистой совестью провожу черту под последним предложением и чуть ниже печатаю: «Москва, 1998». После чего отправляю документ на печать.
Наш старый «Эпсон», которого уже давно так не насиловали, выплёвывает на бумагу остатки чернил. Его трясёт, как перегруженную офицерскими кальсонами стиральную машину «Эврика». Но он справляется. И хотя на последней четверти страниц текст явно бледнее, чем на первых трёх, то, что я держу в руках, называется: «рукопись». Пачка получается приличной, в результате чего чистой бумаги в офисе практически не остаётся. Прибавьте к этому практически убитый картридж «Эпсона» и получите серьёзную офисную диверсию в масштабах такой фирмы, как наша.
«Климов меня убьёт, – думаю я, пряча пачку в портфель, – надо будет что-нибудь соврать…»
Востоков заходит в офис с таким лицом, будто ему только что сказали, что умер Цой. Игорь бросает быстрый взгляд на меня, проходит вглубь офиса и останавливается:
– Что?
– Посмотрите налево, – говорю распираемый гордостью я.
Востоков послушно поворачивается налево, хотя мне заметно, что это ему даётся нелегко – он чем-то очень раздражён.
– Что? – повторяет он.
– Ничего не замечаете?
Игорь обшаривает взглядом всю левую от него часть шоу-рума, но так и не обнаруживает изменений.
– Последний раз спрашиваю: «что?»
Вместо ответа выкладываю перед ним на стол три бумажки с изображением президента Гранта, и – о чудо! – мизантропическая гримаса покидает светлый лик моего любимого генерального директора.
– Ты сделал это, мой мальчик, – говорит он ласково. – Поздравляю, теперь ты настоящий профессионал очкового бизнеса!
Игорь по-партийному трясёт мою руку и хлопает по плечу.
– Рад стараться! – ору я. – Спасибо за доверие, товарищ генеральный директор!
Востоков усмехается, но очень быстро снова становится серьёзным:
– Жаль только, что совершенство, как обычно, достигается к моменту краха.
– У нас что, проблемы? – осторожно интересуюсь я.
Игорь проходит в глубину офиса, меланхолично помахивая свёрнутой в трубочку газетой.
– Японские оправы?
Вместо ответа я получаю грустную улыбку:
– Нет больше японских оправ.
– Как, нет?
Игорь делает несколько проходов до окна и обратно, прежде чем ответить:
– Не поверишь, Валера, совсем нет. Как нет и того бутика в Столешниковом переулке.
Аккуратно приземляюсь на стул:
– Офигеть…
– Но это не самое страшное. Жопа в том, что у нас было несколько вкладов в «СБС-Агро», а он сегодня лопнул. – Востоков красноречиво трясёт в воздухе газетой. – Даже если нам прямо сейчас вернут деньги за все-все оправы, включая японские, это всё равно нас не спасёт: нам нечем платить за аренду, я уже не говорю о наших зарплатах.
После этого он садиться напротив меня, щелчком извлекает из пачки последнюю сигарету – скомканная пачка улетает в ведро – и прикуривает от позолоченной зажигалки.
– Ещё мы должны нескольким региональным клиентам, – выдыхая дымом, продолжает Игорь, – которые заплатили вперёд. Это не очень страшно, потому что люди нормальные, но отдавать всё равно придётся…
Заходит Климов. Свежий, как бутылка кефира, но с тем же выражением на лице, что была у генерального директора пять минут назад.
– Ну? – спрашивает он, швыряя барсетку на стол.
– Гарри, у нас две новости, – отвечает Востоков, – хорошая и плохая.
Климов устало плюхается в своё кресло.
– Давай плохую.
– Мы разорены, – не меняясь в лице, сообщает Востоков.
Раздаётся нервный смешок:
– А хорошая?
– Валера продал Гауди.
Востоков помахивает в воздухе долларовыми бумажками, словно крылышками:
– Это весь наш капитал.
– Осталось только решить, на что потратить… – вставляю я.
Неуместный в данном случае смех поражает всех троих. Нас начинает трясти сильнее, чем тёток на Петросяновых позорищах.
И тут, словно по приглашению, входит Зоя. Бледная, как смерть, не по времени суток накрашенная, источая жуткие ароматы от собственной фирмы.
– А вы всё ржёте! – с порога заявляет она. – В стране чёрт знает что творится, доллар уже почти десять рублей стоит, а вы сидите тут и ржёте, как ненормальные!
– Не обращай внимания, – отзывается заметно повеселевший Востоков, – обычный пир во время чумы.
Зоя обрушивается на свободный стул:
– Меня уво-о-олили!
Зоины телеса начинают колыхать судороги, а по её прыщавой физиономии ручьями стекать косметика. У нас появляется новая забота: её успокаивать. Но мы не против, мы даже за! Как три богатыря, бросаемся мы к ней с утешениями и бутылкой коньяка, которая чудесным образом появляется у Востокова в руке. Зоя какое-то время хнычет, но очень скоро розовеет и успокаивается. Откуда-то возникает закуска, я достаю из чайного угла кружки, и начинается праздник. Мой последний в «Регейне».
Шок от случившегося отпускает меня только в вагоне электрички, летящей сквозь навалившиеся на Москву розовые сумерки. До этого момента я двигался, как сомнамбула, не обращая внимания ни на что, кроме собственных мыслей. Здесь, в знакомой вечерней толчее, я немного прихожу в себя.
Когда поезд приближается к станции «Маленковская», сзади меня раздаётся до слёз знакомый голос:
– Уважаемые пассажиры, обратите внимание на вашу обувь, не сегодня, так завтра ей понадобится чистка!
Закрыв половину лица ладонью, спешно отворачиваюсь к окну.
«Только бы не узнал, жертва кризиса, – думаю я, – только бы не узнал…»
По счастью, бывший генеральный директор ООО «Чистильщик» проходит мимо. У него и без меня полно дел.
Смотрю на мелькающую за окном листву. В кармане моего пиджака лежит пятидесятидолларовая бумажка, в сумке – законченный роман, за спиной двадцать четыре земных года, а впереди…
– Новая жизнь, – произношу я вслух, немного пугая соседку справа.
Москва 2010–2012 г.Сноски
1
От англ. regain – восстановление, возмещение (утраченного)
(обратно)2
Le Rotonde (фр.) – знаменитое кафе на Монмартре, в котором собирались Модильяни, Дерен, Пикассо, Вламинк и Сутин.
(обратно)3
Поэтическое кафе, существовавшее в С-Петербурге с 1912 по 1915 г. Завсегдатаями этого кафе были А. Ахматова, А. Блок, Н. Гумилёв и др.
(обратно)4
Здесь и далее стихи автора.
(обратно)5
Обиходное название района «Новогиреево»
(обратно)6
от англ. crew – команда, экипаж.
(обратно)7
Станция метро «Китай-город».
(обратно)8
Русское искусство (нем.)
(обратно)9
Обиходное название памятника Петру Первому работы З. Церетели в Москве.
(обратно)10
На момент написания книги народному артисту России В. М. Зельдину было девяносто семь лет.
(обратно)11
Место в Москве, где в конце девяностых располагались магазины дорогой одежды европейских марок.
(обратно)12
Роспись павильона «Сецессион» в Вене, сделанная Густавом Климтом, фрагменты которой и являются герою во сне.
(обратно)13
Район станции метро «Пушкинская»
(обратно)14
Имеются в виду З. Б. Церетели и И. С. Глазунов
(обратно)15
Женщина среднего класса (англ.)
(обратно)16
Богемное прозвище Ольги Глебовой – любовницы А. Ахматовой
(обратно)17
Храм Христа спасителя
(обратно)




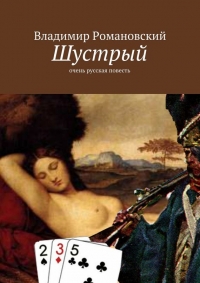
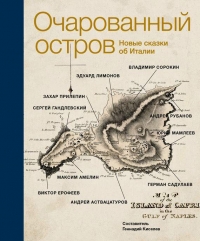




Комментарии к книге «Дети иллюзий», Владислав Кетат
Всего 0 комментариев