Алина Литинская
Корона на завязочках
Оглавление
Корона на завязочках
Алеманда
Мюзет
Фугетта
Куранта
Ригодон
Паванна
Три пьесы
Гавот I
Трио
Гавот ІІ
Речитатив и Ария
Сицилиана
Интермеццо
Сарабанда I
Сарабанда II
Кейк-Уок вместо Жиги
Внучкам Эве и Настасье
Корона на завязочках
Повесть-cюита 1
Мне жизнь оставила в наследство детство
Алеманда
Лист бумаги складывается вдвое, нo не поровну, а так, чтобы одна половина была больше другой, а по сгибу вырезаются зубцы. И получаются две короны. Настасье шесть лет, она берет мéньшую: принцесса. Мне ничего не остается, как взять бóльшую. И мы принимаемся за дело – режем овощи на винегрет. Настасья наклоняется и роняет корону. Убегает и возвращается в короне, завязанной на тесемках.
– Бабушка, когда моя корона испортится, я сделаю себе запасную.
– Короны не портятся и запасных не бывает.
– Бабушка, сними корону. Королевы не делают винегрет.
– Вот еще,– обиделась бабушка,– именно королевы и делают винегрет. Kоролевы потому королевы, что всё делают, в том числе и винегрет.
– Нет,– уверенно говорит Настасья,– нет, королевы должны вот так сидеть,– она сложила руки на коленях и опустила глаза.
– Но ведь это скука безумная, сидеть так всё время,– говорит Королева.
– Нет, не всё время. А только тогда, когда гости приходят. Когда надо показать, что ты – королева.
Настасья подвинула кресло и втиснула в него бабушку (Королеву). Королева смиренно сложила руки на коленях, как было показано, и опустила глаза. Перед ней стоял белый мишка в положении хвостом кверху, что означало глубокий поклон.
– Что скажешь, заморский гость? Из-за какого моря прибыл? Рассказывай!
– Нет, Королева, Ваше Величество, это ты говори,– ответил мишка девчачьим голосом.– Давай рассказывай!
Была такая практика: ходили мы гулять с Настасьей, а по соседству – дом с высоченным крыльцом, ступенек, наверное, в двадцать. Настя забиралась на верхнюю
ступеньку, садилась, подперев щеку ладошкой. Бабушка оставалась на асфальте. Галерка. Настоящая галерка. Настя – раешница.
– Давай, пой!
Далее следовала любимая в то время песня "Тридцать три коровы".
Так сложилась привычка подавать сигналы сверху-вниз: "Ну, давай, пой!", – или снизу-вверх: "Давай, рассказывай!". Прохожие оглядывались и улыбались: странная женщина на странном языке обращается к девочке, которую и не разглядеть-то сразу: кроха на верхотуре.
– Давай, рассказывай, – говорит мишка всё тем же голосом.
– Ладно, Медведь, я расскажу историю... – Королева, хоть и королева, но покорна, как... как не знаю кто...
...историю о том, как первый раз ходила в театр. Я была младше, чем Настя сейчас, и впервые узнала, что это такое – театр, и узнала, что есть на свете актеры, и что в театре всё похоже на то, как в жизни, только лучше. Спектакль назывался "Проделки Скопена". Долго помнила слова из этого спектакля, он на украинском языке шел: "Якого чорта вiн полiз на ту галеру!? Якого чорта ви торгуєтесь?".
Я умирала. Меня скрючивало от смеха, когда вспоминала этот текст. Почему – не знаю. Вот такая загадка. Помнила долго, вот и сейчас вспомнила. А дядя Миша играл Скопена, мне папа сказал, что артиста зовут Миша Рост.
Повели меня в другой театр, оперный, там все поют. Но получилось всё не так хорошо, как в том, где были Скопен и дядя Миша Рост. В опере запел вроде бы мальчик, его Ваней звать, запел про коня, который в поле пал, я встала и сказала громко:
– Чего стоишь, чего поешь, беги скорей, Сусанина куда-то повели...
Это было нехорошо с моей стороны и мне это объяснили, когда мы выходили из зала.
Война прошла-прокатилась, и все дети стали взрослыми, а я все равно помнила спектакль "Проделки Скопена" и дядю Мишу, которого так и не видела в жизни. Так бывает, почему – не знаю.
Однажды папа взял меня с собой, когда шел по своим делам, как все взрослые. Помню, была длинная деревянная лестница, а в конце ее – площадка и окно. На лестнице – темно, а на площадке – светло. Поднимаемся мы медленно, папа впереди меня на пару ступенек, за ним плетусь я. На площадке люди, они передо мной, как из-под воды поднимаются. Но папа видит чуть раньше: он выше меня и стоит впереди. И вдруг бросается к одному: Миша, Миша. Видно, что они рады друг другу. Живой – живой... Тогда, после войны, каждый живой как подарок был другому живому. Я подхожу, глаза таращу и вижу: стоит то ли костыль, то ли палка. Вот, говорит Миша, на фронте ранило... А папа вспомнил, что я стою рядом, и говорит, что дочка вот, помнит Скопена. И замолчали оба.
И прошли годы. И оказалось, что живем мы с дядей Мишей по соседству, домá стояли рядом и двор общий. И стали мы видеться часто. Дядя Миша медленно так прохаживался с палочкой. Необыкновенно красивый человек, и все было в нем необыкновенно, даже палочка с набалдашником. Ни у кого такой не было. Дядя Миша, наверное, не догадывался, что я – та самая девочка, что стояла на площадке рядом с папой, и вообще не помнил того случая. А я, конечно, помнила и всё думала, могла ли я предположить, что жизнь повернется так, что я смогу видеть дядю Мишу чуть ли не каждый день, и что он поведет в театр моих детей, как когда-то меня водили на спектакль "Проделки Скопена".
Настасья взяла мишку на руки и направилась к выходу.
– Мы решили, – говорит она, – пойти в театр. Мишенька там никогда не был! А в театре продают мороженое? Ты купишь нам мороженое? На Северном Полюсе всюду мороженое.
Мюзет
Эта девочка рада оказаться в комнате, где стоит старый сервант с мутным стеклом. В доме есть большое зеркало, в котором мама осматривает себя с головы до ног, когда собирается идти куда-нибудь; но, по сравнению со старым стеклом, зеркало – скучная вещь. Зеркало – то же самое, что всё вокруг, только лево-право, право-лево наоборот. Это смешно, но стекло интереснее. Когда перед ним танцуешь, получается что-то еще, кроме танца. Будто грифелем плашмя по бумаге или по стеклу водишь, ... и блики от лампочек дрожат, словно подмигивают, и особенно сильно, когда по улице проезжают машины или трамвай;
... и сирень – сколько ее? – она отражается в зеркале, а зеркало отражается в серванте – ничего не разберешь. И на чем стоит – непонятно;
... и окно, оказывается, какое красивое, голубое, а за ним – ветки близко-близко и колышатся, будто тихонько говорят между собой;
... и бабочка – откуда она? ... и в серванте всё позванивает, и можно постараться стать так, чтобы чашка с блюдцем повисли прямо над головой, как на картинке, а если шагнуть чуть в бок и присесть, другая чашка застывает на плече, словно цветок; и как ни танцуй – всё красиво. Потому что плохо видно. И музыка ... тихая, грустная музыка, в ней что-то еще, кроме того, что вызывает желание танцевать, как по воздуху плыть ...и так мучительно хочется узнать, что же это...
Напротив дома сидит старик – сосед. Всегда под старым каштаном – там тень; руки сложил на рукояти палки и прижал их подбородком. А голова его – большая, белая и круглая, как шар. Сидит себе, сидит так весь день, а рядом – собака, тоже положила голову на лапы. И лежит так все время, пока хозяин сидит под деревом. Целая картина получается, только грустная. Старик никогда не открывает глаз: он всё узнает по звукам и запахам. Рядом с ним на стуле стоит ящик с ручкой. Старик покрутит ручкой, поставит пластинку, и она начинает играть. Это патефон, – говорит старик. А пластинки он выбирает наощупь, даже не поворачивая головы. Его пальцы, видно, знают, какая пластинка что играет. Но все они играют негромко и с шипением.
Девочке нравится стоять рядом со стариком и смотреть на то, чего он не видит – на прохожих. А он говорить не говорит, а что-то бормочет. Прошла тетя, впереди себя коляску толкает. От старика, как эхо, откатывается: "Коляска, коляска...". А потом: "Какие цветы... Фиалки, что-ли?". Я не вижу цветов. Я вижу большую плетеную корзину на руке какой-то женщины. А в корзине сложена тряпка. И вдруг, откуда ни возьмись, выпала и покатилась монета. Пес поднял голову, обнюхал вокруг себя асфальт, вздохнул и снова положил голову на лапы. И тогда девочка ни с того, ни с сего спросила:
– Дядя, а вы и вправду шарманщик?
– Наверное, и вправду, – говорит старик, – кручу что-то каждый день. Одно и то же. Оно может быть не здесь и не сейчас, а где-то в мире. Где-то в мире есть печаль... Вот ее и кручу... Каждый день. Много дней... Не всхлипывай. Без печали ничего нет... Утри нос.
Фугетта
– Таа-да, татататаа-да. Таа-да, татата-да, – это звук монет в жестяной банке из-под пива. На углу стоит веселый человек со множеством косичек на голове и играет пустой пивной банкой, словно на марокассах.Я всегда перехожу на другую сторону, чтобы услышать этот ритм без примесей других звуков. Таа-да... И вообще, легче представить...
Я давно собираюсь написать об этом, Света. Ритм навел. Помнишь, таа-да, татата-таада, "о бэ бэлла синьора..."? Глупости, нет таких слов, но нам так слышалось. Сколько нам было тогда? Пришли мы в лес. Голосеевский, кажется? Кругом кусты. Лето. Сидим в купальниках, меряем кольца – новое занятие, только-только замуж вышли. У меня – помнишь? – голубое аквамариновое, первый "взрослый" подарок от родителей. Меряли, пока кольцо не упало в траву. Ты страшно переполошилась: найти, кажется, невозможно в высокой траве прозрачное колечко. Долго кружились, перебирали травинки, и отойти боимся, то место боимся не найти. Ты нашла кольцо. Мы думали, никого рядом, а в кустах стоял перевозчик. Он даже не прятался, просто мы его не видели, а он стоял и смотрел на нас. Когда ты нашла кольцо, мы стали одеваться, а он вдруг запел эту странную песню " О бэ, бэлла синьора", так запомнилось. По тем временам, дерзость неслыханная и язык неслыханный. Мы долго ждали, когда лодочник сменится. И нас чуть не покусали собаки, которых успели отвязать к ночи. Все-таки кусок моего платья остался в зубах «сторожей».
Асфальт Эванстона 2* мало чем похож на траву, в которой мы искали голубое кольцо, а веселый человек с косичками и банкой из-под пива – на того перевозчика... Да и мы вряд ли похожи на тех Наяд... Ритм навел.
Я всегда помню, что ты написала много лет спустя об этом времени: "Мы еще не знали, что нас ждет в жизни".
Мы и не могли знать. Но в одном были уверены: всё будет хорошо.
* * *
– Всё будет хорошо. Вот увидишь.
( Интересно, на что я рассчитываю, когда произношу эти слова? )
– Нет, не всё. Я же знаю.
Сергей Образцов был прав: сказки должны быть не только добрыми, но и счастливыми. Но это не сказка. Это для взрослых. И Настасья знает эту историю: "Джульетте ведь только четырнадцать?". ( Она смотрит на это, как на историю почти ровесников. Подростков. А ведь так и есть). Ладно, Настя, не печалься. Я сейчас сделаю что-то, чтобы ты не печалилась раньше времени, я расскажу тебе, что это – театр. Балет. Здесь всё побутке ( она сама придумала это слово, вывела: "как-будто... по-какбудке ... побутке"). Очень красивая и очень старая история, придуманная людьми. Зачем? Не знаю. Людям обязательно нужны красивые и грустные истории. На самом деле, а не побутке, всё было иначе: Джульетта жила долго и у нее было восемь детей. Почему их не показали в балете? О, это было бы ужасно некрасиво. Их много, некоторые из детей простужены и у них насморк. Представляешь, что было бы на сцене, если бы они начали чихать? Это был бы другой балет и совсем не похожий на этот, и вообще в балете на сцене все молчат, только музыка слышна. Оркестр играет. И иногда кто-нибудь кашляет или всхлипывает в зале. Но это иногда.
Настя улыбается почти сквозь слезы, но она рада возможности поверить в другой исход сюжета. Растопырила пальцы и показывает восемь из них: столько, сколько детей, которых нет в балете. А потом пишет что-то на клочке бумаги. А потом все-таки досматривает историю Ромео и Джульетты. А клочок бумаги – вот он:
В русском звучании это примерно так:
Любовь великолепна,
Любовь добра,
Любовь – это всё для меня,
Любовь – это хорошо.
Любовь прекрасна всякий раз.
(Школа Монтессори предполагает свободу творческих изъявлений детей: был февраль и, возможно, их настраивали на предстоящий День Святого Валентина.)
* * *
А мы понятия не имели, кто такой этот Валентин. Да еще Святой. В этом слове было противоречие всему, что нас окружало. Какие еще святые...
Но даже у подростков есть объем памяти и где-то в глубине ее тихим маятником покачивалось: " Сего-о-дня Ва-лен-ти-и-нов день...". Откуда это? Ах, да. Она же ненормальная, эта бедняга Офелия. Потому и песня странная.
Пóлноте! Всё брало свое. А лирический святой, вернее, его имя, так ли это важно? Всё равно, деяния его – повсюду.
Как все подростки на свете, мы были заняты жизненно важным делом: обнаружением самих себя. И нашим индикатором была музыка. Повезло, были мы счастливыми людьми (подростки – те же люди, только лучше), льнули друг к другу, не зная ни скуки, ни одиночества. Занимались делом.
Удивительно. Выражение одиночества в глазах детей чаще встречалось позднее, когда времена, казалось бы, стали милосерднее, детей относительно одели-обули, накормили-напоили. А из глаз всё равно струилась тоска.
Но не об этом речь. Речь о Святом Валентине, которого мы не знали.
Знать не знали, но чувствовали. И появились в нашей школьной практике новые имена – варианты сдвоенных. Память держит их цепко как знаки первых узнаваний мироустройства. Многие из имен так и не разъединились.
Помню, как на большой перемене два человека ели одно яблоко: почти библейская сцена. Когда откусили последний кусок – поцеловались. И всё. И по сей день. Из рая их, кажется, никто не изгонял, но жизнь, как жизнь... всяко было.
Ну, конечно, не обязательно только так, слишком уж хорошо.
– Как дела?
– Спасибо. Инфракрасно.
Ироничный он человек, Алик. И поразительно похож на Паганини. Природа уладила свои дела с ним, дав ему в руки скрипку и научив извлекать из нее всё, что ему нужно: звук, чистоты удивительной. Смотреть на него как-то неловко, вроде не смотришь, а подсматриваешь: лицо его меняется ежеминутно, как освещение на воде. Как будто с ним всё время что-то происходит.
От школьного времени оставалось ему жить несколько лет, но ни он, ни кто другой этого знать не мог.
И шутил Алик, ироничный Алик, ни на кого ни в чем не похожий Алик, не подозревая, что где-то за пределами его жизни ест-пьет-дышит человек, который однажды в животной ярости, в пьяни и ненависти ко всему, что есть Алик, ударит его бутылкой по голове, и оставит Алик после себя молодую вдову с детьми.
А пока – жизнь идет своим ходом.
Досталось и мне.
Пришлось мне как-то играть "Токкату" Хачатуряна, музыку не самую тихую на свете, и с такими пряными гармониями, что как тут не поговорить.
Уж как распотешился один мой однокашник: и "стуката", и "толката", и что он только не придумывал... Только об одном не думал, не гадал, что через какое-то время наша с ним дочка Маша будет крепко спать сном младенца под аккомпанемент Концерта Хачатуряна в его же исполнении, музыки еще менее тихой и с гармониями еще более терпкими и неожиданными. И что будет он этот концерт учить так, словно хочет навсегда покончить с тишиной этой комнаты; а Машка будет спать безмятежно...
...Так же, как через несколько десятилетий годовалая Настя будет спать рядом с орудием, салютующим в честь Дня Независимости Соединенных Штатов; залпы будут разноситься над Эванстоном и греметь над самым ухом ( да здравствует американская артиллерия); цветы фейерверка будут распускаться на темном небе, и зеркало озера Мичиган отразит их блеск; бабушка будет хлопать крыльями, оберегая сон ребенка, а мама с папой будут сохранять беспечность, давно забытую бабушкой на большой перемене.
А Настя и ухом не поведет.
* * *
А в сознании бабушки – то есть, в моем – все салюты производны от того, победного... От того дня...
... когда на улице растянуты многометровые столы – вмиг и вроде сами собой;
…и каждый прохожий становится устроителем и участником этого пиршества;
…и ресторан на первом этаже гостиницы "Киев" враз опустел: стулья, столы, снедь – всё на улицу;
…и нет чужих лиц, все смеются и плачут, и каждого, кто в военной форме, обнимают, подбрасывают высоко-высоко, кажется, под самые верхушки деревьев; и слышно, кто-то сквозь смех взмолился: "... В войну уцелел, сейчас пощадите…";
...и люди, ошалевшие от счастья и уличных пиршеств, бредут куда-то без цели и без назначения, просто, чтобы быть вместе со всеми, чтобы не покидать улицы и праздник...
Помню, как очутились на Андреевском спуске. Видим, снизу, с Подола, по крутой, извилистой улице поднимается лавина женщин. Впереди всех, как сухая ветка, старуха. Она прищелкивает пальцами, пританцовывает на ходу и выводит своим скрипучим голосом какую-то причудливую мелодию: то ли песню, то ли причитание – не разберешь. И те женщины, что в толпе, повторяют эту мелодию, каждая на свой лад. И получается хор, не хор, а такое разноголосье, от которого становится невесело: не то оплакивают, не то радуются. А может, в такой день так и надо...
И еще помню, что на некоторых окнах оставались крест-накрест наклеенные бумажные полосы. Кое-где так давно наклеены, что куски бумаги успели отсохнуть и повиснуть, и это так не подходит к праздничному городу и так некстати напоминает о том, что было и чего уже не будет как раз потому, что сегодняшний день – День Победы. И помню, что спросила у какого-то дяденьки, что шел рядом, спросила об этих заклеенных окнах. А он только пожал плечами и обычным таким голосом говорит: "Не знаю. Наверное, снять некому. Никого в живых не осталось". Сказал тихо и обыкновенно, будто говорит, что дождь накрапывает. Я этот голос запомнила надолго. Страшнее бомбежки.
А дождь и вправду накрапывал, и мы пошли домой и решили, что салют будем смотреть из окна. А до того, как раздались залпы салюта, над городом поплыл звон колоколов, будто колокола возвещают мир, и Лукерья, бывшая моя няня, которая давно уже не няня, сказала, как всегда, заслышав этот звук: "Дзвонять вдячно Богу молитися", – и я повторила за ней, как тогда, когда она меня на руках держала: "...бомболыця..." ( так мне слышалось ее "Богу молитися"). Это был благодарственный молебен в честь Победы.
А во время салюта я уснула. Положила голову на руки, руки – на подоконник, и после первого же залпа отключилась.
Как Настя.
Куранта
Мне постоянно встречаются знакомые лица. Давно знакомые. Словно в этом полушарии живут отпечатки лиц "того", другого полушария. Иногда просто до смешного.
Живет рядом со мной Кобзон. Ну Кобзон, и Кобзон. Только коричнево-фиолетовых оттенков. И без возраста. Вечный Кобзон. Во всяком случае, Кобзон надолго. Или, например, в американском штате Флорида есть город Санкт-Петербург. А в этом флоридском Санкт-Петербурге – музей Сальвадора Дали. И получается: на американский штат приходятся две картинки – русского города и испанского художника. Чего в реальности никогда не было: не встречались, не пересекались, не совмещались.
Я давно пыталась представить себе того, кто живет этажом выше, прямо над моей головой. Кто это регулярно, с завидным упорством подбирает?, играет?, импровизирует?, музицирует? Я не знаю, как это называется, но слышу, что этот «некто» нажимает на педаль в начале процесса и снимает в конце. И всё вокруг утопает в дребезжании беззащитных струн, как в угаре. Я бы подумала, что это психическая атака или восточная пытка. Подумала бы... если бы этим "некто" не оказалась милая женщина, похожая...через минуту я узнаю, что русское население дома называет ее Мальвиной. Точно. Мальвина. Через много лет после знакомства с Буратино.
– Понимаете, – говорит Мальвина, – у меня была учительница, так она всегда говорила, что педаль надо использовать экономно. Вот я и экономлю: раз нажала и больше не нажимаю. И только раз отпускаю, в самом конце. А вы откуда знаете?
А напротив – маленькая женщина, похожая... ну, не знаю, на кого. На всех несчастных, наверное. Полушария здесь ни при чем. Соседка Арлен, так ее зовут, кричит по ночам в коридоре, кричит что-то непонятное, к тому же, по-английски. В спокойную минуту приносит альбом со множеством фотографий. Что ни фото – то красавица. Это, говорит, моя мама. Она была солисткой Чикагской оперы. Первая Чио Сан.
Я сначала думала: ну, больной человек, бредит... А потом смотрю, фамилия та же, что у Арлен, и подписи в альбоме не кустарные, и вырезка из газеты с одним из портретов – рецензия на спектакль, и дата. Но главное – сходство с Арлен, если присмотреться, поразительное. Словно природа в дочери создала трагический шарж на материнскую красоту.
Но что-то не слышно стало ее в коридоре. Видно, увезли Арлен в больницу и стало тихо. Не тихо, а глухо. И только под потолком что-то гудит. Наверное – вентиляция, и ни звука более.
Но есть выход: можно открыть окно. Летом в доме напротив тоже открывают окна. Там университетское общежитие: крики, музыка, скандалы. И до утра слышно, что жизнь на Земле не прекратилась.
А можно просто пойти куда-нибудь, например, в кафе. Если позволит погода и время суток. Зайти и съесть мороженое.
Захожу я однажды – и глазам не верю. Сидит за столиком моя давняя соседка, известная всему дому своей суровой биографией: прошла всю войну в спецчастях, была то ли радисткой, то ли телефонисткой, владела всеми видами отечественного оружия, включая ненормативную лексику. Ораторское свое искусство проявляла часто и особенно охотно тогда, когда "эта мерзавка почтальонша Лизка долго пенсию не несет". Выходила Клара на лестничную клетку в бумазейной кофте, а на шее веревочка с ключом, который казался свистком, и негнущимся голосом что-то говорила о беспорядках вообще, на почте – в частности... В руках – палка-клюка... Я не знаю, улыбалась ли она когда-нибудь. Соседи-старожилы говорили (Клара, извините, что беспокою Вашу память), что у нее был муж, которого она пристрелила. За сексуальные притязания.
Эта же – двойник её, округлая, с двойным подбородком. И перманентом с "другой картинки". А блузка, блузка! Сине-зеленая с блестками! Та Клара о такой и не мечтала. А если мечтала, то втайне, в конце войны, в Берлине. Но за ней – комсомол и спецчасть. А впереди – контузия. Так и не сменила она свою серо-защитную оболочку на одежду более веселых тонов. Пусть за нее это делает ("Как ваше имя? Клара? Очень приятно!") – эта Клара, что сидит сейчас передо мной в кафе за столиком. Ну как не поверить в переселение душ? (С полушария на полушарие).
Сажусь с двойником Клары, все-таки знакомое лицо, и почувствовала: за мной вроде захлопнулось что-то. Попалась. А Клара, видно, только и ждала собеседника, хотя через минуту станет ясно, что собеседник ей не нужен: она мастер монолога. Пытаюсь подняться, не тут-то было – она хватает за руки и силой усаживает на место.
Она хочет говорить.
Она хочет говорить много и громко. О ком-то, кого я не знаю и врядли когда-нибудь узнаю. Но это не имеет никакого значения. Кругом люди? Ну и что? Они же американцы и ни черта не понимают.
Американцы понимать, может, и не понимают, повернули головы и смотрят с любопытством. И понимать не надо. Такое соло не часто услышишь. Передать в точности то, что говорит Клара, невозможно. Без специфических вставных слов и целых предложений ее речь теряет персональные признаки. И все-таки:
" ... она, понимаешь, мне говорит, я, понимаешь, бывший ботаник, мне лучше знать. А я никакой не ботаник, но своей головой, понимаешь, понимаю, что бывший директор или там министр – это да. Сняли с работы, и стал сразу бывшим. Я так могу сказать, что я бывшая красавица, или еще что-нибудь бывшее... А она такая, как столб, я от нее отличаюсь в меньшую сторону, но в лучшую. Мы счета заполняли, так она этой чертовой машинкой всю дорогу щелкала. А я в своей голове раз-раз и говорю: сто семьдесят девять девяносто восемь. А она, понимаешь, говорит, тебе хорошо, ты в рыбном работала, фосфор есть, говорит, и полушария твои хорошо... это... куда надо сигналы посылают...",– Клара повертела пальцем над головой, словно завязала узел в перманентных кудряшках в знак согласия полушарий, – "а я как про сигналы услышала, так сразу вспомнила, как двадцать четыре года в рыбном простояла... там, понимаешь, всякий, кому не лень, сигналами грозил. Ну, я ей адрес дала, куда идти... Иди, говорю...", – (верно, и вправду, все американцы кругом, ни один не вздрогнул).
Хранит меня случай. Поднялась Клара за новой порцией мороженого...
Ригодон
Хранит меня случай. Его Величество Случай (не сглазить бы).
Попала я как-то в совершенно не знакомый район – за чем-то нелегкая понесла. Копалась-копалась, спохватилась – уже темнеет. Стала ждать автобуса – нету. Остановка – на огромной площади. Силуэты домов вырисовываются на предвечернем небе, как незнакомые знаки. Ветер поднялся нещадный, резко похолодало. И темнеет с каждой минутой. И никого рядом. Спросить не у кого. Единичные прохожие только плечами пожимают и – скорее, скорее... Почувствовала себя, словно в степи, где на несколько километров – никого вокруг. Жутко стало, но продолжаю стоять. А что делать, куда идти? К тому же, а вдруг? Вдруг какая-нибудь машина? Или любое другое "вдруг"? Выбора нет, стою и жду. Пешком до дома и за сутки не дойти... И вдруг. Что-то вдали замаячило, что-то повыше ростом легковых машин. Автобус. Без огней. Автобус-шатун. Я сама себя ощутила человеком-шатуном.
Какими знаками-сигналами его остановила – не помню. Если бы мне сказали, что легла поперек дороги – не удивилась бы. Остановился. Впустил внутрь. Водитель, темноволосый худощавый веселый парень, удивился: дескать, Мэм, мы по субботам до пяти, а сейчас – и он показал на часы – пятнадцать после семи, куда едете? Я сказала. И вдруг – густой поток русских слов. Отборных. Водопад. Я замерла. А затем ему в ответ тоненькой струйкой, печально так, нараспев: "Я ли в поле да не травушкой...".
Довез до самого дома. До сих пор помню ощущение счастья спасения. Наверное, так чувствуют себя люди, подобранные в открытом море.
Вообще-то, если море человеческое, – жди помощи. Придет.
Надо ли объяснять ощущения человека, вчера прибывшего с другого полушария (еще не отдышался после пересечения океана) и попавшего в чужеязычную толпу и, к тому же, потерявшегося в ней? А если теряешься в чужом месте, то кажется, что теряешься навсегда. Не крикнешь – куда? Не спросишь – безъязычье клятое. И поводырь мой, сын, подевался куда-то на край чего-то, не знаю, чего. Вчера он был на другом от меня конце Земли. А сегодня – на другом краю огромного магазина. Не магазин – ангар. Книги, брошюры, плакаты, игрушки какие-то... Пестрота и тьма народа. Стою столбиком и жду, когда эта лавина меня куда-нибудь выплеснет.
И вдруг... снова это спасительное вдруг... высоко под потолком зазвучала музыка. Я ее знаю. И сын знает. И дочь. И стены дома. И соседи знают.
Будто кто-то заговорил со мной на родном языке. Теперь я знаю, что надо делать: пробираться поближе к источнику звука. И шея моя, голова, глаза, уши тоже знают, что надо делать: тянуться, тянуться поверх голов, чтобы увидеть, как издалека, из другого конца этого пространства, маячит макушка сына, который пробирается через толпу. Тоже, наверное, поближе к источнику звука.
Вроде нас позвали, и мы услышали. И пошли. И нашлись.
Вот так: само и, вроде бы, случайно...
...как тогда, когда шла я по улице, где никого не знала и думала ( чтобы еще больше пожалеть себя ) : вот иду я по улице, где никого не знаю, ни одна собака ко мне не подойдет, бутерброд не попросит, в глаза не заглянет... И в это время слышу: кто-то окликает меня по имени. Ну, думаю, приехали. Однако, оглядываюсь. Вижу, дальний мой знакомый, я до этого его раз или два видела, стоит, рукой машет: привет – привет. Привет, говорю. Так обрадовалась ему, дай ему бог здоровья, настроение сразу стало "спасибохорошо".
Иду дальше, шагаю твердо. Куда иду – не знаю. Какая разница. И слышу: труба. Ищу, где же она. Оказывается – во дворе заброшенного дома.
Стоит человек, вокруг него пустота и одичалость, видно-слышно: в доме давно никого нет, во дворе какие-то обломки, ящики, ржавые посудины... Что-то прокатилось здесь, оставив за собой разруху и запустение... И посреди этого всего стоит человек и играет на трубе.
Иду дальше, а за мной этот звук несется. Никого кругом, а звук во всеобщем безлюдье всё выше и выше, где-то высоко надо мной пронесся и затих вдали...
...не затих, оказывается, а перекочевал через весь город, поближе к студентам, к живому месиву людей и общежитий. Я дала этой звуковой сумятице влиться через окно и услышала отчетливый голос трубы. "Уленшпигель". Успокоил: жив курилка.
А напротив моего окна башня с часами. Циферблат в них всякую ночь меняет цвета: то бледно-молочный, в тон луны, то сине-голубой, под цвет неба, то желто-оранжевый. Всё это мне что-то напоминает.
Киевские часы...
Подымешь голову, взглянешь через балкон, будто кто-то домашним голосом говорит, который теперь час. Не знаю, сколько времени существуют те часы, быть может, столько же, сколько само здание с треугольной крышей, словно башней, в которую встроен циферблат. И здание, и крыша, и часы – уже часть нашей жизни, домашняя атрибутика, "вид из окна" в самом прямом смысле.
Но это и часть фасада гигантского здания. Возраста – дореволюционного, назначения – всякого. Бессарабка – это место, а функций – множество.
Вместимость здания намного больше, чем можно себе представить. Снаружи, с улицы – множество магазинов, каких-то контор с примелькавшимися вывесками УК-, КООП-, ХОЗ-, немало дверей без опознавательных знаков и дверей цвета стены здания, не сразу и увидишь, и каких-то витрин, непонятно от какого заведения. А внутри, в центре, – самое главное: рынок, как арена в цирке. Первый в Киеве крытый рынок. И днем здесь светло, как на улице. Крыша – купол из стекла. И множество оконцев на втором этаже по кругу. Истинно, театр-арена.
Здесь и гостиница "Колхозник".
... И камеры хранения.
... И холодильники.
... И ветеринарная служба.
... И служба по проверке радиации в продуктах.
И чего только там нет.
Долгое время на втором этаже – вход при центральных воротах справа, где едва заметная железная винтовая лестница, – жила наша знакомая. Наблюдала жизнь колхозников. Окно ее комнаты выходило прямо в рынок. А на столе, вместо цветов, стоял букетик из петрушки и укропа, подстать экстерьеру. А вдоль стен – холсты, почему-то одного размера. А на них крупно – лица, холсты небольшие, а лица – крупные. Это колхозники, думала я, она же – художница и изучает их жизнь. Потом знакомая переехала в нормальный дом, а на двери ее комнаты появилась табличка "Колхозная птица". Здесь куры, утки и индейки дожидались открытия рынка. Гам стоял неимоверный.
Но было в этом здании еще потайное место, к которому я прикоснулась совершенно случайно. По простому житейскому поводу.
Дали мне однажды телефон сапожного мастера, который, говорят, виртуозно чинит обувь. Не просто чинит, а делает с ней что-то невероятное, превращает ее чуть ли не в новую обувку. И очень дешево. Это, говорят, его хобби ( слово какое-то, по тем временам, интригующе заграничное, но при этом дозволенное, часто употребляемое в разных контекстах). Бегу к сапожнику, как на свидание. Буду, говорит он, ждать на Бессарабке у входа в магазин. "Кооператор" знаете? Встретились. «Меня зовут Часнык»,– говорит он. До сих пор не знаю, что это – имя, фамилия или прозвище? Часнык – это чеснок по-украински. Он так себя представил. Сам худой, длинный и плоский. Думаю, не Часнык, а зубочек часныка.
Нырнули мы за какую-то дверь, а затем в подвал, а там – крошечное душное помещение, я невольно ищу обратный ход, а он сладострастно так впивается в мешок со старой обувью, не просто старой, – до зубов изношенной. Ладно, говорит, придете через неделю.
Вынырнула оттуда, боже, думаю, где я была? В жизни бы не подумала, что у этого здания, символа сытых бесед и благополучия, есть такие душные потайные закоулки.
Наивная, я еще ничего не знаю. Приду через неделю, вот тогда узнаю.
Вообще, ходить на этот рынок только за покупками, все равно, что ходить в театр ради буфета. Поглядеть на это гигантское вместилище красот, на это разноцветье фруктов, овощей и цветов – вот что надо. И описывать это бесполезно – непременно банальность получится. Ну скажешь: "Лучший в Европе!", – в чем я лично не уверена, а что – в Париже хуже? Ну, "красивейший рынок в Киеве... иностранцы замирают в восхищении..."
Ну и пусть замирают. И не ходите по первым рядам. Здесь только пижоны ходят. Пойду дальше, вглубь. Там приятно поговорить, по виду сразу можно понять, какой товар из своего хозяйства, какой – из чужих рук. И опять же, по лицам видно всё. "Хозяйка, тож капуста, тож вино, а не капуста, пробуйте, хозяечка...", – вот так напишешь, как ничего не напишешь, и ничего не скажешь, эту капу-у-усточку только эта бабка и может так назвать. И ходят люди по рядам, пробуют всё подряд и тем довольны.
А картошка – там в конце, почти у противоположного входа, который почему-то всегда закрыт, там же и цветы, но не породистые гвоздики и лилии, а полевые, они даже здесь лугом пахнут. А мужики продают, уж который год их знаю, красно-бурую, узловатую синеглазку: ничего вкуснее её нет. И мы улыбаемся друг другу, старые, можно сказать, знакомые, картофельники. Всё как обычно: беру, расплачиваюсь. А продавец держит бумажку: «Нету,– говорит,– сдачи. Ну ничего, сочтемся на том свете, на балконе». И кладет купюру в карман. Вот те на! Откуда он знает, что у меня балкон?
Избаловала меня Бессарабка. Избаловала разговорами, тары-барами: "Пятьдесят? – А за сорок?". Бог с ними с копейками, но без игры неинтересно. И вдруг – раз! Занесла меня судьба в Новосибирск. А там – всё другое. И рынок – не рынок. Несколько худых морковочек-луковок и петрушка, как деталь новорожденного младенца. А я по молодости-глупости и по инерции от Бессарабки спрашиваю: а можно не столько-то, а столько-то? Бабка поглядела протяжно, и жалобно так: "Что ты, милая, бери так". Ужас. По сей день помню.
Прихожу я, как договорились, через неделю, всё в тот же душный подвал к своему новому знакомому, которого мысленно называю Один-Зубочек-Часныка, смотрю – их уже два. Это мой сменщик, – говорит, – Ноэл Амстердамский. Ну сдуреть можно: оба длинные, плоские, только один – брюнет, другой – блондин. И имена – нарочно не придумаешь. Мой Часнык говорит: если хотите, мол, подождите немного, я работу вашу заканчиваю. А ты, – говорит, – Нолик, развлеки даму, покажи ей наши владения. Ну какие, думаю, владения в этой душной каморке, разве что какая-нибудь еще скрытая дверь. И точно: открывает дверь в какую-то бесконечную путаницу-лабиринт, а там трубы, батареи, ниши, трансформаторы и еще, наверное, много чего, но главное – полумрак, духота и – страшно. Это, – говорит,– подземные коммуникации, почти через весь город. Может, я, – спрашивает Нолик у Часныка, – какой-нибудь секрет выдаю? Может, это тайна?
Какая тайна, – говорит Часнык, – кому надо, те знают. Хотите посмотреть? Не хочу. Страшновато, надобно признаться.
А Ноэл Амстердамский оказался наредкость разговорчивым. В Бородянке работал грузчиком (интересно, что он там грузил, при таком телосложении?), а сейчас вот будет... как это... мастер? Ну, да. Мастер. А дома жена и двое деток. Электричкой два часа – надо угол возле работы снять. Каждый день туда-назад накладно, лучше – угол. Мать медработник в поликлинике, сестра – в конторе, племянница сидит в тюрьме, так что, всё в порядке. Но, наверное, скоро выйдет, она беременная. Рожать будет, а потом опять, наверное, в тюрьму. Если нет, надо ей работу искать. Вы заходите, а то, знаете, дни длинные на дежурстве. Вот освоюсь – покажу коммуникации.
А Часнык и вправду – художник по обутке. Из старых башмаков сделал что-то немыслимое, королевское прямо-таки. Настоящий мастер. Ноэл радуется: нас теперь двое. Я – Амстердамский, а он – Мастер Дамский. Часныку это, кажется, не нравится. Ну какой я "Мастер Дамский"?. Часнык я.
Ладно, мужики, пока. А то уже темнеет.
Сколько времени ушло на это путешествие, думаю я, глядя на часы со своего балкона? Час? Два? Или полжизни?
Паванна
– Пора ехать на концерт, а ты все возишься, капризничаешь...
Уж не знаю чего не хватает моей Настасье.
Едем мы с друзьями в парк. Не парк, а известное всей чикагской округе райское место. Одна только мысль о поездке вселяет радость.
Разгар лета. На небе ни облачка, ни малейшего признака угрозы сегодняшнему вечеру. Ожидаем встречи с человеком, имя которого звучит как имя родственника для каждого, кто приехал из России. Родственника по линии Конкурса имени Чайковского и по "Подмосковным вечерам" (Господи, неужели снова?).
Хочется увидеть, как выглядит наш американский старый друг. (Надо сказать, выглядит он превосходно: пружинистая походка, знакомая посадка головы. Вот шагнет он на сцену, и захочется воскликнуть: "Здравствуй, юность!").
И наша группа являет картину далеко не самую плохую. Вид у нас если не преуспевающих американцев, то, во всяком случае, вполне умиротворенной части населения планеты.
Живи – радуйся.
Так нет же. Настасье всё еще чего-то надо. Что мнé надо – знаю. Знаю и молчу. А тебе чего, Настя? Очки!? Какие очки? Темные? Зачем? Чтобы хуже видеть?
Настасья – психолог. Она знает, что если я пошевелюсь, то только для того, чтобы промакнуть лоб: жара и стыд. Расчет не на меня: "Я не тебе плáчу". Расчет на друзей. С их помощью можно добыть всё что угодно. Если не очки (всё равно о них все забыли, да и зачем они), то просто внимание, чтобы не забыли о присутствии. И не утешайте – бесполезно... И тогда повисает фраза:
– Настя, думай о хорошем...
Это звучит как пароль. "А я о нем и думаю", – отвечает память.
Миг – и никакого рая, никакой машины, никаких лауреатов.
Сурен Шахбазян, мутная неотмываемая бутылка в руках и вопрос, заданный тоном, не допускающим легкомыслия, деловой вопрос о жизненно важном предмете:
– Ты не знаешь, где можно на Крещатике купить подсолнечное масло?
– Знаю. Нигде. Нет подсолнечного масла.
– А что же делать?
– Ничего. Не думать о нем. Думать о хорошем.
– А я о нем и думаю. О подсолнечном масле.
Через минуту мы у меня дома: есть надежда отыскать бутылку масла. Но Сурен уже забыл, зачем пришел: он увидел швейную машину. И – мгновенно к ней. Как магнитом. И стрелки, вздрогнув, перескочили на следующий пункт его интереса: Сурен осматривает, ощупывает, чуть не обнюхивает машину, но она, увы, ручная.
– Ты не знаешь, где можно раздобыть старую швейную машину "Зингер"? Но непременно ножную.
Я не знаю, существует ли в природе та камера, которую Сурен совершенствовал долгие годы, применяя для этого привод от ножной швейной машины? И если существует, связано ли ее название с именем Шахбазяна? Как, например, название камеры "Конвас", что состоит из первых слогов фамилий ее изобретателей. Сегодня никого не интересует "Конвас" – это уже архаика – речь лишь о традиции.
Вот для чего Сурену "Зингер". И подсолнечное масло.
– Ты представляешь, – скажет он вскоре, когда наступят тяжелые времена, – ты представляешь их лица, – он подчеркивает это самое "их", – когда в доме не найдут ничего, кроме нескольких выпотрошенных швейных машин "Зингер", баночки с "Вегетой" на кухне, и даже подсолнечного масла не найдут. "Они" будут очень озадачены. Потрошитель швейных машин, скажут, – а потом, словно стряхнул с себя игривый тон, – не скажут, не скажут. Не надо упрощать, они не дураки и прекрасно всё знают. Будут искать улики. Какие? Кино, конечно. Спрячь это, и подальше.
Сурен держит банки с кинопленкой. Это "Саят Нова" ("Цвет граната"). Теперь, через десятилетия, это признанный мировой шедевр, получивший множество международных премий. За операторскую работу – особо. А тогда – улика. Фильм опального режиссера, зэка Параджанова. И оператора Шахбазяна, не зэка, но не слишком лояльного.
– Спрячь, – говорит Сурен, – это первый вариант фильма, не принятый Госкино, его даже в Белых Столбах, в "Госфильмофонде", нет. Там, кажется, только прокатная копия.
Так и пролежал фильм на антресолях все четыре года, пока Параджанов был в зоне. Сурен забрал коробки, когда Сергей вышел на волю.
Сергей говорил: "У Сурена библейское лицо".
Однажды мы увидели его иным. Впрочем, может быть, и у "библейского лица" бывает выражение растерянности.
Он переступил порог и уронил какие-то бумаги, что нес с собой. Пока поднимал бумаги, снял и уронил пальто, потом что-то со стола... Сурен – не Сурен.
– Сбежал, – говорит, – со студийного собрания. Не выдержал... Страх и стыд... Собрались, чтобы обсудить ? ... осудить?.. отречься?.. предать анафеме?.. Параджанова. Самые близкие отреклись первыми. Сдали. Вынесли на блюде. Эти, – Сурен ткнул пальцем вверх, – боссы, даже они не ожидали. Пришли убеждать, а тут всё без них пошло-покатилось. Они были удивлены и даже смущены. А один, самый близкий, предложил убрать Сергея из титров, чтобы сохранить список. Свою фамилию, конечно, в первую очередь. Я не смог больше быть там.
Трое суток ходил Сурен со Светланой Параджановой по Киеву, от отделения к отделению, от ведомства к ведомству. Искали "исчезнувшего" Сергея. Никто, конечно, "ничего не знал". Один Сурен, кажется, догадывался. И молчал. Не оставлять же Светлану одну.
– Тебе не приходило в голову, что каждое дерево, – движением головы Сурен показал вниз, – кто-то оттуда?
Мы на старом Киевском кладбище: среди деревьев, кронами под самое небо.
– Где-то здесь, на этом участке, твой отец?
Через столько лет узнал место.
– Хорошо, что вместо каменной глыбы посадила дерево у изголовья.
– Я не садила. Само выросло.
– Здесь деревья сами знают, где им расти.
Снова встретились на Крещатике. ("Крещатик уже привык...").
– Ты не слышала московскую сводку погоды на ближайшие дни?
– Не слышала... Мне всё равно, мне в Москву не надо...
– А мне надо. И не знаю, в чем ехать: брать с собой плащ или не брать. Собирается вгиковский выпуск, наш курс. Все братья-операторы с других, нормальных студий, люди как люди. У всех звания: кто заслуженный, кто народный, кто лауреат... Профессора-доценты. Один я без роду, без племени. Нет меня на студии. К тому же, не знаю, в чем ехать...
В тот раз Сурен поехал не в Москву, а в зону, навестить Сергея.
...И, может быть, Сергей снова подумал: у Сурена библейское лицо.
А вообще, память о Сурене Шахбазяне не ассоциируется со словами: он немногословен. И действия его нехлопотливы. И нрава он был не очень веселого. Не потому что грустен, а потому что сосредоточен. Ему некогда. Жил нешумно и по делу. Занимался камерой и снимал кино.
Прошу вас, посмотрите "Цвет граната".
Снова всплывает образ Сергея Параджанова.
Странно, но по прошествии лет в моем сознании он больше ассоциируется с тишиной, чем с тем, о чем охотно "воспоминали". Что-то происходит с образом памяти, она взрослеет. Наверняка, не потому, что все фейерверки во славу Параджанова отгремели: не будет им конца. Но жила в Сергее тишина, словно глубоко спрятанная им. А может, оберегал он ее, окружая себя частоколом шума, театром своей жизни.
И все-таки совпали они с Суреном Шахбазяном, человеком-не-фейерверком, в главном: эстетике, таланте. Служении. Совпали в создании "Цвета граната" – лучшем, что сделал каждый из них.
– У отношений есть посмертия, – говорит Сергей, – они оказываются важнее самих отношений. Конечно, когда люди молоды, влюблены, внутренности истерзаны любовью и трагедиями – это одно. Это необходимо, это кровообращение жизни. А потом всё другое. И это важно. Это важнее.
Сергей занят делом. Он обкалывает свою фотографию – огромную, метровую – кнопками. Обычными канцелярскими кнопками. И вешает фотографию на дверь Светланиной комнаты. ( Попробуйте не заметить! ) И получается совсем другой портрет: кнопочные пуговицы стали форменными, а блестящие полосы на плечах – погонами, а вокруг головы – нимб из кнопок. Сергей после зоны.
Он один в Светланиной квартире. Как оказался один – невероятно. Впервые за долгое время вижу его одного в доме, и это оказалось непросто: вижу старого, больного человека. Вокруг него тишина, и что с ней делать неизвестно. Нарушать страшно. Разделить невозможно. Тишина – персональная собственность.
– Ты можешь сварить мне кашу?
Вот спасибо. Выручил.
– И непременно посмотри "'Травиату" Дзеферелли.
Это его любимая опера.
Честно говоря, слышала его громкое недовольство не так уж часто.
Принес он однажды две красные целлулоидные рыбы: " Это Машáчке" ( Маша до сих пор помнит бородатое лицо и это слово "Машачка"), а потом вдруг достает две остроконечные лампочки и говорит, что рыбы должны служить колпачками для ночных светильников. Очень красиво. Когда встаю к ребенку ночью, должна включать именно эти светильники.
Что было дальше – ясно. Слава богу, живы остались, не угорели. Но когда Сергей узнал, что красота эта "поплыла" и мы ночью открывали окно настежь, чтобы не задохнуться, – кричал.
А "Машачка" он произносил нежно и тихо. В это время он ждал появления сына.
В телеграмме, которая застала меня в другом городе, было два слова: "Сын Сурен".
И помнится такое... Много лет спустя после истории с рыбами.
Машачка (Машенька-Мария) была уже взрослой девицей, а сыну Лене – лет 8-9.
Приходит однажды Сергей.
– Одолжи, – говорит, – сына. И не делай страшное лицо.
А сам стоит, глаза выпучил, наверное, хочет показать, какое у меня в этот момент выражение лица.
– Ничего страшного. У одного замечательного человека сегодня день рождения. Этот человек – дрессировщик. Знаменитый. Дрессирует тигров. И львов. Леня будет поздравлять его во время представления на манеже. О-то-мри. И очнись. Тигров в этот момент на манеже не будет.
– Леня, хочешь пойти в цирк, посмотреть на львов и тигров?
Сына долго не было. Я металась, как зверь в клетке, и не знала, куда звонить. Тигры трубку не брали. Наконец появляются ( не тигры, а Сергей с Ленькой). У сына физиономия и сорочка вымазаны шоколадом. А Сергей – с порога:
– Бэз-дарность. (Большего оскорбления не бывает). Не могла надеть на него нормальную рубашку, чтобы из штанов не высовывалась. Когда он преодолевал барьер, рубашка вылезла из штанов. А в руках... Ну, ты же знаешь, букеты и всякие дары для именинника. («Бедный мой ребенок, – думаю, – иди знай...»).
– Ну и что? – не выдерживаю я. – Кто мог знать, что ему придется делать стойку на голове и вертеться на пузе?
Но Сергей уже не слышит. Он смотрит в сторону и думает о другом. А я смотрю на него с надеждой на то, что получилось не так уж страшно, но чуть-чуть не так, как задумано было в сценарии... А «бэз-дарность» – это я. Рубашка, сама ситуация, повернувшаяся вдруг не туда... Что делать... Мы уже привыкли.
– А парень у тебя замечательный.
– Для этого, – говорю, – не обязательно было ходить к тиграм.
Проходит пара дней и Сергей приходит. С рубашкой.
– Купил, – говорит,– за углом в универмаге. Очень красивая рубашка. В полоску. Профсоюзная. (Почему «профсоюзная», никто не знает. Все, что несамодельное, он называл «профсоюзным»).
Смотрю, размеров на пять больше. Сергей негодует:
– Ну и что? Почему вы все с этими размерами носитесь? Вон фиолетовые замшевые туфли, красота такая, не носишь. Подумаешь, на пару размеров меньше... Какое это имеет значение.
Все закончилось тем, что рубашка перекочевала к Сурену. Оказалась ему как раз впору. Сурену было четырнадцать.
Какой милой суетой кажется все это по сравнению с тем, что грядет. Вскоре Сергея арестовали. Не хочется снова возвращаться к тому времени: уже все описано и рассказано.
Но все больше кажется, что мы до сих пор не представляли себе, что пережил Сергей. Даже письма не дают точной картины. Такой, чтобы уявить себе, с чего начиналось каждое утро, что он видел, что чувствовал, о чем думал.
Как выжил? Наверное, только потому, что Художник.
У него была формула: «Быть выше». Расхожие слова перестают быть расхожими, когда наполняются смыслом жизни художника. Быть выше – ни капли высокомерия. Это точка, с которой он смотрит на себя и на окружающее. Боль, куда ее денешь, а озлобления он избежал. И остался художником.
Коллажи, присланные из зоны, облюбованы, обнародованы в разных изданиях, расшифрованы – каждый из них имеет жизненную подоплеку.
Но есть один коллаж-не коллаж, который я называю «Здравствуй».
...Увидел картинку в журнале (может быть, в «Огоньке»), что-то почудилось, что-то привиделось, что-то вспомнилось... Вырезал, приклеил красногрудых снегирей и приписал в письме, что это я в детстве.
Хотя он понятия не имел, какой я была в детстве.
Но какая разница?
Художнику виднее.
Три пьесы
Гавот I
Сами события жизни выстраиваются так, чтобы, думая о них, «думать о хорошем» (если хочешь так думать).
Выставка украинского авангарда в Чикаго – радость. Не только от созерцания работ, но и от самих имен художников. Вроде время снова доверило мне отцовскую записную книжку, а в ней – имена друзей, а за каждым именем – целый пласт событий, памятных на всю жизнь. Многих имен я бы не увидела в этой виртуальной книжке; зато некоторые вижу так ясно, как видела на дверной табличке, на которой было написано:
Вадим Георгиевич Меллер
Помню, как выбирал, как терпеливо дожидался Вадим Георгиевич жилья, окна которого выходили бы на крыши города. Часто говорил, что не любит нижние этажи. (Помню выражение: «Не хватает воздуха и горизонта»). В Париже тоже старался забраться повыше, желательно, в мансарду. Так я услышала слово «мансарда». В отцовском лексиконе его не было. Жаль. Красивое слово.
Но высоко. Трудно добираться.
Мы живем в гостинице.(Только-только из эвакуации. Ждем жилья). Мы – это мои родители и я между ними (как у всех детей – «ушки на макушке») и наши соседи по временному гостиничному жилью: с одной стороны Вадим Гоеоргиевич Меллер, с другой – импозантный, высокий, всегда нарядный с непременной трубкой в зубах кинорежиссер. Обычно он разговаривал, не вынимая трубки, и потому казалось, что говорит сквозь зубы. Я думала, что он никогда не расстается с ней. Даже ночью.
Режиссер очень любил рассказывать смешные истории, но Вадим Георгиевич редко смеялся, а только протягивал рассеянное свое «да-ааа...» и с силой проводил ладонью по волосам, будто усмиряя их.
Жена Вадима Георгиевича – художница Нина Генке. Говорили: художница-модернистка, но я не понимала, что это значит. Их дочку звали Бригитта, но Вадим Геогриевич называл ее Машенькой. И мне это так нравилось. Изысканное имя свел к ласковому, домашнему обращению: Машенька.
Вечерами все собирались в нашем номере. Отец и Вадим Георгиевич, как правило, рисовали, а режиссер все пытался всех рассмешить. Но со смехом что-то не получалось: кажется, один он и смеялся.
Однажды к режиссеру приехала белокурая худенькая девушка. Мама спросила: «Дочка?». А он сквозь зубы, не вынимая трубки, процедил: «Внучка». И больше не приходил. Но все-таки один момент общего присутствия запомнила.
В один из вечеров Вадим Георгиевич и отец рисуют, как обычно, сидя возле круглого стола – чуть от него поодаль: отец пользуется этюдником, Вадим Георгиевич – рисовальной доской. Рисуют маму: она сидит по другую сторону стола в кресле.
В гостинице плохо топят и мама накинула пальто (отцовский этюд сохранился). Я лежу больная, с обмотанным горлом (и такой рисунок есть). Заходит режиссер и, пробираясь мимо сидящих, задел ненароком Вадима Георгиевича. И, как всегда, сквозь зубы:
– Извините, милейший...
А Вадим Георгиевич спокойно так:
– Ничего, голубчик, я привык к вашим ногам, – будто предвкушая тон привычных шуток режиссера.
Отец мой не раз повторял: Вадим Георгиевич – блестящий театральный художник и прекрасный рисовальщик.
Был и есть, наверное, такой цеховой термин для тех, кто умеет рисовать.
– Неужели есть художники, которые не умеют рисовать? Зачем же они стали художниками?
Все рассмеялись.
Но время показало, что это не так уж смешно.
И вот десятилетия спустя вижу на выставке эскизы к «Турандот» и возвращаюсь мысленно к Вадиму Георгиевичу.
Описывать и оценивать работы – не мое дело. Мое дело – радоваться, что они есть, что художник уцелел и что мне посчастливилось знать его.
Многое из того, что запомнила, осознаю лишь теперь. И то, с каким достоинством вел себя Вадим Георгиевич в самое нелегкое – послевоенное время, и то, как терпелив был ко всяким бытовым неурядицам: и это после Мюнхена и Парижа...
Сейчас множество печатных и непечатных – интернетных – источников, только руку протяни. И ответы на все вопросы. Но я не хочу этого делать. Не потому, что не доверяю, а потому, что ничем не хочу заслонять тот образ, который сложился с ранних моих лет, начиная с холодных гостиничных вечеров (пишу о холоде лишь потому, что вижу пальто на маме в отцовском этюде. А в атмосфере вечеров холода не было, а было живое интересное общение художников).
Теперь, спустя десятилетия, все, даже самые незначительные эпизоды, приобретают новый смысл.
Встретились мы как-то с Вадимом Георгиевичем в неожиданном районе – это было возле Батыевой Горы (название для киевлян). Время неуютное: зима закончилась, весна не началась, деревья голые, в воздухе зябко. Увидела Вадима Георгиевича – обрадовалась. Он удивился: «Ты что здесь делаешь?» Пошли рядом. Через несколько шагов он вскинул голову и говорит, что в голых ветках больше трагизма, чем в траурной музыке, а поэзии, говорит он, больше, чем в любой элегии. И еще он сказал тогда о художнике Саврасове, о том, что Саврасов очень чуток к такому состоянию в природе. И еще, помнится, добавил: дело не в грачах, а в ожидании...
Ну, тут уже совсем непонятно: какие еще грачи? Потом отец показал работу Саврасова «Грачи прилетели» и сказал: «Не в грачах дело. А в состоянии».
И я вспомнила Вадима Георгиевича.
У меня за окном в осеннее и весеннее время – настоящий Саврасовский пейзаж. Да еще с тоненькими остроконечными шпилями на горизонте. Красиво, грустно и напоминает о чем-то очень знакомом. Невзирая на другое полушарие. Как видно, не в полушарии дело...
Вадим Георгиевич взял меня легонько под локоть, и так мы дошли до моего дома.
А через несколько лет я получила от него подарок ко дню рождения: огромный букет ландышей, чуть не целое ведро. Он еще и потрудился над ним: освободил букетики от завязок и листьев. И получилась такая нежно-перламутровая пена. Целая шапка ландышевой пены.
Авангард, авангард... Какая разница, каким словом обозначать человечность.
Трио
Благодатна детская памятливость. Что-то из повседневности, как семена из почвы, прорастает и превращается в символы. Картины памяти, как старые фотографии: не просто изображения – вехи.
Помню высокую, статную женщину, что часто приходила к нам. Ее звали Эстер Вевюрко. Она жила в известном в Киеве доме – Доме писателей. Я думала, что именно поэтому она так складно говорит (магическое слово “писатели”) и что поэтому ее так легко слушать. (Я же говорю: “у детей ушки на макушке”).
Запомнила: муж был писателем. Рано умер. Два сына, один из них – на фронте. Его звали Тоба. Запомнила необычное имя, потому что одажды Эстер пришла – не пришла, а ворвалась – с рыданиями, без конца повторяя это имя: получила похоронку.
И оставшись одна, Эстер стала рассказывать сказки. Ходила по школам, детдомам, клубам, домам пионеров – всюду, где были дети, – и рассказывала сказки. Приходя к нам, тоже рассказывала сказки.
Ее считали чудачкой. Но теперь понятно, что так она спасалась.
Длилось это несколько лет, а потом Эстер уехала с младшим сыном. Говорила, что нашелся кто-то из родственников в другом городе.
Довольно обычная по тем временам история, но вот ведь: запомнилась. Быть может, не столько сама история, склько то, что над ней: знак печали, достоинства и благородства.
И даже если это было не так или не совсем так – неважно. Время все отшлифовало до степени своей необходимости. Значит, так и было, так надо.
Гавот ІІ
Жизнь такая была: что-то понятно, а что-то совсем не понятно. И в то же время – интересно: возраст такой, возраст узнаваний.
Например, в бумажке, которую я обнаружила в своем школьном дневнике – дневники собирались в субботу, раздавались в понедельник – было понятно все: слово «характеристика», слова «успеваемость», «дисциплина», «посещаемость». Все понятно, кроме последней фразы, написанной почему-то от руки (остальное – на машинке): «Семья неблагонадежная». Я узнала почерк нашей классной руководительницы. Если бы не эта история, вряд ли запомнила бы ее имя-отчество: Полина Исидоровна.
– Полина Исидоровна, что такое «неблагонадежная семья»?
Коль отважилась бы рисовать, то изобразила бы четырехугольник на двух далеко друг от друга стоящих опорах-конечностях, а наверху – шар.
Платье – тоскливое поле с редкими бороздами-строчками. С одним единственным пятном – значком. То ли ГТО, то ли ПВО. Других примет память не удержала.
Но вообще-то я вредничаю. Вредничаю, как говорится, задним числом. Потому что уже знаю, что могла означать эта приписка, превратившая школьную характеристику в донос.
Сейчас знаю – все знаем -, а тогда, до появления этой бумажки, все было нормально. Полину Исидоровну мы любили, и она нас, как могла, опекала.
Особенно прониклись мы к ней сочувствием после того, как провела она классный час подкупающе доверительным образом: рассказывала о своем тяжелом детстве (много ли нам, послевоенным детям, нужно, чтобы расчувствоваться), рассказывала, как судьба бросала ее от мамы к тете, от тети к маме, а потом, как очутилась в детдоме. «А папа?»,– пропищала самая маленькая девочка в классе, которую звали Ука. Но Полина Исидоровна не услышала вопроса и продолжала рассказ о том, как трудное детство перешло в комсомольскую юность, а юность плавно перешла в партию и пединститут. Всегда хотела стать историком и стала им. У нас вот, классное руководство осуществляет (мы благодарно закивали головами), а в старших классах преподает историю. И сына правильно воспитала. Он уже большой, во флоте служит (наши сердца вздрогнули и забились чаще).
Однажды, когда он ехал на велосипеде, его сбила машина (класс ахнул, как спущенная шина). Нет, ничего страшного, только нога сильно распухла, ходить не мог. Случилось это 23 февраля, в День Советской армии , а вечером – концерт в Доме учителя. И что вы думаете, дети: пошел он на концерт. Ковылял, стонал, но шел. Нога зажила, а долг свой выполнил. Вот и сейчас выполняет. (И класс с облегчением вздохнул).
И все-таки:
– Полина Исидоровна, что такое «неблагонадежная семья»?
Наверное, когда Бог создавал ее, кто-то толкнул его под локоть. На тяжелом лице с нависшими веками – глаза, как несимметричные щелки, – страх, растерянность, догадка...
– Откуда ты это взяла?
– Из бумажки в дневнике.
– А где бумажка?
– Дома осталась.
Рука Полины Исидоровны в эту секунду захотела с силой хлопнуть ее по лбу, но передумала и почесалась. И тогда почти истошно, словно заглушая нелепость своего положения, Полина Исидоровна выкрикнула фразу, которую нам никогда не забыть:
– А что тут благонадежного?! Папа – рисует, мама – играет, никто не работает!
Ах, Полина Исидоровна, Вы, наверное, даже не представляете себе, насколько правда то, что я сказала Вам десятилетия спустя. Помните, тогда мы встретились на вокзале, очутились на одном перроне – Вы кого-то провожали, я кого-то провожала, – я узнала Вас, подошла и сказала: «Полина Исидоровна, я помню Вас и благодарю!». Вы удивились (а, может, не узнали). Но это было сущей правдой. Действительно, благодарю. Вы изменили мою жизнь. Если бы не Вы, да кабы не та история, сидеть бы мне в той школе в качестве члена «неблагонадежной семьи». Или того хуже... Теперь уж знаем, куда ведут такие характеристики-доносы. Ушла я из школы ( родители не противились, не кричали: «Караул!». Спасибо им), и вся моя жизнь потекла по другому руслу: поступила в Специальную десятилетку, о чем давно мечтала, занялась профессией, которая стала делом всей жизни.
Полина Исидоровна, я помню тот день, когда мы с Вами после встречи на перроне сели в один троллейбус на Вокзальной площади (помню даже маршрут: «двойка») – сели друг против дружки. Потом поменялись местами: Вы не могли сидеть спиной к движению. Голова кружится. И все время смотрели в окно и рассказывали не мне, а тому, что за окном, что мама жила долго, но не одна, а с диабетом,– Вы улыбнулись, и это было неожиданно, я подумала, что впервые вижу Вас улыбающейся,– и что эту компанию оставила Вам в наследство (а я-то думала, что мама рано исчезла с поля Вашего трудного детства). И что живете Вы, оказывается, одна: сын с семьей в другом городе; что внучка взрослая, скоро замуж, а видели ее пару раз – всего ничего... Им все некогда, некогда... Сын дочку балует, это, говорит, за его тяжелое детство. У него, значит, тоже тяжелое... Ладно, сказали Вы, ладно. Хватит. Хватит раны считать. Лучше расскажите, как Ваша жизнь сложилась.
Я не знала, как моя жизнь сложилась. В молодости мало кто знает, как жизнь сложилась. Знала то, что знаю и сейчас: что такое радость. Что понятие это безмерное. «Маленькие радости» – чушь для женской странички средних журналов. И хоть понятие «радость» общее, но реализуется оно в самых конкретных вещах: от рождения детей до написания этих строк. Включая все остальное. Исключая беды. Радость – это когда их нет.
Но не это я хотела сказать Вам, Полина Исидоровна. А хотела сказать, что Вы стали другой (еще бы, столько лет прошло, сказали бы Вы). Нет, Вы стали другой: глаза грустные, из всей фигуры исчезла квадратность, напоминающая о погонах, и вместе с ней все, что ассоциировало Вас с красным уголком, где единственная радость – проживание трудного детства и борьба. С кем, с чем – непонятно. Нет, впрочем, понятно: со всем, что не красный уголок. С неблагонадежными.
Я рада была видеть Вас, Полина Исидоровна. И рада сказать Вам еще раз: спасибо.
Речитатив и Ария
– Мама, он сирота.
На руках у сына крошечный котенок – зрелище, как говорил Иа-Иа, глядя на свое отражение в воде, ду-ше-раздирающее (из бессмертной Человеческой Комедии для детей под названием «Винни Пух и все остальные»).
Очень скоро котенок превратится в здоровенного кота, но пока...
– Мама, у него нет мамы.
Котенок остался в доме, но это еще не все. Через день Леня прибегает со двора:
– У него есть мама. Под лестницей живет. Полосатая, как он.
Еще через день:
– Нет, это не его мама. Он сирота. Она – самец.
А сколько радостей доставили нам всевозможные вывески...
– Мама, что такое...– Маша щурится на солнце и с трудом читает по слогам: «...и а-ку-шерства имени Крупской»? Крупская что, знаменитая беременная?
Бедная Крупская, думали мы, много лет проходя мимо института «... и акушерства имени Крупской». Нелепее не придумаешь.
– Мама, а кто такой Ида Рубинштейн?
(«Театр-студия имени Иды Рубинштейн»).
– Не кто такой, а кто такая. Танцовщица. Портрет. Серов... Стоп. (Откуда она знает?).
Помню три ступеньки вниз, на склад художественных материалов, в полуподвал, где всегда пахло растворителем и красками. Помню человека, который бесшумно маневрировал в лабиринте стеллажей, ящиков и рулонов; помню золотое облако из тонких его волос, которое плыло за ним, колыхаясь от движения; помню неизменную его готовность помочь; через много лет свидетельствую: приходила на склад с длинным списком странных наименований, и возле каждой строчки постепенно появлялись птички, птички...
– А как ты все это унесешь? Пакет – неподъемный…
Поскольку приходила я за материалами много лет подряд (это было моей почетной обязанностью – так я помогала отцу), то вначале ко мне обращались на «ты», как и надлежало, но затем настал момент, когда местоимения стали путаться: «как мы учимся?», «в каком мы классе?». Но все это тонуло в улыбчивости этого добродушного человека, а неблагодарные называли его заочно «Ида Рубинштейн». Почему – никто не знал. Но так долго и «никак иначе», что, приходя на склад, я мысленно повторяла-репетировала его имя, чтобы не дай Бог... Я и сейчас не припомню его настоящего имени, а вот «Ида Рубинштейн» въелось навсегда.
Однажды на складе его заменила жена. Звали ее Лариса Дмитриевна – в лучших традициях русской литературы, – но злодеи, все те же злодеи и неблагодарные, – почему-то назвали ее «Такида». Почему – тоже никто не знал.
Были они разные, как могут быть разными люди: он – мягкий, беззвучный и рыжий; она – сама определенность: движения краткие и в конце каждого – точка. Движения без запятых, как простые предложения. А в конце – точка. Окончательная.
Когда она ходила, в помещении слышен был цокот ее каблучков. Говорила нараспев и чуть грассируя. Что-то связывало этих людей, чего я не могла назвать. И не старалась – куда мне...
Однажды Ида Рубинштейн вышел взволнованным, порозовевшим и произнес фразу странным и не своим голосом:
– Жизнь дала побочный эффект. У меня родился сын. Илюша.
Кажется, все флаконы, коробки и рулоны пришли в движение. Что-то произошло...
– И у меня сын Илюша, – сказал тот, кто стоял рядом, и обнял Иду (Господи, прости, не знаю, как иначе назвать), обнял, стать хлопать по спине, что-то говорить ему сквозь смех и восклицания, как всплески радости...
– Подожди! – крикнул он то ли мне, то ли Иде.
Я знала этого человека, его звали Зиновий Толкачев, он был другом отца и часто приходил к нам, жили мы в нескольких домах друг от друга.
– Подожди, я сейчас...
И исчез. И через минуту вернулся с тортом («Хлебный» – за углом). Ида замахал руками, а дядя Зяма (ужас, что делать с именами, которые произносишь в детстве, а потом никак иначе произнести не можешь) говорит ему: «Это не тебе, а Илюше».
Все рассмеялись. И на этом все затихло.
– Знаете что, – сказал Ида, – дам я вам тачку на двоих. Вы, кажется, рядом живете (точно, и это учел). Потом вернете.
И пошли мы с дядей Зямой через весь город, толкая перед собой эту груженую тарахтелку. Дорога длинная, в транспорт с тачкой не сядешь, и стал дядя Зяма меня развлекать, чтобы нескучно было. Дошел и до истории о том, почему такое прозвище чудное у нашего кладовщика. У дяди Зямы сосед по дому с нашим Идой ездили инспектировать оперный театр – то ли во Львов, то ли в Одессу. Что они там списывают и все такое... А наш парень дотошный, должен все увидеть и со списком сверить. Попались ему туфли Отелло, списанные, потому что уродские: брак. Один больше другого. А он взял в руки и сомлел: во красиво живут артисты. Каждый день надевают.
– Можно, – спрашивает,– я списанные возьму, хочу жене показать, как раньше красиво жили?
Бухгалтерия – на ушах. Возьмите,– говорят,– хорошие. Знаешь, как проверяющих ублажают... А наш человек – никак. Хочу, говорит, списанные...»
Дядя Зяма смеется до слез, ладонью утирает щеки.
«...Ну привез он башмаки, а Лариса их, наверное, выкинула. Принес их на склад. Надевал иногда: стесняется, ноги под табурет прячет, а рядом тапки войлочные стоят на всякий пожарный... Вот такая загадка... С тех пор его Идой Рубинштейн и прозвали. Злодеи...Не называть же Отелло такого кроткого человека. А жену его назвали не Такида, а Такида. Посмотришь: таки да! Но все это байки. Главное, что вот сын есть...
Столько лет прошло... Тогда я еще ничего не знала об этом человеке – дяде Зяме Толкачеве – кроме того, что видела. Как многих других папиных друзей. И видела два альбома с рисунками, от которых холодело внутри. «Майданек» и «Оккупанты» (Освенцим). И слышала историю о том, как он, дядя Зяма, – художник Толкачев – с войсками освобождал эти места, прошел добровольцем всю войну, и, попав на территорию лагерей, на пустых бланках пропусков, взятых в комендатуре, сделал первые наброски. Потом он перенес рисунки на большие листы бумаги.
Потом их издали поляки. Потом начались неприятности, которые длились столько, сколько помню Зиновия Александровича. Беспрецедентно: художника судили – в суде судили!– за стиль работ, за то, что в художественной манере усмотрели...подражание... кому? Немецкому экспрессионизму... Интересно, кто был истец? Насколько помню, последствий этот суд не имел, кроме потраченных сил, нервов, времени, унижений и пр. И пр.
Я дорожу подаренными альбомами и надписями, адресованными моим родителям. И фотографией Зиновия Александровича – слава Богу, не затерялась в переездах.
Особенно значительной была для меня последняя встреча, случайная: пришла к нему по пустяковому поводу. Застала за работой. Видно было, что он недомогает и что настроение его – не самое лучшее, но работал увлеченно, показал стоящий на мольберте портрет, говорил о серии станковых работ, посвященных теме Шолом-Алейхема. И эта тема не нова: в папке, где хранятся альбомы, есть и буклет к выставке, посвященной 50-летию со дня смерти Шолом-Алейхема. С дарственной надписью моей матери: отца уже не было. Это 1966 год.
Тогда, в последнюю встречу, Зиновий Александрович вдруг заговорил о том, «с чего все началось». «Майданек» и «Освенцим» свои издать не торопились, иначе зачем было бы отдавать польскому издательству. Это само по себе уже преступление. Так это было расценено. А потом приехали варшавские коллеги – и сразу звонок из Союза художников. С требованием немедленно, сию минуту явиться в Союз. В партком. Не пошел, конечно. Пошел на следующий день. И началось...
Но дело, конечно, не только в этом. А в чем, Зиновий Александрович? «Не знаю,– говорит Толкачев.– Не знаю.»
Это было в конце августа 77-го года. В ноябре его не стало.
Потом, на вечерах памяти говорили, что он был одним из самых ярких художников своего времени.
Вероятно, это и есть его самое большое преступление.
Сейчас можно получить информацию на Интернете. Посмотрите: Зиновий Александрович Толкачев. Художник.
Сицилиана
Когда она поднималась по лестнице, я сжималась: каждый шаг отдавался глухим ударом о кованные железом ступени. Затем – я знала это – следовали три удара в дверь, что закрыта на засов: это дверь черного хода...
...и появлялась она – худенькая девочка, которая очень редко улыбалась. Мы жили в одном доме, но подъезды были расположены так, что ей удобней было приходить к нам через черный ход.
Когда я прочту Пушкина и попытаюсь представить себе, как шел Командор в гости к Дон-Жуану, в памяти возникнет эта картина: черный ход, кованые ступени, шаги и три удара в дверь.
Ада, не глядя, проходила мимо, словно меня нет, и шла прямо в комнату, где работал отец. И сколько же времени пройдет до той поры, когда она, взрослая, скажет мне, взрослой: «Я приходила нюхать краску».
Я видела, как она прикасается к отцовской палитре, как берет тюбики с краской и что-то колдует-разглядывает, перекладывает из ладони в ладонь, видела, как проводит рукой по подрамнику (слышу непременную отцовскую реплику: «Осторожно, пальцы не занози»), видела, как ходит она вокруг манекена, обыкновенного портняжьего манекена (– Зачем он? – Складки на одежде писать, чтобы натурщиков не мучить); видела: что-то происходит, но что – назвать не могла.
Через много лет отец скажет:
– На студенческой выставке видел работу Ады Рыбачук. Это по-настоящему хорошо.
Ада исчезла из моей жизни: я уезжала из Киева, она уезжала из Киева... Из мелькавшего в журналах, узнавала в разное время, что Ада Рыбачук и Володя Мельниченко живут и работают на Севере; запомнила название: остров Колгуев – место их долгого пребывания, прочитала рассказ о них художника Рокуэлла Кента (почитала, порадовалась, погордилась. Снова подумала: отец был прав). Потом в другом журнале появились их имена в связи с участием в конкурсном проекте по созданию памятника в Бабьем Яру...
Но все это было еще далеко от меня. Вернее, я была еще далеко.
Встретились мы через много лет. Как все живые, я ходила на кладбище навещать могилы близких, а Ада и Володя там работали: создавали памятник киевлянам – целый комплекс, который они называли Парком памяти. Описывать не стану, такова специфика места и работы.
Мы виделись часто: я приходила к ним на «объект», чаще всего заставала их на лесах, во время работы. Иногда виделись у них в мастерской, и у меня дома. Относились и относимся друг к дружке с нежностью: свидетели детства. Ада помнит мою семью («Папа катал тебя на спине и рычал, как лев. Говорил, что ты его дрессировщица. А я завидовала») . Вот этого я как раз не помню. Зато помню ее родных, особенно ясно вижу бабушку Варвару Афанасьевну: она, кажется, и сделала Аду Адой).
В общем, было нам о чем говорить и о чем молчать.
Пришли Володя и Ада на последнюю прощальную выставку работ отца – это было и мое прощание перед отъездом. И держались они как бы в тени: им все казалось, что их присутствие может навлечь...( «тебе предстояла таможня...»– напишет она вдогонку. Я храню это «письмо вдогонку» – вот уже сколько лет. Письмо от Ады и Володи).
Что навлечь, почему?
Кордон милиции я увидела еще издали. Возле спуска в низину, – к стене, к комплексу Памяти, – милиционеров особенно много. Сгрудились. Не пройти. В воздухе повис рев машин, еще какой-то надсадный гул – звук катастрофы. Что это?
«Давайте, проходите. Я сказал, не задерживайтесь». Милиционер разве что не замахивается... « Вы по какому понимаете?»
Если бы услышала выстрелы, – не удивилась бы.
Акция. У меня она ассоциируется с одним: с Бабьим Яром.
Низина. Холмы вокруг. Кладбище. Что там ревет? Акция. Уничтожение.
Потом мы узнаем, что работал насос, качающий цемент – заливали изображения на Стене Памяти: история Киева и киевлян в рельефах – многолетний труд Ады и Володи.
Рядом, через дорогу перейти, – старые домишки. Там живут люди, которых я знаю: они ухаживают за могилами. Фамилия известной мне пожилой пары – Розенкранц. У них свои счеты с властями: рассчитались за фамилию. Много лет провели в Северном Казахстане. Вернувшись, поселились подальше от людей, в старой развалюхе. Жили огородом и грошами за услуги. Они немногословны: с такой фамилией многословными не бывают. Даже молчать опасно, не то, что говорить...
– Один образованный такой спросил: «Это что за шекспировские штучки?» Причем здесь какой-то Шекспир?
– Что случилось? – спрашиваю у Розенкранца.
– Ничего не случилось. Советская власть случилась.
Теперь я это вспоминаю, как яркую речь (для Розенкранца это и длинно, и громко). Были это 80-е. Советская власть себя еще хорошо чувствовала. Еще в прежнем контексте.
И снова голос Розенкранца: «Кто такие? Не знаю, кто. Они давно ходят. Похожи друг на друга. Одеты похоже. Машины пригнали давно. Готовились... Хотите посмотреть? Верхушку стены видно».
Не хочу.
Сейчас об этом и фильмы сняты, и рассказы писаны, и эссе, и много чего другого...А тогда... Розенкранц – мудрец: «Я в памятниках разбираюсь. Это мой хлеб. Разрушить можно. Ума не надо. Но ты ж пойми, что разрушенный он – все равно памятник. Еще больше памятник».
Понимаю.
Этот день дал мне узнать еще об одном памятнике. Непостроенном.
Рядом со мной человек перед плитой , на которой видна надпись «Моисей Гурфинкель».
– Это мой отец, – говорит мой собеседник. – Вообще мы родом из Белой Церкви, но последние годы мы жили вместе в Киеве. После смерти мамы все папины болячки вылезли наружу, а смотреть за ним некому, вот он к нам и переселился. Однажды упал, сломал ногу – и все. Но успел рассказать, почему он так обижен на белоцерковские власти.
Отец смолоду плохо видел, потому и в армию не взяли. А потом эвакуация, куда-то он не успел сесть и застрял в оккупации.
Немцы всех евреев согнали, погнали за город и должны были... – (мой собеседник запинается, не договаривает, словно физически боится этих слов). – Ну, а немцы – народ пунктуальный. Чтобы все было прописано, даты и время акций проставлены, иначе это не документ.
Руководил всем этим какой-то офицер... Папа называл его фамилию, но я сейчас уже не помню. Я после войны родился и помню, что папа говорил, что этого офицера надо причислить к святым.
Взял этот офицер приказ и говорит адъютанту, что здесь не указаны дата и время акции, и потому приказ недействителен. И послал адъютанта в комендатуру. И расстрельную бригаду распустил. А толпе говорит: «Бегите!».
Ну и побежали кто куда. Выжили немногие, но папа выжил. И поклялся найти этого офицера. Много лет искал и нашел его в Румынии.
И решил за свои деньги поставить ему памятник при жизни на том месте, где должна была быть акция.
И что вы думаете – исполком не разрешил. Папа все этот исполком комендатурой называл. «Где вы видели, чтобы за такое памятник ставили?». Папа до конца жизни был, как ребенок: больше всего на свете ненавидел команды, уши закрывал. «Выключи, – говорил, – убери звук», – это если по телевизору, а если в жизни кто резким голосом командует, он морщился, как от боли, и спрашивал: «Он откуда?».
Там не построили, а здесь что делают? (Он кивнул в сторону милиционеров Что они делают? Что они рушат? Или уже порушили...
Ада лежала несколько дней недвижно, глядя стеклянно в потолок. Володя опасался за ее жизнь. Потом Ада опасалась за здоровье Володи.
Postscriptum:
Вот кому повезло, так это манекену. Он жил долго и счастливо, будоража своей недосказанностью воображение художников.
Через много лет после тебя, Ада, после того, как ты его увидела стоящим позади отцовского мольберта, увидел его Сергей Параджанов. «Это гениально!», – и унес манекен.
Еще много лет пройдет, и в кинопробах к фильму, которого нет и не будет, – «Киевские фрески» – мы увидим: вращается вешалка наподобие манекена. Этот? Другой? Какая разница. Манекен вращается: с одной стороны он – нарядное женское платье, с другой – фрачный костюм.
Сергей страдал.
Художник всегда страдает.
* * *
Неожиданный звонок из Киева: «Вы не могли бы написать о Зое Лерман?»
Условия жесткие: несколько дней срока, и, как в старой игре: «Да и нет не говорите, черное-белое не носите. Вы поедете на бал?»
Поеду.
«Зойк»
– ...Выходи. Сестра пришла.
Санитарка Муся никогда не ошибается. Талант: всех знает, все знает. Кто есть кто, и кто кому кем приходится.
У нее веснушчатое лицо, косынка повязана так, что закрывает половину лба, вместо бровей – золотистые пучки у переносицы, а над косынкой возвышается корона медных волос. На больных и посетителей кричит трубным голосом.
Зоя посмотрела ей вслед и сказала: «Возрождение...»
Вскоре Муся стала приходить к Зое и ко мне. Зоя ее рисовала.
А через много лет, когда появится книга «ДОМ», Муся спросит:
– Интересно, как это в жизни получилось: стихи написаны к рисункам или рисунки – к стихам?
– И не так, и не так, – скажет Зоя.
Мы это делали одновременно и параллельно. Параллельно друг другу и жизни. Можно сказать, втроем.
– Я ж говорила...
– Зоя, можешь послушать?
– Сейчас. Только кисть и тряпку положу.
Я знаю: Зоя работает дома. Часто – вечерами, при вечернем свете. Комната завалена подрамниками и холстами.
Я представляю себе темную переднюю и телефон на стуле. Телефон – инвалид, весь обмотан изолентой: падает по нескольку раз на дню. Над ним вешалка, а с нее свисает груда старых плащей и пальто.
Зоя берет телефон в руки – придерживает контакт, а трубку прижимает ухом к плечу.
Сколько часов мы так проговорили? Первый мой слушатель и советчик.
Я ведь и стихи начала писать на твоей памяти, Зоя, когда дети разъехались и мы остались вдвоем «параллельно жизни».
Я очень люблю читать тебе по телефону, возникает неожиданный эффект: объем. Стихи вроде умножаются на то, что по ту сторону телефонного пространства: на крошечную переднюю с блеклой полосой на полу – бликом от бокового стекла; на яркий проем в освещенную комнату; на то, что можно разглядеть в этой комнате, глядя в нее рассеянным взглядом из передней, пока я читаю тебе что-то по телефону.
Для меня это пространство, в котором живет искусство.
Им не занимаются, в нем живут.
– Что творит, что творит...
Мы сидим за столиком, едим мороженое. Впереди – такой же столик и за ним тоже сидят и едят мороженое. На улице только-только дождь прошел.
– Что творит, что творит..,– повторяет Зоя.
– Что случилось?
– Ничего. Освещение... Что творит...
Я не сравниваю. Но жизнь что-то сама рифмует. Какие-то события вдруг выглядят так, будто за руки взялись.
Вижу Натана Рахлина. Он листает альбом Гойи – только что получил в подарок. И, как ребенок разглядывает, гладит страницы, мычит, вздыхает, покряхтывает, покашливает и вдруг отчетливо: «Фаготыфлейты, фаготыфлейты... Что творится...»
Что творится, что творится? Чернобыль, вот что творится.
Это огромный период нашей жизни. К тому же у тебя сгорел дом на Михайловской. И ты продолжала жить в полуразрушенном, полусгоревшем... На первом этаже. Вход со двора. Заходи. Так и было: ты отнимала у грабителей прихваченные «заодно» рисунки и отпускала их с богом. И с похищенным скарбом. Ты долго не уходила оттуда, и я тебя понимаю: когда дом – дом (а не метры квадратные), его нелегко менять.
Не знаю, почему, но эта твоя «Михайловская» могла быть и кусочком Грузии, и итальянским кварталом, и французским двориком...И низкие окна, выходящие на улицу (Михайловскую), и легендарные булочки, которые бабушка выставляла на подоконник...
Давно нет булочек, давно подоконник – не подоконник, но что-то осталось, от чего трудно уйти.
А двор... Это же отдельное государство. Ты ночью в комнате что-то писала, а утром – звонок.
– Я ночью сделала работу. Придумай название.
– А что в ней?
– Кажется, три фигуры.
– А что они делают?
– Понятия не имею.
– «Ночью».
– Что?
– Назови «Ночью» или «Во дворе». Или «Ночью во дворе». Выбор невелик.
Теперь мне кажется, что это длилось долго. Ты долго не могла покинуть этот двор, эту комнату, этот мир на Михайловской, с которым все равно что-то делать надо, куда-то надо его перевозить. Вместе с собой.
Ты и перевезла.
А в самом начале Чернобыльской эпопеи ты отвезла своих под Москву. Возвращалась в Киев, писала работы, продавала их – и снова под Москву. Неся «в клювике»...
Однажды, прямо с вокзала – ко мне. Утро жаркое – лето на дворе. Мы походили, побродили, зашли куда-то, потом – к нам кто-то... А к вечеру вдруг похолодало и дождь пошел. Ты достаешь две кофты. Одну надеваешь нормально. Как кофту, а вторую... ноги в рукава. А на рукавах – оборки. А все, что не рукава, – под пышную юбку. Фижмы. Не знаю, какого века.
Не зря говорят: Зоя – Лувр, Зоя – Версаль. Помпадур.
Я проводила тебя до метро – и ничего, нормально. Ничего странного. Станция метро стала в точности такой, какой это было нужно твоим оборкам и фижмам.
– Ставь чайник. Я булочки принесла.
– Откуда такая роскошь?
– Сволочи. Я шла на площадь продавать работу – своих белых женщин. И дала себе слово: не меньше... (называет вожделенную сумму).
А я думаю: «Белые женщины», красота такая, любимая работа. В банях писала женщин в простынях. Красота королевских покоев. Неужели отдала...
– ...говорю себе: не меньше, чем... Вдруг подходит (называет фамилию), говорит: «Зоя, это же потрясающая работа, хочу ее купить. Сколько?» Я говорю: столько. А он говорит: не могу, я дачу отремонтировал и мезонин надстроил, приезжай, говорит, посмотри, здесь недалеко, в Боярке... Представляешь? А сам держит работу, не отдает и говорит: «Какая красота.» Но что делать. И говорит: у меня только(и называет раз в десять меньше). Отдашь? Ну что мне делать. Бери,– говорю. Но почему со мной так обращаются?
Ты поставила чайник?.. Что? Где второе белое полотно? С женщинами? Подарила. Одна такая приятная женщина покупала натюрморт и ей очень понравились мои белые женщины. Я и подарила.
Зоя, писать о тебе очень трудно. Все равно, что дневник обнародовать. События, люди, ситуации, – все это можно назвать, хотя и это не всегда просто. Но ведь главное не это. Я не хочу говорить о том, что все и так знают: что ты – и Армия Спасения, и Скорая помощь, и Благотворительный фонд (не знаю, чей. Всехний). Я не хочу говорить о душевной щедрости, потому что не считаю ее чертой характера. Это форма твоей жизни. Иначе было бы некрасиво, потому что неестественно. А вот то, что щемит, то, что жизнь подсыпала выше меры, – и терпкости, и горечи – значительно больше, чем было предусмотрено дизайнером твоей судьбы, – как расскажешь? Помнишь стих «Зойк»?
Не стих, а говорение.
Есть в украинском языке такое слово «зойк».
Ему не нужен перевод и толкование,
Оно в себе собою захлебнулось
И пронеслось судьбою, будто птица,
Что падает не видно где, за лесом.
А что из горла так и не прорвалось –
Застряло, превратилось в слово.
Начало и конец в нем сжали середину
В короткий узкий звук, что ранит небо
И возвращается обратно острой каплей
И исчезает, не услышав эха.
Кукушка, отсчитав свою безмерность,
Метнулась в нем, ища кого-то одиноко.
В нем боль сама, как воплощенье боли,
В нем руки, в судорге ударившие воздух,
В нем звук на середине оборвался
На ползвуке, чтоб не задеть чужого.
И сжалось слово в бесконечно мало,
Вобрав в себя огромное людское,
И след остался от земли до неба.
И в лошади испуганном зрачке;
И капля, не в ладонь, а из ладони.
Не вниз, а вверх…
И полное безмолвие.
А «зойк» –
как тоненькая трещинка на нем.
Киев, 1993
Я многое пропускаю. Иначе и вправду получится дневник. Но есть вещи, которые живут вспышками в памяти: помню выставку. Ее бы не было, кабы не ты и Игорь Дыченко. Дороже всего то, что вы говорили о моем отце так, будто знали его лично. А вы и знали. Лично. По работам.
В книге «ДОМ» ты сделала последнюю запись, в своем духе: рисунок. Знала, кого рисовать: нашу подругу Свету Параджанову.
А наутро автобус уходил чуть свет. Ты догнала его на перекрестке и протянула мне что-то в ладони.
Цепочку храню до сих пор.
А вообще-то характеры у нас нелегкие: вспыльчивые, ужасно обидчивые, но и отходчивые.
И родились мы под одним знаком: под знаком Близнецов.
И ничего уже с этим не поделаешь.
Доносим такое.
Не виделись мы страшно давно, но до сих пор не отвыкла мысленно говорить с тобой. И не хочу отвыкать.
Обнимаю.
Алина.
Чикаго, Эванстон, 2006
Интермеццо
А жизнь идет своим чередом… И в конце концов приходишь к мысли (не я первая), что события, некогда остановленные временем, не исчезли вовсе, а где-то затаились, дожидаясь своего часа.
Звонок.
Голос знакомый до такой степени, что в ту же секунду, будто и не было этих нескольких десятилетий перерыва, узнаю: Ким.
Ким Долгин.
То, как разыскал меня Ким – через океан и расстояние длиной в полжизни, – отдельная история.
Я очень люблю эти «многоярусные» перипетии: они создают ощущение уюта на земле (который раз «кутаюсь» в это чувство, как в мягкое укрытие). Все связано со всем, и все – со всеми.
Только ниточку потяни...
В результате распутывания одной из таких шарад Ким сделал мне два подарка: во-первых, нашелся, во-вторых, прислал компьютерную копию плаката работы моего отца...
Киноплакаты отца (художника И. Литинского) – это еще одна долго дремлющая и неожиданно разворачивающаяся история.
О том, что отец занимался созданием киноплакатов, я знала только понаслышке.
Отец в то время был очень молод, и не только меня, но и матери моей рядом с ним еще не было.
Однако среди семейных историй сохранилась легенда о том, как некогда Чарли Чаплин написал отцу благодарственное письмо в связи с плакатом к его фильму «Парижанка».
Письмо, естественно, не сохранилось.
Во-первых, война прошла; во-вторых, вряд ли письмо было отправлено лично отцу – откуда мог быть Чарли Чаплину известен адрес?
Скорее всего, письмо было отправлено в адрес Союза художников Украины. А вскоре – война, эвакуация, пересылка архивов...
Одним словом, сознание того, что плакаты были существенной частью раннего творчества отца, вещественного подкрепления не имело.
Казалось, время уничтожило все следы.
Но вот выясняется, что в фондах бывшей Ленинской библиотеки ( ныне Российская Государственная библиотека) хранятся образцы киноплакатов, начиная с ранних, еще довоенных лет, и сообщает нам об этом сотрудница библиотеки, писавшая диссертацию о советских киноплакатах 20-х - 30-х годов.
Вот так подарок!
Это нам вознаграждение за книгу «Эхо шагов», большая часть которой посвящена моему отцу, художнику Ибрагиму Литинскому. (А.Литинская «Эхо шагов». Издательский Дом Дмитрия Бураго. Киев. 2005 г.).
Сотрудница библиотеки Н.И.Бабурина сообщила, что в библиотеке хранятся больше тридцати оттисков плакатов моего отца.
А Ким, находясь в Москве и прочитав книгу, взятую в библиотеке, интуитивно, наугад нажал на какие-то клавиши компьютера и у него высветилось...
...В результате я получила распечатку плаката к фильму Рэнэ Клера «Париж уснул».
Плакат выставлен в Лондоне на аукционе (увы, не мной).
Все остальное – загадки, на которые компьютер не дает ответа.
Главная из них – как плакат попал в Лондон?
Плакат создан в 1928, отпечатан в Харькове, на Фотокинокомбинате.
Все. Других сведений нет. Спасибо и за это. Добавлю лишь, что в 1928 году отцу было 20 лет.
Мы долго говорили с Кимом (не виделись Бог знает, сколько лет). Вспоминали многих и многое и, конечно, Студию.
Скоро юбилей, говорит Ким, напиши, что помнишь.
Я и написала...
Несколько слов о неглавном
Студия начиналась не с вешалки, а с проходной.
Не знаю, как сейчас, а тогда это была будка, разделенная надвое. Царила в ней тетя Надя, одетая в светлую робу поверх ватника, а на боку у нее болталась огромная кобура.
Все 15 лет попадания на студию через проходную я мучилась вопросом: что надо сделать, чтобы наконец обнаружилось содержание кобуры.
Так и не узнала.
В будке пахло супом, и все вместе: доброе домашнее лицо тети Нади, запах еды и кобура на поясе, – наводило на мысль о военно-полевой кухне.
Время от времени где-то в неведомых верхах руководства вспыхивала идея: без пропусков на студию не пускать. И тогда тетя Надя говорила так: «Я тебя, конечно, знаю. И девочку твою тоже знаю (я часто приходила на студию с маленькой дочкой), но не велено пускать без пропуска».
Ну что делать, – говорю, – не ношу с собой, привычки такой нет, и так пускали. По паролю «доброе утро».
Зато сейчас – вот он, студийный пропуск, только руку протяни. Приехал со мной издалека, но никто не спрашивает.
...Все шло-катилось, как всегда, и никакие распоряжения не могли изменить уклада нашей студийной жизни. Не присутственное это было место. Не было в нем учрежденческого духа.
«Вы что, здесь живете?» – спросил кто-то из заезжих.
«Да, а что?» – немедленно отреагировала Роза Литвиненко.
Ау, Роза! Откликнись.
Однажды на студию пришла моя мама. Посидела она в редакции, посмотрела-послушала, вышла в коридор и сказала: «Милый, но сумасшедший дом». Мимо проходил человек, услышал это, улыбнулся, подошел... Я представила маму. И стала свидетелем невероятного: Глеб Никодимович Шляк поцеловал маме руку. Глеб Никодимович Шляк – многолетний директор студии, по должности своей чужд сентиментов, по сути своей – романтик. Тайный рыцарь.
Но вернемся к проходной.
– Пропуск?
– А я здесь не работаю.
– А, ну тогда проходите.
Конечно, могло быть все, что угодно. Но ничего такого плохого не случалось.
Хотя казусы бывали.
Помню, как во время передачи в настежь открытую дверь Малой студии вошел человек. Время было летнее, вечер душный, передача поздняя. Дверь открыта.
«Ой, как у вас тут инте-ре-е-е-сно...».
– Вы кто? – спрашиваю – Если участник другой передачи, то вам в другую студию.
«Нет,– говорит пришелец, – я так, посмотреть пришел. Спросил, где у вас тут выступают, мне и показали».
Событие, которое иначе, чем «страшный сон», не назовешь, случилось на заре существования студии.
Очередная еженедельная летучка началась так. Наш первый директор студии Григорий Осипович Казарновский заявил: «Телезрители от Урала до Дальнего Востока могли видеть, как в прошлый понедельник Алина выползала из-под рояля».
Было дело.
...Большая студия на ремонте (а, может, ее еще не было, не помню). Все вещание ведется из Малой. Одна камера. За камерой – первый ( не хочется говорить – старейший) телеоператор Миша Ларкин.
Сейчас должен начаться концерт Миши Ваймана, и его концертмейстер просит кого-то сесть рядом, чтобы перелистывать ноты. «Особенно важно это в «Экспромте» Арутюняна, потому-что ноты в ветхом состоянии, – говорит она, – а темп пьесы очень быстрый.»
Что делать, сажусь рядом.
Режиссер обговаривает с операторм передачу, принцип монтажа, – камера-то одна – и особое внимание к «Экспромту». Пока третий человек в студии рядом с пианистом – общий план исключается. Ясно? Ясно...
Все идет хорошо. И вдруг ноты падают с пюпитра. Пытаюсь подхватить на лету, но в студии сквозняк, и листки плавно планируют под рояль. У пианистки – безумные глаза: пьеса нелегкая, с длинными проигрышами, без нот не доиграть.
Что делать?
И я ныряю под рояль.
А «на обратном пути» первое, что увидела – монитор. С изображением трех фигур: скрипача, пианистки и ... Третья фигура выглядела странно. Горизонтально. Это была моя фигура.
Ужас. До сих пор помню. «От Урала до Дальнего Востока».
На следующий день Григорий Осипович так кричал в коридоре, что с двери упала табличка с надписью «Приемная». Упала и разбилась.
Сколько лет прошло? Пятьдесят? Без малого.
Помню, раз уж речь о скрипаче, рапортичку от телецентра – студии. (Было такое правило: телецентр отчитывался о технических порядках и беспорядках за минувший день).
«Во время выступления скрипача Эдуарда Грача в студии раздавались посторонние звуки» . И в скобках – двоеточие: фортепиано. Этот документ я унесла домой и много лет хранила как реликвию.
Вот и сейчас приятно вспомнить.
А вообще пишу о чем угодно, о всяких забавных мелочах, чтоб не писать о главном. Потому что не знаю, как.
Студия – это праздник.
Конечно, за пятнадцать лет работы было всяко. Но время сделало свое дело: оставило в памяти только главное – хорошее. И мы были молоды, и дело, которым мы занимались, было молодым, и техническое оснащение, по сравнению с нынешним, было смехотворным.
А это, как известно, хорошо тренирует изобретательность. Все, чем приходилось заниматься после студии, подпитывалось студийным опытом.
И студия не кончается. Нашелся друг-соратник режиссер Ким Долгин. Невозможно приблизительно даже представить, сколько передач сделали мы за время совместной работы. И пока я пишу эти строки, раздался звонок. Еще один подарок судьба дарит: звонит художник Роберт Акопов. Сколько лет не виделись, сколько общих знакомых оказалось! И студийных, и не студийных.
Студия – это судьба.
Спасибо, студия!
– Так это правда, что ты работала в телевизоре? – спрашивает моя Настасья.
Правда.
...И часто вижу Студию во сне. Такой, какой была, и в то же время не такой. Многое изменилось. И вход другой. Вход похож на тот, что в доме неподалеку. Где ты сидела на верхней ступеньке, как на галерке. Помнишь?
В моем сне люди, населяющие студию, молчат. Это очень странно. Такого не бывает.
И лица без выражения, словно восковые.
От этого все печально вокруг.
И вдруг я слышу голос позади себя: «Где тебя носило? Мы столько лет тебя ищем».
Я никого не вижу позади себя и не знаю, кому говорю, что много раз приходила на Студию, но меня не принимали, хоть и объясняла, что я студийная, но люди молчали и смотрели, не мигая, и я уходила, потому что думала, что не туда попала, и все это так мучительно...
В павильоне необычно.
Свет, как от синей лампы, которой нас отогревали в детстве, когда болели уши или горло.
Почему все так странны, почему все молчат, и свет неживой?
Мне кто-то отвечает: «Потому что нету». – Чего нету?
«Зрителей нету. Зрителям показывают не передачу, а запись. А во время записи зрителей нету. Консервы. Раньше как было? Зрители. За стеной, за окном. Кругом зрители. Живое дело...»
Макс. Замечательный наш Макс. И фамилия у него замечательная, как раз подходящая к должности: Выкидайло.
Фамилия ли? Но вообще-то должность его называется красиво: кабельмейстер. Без него нет порядка в студии. Он держит кабель, чтобы телекамеры не путались в собственных артериях – кабелях, и следит за тем, чтобы порядок был.. Чтобы лишние не шастали. Отработал – пожалте к выходу. И чтоб ни звука лишнего. Чтоб тишина в студии.
Зрители – за стеной.
Передача.
А потом и отдохнуть можно.
Макс любил «отдыхать». Но на работе – никогда. Ни-ни. И как праздник – брал баян.
Была у него странность: не любил он самых смирных, от которых никакого беспорядка: струнный квартет.
«Пилят, пилят, пилят, пилят...Уж лучше бы чечетку...»
И вдруг достает он из внутреннего кармана какую-то дудочку. Флейту ли, свирель...
Вот, говорит, жена баян продала...
И зажурчал на свирели. И заплакал. Лицо сморщенное, плачет Макс безутешно, как ребенок, утирается шарфом в полоску.
«Ты что, – говорит, – опять квартет привела? Зайди в студию, там один на фоно шуршит. Один на фоно в четыре раза лучше твоего квартета.»
И снова приник к свирели...
А в синем свете студии сидит человек за роялем. Сидит на маленьком стульчике, голову запрокинул, глаза прикрыл, ему и свет не нужен.
А над ним что-то витает. И как оно – это «что-то» материализовалось, – неясно. Но – мороз по коже.
Мне некогда, я тороплюсь в своем сне, – боюсь, что он кончится. Смотрю через стекло, отделяющее павильон от пульта, ищу знакомую макушку. Маячит. Все в порядке.
И, как это бывает только во сне, вдруг рядом оказалась Настя. И вспыхнул яркий свет. А Настя сказала: «Я знаю, кто это. Я видела его на картинке на диске. Он Баха играл».
Верно. Играл. И сейчас играет. И оттого свет стал ярким: вот мы – слушатели и зрители. Все живое.
Разбудила меня внучка.
– Почему ты улыбаешься?
– Потому что мне снилась Студия.
Так и не смогла я объяснить ребенку более подробно, как я «работала в телевизоре».
Может, узнает со временем.
Сарабанда I
..."Почему у тебя такое лицо?" – "Какое?". Лёнька кончиками пальцев пощипывает кожу на лице, мелко-мелко, часто-часто: "Почему это?". Он сидит на маленьком сундучке. Я хорошо знаю этот сундучок, постоянный атрибут этой комнаты, комнаты тети Лены, моей московской родственницы, Лены Сигаловской. "Потому что у меня лицо старенькое", – говорит тетя Лена. "А у меня новенькое", – говорит Лёня. Ему было года три. Она склоняется над ним, она улыбается, она рада ему, родственнику с новеньким лицом. И правда, новеньким, во всех смыслах новеньким: живем мы в разных городах. Тетя Лена – коренная москвичка. Она впервые увидела Лёню, она рада ему, потому что она вообще добрый человек, и потому что всему рада.
Рада, что выжила.
В углу ее крошечной полутемной комнаты – бывшего подсобного помещения Театра на Малой Бронной – стоит шкаф. А на самом верху – гипсовый бюст. Мужской скульптурный портрет. Я знаю, кто это. Его зовут Нистер. Она никогда не говорит "звали". Зовут. Сейчас зовут: Нистер. Дер Нистер. Он писатель. Это его литературный псевдоним.
Понятно, что псевдоним – это имя, которое человек сам себе выбирает, и тем интереснее узнать, что оно значит, потому что в этом заключен взгляд человека на самого себя. Дер Нистер в переводе с еврейского означает "тайно, незаметно делающий добро". Меня притянули слова "тайно, незаметно", потому что то, что осталось в памяти от двух мимолетных встреч с Нистером, ассоциируется с тишиной. Словно она жила в нем и он создавал ее вокруг себя. Лента памяти разворачивается так.
Лежу я клубком на том самом сундучке, на котором мой сын будет сидеть и задавать вопросы тете Лене лет через двадцать пять, ворочаюсь с боку на бок, не могу уснуть. Возле меня тетя Лена что-то воркует-убаюкивает... Нистера я вижу как темный силуэт, сидящий спиной к комнате. Перед ним зажженная настольная лампа: это всё освещение комнаты. Наверное, он читает. По комнате разлита тишина и покой.
И вдруг стук в дверь и входит странный человек. Странный потому, что нос у него вроде как перебит, или вмят у переносицы, и говорит он не то что громко, а несколько несоразмерно с тишиной этой комнаты, и хоть ростом невелик, а занимает почти всё пространство. Нистер подносит палец к губам:
– Ш-ш-ш, Соломон, – и кивает в мою сторону, – там спит девочка.
– Что это? Хранение нелегальных детей?!
Все рассмеялись, а я ничего не поняла. Теперь-то понимаю, что слово "нелегальный" было уже в контексте времени. Потом они шептались так тихо, что я вообще их голосов не слышала, только редкие слова странного гостя вылетали из тишины и гасли в воздухе. А потом все замолчали, а я уснула.
Утром тетя Лена спросила мимоходом, расставляя чашки, не помешал ли приход гостя, я сказала, что нет, не помешал, а тетя Лена, видно, чтобы объяснить что-то, говорит, что он актер... и после спектакля... актеры... не сразу остывают...
– Лучший в мире король Лир, – говорит Нистер. Говорит, как всегда, тихо, но так, что до сих пор помню: в слух впечатал. Я не знала, кто такой король Лир. Но что лучший в мире – легко поверила.
Сейчас перенесу себя на несколько десятилетий вперед, когда в старом советском фильме "Цирк" будет восстановлена сцена знаменитой колыбельной – сцена убаюкивания темнокожего мальчика разноязычной советской публикой. (Помните? "Многоуважаемый публикум СССР...". ) В актере, что пел на идиш, я узнала того позднего гостя, что приходил тогда к Нистеру и Лене. Его звали Соломон Михоэлс.
Но вернемся в то время, когда тетя Лена собиралась нас поить чаем. Она посадила меня к столу, спиной к Нистеру, он оставался за своим крошечным дощатым столиком у окна, это было его рабочее место. В этой комнате все предметы уменьшенного размера. Я выпила чай и оглянулась: мне казалось, что в комнате никого нет, так бесшумно было его присутствие. А над глазами его нависли брови, словно ограждая его зрение от всего лишнего. Таким он остался в памяти и таким он запечатлен на гипсовом портрете-бюсте.
После того, как его арестовали, к Лене пришли и предупредили: если хотите жить – уберите бюст.
Она не убрала.
Когда убили Михоэлса, когда арестовали Нистера, его сына Иосифа ("потенциального мстителя за отца" ), поэта Маркиша и большую группу советских деятелей искусства, арестовали и убили... Рука не поворачивается писать... очередной кровавый бред... Когда система в очередной раз уничтожила очередной пласт культуры, когда закрыли Еврейский Драматический Театр, в котором работали Михоэлс и Зускин, и в котором тетя Лена была актрисой амплуа травести, когда она осталась без семьи, без работы, без средств к существованию, с клеймом жены врага, вот тогда...
Попробую представить себе, что было тогда, в то мертвое время, по тому, какой увидела ее, когда я была уже взрослой: крошечная женщина с глазами в пол-лица
(невеселая травести), говорит мало, почти никогда о своей беде. Пенсия? Нет. Для этого надо идти к "ним", объясняться, писать бумаги. Нет. Называет того, кто устроил ее в артель, своим спасителем. В артели работала надомницей: набивала ватой туловища для кукол. В комнате стоит корзина с работой – зрелище жутковатое. Знает все новинки литературы и все московские спектакли. Абсолютно чужда светскости – предельно естественна и проста. Когда я пытаюсь представить себе, что такое хороший вкус в поведении – вспоминаю тетю Лену. Накрепко, как заговоренная, прикована к своей комнатушке – здесь был арестован Нистер, отсюда его увели ночью. Может, для нее уйти отсюда – значит что-то предать? Бог знает. Она никогда не говорит об этом. Даже когда голод, сырость и полумрак помещения ее одолели и она заболела туберкулезом, всё равно не ушла. Отказалась от госпитализации. Сидела на маленьком сундучке под бюстом Нистера, глотала какие-то таблетки, и, вроде, чего-то ждала. Хотя ждать было решительно нечего: Нистера уже давно не было в живых. Сын Иосиф уцелел, вернулся. Я думала – он немой, а он, этот огромный человек (в кого он такой?), просто перестал разговаривать.
И вот однажды... Как в сказке. Но в грустной: поздно. Всё поздно. Но все-таки: что было, то было. Приехал из далекого далека... Слава Богу, в те времена уже далекие далека имели свои названия.
Приехал из Франции владелец одной из крупных частных картинных галерей. Его фамилия – Каганович. Нет, не родственник "тому". Родственник Нистеру. Его родной брат. И началось. Что он только не предпринимал, чтобы ему разрешили помочь вдове покойного брата! Разрешили. Помог. Но, кажется, глаза тети Лены стали еще печальнее: " Ну подумай, зачем мне это?". Всё было бы "затем", кабы чуточку раньше. Да кабы не туберкулез – спутник нищеты и одиночества. Но времена приходят только тогда, когда они приходят.
Она умерла в сухой, теплой и светлой комнате. А рядом – агрегат, о котором она прежде и думать не думала: холодильник. Да еще с надписью "Форд". "Ну подумай, зачем мне это?".
По-настоящему радовалась она лишь тому, что имя Нистера будет увековечено: его брат сделал миллионный подарок Москве – картину из своей коллекции – в память о Нистере. С одной единственной просьбой: упомянуть имя брата, в память о котором работа появилась на стенах одного из лучших музеев страны.
Тетя Лена так и не узнала, что упоминания о Нистере нет.
В мастерской киевского скульптора Оли Рапай от пола до потолка – стеллажи... А на них чего только нет. Такого разнообразия цвета, форм, изысканных линий нигде больше не увидишь... Вечный праздник... Вазы, блюда, подставки, скульптура малых форм. Нет работы, которую не хотелось бы в руки взять, полюбоваться, повертеть... Честно говоря, завидно, хочется видеть это каждый день... у себя дома. Мне повезло. У меня есть работа Оли Рапай-Маркиш.
В этот раз мы были в гостях у Оли вдвоем с Леной Сигаловской, она всегда посещала мастерскую Рапай, когда приезжала в Киев. Говорила, что в атмосфере ее мастерской ощущает особую духовность. Да и Олю любит. Не просто любит: они уже как родственники. Можно сказать, кровные. По арестованным.
– Подними брезент с пола, – говорит Оля, – позади себя. Осторожно, не наступи, там работа...
Я подняла брезент и ахнула. Я ахнула, а тетя Лена вскрикнула. Композиция называлась "Арест", свидетельство очевидца. Отца Оли, поэта Переца Маркиша, арестовали, а через некоторое время арестовали Олю и ее мать. И выслали. Память подсказала Оле, уже зрелому художнику, детали воссозданной сцены, характер и пластику фигур, документальную подлинность происходящего. И Лене, как видно, работа в точности напомнила сцену ареста Нистера. Смотрю, она содрогается от беззвучных рыданий. Господи, как они помещаются в ней, она такая крошечная... Оля что-то накапала в стакан – в комнате запахло лекарством. Наверное, так было и тогда... Всё повторяется, даже запахи.
– Ты читала стихи Маркиша?
– Не читала.
– Я получила в подарок из Франции, там переизданы, – говорит Оля, – узнала новые подробности. Лучше бы их не знала. Кто-то из соседних камер, как видно, уцелел. Маркиш пел, когда его вели на расстрел. То ли сошел с ума от пыток, то ли в уме был, но радовался, что всё кончится, наконец.
– А Нистера не расстреляли. Он умер в камере, от пыток.
Я не могу покинуть то время, наверное, так же, как Лена не могла покинуть свою комнатушку. Оно, время, не так отдалено от нас, как может показаться. От него остались свидетельства-раритеты, несмотря на все усилия уничтожить их.
Я давно уже, несколько десятилетий знаю название книги Дер Нистера "Семья Машбер". Название знаю, но книги не читала. Даже если бы она была переведена с идиш на русский, ее всё равно бы (тем более) уничтожили. Я услышала это название от Лены Сигаловской.
Однажды в нашей киевской квартире зазвонил телефон – звонит тетя Лена. Приезжай, говорит, в Москву, срочно, дело есть. Ну, приехала. Всё в ту же крошечную комнатку с гипсовым бюстом Нистера на шкафу, с сундучком-сидением возле стола, с каменным полутемным двором за окном.
Всё привычно и, кажется, никогда не изменится. И всё-таки, что-то теплеет в воздухе.
Тетя Лена говорит сбивчиво:
– "Семья Мaшбер", перевод на английский... издан в Лондоне... в предисловии упоминается моя фамилия, но сильно переврана...
Но кто-то потрясен судьбой писателя и его книгой, разыскал вдову (с трудом), прислал подарок. Он никогда не видел Лену, понятия не имеет, какая она... «Шуба. Рыжая. Огромная. Мы вдвоем можем в ней спрятаться...»
Спрятались вдвоем – в шутку. Но носила ее я одна всерьез и долго. Лет десять. Для киевской влажной зимы – ну в самый раз. И осталось только чувство горечи от несправедливости, в которой я невольно участвовала: пользовалась незаслуженным вознаграждением. Но я не думаю об этом, я думаю о Лене Сигаловской и о том, что есть вещи, которые невозможно уничтожить. Вот как эту книгу, что лежит передо мной: "Семья Машбер" – "The Mashber Family", и как имена людей, которых забыли упомянуть. И как саму нашу память, в которой живы те, пока живы мы.
* * *
Само время передает по наследству то, что надобно ему сберечь. Нет волшебства. Через нас же и передается, через нашу память и совесть. А мы адресуемся к следующим, уповая на их память и совесть. Хрупкая это материя. Она вроде завещания, оставленного временем: чтоб не распалась связь...
Франческо Петрарка, поэт эпохи Возрождения, писал своим друзьям из Авиньона во Флоренцию письма и отправлял их с купцами, движущимися на юг...
... А в Италии, под Флоренцией, орудовали разбойники, грабили купцов с севера. И если среди добычи попадались письма Петрарки – это было особым везением: письма поэта ценились высоко и их можно было дорого продать. Обладатель писем созывал гостей на пышный обед, и сюрпризом им было чтение писем Петрарки. Это считалось событием высокого тона.
Спустя шесть столетий описал эту историю писатель Борис Зайцев в письме к Борису Пастернаку, сравнивая его письма с письмами Петрарки: "...их всегда просили почитать вслух". Писатель Зайцев жил в Париже, Борис Пастернак – в Москве. Переписка их длилась недолго, полтора года, до самой смерти Пастернака.
Письма из Москвы в Париж шли положенным им почтовым путем, с остановками, надо полагать, "по требованию" – уже написан "Доктор Живаго", уже прогремели все колокола...
Шесть столетий, прошедшие от того четырнадцатого, в котором жил Петрарка, отучили сознание добытчиков облюбовывать письма поэтов как факт великой привилегии и научили бояться их как свидетельства. И всё-таки, сохранились такие строчки:
" Дорогой Борис Константинович, ...наверное никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто я бываю в ужасе...от несчастного своего склада, требующего свободы поисков и их выражений... " (Из письма Б. Пастернака к Б. Зайцеву).
Если эпоха Возрождения оставляет по себе свидетельства созидания, на то оно и возрождение... А коль эпоха есть эпоха разрушения? Не по своей воле, а по велению времени, не так – так эдак, не прямо, так косвенно, но все-таки оставляет след.
Повстречалась мне как-то незнакомая женщина, повстречалась чудным образом, «путем неведомых судьбы узоров». Она москвичка, зовут ее Елена Константиновна. (Не научилась писать «бывшая москвичка»: если родилась и жила в Москве, значит москвичка. Которая сейчас живет не в Москве).
Особенность встречи в том, что Елена Константиновна знала Елену Климентьевну и теперь, через столько лет, прочла рассказ о Нистере и Елене в одной из чикагских газет. И, спасибо ей, разыскала меня.
Надо ли описывать встречу: вспоминали, вспоминали...
И это ли не роскошь, видеть, как оживают, наполняясь энергией нашей памяти целые пласты времени, знакомые образы, вплоть до самых малых и, казалось бы, незначительных подробностей. Они и сделали нас не только современными, но и сородственными тому, о чем говорили. Это ли не роскошь... Кажется, не меньшая, чем чтение писем Петрарки. Мерки изменились: время повело счет на жизни. А Елена выжила.
Попробую воспроизвести то, что она говорила:
«...Если бы Вы знали, как много для меня значила Елена Климентьевна Сигаловская. Она организовала драмкружок при ЖЭКе и вся ребятня с Малой Бронной повалила к ней. Ставили «Теремок»... Вы знаете, помню. Всё забыла, а это помню. Беда была у нас с ней одна и в одно время. У нее мужа взяли, у меня – папу. Я в драмкружок к ней – как на лечение. Она знала, что папу моего арестовали; откуда – не знаю. Ну тогда все знали друг про дружку. Слухи – не хуже Интернета. Мой папа работал на мебельной фабрике, делал мебель для театров. Я папу своего плохо помню. Запах его помню: когда захожу в новое помещение – вспоминаю папу. Мне кажется я что-то еще узнаю о нем, хотя столько времени прошло…Я почему-то уверена была, что прочитаю где-то про Нистера и Елену Климентьевну. Вот где-то у меня чувство такое было: что-то будет. Всплывет. Не может быть, чтобы такие люди наглухо канули. О Нистере вот есть. На Интернете. Я зятю и дочке рассказала про Елену Климентьевну. Про нее мало кто знал. Она тихая. Она меня называла Елена-Краса, рыжая коса. Я была рыжая. И меня Лена зовут. И внучка – Лена."
И еще один сигнал памяти, еще одна семейная легенда, о которой я знаю по обрывочным рассказам родителей. Рассказываю об этом только потому, что, кажется, кроме меня, больше рассказать некому.
Был странный человек по имени Пантелеймон, по фамилии Петренко. Папа называл его Тося Петренко.
Это было давно, до моего появления на свет. Тося Петренко жил в нашей семье, потому что жить больше было негде. Родители говорили, что он молчал. Не потому, что он был нем, а потому что не хотел говорить.
У него была мать. Иногда она приходила к моим родителям, но Тося не общался с ней.
Легенда гласит, что Тося был необычайно талантлив. Был он художником, а потом неожиданно сделал замечательный перевод «Витязя в Тигровой Шкуре» с грузинского на украинский язык. Перевод только по подстрочникам. Петренко не знал ни одного слова на грузинском языке. Потом были другие переводы других авторов, но легенда утверждает, что его перевод был первым и лучшим.
Затем его пригласили в Грузию как автора первого перевода. Из Грузии он не вернулся. Перевод исчез. Потом стало известно, что Тося Петренко утонул. Тело нашли в Куре.
Вот и все, что знаю.
Пишу об этом только затем, что вдруг всплывет это имя и что-то потянет за собой.
Пантелеймон Петренко. Художник. Переводчик. Когда он исчез, ему было 23 года.
Сарабанда II
Бывают времена, к которым прикоснуться страшно. Но что делать: ничего не изменить уже. Хотя память есть память: подает о себе знаки без нашего ведома. Тем и жива.
Снова двадцать девятое сентября. День Бабьего Яра.
Время длит тот день вплоть до мельчайших подробностей сегодняшнего дня...
И за это время – случайно или не случайно? – могла ведь и не случиться, но случилась, состоялась наша жизнь и всё от нее идущее: другие жизни с их собственными случайностями-неслучайностями. Не слишком новая философия, не слишком свежая мысль, но на календаре двадцать девятое... И странно, что есть кто-то, кто уповает на время, как на стирающую резинку: сотрет что-то за давностью лет.
Ничто не сотрет "за давностью..."
Пока пишу эти строчки, преподнес мне тот самый Господин Случай сюрприз. Мелочь. Лицо на телевизионном экране. Оно вмиг напомнило мне образ старого знакомого.
И покатилось...
Приехал он как-то из далекого своего края. Впервые в Киеве. Все как положено: ходим по городу, смотрим разное. И то, что в картинках, и то, чего нет в картинках. Моего гостя интересует больше то, чего нет в картинках и открытках "Привет из Киева".
– Где это было?
Я понимаю, о чем он.
– Мы ведь туда идем?
Я не могу ему объяснить, что нет того "туда", не могу объяснить потому, что сама это плохо понимаю. Как это – нет? А место есть? А памятник? В том то и дело, что места нет. Памятник стоит не там. Пока шел конкурс на лучший проект памятника, перекопали то место, где происходила трагедия, жертвам которой посвящен памятник. Или, по крайней мере, должен быть посвящен. Должен бы быть. Перекопали Бабий Яр. Что-то хотели там построить.
...И хлынуло.
Что-то из-под земли хлынуло. И снова жертвы, и снова невинные. Тысячи жертв... Дети... Больницы, школы... Ранним утром лавина хлынула... Дети – в школы, взрослые – на работу: всех накрыло. Знаю, говорит мой гость, знакомый вернулся из армии, служил в этих краях на "разгребании"... вернулся седым.
Честно говоря, у меня суеверное чувство перед этим местом. Не могу избавиться от ощущения, что хожу по костям. Но что делать: это уже город. И далеко на окраине его, как было прежде, и здесь течет обычная городская жизнь: и расположены школы, комплекс школ, в которых учатся мои дети. А на возвышении – Кирилловская церковь. Удивительное место, сколько хранит в себе: и старинные фрески, и росписи Врубеля, и Врубелевские иконостасные портреты, и постройки вокруг церкви, где душевнобольные жили и лечили себя отрешением и молитвой. (А теперь там корпуса психбольницы имени Павлова); и картошку хранили в церкви ... и такое было. После войны там было, говорят, овощехранилище.
Терпеливое это место.
Реставрации велись уже на нашей памяти: долго, многие годы, очищали фрески от плесени и грязи. Помню ощущение холода и бесприютности в пространстве... Помню Прахова, маленького сухонького человека, похожего на звездочета. И появился он странно: откуда-то из стены. Потом, много лет спустя, я пойму, что это была загородка, отделяющая иконостас от остального пространства церкви, и, видимо, в то время как раз и велись работы по спасению иконостаса. Это Прахову мы обязаны началом реставрационных работ.
Спасибо, уберегли.
А вот то – не уберегли. Могилы не сохранили.
Мой гость в полном замешательстве. И чтобы как-то изменить состояние, свое и мое, он говорит, что вообще-то ходим мы по поверхности земли, под каждым сантиметром которой что-то... накопленное тысячелетиями... Уйми свою мнительность. Нет выбора. Пошли.
Нет выбора. Унимаю.
Идем дальше. Длинная прямая улица. Улица – подножье оврагов, что высятся по правую сторону, если идти от "тех" мест, от мест, где уже нет Бабьего Яра. Овраг этот тянется длинно, до следующего перекрестка. Овражные это места. Яр – ведь тоже овраг. И вдруг видим: на склонах руки... ноги... что-то еще, не разглядеть. Зажмурились.
Кто-то из прохожих вывел из состояния столбняка. Наверху, говорит, протезный завод. Время от времени выбрасывают брак. Ребята подбирают и относят на свалку. Но до этого успевают попугать друг друга. И прохожих.
А меня словно пронзило – в первые годы после оккупации можно было услышать: "Сходил в Бабий Яр, накопал...". Добывали ребята всякую мелочь: то ножницы, то напильник... Люди шли туда с вещами и инструментами. А после второй катастрофы на поверхности – и кости, и остатки каких-то железок, и куски почерневшей материи...
А еще через десятилетия – вот этот протезный завод. И тоже выбрасывает на поверхность.
Ничто не уходит.
Нас в машине – трое, и мы едем в Иерусалим. Тишина и покой. В Израиле в сентябре еще лето, но уже нет зноя. Едем-катим по гладкому шоссе, слева – поле с редкими масляничными деревьями, справа – то же. Однообразие и шуршание шин. И вдруг мне стало страшно. "Ты что, бедуинов боишься?", – дочка улыбается и что-то говорит водителю. Тот резко затормозил и оглянулся. И говорит, что в этих местах происходили жестокие сражения с крестоносцами. Когда? В Средние века...
Это не имеет значения – когда. Важно, что были. Он экскурсовод, он знает.
Ничто не уходит.
Кейк-Уок вместо Жиги
После Сарабанды положено исполнить Жигу и этим завершить цикл. Такова традиция от 18-го столетия. Но она нарушалась, почему-то чаще всего – в 20-ом веке, хотя, как ни странно, Жига бытует и поныне в старых моряцких пабах. Но, как видно, это другая форма бытования. Для долговечности жанра требуется способность его к инотолкованию его, к иносказанию. Вероятно, после тех Сарабанд, что оставил нам в наследие 20-ый век, Жигу не с чем ассоциировать.
* * *
Сижу я в кресле, в которое втиснула меня Настасья, когда мы делали корону. Когда это было? Передо мной стоит мишка все в том же положении: в глубоком поклоне. Я смотрю на свою Настасью: она устала. Еще бы, – думаю я. После долгих перипетий, навязанных бабушкиной памятью, после путешествий по временам, о которых она знать не знает и ведать не ведает, слава богу...
– Чего бы ты хотела, Настасья?
Настя отвечает сразу:
– Пирога. Сладкого. Я есть хочу.
Правильно. Простое житейское решение – сладкий пирог. Есть даже такой танец: Кейк-Уок называется. По-английски пишется одним словом «cakewalk». Шествие с пирогом. Танец родился в Америке, и музыка похожа на джаз.
– Ты знаешь, что такое синкопа?
– Знаю, – говорит Настя. – Синкопа – это икота в музыке. Чаю хочу с пирогом.
– Пирог на кухне. Приглашай своих кукол. Тех, которых мы с тобой делаем из пластмассовых ложек. Помнишь, как мы их называем? «Населением планеты». А у композитора Дебюсси есть произведение «Кукольный Кейк-Уок». Вот и получается: Кейк-Уок для кукол, населяющих планету. А что до короны, то пусть ее носят наши куклы: короли, королевы и принцессы.
– Бабушка, у тебя был друг в детстве? Был? Так вот, это была я. Ты была еще маленькой, и я тебя качала. Покачай меня так, как я тебя, когда ты была маленькой.
Notes
[
←1
]
Сюита (франц. suit, ряд, последовательность) – циклическое произведение, состоящее из законченных пьес. Для С. характерна относительная свобода в подборе, количестве и способе объединения частей. В основе жанра танцевальной С. укоренились основные танцы: Алеманда, Куранта, Сарабанда, Жига. Между ними возможны другие танцы, как, например: Менуэт, Гавот, Мюзет, Ригодон, Паванна, и. т. д., в 20-ом веке – даже Шимми, Бостон, Кэк-уок.
В данной повести-сюите название глав условно.
[
←2
]
* Эванстон – пригород Чикаго
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



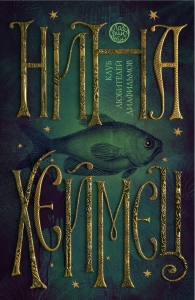






Комментарии к книге «_201.DOCX», Jamie ebook.convertstandard.com
Всего 0 комментариев