Маргрит де Моор Крейцерова соната
Приношу благодарность Хенку Гиттарту, альтисту Квартета имени Шёнберга, а также Милану Шкампе, альтисту Квартета имени Сметаны, за предложенный ими анализ Первого струнного квартета Яначека, который послужил основой разбора в двенадцатой главе.
Соблюдение целомудрия есть серьезное обязательство. Хотим ли мы, чтобы наши жены сдерживали свои желания?
Я не знаю браков более неудачных и печальных, нежели те, в основу которых положены красота и любовные порывы. Необходимы более солидные и прочные основания, а также придирчивый взгляд; распущенность до добра не доводит.
Мишель де Монтень1
Прошло десять лет, и я снова встретил слепого критика, Мариуса ван Влоотена, потомка аристократического рода, того, что когда-то давно, еще будучи студентом, выстрелил себе в голову из-за несчастной любви. В аэропорту Схипхол в очереди на регистрацию он стоял последним, и я его сразу узнал по его огромной, сгорбленной и словно охваченной гневом спине. Его череп блестел. Несмотря на погожий летний день закутанный в темно-синий плащ, он медленно продвигался вместе с очередью вперед, при этом постукивая перед собою тростью. С тем же удивлением, что и раньше, я наблюдал, как часто и неуверенно он обшаривал ею пол у себя под ногами, словно в начале своей слепоты, когда она была еще ребенком, он не потрудился воспитать это свое шестое чувство, не привил ему необходимых навыков. Я встал в очередь следом за ним. Предполагая, что он, так же, как и я, летит в Зальцбург на Фестшпиле, я решил себя назвать.
Я кашлянул. “Господин Ван Влоотен”, — сказал я и тронул пальцами его руку. Я знал, что когда слепой слышит голоса или ощущает прикосновения, люди выскакивают для него словно из пустоты.
Я представился.
— Возможно, вы меня уже не помните, но мы раньше встречались.
Резко развернувшись в мою сторону, он взмахом руки приказал мне замолчать. Я взглянул ему прямо в лицо и с ужасом заметил, насколько оно изменилось: я с трудом мог поверить, что время может нанести человеку подобный урон. Под глазами у него пролегли черные круги, уголки рта были опущены вниз. Знакомая мне впадина над ухом — отметина огнестрельного ранения — вызывала уже не страх, а лишь мимолетное воспоминание о летних вечерах, об элегантно накрытых столах, о сиявших над ними хрустальных люстрах и о коротеньком каноне для скрипки с виолончелью: до-диез — ре — до-диез — си — до-диез — фа-диез — ре — до-диез — си — обстоятельствах нашей первой встречи.
— Разумеется, я вас помню! — его скрипучий высокомерный голос прервал мою звуковую галлюцинацию. — Вы тот самый молодой человек, вместе с которым я когда-то летел в Бордо.
— Да, — с готовностью подтвердил я. — И на полпути мы надолго застряли в Брюсселе.
Он сильно вытянул вперед шею.
— Еще бы мне не помнить вас и вам подобных! — его лицо побагровело. — Такие, как вы, сметливы, интересуетесь слишком многим сразу, и, следовательно, не знаете ни одной настоящей страсти. Обычная история: учеба на музыковедческом факультете Амстердамского университета, из дома помощи ни гроша, жизнь на стипендию, временные подработки, диплом по Шёнбергу.
Я кивнул, нехотя соглашаясь:
— Серия коротких романов, которые вы называете встречами с женщинами, вернее, с девушками, как вы их зовете на своем языке. В итоге вы женитесь на одной из них, предварительно объяснив себе, почему именно эта, а не другая, и оформляете в банке ипотечный кредит на двоих. Только позвольте спросить: для чего, собственно, это нужно?
Он говорил с беззастенчиво нарастающей злостью. Люди в очереди начали оборачиваться. Ярость и негодование, которыми был пронизан весь его облик и которые я заметил еще тогда, во время нашей первой с ним встречи, приписав эти черты ошибке его молодости, превратились, судя по всему, в своего рода помешательство. Я смотрел на него молча до тех пор, пока он, достаточно громко пробормотав что-то себе под нос, от меня не отвернулся. Безо всякого перехода, словно читая книгу, я подумал: важен не сам поступок, а то, к чему приводят его последствия.
Было полшестого вечера. Через широкие окна в зал вылета падали лучи августовского солнца. Очередь медленно продвигалась. Регистрировали не только рейс в Зальцбург, но и в Бухарест, следствием чего становились долгие и нудные переговоры о самом невероятном багаже. Времени поразмыслить над драмой, которую сам Ван Влоотен десять лет назад, когда мы невольно застряли в аэропорту Брюсселя, назвал своей ошибкой молодости, у меня было более, чем достаточно, и я стал вспоминать эту историю, которую он подробно, но без пафоса трагедии мне тогда рассказал.
Тогда тоже было лето. Лето — время музыкальных фестивалей, конкурсов и мастер-классов. Я летел в Бордо, где в Шато Мелер-Брес готовились к проведению мастер-класса для струнных квартетов. В результате долгих переговоров удалось привлечь к участию в нем Эжена Ленера, в прошлом альтиста легендарного Колиш-квартета. Я надеялся, что сумею улучить минуту, чтобы взять у знаменитого музыканта интервью для исследования, над которым в ту пору работал. Мне казалось невероятным, что этот человек до сих пор жив и с ним можно будет поговорить. Поражал не его возраст — наверное, ему не исполнилось еще и семидесяти лет — а скорее некая предупредительность, особая, верная слуху преданность музыке, что составляет отличительную черту седой, почти бесследно ушедшей в прошлое эпохи, которую он собой олицетворял.
Не помню уже, почему я решил тогда лететь самолетом. Я люблю путешествовать поездом, ведь, несмотря на то, что сверхскоростной экспресс представляет собой суперсовременный состав с передвижным буфетом на колесах и фиксированными спинками кресел, несмотря на то, что машинист по рации называет на трех языках свое полное имя и фамилию и лично обещает пассажирам любую помощь в пути, чтобы затем до конца маршрута ни разу о себе не напомнить, у нас по-прежнему остаются вокзалы. Купольные перекрытия, семафоры, стрелки — смотришь из окна своего купе на медленно исчезающий из виду Salle d’Attente Première Classe[1] и понимаешь: покачивающийся, слегка вздрагивающий мир диванчиков, уютно устроившись на которых пассажиры, склонясь друг к другу, поверяют друг другу истории своей жизни, почти не изменился.
Когда я поднялся на борт самолета, улетавшего в Брюссель, Ван Влоотен сидел в кресле у прохода, рядом с моим. Пускай не лично, но мы уже были знакомы. Его считали и до сих пор считают выдающимся критиком, с независимыми взглядами, с блестящим пером, которое способно отличить, к примеру, когда причудливый рисунок, характерный для музыки двадцатого века, становится для композитора самоцелью, хитрой уловкой, а когда он — результат поисков зрелого ума, занявшего четкую позицию. То, что наш критик путешествует туристическим классом, меня не удивило. О нем было известно, что, по каким-то ведомым лишь ему одному причинам, он предпочитает скрывать от внешнего мира свое материальное благополучие. Об этой его особенности кто-то однажды заметил: “Так восточная женщина прячет свое красивое лицо”.
Я извинился. Он встал. Я протиснулся мимо него. Самолет поднялся в воздух, с задержкой не больше, чем на полчаса; причин волноваться по поводу пересадки в Брюсселе у меня не было. За двадцать пять минут, что длился этот полет, мы с моим попутчиком успели съесть по круассану и выпить по чашке кофе. Разговорились мы лишь после того, как Ван Влоотен в зале брюссельского аэропорта, несмотря на все свои манипуляции с тростью, врезался в мраморную колонну.
Он отступил назад:
— Черт побери!
Я поспешил ему на помощь и, взяв его под локоть, спросил:
— Вы не ушиблись?
Этот инцидент произошел вскоре после того, как объявили, что рейс в Бордо откладывается на неопределенное время. Тогда мы еще ничего не знали, но в течение нескольких последующих часов до нас, обрастая подробностями, дошло известие о том, что “Боинг 737” со ста пятьюдесятью пассажирами на борту, тот самый, на котором мы вскоре должны были лететь в Бордо, в силу пока еще не выясненных обстоятельств, потерпел крушение в Хитроу.
— Ушибся, да еще как! Этот столб выдвинулся по крайней мере на полметра вперед. Знаете что, любезный, пойдемте-ка поищем бар. Я угощу вас виски.
И хотя я и понятия не имел о том, где тут среди киосков и окошек различных служб может скрываться бар, я предупредительно взял его под руку. Мы прошли всего несколько шагов, и я, убедившись в том, что он знает дорогу, целиком положился на его чутье. За то время, пока мы пересекали зал, он не проронил ни звука. Мне показалось, что метров сорок пути вдоль стеклянной торговой галереи он идет, затаив дыхание. Я сжал его локоть, предупреждая, что сейчас нам предстоит обойти выросшую на нашем пути груженную доверху тележку, но тут он вдруг сам свернул вправо. Когда мы уже миновали препятствие, он, словно чтобы вполне удостовериться, слегка постучал по нему тростью — и действительно, там оно и было! Искоса взглянув в его лицо, я заметил на нем удовлетворенное выражение, но весь фокус я оценил лишь намного позже, когда узнал об особом типе восприятия, о своеобразном тонком механизме, который развивают в себе некоторые слепые, — он позволяет им заранее замечать препятствия, возникающие на их пути в виде деревьев, фонарей, контейнеров для мусора или стекла, велосипедных парковок; метра за два они опознают их как неподвижный объект, излучающий в темноте сигналы, неуловимые для органов восприятия обычного человека; эти колебания ночного эфира — вещь чрезвычайно тонкая, почувствовать их можно только в полной тишине, но порой, в минуту опасности или величайшего напряжения воли, слепому даже среди сутолоки и суматохи удается применить свой удивительный инструмент, натянутый подобно акустической сетке на его лоб, нос и щеки; давление на нее рождает тот тип восприятия, который раньше по праву считался зрением, но теперь смотрят уже не глаза, а все лицо целиком.
Мы добрались до горящего красными буквами бара “Чарли”, Ван Влоотен передвигался тяжелой походкой, как раненый великан, — таким, я знал, он мне и запомнится. Я заметил слева от стойки бара свободный столик, над которым висело зеркало. Мой приятель покорно положил руку на мое плечо и двинулся за мной к стульям, на которых, как я чувствовал, нам предстояло провести немало времени. Мы приступили к первой порции виски. И тогда же услышали первое сообщение из громкоговорителя прямо у нас над головой, — о том, что рейс в Бордо снова на неопределенное время откладывается. Когда я слишком пристально стал приглядываться к его лбу и понял, что столкновение с препятствием было далеко не безобидным, Ван Влоотен это заметил.
Он недобро усмехнулся:
— Что ж, любуйтесь себе на здоровье моей глупостью!
Я почувствовал, что заливаюсь краской.
— Простите.
Я отвел взгляд от шишки, красовавшейся над его правой бровью. Вскоре наш разговор коснулся другой глупости, совершенной им намного раньше, но я так и не мог заставить себя не смотреть на беловатую впадину над его левым ухом ближе к затылку, которую, впрочем, можно было увидеть только в зеркало.
2
— Так вы уверены, что хотите об этом знать?
Она была на три года его старше. Студентка факультета антропологии, почти окончившая курс, — “Да уж, эта девушка — ее звали Инес — была решительна”, — уже после второго или третьего свидания она заявила ему, что отношения их могут быть разве что временными, поскольку в ее планы входит сразу же после защиты диплома начать работу над диссертацией, причем местность, в которой, как ей представлялось, это будет происходить — высокогорные области на востоке Венесуэлы, где живет индейская народность яномама — уже давно укрепилась в ее воображении как некая ее сугубо личная реальность. “Думать об Инес, — сказал мне Ван Влоотен, — это значит ее видеть”, — и начал описывать окно.
Арочное окно, рамы выкрашены светло-голубым, за окном — зимний городской парк. На черной ветке сидит неподвижная птица, вся белая, как снег, а на подоконнике Инес нервно роется в сумке, потому что ей кажется, что она забыла ключ от дома. Она с минуты на минуту готова уйти. Он наивно спрашивает: “Может быть, он у тебя в кармане пальто?” — не осознавая значения разворачивающейся перед ним сцены ухода. Она вскакивает с подоконника и обшаривает всю комнату. Это большая роскошная комната в особняке, принадлежащем студенческому корпусу, на канале Рапенбюрг в Лейдене. Массивные бордовые кресла с потертой обивкой, рядом стол, накрытый желтой клеенкой, вот такая обстановка — но ему было тогда всего двадцать два. На кровати возле стены с деревянными резными панелями он провел со своей любовницей ночь, там же они позавтракали, потом в неудобной позе, опираясь на локти, читали свежий номер газеты, ее он незадолго до этого поднял с коврика перед дверью, спустился на два лестничных пролета вниз в халате и в тапочках, не понимая того, что его девушка, оставшаяся наверху, имеет на жизнь свои собственные планы. Сейчас она смотрела на него так, словно он никогда не покрывал ее с ног до головы поцелуями. Она нашла свое пальто, выудила из кармана ключ, протяжно зевнула. Не прошло и пяти секунд, как со словами: “Ну ладно, пока!” она исчезла.
Он изучал право, да, именно так — осваивал специальность своих отца и деда, одного из которых она привела на должность министра, а второго во времена правления Юлианы сделала обер-шталмейстером. Мариус был талантливым ребенком, выросшим в роскоши. Пойдя по стопам своих родителей, имевших кучу друзей-иностранцев и много путешествовавших по свету, он свободно владел тремя иностранными языками и чувствовал себя как дома в театрах и концертных залах Лондона, Парижа, Вены и Берлина. Ни он, ни его родители не сомневались в том, что он станет великим человеком. Верный своему абстрактному предназначению и вопреки всем скрытым в нем талантам, он поступил на факультет права, разумеется, в Лейдене, что казалось ему разумным, необходимым и отчасти мистическим долгом. Целых два года он проучился там, не ломая себе голову над вопросом “зачем”. И вот однажды зимним утром после пирушки он вдруг открыл центр своего существования. После долгих блужданий в тумане Инес предложила ему кофе и омлет со шпигом. Студенческое общежитие стояло на окраине. Окна выходили на пастбища. Лифт завораживающе медленно полз на последний этаж… В тот же день, вернувшись через несколько часов домой, он сел за накрытый клеенкой стол, заправил в пишущую машинку лист бумаги и напечатал: “Мир — это…”
С тех пор он стал нуждаться в ее лице, ее взгляде, жестах, в ее походке, манере оборачиваться, он испытывал острую потребность видеть ее фигуру в красном плаще за самым дальним столиком в шумном кафе о встрече, в котором они условились. Она была с ним нежна. То, что он проглядел другую, туго натянутую в ней струну, оказался слеп к приметам ее отъезда, объяснялось его желанием. С которым он, как ему казалось, умел справляться, когда оставался один. Когда он бывал один, он считал, что не об Инес думает, а просто переписывает, вглядываясь в аккуратный почерк друга и все основательно сокращая, лекцию о принципах принудительного и регулирующего права. Но стоило ему только в условленный час услышать, как открылась и гулко хлопнула тяжелая входная дверь особняка — у Инес был свой ключ — и ее решительные шаги, вверх по лестнице, ступенька за ступенькой, как снова не оставалось в мире ничего иного, ничего более умиротворяющего, чем его желание, разгоравшееся с каждым днем все жарче, при том что виделись они практически ежедневно, доводившее его чуть ли не до нервного срыва, и — что, вероятно, больше всего сбивало его с толку, — Инес всегда с готовностью разделяла его страсть.
— Представьте себе на пороге явление — женщина, только что примчавшаяся на велосипеде, из-за холода до того закутанная с головы до ног, что кажется завешанной до предела вешалкой.
Ван Влоотен вдруг замолчал.
— И что дальше? — нетерпеливо спросил я.
— Погодите.
Гул голосов вокруг нас тоже постепенно смолк. Затем в громкоговорителе у нас над головой раздалось шипение, и я заметил, что все сидящие в баре, к тому времени уже почти заполнившемся, с серьезными, внимательными лицами прислушиваются к сообщению, касающемуся многих. Впрочем, мы уже заранее покорились судьбе. Рейс на Бордо в очередной раз откладывался.
Официант принес нам еще по порции виски. Мы пригубили из своих рюмок и продолжали молчать. Я был уверен, что Ван Влоотен, так же, как и я, чувствует пульс опасности, о которой только и было разговоров за соседними столиками. Я встретился взглядом с каким-то мужчиной, складывавшим газету “Морген”. Он тут же поднялся с места, словно я обратился к нему с некоей просьбой, но, подойдя к нашему столику, вдруг почему-то опустил руку на рукав моего спутника.
— Не развернулось посадочное шасси, — сказал он Ван Влоотену, — но я знаю, что пилот попытался вторично завести мотор.
После чего он, не дожидаясь наших комментариев, скрылся с газетой под мышкой за раздвижными дверями.
Когда Ван Влоотен продолжил свой рассказ, я ощутил беспокойство. Я знал, чем он закончится. Я предчувствовал мрачный финал, приближающийся буквально с каждым его словом, и одновременно понимал, что, словно некий свершившийся факт, он уже висит в воздухе. Она начала опаздывать. Не затрудняя себя оправданиями, все чаще отменяла встречи. Это было летом, по выходным она приезжала к нему домой в Вассенаар. Случалось порой, они безмятежно сидели с родителями воскресным полднем, поджидая ее, на ступеньках веранды — тени от каштанов ползли в сторону загонов для скота, и спешить в принципе было некуда. Вдруг раздавался телефонный звонок. И как все это его уже тогда не насторожило?
Я не ответил. Не задал ни одного вопроса. Но до сих пор помню свое неприятное ощущение в ту минуту, когда лицо сидевшего напротив меня собеседника вдруг напряглось, как это свойственно слепым, пытающимся вспомнить забытую привычку и воспроизвести некое подобие улыбки. Сам я в ответ не улыбнулся. Он продолжал: так было потому, что Инес по-прежнему с ним спала, потому что она горячо и с огромным воодушевлением разделяла его страсть.
Его голос стал насмешливым. “А что это значило в те времена, об этом вы, нынешние, и понятия не имеете!”
Он наполовину обернулся и щелкнул пальцами. Немедленно явился официант: “Что желаете?”, но Ван Влоотен лишь уперся двумя пальцами в стол и принялся объяснять дальше: “В те времена женщина не ложилась так поспешно в постель с мужчиной. Женщины были более гордыми и осторожными. Отдаться мужчине — так даже самые легкомысленные из них называли свою уступчивость — это кое-что значило, и даже самые легкомысленные признавали глубоко скрытый внутри их естества закон, говорящий о том, что каждый организм в первую очередь стремится к воспроизведению и усовершенствованию своих качеств, короче говоря, женщина знала, что может забеременеть. Да-да, страсть в те времена приравнивалась к выбору партнера для продолжения рода, так я и сам это понимал. И не сомневался, что эта красивая женщина подарит мне пятерых детей!”
Она закончила учебу к концу февраля следующего года. До этого целый месяц у него почти не появлялась, но он объяснял это себе тем, что все ее время было занято дипломом. Его любовь между тем продолжалась, его миром была Инес. Окончание университета она отмечала в бывшем трамвайном депо в Угстгейсте, там стояли два маленьких забытых голубых трамвайчика с надписью «Угей». Друзей собралось человек сто. Инес запомнилась в ало-красном платье с обнаженными плечами; когда праздник подошел к концу, он увез ее на мотоцикле к себе на Рапенбюрг. На рассвете они занимались любовью. “Я тебе позвоню”, — сказал он, когда через несколько часов блаженного забытья они стали прощаться — в саду за сводчатыми окнами снова сгущались сумерки.
Когда на следующее утро около одиннадцати он позвонил, трубку никто не снял. Через два часа опять никакого ответа. Потом он перезванивал каждые пятнадцать минут, и когда в десять минут одиннадцатого Инес наконец подошла, она куда-то так торопилась, что выпалила только: “Я сейчас тебе перезвоню!” К двум часам ночи ему надоело ждать, он помчался на полной скорости в студенческое общежитие на окраине города, ее окна были темные, он позвонил в звонок, поднес губы к жалкому домофону над жалким рядом прорезей почтовых ящиков — по-прежнему тишина. На третий день, после того как он набрал номер ее однокурсницы, жившей в соседней с ней комнате, наконец кто-то откликнулся. Мужской голос с готовностью сообщил, что друзья Инес, той девушки, с которой он немного знаком, проводили ее сегодня утром, кажется, в аэропорт.
У него пересохло во рту.
— Проклятье! — прорычал он.
Схипхол в ту пору был авансценой динамики и драмы. Авиапассажиры, лишившись опоры повседневности, лавировали с сумками и чемоданами по помосткам судьбы, и глядя на мигающие буквы, складывающиеся у них на глазах в названия городов и материков, чувствовали себя как-то по-новому. Он не понимал толком, что он здесь делает. Прочитал на табло, что самолет в Каракас улетел, согласно расписанию, в 11.05. С верхней галереи он смотрел на теряющиеся в дали полдера взлетно-посадочные полосы. День был хмурый, дул унылый ветер, но увидеть этого было нельзя, потому что на всем пространстве под затянутым облаками небосводом не росло ни единого деревца. Он смотрел на распластавшиеся на земле безжизненные самолеты и представлял их себе душами кораблей, когда-то приплывших сюда сквозь непогоду по волнам Харлеммермеера и бросивших якорь в этом укрытом от бурь месте. Он отвернулся. Когда в теплом помещении ресторана он взял в руки телефонную трубку, пальцы его были ледяными.
На этот раз он сразу услышал в трубке голос ее однокурсницы.
— Да, — подтвердила девушка. — Сегодня утром она…
Он перебил ее.
— Немедленно дайте мне точный адрес, чтобы я мог найти ее там в джунглях. Адрес и телефон. Я вылечу первым же рейсом.
Девушка заколебалась, сказала: “Мне очень жаль…” и буквально добила его, рассказав следующее: Инес уехала не одна, а вместе со своим другом, выпускником отделения испанского языка и литературы, фотографом-любителем, с которым у нее позавчера была помолвка, а через обязательный срок в четырнадцать дней после прибытия на место — свадьба.
Ван Влоотен сделал неопределенный жест руками.
— Интересно, — продолжал он, — что еще продолжая сжимать в руке трубку, я зримо представил себе револьвер моего отца. Я ничуть не раздумывал. Весь этот глупый план созрел в моей голове в ту же секунду.
“Смит-Вессон” двадцать второго калибра. Вороненая нержавеющая сталь. Хранится в чехле в шкафу в кабинете отца. В отдельном ящике патроны. Ван Влоотен медленно покатил из Схипхола в Вассенаар.
Смущение. Словно стараясь защититься, я устремил на него взгляд в упор — иначе, пожалуй, и быть не могло. Но мой магический трюк на него не подействовал и ничуть не повлиял на его сдержанный тон и бесстрастность его мимики. От неловкости, а может быть, из нежелания показаться грубым, я отвел глаза от человека, который давным-давно отвык реагировать на выражение лица собеседника. Мысль, которая у меня вдруг возникла, была никак не связана с происходящим: а не забыл ли я положить в багаж старую, 1945 года партитуру? В отражении зеркала я видел, что бар почти опустел. В нем оставалось лишь несколько мужчин, игравших в карты, какой-то ребенок, рыжеволосая женщина, запоем читавшая книгу, а чуть ближе — мужчина со страшным, перекошенным профилем, он о чем-то сердито рассказывал, повернувшись спиной к круглым настенным часам.
Его мать была дома. Она сидела за письменным столом в своей комнате вправо по коридору, дверь к ней была открыта. Она подняла голову: сын направлялся в сторону лестницы — очевидно, зашел домой за какой-то вещью, — по пути он на минуту заглянул к ней, чтобы взять ее руку и прикоснуться губами к ее пальцам. Комната его отца была на втором этаже, угловая. Он поздоровался с горничной в коридоре, а в следующий миг, абсолютно не думая о смерти, замер, уставившись на револьвер, затем сунул этот почти килограммовый предмет в карман и прихватил патроны. Затем снова сел на мотоцикл и поехал через Воорсхотен к себе в Лейден. Несмотря на все события последних дней, в комнате у него царил порядок. Деревянный пол тихонько поскрипывал. Он снял с себя защитный шлем и очки, немного протер глаза и зарядил револьвер. Ни на секунду ему не пришла в голову мысль о прощальном письме, в его сердце жила лишь одна цель. Встав к арочному окну спиной, он взвел курок и приставил дуло к черепу над ухом.
— Возможно, я прицелился чересчур близко к затылку, — сказал мне Ван Влоотен, — или направил дуло слишком косо.
Я смотрел ему прямо в лицо. Его голова сейчас, как впрочем и до этого, легонько покачивалась — в чем можно было усмотреть единственное проявление в нем каких-либо эмоций.
— Или направил дуло слишком косо, — пробормотал он, набрал воздух, словно желая сказать что-то еще, но в этот момент его перебил голос из громкоговорителя:
“Пассажиров рейса АП-401 просят срочно пройти на посадку”.
3
— Выстрел? — снова заговорил он. — Вы хотите знать, как после подобного выстрела можно остаться в живых?
Он вытер салфеткой рот и в расправленном виде положил ее поверх опустевших лотков и чашек.
— Это бывает чаще, чем вы думаете. Таких случаев описано множество, и вы, наверное, не удивитесь, если я скажу, что подавляющее большинство поступает из скандинавских стран.
Нас окружал уют, знакомый авиапассажирам, которым только что был предложен совсем не дурной, а вернее сказать, удивительно вкусный обед. Французская авиакомпания, еще не забывшая искусство заглаживать промахи, подала цесарку-гриль в сочетании с «Шато Лаланд» 1970 года. Потом было виски. У меня сложилось впечатление, что мой попутчик, впрочем, как и я сам, ощутил на дне последней рюмки тот градус крепости, который превращает все вокруг в хрустально-прозрачную нереальность. Пуля, как сообщил мне Ван Влоотен, застряла в задней доле его больших полушарий.
Лейденская Академическая больница до сих пор славится на весь мир своим отделением нейротравматологии. Его внесли на носилках через вход со стороны Рейнсбюргервега, без сознания, но со все еще бьющимся сердцем. Во время операции, продолжавшейся четыре часа, врачи сумели остановить кровотечение и удалить сгустки крови, в то же время им стало ясно, что ткани коры головного мозга в нескольких местах безнадежно повреждены. Когда он пришел в себя, была ночь — он ничего не понял. Невообразимая усталость, чьи-то голоса и пальцы, растирающие его предплечье. Он задавал себе неизменный вопрос: “Где я нахожусь?”, затем ему захотелось узнать, сколько сейчас времени. Потом на протяжении нескольких часов он медленно осознавал тот факт, что ему удалось пережить свою смерть.
— Разве конец — это не всегда начало чего-то нового? — с пафосом обратился ко мне Ван Влоотен.
Конец его любви к Инес стал одновременно началом его слепоты, и неудивительно, что он рассматривал и то и другое как два взаимосвязанных полюса рока. Разумеется, в начале он был в тяжелейшем состоянии. Беспомощность и отчаяние — неизбежные спутники человека, свет для которого померк. “Где бы я ни был, там, кроме меня, никого не было. То, что я называл своим “я”, оказалось упрятанным под черный стеклянный колпак. А весь мир куда-то растворился. Мир — это ведь то, что мы познаем, ощущая и воспринимая, — это его главная отличительная черта. На близком расстоянии вполне пригодны руки, нос и рот, но для дали, как ни крути, нужны глаза. Мне часто снились сны. Они были немые, заполнявшие их призраки мгновенно улетучивались, стоило мне только открыть глаза. Проводя рукой по голове, я чувствовал колючки — это снова потихоньку начали отрастать волосы. Вот и всё. Моя вселенная была невелика, она состояла из моего тела, заключенного между двумя простынями. Не проснувшийся интерес к жизни, а тошнотворный страх выгнал меня однажды из постели и заставил вытянутыми руками исследовать размеры моей комнаты, ее стены и углы”.
Весна выдалась дождливая. Поджав колени, Ван Влоотен сидел в кресле-качалке на веранде родительского дома. Со всех сторон его окружали привидения: его родители, сестра Эмили, друзья, прислуга. При нем все ходили на цыпочках, понижали голос, угадывали его желания, прежде чем они у него возникали. “Уйдите, — думал он про себя. У меня болят руки, ломит колени. Что общего у меня с вами?”
— Я научился определять свой темп по стволам деревьев, встречающимся на пути во время прогулки.
Ван Влоотену, очевидно, пришла в голову какая-то мысль. Он немного помолчал, затем повернулся ко мне.
— А не кажется ли вам, — спросил он, — что личное счастье, неважно какое оно, большое или маленькое, — это скорее черта характера, а не внешние обстоятельства?
Я не ответил, потому что в эту минуту рядом с нами в проходе появился стюард с тележкой. “Что вы будете: коньяк или же вы предпочитаете арманьяк?” В сумраке я наблюдал за Ван Влоотеном, который поднес рюмку к носу. “Он прав”, — подумал я. Но даже в том, как он покачивал рюмкой, чувствовалось его уязвленное самолюбие.
Впрочем его голос звучал по-прежнему миролюбиво. Он сдвинул спинку своего кресла, я последовал его примеру. Почему-то я предчувствовал более благоприятный поворот событий. Мне казалось, я уже высказывал ему мысль о том, что не только глаза, но и уши могут стать важным посредником между человеком и небосводом, между человеком и сторонами света и что… Он перебил меня, закашлявшись:
— Как я уже говорил, весна выдалась дождливой.
Холод, дожди. Сидя в своем кресле-качалке, он слышал, как барабанят капли по молодым листочкам каштана и как еще тише и ритмичнее шуршат они в листве берез — березовая аллея протянулась вдоль подъездной дорожки к дому и вдоль гаражей до самого поросшего травой бугра, на котором паслись упитанные светлогривые пони его матери.
Ночью в постели он слышал, как поднимается ветер и то усиливается, то стихает капризный дождь. Он легко различал наклонную черепичную крышу, вертикальную стену фасада, дверь в углублении ниши, крыльцо, с которого стекала вода, бесконечно шурша по газонам и дорожкам, ручьями бежала до самого шоссе, по которому в сторону Амстердама и Гааги мчался поток машин. В утренней тишине он слышал, как из кустов выползают ежи и с шумом пробираются во двор под кухонный навес, чтобы поскорее допить молоко из кошачьих мисок.
Однажды, примерно около полудня, он по звуку различил высоко в небе самолет. Его гул приближался и в то же время отклонялся куда-то вбок и назад, то вниз, то вверх, и вот наконец резкие вибрации заполнили собой все пространство. Словно перед ним вдруг раскрылся атлас, он увидел местность, над которой пролетал самолет, и одновременно словно рассматривал картинку из рекламного проспекта авиакомпании — пунктирные линии, расходящиеся в разные стороны, подобно хвосту ракеты: в сторону Парижа, Вены, Берлина, Цюриха… В эту минуту для него началась его новая жизнь.
Но первое, что пришло ему в голову, были не гостиницы и не парки, в которых ему когда-либо приходилось бывать с родителями, и даже не художественные музеи, — его неудержимо потянуло в концертные залы — Зал Плейель, Музикферайн, берлинскую Филармонию, Музикхалле. В тот вечер, дождавшись, когда все в доме улягутся спать, он пошел в гостиную слушать “Весну священную”. Это были пластинки на 78 оборотов, запись 1946 года, играл Пьер Монто в сопровождении симфонического оркестра Сан-Франциско, и может, один лишь Господь Бог был свидетелем того, с какой сосредоточенностью он вставлял в проигрыватель одну за другой все десять пластинок, менял стороны, с трепетом слушал это разворачивающееся с эпическим размахом музыкальное произведение, сопровождаемое шипением и треском, благодаря иголке, опущенной на вращающуюся с бешеной скоростью пластинку.
— Если сравнивать с другими, это было на редкость удачное исполнение, — сказал, обращаясь ко мне, Ван Влоотен. — Довольно много ошибок, но Боже правый, спроси меня сейчас, кто еще с таким сладострастием сумел передать этот зловещий ритм, этот угрожающий темп, этот непростительный восторг, которым сопровождается убийство девушки…
Его фраза перешла в задумчивый вздох.
Вскоре после этого он по заданию газеты “Фадерланд” отправился на выступление “Деллер Консорт” в Гаагской Дилигенции. Сопровождать его вызвалась сестра Эмили. “Теперь она порядочная зануда, — рассказывал Ван Влоотен, — но тогда была милая хохотушка, только что окончившая частный пансион в Брюсселе”. Когда контртенор начал песню Перселла и шекспировский текст стал понятен до последнего слова, она из лучших побуждений положила руку поверх руки брата, из лучших побуждений, разумеется, но только это было ошибкой — он прочел в этом жесте близорукость чувствительной души, заметившей его очарованность звуками, но не сумевшей понять, что причиной тому была не горечь утраченной любви — вовсе нет, — а некая феноменальность, которая была выше в том числе и его понимания: “If music be the food of love, come on come on, come on come on, till I am filled am filled with joy!”[2]
И затем для него началась жизнь, состоящая из такси, поездов и самолетов, но все дороги вели к креслу возле прохода в том или ином концертном зале. Поначалу он делал записи, заносил в блокнот ключевые слова, которые ему потом зачитывал кто-либо из домашних или, когда ему случалось остановиться в гостинице, — горничная с серьезными интонациями в голосе. Но уже скоро его память перестала нуждаться в этих подпорках, выдавая из тишины молчания его собственные темы и идеи с такой услужливостью, что пишущая машинка начала казаться ему слишком громоздкой, и он надиктовывал статьи редакторам прямо по телефону в отточенном, отредактированном виде. Он утверждал, что Шопен — это классицист, что Лист за четыре минуты звучания своей “Мрачной гондолы” погружает нас в мир куда более странный, чем весь мир вагнеровского “Кольца”, и еще он заявил, что Альбан Берг в одном из своих струнных квартетов сплел воедино собственные инициалы с инициалами своей тайной возлюбленной, поместив их в нотную последовательность а-b-h-f (эту гипотезу в свое время сочли “беспочвенной”, но позднее выяснилось, что так все на самом деле и было: возлюбленную звали Ханна Фухс). Будучи материально независимым, он писал, о чем сам пожелает, и таким образом в “Нью-Йорк таймс”, к примеру, могла появиться страстная речь в защиту второй симфонии Маттейса Вермёлена — “дикая, топочущая нидерландская “Весна” — а “Провинциальный Зеландский вестник” вдруг помещал его подробную рецензию на “Лулу”, поставленную в Венской государственной опере с феноменальным исполнительским составом.
Быть критиком — это значит быть защитником. Он защищал музыку своего времени, потому что она больше всего в этом нуждалась, но в душе не делал различия между музыкой прошлого и настоящего. Так он привел однажды один очень старый аргумент в пользу самого что ни на есть нового, наисовременнейшего, сверхсложного произведения Стравинского “Плач пророка Иеремии”: “Чтобы его понять, — заявил он, — слушатель до конца пьесы должен уверовать в Бога”. Еще он писал, что существуют отдельные пианисты, в исполнении которых Бетховен и Шуберт звучат как авангардисты, каковыми они в свое время были и до сих пор остаются; такие исполнители во время своей игры превращают нас, слушателей, в соотечественников этих титанов музыки, позволяют услышать то, чего мы никогда прежде не слышали.
Ван Влоотен подробно рассуждал о том, что музыка бросает вызов времени. Во “Франкфуртер Альгемейне Цайтунг” он один раз коснулся творчества русского композитора Галины Уствольской, гениально одаренной женщины, еще десятки лег пребывавшей в безвестности, несмотря на высказанные им в ее адрес дифирамбы. Он разыскал ее в Ленинграде. Замкнутая женщина. Крохотная квартирка на одной из гигантских окраин. Его привезли на машине посольства. Порой физический недостаток может сослужить добрую службу. Нелюдимая композиторша взяла у него из рук его визитку на немецком языке, пригласила в дом и угостила чаем. И часа не прошло, как они с ее коллегой-виолончелистом уже играли для него “Большой дуэт для виолончели и фортепиано”. Он был до глубины души потрясен. Впоследствии, в одной из своих довольно подробных экзальтированных статей о ней, он не мог снова не упомянуть о Боге, который, судя по всему, любит музыку, но не жалует изобразительное искусство. Возможно, в утешение себе, слепому, наш критик, воспитанный в духе агностицизма, писал: “Поскольку время — одна из ипостасей Бога, то не удивительно, что он ценит по достоинству музыку, которая есть не что иное, как игра человека со временем, в то время как изобразительный образ, пытающийся остановить мгновенье, возбуждает в нем гнев”.
Но к чему наш критик никак не мог привыкнуть — так это к путешествиям в темноте. В пути он всегда страдал оттого, что нельзя посмотреть на уличные часы. Географическая удаленность его не останавливала: если объявленная программа казалась ему интересной, то, в какой бы точке света это ни происходило, он отправлялся в путь. Тем летом в Бордо уже в третий раз проводился мастер-класс струнных квартетов — по программе мероприятие должно было завершиться двумя концертами для публики.
Наклонившись ко мне, Ван Влоотен спросил:
— Вы уже здесь бывали?
Я отрицательно покачал головой.
— И я не был, — сказал он.
Я недоумевал, чем мог заинтересовать его этот довольно скромный музыкальный фестиваль, тем, что это был сбор молодых исполнителей, играющих в составе струнных квартетов?
— Жюри отобрало также один струнный квартет из Нидерландов, — сказал я.
Он пошарил по столику рукой и поставил рюмку в специальное углубление:
— Я знаю. Шульхоф-квартет.
Пассажиры, сидевшие перед нами и сбоку, выключили свои лампочки. На борту царил полумрак, было очень тихо. Слышалось лишь глухое урчание моторов, которые, как мне казалось, вобрали в себя историю Ван Влоотена. У него самого был вид человека, почувствовавшего облегчение, однако он все время ерзал, пытаясь удобнее расположить в кресле свою массивную фигуру.
— Хороша обязательная программа, — сказал он. — Гайдн, опус 103, квартет Верди, “Багатели” Веберна.
— И еще Яначек. Его Первый квартет, эту вещь играют все, что весьма опасно…
— Ах, “Крейцерова соната”! — он поднял руки и снова нащупал свою рюмку, которая оказалась пуста. — Закажем по второй?
Так в тот далекий вечер мы путешествовали с ним из Брюсселя в Бордо. Полет продолжался максимум полтора часа, но когда я об этом думаю, мне в это не верится, ведь мы с ним успели не только с жаром обсудить Первый квартет Яначека и рассказать друг другу о себе, мы также неоднократно погружались в сон. Помнится, мы не раз попадали в турбулентные зоны, но Ван Влоотен, несмотря на тряску, продолжал спать, и дыхание его было дыханием человека, мирно ворочающегося в своей постели. Как это бывает с воспоминаниями и в сновидениях, я слышу наши голоса, затрагивающие животрепещущую тему влюбленности.
— Вы спросили, женат ли я? — я как сейчас помню, как он это спросил.
Я молчал. После небольшой паузы он сообщил, что и влюблен-то больше никогда не был. Я обмолвился парой слов о сексуальных потребностях. Он небрежно отмахнулся: “Ах, это вы про женщин, ну, разумеется! За их аромат, за их нежность и еще за некоторые вещи я им бесконечно признателен”. “Женщины — существа благородные, — продолжал он. — По природе своей они стремятся заботиться о мужчине, щадить его недостатки. Когда женщина делает вид, что для нее никакого значения не имеет, что мужчина ее мечты слеп как крот, она помогает ему поверить в себя”. Одним словом, он испытывал к женщинам благодарность и нежность, но только не страсть. И разумеется, и близко не было жара ревности, никакого намека на эту болезнь единоличного собственника. Когда его подруги говорили, что им пора уходить, он ничего не имел против, провожал их до двери и махал им вслед, слушая их удаляющиеся шаги.
Ван Влоотен повернул голову в сторону иллюминаторов и вслух стал размышлять о том, как, Господи-Боже, такое вообще возможно — влюбиться в женщину без лица?
— Вы, зрячие молодые люди, — вновь обратился он ко мне, — вы привыкли к ощущению толчка, который вызывает в вас вид привлекательной женщины. Вы даже представить себе не можете, каково это, когда эротический голод должен искать себе пищу без поддержки воображения. Вы можете сказать: но ведь остаются же другие органы чувств! Но нет, человек, который вырос зрячим, целиком и полностью привык доверять глазам.
Я молча задумчиво забарабанил пальцами по столику.
Потом спросил его, а не рисовал ли он себе в воображении черты своих подруг?
— Нет.
Возникла пауза. Он снова заерзал, затем объяснил, что, скорей всего, этому мешала Инес, его прежняя любовь. Не потому, что она продолжала служить для него горестной утратой, вовсе нет, это он мне уже говорил, а потому, что именно ее лицо, с застывшей улыбкой, превратилось для него в момент выстрела в главный из всех женских портретов.
— Как это ужасно, — тихо произнес я и, наверное, под действием коньяка, который помогает нам лучше уловить взаимосвязь вещей в природе, вспомнил строчку из Овидия, запавшую мне в голову еще со школьных лет: “Певцу ее отдали с обещанием, что взор свой обратит он к ней не раньше, чем выйдут они вместе из долины”. Ах! Охваченный грустью, я думал о несчастном Орфее, в порыве страстной тоски обернувшемся, чтобы взглянуть в лицо своей вечной возлюбленной. Только бы увидеть ее! Но в тот же миг она исчезла в тумане, сорвавшись в пропасть, полетела, раскинув в стороны руки, не бросив ни слова упрека своему супругу, во второй раз обрекшему ее на смерть. Лишь робко крикнула “Прощай!”, только и всего.
С холодком в сердце я стал думать об этой назойливой улыбке Инес, и даже в какой-то момент с ненавистью мысленно послал ее к черту.
— Рассказать вам, как она выглядела?
Ван Влоотен. Его голос звучал сдавленно. Может быть, на него так подействовала процитированная мною строчка? Или он был в полусонном состоянии? Я почувствовал, что самолет начал снижаться.
У нее были внимательные глаза цвета крыжовника, полные губы, большое бледное лицо треугольной формы, сужающееся к подбородку, и пепельные волосы. Она почти не пользовалась косметикой, лишь подкрашивала темно-красной помадой губы. Она была среднего роста, примерно метр семьдесят, немного сутулая спина придавала ей слегка озабоченный вид — в действительности она таким образом пыталась замаскировать свою довольно пышную грудь. У нее были относительно длинные ноги с очень высоким подъемом.
Мы впали в задумчивость. Самолет опустился в ночь. В следующий раз мне предстояло встретиться с Ван Влоотеном почти через неделю в Шато Мелер-Брес.
4
— Светлые кошачьи глаза, — сказал я ему. — Когда она на вас смотрит, то возникает ощущение, что она немного над вами подтрунивает, впрочем, вполне непринужденно и дружелюбно. Рот у нее маленький, симметричный, верхняя и нижняя губа одинаково полные. Цвет ее волос я назвал бы, пожалуй, ореховым, когда она их распускает, они у нее до пояса, я это с удивлением обнаружил на этой неделе, впрочем сегодня волосы Сюзанны заплетены и уложены на затылке. Это подчеркивает линию ее подбородка, надо сказать, очень нежную, и изящный профиль.
Мы сидели в гостиничном холле Шато Мелер-Брес. Лицо Ван Влоотена с интересом было повернуто в сторону большой комнатной пальмы в медном горшке, мой взгляд был направлен на полметра правее, туда, где расположились Сюзанна Флир с каким-то молодым человеком, она постоянно кивала головой, как это было ей свойственно, когда она была чем-то сильно воодушевлена. Сам ли Ван Влоотен попросил меня описать ему ее внешность? Я уже не помню. Я познакомил его с ней в тот день, когда он прибыл в гостиницу, в час, когда участники мастер-класса начали присоединяться к живущим в Мелер-Брес постояльцам, собравшимся с террасы или через открытые двери полюбоваться на виноградники на фоне заката. Он протянул ей руку, она вложила в нее свою. Они обменялись несколькими обычными при знакомстве фразами, стоя возле постоянно открывающихся дверей, в которые входили и выходили какие-то люди, и вот наконец ее увлекли за собой четверо шотландцев, члены Анонимес-квартета, после того как она наполовину обернулась посмотреть, кто это там похлопал ее по плечу.
Я знал Сюзанну Флир еще со студенческой скамьи, и до этой минуты, когда мне волей-неволей “пришлось поверить собственным ушам”, я не замечал, что она настоящая красавица.
Она была первой скрипкой, к тому же очень хорошей, в Шульхоф-квартете. Сюзанна Флир относилась к числу тех редких талантов, про которые сразу не скажешь, откуда они, если не прямо из космоса. Родилась она в Рейсвейке, в рабочей семье. Должно быть, ее отец, водитель Гаагского транспортного предприятия, взяв с собой свою пятилетнюю дочку, однажды доехал на автобусе, который вел его собрат, до ближайшей к музыкальной школе остановки на Принсеграхт, в самом сердце Гааги, и направился прямиком к зданию, перед зеленой лакированной дверью которого нередко прежде делал остановку и сам. Погруженный в свои мысли человек, худой, с черными бакенбардами, я не раз его встречал. Уже овдовев, он приходил в парадном костюме в зал Королевской консерватории, послушать, как его дочь в составе квартета играет “Пять частей” Веберна.
Близких отношений у нас с ней никогда не было. Довольно долгое время мы дружили, и если порой поздно ночью мне не хотелось возвращаться в столицу, она разрешала мне остаться в ее комнате и переночевать в закутке, который почему-то прозвали Лиссабон. Поэтому, спроси меня Ван Влоотен, я мог бы рассказать ему, что Сюзанна Флир спит крепко, разговаривает во сне, что ее тело имеет характерный приятный аромат, и еще что она, во всяком случае по утрам, не думает о фигуре, а основательно заправляется сливочными рожками и свежими булочками, присыпанными зернышками, только что доставленными предупредительным гостем из пекарни. Почему мы не пошли в наших отношениях дальше дружбы, я уже не помню, насколько я могу судить, сдержанность исходила от нее. Возможно, у нее был тайный роман с кем-нибудь из ее преподавателей, или же она спала с каким-то молодым поэтом или композитором, ведь, в отличие от своих сверстниц из Амстердамского университета, консерваторки такие вещи уже тогда себе легко позволяли.
В моих глазах, студента музыковедческого факультета, Гаага была совсем не похожа на Амстердам. Когда по окруженной лугами железной дороге я переезжал на поезде с одного центрального вокзала на другой, в моем внутреннем мире свершалась полная метаморфоза. Если Амстердам, можно сказать, выдвигал оппозицию браку, то Гаага медленно, но верно подрывала господство симфонического оркестра. На своем факультете на Кейзерграхт мы, студенты и преподаватели мужеска пола, обязаны были молчать, если писсуары в туалете вдруг оказывались перетянутыми лентами. На улице, особенно на Дамраке и на Лейдсеплейн, приходилось выдерживать женские взгляды, провожавшие нас и словно свистевшие нам вслед, — это еще надо было суметь выдержать! Пройти одному мимо такого уличного кафе, в котором женская компания сидела за пивом или вином, порой казалось делом весьма щекотливым. Девушки пихали друг друга локтями, хихикали, нахально рассматривали мужской гульфик, — все это несколько смущало, если не сказать — ужасно раздражало.
Продолжительность учебы в университете в ту пору роли не играла. Заговорщицы-студентки, борющиеся с рабством брака, не переживали за оценки, а проводили акции за распространение противозачаточных таблеток. Впрочем, естественно, из политических соображений правильным считалось вообще не ложиться со своими поработителями в постель. Амстердам становился лесбийским городом, оплотом феминизма, которому со временем удалось отучить целое поколение мужчин поклоняться даме и подавать ей пальто.
В Гааге тем временем увлеченно разучивали Шёнберга.
В этом сером правительственном городе стали складываться яркие, динамичные ансамбли, которым в будущем предстояло определять музыкальную жизнь Нидерландов. Заглядывая в обветшалый особняк на Бейстенмаркт, я видел студентов, по-старомодному неподвижно застывших на скамейках вдоль голых стен помещения, которое прозвали залом ожидания. Кругом — безумная какофония звуков. В классах этого здания девятнадцатого века отсутствовала какая бы то ни было звукоизоляция. Они отличались скрипучими полами, великолепными роялями, шкафами, заполненными партитурами, и печками высотой в человеческий рост. Топил эти печки коренастый краснолицый служащий в форме по прозвищу Факел, видевший в этом занятии свое жизненное предназначение. На третьем этаже располагался актовый зал. В нем народ из зала ожидания превращался в музыкантов-инструменталистов и певцов, с удивительным энтузиазмом исполнявших вещи, никогда дотоле не звучавшие в их стране. Я всегда был рад, что не поленился зайти, потому что видеть, как исполняют музыку, это, конечно, не то же самое, что просто ее слушать. И до сих пор помню свое изумление при виде студентов, под влиянием нот вступающих друг с другом в беззастенчивую, почти запредельную связь, которая в скором времени вновь разрешалась чем-то неопределенным.
— Знаешь что, — как-то раз сказала мне Сюзанна Флир — после одной из дневных репетиций мы с ней и со всей группой направились в порт Схевенингена. — Я, пожалуй, возьму копченую селедку.
Море было зеленым, насыщенного зеленого цвета — я подумал об этом, когда входил в шумный холл гостиницы, позади меня — Ван Влоотен. Мы с ней сели на базальтовые плиты возле самого мола и стали смотреть на проплывавшие в двух метрах от нас рыбачьи шхуны. Отчего вдруг ожило и стало таким ярким это воспоминание? Сюзанна Флир протянула руку в сторону одного из суденышек, из маленького четырехугольного окошка каюты на нас смотрела женщина, которая вдруг заулыбалась и помахала нам, потому что ей показалось, что это мы машем ей.
— Ах, и я бы могла так жить… — прошептала Сюзанна Флир едва слышно.
Какой она была хорошенькой, я рассказал Ван Влоотену уже после того, как мы с ним устроились в старинных креслах, и я, сам не знаю из каких побуждений, стал описывать слепому внешность молодой женщины, с которой его недавно познакомил.
Он кивнул, ничего не сказал. Но я тем не менее заметил, что мне, а вернее сказать, ей самой, удалось пробудить в нем интерес. При всей своей сосредоточенности он опять начал характерно ерзать, потом поднял руку — и вновь сию минуту перед ним явился официант. Пока он со знанием дела наводил справки об имеющихся в баре сортах виски, я продолжал рассматривать увлеченную беседой скрипачку в снопе света, падающем сбоку сквозь двери террасы, причем не могу не признаться, что эмоции, овладевшие мной благодаря Ван Влоотену, совпадали с моим личным энтузиазмом. “При каждом новом знакомстве он, должно быть, чувствует себя совершенно посторонним”, — думал я, краешком глаза наблюдая за желтым платьем из тонкой ткани с глубоким вырезом на спине, в котором на фоне бледной кожи выделялась коса.
В какой-то момент Сюзанна Флир, должно быть, почувствовала, что кто-то неподалеку пристально наблюдает за ней. Она обернулась, встретилась со мной взглядом — в ту же долю секунды в ее зрачках отпечаталась картинка: в красиво обставленном помещении стоит официант, склонившийся к слепому критику.
“Иди сюда”, — беззвучно поманил я ее, она улыбнулась и, прикрыв веки, кивнула головой: “Хорошо, сейчас приду”.
— Ну и дальше? — вновь обратился ко мне Ван Влоотен, продиктовав официанту свой заказ.
Глядя на встающую с места Сюзанну Флир и одновременно на юношу, который, быстро поднявшись, протянул ей руку, я продолжал писать женский портрет — холст, масло — и до сих пор не могу понять, как получилось, что в этом виноградном поместье близ Бордо на меня вдруг снизошел дух Пикассо. Критик, если захочет, сможет поместить этот портрет где-нибудь над камином или на стене в одной из комнат своего воображения. Она направлялась прямо к нам, я описал ее угловатые плечи и платье цвета спелой кукурузы. Она смотрела на нас словно издалека, с выражением на лице, которое предшествует еще не начатому разговору: я несколькими штрихами запечатлел эту ее улыбку: она была открытой, но в то же время таила в себе насмешку. Три женщины, движущиеся в сторону террасы, перешли ей дорогу, она отступила на несколько шагов в сторону и остановилась в ожидании возле колонны. Слегка прищурившись, я несколькими штрихами обрисовал ее белую матовую шею и затем с удовольствием провел параллель между руками этой девушки и скрипачкой на сцене в платье с глубоким вырезом или, во всяком случае, платье без рукавов, водящей смычком по струнам и как бы обнимающей музыку, крепко, певуче, нежно, угловато, порой одним-единственным акцентом физически приближавшую ее к слушателям — любому посетителю концертов понятно, о чем идет речь. И вот она здесь. До того как Сюзанна Флир появилась перед столиком, за которым сидели мы, мне как раз хватило времени набросать для Ван Влоотена фон будущей картины: зазубренный, висящий острием вниз меч темно-зеленой пальмы.
5
Все это происходило на фоне дивного пейзажа.
Я тоже вышел на террасу полюбоваться холмами пролегающей напротив гряды Сент-Круа-дю-Мон. Благодаря лучам закатившегося солнца, они, казалось, светились изнутри. Не было еще и семи. За моей спиной в сумрачном холле сидели и беседовали Ван Влоотен и Сюзанна Флир. Разговор их начался с обычных банальных вещей. “Нравится ли вам здесь?” — “Да, конечно”.
“Принимали ли вы и раньше участие в подобных классах?” — “Нет, это впервые”. — “Нравятся ли вам занятия Эжена Ленера, маэстро из Венгрии?”
Она молча смотрела на него некоторое время, как я догадывался, из-за недостатка слов.
— Эти занятия… — она начала фразу и замолчала.
— Что же? — интересовался он. — Эти занятия?
— Они как будто из другого мира, — со вздохом смущения закончила она.
Они сидели почти бок о бок. Сюзанна Флир с ее женской интуицией сразу поняла, что слепому необходимо, чтобы ее присутствие рядом с ним было ощутимо для его осязания и обоняния. Она сидела на стуле с жесткой спинкой на уровень выше, чем он, чуть наклонясь в его сторону. Он тоже, слушая ее, повернул в ее сторону свою большую лысеющую голову, его лицо с несколько перекошенными чертами, было обращено в сторону террасы. Оба курили. Сюзанна Флир, беседуя с критиком, иногда бросала взгляд на меня, поэтому, когда я оборачивался в их сторону, у меня возникало чувство, что оба с полным единодушием смотрят мне в затылок.
В действительности о единодушии не могло быть и речи. Неделя занятий в мастер-классе невероятно сплачивает его участников. Пока Ван Влоотен гостил у давних друзей своей родни в замке Бельве в Перигё, мы провели пять дней в тесном общении. Мастер-класс проходил в отдельном крыле замка. Преподаватели и ученики жили все в отдельных больших номерах со своей ванной, но в течение дня и даже порой в самый неожиданный час ночи встречались в коридорах, иногда лишь затем, чтобы обменяться партией или партитурой или чтобы не откладывая исполнить для товарища неотразимый новый пассаж, показать новую фразировку. “Ага, дверь чуть-чуть приоткрыта? Это, если не ошибаюсь, четвертый Шёнберга?” Было далеко за полночь. Я легонько подтолкнул тяжелую дверь, обнаружил, войдя, альтиста, присевшего на край кровати и что-то наигрывающего, и стал вслушиваться в скачущее agitato из последней части — квартет, написанный еще в 1936 году, при каждом новом исполнении звучит все отчетливей и убедительней.
Поскольку в то время я работал над монографией об одном из лучших коллективов в истории скрипичных квартетов, Венском Колиш-квартете, мне разрешалось присутствовать на уроках Эжена Ленера, его бывшего альтиста.
Сухопарый старик в сером костюме и белой рубашке. Учитель, сидящий в сторонке и слушающий четырех музыкантов: они играют вещь, которую он знал буквально до последней ноты — Первый квартет Яначека. Это музыкальное произведение имеет сюжет. Сюзанне Флир, первой скрипке, отведена женская роль. Впрочем, она думает лишь о нотах и не ломает себе голову над интригой, о которой имеет лишь самое смутное представление. Четыре музыканта сидят спиной к окну, выходящему в сад. Их связывает с учителем расстеленный во всю ширину комнаты ало-красный ковер.
— Вы позволите мне кое-что сказать?
Когда сегодня вечером я к ним вошел, квартет уже играл, а Эжен Ленер только что спросил у Сюзанны Флир, не будет ли она против, если он сделает ей в порядке наставления одно замечание. May I make a remark?[3] Он говорил по-английски с акцентом, характерным для жителя Центральной Европы, который не скроет своего происхождения, даже если проведет полжизни в Бостоне.
Он снял очки. Квартет ждал. Жест музыканта, которым он показал Сюзанне Флир какой-то момент в ее партии, был извиняющимся: дескать, это всего лишь мелочь. Она следила глазами за движением старческой руки.
— Та-та-та… — пропел Эжен Ленер и сделал взмах правой рукой.
С серьезным выражением лица она кивнула.
— Здесь чуточку длиннее, — посоветовал он. — Я бы сыграл это так.
Он показал, пропел и продирижировал: “Тати, тати…”
Она снова кивнула и сделала карандашом пометку в нотах.
Вот как это было. Таким был один из важнейших моментов урока, значение которого выходило далеко за его рамки. Я ясно видел, что, играя и сосредоточенно вслушиваясь, Сюзанна Флир продолжала поддерживать напряженный контакт со своим учителем, иногда он слегка наклонялся в ее сторону, и она это сразу же замечала. Когда трудное место хорошо получилось у нее уже во второй раз, он поцеловал кончики собранных вместе пальцев и промолвил: “Heaven!”[4] И я понял, что, даже не глядя на него, она знает, что его лицо сияет.
Как могла она в то же время увлечься слепым критиком? Она с заметным удовольствием с ним болтала, прикладывалась время от времени к бокалу с пуншем Мелер-Брес, который он для нее заказал, ноги она поставила на нижнюю перекладину стула, и они скрылись под подолом ее юбки. Все хорошо, но на самом деле она до сих пор оставалась в классе возле широкого окна, сквозь которое внутрь проникал свет, точь-в-точь как красные чернила, пролитые на скатерть.
— Вы сыграли это место очень женственно, очень элегантно, — сказал Эжен Ленер. — Так мне нравится гораздо больше.
Участники квартета начали укладывать свои инструменты и подставки для нот. Приближался час обеда. Сюзанна Флир, склонившаяся над своим футляром для скрипки, смотрела на своего учителя с выжидательным выражением, словно спрашивая его: “Ну как, теперь хорошо?”
— Хорошо, — сказал он, но, почувствовав, что она хочет услышать что-то еще, добавил: “Можно повторно провести смычком, не нарушая легато — у вас это должно получиться”.
В следующую секунду к нему подсел альтист с самым последним вопросом. Остальные члены квартета тоже подошли. Эжен Ленер кивнул, немного задумался и с отсутствующим видом начал листать партитуру, по-прежнему лежавшую у него на коленях.
И потом он сделал общее замечание, некое указание, ни к кому конкретно не относящееся, о пророческой силе которого, одновременно прекрасной и пугающей, он в тот момент, наверное, и сам не подозревал. Говоря о музыке, высказываются иносказательно.
— Don’t play the notes, — ласково напутствовал он музыкантов, — just humanize them[5].
Мы молчали, но каждый решил, что он понял, что имел в виду старый маэстро.
У нас оставался еще час с лишним до поездки на автобусе в Гранд Театр в Бордо, где должен был пройти первый из двух заключительных концертов. Вечером должны были играть два венгерских и один американский ансамбль, выступление Шульхоф-квартета было заявлено в программе следующего дня. В обеденном зале Шато для нас накрывали фуршет, ужин планировался на более позднее время. Я решил снова присоединиться к Ван Влоотену и Сюзанне Флир. И о чем это они все время беседуют? Пожалуй, только они вдвоем не обратили внимания на странное сгущение туч над Сент-Круа-дю-Мон. Холмы, казалось, куда-то исчезли, поговаривали о надвигающейся грозе, что было типичным явлением для этих мест.
— Ну-с, как идут дела?
Оба подняли голову и посмотрели на меня, если, конечно, ухмылку Ван Влоотена можно было назвать взглядом.
— Хорошо, — сказала Сюзанна Флир.
Она улыбнулась мне, но не дала увести разговор от темы, которую они с Ван Влоотеном в тот момент обсуждали.
— Это так, — подтвердила она. — Когда играешь, то, конечно же, думаешь в первую очередь о собственной партии.
Он: “Разве вы не исполнитель и слушатель одновременно?
Она: “Да, конечно. Но когда я играю, я не слышу целого.”
Он: “Может быть, это потому, что ваша партия в качестве первой скрипки ведущая?”
Я увидел, что с этой минуты ее глаза спокойно сосредоточились на нем и больше не скользили по сторонам. Она ответила, что действительно, ухо в первую очередь улавливает более высокие звуки, но нередко в квартете не скрипка, а скорее альт с его ложно-скромным голосом, казалось бы, теряющимся в общем хоре, выступает как возмутитель спокойствия.
— Прекрасная миссия, — отозвался он.
Мне было понятно, что он хочет снова заставить звучать ее голос. Ради всего святого, пусть она говорит! Он хотел, чтобы ее кожа и мышцы на лице оживали от притока крови и от прямоты, с которой она выражала свои мысли.
Он спросил ее о счастье игры в ансамбле.
В своем ответе она подчеркнула значение опасности.
— Бывает такое ощущение, — сказала она.
Я знал, что сейчас она уже не в классе, а в помещении за следующей дверью — на сцене.
— Но бывает, что все идет, как по маслу. То, чем ты занимался в жизни, весь пройденный путь, репетиции, поиск, раздумья, все соединяется… в мгновении, которое рождается сейчас. Страха больше нет, ты весь — сплошное вдохновение.
Она нахмурила брови, ее ноздри напряглись.
— И? — промолвил он.
— И тогда настолько растворяешься в общей игре, что говоришь себе: “Э-эй, осторожно!”
Она повернула голову в мою сторону и бросила на меня взгляд, который было трудно расшифровать. Помолчав несколько секунд, она сказала: “Ладно, сейчас мне надо сходить наверх. Через десять минут я вернусь”.
И она ушла переодеваться, Сюзанна Флир, та самая, которая только что разговаривала с загадочным слепым мужчиной. Я был уверен, что ей приятно было его внимание, что ее взволновала его трагедия, но что в ее планы отнюдь не входит привлечь специально к выступлению Шульхоф-квартета внимание знаменитого критика, прибывшего сюда для того, чтобы написать статью. Не таким она была человеком. Вообще с этой минуты все пойдет не так, как было задумано. Он вообще ничего не напишет. Мариус ван Влоотен, не утруждая себя объяснениями, не представит обещанную газете “Ханделсблад” статью, посвященную Международной неделе струнных квартетов в Бордо. В тот вечер он по долгу службы еще сходит на первый из двух концертов. Но лишь при условии, что потом, проигнорировав праздничный ужин, он сядет в такси и вернется назад в свой номер в гостинице. Так он обычно делал. Надиктовав на магнитофонную пленку свои беглые впечатления, он привычно закажет себе порцию стейк де Бордо, запьет жаркое половиной бутылки “Шато Ла Роз” и уляжется спать. И потом в очень странном настроении будет слушать грохот грозы, на краткий миг разразившейся над этими краями — от старой башни Монтеня в Перигё до огромных портовых сооружений, там, где Жиронда, разлившаяся в необозримый поток, впадает в Атлантический океан.
Он навис надо мной.
— Скажите-ка мне, — он был полон любопытства, — когда мы с ней говорили, она смотрела на меня или по сторонам, или, может быть, разговаривая со мной, она смотрела на вас?
На меня… Я взял в руки стоявший перед нами на столе почти полный бокал Сюзанны Флир. Выходит, слепота рождает страх или опасение, что и тебя самого не видно, вдруг подумал я. Я ненадолго закрыл глаза и представил себе, каково это, должно быть, говорить с человеком, который про себя думает: “Какое имеет значение, улыбаюсь ли я ему или нет, для чего вся моя мимика, не лучше ли адресовать выражение моего лица кому-нибудь третьему в нашей компании, ведь мои слова слышно и так”. Я допил единым залпом сладковатую влагу в бокале. Вино ударило мне в голову.
— Она смотрела вам прямо в лицо, — сказал я, — со стороны могло даже показаться, что она хочет прочитать ваши мысли.
Она вошла через стеклянную дверь. Мимоходом помахала нам рукой, направляясь в обеденный зал. Как сейчас помню, я сразу почувствовал, что мой долг, срок которому был не больше, чем тот единственный далекий день, запомнить ее облегающее платье и туфли на каблуках и передать увиденное моему товарищу, добавив в качестве комментария, что она невероятно красивая, как любая женщина, в сердце которой поселилась тайная любовь: веселая, капризная, ранимая, сдержанная, молчаливая, апатичная, умоляющая, жалующаяся, суетливая, озорная, неугомонная, беззаботная, дерзкая, страстная, бешеная, как мелодия на струне “соль”, дрожащая, как тремоло у верхнего порожка, что, иными словами, она не менее прекрасна, чем те ноты, что в последнее время целыми днями звучат в ее голове.
6
Во время перелета из Брюсселя в Бордо мы с ним по этому поводу даже повздорили.
— Ах, прекратите!
— Да-да, — настаивал я. — Это и вправду имеет значение.
— Вовсе нет!
Он сделал глубокий вдох, покачал головой. Впрочем, я не понимаю, зачем я говорил все эти вещи, в которые, по крайней мере тогда, и сам не до конца верил.
— Это имеет значение, — упрямо твердил я.
Повернувшись к нему в узком кресле самолета, я снова пересказал в нескольких словах фабулу этого струнного квартета. Влюбленность женщины. Ревность ее мужа. Сопереживание композитора. Я загнул один за другим три пальца.
Он начал негромко, язвительно посмеиваться.
— Вот значит как! И все это вы выудили из партитуры?
— Это, э…, — я стал подыскивать слово, которое исчерпывающе выражало бы суть бесконечно таинственного процесса музыкального творчества. — Это прячется в самих нотах.
Он даже хрюкнул от удовольствия. Вытянул ноги в проходе и развел в разные стороны руки.
— Прячется! — слово ему явно понравилось.
Несколько секунд я уязвленно молчал, но потом сказал:
— Ладно, возьмем хотя бы письмо Яначека его обожаемой Камилле, в котором он пишет о том, что, сочиняя эту вещь, он думал о несчастной, измученной, заколотой кинжалом женщине, которую описал в своей повести Толстой.
Ван Влоотен: “Да-да. И она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился композитор…”
Увлекшись, я не заметил первых признаков его ярости. Перенимая его высокопарный тон, я продолжил фразу: “Действительно, я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое…” Я ведь тоже читал русские книги.
— Послушайте, — сказал Ван Влоотен. — Я люблю после обеда съесть что-нибудь сладкое.
— Да. Я тоже.
Как раз в эту минуту я заметил стюарда и кивнул ему.
Нам принесли профитроли.
— Как мы правильно сделали, — пробормотал Ван Влоотен, откусывая от пирожного. И затем, возвращаясь к теме, продолжил:
— Сопереживание композитора! При всем моем уважении, сударь, я считаю это не более чем индивидуальным допингом. Уж вы-то, такой умник-разумник, должны бы об этом знать.
— Должен бы это знать?
— Да, должны!
Его голос зазвучал резко. В ответ на что я примирительным тоном спросил: “И что же в результате применения допинга? В результате этого, скажем так, непридуманного индивидуального возбуждения?”
— Само произведение, сударь. Иначе говоря, форма, в рамках которой музыка становится музыкой.
Я облизал свои пальцы. Ван Влоотен пытался выудить из кармана носовой платок. Разворачивая бумажную салфетку, я стал рассуждать об огромном влиянии, которое оказывает музыка на нашу душевную жизнь — об этом было известно уже древним грекам.
— Они думали, что фригийский лад угрожает интересам государства, — сказал я.
Он с раздражением меня исправил.
— Вы, наверно, хотели сказать — миксолидийский. Но я понимаю, что вы имеете в виду.
— Музыка нами манипулирует, — сказал я.
— Это верно.
— Но в то же время она, естественно, может пробудить в нас только то, что, пусть в дремлющем виде, в нас уже было.
Он стал засовывать свой носовой платок в карман и довольно чувствительно заехал мне локтем в бок.
Я продолжал: “И, нравится вам это или нет, но в этом квартете бесспорно скрыто нечто такое, что по своей природе гораздо сильнее сопереживания”.
Он ничего не ответил и отвернулся, словно не желая продолжать этот разговор.
Тихо, но все же несколько громче гудения моторов я произнес слово: “Ревность”.
И затем, на время оставив наш диалог, стал размышлять о скрипучем голосе альта. Квартет был написан быстро, кажется, всего за восемь дней. Но он, Яначек, обдумывал этот сюжет много лет. И вот, очевидно, наступает наконец такой момент, когда тема заявляет о себе.
— К чему вы, собственно говоря, клоните? — спросил Ван Влоотен минут через десять. Он выпрямился в кресле. — Говорите!
— Ни к чему я не клоню. Я даже не понимаю, о чем вы.
Что за муха его вдруг укусила? Я слышал его ворчание, но не мог разобрать слов.
— Потрудитесь, пожалуйста, вспомнить, что я вам только что рассказывал о моих женщинах! — закричал он.
Я достал сигареты.
— Давайте не будем устраивать шума, — сказал я и щелкнул зажигалкой.
Когда я теперь об этом вспоминаю, мне до сих пор непонятно, что послужило поводом для следующего: рядом с нами, в проходе, стюардесса, присев на корточки, заметала в совок осколки наших рюмок. Сам я, согнувшись пополам, пытался собрать рассыпавшиеся по полу сигареты, что было непросто, потому что слепой, казалось, так и норовил растоптать их ногами.
7
15 августа я покинул Шато Мелер-Брес. Это было через два дня после того, как закончился мастер-класс и был сыгран последний концерт. Самолет в Амстердам вылетел с опозданием минут на двадцать, в семь часов вечера. Все происходило в некоторой спешке, крылатая машина только еще начала набирать высоту, а в проходе между креслами уже появилась молоденькая стюардесса и принялась излагать правила безопасности в полете. Я перевел взгляд с вида на девушку, которая с серьезным выражением лица демонстрировала на себе, как застегиваются воображаемые ремни. Глядя прямо перед собой, она сказала: “Оттяните ремни” и показала. Еще она сказала: “Проследите, чтобы столик был убран, и закрепите спинку кресла в вертикальном положении”. Ее голос слегка дрожал, как будто от страха, и я подумал, что она всего во второй или в третий раз в жизни проводит подобный инструктаж для пассажиров на борту. Так или иначе я не мог избавиться от мысли, что в эти минуты в воздух поднимается ящик с десятками человеческих жизней внутри. Это самый безопасный способ передвижения, подумал я, но не мог не вспомнить о крушении самолета в Хитроу, о котором сообщили чуть больше недели назад. Статистика приводит доказательства с помощью цифр, в своей убедительности не уступающих законам природы. Стюардесса обратилась к нам с просьбой еще некоторое время не курить, а я задумался о возможно существующих, но пока что не открытых законах опасности, которые действуют в отношении каждого в отдельности с предпочтением какой-нибудь странной детали.
Примерно около полудня Сюзанна Флир пыталась выпустить на волю неведомо как попавшую в ее комнату черную бабочку, для этого она встала на подоконник и уже в следующую минуту вылетела из окна. Ее номер находился на третьем этаже. Она громко вскрикнула и едва успела схватиться за крепкие, в палец толщиной, ветви дикого винограда Глоуар де Бордо — это растение прижилось в здешних краях и особенно бурно разрослось вдоль стен, выходящих на юго-запад.
В ее комнате в это время находился Мариус ван Влоотен. Сюзанна вспомнила о нем, лишь когда улеглась суматоха и сама она несколько успокоилась, пропустив на каменных ступеньках террасы пару глотков вина. Она обвела взглядом подоспевших на выручку друзей и, заметив меня, знаком попросила меня подойти. “Мариус…”, — промолвила она, одной рукой прикрываясь крахмальной белоснежной скатертью, которую официант второпях сорвал со стола, — Сюзанна была нагая. Девушка красноречиво устремила взгляд на окна, которые, насколько мне было известно, были окнами ее спальни.
Я обнаружил его в полном смятении в коридоре третьего этажа. Мариус ван Влоотен был в ту пору мужчиной с хорошей фигурой, имел отточенные манеры и одевался, несмотря на свою слепоту, с известной элегантностью. Но сейчас я встретил его метрах в трех от лестницы в измятых серых брюках и косо застегнутой незаправленной сорочке. Когда я его увидел, он только что совершил полный круг вокруг своей оси, ощупал руками стену и наткнулся на павлиньи перья, красовавшиеся в высокой вазе на табурете. Он отдернул руки, словно испугавшись, в эту же секунду я заметил на его лице смертельную бледность, сигнал бедствия, и сразу понял, что он боится не за себя и что все это никак не связано с действительностью, с реальностью фактов. Ведь он, должно быть, уже слышал, что его девушка спасена.
— Все закончилось благополучно, — сказал я после того, как проводил его в ее комнату и мы оба присели на краешек кровати.
То, что я ему рассказал, он, мне кажется, уже мог знать и так, благодаря своему слуху и открытому окну: в начале сиесты в тени оранжереи сидели и разговаривали между собой несколько молодых музыкантов, при этом подальше, из теплицы, время от времени доносились грохочущие звуки — это садовник перемешивал лопатой песок с известью. Потом раздался пронзительный крик: “Помогите!”, после чего минуты три-четыре Сюзанна Флир провисела над землей, ухватившись за увивавшие стены ветки, тем временем внизу для нее наскоро устанавливали и раздвигали лестницу. Словно богиня, она спустилась по ней, утопила босые ноги в лавандовой клумбе, наверное, показавшейся ей теплой, и бросила лишь: “Черт возьми, как же я перепугалась!”
Он не проявил никакого интереса. Только молчал и тяжело дышал. Мы посидели с ним так еще некоторое время, на смятой постели, я видел разбросанное по полу белье, его отброшенную трость и желтое платье и почти осязаемо чувствовал рядом с собой злую панику, страх за возлюбленную, умирающую вопреки очевидности, пытающейся убедить его в том, что реальная жизнь потихоньку, без всякой трагедии, пошла себе дальше своим чередом.
Он молчал, стиснув зубы, и наконец проговорил: “Если меня сейчас не вырвет, я задохнусь”.
Я проводил его в ванную, поднял крышку унитаза и помог ему устроиться в нужном положении.
С трогательной неловкостью она протянула в сторону сначала правую руку, затем точно так же левую: аварийные выходы. Она сказала, что в случае отключения освещения в проходе загорятся аварийные лампочки. Я наклонился к иллюминатору, чтобы еще раз увидеть величественную, изумительную картину, которую представляет собой с высоты устье Жиронды. “Она хотя бы понимает, насколько все это для него серьезно? Знает ли она, что за двадцать лет ни одна женщина так его не взволновала?” Я был в ту минуту убежден, что Сюзанна Флир пошла на авантюру со слепым, как вообще идет на любовную авантюру женщина, — пускается в этот маленький водоворот играючи и страстно, всего лишь чтобы убедиться, что данный мужчина ее хочет. Но связать свою судьбу с судьбой другого человека — это уже совсем другая история.
Из разных источников я постепенно узнавал о том, как они сумели поладить. Несмотря на то, что я проводил с ними немало времени, от моего внимания ускользнула их растущая близость, я просто не обратил на это внимания. Но оглядываясь назад, мне сегодня ясно одно: двадцать минут, в течение которых Мариус ван Влоотен вновь впустил в свою жизнь любовный мотив, с его собственной, трудно управляемой силой, были теми двадцатью минутами, в течение которых Шульхоф-квартет с невероятным блеском исполнял “Крейцерову сонату”.
— Он стал точно каменная глыба, — рассказал мне скрипач из Шотландского Анонимес-квартета, когда мы стояли с ним после концерта в фойе.
Во время концерта он сидел на соседнем с критиком месте и почувствовал, как происходит окаменение наклонившегося вперед человека, сидящего рядом с ним, это чувствовалось до такой степени, что несколько раз молодой человек даже невольно взглянул в его сторону. Ему показалось, что напряженное лицо и зажмуренные глаза слепого были обращены на играющих на сцене музыкантов, словно он хотел увидеть их, каждого в отдельности.
— Нет, — сказал я. — Не всех, только ее одну. Видеть он мог только Сюзанну Флир.
Светловолосый юноша посмотрел на меня с любопытством. После концерта мы стояли с ним в многолюдном фойе с бокалами в руках. Я увидел, что он улыбается, и понял, что, должно быть, он представляет себе сейчас скрипачку в ее зеленом шелковом концертном платье с уложенными в красивый узел волосами. Но еще со вчерашнего дня мне запомнился в малейших деталях ее портрет, запечатленный в памяти слепого: женщина в желтом с косой на спине. Ее обнаженные белые руки мелькают в воздухе без малейшего напряжения. При этом она старается сохранять на лице строгое выражение, ее правая рука яростно водит смычком по струнам, а кончики пальцев левой старательно выделывают что-то еще.
Четверо участников струнного квартета заняли на сцене старинную позицию времен Гайдна, едва они заиграли, Ван Влоотен это несомненно услышал: два скрипача по краям, виолончелист и альтист посредине. Это придает звуку известное равновесие, которое мы, зрячая публика, можем увидеть глазами, которые потом передадут полученную информацию ушам: нет, вы только подумайте: виолончель рядом с первой скрипкой, как же это красиво звучит! В тот момент, когда к такому выводу пришел и сам Ван Влоотен, его внимание было уже на совсем другом уровне. Ведь в его мире, прозрачном, безгранично просторном, существовало лишь слышимое, в виде разрозненных фрагментов, в виде предположений, которые разом отпадали, стоило лишь умолкнуть звукам: деревья — это деревья, пока дует ветер, в рассветной тиши в понедельник домов на улице словно бы и нет до тех самых пор, пока не распахнется где-нибудь с шумом окно; луга и холмы — лишь фантомы, проносящиеся по ту и другую сторону от громыхающего поезда… Итак, квартет начал играть, и Ван Влоотен в своем кресле слегка наклонил корпус вперед. Может быть, он в тот день лишь мимолетно, без особого интереса вспоминал Сюзанну Флир, но сейчас наверняка увидел ее на сцене, отчетливо представил ее себе в летнем платьице, ведь то, что звучит, заявляет о своем существовании и дает ответы на вопросы “где” и “как”. Я сидел в этот вечер в зале далеко от него, с правой стороны, и до сих пор вспоминаю, что квартет был по-настоящему в ударе. Очарование полилось сразу, очарование звукового потока, который звучит, звучит наперекор реальности, готовой при первом удобном случае заявить о себе кашлем, шуршаньем, шарканием ног, звучанием настраиваемых струн.
— Я был рад, что они сыграли четыре части почти без перерывов, на едином дыхании, — сказал мне шотландский скрипач.
Я согласился с ним и сказал, что, по-моему, Яначек все так и задумал. Скрипач наклонил голову, он в этом разбирался.
— Но только он хотел, чтобы паузы между частями были чуть длиннее.
— Да.
— Он хотел, чтобы история как бы сама себя подгоняла.
Мы уставились друг на друга.
— Да, — произнес я наконец. — Он думал о роковой психологической драме, которую ничто на свете не властно предотвратить.
Отвернувшись от собеседника, я заметил на противоположной стороне фойе Ван Влоотена. Он стоял один на пороге между распахнутых дверей балкона, спиной ко мне. Его затылок, возвышающийся над остальными, выделялся на фоне какой-то башенки на улице, кажущейся в сумерках почти черной.
Я никогда не слушаю. Ведь если поднимется вся эта паника, сумеете ли вы нацепить эту малюсенькую масочку себе на нос и на рот? Стюардесса, стоявшая передо мной, почти справилась со своей задачей, ей оставалось лишь закрепить на затылке резинку. Но на воображение пассажиров все это, конечно же, действует, посему я нащупал у себя над головой вентилятор и крутил его до тех пор, пока не почувствовал легкий бриз, повеявший мне в лицо. В памяти промелькнула знакомая строка: “Ветер-ветер, для чего ты усталый труп ласкаешь?” — и в тот же миг я вспомнил, что в Гранд Театр позавчера вечером тоже был небольшой сквозняк.
Что было очень и очень кстати. Гранд Театр — это здание восемнадцатого века, зрители в нем втиснуты в плюшевые кресла, расположенные в три яруса. Недавний ливень не принес прохлады — совсем даже наоборот — воздух за окнами в коридоре был очень душный, душный и спертый. Тем отраднее был ветер, струя воздуха вливалась в боковые двери партера, невидимая ласка прочно связывала воедино зрителей передней части зала, где в зрительской массе уже и так возникло целое море тепла и огромный накал сопереживания. Все вслушивались в мелодию первой скрипки: до-диез — ре — до-диез — си — до-диез — фа-диез — ре — до-диез — си, который несет в себе слово “да” и обещание тайного наслаждения, а также ответ, с полной серьезностью даваемый альтом. “Как странно, — размышлял я, — восемьсот человек, сидящих в зале, как один человек слушают историю и воспринимают ее в то же время в виде восьмисот различных версий”.
И при этом смотрят на четверых музыкантов. Альтист был высоким и темноволосым; сев на стул наискосок, он пиликал с бешеной скоростью, подчиняясь диктату нот, лицо его при этом приняло слегка напряженное, но очень таинственное выражение. Гонка шла на протяжении многих тактов, а тем временем исполнитель партии второй скрипки ждал с несколько сердитым видом, упираясь каблуками в пол. Порой не сразу догадаешься о том, что можно понять уже с первой минуты: Мариус ван Влоотен не только смотрел исключительно на исполнительницу партии первой скрипки — для него это и не могло быть иначе — он и слушал-то в основном только ее партию.
Это был необыкновенный вечер. Сюзанна Флир сама говорила за день до этого критику: “Когда играешь, не слышишь целого”. Вот и сегодня в музыкальной повести, которая должна была прозвучать, она вела лишь свою линию, прослеживала судьбу, предназначенную именно ей. Этот процесс для музыканта никогда не бывает пассивным, ведь если хочешь, чтобы свершилось предначертанное, двери судьбы должны быть распахнуты настежь. Так она и играла в тот вечер, Ван Влоотен это услышал, но, естественно, не мог знать, какого правила она придерживается в своей предельной творческой концентрации — это был некий совет, мистическое указание, сформулированное ее учителем после долгих раздумий и осторожно облеченное им в следующие слова:
Don’t play the notes, just humanize them.
Кто скажет, что именно представлял себе при этом старый маэстро?
Разумеется, не семейную драму — что-что, но в этом я уверен — ведь музыканты мыслят абстрактно. Не горестную повесть, послужившую толчком для этой музыки, о неимоверно трудной супружеской жизни, о бетховенской сонате и о красивой, музыкальной женщине, заколотой кинжалом, неверность которой ничем не была доказана. Публика в зале тоже не думает ни о скачущей галопом тройке, ни о мчащейся карете — заключенный в звуки фонтан странных эмоций свободно плещется и смешивается с теми чувствами, которые уже и раньше жили в их сердцах. Так все и было на самом деле. Но в зале присутствовали также двое любителей музыки, поссорившиеся во время перелета из Брюсселя в Бордо. В гудящем самолете они, напрягая в поздний час свое воображение, искали ответ на вопрос, можно ли в принципе отыскать в партитуре признаки ярости мужчины, доходящей до очень опасной черты.
Для слепого на шумном празднике очень непросто найти того, кто ему нужен. Особенно, если этот человек, скрипачка, вовсе не сидит, смущенно потупившись, в ожидании, когда он с ней заговорит, а напротив, едва осознает факт его здесь присутствия.
— Он попросил меня осмотреться и описать ему помещение, — рассказывала мне на следующий день виолончелистка Американского Джефферсон-квартета.
Девушка такого же высокого роста, как и сам Ван Влоотен, рассказала слепому, что справа от него вдоль длинной стены выставлены потрясающие кушанья, она описала ему деликатесы, которые можно было на этом расстоянии рассмотреть, и предложила положить ему чего-нибудь на тарелку.
— Но его интересовало только, кто стоит в очереди, кто перемещается по залу и кто сидит за столом.
Это было после концерта, шел заключительный вечер Международной недели струнных квартетов, все были озабочены закреплением дружеских уз, начало которым было положено на этой неделе. Ван Влоотен стоял неподвижно со своей тростью в руках среди людского кружения, словно на пьедестале почета, — особого внимания, впрочем, на него никто не обращал. На него натыкались, извинялись, предлагали что-нибудь выпить, и многие между делом спрашивали, могут ли они быть ему чем-нибудь полезны.
— Да, конечно. Я бы хотел поговорить с одним из участников из Шульхоф-квартета.
Так он оказался лицом к лицу с альтистом квартета, музыкант вежливо наклонился к критику, приготовившись услышать, о чем тот хочет его спросить. Оказалось, что ни о чем. Ван Влоотен допил свой бокал, и сейчас же получил взамен другой. Затем его представили каким-то двум мужчинам, но получилось так, что он не понял, кто они такие. Они обменялись парой вежливых фраз: дескать, духота не только на улице, но и внутри, потом немного помолчали, слушая далекие раскаты грома, наконец Ван Влоотен напомнил о своем желании поговорить с одним из музыкантов Шульхоф-квартета. Праздник к тому времени был уже в самом разгаре, особая аура возникала от того, что все эти прекрасные, молодые, слегка невротические таланты напоследок еще раз собрались вместе, словно шумная стая хлопающих крыльями птиц, перед тем как вскоре вновь разлететься, по одиночке или маленькими группками.
Я не знаю, почему Ван Влоотен прямо не попросил позвать Сюзанну Флир и не обмолвился о том, чтобы его к ней подвели. Когда я с ним столкнулся, напротив него стояла и что-то ему рассказывала потная дамочка, до того маленького роста, что наш критик посреди всеобщего галдежа вряд ли слышал голосок, раздававшийся где-то на уровне его живота. Я только что прошелся вдоль всего ряда, моя тарелка наполнилась до краев, и только теперь заметил его: “Господин Ван Влоотен!”
Он сразу повернулся в мою сторону. Лицо его было в красных пятнах. Сжимая одной рукой тарелку, а другой взяв его под локоть, я повел его к столу, где мы могли бы присесть, и пока он, прежде чем сделать следующий шаг, простукивал перед собой палкой паркет, я перечислял закуски, которые ему положил, обещая, что через некоторое время сделаю повторный круг. Словно под влиянием некоего тайного сговора, что-то удерживало в том числе и меня от того, чтобы взять и просто подвести моего приятеля к его даме. Вернее, я его к ней, конечно, подвел, но обставил все несколько иначе.
— Глядите, — сказал я. — Вон Эжен Ленер. Хотите, я вас познакомлю?
Венгерский профессор сидел на углу двух сдвинутых вместе столиков в окружении своих учеников. Находившаяся слева от него во главе стола Сюзанна Флир как раз в эту минуту наклонилась к нему, чтобы что-то спросить или сказать, в руках у нее были нож и вилка. Когда Мариус ван Влоотен уселся рядом с ней с другой стороны, на придвинутый мной стул, Сюзанна, обернувшись через плечо, подарила ему быструю, бесполезную улыбку, но позы своей не изменила — она по-прежнему сидела к нему спиной. Ван Влоотен осторожно начал есть, и я, сидевший рядом, украдкой время от времени тоже что-то клевал из его тарелки. Ленер тем временем, по настоянию собравшихся за столом, продолжил рассказывать прерванный анекдот. Я запомнил его в следующем виде.
Это было осенью 1927 года. Ленер вместе с тремя другими членами Колиш-квартета остановился в “Отель Америкэн” в Амстердаме. За эту неделю музыканты уже два раза сыграли свою программу из произведений Шёнберга и Бетховена в Малом зале Консерт-Гебау. И вот в свой свободный вечер все четверо, поужинав в ресторане отеля, уже собирались разойтись по комнатам — как вдруг замерли на лестнице, ведущей на третий этаж. Каждый про себя подумал, что это галлюцинация: с той стороны, где были расположены их номера, доносились тихие, но отчетливые звуки двух скрипок, альта и виолончели. Затаив дыхание, они прошли вперед, инстинктивно пытаясь узнать, что это за музыка, такая знакомая и в то же время непонятная. Слушая, они подошли к двум соседним номерам, в которых жили по двое. Словно во сне, они отперли двери, удивились, внутри никого не обнаружив, затем их взгляд приковали окна, из-за жары распахнутые. Звук, набирая силу, лился сквозь окна откуда-то сверху. Один из музыкантов считал, что это Барток, а другой, подняв вверх палец, сказал: “Кодай. И еще чуточку напоминает Мартину.”
Удивление артистов тем временем сменилось размышлением иного порядка. Как приблизиться к этой тайне и как на нее ответить? Как реагировать? Не прошло и нескольких минут, как скрипачи Колиш и Кунер, альтист Ленер и виолончелист Хейфец достали свои инструменты, вышли в коридор, поднялись по лестнице на четвертый этаж и поняли, приоткрыв дверь в номер 309, что породило их “галлюцинацию”: четверо музыкантов Богемского квартета, тоже случайно прибывшие в Амстердам, разыгрывали Яначека. Как уже говорилось, был жаркий, душный вечер. Окна во всех домах были открыты настежь. Звуки “Крейцеровой сонаты”, в то время еще не опубликованной, лились над Лейденской площадью, поднимались в небо вдоль стен и крыш домов. Полночи два струнных квартета с радостью демонстрировали друг другу хорошую игру. Жившие в гостинице свешивались из окон, на улице раздавались аплодисменты.
Незадолго до рассвета разразилась гроза. Я спал, укрывшись с головой одеялом, и проснувшись, все еще повторял про себя слова из моего сна: “И вообще страшная вещь музыка. Что это такое?..” Какой-то миг я в растерянности не мог понять, где я нахожусь, но тут заметил окна, за которыми занимался рассвет.
Боковой флигель примыкал к основному зданию под прямым углом. Накинув на плечи свитер, я подошел ближе полюбоваться стихией и загляделся на окна номеров, в которых остановились мои друзья и знакомые: некоторые комнаты в эту ночь пустовали, другие, наоборот, были заселены вдвойне, в одних окнах горел свет, другие оставались темными. И вдруг я увидел, в самом углу, там, где сходились два крыла здания, какую-то неподвижную тень — человек, как и я, стоял у окна, но различить, кто это, было невозможно. Но я представил себе, что он, Ван Влоотен, ощущает гром, как накрывший его балдахин, и радуется далекому аромату молний. Еще он, должно быть, слышит, как стучит дождь по крыше маленького гостиничного автобуса “рено эстафет”, забытого перед входом в замок — на этом автобусе часть нашей группы вчера вечером ездила в Бордо и глубокой ночью в кромешной темноте вернулась обратно.
8
Есть обстоятельства, которые способствуют пробуждению любовных инстинктов, подумал я и вытянул вперед ноги: уф, наконец-то! Наконец-то эта особа замолчала, про что она только не говорила! Закончив о кислородной маске, она начала про спасательный жилет, что-то там демонстрировала с помощью свистка на веревочке, дошло даже до того, что она заставила всех нас наклониться вперед и пошарить у себя под сиденьем и, да-да — все верно, — там действительно можно было нащупать спасательный жилет, затем без проволочек она перешла к товарам duty-free, предлагаемым авикомпанией — и все это в микрофон, включенный на полную громкость.
Теперь “учительница” решила побаловать нас, примерных учеников, разными вкусностями: соленые орешки, стаканчик газировки, еще она разрешила, нажав на кнопку, откинуться назад в кресле и в свое удовольствие поглазеть в небо. Я лично сразу вспомнил уроки биологии во втором классе Городской гимназии; на них нам рассказывали о том, что эротический инстинкт у животных возбуждают не только гормоны. Ежиха соблазняет избранника с утра пораньше: спрятав колючки, она лежит на влажной земле; тайваньский удав спаривается весной сразу после пробуждения, едва стряхнув с себя зимнюю спячку, сам он еще в полусонном состоянии, и его половые органы тоже полуспят; самец синицы не станет глядеть на подругу, даже если с его тельцем все в порядке, до тех пор пока не пойдет дождь и не задует ветер: непогода — его стимул, настанет ненастье — и он отстреляется за пять минут. Поэтому совсем не исключено, что и для нас необходимы известные условия.
Утро 14 августа было чистым и прохладным. В такое утро чувствуешь себя счастливым и не задаешь себе вопроса “почему”. Сюзанна Флир, должно быть, часам к девяти спустилась вниз. Как и другие участники Шульхоф-квартета, она простилась со своим учителем уже прошлой ночью (Ленер должен был улететь в 8.10 утра), поэтому мне нетрудно было себе представить, что день ее начался с того, что в радостном расположении духа оглядевшись по сторонам, она заметила Ван Влоотена, ползающего по ковру возле стеклянных дверей обеденного зала и шарящего руками по полу. Она увидела лежащий возле его правой ноги ключ от номера с большим медным шаром.
— Вот он, — она поздоровалась с ним и кивком головы показала на ключ. — Прямо у тебя под правой ногой. Да вот же он!
Они уселись вдвоем за один из столиков еще не просохшей террасы и заказали плотный английский завтрак.
— Они напоминали двух волков, — рассказывала мне фламандская журналистка, которая незадолго до этого ехала в лифте вместе с Сюзанной Флир.
Она сидела за соседним столиком, и, наблюдая за ними со своего места, пришла к заключению, что эти двое знакомы накоротке. Они ели друг у друга с тарелок. Постоянно брали друг друга за руки. Она сорвала из горшка на террасе настурцию, он взял цветок у нее из рук, наполнил чашечку медом и поднес съедобное растение к тому месту, где по его представлениям находился ее рот, при этом опрокинул кофейник, который к тому времени уже опустел.
— Я ужасно неуклюжий, — сказал он.
Затем они стали обсуждать, как проведут этот день. Он предложил сходить в зоопарк. Она задумалась, покачала головой. Он сказал: “Знаешь, я обожаю животных” — и начал рассказывать про каких-то друзей своих родителей, которые когда-то очень давно держали в доме обезьянку, эдакую страшилку, у которой по обеим сторонам от носа торчали похожие на щеки мешки, которые в набитом состоянии по размеру точно и гармонично совпадали с розовыми округлостями вокруг ее ануса.
— Мне нравилось ее гладить, хотя иногда она хмурила брови, морщила губы, уши ее топорщились, она хваталась всеми четырьмя лапами за мою одежду и принималась отвратительно верещать.
Она спокойно ответила: “Я собиралась сходить на выставку в музей Биро. Похоже, они где-то раздобыли несколько чудных Пикассо”.
Да, замечательная мысль, должно быть, все так и произошло. Мысль, которая, по рассказам некоторых счастливчиков, оставшихся, благодаря гостеприимству Бордо, еще на денек в замке, вылилась для этой парочки в первоклассный выход “Когда они вернулись, он был, казалось, просто на седьмом небе”, — рассказывал один. “Да, — вспоминал другой. — Он поделился с нами, что снова наткнулся на свою любимую картину, портрет, который когда-то очень давно видел в Берлине”.
Гостиничный автобус доставил их и еще несколько человек, остановившихся в замке, в город. Они попросили высадить их на Рю Бонье, чтобы затем пересечь площадь Шарль де Голль и пройтись пешком в сторону старинного центра. Солнце палило вовсю. На посыпанной гравием дорожке под огромным тутовым деревом стоял молодой человек в черных галифе, жонглировавший кеглями: он ни разу не уронил ни один из восьми предметов, описывавших правильные геометрические окружности над его головой. “Мне ужасно нравятся такие вещи”, — рассказывала позже Сюзанна Флир своей подруге. В ту же секунду она остановилась, ничего не объясняя своему спутнику, но по-прежнему не отпуская его руку — так они до этого шли всю дорогу. Она смотрела, а он слушал, о чем говорят стоявшие рядом люди, а когда они снова двинулись вперед, одно наложилось на другое: молодой человек, ни разу не уронивший ни одну из восьми описывавших правильные окружности кеглей, был студентом, которого исключили из университета после того, как он однажды бросил ходить на занятия: молчаливый, одаренный парень, которому теперь до конца его дней суждено оставаться будущим гениальным физиком-теоретиком.
— Да, но до чего он был бледный! — сказала Сюзанна Флир и продолжила:
— Жонглировать страшно. Похоже, из всех цирковых артистов жонглерам страшнее всего, страх у них больше, чем у воздушных акробатов. Ты можешь себе это представить?
— Думаю, что да.
Тем временем они поднялись по ступенькам и оказались перед дверями музея. Сюзанна Флир радовалась встрече с картинами и мало задумывалась над тем, как чувствует себя Ван Влоотен, ступая по тяжелым, сверкающим в лучах солнца мраморным плитам, что ему самому, впрочем, было вполне по душе. Слепым уютно и спокойно на таких выверенных плоскостях, огороженных к тому же сбоку перилами.
Спрятанный в глубинах старого квартала, Биро входил в число мало известных музеев. В этом прямоугольном здании была вереница залов, к которым вели круглые ступени. Посреди просторного зала на цокольном этаже росла пальма, мечтающая о воде, она дотянулась кроной до сквозной площадки на втором этаже, где бил фонтан, журчание струй которого, благодаря обманчивому акустическому эффекту, казалось, раздается повсюду.
Они купили билет и путеводитель по музею.
Сюзанна Флир посмотрела в схему и предложила Ван Влоотену начать осмотр с зала внизу слева, того, где выставлены картины французских художников эпохи барокко. Он согласился. Она взяла его руку и положила себе на предплечье. Почти сразу же ее охватило странное, безудержное веселье, благодаря звукам струящегося, словно в оазисе, фонтана и белым безмолвным залам, в которых ее ждали неизвестные ей дотоле вещи. “Странно, — рассказывала она позднее, — я была даже рада, что у него с собой эта трость. Мне нравилось ее постукивание по паркету”.
Кроме них других посетителей не было, удивительно, ведь это был на редкость интересный музей. Когда они вошли в первый зал, она заметила на противоположной стороне зала мужчину в костюме цвета синего кобальта, сворачивающего в следующий зал. Она начала рассказывать критику сюжет первой попавшейся ей на глаза картины, это был Пуссен. На расстоянии не слишком близком, но в то же время не слишком далеком от полотна, она встала, как вкопанная, и своим напрягшимся телом подала Ван Влоотену знак, что сейчас следует остановиться, только после этого она назвала то, что ему предстояло увидеть: пейзаж. Она была немного сбита с толку, когда он, услышав о рощицах и храмах, сам упомянул о повозке с быками, почти в самом центре композиции, а потом привлек ее внимание к двум мужчинам на переднем плане, шествовавшим слева направо — они сопровождали дроги, на которых покоился их мертвый друг, — эту картину он хорошо знал. Она посмотрела на его лицо, на очень близком от нее расстоянии, рассеянно послушала его рассуждения о красках, о колористических параллелях с поздним Тицианом и начала кусать губы, не понимая, что ее смущает.
Следующий зал, тот же самый молочно-белый свет, говорливый фонтан. Казалось, что вода становится все тяжелее и тяжелее и наконец со всей силы срывается вниз. Он, похоже, этого не замечал, во всяком случае, не подавал вида, но только все повторял за ней с радостью и явным интересом названия картин, либо хмурился и ничего не говорил. Клод Лоррен, “Башня”. — “Башня!” — как эхо вторил он и просил описать ему картину. Она уже заметила, что дежурных по залу нигде не видно и поэтому подвела его к ней очень близко, и пока он стоял, вдыхая впечатляющий свет и густые тени, качая головой и пожимая выше кисти ее руку, — знак, что можно идти дальше, она, недоумевая, спрашивала себя, уж не поднялась ли у нее температура. “Где я? — думала она, проходя по двум лестницам, двум залам графики и по коридору, — и что я, Милостивый Боже, затеяла?” Ну да ладно, распрощавшись с Ватто, они вскоре непонятно как очутились возле небольшой серии голландцев семнадцатого века, которых она, под влиянием собственного голоса, все журчащего и журчащего, почему-то вначале не узнала. Она снова увидела мужчину в костюме цвета синего кобальта, любимый цвет французских скульпторов и художников, — он шел в их сторону с противоположной стороны, и проходя, посмотрел на них так, словно хотел сказать: “О, это мне понятно!” Но она оставила без ответа его приветливый взгляд, обращенный к ней, но относящийся к ним обоим. “Смотри”, — произнесла она через несколько секунд и впервые сама взглянула с вниманием, какого заслуживают настоящие произведения искусства. Она увидела женщину — та сидела в полутемной комнате у окна и читала письмо. Да, подумала она, с чувством большого удовлетворения, вот так вот сидеть себе спокойненько, сознавая свое место в мире, ведь твое тело — это ты сам. В ту же минуту она догадалась, какого рода проблема практического свойства не давала ей все время покоя: она не знала, как подставить свои губы мужчине, который этого, возможно, не заметит, и который, кроме всего прочего, всецело поглощен картинами, ведь благодаря ее рассказу его голубые слепые глаза прямо-таки сияют навстречу тому, чего в общем нельзя описать словами. “Женщина у себя в гостиной, — произнесла она с некоторым облегчением. — Окно, раскрытое настежь. Дверь распахнута. Собачка…” Она высвободила свою руку, трезвея и в какой-то мере радуясь этому, но пальцы у нее все еще покалывало, как после сильного испуга.
— Ну что, — спокойно предложил он, — теперь Пикассо?
Она согласилась. После некоторых блужданий по залам пришел черед женщин перед зеркалом, на красных стульях, на синих стульях, возлежащих, лежащих на желтых диванах, в мужских объятиях, обнаженных натурщиц, их художник запечатлел в тридцатые годы, период его неукротимого вдохновения, в основе своей имеющего сексуальный источник. Она ему все описывала. Очень точно называла все “как” и “что”, и при этом смотрела с огромным личным интересом. Образы доходчивее слов — это она тоже заметила. Эти женские фигуры мгновенно вызывали в ней что-то знакомое, обжигающее и тяжелое, они были сговорчивыми, незакомплексованными, даже в минуты покоя готовыми к любви, ведь то, что изображено на этих картинах, апеллировало не только к мужчинам. Она описывала цвета женских тел и их форму, по возможности со всеми подробностями, и ее собственный бесстрастный, ради него создаваемый рассказ, доставлял ей удовольствие, сравнимое лишь с некоторыми весьма интимными, непристойными разговорами по телефону, прерываемыми время от времени неловкими паузами. “Будет ли поцелуй?” — не успокаивалась она. И стала мечтать о полутемном такси, которое медленно повезет их обратно в Шато Мелер-Брес.
— Где тут у них портрет Доры Маар? — прозвучал его голос всего в одном шаге от нее.
Как она вспоминала позднее, они простояли перед этой картиной минут десять, если не больше. Он видел ее и раньше, в Берлине, он говорил ей об этом, — этот холст, на котором изображена девушка в желтом свитере и в хорошенькой сине-фиолетовой шляпке на голове. Какое счастье встретить ее снова здесь, увидеть сейчас, прямо перед собой во временной экспозиции, и он пустился в рассуждения о чудесной неподвижности модели, восседающей в позе королевы, — Персефона в кресле, с руками, опущенными на подлокотники, глядящая прямо перед собой, один глаз смотрит на зрителя, а другой — чуть-чуть косит в сторону.
Теперь она слушала и, выходит, слышала, о чем он рассказывает, но оставалась абсолютно глуха к “белому, как алебастр, лицу девушки и ее судорожно сжатым, как клешни, пальцам”. Она решила, что впечатлений ей вполне достаточно. Еще ей до смерти надоел плеск фонтана, теперь уже напрочь все перекрывавший, незаметно превратившийся в новую и более выраженную форму ее мучительных раздумий по поводу их поцелуя. Она наклонилась к нему. “Ну что, пойдем?” — протрубила она ему прямо в ухо и была приятно поражена, когда его рука почти мгновенно попыталась ухватиться за ее руку. “Да, хорошо”. Она снова заглянула в план. Она не хотела, чтобы они сделали хотя бы один лишний шаг в этом лабиринте, и так и получилось: вон, гляди, выход, вон белая-пребелая лестница, — от дневного света и внезапно яркого солнца у нее слегка закружилась голова, наконец, взмахнув рукой от плеча, она сумела остановить такси и проскользнула, следом за ним в мягкую нору. Они уже некоторое время ехали, а ей все мерещилось, что на крышу машины льется вода.
Стоя у дверей в ожидании своего такси, я увидел, как они входят в холл. Он держал ее за локоть, взгляд у него был потемневший, казалось, он все еще не может прийти в себя. Я колебался. Подойти к ним и еще раз попрощаться? Они шли в сторону следующего помещения, из которого был выход в сад. Сюзанна Флир снова была в своем желтом платьице, которое она, скорей всего, подняла тогда с пола и повесила на плечики — материя без единой складки облегало ее тело. Видно было, что она уже совершенно забыла свой страх разбиться и была сосредоточена лишь на одном: что мы будем делать дальше? Но и до этой минуты она явно не скучала. Кажется, парочка утром уже успела сходить в зоологический сад этот разбитый по свободному плану парк, в котором хищники, словно кошки, сидели на деревьях. Рай, в котором перемешались запахи мочи, навоза и мускуса, — мне казалось, что этот рычащий, сопящий, ревущий, пронзительно крикливый и крякающий мир был достаточно зрим даже для тех, кто видел его с закрытыми глазами. Одному Богу известно, что там между ними происходит, подумал я и бросил взгляд на часы. Не прошло и секунды, как Сюзанна Флир взглянула на свои.
Я видел ее тогда в последний раз. У меня за спиной раздался сигнал такси. Я подхватил свой чемодан и уехал в аэропорт.
9
Через десять лет после того, как мы с Мариусом ван Влоотеном вместе летели в Бордо, я снова ненадолго приехал в Европу и вот в Схипхоле, возле стойки регистрации пассажиров, в очередной раз повстречал критика. Из-за того что почти сразу после нашей первой встречи я по работе перебрался в Принстон, летняя неделя, проведенная в Шато Мелер-Брес, довольно быстро покрылась пеленой забвения. Но на нашем континенте даже судьба предстает в миниатюрном обличье, и вот не прошло и десяти лет, как она, словно шутя, поставила меня в очередь следом за Ван Влоотеном. Мы разговорились, и я заметил, что настроение у него хуже некуда.
Девушка за компьютером не прибавила ему оптимизма.
— Вы предпочитаете сидеть у окна или с краю? — спросила она его, не отрывая взгляд от экрана.
Ван Влоотен усмехнулся, я подошел, встал с ним рядом и со словами: “Господин предпочитает место с краю” положил на стойку свой паспорт и билет.
— Дайте, пожалуйста, место у окна мне.
С раздраженным лицом он прошел со мной на паспортный контроль. Я увидел, что он отлично знает дорогу, и даже что-то по этому поводу сказал.
— Раньше знал, — отозвался он, — до тех пор пока тут все не перекопали. — В этой чертовой стране вечно что-нибудь расширяют, мусорят, создают неразбериху, и все из-за кучки идиотов, которым, видите ли, охота по дешевке прокатиться в Испанию!
Уже вскоре мы оказались на переходе по пути к сектору G, где чуть в стороне за загородкой до обалдения стучали пневматические молотки и надрывался голос ведущего популярной радиостанции, скороговоркой тараторящий мужской голос, от которого с ума можно было сойти. Это еще чудо, что мы услышали объявление о том, что вылет рейса ZD421 в Зальцбург временно откладывается.
— Боже правый! — произнес Ван Влоотен четверть часа спустя, сжимая ножку бокала шампанского.
Мы с трудом отыскали бар, этакое ослепительное помещение, сверкающее хромированным металлом и зеркалами; он казался спасительным островком среди удушающей давки прохода. Пахло устрицами и рыбой, из напитков имелось только шампанское.
— Ну и гадость, однако, — обронил Ван Влоотен в сторону соседа, сидевшего за стойкой справа от него.
В ответ анонимный пассажир, “жертва кораблекрушения” вроде нас, поведал о том, что сорокавосьмилетнему пилоту нашего самолета отказано в разрешении на вылет. “Да-да, обнаружили алкоголь, концентрация в крови значительно больше разрешенных 0,2%”.
— Этот румын, — пояснил мне Ван Влоотен, — теперь должен спать четыре часа.
Его голос, ставший вдруг глухим и беззвучным, как у человека, волю которого парализовал огонь, заставил меня повернуть голову. Глаза, под которыми пролегли черные круги, он устремил в пол, челюсть непрерывно двигалась, как будто он все время что-то жевал.
Я спросил, как у него дела — ведь прошло столько лет.
Он ответил, что две недели назад она его оставила.
Я не сразу понял, о ком идет речь, и потому осторожно спросил:
— Ваша жена?
— Сюзанна.
И он рассказал мне, что буквально сегодня рано утром он получил письмо от ее адвоката, он к тому времени еще даже не побрился и не успел одеться.
— Почту нам всегда приносят раньше девяти.
— Прочитайте мне вслух, — попросил он своего шофера и по совместительству слугу, которого совершенно не стеснялся по той простой причине, что не мог себе этого позволить.
Он сидел в это время на кухне, на своем обычном месте за столом, за которым оказывался ежедневно ровно без четверти восемь — время начала их завтрака с Сюзанной и их шестилетним сынишкой. День был ослепительный. У него за спиной была открыта дверь в огород, и человек опытный по кудахтанью кур мог бы сейчас же определить, что на улице удивительно тепло и солнечно. Но Мариус ван Влоотен, не спавший уже три ночи подряд, в таких вещах не разбирался; в руке он держал ложку, в горячем кофе медленно растворялось несколько таблеток аспирина.
— Читай! — приказал он, поднес ложку ко рту, проглотил содержимое и начал размешивать кофе в большой чашке, стоявшей перед ним на расстоянии, выверенном до миллиметра.
Стол, накрытый на одного. Напротив — два пустующих места. Жена требовала развода по причине проявленной нравственной жестокости, настаивала на алиментах, сумму которых нельзя было назвать ни скромной, ни завышенной, она также выражала желание сама заботиться о ребенке.
Я слушал, удивляясь все больше тому, что эта пара, по всей видимости, оставалась вместе вплоть до сегодняшнего дня. Ван Влоотен был тогда абсолютно сражен, — это я хорошо запомнил, но Сюзанна Флир, по моим представлениям, была девушкой, живущей только ради своего искусства, при этом женственная, светлая часть ее личности, естественно, не чуждалась духа любовного приключения, так, иной раз, от случая к случаю, по ней это было заметно. Но как он сумел заполучить ее на всю жизнь? И в ту же секунду я получил ответ на свой вопрос, словно слова пришли откуда-то свыше: “Ах, что может заставить любовь разгореться жарче, чем сознание, что ты обладаешь некоей силой, уникальным даром, приводящим другого в полный восторг?”
Взгляд мой скользнул по толпе пассажиров, огибавших бар с обеих сторон, подобно разделившемуся надвое стаду домашних овец. Все в майках с короткими рукавами. С ничего не выражающими лицами. Плетутся покорно. При этом мне невольно подумалось, что при определенных обстоятельствах, если бы кто-то умело взялся за дело, то среди этих людей нашлось бы немало способных превратиться в устрашающие, лишенные разума чудовища.
Тем временем Ван Влоотен принялся рассуждать про разные виды убийства.
Только я, за неимением выбора, сделал глоток шампанского и хотел спросить: “О чем это вы?”, как он торжественно заверил меня в том, что к числу многочисленных умений, которыми может похвастать умный слепой, принадлежит и убийство.
Мой скепсис не остался им незамеченным.
— Что вы ухмыляетесь? — прикрикнул он на меня.
— Ну… — отозвался я и наклонился поднять его палку, которую случайно уронил.
Он нетерпеливо принял свою вещь у меня из рук и прислонил ее к боковой стенке пивного автомата. “Никогда не начинайте поступка с мыслью: ладно, посмотрим, там будет видно, — горячо проговорил он, описав рукой в воздухе окружность: — ведь бывают последствия, которые потом не остановишь!”
Словно мы сделали заказ, официантка поставила перед нами пару новых бокалов. Мы выпили. В тоне непринужденной, увлекательной беседы я поинтересовался, какими еще достижениями может похвастаться “в повседневной жизни” умный слепой.
Он ни на секунду не замедлил с ответом.
— Горные лыжи.
— Как, в самом деле?
— Да.
Они всегда ездили кататься на лыжах в Моржеле и всегда делали остановку в той гостинице, в которой в прежние дни он бывал со своими родителями и сестренкой Эмили. Позже, когда у них в доме появился шофер, Сюзанна стала забираться на заднее сиденье к мужу, но в первые годы машину водила она сама. Случалось, что она, ни разу не остановившись, проезжала целиком весь шестичасовой маршрут от их дома в Вассенааре к подножию Вогезов. Способная женщина, с пониманием его черного, безграничного мира, она умела обращаться с педалью газа. По пути она бормотала что-то себе под нос, оглашала вслух содержание дорожных щитов и указателей и всегда говорила, сколько километров отделяет их от следующего населенного пункта, — эта ее привычка была ему на руку, так как давала ему возможность мысленно представить себе местность в виде карты. Они всегда останавливались в придорожной гостинице близ Сен-Дьё, непременно, и уже на второй раз ей не пришлось больше объяснять: “Через десять шагов — по лесенке наверх. Через пятьдесят метров — влево”, — так легко он проделывал путь в столовую; прямиком попадал за свободный столик, двигаясь в затылок следом за ней. И особенно приятной ему казалась ее привычка прикладывать его руку к спинке стула, чтобы он знал, куда ему садиться.
Мелочь? Порой подобные мелочи отчетливее сохраняются в памяти, чем серьезные, фатальные вещи.
В отношении нее ничего не казалось мелочью. Перезвон ее браслета — позывные Судьбы. И когда она в придорожной харчевне быстро наклонялась к нему со словами: “Салфетка в твоем стакане” — ему казалось, что сам демон нашептывает ему на ухо эти слова. Страшно быть влюбленным в собственную жену — весь мир превращается в юдоль беспокойства и мечты. Это так, но уже в середине следующего дня он, полный веры в собственные силы, съезжал с ветерком на лыжах со склона горы.
Ах, да это совсем не так уж сложно! В первую очередь, он был знаком с этим видом спорта с детства и, кроме того, мог всегда рассчитывать на помощь опытного тренера, жителя местной деревни, который вначале примерно час занимался с ним на детском спуске, а затем сопровождал на трассе, в нужный момент давая указания; спускаясь все ниже и ниже по склону, его ученик воспринимал завихрения холода, как исчезающий под ногами тончайший мираж, — и вот наконец финиш, под самый конец в точно рассчитанный момент ноги вновь ощущали некоторый подъем склона. Вот и доехал. Это было к тому же не так трудно, потому что она, Сюзанна, стояла и ждала его внизу, в конце спуска, радостная и полная любопытства — сама она никогда не вставала на горные лыжи и из-за своей скрипки не хотела даже попробовать (“Ага! Значит, она по-прежнему играет?” — “Черт побери, а почему бы ей не продолжать играть?”), — итак, она ждала его внизу, готовая его обнять, в своей мягкой курточке на ватине с рукавами, собранными на резинку, — он мог просунуть в них свои руки и обхватить ее за локти.
10
— Да заткнитесь же вы наконец! Вы не думали? А почему? Могли бы вы назвать хотя бы одну причину, почему нам с ней не быть вместе? Ах, мне даже любопытно, что вы имеете в виду?!
В который раз я замечал, что во время нашего разговора его глаза были обращены на меня, словно он меня видел. Сейчас он тыкал в меня указательным пальцем. Прежнего взгляда, устремленного в пространство, запомнившегося мне в прошлый раз, больше не было. Я подумал, что, наверное, она часто говорила ему: “Смотри на мой голос”. Часы напротив показывали половину седьмого. Нас по-прежнему окружал со всех сторон мир, загружавшийся в транспортные средства. Вид у большинства пассажиров был такой, словно их гнали на принудительные работы. Ван Влоотен рассказал мне, что они с Сюзанной Флир поселились в окрестностях Вассенаара в домике с пристройкой, спрятанном в дюнах, в нем было слышно завывание морского ветра, но не плеск волн.
— Здесь все будет так, как ты захочешь, Сюзанна, — сказал он. — Только мебель не сдвигай ни на сантиметр.
Его слова прозвучали, возможно, дико, но идея ей понравилась. И она с воодушевлением и от всей души стала содействовать превращению их дома в геометрическую фантазию, в которой все предметы встанут строго на свои места. Гораздо труднее обставить дом, чем разобраться в его плане. Последний обычно представляет собой наглядный рисунок. Их дом был рассчитан, как прямоугольник с просторным холлом на первом этаже, с кухней на расстоянии в пятнадцать шагов, с гостиной, центром которой служил огромный камин, и смежной комнаткой, в которую вела боковая дверь, ее размеры: шесть шагов в ширину и пять в длину — идеально подходили для его рабочего кабинета. На втором этаже были спальни и несколько уютных комнаток, назначение которым они пока что не нашли. Еще выше располагалась мансарда, ее кабинет со стеклянным потолком и узким деревянным балконом — в дальнейшем, когда она бывала не в духе, он часто находил ее там.
Подлинные события стали развиваться с того момента, когда начали заносить мебель. “Сюда, пожалуйста, — говорил он грузчикам, показывая ногой на паркете, и шкаф в этом месте опускали на пол. Так же было и со всем остальным. Грузчикам ведь все равно, добро дала Сюзанна, которая с улыбкой заявила, что решительно во всем с ним согласна; они вносили их барахло, все-все, включая вешалки, паласы и музыкальный центр, шли по пятам за ним, уверенно прокладывавшим путь и время от времени стуком своей палки распоряжавшимся, чтобы такой-то предмет передвинули на столько-то сантиметров в ту или иную сторону. В тот вечер и еще несколько дней за тем они с Сюзанной пыхтели, раскладывая вещи по ящикам и шкафам.
— Не будь таким занудой! — произнесла она под конец недели в состоянии крайнего изнеможения.
Весь дом сделался к тому времени теплым и уютным, и все предметы стояли строго на местах, словно приколоченные гвоздями. Он побранил ее за то, что она сдвинула пепельницу влево, а не вправо от сложенной стопкой почты на столе. “Она права, думал он, водя кончиками пальцев по гладкой полированной поверхности стола. — Я невыносим в быту”. Но стыдно ему не было. А через несколько дней он снова ее спросил: “Кто передвинул этот стул на середину?”
— А? Что? — от удивления она на несколько секунд замолчала.
Но потом рассказала, что днем заходил продавец, и стала перечислять, что именно она заказала. Но он не слушал. Он начал ходить кругами из кухни в гостиную и мимоходом инспектировал руками все, что попадалось ему на пути. Визит продавца, насколько он мог судить, больше ничего в их доме не нарушил.
— Прости меня, девочка, — сказал он, снова придвигаясь к ней. — Мне очень трудно привыкать к новшествам.
Его елейный тон она приняла на веру, и даже сам он слегка смутился и одновременно успокоился по поводу того, что его необъяснимое раздражение, которое он, несмотря ни на что, носил, как булыжник у себя за пазухой, было чем-то его личным, вовсе не имеющим отношения к ней, чем-то таким, что в любой момент могло быть при желании отброшено.
Вскоре наступило лето. В доме, по которому довольно легко двигался он сам, но она чувствовала себя наколотой, словно бабочка, на булавку, распахнулись двери и окна.
В первое время ему не составляло труда ее себе представлять. Кошачьи глаза, маленький округлый рот. Особенно, когда она уезжала на гастроли, что случалось довольно часто, он легко мог представить себе ее, играющую на сцене, он знал цвет ее платьев, они были самые разные, только не черные. Все то время, когда ее обнаженные, цвета слоновой кости руки на глазах у публики непринужденно двигались, она старалась, чтобы ее лицо оставалось неподвижным. Но когда она возвращалась домой, мышцы ее лица всегда были чуточку ватными, он же, безмерно радуясь, что она снова рядом с ним, не обращал на это особого внимания: в такие минуты он был целиком сосредоточен на ее теле. Как-то раз после ее возвращения он взял ее за руку выше кисти и без промедления отвел ее в спальню, она даже не успела снять пальто, он немного нервничал — ему показалось, что она какая-то другая, непохожая на образ, который сложился в его голове, благодаря ее запаху и голосу. Но как только закрылась дверь, он сразу же угомонился, стал само спокойствие. Они стояли в кромешной тьме. За окном светило октябрьское солнце, он знал, что день солнечный, но внутрь не проникал ни единый луч, потому что она, Сюзанна, три недели назад сказала, что ей по-настоящему сладко спится только в полной темноте, — узнав об этом, он тотчас пригласил мастера по шторам. К льняной занавеске прибавилась тяжелая, не пропускающая свет гардина из искусственной ткани, и поэтому теперь, в этот миг, она в самом потайном уголке своего жилища стояла, шатаясь и натыкаясь на мебель, словно пьяная. Он нетерпеливо ходил возле нее кругами.
— Давай сюда пальто.
Она сняла пальто.
— Снимай туфли.
Она разулась.
Казалось, что темнота одурманила ее, бездонная тьма лишила ее рассудка, и он решил, что его обязанность помочь ей раздеться, расстелить постель, заключить ее в объятия и уложить. Казалось, что только так и должно быть. Словно все было заранее запрограммирована. Она лежала абсолютно неподвижно; когда он поднимал ее руки или ноги, они казались легкими, как пушинки. Существует миф, будто слепые любят ощупывать лица, а если представится случай, то и тела людей, с которыми они общаются в повседневной жизни. На самом деле большинство слепых, точно так же, как и все люди, понимают, что те вещи, которые мы познаем на ощупь, абсолютно не похожи на образ этих вещей, созданный на расстоянии, и потому всегда должны оставаться в исключительной зоне частного владения.
Его пальцы исследовали формы, внешние и внутренние поверхности ее тела. Он понимал, что сейчас происходит нечто такое, о чем он мечтал уже очень давно. Он заставлял ее ложиться навзничь, переворачивал на живот и обратно. Она ничего не говорила, не сопротивлялась. Он сумел убедить ее, что ему необходимо рассмотреть ее словно в лучах яркой лампы, в интимной обстановке, не смущаясь ее взгляда. К тому времени они уже давно были женаты. Но никогда прежде он не видел так ясно, какое у нее красивое тело!
11
Он стоял, повернувшись лицом к саду, и пытался взять себя в руки. У него за спиной продолжалась застольная беседа. Его сестра Эмили, которой время от времени поддакивал ее муж, говорила с Сюзанной о ее работе.
— Мариус?
Ее, Сюзанин голос. Он обернулся в ту сторону, где был накрыт стол, его кулаки в карманах брюк немного разжались, но не до конца. “Разумеется, моя обязанность — передавать корзинку с хлебом, снимать пробу с вина”. Кажется, все это случилось на второй год их брака.
— То есть мне кажется, — говорила Сюзанна, — что без него мы ничего бы собой не представляли. Он — движущая сила квартета. Он работает, по-моему, по двадцать четыре часа в сутки и знает буквально все. Заходит ли речь о старой, полуистлевшей партитуре или о новой вещи Куртага — он знает все.
“Он”. Она говорила об альтисте Шульхоф-квартета.
Ее голос изменился. Это она обратилась к нему.
— Ну и как?
Ее пальцы коснулись его руки. Он покачал бокал с темно-красным “Медо” туда-сюда, понюхал, немного пригубил.
— Хорошее.
— Он одержимый, — продолжала Сюзанна, ни к кому в особенности не обращаясь. — Тихий омут, но очень глубокий. Сколько лет его знаю, а он все такой же загадочный.
Она подставляла бокалы один за другим до того ловко, что хозяину нетрудно было самому наполнять их вином.
Они часто принимали у себя друзей и родственников. Такие встречи казались ему приятными, особенно если собирались люди, с которыми есть о чем поговорить или посмеяться, ему доставляло удовлетворение знать, что она, Сюзанна, с ним рядом, и он гордился ею, как произведением искусства, которое, как и любое произведение, своенравно и самоценно, поэтому он лишь изредка, в знак особого расположения, демонстрировал его в своем самом близком кругу.
Простодушная Эмили говорила Сюзанне:
— Я, наверное, не туда смотрела во время вашего концерта.
Она спутала альтиста с коренастым кудрявым виолончелистом.
— Ладно-ладно, ты бы лучше поела, — раздраженно вмешался он, в ответ на что сестра от души рассмеялась, а муж что-то промычал. Его добродушный шурин Жак был строительным подрядчиком и проектировщиком, он был неразговорчив, за исключением тех случаев, когда речь заходила о масштабных жилых комплексах, по определению Сюзанны, тех самых “стандартных уродинах” — башнях, которые Жак возводил вдоль всего побережья.
— Ах, вот этот! — догадалась Эмили, когда Сюзанна начала перечислять ей внешние приметы альтиста: “Высокий, темноволосый, очки, высокий лоб, серьезное лицо — но при этом…”
Как раз в ту секунду, когда он заметил в ее интонации некоторую взволнованность, у нее сорвался голос. Закашлявшись, она побежала к водопроводному крану на кухне и на ходу еще успела добавить: “…с ямочками на щеках”.
Это был момент откровения. Он тоже отложил в сторону нож и вилку. На какую-то долю секунды почувствовал себя словно оглушенным, его руки вцепились в край стола. “Я идиот, — пронеслось у него в голове. Беспечный кретин”. Медленно втягивая носом в легкие воздух, он осознавал, что ничего во всем этом вечере не может его больше интересовать после того, как его тупую, запертую в груди уверенность всколыхнуло попавшее в самую сердцевину имя, названное вслух. Милостивый Боже, Эмиль Бронкхорст, досточтимый коллега его жены! Его пальцы ощупали складки спадавшей до самых его колен скатерти. Она была жесткой, крахмальной и несомненно белой, кипенно-белой, как правда.
— Ну и видок у тебя! — воскликнула Эмили, когда Сюзанна, легонько похлопывая себя ладонью по груди, снова появилась за столом.
Не был ли этот вечер началом его поступка?
В скором времени на него навалилось столько дел, что не осталось времени раздувать кадило вокруг подобного рода личных вещей. Поездка в Лос-Анджелес, поездка в Нью-Йорк, города, которые он хорошо знал и в которых у него были друзья, помогавшие ему в его музыковедческих исследованиях. Когда он звонил домой из “Шератона” или из “Ройал Шибы”, она всегда оказывалась дома.
С учетом разницы во времени он звонил, когда по его представлениям она должна была выходить утром из душа, — она всегда брала трубку. Звонил ли он ей в час или в два часа ночи и будил ее своим звонком, она вначале пугалась, но потом давала понять, что польщена, ведь он звонил только ради того, чтобы услышать ее голос. Ценой сверхчеловеческого напряжения ему удавалось забыть, что она по нескольку раз в неделю репетирует и выступает с квартетом и что музыкант, этот человек в человеке, живет с такими тайнами в душе, о которых окружающие не имеют ни малейшего представления.
Когда он снова возвращался домой, он довольно долго преследовал ее полусветскими, полупровокационными вопросами, например: “Почему она опоздала на ужин?” — “Фермеры устроили на шоссе демонстрацию.” — “Почему не носит подаренные им бусы?” — “Потеряла.” — “Почему дверь в гостиную осталась открытой и он, черт возьми, в нее врезался?” — “Приходили гости”; а в начале весны он опять в который раз завел свою песню о том, что, по его мнению, она должна родить ему детей.
Она сказала: “Нет”. Она сказала: “Пока что нет”. Всю весну они продолжали спорить на эту тему, и всякий раз она либо снова повторяла “нет”, либо уходила от темы продолжения рода, напоминая ему о своих гастролях в будущем сезоне. И однажды он почувствовал себя из-за этого таким убитым, что сделал в ее сторону шаг — они находились в ту минуту под самой крышей возле балкона — и бросил ей в лицо: “Тебе нужна твоя свобода, да?” В этих его словах было столько злости, что он почувствовал, как кровь отлила от его щек и мышцы лица расслабились.
“Да”, — безжалостно подтвердила она и оставалась стройной весь следующий год. А когда через год как-то раз днем она сообщила ему, что уже больше двух месяцев беременна, этот год, мгновенно промелькнувший перед его мысленным взором, предстал совершенно иным, словно пейзаж, который, если посмотреть на него издалека, выглядит совсем не таким, чем когда двигаешься по нему шаг за шагом. Его недоверие к альтисту стало казаться мелким, их споры о нем бесцветными, потеряли остроту безумные примирения под пологом ночи, когда проявления его любви порой граничили с насилием.
“Ах, вот что ты задумал…” — пробормотала она как-то раз, почти засыпая.
Наконец в ночь, когда впервые той зимой пошел снег, без малейших осложнений на свет появился ребенок. Он при этом присутствовал. С помощью стетоскопа следил за волнующим продвижением своего сына к свету. Когда ему дали подержать на удивление легкий сверток, то ни роженица, ни акушерка, ни медсестра не удивлялись, что он просит их снова и снова во всех подробностях описать, как выглядит новорожденный. Хор гостей, приходивших в последующие дни, звучал тоже весьма убедительно: глаза голубые, как у отца, и этот характерный темный пушок на затылке, который в какой-то момент изменяет свой цвет и светлеет.
12
Семейное счастье. Сквозь призму его воспоминания я отчетливо видел перед собой эту картину. Найдется ли хотя бы один мужчина, который не почувствует себя глубоко взволнованным, впервые увидев свою жену в классической позе матери с младенцем на руках? Той зимой было холодно, рассказывал мне Ван Влоотен. Сад заледенел, ночи были длинные. “Такого душевного покоя, как тогда, у меня никогда в жизни не было”.
Мы по-прежнему сидели с ним бок о бок в баре. Я выпрямил спину, потянулся, я видел то же, что видел он, но при этом не мог полностью отрешиться от той фантастической картины, которую между тем явил моему взору окружающий мир. Народу в аэропорту было видимо-невидимо. Может быть, напились сразу несколько пилотов? Глядя через плечо на поставляемый двумя транспортерами непрекращающийся пассажиропоток, я стал более примирительно смотреть на этот выраженный столь своеобразным образом протест пилота, одному лишь Богу известно, против чего направленный.
— Это вам только так кажется, — отозвался Ван Влоотен в ответ на мое лирическое замечание о счастливых семьях и продолжил рассказ о том, как он совершил все возможное и невозможное для того, чтобы собственными руками разрушить свое семейное счастье и привести его к неминуемому краху.
В хозяйстве тем временем все шло как по маслу. Они пригласили девушку, которая в те вечера, когда Сюзанна должна была выступать, приходила присмотреть за малышом. В силу недоразумения у них появился еще и шофер. Этого маленького, застенчивого человечка Ван Влоотен нанял для того, чтобы держать Сюзанну в строгости, — после концерта шофер должен был немедленно отвозить ее домой.
— Как это мило с твоей стороны! — Она обвила его руками сзади за шею, свитерок на ней был из мягкой шерсти. — Какая забота! Искушение так велико!
Но необходимости в этом не было, и шофер вместе со своей женой с Антильских островов поселился в пристройке. Эта его жена взялась следить за огородом и два раза в неделю хозяйничала у них на кухне — до того вкусно готовила рататуй, мокси-мети и сушеную треску с длинными зелеными стручками бобов, что вскоре эти блюда стали их любимой пищей.
— Не окажете ли вы мне любезность? — на полуслове прервал себя Ван Влоотен.
— Скажите, какую?
— Закажите бутылочку минеральной воды.
— Отличная мысль. Здесь жарко, как в преисподней.
— Да нет, ничего, терпимо.
Он все еще не снял синий плащ. Мы выпили воды и замолчали. Потом как-то незаметно мы вернулись к теме нашего разговора.
— Вся беда была в том, что я начал утрачивать ее образ, ее портрет.
— Как это?
— В этом в принципе ничего удивительного нет, — сказал он, не обращая внимания на мой вопрос. — Слепые, которые когда-то были зрячими, забывают облик тех людей, с которыми они постоянно живут. А лица тех, с кем им потом уже не приходилось больше встречаться, напротив, вспоминают очень часто. Лица былых знакомых, словно фотоснимки, хранятся в архивах нашей памяти.
— Я понимаю. Они не меняются и поэтому…
— Да-да, правильно, — перебил меня он. — Вот и Сюзанна, которая ежедневно сидела со мной за столом, ездила в машине, спала в одной постели, её, Сюзаннин портрет, становился все более смазанным и грозил вот-вот исчезнуть.
Я горестно схватился за свой стакан. Мне пришла в голову печальная мысль о том, что, что бы мы в жизни ни делали, все в конечном счете исчезает и превращается в дым и пустоту. Я напомнил Ван Влоотену наш разговор десятилетней давности в самолете по пути в Бордо, когда он утверждал, что Бог, должно быть, любит музыку, но не любит зрительный образ, решительно отрицающий время после того, как жадно вберет его в себя.
Он слушал меня с ледяным лицом. Ничего такого он, конечно же, не помнил.
— И вот теперь, — сердито продолжал я, — ответный ход. Судите сами! Река времени постепенно размывает картину!
Ван Влоотен не ответил. Но через некоторое время он опять повернулся ко мне.
— Рассказать вам кое-что смешное? Порой, когда я пытался ее себе представить в те вечера, когда ее не было дома, вместо нее перед глазами у меня возникала одна картина, которую я когда-то видел в Берлине.
И он описал мне портрет девушки: белое, как мел, лицо, сине-фиолетовая шляпка на голове, она сидит в кресле в торжественной позе богини подземного мира, Персефоны, ее пальцы крепко впились в подлокотники.
— Так бывает, — безразлично заметил я.
Ему хотелось, чтобы она прекратила выступать. Чтобы родила ему еще нескольких детей. Он спрашивал ее, скоро ли она одумается и прекратит свою связь с альтистом, и дал буйно разрастись первым росткам безумия, с которым он в ту пору при желании еще сумел бы совладать. Однажды, когда поднялся сильный ветер, она умудрилась попасть в западню в сарайчике возле гаража. В тот вечер она должна была играть. Бог ее знает, что ей вдруг там понадобилось, да, впрочем, это и неважно, но пока она была внутри, порыв ветра захлопнул дверь с такой силой, что разболтавшаяся ручка выпала, причем с внешней стороны.
В ту минуту, когда ее голос, перекрывший вой ветра, достиг его слуха, он за пишущей машинкой в своем кабинете понял сразу две вещи: она сейчас в сарайчике, размером два на два с окошечком под потолком, и с ней случилась неприятность, которая, что называется, опасности не представляет. Ладно, он нащупал ногами под столом ботинки и пошел к выходу на противоположной стороне дома, при этом невольно вспомнил о том, что няни с сынишкой сейчас дома нет. Он остановился у открытой двери, на расстоянии в двенадцать шагов от сарайчика — завывающий ветер уносил ее крик в сторону, противоположную пристройке. Есть мысли, которые прошивают наш мозг, подобно раскаленной проволоке. Сегодня у нее концерт.
Замечательно! Только ради того, чтобы сполна насладиться вольным полетом своей фантазии, он вначале не предпринял решительно ничего. Ему нравилось представлять себе, как сегодня вечером альтист выйдет на сцену, извинится и распустит слушателей по домам. “Пускай себе покричит”, — с этими мыслями он поплелся назад в дом, поднялся вверх по лестнице, никого не было, в воздухе витал аромат фрезий; эта пустота была непохожа на обычную, когда ее просто не было дома! Ванная комната находилась в глубине здания, в нее не проникал ни единый звук с улицы. Он открыл оба крана, разложил в сторонке чистые носки, нижнее белье и новую сорочку и разделся. Безмятежно спокойный, он услышал, как часы пробили полшестого, а затем шесть — в это время он сидел и подрезал себе ногти на ногах — в эту минуту влетела она.
— Что со мной сейчас было!
— И что же?
От нее он узнал, что она провела взаперти целую вечность, ужасно нервничала из-за срывающегося концерта, и наконец ее освободила из заточения жена шофера.
В тот вечер примерно в полдевятого у него без видимых причин начали дрожать руки. “Сюзанна сейчас наверняка играет Моцарта — KV428 — очень вероятно, что она со своим квартетом исполняет в эту минуту andante con moto”. И Ван Влоотен стал тихо, но отчетливо проклинать стены своего дома, эти застывшие немые кулисы его отшельнической жизни, в то время когда она где-то там, на глазах у сотен зрителей, проживала свою сотую, двухсотую, пятисотую жизнь. Везде соглядатаи, везде глаза, шпионящие через замочную скважину! Вскоре вслед за тем наступил период, когда каждый раз, когда он ненадолго отлучался по делам, мебель в доме чуточку сдвигалась.
— Вы бы это потерпели? — спросил меня он.
В ответ я рассказал ему случай, о котором слышал у себя в Принстоне, об одном мужчине, который потребовал и получил развод на основании того, что его жена без устали переставляла в доме всю мебель, включая обстановку в жилом прицепе.
— Вот видите! — воскликнул он. — А он был зрячий!
Она все отрицала. Высокомерно заявила, что гигантский письменный стол времен Вильгельма III и королевы Марии на этом месте всегда и стоял, да и диванчик тоже…
— И если ты немедленно не прекратишь!..
Она вырвалась из его рук. Уже несколько дней подряд они ссорились из-за того, что она наотрез отказывалась признаться в том, в чем он уже не первый год был совершенно уверен. Альтиста в своих спорах, кстати сказать, ни один из них ни разу не упомянул. Эмиль Бронкхорст — это было просто имя коллеги-музыканта из Шульхоф-квартета, к которому критик, наравне с другими, приходил в артистическую пожать руку после первого исполнения новой программы.
— Как тебе понравилось, Мариус? — спросил его как-то раз альтист после концерта, состоявшего из произведений Шуберта и Шёнберга.
Они стали говорить о том, как удачно сочетание в одной программе произведений этих двух композиторов.
— Оба они были провокаторами, — заметил Ван Влоотен.
— Действительно, — согласился его собеседник. — И тот и другой сумеет, если понадобится, обойтись без исторической поддержки.
Их голоса сходились на одной и той же высоте, ведь и альтист тоже был рослым мужчиной крепкого сложения.
— Ну что, пошли? — сказала через некоторое время Сюзанна, и он последовал за ней к боковой двери, из которой был выход на окутанную ночным сумраком парковочную площадку.
Он еще не привык к их новой машине, поэтому она слегка приложила его руку к открытой дверце, чтобы он смог найти свое сиденье, и только потом села сама. Они выехали из города и свернули в сторону побережья.
— Может быть, вы думаете, — спросил меня Ван Влоотен, помолчав, — что слепой не такой как все, что он не берет себе в помощники дьявола? Язва, экзема, алкоголизм, разрушительные психические расстройства…
Он поднес руки к вискам, словно хотел сказать: “Но только почему, черт побери, в моем случае именно это?”
— Моя ревность, — медленно проговорил он — я впервые услышал из его уст это слово, — моя ревность разворошила нашу любовь, словно кокон, опутанную тысячью и одной нитью, и выпустила на волю целый рой жужжащих слепней.
Они въехали в деревню, миновали небольшую площадь и покатили дальше по дороге к морю. Сюзанна была молчалива, сосредоточенна, но на опасном крутом склоне так было даже лучше. Но он вдруг раскричался, заявил, что больше так не может, что она с ее любовником зашла слишком далеко. Он яростно настаивал, чтобы она рассказала, хорош ли в постели тот господин, с которым она проводит ночи на гостиничных койках, и удовлетворяет ли он ее в особом, сонном варианте любовного поединка, которому она так любила предаваться по утрам!
Не обращая внимания на его грубость, она подъехала к гаражу, двери автоматически раскрылись, и внутри загорелся свет.
— Не делай, пожалуйста, такую страшную физиономию, — сказала она.
Не дожидаясь ее, он вышел из машины.
Войдя в кухню, он врезался головой в низко висящую лампу. Открыл холодильник, но можжевеловой водки на месте не оказалось. На лестнице он споткнулся о какую-то обувь. Он направился поцеловать на ночь своего сынишку и заодно хотел узнать, дома ли он: вначале он заблудился среди помещений и коридоров, потом прошел через комнату няни и наткнулся на детскую кроватку рядом со шкафом возле стены. Очутившись у себя в спальне, он быстро разделся и когда ложился в постель, то услышал, как она включает свет. Она легла рядом с ним. Дождавшись второго щелчка выключателя, он повернулся на бок, как это было у них принято, к ней лицом.
Мы встали на ленточный транспортер. Только что объявили наш рейс, и сейчас путь наш лежал в отдаленный сектор аэропорта, к выходу G86. Ван Влоотен по-прежнему стоял в затылок за мной, тем временем целая вереница юродивых в сандалиях сердито продвигалась слева от нас. Я обернулся и, увидев его лицо, снова испугался. Глядя на опущенные вниз уголки его рта, на которых пенилась влага, я подумал, что такие лица бывают у тех, кто только что перенес приступ. Может быть, именно это она имела в виду, когда говорила про “страшную физиономию”? Как же, наверное, неприятно не иметь представления о том, как ты выглядишь!
— Кругом все такая же толчея, — сообщил я.
Ван Влоотен не реагировал, давая понять, чтобы я не мешал ему думать. Что ж, я тоже вернулся назад в его ситуацию, выходит, он пытался скрыть от нее свое лицо, что вполне понятно; в голове у меня мелькнуло сравнение с пикантной историей про Амура и Психею, эта пара могла любить друг друга только в темноте, потому что ей, милой крошке, не дозволено было знать, кто ее супруг.
— Конец эскалатора, — предупредил его я.
Он что-то пробурчал, выставил вперед руки и широко шагнул. Когда мы ехали уже на следующем эскалаторе, я на всякий случай еще раз обернулся, и мои мысли невольно обратились к менее куртуазной литературе.
Душа — это ужасно реальная вещь. Ее можно отравить или сделать совершенной.
Держась за липкий поручень эскалатора, ехавшего очень медленно, я думал о Дориане Грее, о том несчастном, который вынужден был прятать на чердаке под покрывалом свой мастерски написанный маслом портрет, он никому не мог его показать, потому что в него вплелось что-то уж слишком человеческое. Сам он оставался прекрасным, как весенняя заря, и юным, как жеребенок, а портрет тем временем впитывал в себя его отвратительный образ жизни и безжалостно отражал на себе его приметы. Затем мои мысли перенесли меня в класс с красным ковром на полу, в Бордо, на несколько лет назад в час ближе к полудню, когда славный добрый Эжен Ленер склонился над партитурой и после длительной паузы сделал свое единственное замечание. Что видел музыкант во время этой паузы?
Я решил не спрашивать Ван Влоотена об этом. Я не буду расспрашивать этого сломленного, сгорбленного человека за моей спиной, часто ли ему потом приходилось слышать, как его жена исполняет эту вещь, этот шедевр эмоционального скептика, своенравного модерниста Яначека, подобно его многочисленным коллегам, вложившим в свое сочинение много такого, что взывает не только к музыкальному слуху, но и просто к уху, непосредственно связанному с глазом, наблюдающему за событиями. Так в первой части тот, кто этого захочет, может увидеть красивую женщину, с первого по сорок пятый такт — она замужем. Во второй части, con moto со всеми ее тревожными тремоло, с первого по сорок седьмой такт, мы — свидетели того, как она повстречала необыкновенного господина, который к тому же изумительно играет на скрипке. Такты с сорок восьмого по шестьдесят седьмой — их флирт, такты с шестьдесят восьмого по семьдесят пятый — двусмысленные замечания; такты со сто восемьдесят пятого по двести двадцать четвертый — с каждой минутой нам все яснее, что это знакомство вряд ли останется невинной дружбой. Затем наступает третья часть, которая рисует полную катастрофу, и мы понимаем, что власть музыки и в самом деле далеко не всегда безобидна, во всяком случае не тогда, когда с восьмого по десятый такт звучит Бетховен.
А что уж говорить про последнюю часть! Когда мы сошли с ленточного транспортера, Ван Влоотен положил мне на плечо свою руку, я же продолжал напевать про себя третью часть, бешеным потоком льющиеся тридцать вторые “счасовки” — это у Яначека довольно часто встречающийся мотив. Так вот, в этой части, с первого по тридцать четвертый такт, эта изящная мелодия использована для того, чтобы показать нам злого демона, этого мерзавца, которому фантастическим образом удалось превратить супруга в безумца. Хозяин дома, который как заимствованный персонаж, получился ужасно отталкивающим, попадает в лапы ревности.
Ну, разумеется, думал я, продвигаясь вперед и волоча слепого в полуметре за собой, он наверняка и до этого много раз слышал это сочинение, оно было в те годы излюбленным номером многих концертов. Но там, в Бордо, эта музыка буквально схватила его за плечи и целых двадцать минут заставила крутиться вокруг своей оси до тех пор, пока он уже не мог сказать, где он находится. Быть тем, что ты есть на самом деле, или считать себя таковым, и вдруг оказаться перед незнакомой дверью…
Нарастающее безумие, третья часть галопом летит вперед Ссора: тридцать пятый такт. Жалобы и упреки: такты с тридцать девятого по пятьдесят девятый. Анданте представляет собой небольшой вздох облечения, но того, что предначертано, не изменишь, и с тяжелым сердцем, с шестидесятого по семидесятый такт, женщина признается себе, что хочет воплотить в жизнь одну свою фантазию, о которой говорится в тактах с семьдесят третьего по восемьдесят восьмой. В четвертой части все кончается как нельзя хуже.
Вроде бы все воспроизведено буквально. Но произведения искусства не только движутся навстречу друг к другу, но и друг от друга отталкиваются. Брно, осень 1923 года. Яначек сидит за столом, под одну из ножек которого он подложил сложенный во много раз лист бумаги. Он работает над музыкальным произведением по мотивам толстовской “Крейцеровой сонаты”, повести провокационной, раздражающей, но в то же время без сомнения бесконечно чарующей. Почти двадцать лет он осмысливал ее охваченных любовью и ревностью персонажей, он думал о них в том числе и как композитор. И вот теперь всего за восемь дней он записывает то, что накопилось в его душе. Все ему мгновенно удается. Почти семидесятилетний композитор добавляет новый виток к спирали страсти и рока, разворачивающейся от сонаты к повести и затем к струнному квартету.
Написаны четыре такта Maestoso, он не ждет ни секунды, работает, практически без остановки, почти не задумываясь, до самого ужина. Через несколько дней, отложив в сторону карандаш, он медленно перелистает ноты, потрет лицо и замрет на несколько минут в неподвижности. Быть тем, кем ты хочешь быть, в предельной сосредоточенности, но и от второго “я”, которое тоже наше, нам ведь тоже никогда до конца не избавиться. Может быть, в этот зазор между двумя “я”, откуда проистекает произведение искусства, и смотрел тогда в Бордо Эжен Ленер?
Женский голос в громкоговорителе еще раз объявил наш рейс в Зальцбург. В таких случаях всегда возникает легкая паника, но из-за толкучки по-настоящему поторопиться мы не могли. Довольно неожиданно мы наткнулись на табличку “сектор G86” со стрелкой вниз. Мы спустились на несколько ступенек и попали в помещение, которое показалось нам поразительно спокойным: в нем пассажиры, отправлявшиеся в Зальцбург и Бухарест, ждали автобусов, которые должны были отвезти их к трапам самолетов. Мы сели. Уф! Я облегченно вздохнул, но мне казалось, что рука Ван Влоотена до сих пор лежит на моем плече, так тяжело на этом последнем отрезке пути он на меня опирался.
— Вы уверены, что хотите слушать и дальше? — спросил он.
Голос его был спокойным, но на лице было написано: “Посмей только меня остановить!”
— Я слушаю, — сказал я.
13
Это произошло в поезде. Сюзанна сидела напротив него и рассказывала, что они сейчас проезжают зеленые поля, по краям обрамленные полосками маков и васильков. Они гостили у друзей в Брюсселе, провели с этими людьми часок за ленчем в привокзальном ресторане и вот теперь ехали домой. Под ритмичный перестук колес разговор коснулся семейных проблем, тех неприятностей, которые случились в семье Эмили и ее мужа проектировщика, они негромко обсуждали “фортель”, выкинутый его сестрой.
— Ах, — вздохнула Сюзанна. — Ты слишком вспыльчив на ее счет.
И затем, подавляя зевок, добавила:
— Ведь в каждой семье порой что-нибудь случается?
Словно в трансе он услышал, как сам соглашается с ней. Поерзал, улыбнулся в ответ на ее шутливый вопрос и словно в трансе подтвердил: “Ну да, конечно случается”. И затем, в ответ на ее следующий вопрос, поведал об одном милом пустяке, случае, произошедшем с ним год или два назад, об одной англичанке, участнице симпозиума “Зеркало музыкальной критики” в Мюнхене.
Важно отметить, что в их жизни с Сюзанной вновь наступил тот период, когда по ночам они часто и от души наслаждались друг другом, что их всегда невероятно сближало.
— Мариус! — воскликнула Сюзанна добродушно-шокированным тоном, и он усмехнулся, так и не решив для себя, относится ли его вновь пробудившееся чувство вины к ней, свободомыслящей Сюзанне, либо к той ученой молодой женщине, об округлом и сдобном теле которой он на секунду не без удовольствия вспомнил.
Купе трясло.
— Фландрия прекрасна, — сказала Сюзанна.
Продолжая весело щебетать на эту опасную тему, она тоже исповедалась перед ним в одном своем давнем проступке.
Он сделал вид, что не слушает.
А она, словно радуясь тому, что может наконец облегчить душу, наконец-то играть с ним в открытую, ведь в браке это, вероятно, самое правильное, особенно если муж не видит, привела несколько довольно точных деталей своей гастрольной поездки по Израилю, куда она ездила пару лет назад. Он закрыл глаза. Чуть опустил голову набок. Ее поклонником был милый юноша, живший в домике из деревянных планок на пляже возле Эйлата — она захихикала. Он решил, что лучше сосредоточиться на чем-нибудь еще — первым на ум пришел проектировщик — и он стал медленно и глубоко дышать, словно человек, который вот-вот заснет. И пока он, тихонько посапывая, представлял себе новейшее, в стадии постройки, детище своего шурина, “композицию из бетона и мрамора”, девять этажей, оригинальная разбивка помещений, и ко всему прочему главный козырь: вид на Северное море, — ее болтовня потихоньку умолкла. Ладно, супруг решил вдремнуть, что ж, неплохая идея, и он услышал, что она сняла туфли и стала устраиваться с ногами на диване.
Все это произошло дней за четырнадцать до попытки убийства; она мирно заснула в купе, в котором, кроме них, никого не было. Она не знала тогда, что напротив нее сидит маньяк, человек, которого слегка подташнивало от настойчиво ищущего себе выход беспокойства. Когда кондуктор открыл дверь в их купе, он лично передал ему билеты. Лишь после того как состав въехал под перекрытие железнодорожного вокзала Гааги, он тронул ее за колено: “Проснись, приехали”. Когда они садились в такси, он вдруг подумал совершенно спокойно и с уверенностью в своей правоте: “Я бы хотел от нее избавиться”, после чего назвал водителю их домашний адрес.
Неоформленное желание, вряд ли больше, чем фантазия. Каким образом нечто случайное может привести к решению? На следующее утро будильник зазвонил без четверти семь. Он отлично выспался. В то время как она еще оставалась в постели, а он минут пять стоял под горячим душем, а затем еще несколько секунд принимал холодный, его сознание почти ничем не отличалось от нормального. Обдумывая планы на день, он взвешивал одновременно и другой план, другую идею — вчерашней ночью она, возможно, была подсказана ему безумием, но теперь предстала в кратком отточенном виде, как один очень хитроумный вывод.
Предумышленное убийство. Из всех мерзких поступков этот считается самым омерзительным.
— Ведь правда?
Ван Влоотен пробормотал свой вопрос, кивком головы показав в сторону стоявшей напротив понурой очереди пассажиров, словно хотел сказать: “Попробуйте-ка что-нибудь на это возразить!”
Я отвернулся от него и стал рассматривать зал ожидания, странную тишину которого нарушал лишь словак, выбивавший трубку об оконную раму.
— Ах, — наконец произнес я. — Какое это имеет значение? Тщательно продуманное преступление или преступление, совершенное в состоянии аффекта? Мне кажется, и то и другое рождается из одного и того же безумного источника.
На мое замечание он не отреагировал. Промолчал он и после того, как я высказал следующее: “Длительное безумие — оно ведь, что ни говори, коварнее, соблазнительнее, и можно даже сказать, разумнее?”
Он сел за стол завтракать. Его руки освещали лучи солнца, падавшие из окна. Только что по лестнице спустился вниз их сынишка, за ним Сюзанна, она собиралась поставить тосты, снять со сковородки яичницу, налить чаю. Пока он, как всегда, болтал с шестилетним парнишкой, обычные, повседневные вещи соединились вместе в единую конструкцию и закрыли несколько крайне важных вопросов: “когда?” и, главное, “как”?
Перед домом на дорожке стояли две машины, которые подогнал шофер, Сюзаннина была первая. Квартет всегда репетировал в Ворбурге, дома у альтиста, к которому из всех четверых проще всего было добираться.
— Вы, может быть, подумали, что это тоже сыграло какую-то роль? Нет, это уже не стоило каких-то особых мыслей и слов, ведь она годами с легкостью обманывала меня в самых благоприятных для нее обстоятельствах с нашим добрым знакомым из Шульхоф-квартета, ансамбля, которому она посвятила всю свою жизнь. Я, естественно, понимаю, что мое убеждение исходило всего лишь из предположения о ее вине, в которой она не признавалась и которую к тому же невозможно было доказать, это было дьявольское наваждение, что вовсе не значит, что оно не могло соответствовать действительности. Сцены, в которых принимала участие моя жена, разыгрывались не только в моей голове, но и за пределами моей черепной коробки, среди движущейся мебели нашего дома и среди наших друзей и знакомых, которые, как паиньки, ходили на цыпочках!
Вскоре после того, когда его шурин однажды вечером снова заговорил о жилых башнях на море, критик вдруг проявил такой интерес, что даже спросил, а нельзя ли съездить и посмотреть?
— Не смейтесь, благодаря отражающейся акустике, многие слепые развивают в себе с годами очень утонченное, специфическое чутье по отношению к стенам, коридорам и потолкам, они словно всё видят ушами и способны оценить эти конструкции не хуже самих архитекторов.
В результате на следующее утро, в холодный вторник, он попросил высадить его из машины рядом со строительной площадкой. “Двадцать минут, — сказал он своему шоферу. — Через двадцать минут я вернусь!”
Он немного постоял, почувствовал хаос стройки, где-то играло радио, затем на деревянном настиле загремели шаги и навстречу ему раскатисто зазвучал голос. Шурин поздоровался с ним, пожал протянутую им руку.
— Пойдем. Там лифты.
— Нет, — ответил он. — Я лучше поднимусь по лестнице.
Тот, казалось, понял, что ему, как инвалиду, хочется физически почувствовать высоту здания, все девять бетонных этажей.
Восхождение заняло минут шесть-семь. Он стоял, хватая ртом воздух, на плоской крыше квартиры на самом верхнем этаже. Полупьяный от недостатка кислорода, он с удовольствием ощущал, как раскатистый гул моря поднимается снизу вверх и смешивается с его мыслями.
— Это самый прекрасный, единственный вид на первозданную природу, который у нас в Нидерландах еще остается, — воскликнул у него за спиной его шурин, тоже запыхавшийся. — Вода, облака, потрясающий корабль на горизонте!
— Неужели? — отозвался он, а сам про себя подумал: кончай свою рекламную болтовню. Я и сам могу назвать причины, по которым Сюзанна, возможно, захочет жить в этом просторном, светлом пентхаусе.
Гомон чаек. Ветер, хлещущий невидимой плеткой по лицу — зрячему он не показался бы таким соленым и возбуждающим такие безумные мысли, как, например, раздающийся надо всем голос Сюзанны, которая вначале заманчиво перечислила, что она уже с себя сняла: платье, чулки, — а затем описала то, что на ней еще оставалось: что-то очень дорогое из светло-зеленого шелка, ведь она была из тех женщин, для которых очень важно, чтобы ими восхищались.
— Рассказать вам, от каких мыслей я затем пару дней никак не мог избавиться?
— Мне кажется, я об этом догадываюсь, — уклончиво ответил я.
— Меня занимали больше всего размеры и расположение террасы на крыше, я ее всю простучал своей палкой до самого края, неважно, считал ли это опасным мой шурин или нет. Там еще не установили заказанную в Карраре балюстраду из зеленого мрамора.
Сюзанна была в те дни свободна, поэтому он спокойно мог рассказать ей все подробности, касающиеся этой квартиры на море, заразить ее идеей переезда и пробудить в ней охоту сходить с ним туда вместе разок и посмотреть. Шурин предоставил ему чертежи.
— Это были большие листы ватмана, — сказал мне Ван Влоотен и признался, что с удовольствием развернул их перед Сюзанной на письменном столе и попросил ее их ему описать.
Она перегнулась через его плечо.
— Гостиная площадью шесть на восемь, — задумчиво произнесла она.
Она опиралась левой рукой на спинку стула, а правой водила по извилистым черным линиям. Слегка привалившись к нему грудью, она сказала: “Терраса с дверями на полозьях, их можно полностью раздвинуть”.
Что творилось в эти минуты в его душе?
— Даже и не пытайтесь понять, — сказал Ван Влоотен. Он рассказал мне, что оставаясь все последующие дни дома, он хладнокровно готовился к тому, в чем видел свою задачу, трудную, но посильную, одно щекотливое дельце, на которое должен быть способен каждый мужчина. Сюзанна, постоянно крутившаяся дома, ему мешала. Он, собственно, вообще не желал больше с ней разговаривать, она из-за этого злилась, вставала в коридоре напротив его кабинета, кричала и требовала, чтобы он наконец-то отверз уста, в ответ он раздраженно вскакивал из-за письменного стола, молча подходил к ней, закуривал сигарету и захлопывал прямо перед ее носом дверь, возвращался и, не откладывая, принимался снова сосредоточенно думать о поступке, который ни секунды не рассматривал как реальность, но мысли о котором его одновременно будоражили и успокаивали.
— Так, любезный сударь, все и происходило, — сказал Ван Влоотен, — когда я был дома, задуманное казалось всего лишь этюдом, партитурой, не расписанной на инструменты, ведь она была не предназначена для исполнения. — Угол его рта вдруг снова сильно дернулся. — Но когда я поднимался на девятый этаж, в который раз преодолевал эти чертовы ступеньки, что за последнюю неделю случалось дважды, я чувствовал снова такую злость, что принимал твердое решение выполнить то, что задумал.
В четверг вечером Сюзанна, сидя на застекленной веранде, болтала по телефону. Это был один из бесконечно-длинных ее разговоров с кем-то из квартета — его это не интересовало. Когда она положила трубку, он сказал: “Послушай”. Она встала, прошла через всю комнату и неохотно присела рядом с ним на диван. С абсолютно безличным возбуждением по поводу поступка, подготовка к которому зашла так далеко, что он казался уже совершённым, он спросил ее, не хочет ли она завтра утром поехать с ним вместе и посмотреть.
На всякий случай он побывал там еще и накануне. Солнце сияло, дул легкий ветерок. Шофер высадил его возле стройки, и вот он один зашел в подъезд, шурин был ему больше не нужен. Напряженный, очень внимательный, он поднялся наверх, напустил на лицо безразличие, опасаясь рабочих, о присутствии которых он догадывался и которые за это время уже начали его узнавать. Когда он поднялся наверх, с першением в горле из-за бетонной пыли, сердце в его груди бешено колотилось, но все чувства были обострены так сильно, что он вдруг представил себе ее лицо как никогда отчетливо, этот ее почти стершийся портрет — “Сюзанна, Боже правый!” — и мысленно дорисовал себе ее фигуру в чем-то ярко-желтом, такой, какой она была однажды летним днем, когда под голоса пирующих друзей повернулась к нему лицом. Расстаться с действительностью. Это длится всего один миг, потом обычно настает удручающая пустота. В поисках лифта он поплелся вначале не в ту сторону, затем отыскал кнопки и спустился внутрь голого скелета строящегося здания, протиснулся сквозь суету строительной площадки, гул и грохот бурильных машин и услышал где-то вдали беспокойный, взъерошенный крик, возможно, чье-то приветствие.
Он знал эту ее привычку молчать, надув губы.
— Ты хочешь сказать, посмотреть квартиру? — спросила она.
— Да, — ответил он.
Он почувствовал, что она колеблется. Атмосфера в доме в последнее время была не из приятных.
— Хорошо.
14
За стеклянными дверями показался автобус. В ту же секунду к стойке контроля подошли двое сотрудников аэропорта. Все засуетились. Когда Ван Влоотен встал в полный рост, он пошатнулся. Я сунул ему в руку трость. Мы вышли наружу, было по-прежнему жарко. Асфальт раскалился, автобус с треском выплевывал выхлопной газ. Когда Ван Влоотен в него зашел, ему немедленно уступили место. Автобус сделал резкий поворот. Как я ни пытался удержаться на ногах, я все равно повалился на своего спутника. Над его губой я заметил выступившие капельки пота. Я подумал: кто придает такое значение выдумке, однажды, естественно, попытается ее реализовать… На борту самолета было прохладно. Мы поднялись в воздух под звуки “Wohin so schnell”[6] в обработке для маленького оркестра; пропустив по рюмочке вишневого шнапса, мы отдались на волю ускорения, перегрузок и давления кондиционированного воздуха в салоне, который всего лишь имитирует обычные условия, но на самом деле незаметно выводит из строя человека, чувствительного к подобным вещам. Ван Влоотен наклонился ко мне.
— Позвольте мне вам дорассказать, — произнес он высоким, хриплым, приглушенным голосом. — Проснувшись в то утро, я почувствовал себя удивительно бодрым.
Он тяжело дышал.
15
Было чудесное майское утро. Поднявшись с постели как обычно первым, он отодвинул в сторону тяжелую штору — окна всю ночь оставались открытыми — и вдохнул запах сада, еще влажного, но уже немного нагретого солнцем, издалека доносился песчаный запах дюн, не пропускавших звук прибоя, — в тот день не было ни дуновения ветерка. Все это было ему знакомо, знакомо с самого рождения, минуту или больше он так и простоял, желая почувствовать, как это таинственно, когда все прошедшее делает тебе тайный знак, что движется неотвратимо по направлению к тому, что пока еще не совершилось. Может быть, это и есть судьба?
Выходит, двадцать минут спустя судьба приняла облик женщины, мужчины и мальчика, сидевших за завтраком? Может быть и так, а может быть, лишь наполовину, а вторая половина заключалась в его сердце, сжимавшемся, кровоточившем и все же упрямо продолжавшем биться.
— Почему ты не ешь? — в виде утреннего приветствия спросила Сюзанна, которая по утрам никогда не была особенно разговорчива.
Он сделал вид, что не слышит, и ради приличия задал вопрос своему сынишке: “Бенно, что тебе приснилось сегодня ночью?” Ребенок, не задумываясь, начал что-то лепетать, его это ни капли не интересовало, но заставило с отвращением подумать: “Скоро! Скоро все совершенно изменится, но потом все снова встанет на свои места!
Он поднялся, держа в руках чашку кофе, в которую опустил указательный палец, чтобы узнать, много ли еще осталось. Очень медленно, словно отдыхая от того, чего он пока еще не совершил, но твердо задумал довести до конца, он прошел через открытую дверь к цветочному бордюру, служившему границей между садом и огородом.
— Я не ем, потому что не голоден!
Прислоняясь к освещенной солнцем стене дома, он подумал: “Хорошо, мы уже встали, завтрак почти закончен, и если Сюзанна сейчас немного поторопится и отведет ребенка в школу, мне это будет на пользу. Пока он ощупывал свои часы, на руку ему пролился кофе. Он быстро допил остававшееся в чашке, поставил ее рядом с собой на землю, зевнул и с трудом подавил подступающий приступ зевоты. Его глаза слезились. Вот такое начало злополучного дня, — подумал он, — но пока что еще ничего не произошло и все подчиняется старому доброму правилу, согласно которому естественная природа вещей — это спокойствие, а не упрямое безумие, позволяющее отклонению взять верх над человеческой волей и заставляющее стать пленником чего-то очень странного в себе самом.
В четверть девятого вернувшись из школы, она погудела ему, не выключая мотора. Он сел в машину. “Проедешь Вассенарсевег и потом — сразу же резко вправо, в общем ты знаешь”, — сказал он, откинувшись на спинку кресла и чуть вытянув шею, прислушиваясь к петляющей дороге, ставшей ему уже очень знакомой. Когда в ответ на ряд его указаний она отозвалась лишь словом “да”, а после “Дейн-отель” поехала не в ту сторону и пришлось возвращаться назад, он понял, что она не слишком внимательно его слушала, ее отвлекало что-то происходящее в ней самой.
— Это здание, ну теперь ты, наверное, его уже видишь!
То самое место. Она поставила машину на настил из листового железа, специально выложенного для парковки машин возле строительной площадки. Синее безоблачное небо и снова чайки — он представлял себе это, выходя из машины. На расстоянии метров в пятьдесят громыхал кран с лязгающим захватом. Шума моря отсюда слышно не было.
— Пошли.
Постукивая перед собой палкой, он шел впереди нее, зашел в холл, в котором из-за отсутствия окон и дверей гулял сквозняк. Почему она не протестовала? Почему не предложила просто сесть в лифт? По первой лестнице он шел в темпе человека, который хорошо представляет себе отрезок маршрута, на котором ему нужно правильно распределить свои силы. Не оборачиваясь к ней — для чего оборачиваться? — он говорил об ожидаемых сроках сдачи объекта, но потом замолчал, когда с ее стороны не последовало никакой реакции. На второй или третьей лестнице у него даже возникло ощущение, что он здесь один, до того тихо было у него за спиной, мелькнула мысль, что его затея обвела его вокруг пальца, по зрелом размышлении предпочла остаться тем, чем и была до сих пор — сводящей с ума идеей. Он схватился за перила, потная рука соскальзывала. Но на пятом этаже, когда он остановился на секунду возле прислоненной к стене лестницы и нескольких банок с краской, он отчетливо услышал ее тихое дыхание — она запыхалась. В этот момент он интуитивно понял: она чует, чует неладное всей душой, это место завораживает ее и опасность, опасность, которую она еще не до конца осознает, тем сильнее ее интригует, настойчиво заставляет двигаться шаг за шагом вперед.
Они взбирались все выше. На лестничной площадке самых верхних этажей лежали спутанные клубки не то телефонного, не то электрического кабеля, — нити, которыми будущие жильцы вскоре свяжут себя с миром. Он прошел мимо них, его шаги отдавались гулким эхом, в то время как ее шаги были беззвучны. Он помотал головой, пытаясь стряхнуть с себя дурноту. О, это из-за нее, из-за этой ее парализующей покорности, их согласованное движение, дыхание, молчание стало приобретать черты опасной, устрашающей церемонии!
Он стремился очутиться поскорее на площадке под открытым небом, ему мешал холодный поток воздуха, сквозивший с нижних лестничных пролетов. При всем том у него возникло странное чувство, что это не он, а она слепая и что это ей стоит чудовищного напряжения не потерять его в темноте. Он пересчитывал ступеньки. Надо только быть внимательным и ни о чем не думать, разумеется, ни о чем. Такие минуты — это минуты не мысли, а минуты памяти и сильного воображения.
Ее обычная манера себя вести. Ее одежда. Ее запах. Ее хорошее настроение и приступы уныния. Ее голос — компас, по которому он всегда мог ее найти: стрелка на север в мире, в котором ничто не стоит на месте. Свою косу она недавно отрезала и теперь носила распущенные волосы до плеч. Ее взгляды, которые его успокаивали, ее талант все описывать и редкая любознательность. Ее приятная манера подластиться к нему, когда она усаживалась поздним вечером рядышком с ним на диван, всегда действовала на него обезоруживающе. После того как она родила сына, она несколько раздалась в бедрах, но ее щиколотки и запястья оставались все такими же тонкими. Ее нескончаемая болтовня по телефону. Как она любила посмеяться с друзьями! — плачущей он ее почти никогда не видел. Вечеринки для своих. Детские утренники. Их совместные походы в театр или гости, от запаха ее духов у него уже в машине начинала кружиться голова. Ее музыкальность. Часто он слышал, как она репетирует, где-то высоко под самой крышей, сквозь все этажи ему было слышно пение скрипки: печально, энергично, largamente. Когда в такие минуты он поднимал голову и прислушивался, ему казалось, что он от нее дальше, чем ее футляр для скрипки, ее подставка для нот, ее партитуры и сами ноты, в которых она, сидя за столом возле лампы, что-то отмечала карандашиком.
Все это ему вспомнилось, отчетливая, радующая душу картина, но какой-то внутренний голос продолжал нашептывать: “Еще немного!” Так он подошел к последнему лестничному маршу, на котором уже ощущалась та разреженная, соленая атмосфера, что и на самом верху. В предвкушении, уже давно на грани нервного срыва, он не чувствовал колебаний, ведь ее предательство не вызывало сомнений, но теперь это уже даже не причиняло боли.
Он с силой притопнул ногой по полу, выложенному плиткой — просчитался на несколько ступенек.
— Мы пришли, — сказал он.
— Ты весь дрожишь, — произнесла она со вздохом.
Он слышал, как она ходит по пустым помещениям. Мысленно представляя себе план жилища, она осматривала их, очевидно, придумывая мебель для “комнаты отдыха”, “комнаты без названия”, “кухни”, “ванной” и еще одной “комнаты отдыха”, при этом не говоря ни слова, за что он был ей благодарен. Он выжидал. Стоял на открытой террасе возле стеклянной стены гостиной с раздвинутыми настежь створками и ждал, когда она переступит границу так называемого “внешнего помещения”, появится в этом самом привлекательном месте квартиры.
Он почти не думал о ней. Абсолютно не думал о ней как о женщине, которая вертит по сторонам головой, часто останавливается или прищуривает глаза, чтобы получше изучить дом, в который она, возможно, вскоре переедет, причем, вопреки странному настроению, где-то в ее мозгу уже замаячили мысли о том, как они проведут остаток дня. Для него представить себе это было невозможно. Точно так же, как ее шелковые спортивные брюки, широкие, с карманами на пуговицах под коленями, ее замшевые мокасины и ее футболку из мягкого трикотажа, все это стало абсолютно непредставимо для него с момента, когда она уже почти превратилась в то, чем, не считая одного последнего завершающего жеста, ей предстоит быть: безбудущностью.
Он слышал плеск откатывавшихся волн, был отлив. И еще рычанье мотора, должно быть, джипа пляжной полиции, звук медленно удалялся в северном направлении и там угасал. Тщательно примериваясь к ней, остановившейся в нескольких шагах от него, он не чувствовал ни малейших сомнений. Напротив, из головы не выходило дело, которое во что бы то ни стало нужно было выполнить, побудительную магическую силу которого он чувствовал в мышцах собственных рук. В таких случаях уже не имеет смысла говорить “хочу — не хочу”, “да” или “нет”. Ведь, по крайней мере, один раз он уже доказал, что наклонности к убийству он не чужд и способен в решительный момент сказать: сейчас!
Он побрел к террасе. Остановился на пороге. Быть может, она засмотрелась на море и, как это со всеми обыкновенно случается, нырнула в бескрайность стихии воды и неба, в их вековечную неизменность? В этот час оттенок волн был темнее неба, к вечеру все станет наоборот. Он ничего не сказал, не шевельнул пальцем в ее сторону, лишь только сжал челюсти, протянул вперед руку, несколько нарочито постучал палкой, прошел несколько шагов в сторону засады, размеривая их с точностью до дециметра, и обратился в слух. Она следовала за ним, как животное, которое с какого-то момента уже не бежит от опасности, а, наоборот, устремляется к ней, связанное с ней вечными неразрывными узами.
Так случилось, что она встала точно на свое место. Не видно и не слышно. И тем не менее он знал, что сейчас они оба занимают друг относительно друга положение мишени и прицела, равное приказу. Поэтому, предельно сосредоточенный, он сделал вдох.
Двое на залитой солнцем площадке, внизу строители во времянке пьют в половине десятого свой утренний кофе, а что касается его сердца, то в нем в этот момент вряд ли оставалось еще что-то личное. Таков был этот очень абстрактный момент, когда ему почудилось, что он вправе, абсолютно вправе совершить поступок, о котором никто и никогда не узнает. В чем правота тайны? Если тщательно ее хранить, то как долго ей удастся сохранять неизменным порядок вещей, прежде чем проявится качество, присущее ей с самого начала: лживость? Это может произойти очень скоро. Мы ведь суть то, что мы делаем, — возможно, это и так. Но поступок, который постоянно замалчивается, может очень скоро исчезнуть из нашей жизни, потому что никто нас за него не осуждает.
В эту минуту раздался звук, который заставил его вздрогнуть. Сюзанна, стоявшая от него на расстоянии ладони, сделала глубокий вдох, такой же глубокий, как сделал он сам, и в один безумно краткий миг его словно осенило: сейчас она чихнет! Сейчас она расчихается, на нее нападет один из ее странных приступов чиха, которые с ней частенько случаются!
Момент был упущен. Она отступила назад. Он услышал несколько осторожных шагов. Вся его хитроумная конструкция, выверенная до миллиметра, пошатнулась и развалилась, и мир вырвался из его рук на свободу. Он не сдвинулся с места, лишь повернул голову. Она замерла на пороге между гостиной и террасой, и он знал точно, совершенно наверняка, что сейчас они смотрят друг другу прямо в лицо, что откровенной гримасе, исказившей его физиономию, навеки суждено стать его подлинным лицом, а она настолько безжалостно проницательна, что, кажется, читает его мысли: “Да, я хотел, чтобы ты умерла, умерла!”
Он услышал, как она бросилась через гостиную к лестнице.
16
— Да-да, она сбежала вниз по лестнице.
И Ван Влоотен широко раскрыл рот, что на меня, и так уже оглушенного событиями, о которых он только что рассказал, произвело столь мрачное впечатление, что я подумал: он так долго не протянет! Затем я почувствовал боль в ушах, это самолет довольно резко начал снижаться.
— Зальцбург! — сказал я, взглянув на часы.
Было двадцать минут двенадцатого.
Ван Влоотен выпрямился в кресле и продолжил:
— Она кинулась к лестнице. И я почти уверен в том, что она не заметила, как пробежала разом все семь лестничных пролетов, что ж, я ее прекрасно понимаю.
Я дал понять, что я тоже ее хорошо понимаю. Ступенька за ступенькой вниз, думал я, на своих ногах и со своей собственной скоростью и, разумеется, с каждой минутой она все больше осознавала расширявшуюся пропасть между ним и ею, между скандалом, чуть не разразившимся наверху, и умершим и вновь воскресшим призраком, который в данную минуту судорожно искал ключи от машины.
— Как вы добирались домой? — озабоченно спросил его я.
О, это было непросто! Ван Влоотен рассказал мне, что, когда он спустился вниз, строительная площадка превратилась в немое царство привидений. Он заблудился на этой песчаной равнине, потерял свою трость, случайно наткнулся на времянку рабочих, в которой уже никого не было. Проблуждав по солнцепеку, ему удалось добраться до проселочной дороги, петляющей между дюнами и морем, и там через некоторое время его посадил в свою машину какой-то турист из Германии. Так он добрался домой, слишком усталый, чтобы еще о чем-то думать, и слишком испуганный, чтобы просто войти. Он остановился и стал ждать в начале подъездной аллеи, ведущей к гаражу, опирался рукой на почтовый ящик, из которого торчала газета. Вскоре он понял, что на посыпанной гравием дорожке стоят две машины с открытыми дверцами, готовые к отправке. До его слуха донеслись шаги, но голосов он не услышал. Захлопнулись дверцы. Загудели моторы.
— Они проехали в полуметре от меня, — сказал Ван Влоотен голосом, в котором звучало неприкрытое горе. — Кусочки гравия из-под колес засыпали мои ботинки, я почувствовал, что ко мне, точно падающая гильотина, возвращается разум. Я отпрянул назад и споткнулся о низкий деревянный заборчик, полностью сознавая, что я собственными руками разрушил свою жизнь.
Мы приземлились. Когда я достал из багажного отсека его плащ и протянул ему, Ван Влоотен промолвил: “Вы добрый юноша”. Затем, уже в зале прилета, он спросил меня, который час.
— Почти полночь, — сказал я, при этом с грустью заметив, что попутчики, добравшиеся до места назначения, все больше и больше друг от друга отдаляются.
Я вытащил для него его чемодан с ленты багажного транспортера, передал ему, и он пошел на шаг впереди меня по направлению к выходу. Зная, что его будет встречать его знакомый, я подумал: вот и всё, но в эту минуту этот слепой гигант, который уже приблизился к паспортному контролю, вдруг обернулся и замер, напугав всю длинную очередь из пассажиров видом своих закатившихся глаз.
— Pardon. Извините. Entschuldige![7] — бормотал я сквозь зубы, протискиваясь вперед.
— Прощайте, — сказал я и пожал его руку, которая оказалась безжизненной и холодной на ощупь.
Шестнадцать лет спустя
Зимний день, конец ноября, суббота. Долгие годы я почти не вспоминал об этой паре, но случилось так, что в этот день мне суждено было узнать конец их истории. Подсознательно мне всегда казалось, что, проводив критика в Зальцбурге глазами до таможни, я уже видел этот конец, такой безнадежный и хватающий за душу. Не так уж этот человек был стар, но выглядел он совершенно потерянным и сильно помятым жизнью. Образ Сюзанны Флир с тех пор уже не соединялся в моем воображении с этим трудным человеком, к тому же инвалидом, я представлял, что амбициозная подруга моей юности гастролирует со своим ансамблем по европейским музыкальным сценам, не забывая при этом трогательно заботиться о сынишке.
Моим постоянным местом жительства в то время был Бостон. Меня пригласили в Висбаден быть гостем семинара “Музыка для зрения и слуха”, прочитать в Париже курс лекций о Яначеке, поговорить о его трепетном отношении к смерти своих героинь и, самое главное, в Амстердам, где я должен был выступить с докладом “Взгляд Орфея. Ошибка?” И вот в тот ясный холодный день я отправился на такси в аэропорт, чтобы из Бостона вылететь в Схипхол, не зная о том, что в полете я на минуту замру, наткнувшись на имена Ван Влоотена и его жены, Сюзанны Флир, и случится это настолько неожиданно, что у меня перехватит дыхание.
Главной темой их прекрасной и страшной истории оказалось совсем не то, вокруг чего в те давние времена обвела кружок моя память.
Не стану скрывать, что эта пара какое-то время еще продолжала занимать мое воображение, покуда я не поместил их в ту область, из которой, мне кажется, они и взялись. Ведь современное общество в основе своей зиждется на искусстве? Все эти наши цивилизации, революции и победы: разве грех иной раз задать вопрос, как это произошло и почему? Без Гомера не было бы Шеклтона, — подумал я однажды о жизни, которая обладает невероятным украшательским талантом, но лишена способностей к творчеству. Так мои мысли опять привели меня к Мариусу ван Влоотену и Сюзанне Флир, к этапам их судьбы. Когда в ту далекую ночь мы проходили через австрийскую таможню, то мы оба, Ван Влоотен и я, были очень уставшими. Мы услышали, как на улице загудела машина, как люди окликают друг друга и вступают между собой в разговор, и надо всем — неизменный женский голос из громкоговорителя в зале прилета. Это наводило на размышления об эротике, о безумии, сострадании и о той полной растерянности минуте, когда двое людей понимают, что отныне им лучше разойтись навсегда.
Солнечно, но холодно. Молодой таксист, не обращая внимания на колесики под моим чемоданом, с легкостью поднял его и пошел вперед. В тот момент, когда он открывал заднюю дверцу такси, я заметил, что он задержался взглядом на книге у меня в руках. Это была книга турецкого автора, переведенная на английский, толстый роман, который должен был помочь мне одолеть шестичасовой перелет, мысленно перенестись в другую обстановку. Машина тронулась, на мгновение я встретился с ним взглядом в зеркале заднего обзора и почувствовал, что он хотел о чем-то меня спросить, но передумал, увидев, что я раскрыл книгу. Не проронив по дороге ни слова, мы спокойно приехали в аэропорт.
— “Тихий дом”, — произнес молодой человек, выдвигая длинную ручку на моем чемодане. — Иногда я тоже об этом мечтаю.
В зале вылета я понял, что правильно поступил, взяв с собой книгу, сюжет которой меня полностью захватил. На экране монитора я увидел, что мой рейс откладывается, а когда поинтересовался почему, выяснилось, что наш самолет KL218 ожидает своей очереди для очистки от наледи. Читая, я не заметил, как пролетели полтора часа, вызванные этим неудобством. Но когда под конец я вошел в салон, я потерял чувство реальности, до такой степени я сжился с печалью покинутого дома из моей турецкой книжки. Фактом реальности тем не менее было то, что в “Боинге-747”, вмещающем 465 пассажиров, я очутился в неудобном среднем ряду и что трое из 465 пассажиров, объединившиеся в дружеский кружок любителей болтовни, получили места по обе стороны от меня, двое справа и один слева.
Принесли газеты. Я выбрал себе одну. “Войска ЕС еще далеко”, “В Китае наметилось оживление”, “Финансовая афера в Нидерландах”, “Туберкулез в России”, “Рынок жилья значительно вырос”, “Сперматозоиды скоро станут не нужны”, “Спонсоры футбола требуют очков”, “Ширак взял американцев за горло”, “Три миллиона за рукопись “Улисса”, “Диоксиновый угорь вызывает тревогу”… Реальная жизнь, повседневность. Пока самолет взлетал, взгляд мой был прикован к заголовкам, которые никак не согласовывались ни с капризами фортуны, о которых я размышлял, ни с какой-либо разумной логикой. Тем временем самолет набрал высоту, и друзья, сидевшие по обе стороны от меня, разговорились. Находясь посредине, я им мешал, порой им приходилось повышать голос, но когда я предложил поменяться местами, они сказали: “Ну зачем же?”. Так волей-неволей мне пришлось убедиться, что обе женщины, отличавшиеся профессионально поставленной речью, как на телевидении, полностью придерживались того мнения, что сексуальные связи обязательно должны быть приятными, беспроблемными и разнообразными, против чего молодой человек изредка возражал.
— Странно, — обратилась к блондинке сидевшая справа от меня брюнетка в короткой широкой юбочке, надетой поверх брюк. Молодая женщина, сидевшая с другой стороны от меня, немного наклонилась вперед. — Во время моих прошлых романов я Бог знает как переживала, Господи, какое впечатление производил на меня Мистер Биг, но теперь я рассуждаю примерно так: “Вау, какой симпатяга, ну просто зайчик, только вот: does he meet my needs?”[8]
Блондинка откинула прядь волос, спускавшуюся ей на лицо словно занавеска, еще больше наклонилась вперед и потом заговорила сама, иногда бросая взгляд в сторону собеседницы: “Я тоже сыта этим по горло, этим ежедневным симбиозом, я люблю мужчин, но хочу, чтобы дни и ночи теперь принадлежали только мне. Я прожила с одним человеком шесть лет. Он покупал мне “Коко Шанель” и раз в две недели по субботам мыл окна в нашей квартире. Но потом мои чувства пошли на убыль и я стала задумываться: is this all there is?[9] В сексуальном плане я им не слишком довольна и тем не менее с ним связана. В конце концов у меня ведь приличная зарплата, И я вполне могу разорвать нашу сделку”.
Я откинул спинку своего кресла. Меня охватила необъяснимая грусть. Через иллюминаторы был уже виден краснеющий закат. Между рядами кресел суетилась стюардесса, с усталой, безутешной улыбкой на лице она щипчиками подавала пассажирам горячие салфетки. Наконец молодой человек, который сидел дальше всего от меня, с краю, решил высказать свое мнение на тему любви и верности. Когда он заявил, что эротика, настоящая эротика, в силу большой концентрации чувств моногамна и, подобно солнечному лучу под увеличительным стеклом, сфокусирована в одном-единственном объекте, подруги уставились на него и наморщили лбы, словно задумавшись. Но когда он принялся жаловаться на женщин у него на работе, которые, чуть что, выпускают коготки, они вновь оживились.
Я смотрел невидящим взглядом перед собой, краем уха прислушивался к их болтовне и никак не мог понять, чем объяснить неизвестно откуда возникшее предчувствие большого несчастья. Неподвижный самолет, который за несколько минут до этого весь трясло и качало, напоминал мне корабль, подбрасываемый неистовыми океанскими волнами на чудовищную высоту. В таком состоянии нечего было и думать о книжке, поэтому я снова взял лежавшую у меня на коленях газету и рывком развернул ее на новой странице.
Девушка слева продолжала:
— Это сидит в нас, that’s it![10] То, что мы лучше них умеем общаться, всем давно известно, так же, как и то, что способности к менеджменту даны нам самой природой вместе с нашим материнским инстинктом. Какой напрашивается вывод? Давайте будем пользоваться тем, что мы женщины, ведь если этого не сделаем мы сами, это сделают другие!
Девушка справа, задумчиво:
— У себя в офисе мы всегда страшно забавляемся.
Левая:
— Ой, мы тоже!
Правая:
— Наша политика в первую очередь основана на теле. Почему бы не использовать в качестве аргумента собственную грудь? Не сделать из своей женственности аргумент номер один? На прошлой неделе у меня был деловой разговор, затруднительный момент, связанный с комиссионными, которые я хотела получить. О’кей, в переговорную входит господин, я подаю ему руку, предлагаю присаживаться, оборачиваюсь взять наш проспект, перехватываю его взгляд на мой зад и с улыбкой приступаю к делу. Эх, какую власть я при этом чувствую!
Опять правая:
— Недавно мне нужно было навести справки о частном финансировании, но мне было некогда или лень, уже не помню. Ну, иду я в отдел документации и говорю милому мальчику, который сидит за экраном: Everyone has his limits.[11] Он поднимает глаза, я ему сладко так улыбаюсь, на мне мягкая вязаная кофточка с запахом крест-накрест, в общем, сама понимаешь. И когда я вижу, что у бедняги забурлили гормоны, я признаюсь ему в том, что совсем не умею пользоваться интернетом и, может быть, он сможет мне помочь…
Подружки расхохотались, и одна из них стала тихонько напевать: “I’m climbing to the top”[12].
Наверное, я сидел и смотрел на это объявление довольно долго. Собственно говоря, эту страницу я уже давно не читаю. Уже несколько лет я не просматриваю некрологи в черных рамочках. Все чаще я натыкался в них на имена людей, которых знал, и испытав мгновенный шок, в очередной раз убеждался, что человеческая жизнь, замыкая круг, вновь возвращается просто к имени.
Сюзанна Флир.
Мое сердце екнуло. Я поднес газету поближе к глазам и как во сне смотрел на эти имя и фамилию, до тех пор пока они окончательно не отделились от реальности. Наконец я начал читать объявление с обязательным старомодным зачином: “С прискорбием сообщаем…”, и только тогда осознал, что случилось. Сюзанна Флир, нежно любимая супруга и мать, погибла в результате несчастного случая, авиакатастрофы, о которой в этом некрологе подробностей не сообщалось, впрочем, несколько дней назад я уже что-то читал об этом в газетах. Очевидно, она села в самолет одна, то есть с ней не было никого из ее близких — под некрологом значились имена четырех членов ее семьи, живущих в Вассенаре: Мариус ван Влоотен, Бенно, Беатрейс и Лидвин, — не было с ней и ее коллег из Шульхоф-квартета — соболезнования всех троих были помещены на той же странице.
Что к этому добавить?
История закончилась. Во мне она оставила чувство страха и удивления. Все сложилось иначе, чем я это себе представлял, по прошествии шестнадцати лет я должен буду еще основательно подредактировать свои знания с учетом реальности. Я открыл глаза, увидел приближающуюся тележку с напитками, кивнул стюарду и молча указал на виски. В таких ситуациях говорят: “У меня нет слов”, но два слова у меня все же нашлось.
Выходит, они примирились, я это понял и мысленно провозгласил тост за Ван Влоотена и Сюзанну Флир, вот это да, грандиозно! Все уладилось, кто бы мог подумать, я на долгие годы потерял их из виду и успел позабыть, что где-то продолжают биться два сердца, горячие, страстные и, конечно же, полные восхищения своими довольно неординарными отношениями. Примирение! Я покачал головой, быстро проглотил то, что еще оставалось в рюмке, и задал себе вопрос, какой будет следующая остановка на этом пути, который, я уверен, еще далеко не закончился. Произведения искусства не считаются со смертью, — размышлял я в легком тумане, — отталкиваясь от известного, они набрасываются на неизвестное, используют его для своих тем и затем в виде набросков предлагают эти темы реальной жизни. Я снова взглянул на список имен в смятой газете. Беатрейс и Лидвин… девочки, как я представил себе, лет тринадцати или четырнадцати, скорее всего, ее дочки, возможно даже, двойняшки, чьим появлением на свет Сюзанна Флир, должно быть, несказанно обрадовала своего мужа.
— Another drink, sir?[13]
Стюард уже отвинчивал крышку на бутылке.
Я выпил, неподвижно сидя в своем кресле с пристегнутыми ремнями безопасности. Известие о недавней авиакатастрофе произвело большую сенсацию, но я, занятый подготовкой к своим лекциям, мало смотрел телевизор. Самолет, совершавший перелет из Нью-Йорка в Брюссель, через несколько минут после старта рассыпался на куски неподалеку от побережья Лонг-Айленда. Люди, смотревшие из окон своих гостиных на океан, увидели летящее пламя и, после того как прогремел взрыв, белый шлейф, который сносило в сторону воды. Специалисты были единодушны во мнении, что ни у кого из находившихся внутри пассажиров не было ни единого шанса спастись после того, как на высоте в две тысячи триста метров треснул салон, разверзлась зияющая дыра, корпус самолета превратился в огненное пекло, и все, сидевшие внутри, устремились к своей последней истории, которая у жизни всегда одна и та же.
Примечания
1
Зал ожидания первого класса.
(обратно)2
“Жива лишь музыкой любовь,
недавно я услышал весть.
О музыка, приди, приди,
наполни душу мне, как сок,
чтоб в радости я мог расцвесть!”
(обратно)3
Можно сделать замечание? (англ.)
(обратно)4
Божественно! (англ.)
(обратно)5
Не играйте ноты, но очеловечивайте их (англ.).
(обратно)6
Куда так скоро (нем.).
(обратно)7
Извините (фр., нем.).
(обратно)8
Он отвечает моим потребностям? (англ.)
(обратно)9
И это все? (англ.)
(обратно)10
Вот и все! (англ.)
(обратно)11
Возможности человека небезграничны (англ.).
(обратно)12
Я взбираюсь на вершину (англ.).
(обратно)13
Не желаете еще выпить, сэр? (англ.)
(обратно)
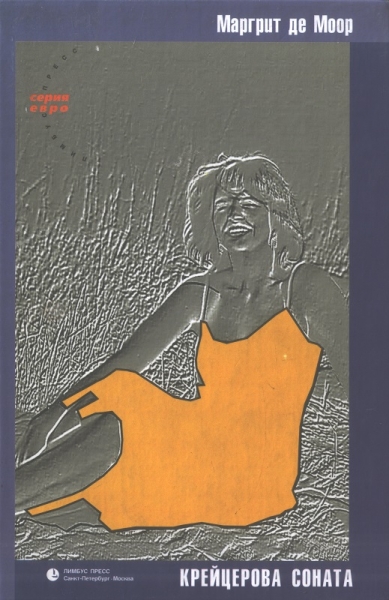




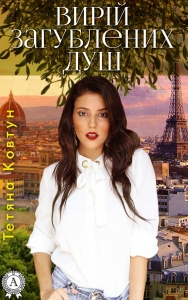



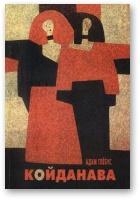
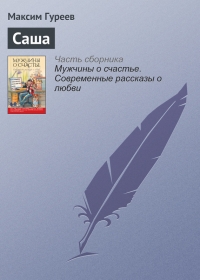

Комментарии к книге «Крейцерова соната. Повесть о любви.», Маргрит де Моор
Всего 0 комментариев