Голова Олоферна Повести и рассказы Иван Иванович Евсеенко-младший
© Иван Иванович Евсеенко-младший, 2015
© Джорджоне, иллюстрации, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Вечные похороны
Очередное дежурство по гарнизону. Грязно-желтый, видавший виды «пазик» жалобно покряхтывает возле входа в помещение оркестра. Мы – солдаты-срочники, вооружившись надраенными до неестественного блеска инструментами, топчемся на месте в молчаливом ожидании. Курим одну за одной, втягивая едкий дукатовский дым, не задумываясь почти, что он, прежде чем проникнуть в легкие, перемешивается с запахом выхлопных газов автобуса. Замечаю, как моя физиономия карикатурно отражается в зеркальном раструбе валторны одного из сослуживцев. Вспоминаю детство, «Комнату смеха» в городском парке. Тогда было действительно смешно…
Слава богу, большой барабан у меня сегодня деревянный. Таскаться с железным по кладбищенской не основательно замерзшей грязи было бы верхом несправедливости. Сверчи, как всегда, не в меру веселые и злые. Их пошлые «бородатые» шутки вынуждают меня отойти чуть в сторону. Издали чувствую их болезненное нетерпение. Видимо, кто-то уже подсуетился, заначив пару поллитровок на время долгой дороги. Наконец доносится бодрящее: «Пора…» Садимся… Выдвигаемся…
У «духа» Жени Мисина, уроженца славного уральского города Миасса, первый за службу жмур. Сидит неспокойно, беспрестанно ерзает, нервно перебирая озябшими пальцами вентили тубы, которая почти одного размера с ним. Рост Жени – метр пятьдесят. Кто-то из старослужащих зло пошутил, сказав, что по неписаным законам военно-оркестровой службы, в «первый жмур» «духам» полагается целовать покойника в губы. Женя поверил. Потому и трясется теперь, боязливо косясь на прожженных «дедов». Но иногда все же, словно подбадривая себя, мужественно поправляет очки, с силой вдавливая оправу в покрасневшую переносицу. Готовится боец!
Разливают пойло. В этот раз я ошибся. На дворе девяностый год, водки днем с огнем… Поэтому технический спирт – почти что напиток богов. По правде говоря, начальство выделяет его для самих инструментов, чтобы вентильные механизмы медно-духовых на морозе не крякнулись. Но на начальство сверчам плевать. Оттого используют «огненную воду» по своему усмотрению, то бишь внутрь. В этот раз на брата приходится почти по стакану. Стакан один на всех. Пьют залпом, но мелкими глотками, аскетично занюхивая безначинковой карамелью «Снежок». Выпив, почти синхронно закуривают и начинают забивать «козла».
Меня, как всегда, чуть подташнивает на заднем сиденье. То ли от подпрыгивающего на неровностях дороги автобуса, то ли от спертого запаха в нем. Коктейль из технического спирта, сигарет «Дымок» и карамели «Снежок» – самый недорогой коктейль в мире… Некоторые солдаты не выдерживают, засыпают, неудобно подложив ребристые фуражки под стриженые головы.
«Странно, – справившись с тошнотой, про себя рассуждаю я, – почему мы сегодня в фуражках, а не в шапках-ушанках? Переход на зимнюю форму одежды давно позади… Видимо, хороним какую-нибудь шишку. Отставного генерала или полковника…»
Доиграв, сверчи утихомириваются и тоже постепенно отходят ко сну. Пилить еще минут сорок. За окном промозглый бесцветный ноябрь. Ни снега, ни дождя. Оттого делается еще зябче. Скорей бы настоящая зима. Со снегом теплее и уютнее. Прохожие, торопящиеся по своим гражданским делам, вызывают зависть. И нет им дела до нас. Вот бы мне так… Счастливые… Служить еще месяцев семь, это если без залетов, а так – и до сентября могут продержать…
Я не выдерживаю наплыва упаднических мыслей и тоже засыпаю, приладив голову к обшарпанному кадлу барабана. Снятся домашние, неестественно большие пельмени, почти манты. Затем фабричные заварные кольца с творогом и обитая рыжим дерматином дверь родного дома… Я подхожу к ней, жму на звонок и…
– Шевелим мудями! Выплевываемся! – раздается хриплый голос старшины.
Домодедовское – самое мерзопакостное кладбище из всех московских. Ни одного деревца. Обглоданные ранними заморозками кустики черноплодки, и то по периметру. Широченное голое поле с желтыми холмиками, отдаленно напоминающими детские песочные куличики. Невдалеке по пояс раздетый могильщик роет яму. Пропорционально накаченный и не по-советски загорелый, чем-то походит на Жана-Клода Ван Дамма. Мне становится нестерпимо холодно при виде его. Где-то метрах в пятидесяти от нас по широкой песчаной дороге тянется очередь разноцветных катафалков и их сопровождающих. Кажется, что хоронят здесь, не переставая, и днем и ночью. Вечные похороны…
«Красный, черный, голубой, выбирай себе любой!» – неудачно пытаюсь пошутить я.
Конца этой очереди не видно. Глядя на увлеченного работой могильщика, понимаю: смерть – самое прибыльное занятие в нашей стране…
До Жени наконец доходит, что его жестоко обманули. Искренне радуется и расслабляется. Сверчи же цинично подтрунивают над ним, да и мы тоже не заставляем себя ждать…
Забивают третий гвоздь. Вступая не вместе, душевно выдаем Шопена. Не люблю «романтистов», особенно в переложении для духового оркестра. Куда больше по сердцу «венские классики». (Они так и остались незапятнанными.) Слышится женский вопль. (Наверное, хорошим человеком был тот генерал или полковник…) Но нас он совсем не трогает. Ни генерал, ни вопль по нему. Что поделать? Иммунитет… Впопыхах выдуваем гимн: «Славься, Отечество наше свободное…». Воспроизводить дробь на большом барабане с помощью одной колотушки в заиндевевшей руке – почти искусство. Заставляют испуганно вздрогнуть выстрелы в воздух – типа салют. За полтора года службы так и не смог к нему привыкнуть.
Наконец-то все кончилось… Идем бодрым шагом к автобусу. Скорей бы в казарму и, как говорят стройбатовцы: «на массу»… По пути натыкаемся на скромно организованные похороны ребенка. Гроб бледно-розовый, маленький. Очень маленький… Провожающих трое: седоватый старик лет шестидесяти пяти и парень с девушкой, чуть за двадцать. Вдруг начинает идти снег. Первый в этом году. Крупнокалиберные хлопья покрывают за полминуты розовый ситец, и он выглядит еще более бледным.
Между тем, смахивающий на Ван Дамма могильщик говорит провожающим, что вроде как пора. Девушка обреченно кивает. Гроб медленно опускают в яму и потихоньку начинают засыпать коричнево-ржавой землей. Старик не выдерживает и, пряча лицо в ладони, плачет. Тут с девушкой случается истерика. Она что-то грубое выкрикивает в адрес парня и отчаянно трясет его за рукав пуховика. Неожиданно ее нога соскальзывает, и она падает в яму, прикрывая собой припорошенный гроб от летящих с совковой лопаты комьев земли. Старик и парень неумело помогают ей выбраться. Через какое-то время сладковатый запах корвалола доносится до меня запахом самой смерти. (Эта ассоциация останется в моем сознании навсегда.)
Ошарашенные увиденным сверчи шепотом матерятся, но неожиданно замолкают. Мы тоже молчим. Молчим до самых Хамовнических казарм…
Авдотья Львовна
Авдотья Львовна просыпается рано. Даже дворники не в силах с ней соперничать. Умывшись, ловко прилаживает акриловые протезы к оставшимся четырем молярам и, выждав, когда электрочайник, победно щелкнув, успокоится, заваривает цикорий с ромашкой. Пока напиток зреет, кладет полусантиметровой толщины кусок масла на ломоть маковой сдобы и, присев на край подоконника, ждет, когда из надтреснутого динамика грянет гимн. Первые аккорды заставляют ее чуть нахмуриться, сосредоточиться. К припеву же лицо просветлевает, морщины волшебным образом разглаживаются, а глаза наполняются таким светом и несвойственным пожилому возрасту блеском, что восходящее солнце кажется жалкой пародией на себя. Такое превращение происходит с ней ежеутренне в течение последних десяти лет. Именно столько она не обременена работой, заслуженно вкушая прелести пенсионного положения.
Муж Авдотьи Львовны Александр Сергеевич в это время спит тревожным сном алкоголика. Вздрагивает, матерится, беспрестанно ворочается и, кажется, даже во сне не находит себе места. Их режимы катастрофически не совпадают, как, впрочем, и взгляды на жизнь. Объединяет, пожалуй, одно – смирение.
В квартире живет еще несколько существ, одно из которых – Кеша, волнистый сиреневый попугай мужского пола. Он подает признаки жизни ровно к тому моменту, когда завтрак Авдотьи Львовны начинает интенсивно всасываться в стенки желудка.
– Кеша птичка! Сашка дурак! – по-человечьи, с хрипотцой выдает он. – Кис-кис!
Авдотья Львовна одаривает пернатого удовлетворенной улыбкой и, щедро наполняя кормушку пшеном, терпеливо отвечает:
– Да уж, Сашка у нас дурачок! А Кеша – птичка! Давай звать Маню! Кис-кис!
Прибегает Маня. Маня – рыжий кастрированный кот, половую принадлежность которого определили не сразу. Отсюда и имя. Маня достался Авдотье Львовне от уехавших за границу соседей. Сухой магазинный корм Маня не признает. С большим уважением относится к отварной селезенке и печени. Оттого, брезгливо обнюхав вчерашний «Вискас», трется жирными боками об ноги хозяйки.
– Тогда терпи.
Приняв к сведению, Маня уходит, нервно подергивая хвостом и кончиками ушей. Через минуту на кухню метеором влетает кот Василий. Серая шерсть дыбом, хвост пистолетом. Неприхотливый во всем, довольный жизнью как таковой и, соответственно, «Вискасом». (Его темное прошлое и плебейское происхождение не позволяют качать права.) И хотя у Василия есть заветная гастрономическая мечта, имя которой Кеша, он в очередной раз смиряется с ее призрачностью и потому жадно, по-мужски уминает оставшийся со вчерашнего вечера корм.
– Вот это по-нашему! Умница! – не нарадуется Авдотья Львовна, ставя на плиту кастрюльку с водой.
– Умница! – повторяет Кеша. – Кеша птичка. Сашка дурак.
Минут через пятнадцать запах поспевающей селезенки заставляет Маню вновь прибежать на кухню. Василий также не прочь вкусить натурального продукта, но, осознавая свою неисключительность, облизнувшись, убегает восвояси.
Часам к девяти «дети» (так свою живность называет Авдотья Львовна) накормлены, а значит, можно спокойно выйти на улицу и утолить жажду общения с себе подобными.
Мария Арнольдовна – лучшая подруга Авдотьи Львовны. Их дружба зиждется на неприятии мужей-алкоголиков и любви к животным. Встречаются у выхода из подъезда. Улыбаются, вздыхают, сетуют.
– Со своими управилась? – выказывает особое понимание Мария Арнольдовна, поправляя черный, как строительная смола, парик.
– Да, Маш, накормила, напоила! Как без этого? Они ж как дети мне!
– А мой Рексик приболел маненько. Вчера в ветпункт снесла. Говорят, диспепсия.
Авдотья Львовна понимающе качает головой, разводит руками, жалеет Марию Арнольдовну и Рексика.
– Даст бог, все наладится. Смекты наведи ему.
– Дочь не заходит? – неожиданно спрашивает Мария Арнольдовна, опустив подведенные синей тушью веки.
– Дочь?! – брезгливо выдавливает Авдотья Львовна. – Нет у меня, Маш, никакой дочери. Знать ее не хочу.
Солидарно вздыхают. Минуту спустя Авдотья Львовна распаляется:
– Это ж надо. Выйти замуж за… – как его?.. – стриптизера! Стыд-то какой! Тьфу! Эльдааар! – Разводит руками и приседает на широко расставленных ногах. – Имя одно чего стоит. И ребятенка назвали не пойми как! Не то Арнольд, не то Оскольд.
– Арнольд Эльдарович! Мда, намудрили.
– Вот и я о том же! Не хочу их знать. И все тут. Пусть сами разбираются со своей жизнью. Посмотрим, что у них получится.
– Ясно дело – ничего! Понаиграются, да разбегутся!
– Во-во, да ребятенку жизнь покалечат! Ироды!
– Ладно, бог с ними, пойдем гулей кормить.
Пока Авдотья Львовна с Марией Арнольдовной кормят окрестных голубей хлебными крошками, Александра Сергеевича уже полчаса упорно будят телефонные звонки.
– Ну что за беспредел, твою мать! – натягивает на голову одеяло Александр Сергеевич. – Кому там неймется?
Но телефон не перестает звонить, вселяя болезненное раздражение в потенциального абонента.
– Дааа!!! Кого надо?! – злобно рычит в трубку Александр Сергеевич. Но тут же смягчается: – Доча, ты? Прости старика. Спал я. Мать где? Ушла своих кормить. Как ты? Как Арнольдик? Не болеет? Ну и слава богу. Я? Да нормально. Вроде не болит ничего, так, иногда радик прихватит. Что? Финалгон?! Да ну на х..! Водкой разотру, проходит. Нее, боже упаси, ни капли! Так, по праздничкам. Да что рассказывать? Ты же знаешь. Ее не перевоспитаешь. Горбатого могила исправит. Такие вот дела. В гости не зову, сама понимаешь. Ну, да ладно. Звони. Целую всех вас. Эльдару привет от меня. Все…
После разговора еще долго сидит на кровати, обхватив взъерошенную вспотевшую голову ладонями. Что-то невнятное бормочет под нос, но подступившая к горлу тошнота вынуждает замолчать, с трудом подняться и дойти до уборной. В желудке ничего, кроме желчи. Кое-как ополоснув лицо, прикладывается ртом к кранику. Напившись, кряхтя и кашляя, согбенный, проходит в кухню. На подоконнике, в тени цветущего лимонника, лежит Маня. Заметив Александра Сергеевича, боязливо отворачивает голову к окну и делает вид, что заинтересован бьющейся в межоконном проеме мухой.
– Ну, не хочешь здороваться, не надо. Где-то у меня оставалось, если только бабка не вылила.
Находит за батареей початую чекушку, жадно выпивает и заедает неубранной со стола звездочкой «Вискаса». Через минуту алкоголь действует, и Александр Сергеевич чувствует прилив сил, как физических, так и душевных. Осмелев, развязно поворачивается к Мане, претенциозно скрещивает руки на груди, хитро щурит подернутый катарактой глаз и начинает в тысячный раз знакомый обоим разговор:
– Ну, вот, ответь мне, хто ты таков есть? А?!
Маня в ответ недовольно фыркает, пугается, случайно задевая плоды лимонника, но терпит.
– Гляжу я на тебя и не пойму! Мужик ты али баба? Какого рожна тебя держат? Ради какой такой прогрессии? Мышей не ловишь, Васька для того поставлен. Гладить тебя – себя не уважать! Каков от тебя, кастрата, прок? Ответствуй!? А, молчишь?! То-то…
Маня не выдерживает, обиженно спрыгивает с подоконника и убегает.
– Правильно, давай, шелести отседова, андрогин несчастный!
А потом еще вдогонку, срываясь на фальцет:
– А дочь меня любит! Отца-то! Не забывает! Так-то!!!
Смахивая слезу со щеки, пробирается в коридор, находит куртку и, потея от волнения, шарит за подкладкой. (Память, увы, не дает положительного ответа о наличии заначенного вчера полтинника.)
– Ну, вот! Молодца! – отыскав, любовно разглаживает сложенную вчетверо купюру. – Поправится Саша, значит!
– Сашка дурак! – отвечает на удар захлопнувшейся двери Кеша.
Возвращающиеся с утренней прогулки подруги издали замечают торопящегося Александра Сергеевича.
– Вон, гляди, твой поковылял! Невмоготу, видать! – восклицает Мария Арнольдовна.
– И не говори, Маш. Когда ж они до смерти-то налакаются? Поверишь ли, сдохнет – не заплачу! Всю жизнь мне измызгал дурью своей! Себя да других измучил! А Бог терпит. И мы… Ты в поликлинику завтра пойдешь?
– Да! К глазнику. Внутриглазное проверить.
– Вот и я к зубному. С протезом – беда…
Расходятся по домам, пообещав встретиться вечером. Возвратившись, Авдотья Львовна в очередной раз кормит своих питомцев, производит влажную уборку во всей квартире, кушает картофельный суп с клецками и, усевшись в старое выцветшее кресло, включает телевизор.
Как и многие люди ее возраста, она боготворит сериалы. Смотрит их внимательно. На рекламу не уходит, опасаясь пропустить самое значительное. Знает по имени каждого героя и всем сердцем болеет за судьбы полюбившихся персонажей. Искренне, по-детски расстраивается, если по какой-то причине пропускает серию. Но, посмотрев ее следующим утром при повторном показе, успокаивается и умиротворенно живет дальше.
Сериал, по мнению Авдотьи Львовны, обязаны смотреть все члены семьи (Александр Сергеевич не в счет), поэтому даже клетка с Кешей переносится на время телесеанса из кухни в зал, где торжественно устанавливается на табуретку вблизи телевизора. Маня вальяжно устраивается на коленях хозяйки, Василий в ногах. Первые минуты смотрят молча, словно боятся нарушить намеченный в предыдущих сериях ход событий. Вскоре, убедившись, что все идет по плану, бросают разного рода реплики.
– Правильно! – со знанием дела говорит Авдотья Львовна. – На кой черт ей этот Хорхе сдался. Сам как петух в курятнике, а все ему мало!
Маня с Василием в ответ многозначительно переглядываются и в знак полнейшего согласия довольно урчат.
– Сашка дурак, – резюмирует Кеша. – Кис-кис.
Коты по привычке вздрагивают. Авдотья Львовна добрым взглядом успокаивает их, почесывая Мане шейку:
– И Сашка, да… такой же козел был. Еще похлеще! Все они ходоки, пока пороху хватает, а как кончится, так к бутылке присасываются.
Где-то на середине серии слышится лязг ключей в прихожей. Это в стельку пьяный возвращается Александр Сергеевич. На щеке свежая ссадина, карман куртки разорван по шву, в руке – накрытая одноразовым стаканчиком поллитровка.
– Что, бля?! Отец вам не тот?! Пригрелись да?.. На шее… су… Я, погодите, устрою вам, где р…
Круша все на пути, проходит в свою комнату, падает на диван и засыпает.
– Легок на помине-то! Варвар, – вздыхает Авдотья Львовна. – Ладно, ну его…
К концу сериала Авдотья Львовна почти всегда засыпает. Сегодняшний день – не исключение. Коты тоже бы не прочь заснуть, но храп хозяйки настолько громок и необычен, что сделать это почти невозможно.
Снится Авдотье Львовне в последнее время один и тот же сон. Будто она-первоклассница возвращается из школы домой. Причесанная головка в огромных белых бантах. Поверх школьного платья белоснежный накрахмаленный фартук с развесистыми кружевами. Ножки в белых праздничных гольфиках и розовых лакированных туфельках с красной каймой по краям. За спиной новенький кожаный ранец, к первому сентября родителями подаренный. В нем учебники разные, пенал с ручками, да тетрадки с первыми четверками и пятерками. На радостях по пути забегает в кондитерскую и покупает у продавщицы тети Любы (маминой знакомой) сто граммов ирисок. Тетя Люба отпускает, добавляя бесплатно еще парочку, добродушно улыбается и машет рукой вслед.
– До свидания! – весело говорит девочка.
Выйдя на улицу, исподлобья глядит на солнышко, словно спрашивая: «Можно?!» Солнышко улыбается: «Можно!» Авдотья Львовна аккуратно разрывает пакетик, смотрит на конфетки, не спеша, любуется обертками. Во сне они не такие, как наяву – блеклые и неинтересные, а наоборот – блестящие и разноцветные, как узоры в калейдоскопе. Звонко смеясь, разворачивает, кладет в ротик, жует своими наполовину молочными зубками, прикрывая от удовольствия глазки. И кажутся ей эти ириски такими сладкими, такими необычными… Они точно тают во рту, как сладкий волшебный снег, заставляя думать, будто нет на свете ничего вкуснее и замечательнее…
И все было б как и прежде, если бы на этот раз одна, последняя ириска не оказалась такой твердой, каменной будто, что разжевать ее семилетней Авдотье Львовне оказывается не под силу. Плачет она от бессилия и обиды во сне своем детском, и наяву тоже плачет, всхлипывает. Да так жалобно, так громко, что попадает эта самая ириска ей в дыхательное горлышко и застревает там намертво. Ни туда, ни сюда..
От нехватки воздуха охваченная ужасом Авдотья Львовна просыпается. Испуганно качает всем телом из стороны в сторону и силится позвать на помощь Александра Сергеевича.
– Са… шаа… – с трудом вырывается у нее из груди.
– Сашка дурак, – отвечает ей Кеша. – Кеша птичка. Кис-кис.
Маня в ужасе спрыгивает с трясущихся колен хозяйки и вопросительно смотрит на Василия, который хотя и не теряет самообладания, но на всякий случай отбегает в сторону. Притаившись, не моргая, выжидающе смотрит медно-желтыми глазищами на задыхающуюся хозяйку. Мгновение… и силы вовсе покидают ее. Кот мужественно опускает голову, шевелит усами и уходит прочь, случайно задевая хвостом кусочек зубного протеза, так поздно выпавшего изо рта Авдотьи Львовны.
Нелюбовь
Есть ли что-нибудь на свете печальнее, чем ухаживать за девушкой, которой нет до тебя никакого дела. Дарить каждую пятницу букет из двадцати семи желто-красных роз (по числу лет избранницы) и получать в ответ обжигающее арктическим холодом: «Зачем?»
«Действительно, зачем?» – думаю я.
Ей же мямлю:
– Тебе не все равно?
Она кидает чуть раздраженное «хм», берет букет, ставит в казенную хрустальную вазу, сиротливо стоящую на пластиковом подоконнике, а вечером уходит, оставляя в полном одиночестве мой презент. Дня через два уборщица нашей конторы Гульнара с довольной улыбкой уносит цветы с собой. Я давно смирился с этим и, положа руку на сердце, не сильно расстраиваюсь. Меня несказанно радует тот короткий миг, когда объект моего воздыхания неизбежно натыкается взглядом на букет, округляет по-кошачьи зеленые глаза, которые на мгновение будто вспыхивают от огненно-оранжевого цвета сорта «амбианс». Собственно, все ради этой вспышки и делается…
Случается, за ней заезжает ее нынешний. Солидный, ухоженный, на темно-синем «мерине». (Мой дышащий на ладан «Ситроен» в сравнении с его – лишь жалкая пародия на авто.) Тоже с букетом, одноименного формата, только алым, цвета артериальной крови. Но его она берет с явным удовольствием и нетерпением. Дает себя поцеловать в щеку, обнять и отвезти в дорогой, как я понимаю, ресторан. Я наблюдаю за этой душещипательной сценой из окна своего кабинета. Стиснув зубы, чувствую, как все мое существо сжимается, наполняясь гнетущим страхом, который спустя пару сигарет сменяется беспросветной не отпускающей тоской. Тоской по ней. С этой-то тоской я и приезжаю домой, выпиваю пару бокалов вина и даю волю глупым надеждам. Они, как извивающиеся змеи в мешке факира, копошатся в моей полупьяной голове, меняя на пару часов настроение в лучшую сторону. Дай бог после незаметно уснуть…
Утром ужас будит меня. Ничего не изменилось. Пока собираюсь на работу, он, как угарный дым, постепенно рассеивается, оставляя легкую пригарь все той же вялотекущей тоски. Приезжаю на работу. Опять вижу ее… Красивую и надменную. И хотя она почти не выходит из своего кабинета, знакомый запах духов преследует меня повсюду. Терпкий и вызывающий, как ее нелюбовь ко мне…
Бывает, она удостаивает мою скромную персону неслыханным вниманием, неестественно дружелюбно здороваясь со мной. Так и подмывает резануть: «Да ладно тебе. Обойдусь». Но я улыбаюсь и так же натужно бодро ответствую:
– Привет. Прекрасно выглядишь!
– Я знаю.
Но иногда случается странное. Обычно это происходит в один из выходных или праздничных дней. Звонит мне на домашний телефон часов в девять вечера. Что и говорить, «голос томный и глубокий»:
У меня много вина, впрочем, как и глупости… Приезжай…
Срываюсь с места, как спринтер с колодок. Мой бедный «Ситроен» показывает, что еще способен на удаль молодецкую, неожиданно обгоняя своих более симпатичных и свежих собратьев. По пути покупаю все тот же букет и счастливым слюнявым спаниелем врываюсь к ней.
Она пьяна. Но не настолько, чтобы не суметь казаться способной говорить со мной.
– Как ты? – отвлеченно, словно из вежливости спрашивает она.
– Как всегда… х… – улыбаюсь придверному коврику я.
– Ну и правильно, – бесцеремонно ставит на моем минусе вертикальную жирную черту она. – Давай выпьем.
Пьем. Невзначай подсаживается ко мне. Обнимает за шею. Пристально смотрит в глаза, нижней губой целует в щеку, а после пальчиком аккуратно стирает свой поцелуй.
– Ты все такой же, – почти мурлычет, положив голову мне на плечо.
– Какой?
– Несчастный.
Неожиданно начинает жадно целовать мое лицо. Мне катастрофически не хватает воздуха, чувствую, что задыхаюсь, как поется в песне, «от нежности…»
«Ах, вот как это бывает?!» – ухитряюсь сделать глоток воздуха.
Впопыхах раздраженно сбрасывает с себя одежду и повторяет шепотом давно знакомые слова:
– Люби же меня, люби…
В часов шесть утра просыпается, стыдливо осматривается и рукой находит мою руку, словно пытается понять, на месте ли я.
– Ты еще здесь? Тебе пора.
Второпях одеваясь, стараюсь не смотреть на нее. (Знаю, что сидит, склонив голову, по-детски прячась от меня в растрепанных волосах.) Но до слуха все же доносится сдобренный отборным матом шепот. Подхожу к двери, открываю и слышу за спиной холодящий душу постскриптум:
– Извини, что так вышло… Дура я…
Смешанное чувство накрывает меня. Сладостная печаль или печальная сладость?! Не знаю. Скорее, светлая грусть. Ей и живу…
Мы развелись три года назад, прожив перед этим семь лет вместе. Почему и как такое случилось, теперь неважно. Важно лишь то, что мне пора идти…
Папин борщ
Сёмушка ехал по узенькой каштановой аллее на трехколесном велосипеде, я шел следом и украдкой наблюдал за его маленькими пухлыми ножками, так весело крутящими педали. Прохожие вежливо расступались перед ним, нахваливали, добродушно улыбаясь и вздыхая.
– Дорогу молодым! – провозгласил сидящий на лавке седовласый старик. – Ишь, какой! Молодец, пацан!
Я смотрел на сына с нескрываемым умилением, поражаясь лихости и аккуратности, с которыми он объезжает препятствия. Позавчера ему исполнилось четыре года.
– Папа! – неожиданно остановился он. – А где твой папа?
– Умер… Давно.
– Зачем?
– Заболел и умер.
– А-а… – задумчиво протянул он, но потом отвлекся на барахтающегося в песке воробья, улыбнулся ему и покатил дальше.
«Заболел и умер». Так или примерно так отвечал на подобные вопросы мой отец. Наверное, он тоже в свое время это от кого-то услышал. Может, от своего отца. Фраза закрепилась, осела в сознании непоколебимой аксиомой и наконец дошла до меня. Что ж, удобный ответ. Исчерпывающий, окончательный. Вот такая цепочка. Связь времен и поколений, от старого к малому.
Я давно для себя отметил, что воспоминания об отце живут во мне вспышками, похожими на те, которые возникают в ночном небе в преддверии дождя. Они возникают неожиданно, спонтанно, будто светом своим пытаются предварить очистительную дождевую бурю понимания того, что в действительности значит для меня отец.
Из-за службы на Тихоокеанском военно-морском флоте большую часть жизни он находился в плавании. Учения, морские походы к дальним берегам не позволяли подолгу быть с семьей. Тогда, в безоблачном детстве, это не слишком тревожило меня. Казалось, что так, скорее всего, и должно быть, что подобное, видимо, происходит у всех детей. Мало смущало и то, что моими истинными воспитателями являлись мать и бабушка. Я рос смышленым мальчиком, и им было очень приятно возиться со мной. Отец, возвращаясь из череды командировок, лишь с оценивающей улыбкой смотрел на меня и, поглаживая подернутые ржавчиной прокуренные усы, нутряным басом констатировал:
– Ишь, какой! Молодец, пацан!
В точности, как этот дед на лавке… Покуда я был совсем маленьким, то смотрел на отца, как на Деда Мороза. Еще бы, он появлялся неожиданно. Разумеется, все знали о предполагаемом времени приезда, но для меня это почти всегда оказывалось сюрпризом. Может, потому, что я, как всякий ребенок, уставал ждать и забывал. Порой я настолько утомлялся многомесячным ожиданием, что выуживал из памяти разного рода приметы его возвращений и невольно заучивал их. Странно, но я научился узнавать его по скрежету ключей в замке, которые от нечастого применения долго не могли оживить сувальдный механизм. Одетый в черный китель, пахнущий табаком, гуталином и еще чем-то грубым и мужским, он грузно входил в коридор, небрежно ставил на пол пузатые кожаные сумки и по неосторожности задевал фуражкой люстру, которая словно маятник начинала опасно раскачиваться. (Как я тогда мечтал поскорее вырасти и тоже задевать эту люстру!) Хитро прищурившись, отец осторожно останавливал ее, снимал головной убор и, спешно пригладив начинающие серебриться волосы, предоставлял нам всего себя. Квартира в одночасье накрывалась волной радости, наполнялась приятной суетой и ожиданием торжества, сравнимого только с Новым Годом и Днем Рождения. В первую очередь он подходил к бабушке – своей маме, трижды целовал ее в бледные морщинистые щеки, ласково гладил по голове. Затем целовал мою маму. И уж после этого брал меня на руки, надевал капитанскую фуражку мне на голову и долго смеялся тому, как забавно я в ней смотрюсь.
– Ничего! В следующий раз бескозырку привезу, – обещал он. – Будешь моряком?
– Не-а! – четко звонил я. – Капитаном хочу!
– Ну, раз хочешь, будешь! Но сначала – моряком.
И так было всегда. Все мое ранее детство пронизано томительно-радостным чувством ожидания отца. В такие дни я даже предположить не мог, что когда-нибудь это может закончиться, оборваться в одно мгновение…
Однажды пришла телеграмма. Мол, ждите завтра. Мы принялись резко готовиться: покупать продукты, звонить родственникам. Помню, как мама достала из глубин шифоньера свое самое красивое шелковое платье с крупными желто-красными герберами и долго гладила его. Бабушка все утро пекла пироги с капустой и варила компот из сухофруктов. Где-то к полудню они решили пойти на рынок купить недостающую зелень и гуся. Я остался один.
Что делал я в те часы? Не помню. Может, уроки, или прибирался в своей комнате. Ведь к тому времени мне исполнилось десять лет. Кажется, я тайком успел помечтать о том, как покажу отцу школьные грамоты и похвальные листы за прошлое полугодие. С гордостью продемонстрирую модель линкора «Советский Союз», который несколько месяцев склеивал по замысловатым чертежам из подаренного отцом научно-популярного журнала. Представлял, как он удивится моему не по годам высокому росту и, наверное, уже не рискнет взять на руки. Я так размечтался тогда, что не услышал звук знакомых шагов в прихожей. Я не поверил своим ушам, ведь этого не могло быть. Все должно было случиться завтра… Но нет, отец уже стоял в коридоре, такой же, как всегда, улыбающийся и родной.
– Сашка! Ты что ж, один? – воскликнул он, увидев, как я со всей мочи бегу к нему.
– Папка! Как я рад!
– А где мама, бабушка?
– Они за гусем пошли на рынок! – почти кричал я, крепко обнимая отца за шею.
– Да?! Ну, ничего. Какой же ты большущий-то вымахал! А я теперь надолго. Ну, рассказывай!
Мы уселись на кухне и некоторое время в радостном молчании смотрели друг на друга. Потом неожиданно рассмеялись, и я без умолку затараторил о своих школьных успехах, о том, как изо всех сил ждал его долгие месяцы, о том, как мы с ним поедем рыбачить и еще о чем-то, как мне казалось, очень-очень важном. Он смотрел на меня немного отстраненно, не слушая будто, но в то же время внимательно, словно пытался уловить во мне скрытые от других, и видимые лишь ему одному перемены. Пару раз потрепал мой непослушный чуб, улыбнулся разорванной на локте рубашке и довольно пробасил:
– Ишь, какой! Молодец, пацан!
Прошло полчаса, отец, насытившись моими рассказами, встал с табуретки и пошел переодеваться. Вскоре он вновь появился на кухне, теперь уже в спортивном костюме, из-под куртки которого треугольником виднелась флотская тельняшка. Выпив чаю и покурив, он неожиданно повернулся ко мне и заговорщическим шепотом спросил:
– Саш, а поесть-то у нас что-нибудь найдется?
Я тут же вспомнил о бабушкиных пирогах, компоте, и незамедлительно предложил их ему.
– Пироги, это, конечно, хорошо, – хитро улыбнулся он, – но для таких серьезных мужиков, как мы с тобой, несолидно. Как считаешь?
Не зная, что ответить, я недоуменно повел плечами и вопросительно посмотрел на отца.
– Женщины-то наши, поди, не скоро вернутся. Давай, пока они там на гуся охотятся, сварганим настоящий украинский борщ! А, Сань?!
Я, зная, что отец – морской офицер, командующий не одной сотней матросов, удивленно поднял брови и недоуменно, даже чуть обиженно пробурчал:
– Готовить?! Да разве ж это мужское дело?
Отец дружески хлопнул меня по плечу, улыбнулся и вполне серьезно ответил:
– Знаешь, Сашка, по большому счету, нет на земле таких дел, которыми не имеет права заниматься настоящий мужик. А уж борща сварить завсегда уметь должен. Овощи есть какие?
– Щас гляну. Вроде есть, на балконе.
Пока я рылся в бабушкиных запасах, отец выискал в углу морозильника увесистую говяжью кость, обозвал ее мослом, и вскоре она горделиво выглядывала из пятилитровой кастрюли.
– Молодца! – довольно сказал он, увидев, как я затаскиваю пакет с овощами на кухню. – Картошку чистить умеешь?
– Не знаю! Не пробовал! – испуганно ответил я.
– Ну, вот, сейчас и узнаем, какой из тебя моряк. Главное, запомни, кожура должна быть толщиной в газетный лист.
Я поставил перед собой помойное ведро, эмалированную миску с водой, взял самый острый нож и принялся за дело.
«Эх, чтоб ее… Знает ведь, о чем говорит!» – сокрушался я, едва справляясь с очередной «синеглазкой».
Кожура, несмотря на все ухищрения, получалась миллиметра три толщиной. Отец изредка поглядывал на мои «успехи», а сам, тем временем, ловко резал репчатый лук. А выходил он из-под его ножа меленький, ровными, впечатляющими конвейерной одинаковостью квадратиками. Удивляло и то, что я, сидевший в двух метрах от отца, просто-таки истекал луковыми слезами, а он, непосредственный резчик, спокойно, бесслезно кромсал ядовитый овощ.
– Штук пять есть? – спросил он, высыпая нарезанный лук в бульон.
– Ага!
– Еще две и баста!
Сколько раз я ел бабушкины супы и борщи, совершенно не задумываясь над тем, что всему этому предшествует. Настоящим откровением стал для меня процесс тушения тертой свеклы и моркови. Изодранные до крови пальцы, содранные ногти вызвали во мне тогда и сохранили до сих пор непоколебимое уважение к женскому труду. Испробовав на самом себе все тонкости и премудрости приготовления борща, я никогда больше не оставлял порцию чего-либо недоеденной.
Нужно было видеть, как округлились мои глаза, случайно застав момент превращения бесцветного говяжьего бульона в бордовую, с оранжево-золотистыми вкраплениями жидкость, впоследствии называемую борщом. Вот так химическая реакция! Вот так дела!
– Пусть свекла проварится, как следует. Потом картошку закинем…
– А капусту? – проявил нетерпение я.
– Ее в самом конце…
Шинковал капусту отец сам. Процесс точь-в-точь напоминал ранее описанную резку лука. Бабушка, которую до сего дня я считал лучшим поваром в мире, теперь сдала позиции. Капуста получалась одинаковой длины, а ее толщина не превышала двух миллиметров. Это выглядело очевидным, но невероятным. Где и при каких обстоятельствах получил поварские навыки мой отец, я не знал. Для меня, прежде всего, он оставался морским офицером.
Наконец борщ был готов. Отец снял кастрюлю с плиты, поставил на алюминиевую подставку, достал из кухонного шкафа глубокие тарелки, половник и…
– Сашка! А хлеба-то у нас нет! – развел руками он, заглядывая в пустую хлебницу.
И действительно, хлеба ни крошки. Мама и бабушка как раз и пошли на рынок купить недостающее к предстоящему празднику.
– Вот тебе рубль! – быстро нашелся отец. – Будь другом, сгоняй, возьми булку белого и половинку черного. Ну, и мороженого.
Я без промедления обул сандалии, накинул ветровку и что есть мочи помчался исполнять отцовское поручение. Эх, как же я радовался всем этим поручениям. И было почти неважно, какие они, главное, что исходили от отца.
По дороге в булочную встретил соседа по этажу дядю Витю – в прошлом тоже моряка, мичмана.
– Что, отец надолго приехал? – не выпуская изо рта загубник красно-коричневой бриаровой трубки, спросил он.
– Надолго! – ответил я и помчался дальше. – Потом расскажу… спешу я…
Дядя Витя кивнул и, кажется, сказал еще что-то. Это «что-то» я расшифровал много позже, став взрослее…
Мальчишки во дворе откуда-то прознали о приезде моего отца и с нескрываемой завистью смотрели вслед. У многих из них родители также были связаны с морем. Кто рыбачил на дрифтерах, кто работал спасателем, кто простым моряком. Но мой отец служил морским офицером, а это куда значительнее.
Продавщица тетя Вера, как оказалось, тоже знала о приезде.
– Маме скажи, забегу вечерком. «Птичье молоко» завезли, отложила вам. Папку, смотри, с дороги не мучай…
– Хорошо теть Вер, не буду… – засмеялся я и с удвоенной силой побежал обратно.
Дверь не была на защелке (стоило ли ее закрывать, если знаешь, что вернешься через три минуты), поэтому я вошел в квартиру без звонка и ключа. Отец сидел за кухонным столом, положив голову на скрещенные руки. Казалось, что пока я бегал, он просто заснул.
– Пап, нам тетя Вера торт отложила, «Птичье молоко», – нарочито громко сказал я, надеясь разбудить отца. – И хлеба купил. А мороженого мне нельзя пока, болел недавно.
Отец не отзывался. Я зашел на кухню и легонько похлопал его по плечу. Отец молчал. Пришлось толкнуть сильнее, и в эту же секунду он рухнул всем телом на пол. В испуге я отпрянул назад, стараясь не смотреть, но потом заставил себя повернуть голову в сторону распластанного отца. Серые стеклянные глаза его были широко открыты и смотрели в никуда. Я опустился на колени и принялся что есть силы трясти его за плечи. Он по-прежнему не отзывался, продолжая так же страшно смотреть. Мной овладела истерика, я снова попытался его расшевелить, бил по щекам и кричал:
– Папка, вставай! Что ж это такое! Я тебя так ждал! А ты! Несправедливо…
Сколько это продолжалось, не помню. Чьи-то незнакомые руки оттащили меня, оставив в моей ладони бегунок от «молнии» отцовского спортивного костюма. Помню, кто-то дал мне таблетку и я уснул.
Похоронили отца, как и положено, на третий день. Бабушка не присутствовала на похоронах, ее еще в день смерти увезли с сердечным приступом в больницу. Мама до и после похорон все время лежала на кровати, отвернувшись к стене. Спала и плакала во сне, изредка поднимаясь покормить меня. Только сейчас понимаю, насколько она была молода, совсем девочка. Наливала в тарелку наш с отцом борщ и снова ложилась.
Я сидел по часу над ним, помешивал, рассматривая тот самый лук. Слезы нарастающей обидой подступали к горлу, не давая думать о еде, все капали и капали в борщ. В конце концов я отставлял тарелку в сторону и шел к себе в комнату.
Как рассказал мне спустя годы дядя Витя, отец попал под первую волну сокращения, что, видимо, и явилось одной из причин его скоропостижной смерти…
Сёмушка тем временем укатил настолько далеко, что, не на шутку испугавшись, остановился и заплаканными глазами выискивал меня среди прохожих.
Я заторопился к нему.
– Ну, что ж ты от папки так далеко уехал? —упрекнул его я.
– Пап, а у тебя шарф теплый? – рукавом утирая слезы, спросил Сё-мушка.
– Какой шарф? Сейчас же лето.
– Который мама связала. Синий.
– Конечно, теплый. А что?
– Значит, не заболеешь! – улыбнулся Сёмушка и поехал дальше…
Последний парад
То ли дело мой первый парад. Осенний, ноябрьский, восемьдесят девятого. Один из старослужащих говорил тогда, показушно стряхивая пепел в ладошку, вспоминал свой первый:
– Гимн играешь и сам себе удивляешься – мурашки по коже, слезы на глазах. Гордишься происходящим и своей причастностью к чему-то великому, настоящему…
Не верил я ему тогда. Да и никто не верил из молодых. Слушали, посмеивались в сигарету. А время подошло – узнали, ощутили кожей. Сердцем поняли, что не все так просто и приземленно. Как ни крути, есть в этом действе что-то мистическое, неподвластное рассудку и воле. Точно есть. Да и как не быть, тысяча человек трубит одно. Но это одно – выстраданное, великое, необходимое, как кровь. Стоим, вытянутые в струну – винтики-шпунтики, но не понятно почему, непередаваемо приятно ощущать себя этим винтиком. Гордыня – через пятки в землю, гордость – свечой в груди. Парадокс, но факт. А тут дождь еще. Брусчатка мокрая, скользкая, зеркально-серебристая. Боязно по ней расхаживать в хромовых сапогах на тонкой гладкой подошве. Опасаешься, как бы не навернуться на глазах у всей страны. Тоскуешь по кирзачам. Тем не менее, шагаешь, чувствуя ступней каждый бугорок, каждую выемку. И знаешь, что помнят эти бугорки и выемки другие сапоги, тех других, которым мы – не чета.
Теперь иное дело. Всё знаешь, ничему не удивляешься. Всё по накатанной. Вертушка, репертуар. Запах гуталина и мефикса, аксельбанты, бляхи на белых лакированных ремнях, солнечные зайчики повсюду от меди надраенной. Хотя дата обязывает относиться к делу с особым усердием. Сорок пять лет со Дня Победы, как-никак.
Поутру армейский харч не лезет. Чай да хлеб с маслом запихнешь в нутро, «явкой» на халявку подымишь – и на аэродром. Репетировать! Пока доедешь, голод предательски даст о себе знать. А там пища только «духовная» или, лучше сказать, духовая, в виде маршей и «зорек». Крышу от них рвет с корнем: «Все выше и выше, и выше…» И так пару десятков раз за день. Один «Десантный батальон» Окуджавы, пожалуй, радует. Но его редко исполняем – когда техника катит. А катит она медленно, мощно, окутывая всё и вся черно-сизым мраком выхлопных газов. Намертво заглушает звериным рыком тысячный оркестр. И не помогут тут ни трубы, ни барабаны, ни геликоны. Безоговорочно капитулируешь перед ней, ощущая явную бесполезность оркестровых партитур в военном деле. Понимаешь или догадываешься, что такое война. Примерно, конечно. Они ж, дуры, просто едут, не стреляя, не взрывая. А если по-другому?! Не приведи Господь.
Периодически привозят ветеранов. Строят. Командуют стариками. Учат маршировать, держать равнение, тянуть носок. Заново. Они не то, что мы. Подход к делу сознательный. Знают, что за праздник, не по календарю знают, и цену ему. Стараются изо всех сил, правда, не без волнения. Как дети переживают, если что не так получается. Больно смотреть порой. Слава богу, для них, ну и для высшего командного состава, конечно, расположили на обочинах темно-зеленые шатры – полевые буфеты. В перерыве заскочил в один на свой страх и риск: пепси-кола, бутерброды, печенье. Нормально. Там же невдалеке «скорая» на стреме. Кому-то из стариков, помню, стало плохо. Увезли…
До генеральных репетиций на Красной площади дней пять-шесть. Приехал начальник московского гарнизона. Посмотрел на все это «безобразие» и… забраковал. Типа, как в том анекдоте: танки едут не туда, пехота бежит не сюда, а если война, кто будет Родину защищать? Но если серьезно, не понравилось ему все, как говорится, от увертюры до коды: и как войска шагают, и как техника едет, и даже ветераны какими-то не такими вышли – вялыми, что ли. Оркестру тоже досталось «по самый си бемоль». Наш музыкальный генерал в тот роковой день походил на рядового, даже генеральская звезда потускнела и уменьшилась до лейтенантской. Бегал, кричал, стращал. В итоге, приказал все поменять к ядреной фене. И это за неделю-то до парада! Прикрепленные к нам дирижеры-майоры после этого как с цепи сорвались, не зная, что придумать. Придумали. Ввели в программу парада дефиле. На человеческом языке это что-то вроде танца с музыкальными инструментами. И правда, нет ничего забавнее танцующего солдата… Тут главное не запутаться. Запомнить, куда поворачивать и сколько шагов идти. Меня бог миловал, в этом смысле.
– Это ж надо, – говорил один мой сослуживец тогда, – месяц мурыжить, заучить все как следует, а за несколько дней до мероприятия поменять. И так все осточертело. Люди, наверное, смотрят на нас, и понять не могут: чем это солдатики занимаются?! Парад репетируют или дерьмо под музыку месят?!
И впрямь, все осточертело и всех достало.
Парадная подготовка начинается месяца за три с половиной до самого парада. Сначала в самих частях. Учим репертуар, ту же вертушку сдаем по одному старшине или начальнику оркестра. Потом в «Лужниках» доводим до ума. Опять же, что-то вроде экзамена. Все оркестры московского гарнизона раскидываются по лужниковским аллеям и паркам. Соревнуются между собой, кто громче, кто четче.
А уже после всего этого на Ходынское поле…
Но тем и сильна наша доблестная армия, что нет для нее непосильных задач. Приказали переучить, переучим. Хоть за ночь до парада.
И переучили… За день до генеральной репетиции приехал министр обороны. Для обычного рядового лейтенант безусый – лицо авторитетное. Полковник – царь. О генералах и говорить нечего – титаны. Поэтому министр обороны – почти Бог. Вернее, без почти, Бог – и все. Смотришь на него, как на очевидное-невероятное, восьмое чудо света, трепещешь. И все в строю трепещут, от старшин до генералов. На том армия и держится, как я понимаю.
Прибывший на прогон министр был последним из своих предшественников, кто сам прошел Отечественную войну. Странно, но, увидев его, я, вопреки ожиданиям, не испытал того холопьего страха, к которому, увы, и меня приучила армейская служба. Судя по всему, это был человек по своей природе мягкий, с хорошо устоявшимися гражданскими принципами, хотя и старой, конечно, закалки. Не веяло от него ни солдафонской строгостью, ни показным высокомерием, которыми до мозга костей были пропитаны его золотопогонные подчиненные. Я, не испытывавший к отцам-командирам, да и вообще к армии особой любви, по-хорошему удивился его открытому улыбчивому лицу. Сама собой всплыла в памяти строчка из лермонтовского «Бородино»: «Слуга царю, отец солдатам». Сегодня, зная о событиях августа девяносто первого года, можно сколько угодно посмеиваться над этим, но тогда, в первых числах мая девяностого я (да, может, и не один я) думал именно так.
Затем следовали две ночные репетиции на Красной площади, и на каждой раза по два прогоняли весь парад. В принципе, ничего особенного. Единственное, что заставляло содрогаться, так это заполонившая центральные московские улицы тяжелая военная техника. Невольно вспомнилась черно-белая, пробитая серой рябью, военная кинохроника уличных боев. Привыкли мы к этой кинохронике. Смотрим ее, как что-то совершенно нас не касающееся, мифическо-эпическое. Отстраненно смотрим. А ведь на самом деле, все там нас касается. Не было бы этих боев, не было бы ни нас, ни вообще всей сегодняшней жизни. А она – есть. Плохая ли, хорошая ли, кому как. Но мирная. И в этом вся соль. В этом вся правда.
Меня всегда поражало то обстоятельство, что День Победы приходится на самое прекрасное время года, когда все вокруг покрыто молодой листвой, первыми цветами и обласкано начинающим набирать высоту солнцем. По мне, так это знак Господа: истинная, праведная победа не могла случиться ни зимой, ни осенью, ни даже в разгар жаркого знойного лета. По крайней мере, мне так кажется.
И вот именно в такой солнечный и зеленый день я стоял во втором ряду с правого фланга. И все выглядело точно так, как и полгода назад, только гораздо торжественней, светлей и ярче. На параде было множество новшеств, одно дефиле чего стоило. Художники-оформители воспроизвели памятник воину-освободителю в Трептов-парке. Его изображал не то артист, не то действительно солдат, державший на руках девочку. Одну из войсковых частей московского гарнизона переодели в форму времен Великой Отечественной войны. Если не ошибаюсь, была даже конница.
Но радость почему-то не проникала в меня. Все смотрелось бутафорски, как декорация к давно наскучившему спектаклю. Гимн звучал обыденно и вяло, а ветераны, наряженные в безвкусные серые костюмы, показались нам чрезмерно уставшими. Ничего, кроме сочувствия, они у нас не вызывали. Хотелось, чтобы поскорее все это закончилось. Почему? Не знаю. Быть может, потому, что наступало новое время? Оно на наших глазах стучалось и рвалось на тоже как-то бутафорски расчерченную белыми линиями Красную площадь.
Проехала техника. Оркестр быстро перебежал на исходную позицию и двинулся вперед. Мой сослуживец Дима Хенкин шел с малым барабаном первым в шеренге, я с большим – вторым. На подходе к Мавзолею он в вполголоса сказал мне:
– Смотри, Горбач!
– Ага. Похож. В «увал» куда пойдешь сегодня?
– Не знаю. Может, к родственникам. А ты?
– Пиво пить на Арбат.
– А это что за хрень? – вдруг опять произнес Дима. – Слышишь?
И правда, на тухмановский «День Победы» откуда-то сверху наслоился «Солнечный круг» Островского. Через несколько секунд оркестранты стали сбиваться с шага и вскоре возникло замешательство. Солдаты и сверхсрочники смотрели на растерянных майоров. Те, в свою очередь, смотрели на генерала, который, как запрограммированный киборг, маршировал впереди, размахивая тамбурштоком. Большая часть оркестра еще не прошла мимо Мавзолея, а значит, (учитывая прямой эфир), вся эта чехарда стала слышна и видна, как на ладони. Спиной почуяв неладное, генерал дирижерским жестом прекратил нам играть, оставив звучать доносившийся из многочисленных динамиков «Солнечный круг». Нам же приказали что есть мочи бежать в сторону Васильевского спуска. И мы побежали: с большими барабанами, лирами, геликонами… Тысяча человек. Кажется, кто-то даже упал под конец…
А дело все в том, что вслед за оркестром, завершавшим военный парад, должны были выбежать дети с воздушными шарами, чтобы подарить их ветеранам, сидевшим на каменных скамейках близ Кремлевской стены. Но кто-то из звукорежиссеров включил музыку раньше, чем оркестр закончил свое шествие. Нам – молодым солдатам было, конечно, весело созерцать, да и участвовать во всем этом недоразумении, но представление было испорчено. Телеоператоры, вовремя сообразившие, что к чему, быстро отвели камеры в сторону ГУМа. Случившееся усилило мое равнодушие к происходящему и заставило думать о совершенно других, более насущных вещах: об увольнении, о родственниках, о пиве на Арбате.
Так закончился последний Парад Победы в стране, которая чуть больше чем через год прекратит свое существование. Жалко ли мне этой потери?
Не знаю.
Мы поколение раздвоенное, как бы разорванное на две части. Одной ногой мы стоим в той, советской жизни, где все-таки было много хорошего: великая победа в войне (на ней погибли мой дед и прадед, о чем я забывать не могу, не имею на то права), полет Гагарина, наше мирное, и, в общем-то, счастливое детство и юность. Было, конечно, и много плохого. Но ведь запоминается только хорошее.
Радуюсь ли я тому, что происходит сегодня? Тоже не знаю. Об этом надо спрашивать у молодых, тех, кому сегодня – по двадцать. Им не с чем сравнивать: они в этой жизни родились и выросли, и лучше меня знают, что в ней хорошо, а что плохо.
Я же, чем дальше уходит время, тем все чаще и чаще вспоминаю последний свой парад в составе сводного музыкального оркестра на Красной площади, и мне приходит в голову запоздалая и, наверное, странная мысль: может быть, не зря, не случайно в тот день одна музыка наложилась на другую, и мы, такие натренированные и сильные, вдруг сбились со строевого шага и скопом, натыкаясь друг на друга, побежали с Красной площади вниз по Васильевскому спуску…
Тварь
Неужели вышло?! После сонма лет бесплодных мечтаний, жалких неутомимых фантасмагорий о призрачном, невероятном, но упоительно сладостном. Три тысячи тягучих, резиновых дней и ночей мне грезился этот долгожданный миг! Светлый, свежий, как апрельский ручей, легко берущий жизнь из снега и солнца, как летнее искристое утро после утомительного обложного дождя. Вот он пришел, и дышит на меня и сквозь меня пропитанным пряным ароматом луговых трав ветром. Будит заиндевевшую, закостенелую за сонные годы плоть, возвращает к жизни, казалось, на веки погребенную душу. Свобода – имя ему! И важно ли, что вырвана она силой, а не дана даром? Бреду по ней в грязной, обглоданной тюремной робе, впускаю в себя, и знаю – она повсюду. Трогаю ее обветренными, потрескавшимися губами, жадно пью большими хлебками и не могу утолить жажду. Во всем она! Даже в проржавленном конском щавеле, в раздавленных одиночеством замшелых пнях, в серой мертвенности костлявых замоин, в малых и больших, дышащих зловонием болотных лывах. Чем заслужил я это отдохновение? За что мне такое? И никому не надобен я здесь. Разве что одиноко парящему аисту-падальщику, субтильной цапле с жирной жабой в клюве-копье? Хитрой ли сороке, тревожащей густой покой развесистых ветвей одичалой яблони? Трудяге-ежу, везущему на колючем тельце надломанный груздь? Может, им? Ну и слава богу…
Два дня в пути. Сухари давно съедены, сало еще раньше. В карманах дички и щавель. И то отрадно. Но знаю, куда иду. Километров пять, и начнется другая зона, зона отчуждения. Там-то и упаду…
Бронзовый, закопченный по краям диск солнца медленно прячется за ржаво-серый дирижабль облака, проползает сквозь него, спускаясь все ниже и ниже, тянется к шерстяной нити горизонта.
За молодым, редким, погнутым недавним вихревеем березняком виднеется зеркальный осколок речки, а за ней, словно только что вынутый из печи бурый каравай лысой горы. Туда мне…
Запах костра бьет по ноздрям. Голова опасно кружится от голода, глаза суетливо, по-звериному рыщут по вечерней дали в поисках отблеска спасительного огня. Где он? В глазах темнеет…
– Беглый! А долоня, як у лягвы! Ишь, якой! Сотворюэ ж боже! – слышу скрипучий голос над собой. Сам чую, лежу на чем-то меховом, теплом и живом. – Не боись, Веста разумна псина, не тронет…
Чьи-то вымазанные сажей ладони подносят к моему рту надтреснутую у горлышка крынку, из которой доносится запах спирта.
– Воды бы… – говорю, но меня не слышат.
Выпиваю залпом. Нутро испуганно вздрагивает, но мгновение спустя благодарно отзывается теплом. Как ни странно, будто трезвею от накопившейся усталости, оттаиваю. Те же руки протягивают обугленную со всех сторон картофелину. Разламываю надвое и втягиваю всем своим изголодавшимся существом горячий пар молочно-белой мякоти. Блаженствую. Как мало надо мне…
Их трое. Бичи. На зоне, перед побегом, арестанты говорили о них. Первый (видимо, вожак), мужик лет пятидесяти пяти, с длинной, в просмоленных грязно-коричневых комьях бородой. На нем новенькая темно-синяя фуфайка, офицерские бриджи полевого покроя и яловые сапоги. Сидит молча, словно о чем-то думает, и внутри же себя рассуждает. Его лицо постоянно меняется, являя то беспокойство, то умиротворение, то равнодушие. Кажется, что по чьей-то неведомой воле он должен нести ответственность за своих собратьев.
Двое других – помоложе. Один – бледно-рыжий и лысый, в крупных бесформенных веснушчатых пятнах, спускающихся с безбородого, гладкого как у ребенка лица до шеи. Шея же опасно тонка, да так, что голова кажется несоизмеримо огромной, словно обузой ей. Постоянно курит махру пополам с мелко нарезанным сушеным яблоком. Смесь лихо забивает в скрученную из газеты козью ножку, близнецов которой время от времени штампует себе впрок. Беспрестанно заходится кашлем, утыкаясь ртом в свой почти детский кулачок, сморкается в большущий шершавый лист лопуха и как будто чего-то ожидает.
Другой – узкоглазый, скуластый и смуглый, с густой шапкой смолянистых волос. Деятельный, бойкий, он внимательно следит за костром и за увесистым окороком, жарящимся на стальном пруте. Постоянно недовольничает, смешно покряхтывает и матерится невпопад. Это он назвал меня беглым.
Солнце заходит, оставляя на прощание над горизонтом рваную, похожую на разлитый кисель малиновую полоску. Редкие звезды уже смотрят сквозь уставшее, точно изношенное, дырчатое небо, а бледная щекастая луна с каждой минутой становится все ярче и мудрее.
– Сейчас начнется… – смотря в сторону лысой горы, глухим голосом говорит рыжий.
Я не придаю значения словам, наслаждаясь так вовремя пришедшей сытостью. Она разливается по изнуренному долгой дорогой телу, точно волшебный эликсир лечит его и усыпляет. Но собака-подушка вдруг вскакивает с места, становится в бойцовскую стойку и начинает истошно лаять в сторону лысой горы. Вынужденно приподнимаюсь и выжидающе смотрю туда же.
– На место, дура! – осаждает вожак. – И вы тоже расслабьтесь, дурни. Семеныч, дай беглому рогача, а то от картошки ему не больно сытно будет.
Собака перестает лаять, но не успокаивается и, поскуливая, суетливо бегает взад-вперед. Семеныч (тот, который возится с костром) самодельным тесаком, похожим на мачете, щедро отрезает приличный кусок от почти готового окорока, вонзает в него новенький промасленный стопятидесятимиллиметровый гвоздь и протягивает мне. Я подношу кусок ко рту и вдруг слышу с той стороны реки отчаянный рев.
– Мармооороооу! Аааняа!
Он то ли детский, то ли женский, но с явной примесью звериного хрипа. Вдалеке же, сквозь полупрозрачную сыворотку тумана, едва различим человеческий силуэт, то поднимающийся, то опускающийся над вершиной лысой горы.
– Что это? – спрашиваю я.
Бичи оборачиваются, переглядываются и, едва ухмыльнувшись, продолжают молчать.
– Расскажи ему, – робко обращается к вожаку рыжий.
Тот недовольным взглядом окидывает своего собрата, затем равнодушно скользит по мне, устало улыбается и, приглаживая растрепавшуюся бороду, качает головой:
– Зачем ему? У него своих проблем теперь по гроб жизни хватит.
– Расскажи, все равно-то пытать будет, – настаивает рыжий, опустив водянисто-серые, почти бесцветные глаза. – Пусть лучше мы, чем беглые небылицы складывать станут.
Вожак нервически почесывает бороду, опять чему-то усмехается, машет рукой:
– Ладно… Только пустое все… Налей ему…
Сам еще долго вглядывается в черничное послезакатное небо, лениво выуживает из початой пачки «Астры» сигарету, задумчиво разминает ее закопченными пальцами и, чуть прищурившись на чахнущие угли костра, начинает:
– Давно это было, еще до всего этого атомного безобразия… Ты пей, беглый, закусывай, не стесняйся. Бери, пока дают… На той стороне деревенька имелась, она и сейчас есть, но не та уже… Безлюдная, пустая… Работал я там пастухом, если занятие это работой назвать можно. Пил по-черному, мда… Со скотиной поведешься, в скотину и превратишься. Так вот, приехала к нам из Гомеля, или из-под него, бабенка чудная. Цыганка ли она была, мультянка, черт ее разумеет, но то что не наших славянский кровей – точно. Чернявая, кудрявая, подбористая. Красивая, падла. А самое главное, на нашего брата падкая. Многих к себе из местных приваживала, пускала то бишь. Я и сам к ней попервой частил, пока не понял, кто она есть и по какую сторону от Бога находится… О, слышь?!
Вдруг опять доносится до нас отчаянное, задиристое: «Мармооороооу!» – только глуше и жалостливее…
– Вот, животинка! Как смерти просит! – прислонив указательный палец к уху, восклицает вожак. – Невмоготу, видать! Ты только подивись, беглый!.. Ну, так о чем я гутарил-то? Ах, ну да… Говорю… А что?! Был грех такой, да и не мужик я, что ли? У нее-то стегна, уух, широченные, а талийка, если двумя ладошами перехватить, коряги-то и смыкаются. Во, какая! Так-то… Жила она попервой вроде как все, хотя, признаюсь, было в ее наружности что-то нечистое, темное, другими словами, умишке простого человека неподвластное. Я так разумею, чаклунка она была природная. Бабы местные, прознав о ее способностях, животинку приводили хворую, да мальцов пуганых. Та и заговаривала их по-своему. Как-то жила, в общем, да и народ со временем к ней пообвыкся. А куда деваться? Жизнь-то никто не отменял! Хотя, повторяю, особой любви не испытывал по причине мной названной. А еще сказывали знающие люди, грех на ней смертный висел, с малолетства. Будто снасильничал ее некто, и она вроде как младенца выродила порченого, с ладошками як у пипы, перепончатыми, и, испугавшись изрядно, на смитник снесла. Отвязаться, значит, хотела. Ну, вот и отвязалась, а черт ее за это и наградил чарами бесовскими… Так-то… А когда громыхнуло в восемьдесят шестом, всё тут замысловатое и началось. Народ разумный быстренько поразъехался. Остались лишь песочники, да такие, как мы – бедолажные, которым ехать особо некуда. И она почему-то осталась. Да кто ж ее знает? Думаю, не было у нее никого, кто бы ждал ее и принял. Стала бы она, кабы все путем шло, из Гомеля в нашу тьмутаракань тащиться? А еще сказать надобно, скот и прочая живность, которую в расход пустить не успели или не захотели, разбрелась повсеместно бесхозным образом. Одних волки задрали, другие сами пали, еще каких оставшиеся людишки к себе позабирали… А что, молоко хоть и фонит изрядно, но ведь мо-ло-ко! И вот она из таких, стало быть. Много чего себе в хозяйство подобрала, хотя раньше, окромя курок, ничего-то у нее и не водилось… Хряка породистого, блудного из сосняка вывела, свиноматку супоросную заимела, коняка точно был, корова, коза… Я еще потешался тогда над ней: «Це ж як одна жинка такым зоопарком керуваты здатна?» Но, что и говорить, управлялась…
Прошло года два и стали крики жутчайшие из ее хаты доноситься, да такие, что не то что попытать, а подойти было страшно… А еще через годок начали до нее машины дорогие со столичными номерами приезжать. Откуда прознали? С другой стороны, на то она и власть, чтоб обо всех и о каждом в отдельности представление иметь. Так-то… Приезжали и забирали у нее в ящиках оцинкованных «что-то», «это самое», о чем и догадаться боязно. Но она довольная ходила, гордая даже. Может, приплачивали ей?
Когда же еще пару годков минуло, захворала крепко, видать, не всем здесь в полном здравии оставаться. Радиация, как-никак. Исхудала до неузнаваемости. Скелет, кожей перетянутый. Но стоит отдать должное, как-то шаркала, ходила, значит. Сколько ж веревочка не вейся, концовка одна… В общем, нашли ее бездыханную бичи наши в березняке малом. Ты поди, беглый, проходил его? За сыроежками, должно быть, выползла. Они в те годы крупные вылуплялись, после дождичка-то особенно, с кавун страханский размером.
Хоронить на кладбище не посмели, потому как ведьм разношерстных не положено хоронить в людских местах. Свезли на лысую гору, там у нас раньше давлеников и душегубцев упокоивали… Привезли и поховали. Креста, понятно, не справили. Денька через три приехала опять тарантайка дорогая, покрутилась вокруг хаты и ни с чем укатила. А мы что ж, люди любопытства не меньшего, в дом ее тоже заглянули. Да ничего в нем небывалого не сыскали. А вот зато в сарайчике сыскали. Там, окромя мест для живности ее многочисленной, было еще одно место странное, вроде как каморочка. В сарае-то! И была в той каморочке люлька, под существо человеческое приспособленная, да только от колоды сарайной мотузка тянулась, и была та мотузка крепчайшая, канатная, должно быть, но – а в этом вся суть – оборванная, а вернее сказать, перекусанная. По всему видать, та тварь, там обитавшая, сбежала… Сечешь, беглый? То-то… Узнали об том все уцелевшие деревенские, милиция тоже прознала, и русская, и украинская, и белорусская. Стали шукать. Но ничего не нашли, хотя слыхать слыхивали и даже издали бачили… Поймать же сноровки не хватило, и по сей день не хватает. Потому как в твари этой есть что-то не от мира сего… Ты ешь, беглый, ешь! Чего стремаешься?
Я гляжу на зажаристый, порядком подостывший кусок лосятины, но понимаю, что после таких рассказов не полезет он в нутро мое.
– Не лезет… – говорю.
– Да чего там не лезет! – усмехается вожак. – Ешь, не боись. Здесь поживешь, и не такое услышишь! И за себя, грешного, не переживай. Я тебе поутру все растолкую. Как, чего тебе робыть надобно. Есть тут хаты пустые. Ты хлопец крепкий – выживешь! Много тут вашего брата прячется, в зоне-то… И она, тварюга, тоже прячется. Выходит, похожие вы во всем… А ведь сколько с той поры годков минуло, за двадцать будет, а она все жива, тварюга эта. И ходит до мамки своей на могилку-то. Хнычет всё, воет… Видно, даже у твари безродной душа имеется. Да только не знает она, бедолажная, как с ней распорядиться. Да и виновата ли она в чем, если поразмыслить? Мамку же не выбирают… Иные человеки куда хуже будут. Понатворят за жизнь свою чертовщины с три короба, и живут припеваючи. А обличье у них человеческое, не звериное. Тут же напротив все… Вот и кумекай… Эх, спать надобно. Спи, беглый, и вы все спите… Веста, иди к беглому…
Утро острием солнечного луча безжалостно бьет по глазам, вспарывает по шву, казалось, сросшиеся за ночь веки. Веста уже вертит пушистым хвостом, радостно бегая за всюду суетящимся Семенычем. Рыжий, сгорбившись, сидит на невысоком пеньке и, время от времени щурясь от восходящего солнца, чистит картошку…
Вожак зачем-то крутится около яблони, курит и все бормочет себе под нос:
– Приходила, приходила тварюга… Вот же…
Через час я уже шагаю за ним к близлежащей мертвой деревне. Послушно внимаю вкрадчивым наставлениям бывалого, всезнающего бича. Что ожидает меня там, за рекой, не волнует. Будущее, как и прошлое, теперь находится по обоим краям узенькой тропинки под названием жизнь. Одна она представляет для меня интерес.
И только подходя к реке, случайно оглянувшись на оставленных позади Рыжего и Семеныча, припоминаю увиденное ночью.
Помнится, заснул сразу, да и как не заснуть после двух дней изматывающего пути, чистого спирта и удивительных сказок на ночь. Да еще под разноголосый убаюкивающий треск цикад, кузнечиков и непрестанное заливистое кваканье болотных жаб. К тому же, воздух ночной, перемешанный с терпким дымом костра, настоянный на луговых травах и пропитанный сладковатой сыростью близкой речки, обжигал своей свежестью и подобно морфию усыплял. Удивительно, но не привиделось мне ничего дурного тогда, хотя должно, наверное, было привидеться. Спал я сном мертвецким, каким бог награждает лишь в раннем детстве. И только под утро, когда псина, притомившись лежать подушкой под моей головой, поднялась и распласталась в ногах у вожака, очнулся я и увидел возле развесистой яблони какое-то существо. Пола оно было женского и облика необычного. Голое, с кожей человеческой, но огрубевшей, словно подпаленной огнем, и покрытой всюду обильной клейкой испариной, с шестью кровоточащими сосцами, щетиной черной усеянными, и с таким же, как у варанов тропических, бородавчатым гребнем на холке. Руки же у него – крохотулечки не доросшие, а ноги, напротив – толстые, слоновые, с раздвоенными бурыми копытцами. На голове же волосня черная с частой проседью, почти человеческая, только гуще, длинная и вьющаяся…
Смотрю я и понимаю, что существо это слепое, потому как глаза его наглухо затянуты бельмами размером с пятак. Стоит оно, и добродушно лыбится рыльцем поросячьим. Словно донести до меня хочет: «Пойдем со мной, человечище! Или не такая же ты тварь, как и я?! Вместе-то нам сподручней управляться в миру будет…» И, мол, никуда тебе от этой правды не деться!
Но не боюсь я почему-то. Не боюсь и все. Может, оттого, что зверю зверя бояться незачем? Одной ведь кровушкой живы. Привстаю на корточки, думаю подняться, подойти ближе, но оно возьми и испарись, будто и не было его вовсе…
Собачья жизнь (повесть)
Когда людей ставят в условия, подобающие только животным, им ничего больше не остается, как или восстать, или на самом деле превратиться в животных.
Ф. Энгельс.Человек хуже зверя, когда он зверь.
Р. Тагор.Вера Сергеевна была женщина слабая и глупая, отчего мужу своему подчинялась беспрекословно. Даже в самых что ни на есть мелочах она старалась быть покорницей. И может, как раз это не столь положительное качество легло в основу их крепкой супружеской жизни, которая длилась уже довольно долго – без малого десять лет. Вера Сергеевна жила, как мышка-норушка: только что суетилась здесь, хлопотала – и вот уже ее нет. Так и сегодня, январским воскресным утром, закутав двух своих пятилетних сыновей-близнецов, бросив на ходу «до вечера», она растворилась в гуле уходящего лифта.
Удар захлопнувшейся входной двери совпал с мыслью Павла Леонидовича об отменной выучке жены. Добрых пять лет он потратил на это, и вот, наконец, машина заработала, пошла, как по маслу. Вера Сергеевна исчезла с утра пораньше, должно быть, хорошо понимая, что всей семьей им в очередное серо-голодное воскресенье делать нечего.
Нет, конечно, можно было поесть овсяной каши с маргарином и запить это все кофейным напитком «Балтика» без сахара, после чего дружно усесться перед «ящиком» и созерцать какую-нибудь шоколадно-жевательную рекламу. Простите, но в такие дни Павел Леонидович предпочитал оставаться один. И Вера Сергеевна это хорошо знала.
Голый и гордый он входил на кухню, со знанием дела варил ту самую овсяную кашу, с отвращением ел ее, затем доставал свой потайной сундучок, где в двух коробочках из-под монпансье хранились им же самим недоеденные карамельки и недокуренные папироски. Попивая «кофеек», он медленно прикуривал от электроплитки и начинал думать о том, как ему, такому красивому и умному, жить дальше.
Вот уже прошло почти полгода, как попал он под сокращение, а новой работы так и не нашел. Не было и дня, чтобы бывший ветеринар Павел Леонидович Погорелов не поддавался пессимизму по этому поводу. Жить на крохотную зарплату жены, по его мнению, было стыдно и не вполне нормально.
Молча, не выпуская изо рта папироску, он глядел в окно на гуляющие семейные пары и удивлялся их наглой беззаботности. На ум приходили какие-то странные фразы: «Кончил дело – гуляй смело», «Кто не работает, тот не ест», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» и тому подобные. Потом меланхолия сменялась полемическим задором. Возбужденный кофейным напитком, Павел Леонидович начинал строить планы на будущее, которые с каждой секундой становились все более грандиозными. Правда, секунд этих было до обидного мало, и вслед за ними опять появлялась апатия и, как следствие ее, вторая чашка кофейного напитка и второй, значительно меньший, чем первый, бычок. Усилия Павла Леонидовича даром не пропадали. Его захлестывала волна эйфории, иногда поднимаясь до опасной высоты. Но, собственно, этого Павел Леонидович и добивался. После эйфории можно было ожидать стабильно-ровного, почти хорошего настроения на весь день.
Яркое январское солнце заставило бывшего ветеринара отойти от окна и вместе со своими сумбурными мыслями переместиться на диван. Усевшись поудобнее, он вялой рукой стянул со стола только что принесенную почтальоном рекламно-медицинскую газету «Помоги себе сам», которую непонятно для чего выписала когда-то жена: он и Вера Сергеевна, несмотря на все трудности жизни, были, слава Богу, здоровы. Перелистывая страницы и равнодушным взглядом скользя по череде рекламных объявлений, Павел Леонидович невольно начал думать о том, как много нынче развелось людей, шагающих в ногу со временем, вертящихся и суетящихся.
«Конечно, все хотят вкусно есть и сладко спать, – язвительно рассуждал Павел Леонидович, – я вот тоже хочу, но не могу, или не умею, хотя, скорее, не умею, чем не могу. Не дал мне, значит, Бог предпринимательской жилки, незаслуженно, можно сказать, обделил. Но неужели мое благосостояние обязательно должно зависеть от Бога, который, еще неизвестно, существует или не существует? Неужто я в самом деле такой законченный дурак, что не в состоянии придумать чего-нибудь толкового, дельного, приносящего деньги?! А они, значит, могут? У них мозги, видите ли, лучше соображают, предприниматели хреновы! Нет, так больше жить нельзя, невозможно, надо срочно что-то придумать… Но что я могу делать, кроме как усыплять подыхающих и без меня престарелых псов и всякую прочую живность? Впрочем, я и этого, наверное, толком делать не умею, раз меня первого вышвырнули из ветеринарного пункта, дали пинка под мой тогда еще мясистый зад».
Раздраженно бросив газету, Павел Леонидович опять подошел к окну и взглянул на пробегающую стаю дворовых собак.
– Вот они, недобитые твари, – глубокомысленно произнес он. – Плодитесь, плодитесь, скоро сделают из вас добротное хозяйственное мыло.
Павел Леонидович заново развернул газету и, увидев там во всю страницу рекламное объявление, распалился еще больше:
– Куриные окорочка из Америки, мать вашу за ногу! Будто у нас своих кур мало! Нет, так больше жить нельзя! Нужно… Впрочем, так нам и надо, заслужили, значит, такую жизнь. Как псы бездомные, чего подбросят, тому и рады! Окорочкам их вонючим, «сникерсам»! Перед каждым, кто кинет чего, хвостом виляем! Собаки мы беспризорные, и жизнь наша собачья!
И тут в разгоряченную голову Павла Леонидовича закралась одна очень странная мысль. Вначале он, правда, надеялся, что она вместе с остальными как-нибудь переварится и уйдет, но не тут-то было – зацепилась, стерва, своим шероховатым краешком за мозговую извилину и уходить не хочет.
А дело было вот в чем. Когда-то, очень давно, служил Павел Леонидович в армии, и не где-нибудь, а на самом что ни на есть Крайнем Севере. Служба досталась, не дай бог никому. Мороз за шестьдесят, харчи не ахти, а молодому, растущему организму без хорошей еды ну никак нельзя. Вот и приходилось проявлять, как говорится, армейскую смекалку… Однажды приходит к ним в казарму местный якут-оленевод Петров Семен Иванович, смешной такой дядька… Свалил он с плеч холщовый мешок, закурил якутскую свою трубку и говорит:
– Ну что, ребяты-солдаты? Кушать нет. Совсем отощал. Скоро будешь худой, как палка. А Семен – хороший человек, собак принес. Вкусный собак.
Оторопели вначале солдаты, и уже прогнать его хотели. А Семен все попыхивает своей трубкой, будто ничего не замечает, и дальше говорит:
– Вы народ молодой, а я старый. Много знаю. Собака очень вкусный, как олень почти, попробуй. Голодать долго плохо. Болеть можно. А собак есть будешь – ни цинга, ни чахотка, ничего худого не будет. Понимай меня, понимай…
Время было вечернее, начальство уже разъехалось по домам, и решили солдаты по поводу прихода Семена втихую выпить. Раздобыли литровую банку спирта, развели ее один к трем и, запершись в каптерке, стали выпивать-закусывать. Но закуски как раз никакой, считай, и не было, кроме кислой капусты да черствого хлеба. Тогда-то они впервые и попробовали шашлык из зажаренного Семеном собачьего мяса. И ничего – пошло за милую душу…
С тех пор взвод, в котором служил Павел Леонидович, и стал при случае баловаться собачатиной. Всех собак переловили. Дошло до того, что остался на всю часть один лишь любимец офицеров пес Полкан. Долго берегли его, но как вышел приказ о демобилизации, не выдержали…
Павел Леонидович вспомнил, как накормил тогда собачьим шашлыком будущую свою жену Веру. Она в те времена часто тайком пробиралась к нему в казарму и становилась невольным свидетелем и участником солдатских вечеринок. После одной из таких дембельских трапез она и спросила у Павла Леонидовича: «Паш, а Паш, а где Полканчик-то? Что-то я его аж с позавчерашнего дня не видела». Павел усмехнулся тогда про себя и ответил с напускной слезою в голосе, мол, поредели наши стройные ряды, и нет с нами Полкана, но светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах и в других человеческих органах.
«Какие славные были времена, и как давно канули в Лету», – с грустью подумал Павел Леонидович.
Пришел он потом из армии и забыл о собачьем мясе, и даже стал ветеринаром. А сегодня вдруг ни с того ни с сего вспомнил и прикинул своими непредприимчивыми мозгами:
«А не пустить ли всех этих дворовых собак на мясо и не накормить ли им весь наш обездоленный народ? И заразы будет меньше, и заик, потому как заики, по достоверным наблюдениям, получаются как раз у голодных, отощавших родителей».
Правда, сам есть собачатину и кормить им Веру Сергеевну Павел Леонидович больше не собирался. Тогда попробовали – и хватит. Теперь пусть попробуют другие.
В общем, решил Павел Леонидович торговать свежей отборной собачатиной, выдавая ее за говяжье или баранье мясо.
«Ведь кто его разберет, – рассуждал он, – из какого зверя? Я вот до сих пор не в состоянии отличить курицу от кролика, хотя и бывший ветеринар. А все потому, что не ел ни того, ни другого уже черт знает сколько времени. И таких, как я, неразборчивых, сейчас миллионы».
Одно лишь смущало Павла Леонидовича: как сказать об этом жене? Ведь рано или поздно Вера Сергеевна все равно обо всем узнает.
Он долго ходил по комнате в глубоком раздумье. Иногда ему казалось, что жена как человек, не первый год его знающий, поймет и примет затею сразу, а иногда, наоборот, думалось, что будет она кричать, топать своими миниатюрными ножками и целыми днями не разговаривать. Вера – человек непредсказуемый. Но, в конце концов, Павел Леонидович решил пустить это дело на самотек – узнает, так узнает, а нет, так нет.
Будильник разбудил Павла Леонидовича ровно в половине пятого. За окном еще стояла непроглядная тьма, которая неожиданно вселила в него какой-то странный дьявольский оптимизм. Вера Сергеевна, вымотавшись за прошедший день, крепко спала и лишь иногда что-то бормотала во сне.
«И слава Богу – объяснений не потребуется, – осторожно поднимаясь с кровати, подумал Павел Леонидович. – Нужно только поскорее собраться и уйти».
Полностью проигнорировав утренние гигиенические процедуры, он, крадучись, прошел на кухню и наспех организовал себе подобие завтрака. Проглотил по-быстрому хлеб с салом, выпил чашку вчерашнего чая, а потом осторожно открыл холодильник и отрезал от купленной к Рождеству говядины два больших куска для приманки. Одевшись, Павел Леонидович на цыпочках прошел на балкон и отвязал несколько бельевых веревок, которые на предстоящей охоте должны были заменить ошейник и поводок.
Выйдя из дому на улицу, Павел Леонидович всем своим замерзающим телом почувствовал, как все-таки искусно описаны классиками прелести русской зимы. Но долго наслаждаться этими прелестями он не смог. Жуткий мороз и сильный ветер до предела сковали его тело и охладили в душе воинственный пыл охотника. Еще немного, и Павел Леонидович безоговорочно поддался бы приступу меланхолии, но вдруг что-то словно щелкнуло в его начинающем индеветь сознании, и он, бодро распрямив спину, стал размышлять о начальных трудностях всякого нового дела.
«В каждой работе, – убеждал он себя, направляясь на свалку, – какой бы она ни казалась легкой, должен быть свой ветер и мороз. Но, главное, начать, остальное приложится».
На свалке, по мнению Павла Леонидовича, должны были шляться беспризорные собаки. Неожиданно бывший ветеринар ощутил себя наемным убийцей, киллером, выполняющим очередной заказ. На ум ему пришла фраза одного из героев фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Ну что, окропим снежок красненьким?»
– Окропим, окропим, – угрожающе сказал Павел Леонидович.
Свалка встретила его недружелюбно. Сильная вонь дохнула прямо в лицо. Вокруг не было ни единой души. Под ногами в несметном количестве валялись нераскрытые банки с красной икрой.
– Ну, где вы, чертовы псы? Просыпайтесь! – шутя, крикнул Павел Леонидович.
Как ни странно, но в ответ раздался хриплый старушечий голос:
– Чего орешь? Какие тут могут быть псы в три часа ночи?! Людям спать не даешь!
Павел Леонидович сначала страшно удивился такому повороту дела – уж чего-чего, а человеческого голоса в такую рань, да еще в такой холод он никак не ожидал услышать. Но потом пересилил себя, и отступать не пожелал:
– Какие же это такие люди здесь живут, да еще спят в такой дикий мороз? Замерзнуть не боитесь?
В ответ послышалось кряхтение и сморкание, а через несколько мгновений из-за самой вершины свалки выросла костлявая старуха, завернутая в драную солдатскую шинель.
«Вылитая Баба-Яга!» – подумал с содроганием Павел Леонидович, а вслух произнес:
– Во-первых, уже почти пять часов, а, во-вторых, какое тебе дело, кто здесь ходит?! Ты что, купила эту свалку или в карты выиграла?
– Это моя свалка! – завопила старуха. – Моя и Сыча, и всяким тут новеньким мы ее не уступим! Ишь ты, разорался! Щас Сыча позову, он тебе живо башку намылит! Сы-ы-ыч!
– А Сыч – кто такой? – поинтересовался Павел Леонидович. – Муж твой или любовник? Ты ведь, я смотрю, еще ничего…
Но старуха как будто не слышала его, все кричала, звала Сыча. И докричалась, костлявая. Минут через пять из-за той же вершины вылез долговязый, с растрепанными седыми волосами старик. Он-то, по-видимому, и был Сыч.
– Не нужна мне ваша свалка, подавитесь вы ею! Мне собаки бродячие нужны! – почуяв неладное, неистово заорал Павел Леонидович.
Сыч злобно посмотрел на старуху:
– Зачем, дура, разбудила?! Говорил же, надо будет, сам проснусь, а не проснусь – так еще лучше!
Старуха, кажется, не на шутку перепугалась и закрыла лицо руками.
– Не бей, Сыч, только не бей! – почти заплакала она.
– Зачем тебе собаки? – не обращая внимания на старуху, спросил у Павла Леонидовича Сыч.
– Как это – зачем?! Жрать нечего, – усмехнулся в ответ тот.
– Жрать нечего? Иди, я тебя накормлю… Тут недавно красную икру выкинули, попадаются вполне съедобные банки.
– Да нет, мне бы собак, – огорчил Сыча Павел Леонидович, поворачивая назад.
– Постой ты! Пошутил я, – принялся останавливать его Сыч. – Есть тут собаки, только, наверное, спят пока. Но жрать их я бы тебе не советовал, ведь хрен их знает, чем они сами тут кормятся. Да еще и бешеных, поди, немало.
– Это к делу не относится, – оживился Павел Леонидович.
– Ну, гляди, чтоб они тебя сами не съели, – пробурчал Сыч. – Бабку мою недавно покусали.
– Ладно, всего не съедят, – отмахнулся от начавшего уже надоедать ему Сыча Павел Леонидович и вдруг услышал приближающийся многоголосый лай.
– Да вот же они, бегут, – предупредил напоследок Павла Леонидовича Сыч и, подталкивая впереди себя старуху, скрылся за вершиной свалки.
Собаки остановились на довольно почтительном расстоянии от Павла Леонидовича. Он зачем-то пересчитал их. Собак было шесть. Все разных пород и разного роста. Мысленно отделив мелкоту, Павел Леонидович в первую очередь обратил внимание на двух огромных, поросших ржавой шерстью «волкодавов». Светло-бурые, величиной с овцу, они своим видом прямо-таки изумили бывшего ветеринара.
«Каждый, наверное, килограммов по тридцать пять», – довольно прикинул он.
Собаки же, должно быть, почуяв что-то неладное, опять принялись лаять, и сильнее всех самый крупный из них, похожий на «волкодава».
– Ну что вы, мои маленькие, волнуетесь, – добродушно начал Павел Леонидович, протягивая ладошку, – идите скорей ко мне, у-тю-тю-тю…
Но собаки стояли на месте, и лаяли все более угрожающе. Павел Леонидович не стал дожидаться дальнейшего логического развития событий, вынул из кармана кусок говядины и бросил под ноги «волкодаву». Тот прибавил еще громкости, но потом, хорошенько принюхавшись, успокоился и приманку съел.
– Ну, иди ко мне, Шарик, иди же… – надеясь на легкую добычу, приговаривал начинающий мясник. – Я тебе еще дам…
Но «Шарик» оказался собакой не глупой. Он выжидающе посматривал на Павла Леонидовича и стоял, как вкопанный. Тяжело и грустно было расставаться Павлу Леонидовичу со вторым куском мяса, ведь он так надеялся сохранить его, чтобы потом, придя домой, изготовить, к примеру, отменную отбивную. Но больно уж вожделенно смотрел на бывшего ветеринара пес, и Павел Леонидович, еще раз представив, какая славная могла бы получиться из этого кусочка отбивная, крепко выругался и бросил его псу. Тот кровожадно облизнулся и с еще большим аппетитом принялся за свой неожиданный завтрак. Когда же так и не состоявшаяся отбивная была съедена, Павел Леонидович преодолел страх и осторожно двинулся к собачьей своре. Но на первое же его движение псы опять ожесточенно залаяли, давая, видимо, понять, что не один только «Шарик» нуждается в качественном питании по утрам. Павел Леонидович растерялся и едва было не повернул назад, но тут вдруг заметил, что «Шарик» неистовых своих собратьев не поддерживает, стоит молча и даже повиливает хвостом. Павел Леонидович осмелел, уверенным шагом подошел к беспечному «Шарику» и одним движением завязал у него на шее веревку. «Шарик» без малейшего сопротивления дал себя заарканить.
«Наверное, каждая бездомная собака мечтает о хозяине!» – философски подумал Павел Леонидович и даже почувствовал неведомую до этого жалость к наивному «Шарику».
– А вот возьму сейчас и отпущу тебя, – неожиданно для самого себя сказал бывший ветеринар. – Что я, не человек что ли? И будешь ты, как прежде, бегать по своей вонючей свалке, а я, как прежде, есть свою противную овсяную кашу.
Но жалостливый этот порыв был минутным, и вскоре Павел Леонидович рассуждал уже совсем по-иному:
– Кому это нужно?! Дети скоро вырастут, вспомнят свое голодное детство и скажут мне: «Что ж ты нас, папа, „сникерсами“ да „марсами“ не кормил, что ж ты нас окорочками из Америки не потчевал?!» И что я отвечу им, как оправдываться буду?! Скажу, что какого-то паршивого «Шарика» пожалел, так они меня в ответ овсяной кашей и накормят. Нет уж, не бывать этому! Не разжалобишь ты меня, пес бездомный, пес голодный! Быть тебе съеденным, как пить дать. Так что пошли, дармоед.
Павел Леонидович покрепче затянул веревку на шее «Шарика» и повел его за собой подальше от свалки. Напоследок пес оглянулся на притихшую стаю, что-то прощальное прогавкал и послушно засеменил за Павлом Леонидовичем.
Дома, слава Богу, никого не было. Вера Сергеевна на работе, дети в детском саду. Все складывалось как нельзя лучше. «Шарик», судя по всему, в своем недалеком прошлом был собакой домашней, и, только они вошли в квартиру, по старой, не забытой еще привычке сел у самой двери.
– Нет, мой дорогой, сторожить здесь абсолютно нечего, – потирая руки, сказал Павел Леонидович, – да и незачем, разве что самого себя. Так что ты это брось…
Управиться с собакой предстояло до полудня, пока Вера Сергеевна не пришла на перерыв. Профессиональная мысль о том, чтобы умертвить «Шарика» путем ввода большой дозы снотворного, была очень заманчива. Но все-таки Павел Леонидович решил от нее отказаться, ведь всякого рода медикаменты могли плохо сказаться на качестве мяса. А о качестве ему надо было заботиться. Правда, в бытность свою ветеринаром он не раз усыплял свиней, коз и даже коров – и ничего, обходилось. Хозяева благополучно продавали их на базаре, а то и съедали сами, ничуть не страшась последствий. Но то были хозяева, они знали, чем кормили свою живность. А здесь совсем иное дело. Псы и так шляются черт знает где, и поедают черт знает какую гадость. А если им еще и снотворное впрыснуть, так это уж совсем рискованно. Поэтому Павел Леонидович решил действовать просто и хладнокровно, не поддаваясь никакой сентиментальщине. Выпив для смелости рюмку водки и перекрестившись, он твердой ветеринарской рукой раскрыл приготовленный кривой садовый нож и нарочито уверенной походкой зашагал в прихожую.
«Шарик» как ни в чем не бывало сидел у двери, высунув малиново-красный длинный язык. При появлении Павла Леонидовича он начал вдруг радостно взвизгивать, признавая в нем нового своего хозяина, становиться на задние лапы и лизать его чуть ли не в самые губы. Но Павел Леонидович в своем намерении был тверд. Ни одна, даже самая беспомощная тварь не разжалобила бы его в этот момент. А чтобы еще больше усилить в себе твердость, он стал вспоминать все обиды и унижения, которые ему пришлось испытать в последние полгода голодной, нищенской жизни. В одно мгновение перед его мысленным взором пронеслись самые печальные и ужасные дни его существования. Вспомнился, например, грязный оборванный бомж, подошедший к Павлу Леонидовичу на одной из станций метро. Он попросил денег, а их у Павла Леонидовича, разумеется, не было, но даже если бы и были, он все равно не дал бы ни копейки. Бомжей много, а он, Павел Леонидович, один, и есть тоже хочет каждый день. Бомж понял его, достал пятитысячную бумажку и протянул Павлу Леонидовичу. Конечно, Павел Леонидович ее не взял, хотя, наверное, надо было и взять, известное дело: дают – бери. Но случай этот крепко задел его, и вот теперь очень даже кстати вспомнился. Униженный и оскорбленный Павел Леонидович вдруг неистово взревел и бросился с ножом на пса. Одной рукой он мертвой хваткой вцепился в шерсть на голове собаки, оттянул ее далеко назад, а другой что было силы полоснул садовым ножом по собачьему горлу. К нечеловеческому реву Павла Леонидовича добавился почти человеческий рев собаки. Павел Леонидович тащил на кухню трепыхавшееся, истекавшее кровью животное. Пес судорожно хрипел, ноги его дергались, как в эпилептическом припадке, по всему коридору блестела кровавая дорожка…
Хотя пес и умирал, но агония оказалась слишком долгой и нестерпимой. Чтобы приблизить конец, Павел Леонидович достал из кладовки топор, которым обычно разрубал мясо, и, сильно размахнувшись, ударил собаку обухом по голове. «Шарик» еще раз громко взвизгнул и затих.
– А ты думал, я тебя сюда привел, чтобы отборным мясом кормить? – проговорил Павел Леонидович, вытирая кровавую лужу. – Нет, мой дорогой, теперь ты сам будешь мясом.
Но все это было лишь полдела. Самое ужасное, по мнению Павла Леонидовича, еще предстояло, ведь надо было содрать шкуру и разделить животное на части. А опыта в этом у него не было никакого…
– Это тебе не селедку потрошить, – рассуждал сам с собой бывший ветеринар, подступаясь то с одной, то с другой стороны к собачьей туше.
Шкура не поддавалась. Нож упорно цеплял мясо, жилы, отчего Павел Леонидович начинал сильно нервничать. Вдобавок ко всему, во время свежевания один глаз у «Шарика» открылся и, слегка прищурившись, стал как бы подмигивать и подсмеиваться над своим убийцей. И без того неустойчивому душевному равновесию Павла Леонидовича был нанесен сокрушительный удар. Со всей силы он вдруг начал тыкать псу в открывшийся глаз ножом и как-то странно приговаривать:
– Так тебе, так тебе, прямо в глазик, прямо в глазик, чтоб не подмигивал, я тебе дам подмигивать, я тебе дам…
Это тыканье длилось до тех пор, пока глаз «Шарика» не стал походить на раздавленную черешню. После чего Павлу Леонидовичу стало значительно легче на душе, и он даже позволил себе закурить папиросу. С удовольствием втягивая в легкие успокоительный дымок, Павел Леонидович решил, что ничего особо страшного нет ни в этой «черешне», ни вообще во всем содеянном, и нужно без лишней нервотрепки довести начатое дело до конца.
После такого обстоятельного самовнушения процесс свежевания пошел значительно лучше, и примерно через час перед окровавленно-потным Павлом Леонидовичем лежала огромная, похожая на овечью, шкура собаки. Но это все-таки было ничто в сравнении с тем, как выглядел теперь сам «Шарик».
«Экспонат для кабинета зоологии», – подумал бывший ветеринар.
И в самом деле – каждая мышца, каждое сухожилие просматривалось, как на картинке. Не хватало только парт с учебниками и учителя с указкой.
– Ну что ж, теперь осталось придать продукту товарный вид, и вперед, – потирая руки, произнес начинающий бизнесмен. – Что из тебя сотворить, Шарик? Гуляш, отбивные? Впрочем, нет, мой дорогой, для такой живописной туши гуляш – это как-то несолидно. А что, если превратить тебя в фарш? По-моему, ты этого заслуживаешь! Учитывая твой прежний образ жизни, это тебя возвысит и облагородит. Нет, ты не переживай особенно, все будет по высшему классу: добавим хлебушка, чесночка, приправки – пальчики оближешь. Ну как, согласен? Чувствую, что согласен.
Павел Леонидович достал из кухонного шкафа запылившуюся мясорубку и огромный эмалированный таз. Осталось найти несколько луковиц, а чеснок и хлеб, несмотря на беспросветную бедность, у них были всегда. Вера Сергеевна на этот счет слыла женщиной запасливой.
Еще раз оглядев тушку, Павел Леонидович с сожалением вынужден был отметить, что чистого мяса получится, пожалуй, не тридцать пять килограммов, как он с энтузиазмом прикидывал ранее, а значительно меньше. Но для первого раза и десяти хватило бы вполне, тем более, для такого неопытного, начинающего мясника, как Погорелов. Хотя нет, в отрочестве он уже рубил мясо. Бывало, отец на работе задержится, а мать уж тут как тут, начинает всех, кто праздно шатается, мобилизовать на хозяйственные дела. Кому полы мыть, кому стирать, кому ковры выбивать, а Павлику всегда самое ответственное поручение – мясо рубить. Выдаст ему стальной топорик, похожий на индейский томагавк, предупредит, чтоб осторожен был, руки берег, и выложит увесистый кусок говядины или свинины.
Помянув добрым словом далекие те, славные деньки, Павел Леонидович принялся за работу. И хотя и имел он уже опыт в этом деле, но разрубать сразу целую тушу ему еще не приходилось, тем более, что туша была не совсем обычная. Он даже не знал, с чего ему начать: то ли сперва пополам разрубить, то ли конечности отсечь, то ли, может, вычленить стегна и лопатки. В конце концов, Павел Леонидович решил, что начинать необходимо, наверное, с тех частей, которые меньше всего пригодны в пищу, то есть с хвоста и головы. Дело сразу заспорилось. И вот «Шарик» уже не «Шарик», а собачатина высшей категории, да и запах на кухне будь здоров, как на лучшем мясокомбинате Москвы.
Когда же с рубкой было покончено, Павел Леонидович решил не зацикливаться на недостающем луке и прикрепил мясорубку к столу. Последний раз он крутил мясо лет пять тому назад, а потом приходилось перерабатывать лишь рыбу да всякую околомясную дребедень. Он даже отвык от прокрученного мяса и не на шутку разволновался. Но вот, наконец, мясорубка затрещала, затарахтела всем своим стальным организмом, и из него полез ломающимися макаронами убиенный «Шарик». Мясо было нежно-розовым, парным и ничем не отличалось от говяжьего или свиного фарша…
Было около шести часов вечера, когда Погорелов вышел из дому. Погода оказалась намного хуже, чем он ожидал. Мороз настолько потряс его хилую плоть и истощенную последними событиями душу, что Павлу Леонидовичу вдруг нестерпимо захотелось все бросить, бегом вернуться домой, налить в ванну горячей воды и уснуть в ней до утра. По правде говоря, он бы, наверное, так и сделал, если бы не сильный ветер, как-то уж слишком настойчиво подтолкнувший его к автобусной остановке. Толчок этот был настолько мощным, что Павел Леонидович вдруг резко поскользнулся и упал прямо на копчик. Адская боль пронизала все его тело, но хуже всякой боли было то, что двадцатикилограммовая сумка, выпавшая из рук во время приземления, заскользила по ледовой дорожке, ведущей прямо на проезжую часть. Увидев, как она неостановимо катится под колеса несущегося КамАЗа, Павел Леонидович с ужасом закрыл глаза. Но машина, пронзительно взвизгнув тормозами, вильнула в сторону и умчалась дальше. Павел Леонидович быстро поднялся и рванул со всей мочи к месту происшествия. Картина там была удручающая. Вместе с КамАЗом исчезла куда-то и сумка. Минут пять стоял бывший ветеринар, всем своим видом напоминая дауна, которому попался в руки порнографический журнал. Потом повернулся и медленно побрел вперед по ходу движения транспорта, надеясь немного отдышаться и прийти в себя после такой невосполнимой потери. И вдруг на обочине чуть не споткнулся о свою сумку, набитую до отказа собачьим фаршем.
Слезы радости потекли из глаз бывшего ветеринара, и он на мгновение ощутил себя маленьким мальчиком, хнычущем по пустяку. Не обращая внимания на сигналящие автомобили, Павел Леонидович плюхнулся рядом со своей недавней пропажей и курил до тех пор, пока проезжавшая мимо милицейская патрульная машина чуть было не захватила его с собой.
Павел Леонидович торопливо поднялся и пошел к автобусной остановке, но ему после таких счастливых слез вдруг сделалось нехорошо, по всему его измученному телу разлилась какая-то болезненная слабость.
«Ой, что же это я делаю? – с унынием подумал он. – Куда же это
я иду, боже ж ты мой?! Меня же непременно поймают и разоблачат, ведь я такой невезучий, черт возьми… Убил бедного пса, разрубил на части, прокрутил на мясорубке, и это я – бывший ветеринар, призванный спасать братьев наших меньших. Ой, мама, что же я делаю?!»
Павел Леонидович уже совсем было собрался повернуть обратно, как вдруг увидел бегущую к нему навстречу жену.
– Паша, Пашенька, ты куда это на ночь глядя, да еще с такой огромной сумкой? А ну, признавайся! – с ходу, слегка посмеиваясь, начала Вера Сергеевна.
– А, Вера, – робко сказал Павел Леонидович. – Да это я… бутылки решил сдать, стоят уж черт знает сколько, все никак руки не доходят…
– Ой ты, мой маленький, какой молодец! – растрогалась Вера Сергеевна. – Сегодня мог бы и не мучить себя, я аванс получила…
– Ну, теперь уж делать нечего… Пойду, сдам. Когда еще соберусь, – не зная, что еще придумать, раздраженно произнес Павел Леонидович.
– Ладно, ладно, не нервничай, – начала успокаивать его Вера Сергеевна. – Вот тебе пять тысяч, купи пачку маргарина на обратном пути, испеку сегодня твои любимые коржики. А если бутылки сдашь, денег больше не трать…
– Конечно, ведь я не зарабатываю, – строя из себя обиженного, сказал Павел Леонидович.
– Ну, в общем, ты меня понял, – сменив тон, процедила Вера Сергеевна. – Кроме маргарина, от тебя ничего не требуется. Все, я побежала, мне еще за детьми зайти надо.
Павел Леонидович уныло посмотрел ей вслед, а потом вдруг мысленно обратился к «Шарику»:
«Ну что, убиенный, накормим россиян досыта экологически чистым собачьим фаршем из самого сердца России?»
После всей этой нервотрепки ноша показалась Павлу Леонидовичу еще тяжелее, и ему захотелось как можно быстрее избавиться от нее. Нужно было сесть на автобус и поехать к ближайшему метро, чтобы встать там в подземном переходе со своим товаром. Так нынче поступали многие, вся столица была переполнена нелегальными торговцами всякой всячиной.
Странное дело, но после чудовищного утреннего мероприятия Павла Леонидовича упорно стали интересовать собаки. Пока автобус несся к месту назначения, он то и дело оглядывался на пробегающих мимо дворовых собак, и невольно прикидывал, сколько из них может получиться чистого фарша. Решил он, благодаря этим наблюдениям, еще одну очень важную для себя задачу: в следующий раз он уже не станет использовать для приманки говяжье мясо (больно жирно!), сгодится и собачье. Все больше и больше углубляясь в подобные «собачьи» мысли, Павел Леонидович опять с безумным сожалением вспоминал последние полгода, прожитые в голоде и озлоблении. А ведь как много кругом собак, только успевай забивать да прокручивать на фарш. И если к этому подключить еще Веру Сергеевну, тещу и детей, так и вообще озолотиться можно. Павел Леонидович тут же представил, как два его малолетних сына помогают разделывать Вере Сергеевне очередную псину, и лица у них при этом такие довольные и счастливые. А он сам в это время по-хозяйски следит за всем и дает своим домочадцам ценные указания. Какая славная могла бы быть жизнь, все заняты делом, все вместе!..
Выйдя из автобуса, Погорелов почувствовал от этих размышлений небывалый прилив сил и решительно направился в ближайший переход. Торгующих там, как он и предполагал, было довольно много. В основном, пенсионеры, но попадались и молодые люди. С правого края топтались бабки, продающие сигареты и прочую мелочь, с левого толпилась публика помоложе, промышляющая животными и шмотками. Павел Леонидович безоговорочно решил пристроиться поближе к последним. Парой пинков пододвинув к себе валявшуюся невдалеке полуразорванную картонную коробку из-под сигарет «LM», он трясущейся рукой достал несколько пакетиков фарша. Затем извлек из внутреннего кармана куртки подготовленную табличку, на которой большими буквами было написано:
«Фарш говяже-бараний, 7 тысяч рублей за 1 кг».
Стоявшая рядом бабка с хиреющим пуделем сразу же среагировала:
– Ты чего, из деревни, что ль?
– Почти, – отозвался Погорелов, решив со всем соглашаться.
– Как это «почти»? – удивилась бабка.
– Из пригорода, не понятно разве?
– А-а, – многозначительно кивнула та и, поцеловав пуделя в нос, заорала: – Карликовый пудель с отличной родословной, потомок из коллекции князей Голицыных…
– Так уж и из Голицыных? – спросил бывший ветеринар.
– Ну, а то кого же? – неуверенно пробурчала бабка.
По всему было видно, что Голицына она приплела от фонаря, и поэтому Павел Леонидович решить развить тему несколько в ином направлении:
– Что ж ты, старая, народ дуришь, какого на фиг Голицына? Бери выше – Разумовского! Такие классные пудели, насколько я знаю, водились только у него да у императрицы Елизаветы. Кстати, держать их на морозе нельзя, воспаление легких минутою подхватят, а то и вообще останутся вечно молодыми. Это я тебе говорю – бывший ветеринар!
Врать Павел Леонидович умел и любил с детства. Любую, самую неправдоподобную историю он был в состоянии так преподнести, что самый неверующий слушатель, в конце концов, начинал верить в нее всей душой. Бабка, по крайней мере, похоже, поверила, закутала пуделька в какую-то тряпицу и к Павлу Леонидовичу заметно подобрела.
Но она оказалась не единственной, кто хотел познакомиться с новоявленным торговцем. Мужик, стоявший с другой стороны, очень обрадовался Павлу Леонидовичу. Сам он торговал козьим молоком, разлитым в двухлитровые бутылки из-под «пепси-колы». Как только бывший ветеринар вынул и разложил на картонной коробке фарш, мужик тут же веселым бойким голосом спросил у него:
– Свое продаешь?
– В смысле? – прикинулся дураком Павел Леонидович.
– Ну, сам выращиваешь скотину, сам и продаешь, значит. Правильно я понимаю?
– Да нет, неправильно! – язвительно отвечал Павел Леонидович. – Скотина сама растет, только коли вовремя.
Уж очень не понравился этот мужичишка ему. Глазенки маленькие, хитрые, так и бегают туда-сюда, туда-сюда…
– А чего у тебя глаза так бегают? – не сдержался, спросил у него Погорелов. – Боишься кого, что ли?
– А у тебя будто не бегают! – с раздражением ответил мужик. – Или менты ни разу не забирали?
– А что, забирают? – удивился Павел Леонидович.
– А то как же! Таких вот, как мы с тобой, и берут чаще всего.
– Что значит, таких, как мы?
– Ты, правда, такой дурак, – не выдержал мужичок, – или прикидываешься? Неужели непонятно?! Товар у нас с тобой, считай, одинаковый. Я козу держу, молоком козьим промышляю, ты тоже, наверное, скотину какую-нибудь держишь и, стало быть, мясом, фаршем торгуешь. Остальные же здесь, в основном, перепродажей занимаются, спекулируют, если по-старому говорить. Это, во-первых. А, во-вторых, мужики мы с тобой. Мужиков же всегда первыми и берут.
– Это еще почему? А баб?
– А что бабы? Расплачутся, разрыдаются, как им положено. Ментам возиться с ними неохота, посмотрят на все эти слезы и сопли, пригрозят пальцем и отпустят. К тому же все бабы тут пенсионерки, что с них взять…
– А мужики, значит, разрыдаться не могут? – предчувствуя страшные последствия своей новой работы, тоже с раздражением спросил Павел Леонидович.
– Могут, конечно, но что толку? Менты им за эти слезы такой штраф влепят, что только держись.
– А если денег нет? – продолжал допытываться Павел Леонидович.
– А если денег нет, будем разговаривать по-другому, – неожиданно донесся откуда-то сверху мужской незнакомый голос. – Документы?!
«Ну, вот и приехали! – с ужасом подумал Павел Леонидович. – Вот это загадочное чувство, когда душа уходит в пятки. Состояние не из приятных».
– Ну, что застыл, как цуцик? Документы, говорю! – прозвучал тот же голос еще более настойчиво.
Погорелов медленно поднял голову. Перед ним, или даже скорее над ним, возвышался огромный, в полной экипировке милиционер. Закованный в бронежилет и с автоматом на толстой шее, он произвел на Павла Леонидовича неизгладимое впечатление. Душа его не только ушла в пятки, а, кажется, была готова покинуть тело.
– Ну, что обомлел? – уже протянул к Павлу Леонидовичу руку милиционер.
– Да я не… – с трудом шевельнул языком бывший ветеринар.
– Понятно, что не продавал, а Машку за ляжку да Лариску за сиску тискал. Ладно, в отделении разберемся. Бери свой товар и вперед, за мной.
Такого расклада Павел Леонидович никак не ожидал. Все, что угодно, но не в первый же день попасться. Следуя за милиционером, он в какой раз уж подумал о постоянно преследующих его неудачах. И за что ему такое божье наказание?! Никого вроде бы не убил, не ограбил, да что там ограбил – слова лишнего никому не сказал, а вот, на тебе, с работы уволили именно его, а не кого-нибудь другого, дети постоянно болеют именно у него, а не у соседа, жена – дура набитая, тоже у него. И сейчас не мужика этого козьего мент в отделение ведет, а его, совершенно безвинного Павла Леонидовича Погорелова. Как тут не возропщешь, как не посчитаешь себя законченным неудачником!
А ведь свою «работу» в метро безработный Погорелов представлял несколько иначе. Ему, например, до ужаса было интересно, как поведет себя покупатель, как среагирует на цену и так далее. А тут, здрасьте вам, милиционер, да еще с автоматом! Для такого нежнейшего существа, как Павел Леонидович, это было настоящим потрясением. Еще в далеком детстве его постоянно пугали милицией, и вот наконец свершилось: задержание с поличным, да еще с каким, врагу такого поличного не пожелаешь.
Милицейский пост находился в том же злополучном переходе, где Павел Леонидович был так позорно пойман. Миновав длинный полутемный коридор, они с милиционером очутились в небольшой плохо освещенной комнате. Первое, что бросилось Павлу Леонидовичу в глаза, был огромный обшарпанный стол и сидящий за ним по пояс голый толстенный милиционер, евший яичницу. Что это милиционер, а не кто-либо другой, Павел Леонидович понял по огромной надписи, выколотой на левой стороне груди толстяка. Она клятвенно гласила: «МВД – НАВСЕГДА». В остальном же обстановка в комнате была более, чем обычная для подобных учреждений.
– Вот, товарищ капитан, привел торговца! – с усмешкой сказал мент в бронежилете, подталкивая Павла Леонидовича поближе к столу.
– И чем же мы нынче торгуем? – не отрываясь от яичницы, вполне доброжелательно спросил толстяк.
Павел Леонидович решил, что этот вопрос не к нему и промолчал.
– Ну, чего молчишь?! Отвечай, раз тебя спрашивают! – присоединился к допросу недавний конвоир Павла Леонидовича.
– Да я ф-ф-аршем… говяж-жье-б-бараньим, товарищ н-на… – еле-еле вымолвил задержанный.
– Что же это, значит, у тебя и бараны, и коровы в хозяйстве имеются? – оживился толстяк.
– Да, но…
– Понятно, понятно. В общем, так, Коля, выпиши-ка ты ему штрафец на полтинничек и адью.
– Тут особый случай, товарищ капитан, – щуря хитрые глазки, сказал Коля. – Денег у него нет. Так что, я думаю, придется с ним поближе познакомиться. А, начальник?
После таких слов, и особенно после «поближе познакомиться», у Павла Леонидовича стало как-то нехорошо на душе. Он уже совсем было решился признаться во всем, но потом вдруг вспомнил жену свою Веру, детей, представил, как они будут навещать его в тюрьме, и осекся. Нет, не мог он себе такого позволить! Уж если начал врать, то лучше врать до конца.
– Вы поймите меня правильно, – каким-то не своим голосом приступил к объяснению Павел Леонидович, – я только что пришел и потому еще ничего не продал. У меня лишь пять тысяч, жена на маргарин выдала.
– Понятно, понятно, – зевнул толстяк. – А что продаешь-то? Ах да, фарш, значит. И что же мне с тобой делать? Ладно, будем действовать следующим образом, – сам задавал и сам же отвечал на собственные вопросы капитан.
Он вдруг резко встал из-за стола, очень хитрым взглядом посмотрел в глаза Павлу Леонидовичу и не очень хитро в глаза милиционеру Коле и, выдержав довольно-таки длинную паузу, продолжил:
– А знаешь что? Давай-ка мы с тобой так договоримся: ты нам с Колей будешь ежедневно отдавать по три килограмма фарша, а мы сделаем тебя продавцом-невидимкой.
– Как это – «невидимкой»? – удивился Павел Леонидович.
– Ну как, как, замечать тебя не будем, понимаешь? Ребятам своим накажем, чтоб тебя не трогали. Согласен?! – толстяк из-за письменного стола наклонился так близко к задержанному, что его волосатое упитанное пузо окунулось в недоеденную яичницу.
«Кошмар! – мысленно ужаснулся Павел Леонидович. – Они хотят есть этот собачий фарш, они же меня потом за это и посадят!»
– Я не знаю… – выплевывая откусанный от волнения ноготь, промямлил бывший ветеринар. – Если уж вам так надо, то…
– Что значит – «надо»? – обрадованно выпалил мент в бронежилете, Коля. – Есть каждый хочет! В том числе и доблестная столичная милиция. Ты своих баранов разводишь, мы своих… Правильно я мыслю, товарищ капитан?
– Ладно, кончай заливать, – выходя из-за стола, пробурчал толстяк. – Слетал бы лучше за пузырем, чем ахинею молоть.
– Ты читаешь мои мысли, начальник, – торжественно объявил Коля. – Только не за пузырем, а за пузырями!
– А не будя нам на сегодня, а? Может, и одного хватит? – сдвинув к носу брови, засомневался капитан.
– Не, начальник, не будя. Под котлетки в самый раз пойдет.
– А знаешь, Коля, – почесал в затылке толстяк, – пожалуй, ты прав: все яичница да яичница, давно уже хочется чего-либо посущественней. Так что, давай, беги за пузырем, а мы тут с… э, как там тебя?
– Вы мне? – оторопел, не успевая переваривать море новой информации, Погорелов. – Паша я. Павел Леонидович.
– В общем, мы тут ща с Пашком котлетки зафигачим, а ты давай, чтоб как на крыльях ветра. Да, и хлеба возьми беленького, от черного у меня изжога.
– Есть, начальник! Я ща быстро, – козырнул Коля и, как ужаленный, выскочил из комнаты.
«Э, нет, я этого подзаборного пса жрать не буду! – подумал Павел Леонидович. – Он там где-то по помойкам шлялся, а я его жрать?! Да ни за что в жизни! Надо как-либо смываться отсюда!»
– Ну, что, Пашок-корешок, доставай свою кошачью начинку, у ме-
ня тут яйца остались, четыре штуки, ща мы их туда зачкнем, как говорится, для полного консенсуса, – почесал шерстяное пузо начальник.
Делать было нечего, Павел Леонидович дрожащими руками достал один из пакетов и передал его капитану. Тот вывалил собачье месиво в здоровенную миску и ловко вколотил туда четыре яйца.
– Вот так их, родимых, вот так, – приговаривал представитель столичной милиции, перемешивая фарш.
Пока задержанный Погорелов застегивал сумку, капитан, не выпуская миску из руки, открыл письменный стол и вынул оттуда огромных размеров чугунную сковородку, а к ней неожиданно и маленькую электроплитку.
«Вот работка, вашу мать, – с завистью подумал Павел Леонидович, – жри, да штрафы выписывай. Может, и себе в менты податься?»
Тем временем по комнате разнесся настораживающий какой-то запах. Он явно отличался от запаха говяжьих или бараньих котлет, но все-таки не был противным и даже возбудил у Павла Леонидовича аппетит.
– Чуешь? – широко улыбнулся толстяк, переворачивая собачьи котлеты.
– Да-а… – протянул погруженный в скорбные мысли задержанный Погорелов.
– Сейчас мы их, сладеньких, да под водочку… Знаешь как?! Это тебе не яичница!
Тут, как угорелый, в бронежилете и с автоматом на бычьей шее ворвался Коля. В руках у него легко и привычно умещались три бутылки водки и два батона.
– Ну что, добыл, мерзавец?! – хитро прищурившись, расправил закрученный ус толстяк.
– Как видишь, начальник!
– Давай раздевайся, снимай свои чертовы доспехи. Чуешь, запах какой?
– Чую, чую, я тоже не с пустыми руками…
– Не многовато ли для одного дня? – еще раз засомневался толстяк.
– В самый раз, капитан, – Коля отбросил автомат. – Я же сказал…
На все эти дьявольские приготовления Павел Леонидович смотрел с каким-то всепроникающим ужасом. Ему вспомнился убиенный пес, его добродушный, ничего не подозревавший взгляд, затем леденящий душу визг, хрип, стон, кровавая масса на полу кухни.
«Убейте, а есть не буду!» – дал себе клятву Павел Леонидович.
Но заветное блюдо уже поспевало, котлеты скворчали и даже, как казалось Павлу Леонидовичу, подпрыгивали на сковородке. Нужно было срочно что-то предпринимать.
– Мужики! – с несвойственной для себя твердостью произнес Павел Леонидович.
– Ну? – насторожился толстяк.
– Не знаю даже, как начать, – еще больше засомневался Павел Леонидович.
– Да начинай, начинай, здесь все свои, а кончить мы поможем, – спошлил Коля.
– Понимаете, – постарался не заметить Колиной реплики бывший ветеринар, – денег у меня нет, в долю с вами не входил. Так что давайте я рюмку выпью и исчезну, а когда продам что-либо, забегу еще. Сами понимаете – с женой шутки плохи, сгрызет.
– Нехорошо, Пашок-горшок, получается, – выкладывая котлеты на тарелку, сказал толстяк. – Еще и не разлили, а ты уже самым нахальным образом заявляешь, что тебе пора. У нас так не бывает, и одной рюмкой не отделаешься.
– Стаканяка, не меньше! – уточнил Коля.
Ради того, чтобы только не есть эти чертовы котлеты, Павел Леонидович был готов на все.
– Стакан, так стакан, – с облегчением выдохнул по бедности малопьющий ветеринар. – Отчего ж не выпить с друзьями.
– Вот это по-нашему! – с чрезмерным восторгом воскликнул Коля. – Садись, начальник, настало время врезать по суженным сосудам столичной милиции.
В ответ на это заявление капитан достал откуда-то из-под крышки стола три граненых стакана, торжественно выгрузил их на стол и не менее торжественно объявил:
– Прошу к столу, господа жаждущие!
Не дожидаясь, пока все усядутся, Коля начинающими желтеть зубами ловко открыл бутылку и поровну разлил в стаканы.
– Ну?! За что пить будем? – осмелел Павел Леонидович.
– За Родину! За Россию, мать нашу! – произнес толстяк вдруг каким-то натужно серьезным тоном.
– Правильно, начальник, за Россию! – поддержал его Коля.
– За нее, родимую, – подстраиваясь под капитана и Колю, и предвкушая скорый уход, тихо добавил Павел Леонидович.
Стаканами бывший ветеринар, увы, пить не умел, и после третьего глотка поперхнулся. Толстяк, уже успевший справиться со своей порцией, тут же подбодрил его:
– Держись, Паша, держись! Все-таки за Россию-мать пьем!
Пришлось Павлу Леонидовичу держаться, хотя лицо его мгновенно стало похожим на сушеную грушу. Милиционеры быстро сориентировались и, наколов на вилки по котлете, с видом глубочайшего сочувствия протянули их Погорелову. Но, слава Богу, на столе был еще хлеб. Бывший ветеринар, сделав вид, что котлет не замечает, отломил себе кусочек батона.
– Герой! – похвалил его толстяк, похоже, удивляясь, что задержанный закусывает после такой дозы только хлебом.
– А что еще надо простому русскому человеку? – чувствуя, как уже тонет во хмелю, сказал начинающий бизнесмен. – Стакан водки да ломоть хлеба.
Ментам, судя по всему, такой ответ пришелся по душе, и они довольно мирно отпустили Павла Леонидовича. Поплотнее закрыв за собою дверь дежурки, он быстрым, хотя и нетвердым шагом заторопился назад, к торговцам. Там все оставалось без особых изменений: надоедливый мужичок с козьим молоком и туповатая бабка с хиреющим пуделем бойко зазывали покупателей. Мужичок, едва увидев Погорелова, спросил:
– Ну что, штрафанули?
– А то нет! – попробовал отвязаться от него Павел Леонидович.
Но мужичок от него не отставал:
– Поди и фарша еще взяли килограмма два?
– А ты почем знаешь? – совсем рассердился на мужичка Павел Леонидович.
– Да уж знаю! Я этих шакалов уже третий месяц козьим молоком пою. Они со всех что-нибудь да берут. Чистые монголы!
Павел Леонидович на всякий случай смолчал. Ведь не успеешь слова произнести, как тебя мент с автоматом опять за шкирку схватит. Но потом он немного осмелел и, раскладывая на коробке из-под «LM» пакетики с фаршем, поинтересовался у мужичка:
– Много продал?
– Пару литров пока, – вполне по-свойски ответил тот. – Не время еще. Надо подождать, когда народ с работы пойдет. Мигом все раскупят…
И действительно, почти целый час простоял Павел Леонидович, считай, впустую. Кое-какие покупатели, конечно, появлялись, но ни до чего конкретного в торговле дело не доходило. Для одних слишком дорого, для других, наоборот, слишком дешево. Но вот час минул, подземный переход прямо-таки закишел хлынувшим из метро народом, и первая же покупательница взяла у Павла Леонидовича целых три пакета фарша и даже не спросила – что да откуда. Можно подумать, она этот фарш каждый день у него покупает. А вслед за ней начался просто ажиотаж какой-то. Покупатели лишь интересовались, много ли осталось товара и всем ли хватит. Одна бабулька, купившая, кстати, последний пакетик, даже поблагодарила Павла Леонидовича:
– Молодец, сынок! Цена-то у тебя какая божеская и товар свежий, не то что в магазине. Завтра приду.
– Приходи, приходи, старая калоша, – тихонько бормотал про себя начинающий бизнесмен, – будет тебе и свеженький, и дешевый.
Немного поостыв от бойкой торговли, Павел Леонидович аккуратно пересчитал выручку. Оказалось целых сто тридцать три тысячи, ровно половина Веркиной зарплаты.
«Если так дело пойдет, – прикинул он, – то это же в месяц больше трех миллионов. Но ведь можно не одного пса в день заловить, а хоть целых десять штук, их там на свалке видимо-невидимо. Глядишь, через тройку месяцев подержанную «шестерку» куплю, а Вере, если будет себя хорошо вести, козью шубу. Она страсть как любит козьи шубы. А через пару месяцев не то что миллионером, «новым русским» стану!
Все это за страдания мои былые, – продолжал утешаться Павел Леонидович, – за бедность мою беспросветную. Ведь должна же быть какая-нибудь справедливость, какая-нибудь награда за пережитые мною тяготы и лишения! Вот она и пришла, хотя, понятно, еще и не в полной мере! Но, главное, трудиться, не покладая рук, не останавливаясь на достигнутом, надо брать, как говорится, все новые и новые высоты. Собак нерезаных у нас не счесть! На каждом шагу какое-нибудь «муму» бегает, только бери его да в мясорубку!»
Возвращаться после столь возвышенных размышлений назад в дежурку к капитану и Коле Павлу Леонидовичу, ох, как не хотелось. Но и брезговать знакомством с такими героическими ментами тоже было нельзя. Мало ли что может еще случиться с ним в будущем?! «Новые русские», говорят, с ментами в тесной дружбе и контакте.
Собравшись с духом, Павел Леонидович направился в дежурку и робко постучал в дверь. Но на стук никто не отозвался. В голове у Павла Леонидовича промелькнула страшная мысль – капитан и Коля давным-давно мертвые. Но сердце ему тихо подсказывало: «Открой дверь, не бойся, может, не так все плохо…» Павел Леонидович поверил своему измученному сердцу и принялся стучать посильнее, а потом и вовсе изо всей силы грохнул ногой в дверь. К его удивлению, она оказалась не запертой, и он после недолгих колебаний вполне беспрепятственно вошел в знакомую уже комнату.
Ужасней картины представить было нельзя. Толстяк и Коля лежали в разных углах, и причем в таких позах, что у бедного ветеринара не возникло никаких сомнений в их смерти. Теперь уж точно ему нужно бежать, но страх, нарастающий с каждой секундой, приковал ноги к полу, а сердце колотилось, как сломанный метроном, то ускоряя, то замедляя ход.
«Значит, все-таки отравил», – не в силах унять этот метроном, наклонился над толстяком Павел Леонидович.
Бледное, покрытое испариной лицо капитана было перекошено и на нем, казалось, навсегда застыла злорадная, предназначенная специально для убийцы усмешка. Погорелов отшатнулся в испуге, но потом все-таки пересилил себя и решил пощупать у убиенного пульс.
– Слава тебе, Господи! – выдохнул он с облегчением, услышав, хотя и слабые, но все же прослушивавшиеся удары.
И в это мгновение из другого конца комнаты неожиданно донесся невнятный голос Колюни:
– Нааачаааальник! А, начальник? Не пора ли нам за четвертым пузырем идти? Теперь твоя очередь!
К величайшему удивлению Павла Леонидовича, толстяк на призыв незамедлительно отозвался, еще более невнятным голосом ответив:
– С-с-сер-ржа-ант К-кол-люня, в-в-выпол-лняйте приказ…
– Э, н-нет, начальник, так дело не пойдет, я уже бегал…
– Уволю на фиг, – еле-еле выдавил из себя толстяк и снова отрубился.
– А кто ж тогда с преступностью бороться будет? – в никуда промямлил Коля и, следуя примеру капитана, тоже отключился.
Павел Леонидович благоразумно начал пятиться к двери, еще несколько раз, как заклинание, повторив про себя: «Слава Богу, слава Богу!» Под руку ему вдруг попалась совершенно пустая миска из-под котлет. Он бесшумно поставил ее на край стола и совсем уж возликовал:
«Ничего, оклемаются, сборщики податей! Перепились и только. Завтра надо будет проведать».
На улице Павел Леонидович вдохнул побольше морозного январского воздуха и заторопился к автобусной остановке. Идти было легко и весело. Задубевшая на морозе сумка почти не тяготила руку, но зато приятно тяготили внутренний карман честно заработанные сто тридцать три тысячи рублей. Хотелось петь, и еще хотелось как можно скорее попасть домой, чтоб поделиться радостью с Верой Сергеевной…
Вспомнив жену, Павел Леонидович вспомнил наконец и о ее поручении, и едва ли не в полный голос рассмеялся:
«Нет, дорогая моя голодающая жена, не будет тебе сегодня маргарина, как пить дать – не будет! Масло сливочное есть заставлю тебя и детей твоих худосочных, голландское первосортное масло!»
* * *
Прошло всего полгода, и Павел Леонидович купил себе малиновый пиджак и золотую печатку с выгравированными на ней инициалами «ПЛП».
«Шестерку» теперь он решил не брать, задумав немного подкопить и приобрести сразу новенькую «десятку» или иномарку-трехлетку. Негоже было ему, в малиновом пиджаке, садиться в отжившую свой век рухлядь.
Собак на свалке и в ее окрестностях оказалось значительно больше, чем Павел Леонидович вначале представлял. Можно было отлавливать их на выбор, приманивая упитанных, и отгоняя подальше, чтоб не путались под ногами, тощих. Старуха и Сыч, которых он встретил в первый день промысла, куда-то бесследно исчезли, оставив после себя небольшой деревянный сарайчик, так что теперь Павлу Леонидовичу уже не приходилось водить собак к себе домой и привлекать излишнее внимание соседей. Вере же Сергеевне, чтоб она случайно чего-либо не заподозрила, он время от времени рассказывал вполне правдоподобную историю о новой работе в иностранной фирме, куда ему якобы удалось устроиться. Она поверила с первого раза, да и как было не поверить, когда дом теперь полная чаша. Но больше всего радовались новой жизни, конечно, дети. Чего только у них нынче не было: и заграничная одежда, и компьютерные игры, и плавательный бассейн два раза в неделю, не говоря уже о «сникерсах», «марсах» и «киндер-сюрпризах». Павел Леонидович даже нанял им воспитательницу, учившую, как и полагалось, подрастающих бизнесменов английскому языку и хорошим манерам. Не обидел он и Веру Сергеевну: подарил ей на день свадьбы любимую ее шубу из густошерстного козла и сапоги фирмы «Салита». Вообще, не жизнь у них пошла, а сказка!
Но чтоб уж совсем все было на уровне, как у всех, Павел Леонидович завел себе любовницу.
«Ведь если сам хорошо живешь, – рассуждал он, – надо и с другими делиться радостью жизни, то есть, отдавая от себя часть, получать взамен еще больше».
Любовницей его была двадцатипятилетняя учительница зоологии Ксюша. Познакомился с ней Павел Леонидович случайно, как обычно это и бывает.
Как-то после очередного рабочего дня решил он побаловать себя пивком. Купил пару бутылок «Посадского», воблу пожирней, и пристроился в тенечке понаслаждаться жизнью. Поначалу вроде бы ничего особенного не замечал, а потом вдруг, глядь, прячется невдалеке за кустом девушка, и довольно-таки симпатичная. Прячется и следит за Павлом Леонидовичем, чуть ли не в рот ему заглядывает. Признаться, Погорелов даже испугался малость, вспоминать принялся, не обидел ли кого, не обсчитал ли, не дай бог, а может, и того хуже, отравил кого-либо ненароком. Подбегает к нему эта самая девчушка и умоляющим голосом просит, чтобы он бутылки из-под пива не выкидывал, а ей отдал. Расчувствовался Павел Леонидович, отдал ей посуду, а потом для форсу купил девчушке в коммерческом ларьке два «сникерса» и бутылку «Амаретто». Та прямо-таки обомлела от таких щедрот. После этого разговор у них завязался как-то сам собою, телефончиками обменялись, ну и так далее.
Спустя несколько дней Ксюша телефончиком воспользовалась и пригласила Павла Леонидовича к себе в гости.
Так и начались их дела амурные. Полюбил Павел Леонидович Ксюшу всей душой и телом, и даже рассказал ей о том, что жена у него есть и двое детей, и что в прошлом он не кто-нибудь, а высококлассный ветеринар. Лишь об одном умолчал – о фарше собачьем, боялся, что не так поймет его Ксюша.
Но случилось, что чуть было не выдал Ксюше свою коммерческую тайну Павел Леонидович. Приходит он к ней как-то раз, и еще с порога чувствует до боли знакомый запашок. Не сдержался Павел Леонидович, вбежал взбешенный к Ксюше на кухню и все котлеты и остатки фарша в помойное ведро выбросил. Запах этот он из тысячи любых других запахов узнал бы, родной как-никак, привычный. Но чтобы Ксюша подала собачьи эти котлеты на стол… Ксюша расплакалась горькими слезами, и как ни успокаивал ее Павел Леонидович, все впустую. Скажи да скажи, зачем выбросил такие поджаристые, так вкусно пахнущие и, главное, так дешево купленные котлеты. Пришлось Павлу Леонидовичу проявить невиданную стойкость и мужество.
– Хоть застрели меня, не скажу, – строгим, прямо-таки железным голосом ответил он Ксюше.
Ксюша заплакала еще сильней, но Павел Леонидович выдержал и этот приступ плача. Он быстро оделся и пошел в гастроном, где купил безутешной Ксюше целых два килограмма отборной парной говядины.
Раньше, будучи бедным и несчастным, Павел Леонидович упорно считал, что счастье человеческое вовсе не в деньгах, а в чем-то ином, более нематериальном и возвышенном.
«Все это бред собачий! – восклицал он ныне. – Сытость, обеспеченность – вот главные составные, из которых складывается счастье. Рождается человек на свет, что ему первым делом предлагают? Правильно, грудь материнскую, молоко, а потом уже все остальное. Или, к примеру, не покормите денька три Пушкина Александра Сергеевича, и посмотрите после, чего он вам насочиняет. А дайте ему спустя три дня котлеток говяжьих, бараньих или каких там еще, глядишь, муза тут как тут. Голодный человек сытому и в подметки не годится. Даже Верунчик, мать моих детей, уж какая глупая женщина, а и та духом от сытости воспрянула. Театр посещать стала, музеи, лекции всевозможные. А недавно новое увлечение себе выискала – вступила в клуб вкусной и здоровой пищи „Гурман“. После первого же посещения пришла домой такая взволнованная, румяная…»
Вот с такими жизнеутверждающими мыслями возвратился Павел Леонидович с «работы» домой. На пороге, как у них теперь завелось, его встретила улыбающаяся Вера Сергеевна и, поцеловав уставшего кормильца в располневшие щечки, весело пролепетала:
– Ну, наконец-то! Заждалась я тебя. Раздевайся, Пашенька, мой руки и садись ужинать.
– А что у нас сегодня на ужин? – по-хозяйски поинтересовался Павел Леонидович.
– Твое любимое блюдо – тушеная картошка с мясом и грибами.
«Как же хорошо, черт возьми, когда у тебя есть любимое блюдо, и ты в любой момент можешь его попробовать», – поглаживая недавно появившийся животик, порадовался Павел Леонидович, а вслух произнес:
– Молодец, жена. А дети-то накормлены?
– Накормлены, а как же, сидят, вон, у компьютера, за уши не оттащишь!
– Ничего, пусть развиваются. Говорят, это полезно. Вся Америка в компьютерные игры играет. Нам отставать негоже.
– Ой, Паш, не скажи, я такое про эти компьютеры слышала! Говорят, есть в них какие-то вирусы, так прямо и называются – компьютерные вирусы!
– Ну и что? – усаживаясь за стол, отвлеченно спросил Павел Леонидович.
– Как – «что»?! А детям они передаться не могут?
– О боже! – воскликнул Павел Леонидович. – Какой ты была дурой…
Вполне «научный» их разговор о компьютерах, возможно, еще и продолжился бы, но тут зазвонил телефон.
– Кто это там еще? – пережевывая с особым старанием кусок говядины, поинтересовался Павел Леонидович.
– Не знаю, – защебетала Вера Сергеевна. – Разве что Полиглотов Поликарп Лаврентьевич.
– Что еще за Поликарп?
– Ну я же тебе говорила, Паш, директор клуба «Гурман», классный мужик такой… Алло! Да, да, это я, Поликарп Лаврентьевич. Спасибо, хорошо себя чувствую. Нет, не забыла. Значит, завтра к семи… Поняла, да-да, обязательно буду. Спасибо, что позвонили, до встречи.
– Ну и чего он говорит, этот, как его, полиглот Лаврентьевич?
– В общем, так, Пашенька, – воодушевленно затараторила Вера Сергеевна, – завтра в семь сбор…
– Сбор чего? – решил подколоть жену Павел Леонидович.
– Я же серьезно, – сделала вид, что обижается, та. – Будем новое блюдо изучать. Говорят, рецепт его хранится уже две с половиной тысячи лет в строжайшей тайне. А передается из поколения в поколение старейшинами племени лабинак, обитающего на одном из островов близ Австралии. Представь, как это далеко, Пашечка!
– Ну-ну, – только и успел вставить Павел Леонидович, принимаясь за вишневый компот.
– И вот, Поликарп Лаврентьевич специально оттуда на деньги клуба пригласил одного из старейшин, чтоб тот собственноручно приготовил его для нас. Мне даже не верится, что я его попробую.
Павел Леонидович, справившись со своим говяже-вишневым ужином, закурил толстую пахучую сигару и, поддерживая интерес жены, великодушно заметил:
– Отчего ж не попробовать? Дело хорошее, доброе, только смотри у меня, не переедай, а то, я вижу, ты уже полнеть начала, того и гляди, совсем растолстеешь.
– Не беспокойся, Пашенька, – прильнула к нему Вера Сергеевна, – я только маленький кусочек…
* * *
Будильник, как всегда, разбудил Павла Леонидовича в половине пятого утра. За окном уже галдели вороны, словно поторапливая его: пора, пора. И хотя такой ранний подъем давно вошел у Погорелова в привычку, но вылезать из теплой постели все равно не хотелось.
«Все-таки устал я за эти полгода, как собака, – ежась под одеялом, пожалел сам себя Павел Леонидович. – Надо бы отпуск взять, да махнуть на Багамы, что ли, поплавать, позагорать, отдохнуть от псов этих вонючих».
Но жалей, не жалей, а вставать надо, работа есть работа.
Июньская утренняя прохлада приятно взбодрила Павла Леонидовича. Ему вдруг вспомнились далекие годы юности, когда он, молодой ветеринар, еще не успевший хлебнуть лиха, точно таким же утром отправлялся, как на праздник, в свой ветеринарный пункт лечить больных животных. Здорово было, черт возьми!
«Впрочем, и сейчас не хуже, – прервал непрошеные свои воспоминания Павел Леонидович. – Собачки, слава Богу, еще не перевелись, а здоровые они или не очень – это уже не наша забота».
На свалку сегодня Павлу Леонидовичу идти не довелось. Еще на полпути встретился ему довольно-таки упитанный пес, и Погорелов удачно его заарканил.
– Ну что, бездомный, бродишь все, – укорил его Павел Леонидович, доставая из сумки большой кусок сырого собачьего мяса. – Ешь, ешь, больше уже не придется.
Пес, обнюхав дармовой завтрак, каким-то странным, почти не собачьим взглядом окинул своего будущего убийцу, но мясо, в конце концов, все-таки съел.
– То-то же! – одобрил его поведение Погорелов и, опьяненный свежим, чистым утром, присел на стоявшую неподалеку скамейку.
Мельком взглянув на часы, он решил, что на таком свежем и озонном воздухе не грех, пожалуй, и вздремнуть. Павел Леонидович покрепче привязал к лавке пса, надвинул на нос кепку и блаженно развалился на скамейке.
Но долго блаженствовать ему не пришлось. Вдруг совсем рядом раздался низкий мужской голос:
– Все спим?! Вставайте, принц, вас ждут большие дела!
Павел Леонидович поочередно открыл глаза и увидел перед собой высокого, довольно стройного мужчину лет пятидесяти. Незнакомец был во всем черном, и только поседевшие волосы, собранные в конский хвост, привносили что-то светлое в его облик. В руке мужчина сжимал длинную деревянную трость, а в левом ухе у него болталась стальная серьга размером с обручальное кольцо.
– В чем дело, черт возьми?! – раздраженно произнес Павел Леонидович, поправляя кепку.
– Во-первых, дорогой мой, никогда не чертыхайтесь всуе, – улыбнулся, присев рядом, незнакомец. – А во-вторых, знаете ли вы, кто я такой?
– Да какое мне дело, кто вы! – еще больше рассердился Павел Леонидович.
– Ну, зачем же так грубо? Я совсем не хотел вас обидеть, а даже напротив… Согласитесь, странно видеть в пять часов утра человека, полулежащего с едва прикрытыми глазами на лавке, которого сторожит бездомная собака. Вдруг вам плохо или что-то в этом роде. А народ сейчас, сами знаете, какой – черств и глух к чужому горю.
– Спасибо, конечно, – смягчился немного Павел Леонидович, – но со мной все в порядке, просто я решил немного вздремнуть на свежем воздухе.
– Вот и славненько, а я уж бог весть что подумал. Простите за назойливость, а как вас зовут?
– Павел Леонидович. А что?
– Ага… – как-то загадочно протянул незнакомец. – А меня… впрочем, это не столь важно…
– Как это – неважно?! – возмутился Павел Леонидович. – Я вам тут весь, как на тарелочке, а вы мне – «не важно». Давайте, выкладывайте, кто вы такой, а не то…
– Успокойтесь, дорогой вы мой, – ласково перебил его человек в черном. – Ну, зовите меня, к примеру, Ксенофонтием Прохоровичем для начала, а потом видно будет.
– Странное имя-то у вас какое, пока выговоришь, с ума сойдешь. У моей жены тоже знакомый завелся – Поликарп Лаврентьевич, так я его имя едва выговариваю.
– Вот видите, – засмущался незнакомец, – а еще спрашиваете, почему я не назвался. Засмеете, думал… Правда, имя мое хоть и странное немного по нынешним временам, но вполне благородного происхождения.
– Это еще надо проверить! – опять вспылил Павел Леонидович.
– Да не бойтесь вы, дорогой мой, не проходимец я какой-нибудь, не убийца с большой дороги. Я, знаете ли, тоже люблю подышать с утра свежим воздухом. Это так успокаивает нервы, очищает душу от накопленной злости. Вы не находите?
– Мне как-то все равно, – позевывая, ответил Павел Леонидович, – хотя, может, вы и правы. Есть в этом что-то…
– Конечно, есть, – задумчиво произнес незнакомец, откручивая верхнюю часть трости. – Человек и природа – единое целое. Кстати, а вы пьете по утрам коньяк?
– Слава Богу, до этого еще не дошел, – с удвоенным подозрением посмотрел на Ксенофонтия Прохоровича бывший ветеринар.
– А зря! В этом тоже кое-что есть. Очень даже бодрит с утречка. Может, выпьете за компанию? – предложил Ксенофонтий, наливая из большей части трости в меньшую.
Павел Леонидович из праздного любопытства проследил за подозрительными манипуляциями приставучего своего собеседника, а потом вдруг неожиданно для самого себя произнес:
– А что, и выпью!
– Вот и правильно, – широко улыбнулся Ксенофонтий и протянул Павлу Леонидовичу верхушку трости.
Коньяк пришелся бывшему ветеринару по вкусу: аромат у него был прямо-таки какой-то необыкновенный, заграничный, должно быть. Павел Леонидович подумал, подумал и попросил еще.
– С удовольствием, – тут же откликнулся Ксенофонтий, но потом, сокрушаясь, добавил: – Вообще, в эту трость только двести граммов входит. Может, зашли бы ко мне в гости? У меня там целая бутылка стоит, да и такой закуски, уверяю вас, вы нигде не отведаете. Так что, милости прошу, тем более, что сегодня такой праздник!
– Что еще за праздник? – удивился Погорелов, что-то не припоминая, чтоб на календаре нынешний день был помечен красным.
– День моего рождения, – уведомил его Ксенофонтий. – Вот уже целый час, как мне семьдесят лет стукнуло. Я с утра пораньше родился.
– Ни за чтобы не дал! Полтинник, не больше. Поздравляю!
– Спасибо за комплимент. Вы первый, кто меня сегодня поздравил. Ну, так как – идем? Я тут недалеко живу.
– Вообще, конечно, все это немного странно, – еще раз засомневался Павел Леонидович, – но ради такого случая, пожалуй, и выпить не грех. Пойдемте.
Квартира Ксенофонтия Прохоровича несколько разочаровала Павла Леонидовича. Однокомнатная, в обычном панельном доме, к тому же и убого обставленная, она не произвела на него ровно никакого впечатления.
– Не обращайте внимания, мой дорогой, на серость и простоту этого жилища, – заметил его недоумение Ксенофонтий. – Я специально снимаю подобные «клетки» для некоторых своих мероприятий. Располагайтесь, сейчас подадут отменный армянский коньяк и закуски.
– Честно говоря, съел бы чего-нибудь, – усаживаясь в кресло, сказал Павел Леонидович.
– Вот и прекрасно, – тихо, словно самому себе, проговорил хозяин квартиры и, подойдя к телефону, набрал номер из трех цифр. – Том, у меня гость, приготовьте поскорее что-нибудь закусить, желательно из заливных блюд. И не забудьте захватить с собой Джерри. Я жду.
– Что же это, у вас и слуги есть?! – занервничал Павел Леонидович.
– Да какие там к черту слуги! Шестерки несчастные. Подобрал, считай, на дороге. Одного Томом назвал, другого – Джерри, как в мультфильме. Болваны оба отпетые, да вы сами сейчас увидите. Не беспокойтесь, давайте лучше виски выпьем. У меня есть прекрасное шотландское виски, – торжественно провозгласил Ксенофонтий, извлекая из серванта замысловатую фигурную бутылку.
– Виски так виски, – согласился и с этим Павел Леонидович. – Долгих вам лет жизни…
– Простите, это вы о чем? – почему-то смутился хозяин.
– Ну, вы же сами говорили, что у вас сегодня день рождения, семьдесят лет, – опешил Павел Леонидович.
– Ах, да! – опомнился Ксенофонтий. – Совсем запамятовал, склероз, знаете ли. Действительно, мне семьдесят лет, так что пейте на здоровье.
– А вы? – растерялся Павел Леонидович.
– И я, мой друг, и я, конечно же, выпью…
Пока хозяин и гость поглощали виски, кто-то пронзительно позвонил в дверь.
– Так звонить может только Джерри, коротконогий плебей, – немного нервничая, произнес Ксенофонтий и пошел открывать.
А Павел Леонидович тем временем пустился в рассуждения:
«Что-то здесь не так… Ксенофонтий этот, кажется, с закидонами. То с утра пораньше коньяком поит, виски, домой тащит, то вдруг, нате вам, забыл, что у него сегодня день рождения. Может, псих какой?»
– Знакомьтесь, – прервал опасные догадки Павла Леонидовича гостеприимный хозяин. – Этот, что пониже, Джерри, а верзила с тупой мордой – Том.
– Очень приятно, – в один голос проговорили Павел Леонидович, Том и Джерри.
– Ну, вот и чудненько, – подвел итог их знакомству Ксенофонтий. – Прошу к столу, Павел Леонидович. Уверяю, таких закусок вы не ели еще никогда…
Бывший ветеринар с особым вниманием посмотрел на застывших возле двери Тома и Джерри, но за стол все-таки сел, теперь уже отказываться было неудобно. Ксенофонтий уселся рядом и торжественно приподнял огромный серебряный купол с принесенного слугами блюда. Острая, пронизывающая все тело боль заставила Павла Леонидовича издать пронзительный стон. Потом он, изо всей силы зажав ладонью рот, попытался выйти из-за стола. Так и было отчего! На позолоченном блюде, облитые бледно-желтым соусом, располагались две наголо обритые головы. Поверх соуса они были обрамлены всевозможной зеленью, изо рта у них торчало по ярко-красному яблоку, а из ушей – трубочки для коктейля. Глаза у них были открыты и смотрели в никуда. Павел Леонидович пришел в неописуемый ужас.
– Кто вы, черт возьми?! – еле сдерживая рвоту, прокричал он. – И зачем меня сюда привели?!
Первую часть вопроса Ксенофонтий оставил без внимания, а на вторую ответил:
– Так вы же сами напросились выпить-закусить. Вон и слюнки уже бегут. Кстати, а знаете, как это блюдо называется?
– Мне срочно нужно домой! – неистовствовал, не слушая его, Павел Леонидович. – Где моя собака?
– Собака? Какая еще собака? – деланно усмехнулся Ксенофонтий. – Ах, да… Так вы же ее оставили привязанной к лавке. Правда, она не ваша, тут вы, мягко скажем, заблуждаетесь. Я за вами наблюдал из окна и точно знаю, где и как вы ее подобрали…
– Так вы еще и шпионили за мной, мерзавец?! Да я вас!.. – ревмя ревел Павел Леонидович, собираясь уже бросится на Ксенофонтия.
Но вдруг его взгляд снова скользнул по запеченным головам, и страшная догадка осенила бывшего ветеринара:
– Это же…
– Ну? Ну кто – «это же»? Вы их знали? – с неподдельным интересом спросил Ксенофонтий.
– Людоед хренов, бомжатинкой кормишься! – нарочито громко закричал Павел Леонидович и направился к двери.
– Э нет, мой ненаглядный, – остановил его Ксенофонтий. – Отсюда только один выход – через канализационную трубу. Так что пейте коньяк и будьте паинькой. Том, Джерри, проследите, чтоб дорогой наш гость не наделал глупостей, а я немного подремлю, у меня впереди трудный день.
После этих слов Ксенофонтий прикрыл глаза и, кажется, мгновенно уснул, а у Павла Леонидовича подкосились ноги, и он обессиленно упал в кресло. Почти в то же мгновение Том и Джерри, стоявшие прежде в прихожей, вошли в комнату и уставились тупыми взглядами на бывшего ветеринара.
– Отпустите меня, – пролепетал тот, – у меня жена, двое детей…
Том и Джерри никак не откликнулись на его мольбу, а Ксенофонтий открыл один глаз и, взглянув на трясущиеся руки Павла Леонидовича, тихим, вкрадчивым голосом произнес:
– У вас очень красивая печатка с инициалами. Вам она все равно больше не понадобится, подарите старику…
– Да ради бога, – стал стаскивать с пальца печатку Павел Леонидович, – только отпустите. Ведь мы должны понимать друг друга, как-никак, коллеги…
– Коллеги?! – громогласно расхохотался Ксенофонтий. – Это каким же еще образом, мой сладенький?
– Самым обыкновенным, – обретая кое-какую надежду на спасение, заюлил бывший ветеринар. – Я ведь тоже в определенном роде кулинар, только исходный материал у меня несколько иной…
– Собачий, что ли? – помог ему сделать страшное признание Ксенофонтий. – А я-то думал, чего он пса подзаборного подобрал. Но помочь вам, дорогой мой, ничем не могу. Стало быть, судьба у вас такая – тоже быть съеденным…
– Но я же не собака! – уже едва не плакал Павел Леонидович. – У меня жена, дети, им всего по пять лет…
– У всех дети и жены, – усмехнулся Ксенофонтий и опять закрыл глаза.
– Но я так не хочу! – закричал и действительно заплакал Павел Леонидович.
– А кто хочет? – совсем уже сквозь дрему проговорил Ксенофонтий. – Впрочем, это не так уж и страшно, сами увидите. Том, Джерри…
* * *
Клуб вкусной и здоровой пищи «Гурман» был переполнен. Разношерстная публика, объединенная одним увлечением, громко смеясь, выплясывала какой-то разухабистый, дьявольский танец. Пьяные официанты, пошатываясь, пытались разносить запеченных в тесте поросят отдыхающим от неистовой пляски членам клуба. Поликарп Лаврентьевич, облаченный в темно-синий фрак, с большим букетом темно-красных роз ждал Веру Сергеевну у входа. На его стареющем, но ухоженном лице читалась переполняющая сердце радость грядущей встречи. Он гордо прохаживался по пустующему вестибюлю, поочередно посматривая то на часы, то на свой роскошный букет… И вот, наконец, увешанный седыми бакенбардами швейцар отворил дверь, и она, благоухающая и цветущая, вошла…
– Верунчик, я так ждал вас, – залепетал Поликарп Лаврентьевич. – Вы так прекрасно выглядите, что я едва сдерживаю желание поцеловать вас. Эти розы – вам.
– Я так спешила, так боялась не успеть, – ответно заволновалась Вера Сергеевна.
– Да что вы, милая моя, я готов был ждать хоть до завтрашнего утра, – исполнился нежности Поликарп Лаврентьевич. – Для нас с вами приготовлена в ресторане отдельная кабинка, пойдемте скорей…
По правде говоря, Вера Сергеевна посещала клуб не только из-за вкусной и здоровой пищи. Ей безумно нравился Поликарп Лаврентьевич. Он был для нее – как она сама себе украдкой признавалась – эталоном настоящего мужчины. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, выглядел Поликарп очень молодо и вселял в измотанное прежней жизнью сердце Веры Сергеевны спокойствие и уверенность. К тому же он был человек не бедный и мог выполнить любые ее желания, а то и прихоти, что Вера Сергеевна тоже высоко ценила.
– Садитесь моя дорогая, – трепетал Поликарп Лаврентьевич, – мне хочется раствориться в вашем женском обаянии, ощутить ваше дыхание, навсегда запомнить каждое движение ваших рук, губ, ресниц…
– Как вы прекрасно говорите, Поликарп Лаврентьевич, – смущалась Вера Сергеевна. – Со мной никто еще так не говорил…
– Простите за высокопарность, но вы льете бальзам на мое истерзанное сердце. Давайте выпьем шампанского за нашу грядущую любовь.
– Так уж и любовь, – закокетничала Вера Сергеевна.
– Конечно, любовь! Я как только увидел вас, сразу понял: вот женщина, которую ты искал всю жизнь! Она наполнит твои оставшиеся годы особым смыслом. И поверьте, я говорю искренне. Вы божественно красивы, умны, в вас есть нечто загадочное, нетронутое перипетиями современной жизни, чего не отыщешь в других женщинах.
– Поликарп Лаврентьевич, вы льстите мне. Слышать подобные слова от такого мужчины, как вы, очень приятно. Я теряюсь, тем более, что и мои душа и сердце тянутся к вам с самой первой минуты нашего знакомства, – еле-еле подвела к концу свое объяснение Вера Сергеевна.
Так, обменявшись признаниями, они оба, немного смущенные, подняли бокалы и выпили шипучее, волнующее кровь вино. Потом Поликарп Лаврентьевич подозвал к себе официанта и что-то шепнул ему на ухо. Тот, незаметно улыбнувшись, согласно кивнул и чуть ли не бегом отправился на кухню.
– А теперь сюрприз, моя дорогая! – торжественно объявил хозяин клуба.
– Неужели то самое блюдо? – восхищенно спросила Вера Сергеевна.
– То самое… Такого вы еще не пробовали, любовь моя!
Когда официант внес большой серебряный поднос, накрытый золоченым куполом, Вера Сергеевна, едва сдерживая радость, воскликнула:
– Поликарп Лаврентьевич, милый, открывайте же скорей! Я просто умираю от нетерпения.
Поцеловав мизинчик Веры Сергеевны, Поликарп Лаврентьевич широко, но таинственно улыбнулся и торжественно снял золоченый купол.
– О боже, как вкусно пахнет, – закрыла в истоме на мгновение глаза Вера Сергеевна. – А какая румяная корочка! Ну, давайте, давайте же скорей!
– Не спешите, дорогая моя, – с трудом удержал ее Поликарп Лаврентьевич. – По правилам племени лабинак, перед этим блюдом полагается выпить рюмочку хорошего коньяка. Так что – ваше здоровье!
Вера Сергеевна уговаривать себя не заставила и вслед за Поликарпом Лаврентьевичем выпила рюмку какого-то заграничного, действительно, наверное, хорошего коньяка (она в этом не разбиралась). После этого хозяин клуба умелыми движениями ножа разделил мясо и положил на тарелку Веры Сергеевны.
– Ну, как вам? – с доброй, удовлетворенной улыбкой провожал он каждый проглоченный Верой Сергеевной кусочек.
– Бесподобно! – тайком облизывая губы, ответила Вера Сергеевна. – Я такого действительно еще не пробовала. Не томите меня, Поликарп Лаврентьевич, откройте секрет: что за зверь?!
– Если бы я знал, Верочка, то готовил бы его каждый божий день и на завтрак, и на обед, и на ужин. Увы, все держится в строжайшем секрете. Так что давайте еще коньячку! Ваше здоровье!
– С удовольствием, мой милый Поликарп, – Вера Сергеевна опять пригубила рюмку.
Коньяк так поднял ее настроение, что она уже не могла устоять перед музыкой и шепнула Поликарпу Лаврентьевичу:
– Пойдемте танцевать.
– Вы просто угадали мои мысли! – с готовностью вскочил из-за стола Поликарп Лаврентьевич и подал Вере Сергеевне руку.
Какое непередаваемое счастье испытывала Вера Сергеевна, танцуя с хозяином клуба «Гурман»! Как отрадно ей было осознавать, что его большая теплая ладонь бережно обнимает ее за талию, а вторая страстно и трепетно сжимает руку…
– Если бы вы знали, дорогой Поликарп Лаврентьевич, – совсем опьянев от счастья, шептала она, – как мне хорошо и легко сейчас. Мне даже не верится, что я чья-то жена и мать двоих детей. Я так давно не танцевала…
В ответ Поликарп Лаврентьевич нежно поцеловал ей запястье. И тут Вера Сергеевна заметила у него на безымянном пальце точь-в-точь такую же, как у Павла Леонидовича, золотую печатку. Более того, на ней и инициалы были выгравированы точно такие, как у ее мужа: два «П» и одно «Л», причудливо переплетенные друг с другом. Конечно, это было всего лишь случайное совпадение (Погорелов Павел Леонидович и Полиглотов Поликарп Лаврентьевич), но Вера Сергеевна все равно спросила:
– Откуда у вас эта печатка?
– Нравится? – игриво улыбнулся хозяин клуба «Гурман».
– Да… Но…
– Вы, кажется, остались довольны сегодняшним ужином?
– Довольна, – честно призналась Вера Сергеевна.
– Ну, так о чем же тогда жалеть, моя дорогая?.. Бывшему своему владельцу печатка все равно больше не потребуется…
* * *
Первое воскресенье июля близилось к концу. Кладбищенский сторож Петр был одним из немногих теперь сторожей, считавших своей прямой обязанностью ежевечерний обход могил. По его глубочайшему убеждению, каждый человек, ушедший в мир иной, достоин если уж не доброй памяти, то хотя бы ухоженной могилы. Вот и сегодня, не изменяя однажды заведенному правилу, он огромной березовой метлой выметал скопившийся за день мусор. Петру почему-то всегда казалось, что недавно умершие люди нуждаются в особом внимании и заботе.
Одна из могил занимала его больше всего. С самого первого дня на ней поселилась огромная беспризорная собака. Как ни гнал ее Петр метлой, как ни кричал на нее, а все бестолку. Волей-неволей пришлось смириться. Да, в общем-то, она ничем ему и не мешала, разве что выла иногда тихонько, как будто в могиле лежал ее хозяин. Такое иногда бывает: хозяин умер, и собака поселяется на кладбище, день и ночь скулит и воет на его могиле. Но здесь случай был особый. Петр об этом хозяине все разузнал. Собак он сроду не держал, хотя и работал когда-то ветеринаром. Так что пес был определенно бездомным, бродячим, а зачем выл на чужой могиле, никто Петру объяснить не мог. Поэтому он, подметая каждый вечер территорию, останавливался возле него и начинал допрашивать и увещевать:
– Что же ты, бедный, сидишь здесь, чего добиваешься? Неужто не уразумеешь собачьими своими мозгами – кладбище тут, похоронное место, а на кладбище, кроме чужой и своей смерти, ждать больше нечего. Покойный ветеринар быть твоим хозяином никак не мог, потому как собак сроду не держал и не любил. Да и кто такую беспородную псину, как ты, в дом возьмет?! Ветеринар был человеком интеллигентным, чувствительным, к тому же, говорят, сердцем страдал, ему и собачки нужны интеллигентные, чтоб не беспокоили. А ты вона какая громадина, от тебя одни болезни и расстройства сил. Ветеринара, конечно, жалко, молодым помер, мне в сыновья годится. О смерти, поди, и не помышлял, думал, рано еще. А оно нет, раз – и покойник уже, похоронный оркестр и все прочее. Но ты не переживай особо, говорят, легко помер, не мучаясь… Сел на лавочке утром, да так и остался на ней сидеть навечно… В общем, приступ сердечный, инфаркт называется, то есть моментом помер. А ты, должно быть, обознался в нем, так что ступай отсюда с богом, может, где настоящего себе хозяина найдешь…
Пес слушал его внимательно, похоже, даже что-то понимал, с чем-то соглашался, но никуда не уходил, а как только наступал вечер, поднимался над могилой и начинал тихо и протяжно выть…
1994Под стук колес…
…Что было после? Что вначале?
Чем осуждающе качали?
Чьим подстаканником венчали
На верхней полке наших грез?
Кто, безутешный, был утешен?
Кто грешный был, а стал безгрешен?
И кто коснулся губ черешен
ПодСтук КоЛес,
ПодСтук КоЛес?…
Вадим ХавинМ-да, телефон определенно следует поменять. Зарядки, без звонков-то, едва на три дня хватает, а с ними и одного не протянет. Шлет и шлет, сука. Как совокупляться с кем ни попадя, черта с два дозвонишься, а тут целый смс-роман. Дрянь.
До отхода поезда минут сорок. С неба немытого дождь нос мочит редкими каплями. Ветерок порывистый часы вокзальные мучает. Надо бы успеть купить воды, сигарет пару пачек, остальное в наличии.
Чего в Турцию не полетел, в октябре-то? Дался мне этот Крым. Откуда он в моей голове взялся? Не понимаю!
Ничего, прорвемся! Путем всё! Полезу на Ай-Петри, буду хлебать «Магарач», жрать липкую пахлаву на пляже, купаться… Хату бы снять путевую, с кондишеном, балконом и без тараканов. Хотя… Нет, все-таки в Турцию надо было. И Сенька Ляпишев звал, покувыркались бы всласть, как в том году.
Ну что опять? Да не буду я тебе перезванивать. Пусть тебе твой примат перезванивает.
Отключаю телефон, бросаю в сумку, иду за водой. Радует малое количество народу на перроне, огорчает мысль о возможности сопливой погоды в Крыму. Раз на раз не приходится.
Когда брал билет, кассирша с приторной улыбкой обещала, что, мол, буду в купе один, без попутчиков. Хотелось бы. А что?! Коньяк у меня есть в загашнике, сервелат, огурцы с помидорами. Сырок из одних дырок. Как разложу. Жахну сто с полтиной и спать. Хотя какой там спать? Таможня в полпятого. За границу ж еду. Тоже мне, размечтался. Ну, ничего…
– Проходим, проходим! Билетики показываем, не ленимся! – сипит дородная проводница неопределенного возраста. – Тааак, купе, молодой человек… (Делает вид, что смотрит мой билет.) Пиво, водка, коньяк, если что…
– Понял, буду иметь в виду, – без энтузиазма почти.
Народу в вагоне негусто. Половина от положенного. Едут ловить за хвост бархатный сезон. И я туда же. До отхода минут пятнадцать. Девица в сиреневых лосинах на перроне терзает проводницу на предмет посадки, жестикулирует. Зачем, спрашивается? Полвагона порожняком. Хрень какая-то. Аа, может, тугриков не хватает на билет? Нет, тоже не то. Топай в плацкартный, дурында. Видать, свои тараканы. Да какое мне дело?
Ну, все, ща тронемся, и прощай, Москва-Сити! А что, все может быть, плаваю я плохо…
– Располагайся пока здесь, а там видно будет! – прокашливается проводница, пропуская в мое купе ту самую безбилетницу. – В Джанкое выходишь, говоришь?
– Да, в Джанкое, – кивает та и со всей дури шмякает чемодан мне на ногу.
– Вы полегче, девушка! – вежливо так.
Зыркает на меня, как ножом режет, жесткач полнейший. Лихо поднимает свободное сиденье и располагает под ним чемодан.
– Извините… – дежурно.
– Ничего, бывает.
– У меня нет.
Ты смотри, какая, с гонором. И где ж таких штампуют? Ну, сколько ей? Тридцатник? Не, чуть меньше. А спеси на весь полташ! Видать, жизнь успела по щам пошлепать. Ничего так, смазливая, хотя, по мне, плосковата будет. Да что я, в самом деле? Вот же…
Ну, наконец-то! Качнуло! Поехали. Тюх, тю-тюх. Все-таки не один. От судьбы не уйдешь. Поплыл перрон, или я, не разберешь! Да черт с ним. С детства люблю в окно смотреть. Всю жизнь бы ехал и зырил на все эти беспонтовые игрушечные домики разной величины. На квадраты огородов. На поля, бескрайность которых подавляет. На реки, озера, мосты, колодцы-журавли. На кой они теперь, колодцы-то? Эх… На случайных прохожих, оказавшихся по непонятным мне причинам подле железки. Что они тут делают? Чего ищут? С лукошками и без. Может, грибы? Так грибы в лесу искать надо! Нет, не понимаю ничего! Вот я, обычный среднестатистический гражданин, никогда не оказывался около железной дороги ни с лукошком, ни без. Почему? Да потому что нечего мне здесь ловить. Нечего, и все тут. А за грибами я в магазин хожу… теперь. Определенно говорю, другой я, и тесто мое человеческое – песочное, а не дрожжевое. Так что люди эти особенные, видимо, и не по пути мне с ними, хоть застрели.
Сейчас что-то около шести, чем душу занять, ума не приложу. Спать рано, жрать тоже рано. Болтать не с кем, хотя, может, и есть с кем, но все это позже, наверное, будет, пока то да сё, раскочегарится. А сейчас сидим, молчим, принимаем вид абсолютной самодостаточности. Такие вот мы, важные. Пойду потравлюсь табаком, хоть какое-то движение…
Тамбур. Дымно. Начало пути вроде, а у пепельницы рот не закрывается. Нервный народ пошел. (Расслабляться не умеем.) Шумно от стука колес, но как-то весело на душе, суетливо. Стою один-одинешенек, дверь в следующий вагон лязгает туда-сюда. Нервишки на прочность испытывает. Ногой ее… Смотрю в окошко замызганное. Хорошо. Деревья, коровы, дети. Стоп– кран тем временем манит к себе, как красный платок – быка. Сорвать бы, обременить других и себя. Что за мысли, что за желания? Летел бы сейчас в самолете в славный город Стамбул, пил шампанское, созерцал закопченные коленки стюардесс. Ну что тут скажешь? Идиот.
Возвращаюсь. Белье раздали. Моя попутчица уже постелила. Бойкая. Поглядывает искоса. Да нормальный я, не боись. Водичку тоже выставила, печенье «Крекер нежный». Сидит, в окошко смотрит. А за окошком Тула во всей красе виднеется. Пряников купить, что ли, чаю надуться? Пойду…
– Вам пряников тульских не надобно? – спрашиваю.
Посмотрела первый раз по-человечьи. Почти улыбнулась. За кошельком потянулась.
– Да ладно, потом сочтемся, – говорю. – Со сгущенкой или с джемом?
– Со сгущенкой, – отвечает, улыбается. – И семечек, если…
Киваю. Семечки это хорошо, в поезде-то. Себе, что ли, взять?
Бабка с коробкой-лотком у самого выхода расселась. На лице гордость за товар заглавными буквами выведена. Эх, кабы ты сама их пекла, старая, цены б тебе не было…
– Мягкие? – нехотя так спрашиваю.
– Сынок, а как же!
– Два с джемом, три со сгущенкой.
Беру двумя пальцами, щупаю заодно. Действительно, мягкие. Приятно, когда не нажухивают.
– Семечки есть?
– И семки, и арахис жареный, пиво, водичка…
– Семечек.
Возвращаюсь в купе. Так же сидит, в окошко смотрит. Нет, определенно, ничего так… Вздрагивает, улыбается, за кошельком лезет:
– Сколько?
– Да нисколько, с женщин денег не беру!
– А я не люблю быть должной! Сколько? И закончим разговор.
– Двадцать.
– Чего врете-то, они по двадцать пять. Я часто здесь проезжаю.
Дает двадцать пять. Беру, что поделать. Вот какая дотошная. Про семечки, видать, и думать забыла. Выкладываю на стол два пакетика.
– А за семечки? – начинает опять свою считалочку.
– В нагрузку дали. Так что ничего не должны. Лускайте на здоровье.
Губки поджала, успокоилась. Сидим, лускаем. Поезд потихоньку пошел-поехал. Что там дальше – Орел? Курск?
– А чего это вы такой добрый? – неожиданно хихикает, не глядя на меня.
Смотрю на нее в профиль. А чего? Даже красивая, курносенькая. И шея длинная, загорелая.
– Нашли, чем доброту мерить.
– А чем ее мерить?
Смеется, ресницами хлопает. Может, заигрывает? Черт разберет их бабьи повадки. Я тем временем в пакет лезу. Не выдерживаю, значит. Достаю коньяка флягу полулитровую, запасы гастрономические. Стелю, полотенце казенное, то, которое вафельное, выкладываю.
– Будь моя воля, коньяком бы мерил. А так даже не знаю. Вы как, девушка, к коньяку относитесь?
С семечкой возится, долго так, видать, крепкая попалась семечка, сама глазки косит на мои яства холостяцкие.
– А вдруг у вас там подмешено что-нибудь усыпляющее. Усыпите бедную девушку, обворуете и…
– Какая вы, однако! – не улыбаюсь уже. – Ну, не хотите, как хотите. Буду один закусывать, раз подозреваете меня.
Сидит, чуть насупившись, не глядит на мой сыр, теперь уже плавленый, в окошко смотрит. Да чего смотреть-то туда? Ты сюда посмотри. Сервелат мой жилистый зацени! Эх, что за народ? Рюмки у меня ценные, под стать фляге, из нержавейки. Купленные специально для такого вот неординарного случая. «Что ж ты, милая, смотришь искоса…» вспоминается… Наливаю, подношу, выдыхаю…
– Ладно, плесните, – говорит. – Что ж с вами делать?..
– Ну, вот это по-нашему! – оживляюсь прям, наливаю полненькую.
– По-вашему, эт по-какому?! Стоп, стоп, стоп, куда столько?
– Как скажете… По-нашему, эт по-нашему, по-мужскому, значит. Ну, давайте, за знакомство! Коля, Николай то есть…
– Вера.
– Вераа?! Вера – это хорошо!
Пьем. Морщимся. Смотрим друг на друга. Гляжу, в своем пакете шарит. Достает яблоки, крупные, зеленые в красную полоску – штрейфлинг, по-моему.
– Закусывайте! – говорит, и сама кусает.
Молчу. Не знаю, что сказать. Может, оттого, что в первый раз в глаза ее посмотрел, да задержался больше положенного. Синие, васильковые, яркие, как небо в Крыму. Даже странно как-то сделалось на душе. Само лицо грубоватое малость, может, от загара, может, само по себе такое. Оттого и глаза заметнее кажутся. Смотрю, как дурак, оторваться не могу. Вот женщины, сила в них иная, магнитная. И что мы против нее?
– Что это вы на меня так уставились? – спрашивает настороженно.
– Не знаю… – смущаюсь; чувствую, уши гореть начинают. – Давайте, может, еще?
Кивает. Рюмочку ноготком отполированным тыкает, пробует на звучность. Наливаю, а сам чую, напрягся весь, оцепенел словно. Да что ж это со мной? Что я, баб в своей жизни не видел? Видел-перевидел, да так, что устать от них, окаянных, успел. Прежняя-то моя сколько гемоглобина попортила?! Никакой гематоген не поправит.
Посмотрела еще раз мельком в глаза мои (думала, не замечу), выдохнула, словно поняла что-то.
– Где трудишься? – в окошко все смотрит.
Как-то обидно этот вопрос для меня прозвучал. Будто от ответа моего зависит, сойдет Земля с орбиты этой ночью или дальше вертеться будет благополучно.
– На рынке, – с опаской так. – Строительном.
– Торгаш, значит! – ухмыльнулась. – А говоришь, «по-мужскому»!
Да, думаю, ушлая бабенка, с понятиями. Сама-то, поди, не в белых перчатках в офисе золотые яйца высиживает. Вот жизнь покатила, всяк норовит оценить друг дружку, да вывод спешный сделать. Ей-богу, как в ломбарде! А домой приползает в пятницу потную, взмыленная от суеты житейской. В пакете пойло копеечное, да обид за пазухой ворох. А обиды те на жизнь свою нескладную, на то, что всё в ней не так, как задумывалось в начале, в том самом, когда «гусиные лапки» еще глаза не старили, да головушка сдачу серебром не выдавала. Сядет на кухоньке шестиметровой, хряпнет из рюмки дежурной, надколотой, сосиской крахмальной с пюрешкой закусит и смолит «элэмку» пополам с соплями да слезами. Выплачется, выговорится самой себе или такой же как сама – бедолажной, непристроенной, на другой день отойдет потихоньку и по новой, трензель в зубы, поскакали… А тут – нет! Тут мы все высокомерием балуемся, потому как знаем, что поутру разойдемся в разные стороны. Навсегда разойдемся.
– Каждому свое. Время такое, непростое… – оправдываюсь все-таки.
– А чем торгуешь?
– Я ж говорю, стройматериалы, ковровые покрытия, много чем.
– Да ты не бери в голову, эт я так. – В глазах еще больше цвета прибавила. – Думала, ты шофер. Не знаю почему.
– Шофер? – отпускает понемногу. – Ну а что, шоферить тоже могу, при надобности. А вы, что ж это, к шоферам неравнодушие имеете?
– Имею! – смеется в полную силу. – Мужчинка безлошадным быть не должен. Странно ты разговариваешь. Деревенский, что ли?
Смотри как, и на «ты» перешла незаметно. Деревенский, деревенский я. По акценту ли вычислила, либо еще как. Десять лет в столице пребываю, а всё распознают мое происхождение. Что ж, я не стыжусь. И жил бы я там у себя под Малоярославцем, коли б жизнь такая бесстыжая не пошла. Жил бы, не тужил. Что мне? Плотничал бы, себе и людям в пользу, или в колхозе тракторы починял. А теперь всё по-иному. Все за рублем в первопрестольную потянулись, как мухи на дерьмо. А дерьмо то, между прочим, деньгами зовется. И никуда от этой правды не деться! Да и по большому-то счету, многие здесь не тутошние. Где они городские-то, коренные? Каждый второй из близлежащей области понаехал. Слово-то какое: «по-на-ехал», вот именно. Теперича тот, кто «понаехал», и про других «понаезжающих» так же рассуждает. По-на-е-ха-ли. Москва вся сплошь и рядом «понаеханная». Калуга, Тверь, Брянск, Рязань – вот она, столичная солянка.
– Ну, было дело когда-то, – смеюсь, – в прошлом веке. А что, к деревенским пренебрежение какое имеете?
– Ну что ты заладил: «имеете, имеете»? Что за лексикон такой? Ничего я не имею. Так, спрашиваю. Надо ж знать, с кем пьешь. Да и сама я тоже не столичная барышня. Ты наливай, чего застыл?
А что мне? Я налью! Уж чего, а этого добра никогда жалко не было.
– За что? – говорю.
– За что, за что! – без промедления. – За нас, гастарбайтеров. Или как нас теперь кличут? Торговля-то процветает? На хлеб с маслом набегает?
– Набегает. Не набегало бы, не торговал бы. А вообще, у меня несколько точек на рынке. Вроде как бизнес…
Не пьет. Медлит.
– Так ты, мужик, буржуй, значит? – смеется опять. – Тогда получается, и на икорку перепадает?
– Да какой из меня буржуй? Буржуй от такой работенки удавится через три дня, тоже мне, нашли слово! А на икорку, как вы говорите, перепадает, только мазать ее на то самое маслице сил нет.
Выпили по третьей. Снова молчим. Вроде коньяк действовать обязан, а не действует. Не расслабляет. Стена будто между нами полиуретановая стоит. Сам как дурак голову к окну отвернул и смотрю туда. Да еще как смотрю! Внимательно. Как будто явный интерес имею к творящемуся за окном. Волнуюсь на самом деле. Дыхание ее до меня долетает вместе с запахом духов. Что прикажете в таких случаях делать? Пить, наверное! Дальше пить. Но мы не пьем.
– Покурю схожу, – говорит.
Киваю разрешительно. Наливаю невзначай, а что еще делать? Пить одному, при наличии собутыльника, конечно, дело последнее, но тут вроде как в кассу. И полегчало же! Сижу один в купе, облокотившись о подушку без наволочки, и чувствую: сон меня срубает. Нет, спать нельзя сейчас, придет ведь с минуты на минуту. Нет, нельзя, нель…
…Старуха с сиреневыми, спутанными в колтуны волосами высматривает линолеум. Нюхает, на зуб пробует, недовольничает.
– Мне, – говорит, – профессиональный линолеум нужен! Тот, который в аэропортах стелют! Есть у тебя такой?
– Нет, мать, такого нет! – отвечаю каким-то не своим голосом, высоким и протяжным.
– А какой есть? Покрепче мне…
– Смотри, выбирай… Цвет какой нужен? – пою почти.
– Мне цвет неважен! Прочность важна!
– Тогда испанский бери, но он дорогой, – на фальцет срываюсь…
Смотрит прямо в глаза, а у самой вместо зрачков гайки полуторасантиметрового диаметра. Смеется, скалится в ответ на мое удивление. Гляжу, вместо зубов заглушки мебельные, темно-коричневые.
– Режь, – говорит. – Двадцать квадратов мне надобно!
Киваю, отмеряю и режу, прямо ладонью. Она у меня по краю острая, как бритва опасная. Сам удивляюсь, и в то же время радуюсь такому преображению. Здорово, думаю, не нужны мне теперь ножи-то, как Ляпишеву…
Режу, режу, а он все никак не кончается. Бабка торопит меня, злорадно скалит зубы свои коричневые, а те выпадают на асфальт, катятся мне под ноги. А я режу все, режу, понимая, что нет этому линолеуму конца, и не будет. Плачу от тоски внезапной, а бабка смеется все пуще, а потом, прищурившись, говорит:
– Замуж возьмешь меня, тогда и кончится!
А тут и Ляпишев откуда ни возьмись, и вторит старухе: бери, мол, иначе так и будешь резать до самой смерти, без отдыха… А за ним следом продавцы из соседних палаток окружают меня и также без устали:
– Женись на ней, Коля, женись…
Старуха радуется такому обороту дела, прихорашивается. Волосы сиреневые поправляет рукой. Смотрю, а у нее тоже рука по краю заточена. Она себя ненароком по лицу как полоснет, кровь ручьем, а ей хоть бы хны… А продавцы во главе с Ляпишевым: «Женись, Коля, женись…»
– Эй, да что с вами? – слышу откуда-то сверху.
Открываю глаза – сиреневые лосины перед носом… Сморило, должно быть, бывает.
– Долго я спал-то?
– Часа два. – Смеется, успокаивается. – Кричал во сне, руками махал. Привиделось что?
– Да чертовщина какая-то! – говорю, сам на ладонь свою смотрю. Нормально все…
И так роскошно мне вдруг на душе сделалось, что рука у меня человеческая, обычная, а не нож. А коньяка-то еще почти целая фляга. Эх…
И пьем дальше. И как-то все иначе вдруг потекло. Без утайки. Рассказала мне, что квартиру снимает в Свиблово. Теперь вот к матери в Джанкой едет, «бабульки» везет. Потому и уговаривала проводницу плацкарт на купе с доплатой поменять. Про работу, правда, ни слова. Там-то, в Джанкое, с деньгами туго, по ее словам. Не по-детски туго. Я тоже про свое пою складно, про то, как зимой торговать муторно. Да что там… Курить ходим чуть ли не каждые пять минут, и если честно, напиваемся по-взрослому.
В очередной раз стоим в тамбуре, курим. С другого края парень молодой, тоже смолит. Длинноволосый, высокий, не в пример мне, мускулистый. А она все на него поглядывает искоса. Улыбается даже. Да так, что не заметить этого невозможно. Тот в адеквате, реагирует, подмигивает ей, лыбится. А меня вроде как и нет здесь. Вот же бабья натура.
Возвращаемся в купе. Молчу обиженно. А что, кому приятно такое видеть. Замечает, но делает вид, что ей побоку мои обиды. А я все смотрю на нее, специально смотрю, чтобы стыдно ей стало. Хотя сейчас такое время, что людям редко стыдиться приходится за свои проступки, всё оправдать норовят косячки свои.
– Ну что ты на меня уставился! Я девушка свободная, что хочу, то и делаю, и нечего меня здесь стыдить. Бабу свою стыди.
– Понятно, – говорю, – только нет у меня никакой бабы со вчерашнего дня. Потому как все вы теперича ядом распутства пропитаны. Ведете себя при каждом удобном случае, как…
Не договариваю. Стыдно мне девушкам такие словеса выплескивать.
– Ну, что замолчал, договаривай. Как кто?
– Да кто, кто! – не выдерживаю. – Как шлюхи подзаборные! И ты туда же. А еще такая красивая. Только, видать, Бог красотой одарил, а про совесть запамятовал.
И зря же я это… Вдруг чую, не то что-то с ней сделалось после моих слов. Как будто электрошокером шарахнуло. Аж передернуло, смотрю. Отвернулась опять к окну, да так, что и лица не видно. А мне вроде как нормально (под коньяком же), сижу, победой упиваюсь. Думаю, так тебе и надо, с другими будешь свой норов показывать. Минут пять сидим молча, потом голову поворачивает резко, глаза слезами переполнены, губки поджаты, кулачки наготове. Как хряснет кулачком тем по столику. Трах-тарарах! Фляга с коньяком на пол, крекер с сервелатом и сыром перемешался, и теперь уже никакой не нежный.
– А прав ты, мужик. Надо же… В точку плюнул… Шлюха я и есть! Как догадался-то, а? Молодец!
Молчу. Что тут скажешь? А она дальше, как с цепи сорвалась:
– Только там у нас, в Джанкое, наплевать всем, что да откуда. Там кроме дынь и нет-то ничего путного, а зимой так вообще ничего нет. Мертвый сезон. В Москве десятку в день спустить можно легко, а там месяц живешь не тужишь, нормально живешь, по-человечьи. А мне десятку за три часа кувырканий отстегивают. Блядь, расстроил ты меня, паря. Ох, как расстроил.
В одеяло с головой укуталась, отвернулась к стенке и оттуда продолжает сквозь слезы:
– Ты что ж это себе понапридумывал? Думаешь, напоил девку коньяком вонючим, так она и твоя теперь? Нет, Коля-Николай, не твоя! А то, что блядь я, так и это тоже не твоего ума дело, а моего, понял?! Да и кто, по-твоему, руку приложил к моей «профессии»? Ваш брат и приложил. Будь племя ваше козлиное неладно! Я тоже когда-то хорошей девочкой-неваляшечкой была. В куклы до пятнадцати лет играла. А подросла, в столицу нашей Родины учиться поперлась. Самостоятельности захотелось. Дура! С чистым сердцем и всем остальным природным багажом. Врачом мечтала стать. Белый халат, чистота. Думала, папу с мамой лечить буду. Приехала, поступила. С первого раза, причем! В общагу заселилась. Как все, латынь зубрила, анатомию. Да только зубрежка не помогла, потому как Бог невзначай наградил всякого рода выпуклостями и изгибами. И не заметить их, а по юности особенно, никто не мог. И наши профессора похотливые тоже. Зачет ли, экзамен – Верочка, будь добра. Поначалу вежливо так намекали, с улыбочками мармеладными, а потом прямо в лобешник! Мол, давай, и все! А мне что? Ехать обратно? Стыдно-то по малолетству! Гордость душит. А ты говоришь… Была б постарше, послала бы это гребаное заведение к черту сразу. А тут что? Мозги девичьи, куриные. Терпела, надеялась. Жалела их даже, вроде как плюгавенькие, старенькие, и ничего-то у них в жизни не происходит… Этому дала, этому дала, по доброте душевной, прям как в сказке. Потом, только курсе на втором, дошло, что чем-то не тем занимаюсь, и что на хер мне высшее образование такой ценой. Забрала документы и с горя прямиком на Кутузовский – «плечевой», потом по барам, клубам ночным. Девушкой по вызову тоже пришлось. Сейчас бизнес сутенеры подладили, апартаменты… Короче, думала, если меня посчитали шлюхой, то такой мне и быть, значит. Так что язык свой поганый засунь знаешь куда! Да и сам-то ты кто? Торгаш сраный, барыга. Знаешь, что люди авторитетные про вас говорят? Нелюди вы! Сами ни хрена не умеете, чужой труд втридорога продаете. Много ли ума надо? Я-то своим, Коля, торгую! А ты чьим? То-то!
Слушаю, а сам думаю: вот и начался твой отдых, Коля, качественный и полноценный. Девушки, коньяк, удобства, все как мечтал.
– Ладно, повздорили и хватит, – говорю, в пол глядя. – Прости, если обидел. Понравилась ты мне, вот и приревновал малость. Виноват – исправлюсь. За веником схожу…
Стучусь к проводнице. Минуты через две открывает. Пьяненькая тоже.
– Что хотели, молодой человек?
– Веник и совок.
Оценивающе окидывает взглядом. Ухмыляется чему-то, указывает на угол:
– Бери! Сам справишься, или помочь?
– Сам.
Прихожу. Сидит, в зеркальце смотрит дамское, тушь растекшуюся ваткой вытирает.
– И чем же? – говорит, не отрывая глаз от зеркальца, как будто ничего и не было.
– Что «чем»? – не понимаю.
– Чем понравилась-то?
– Глаза синие у тебя. Вот чем! – заметаю крекер с сыром.
– Дурачок, это ж линзы! – смеётся.
– Плевать. Все равно нравишься.
– Бывает.
– У меня нет.
Вдруг перестала красоту наводить, зеркальце бросила на стол и смотрит в упор на меня. Привык я к улыбке ее, видать, за семь часов езды, и тут прямо остолбенел от этакого серьезного взгляда. И лицо ее показалось в этот миг таким родным, близким, что захотелось непременно дотронуться до него, поцеловать. Сам собою выпал из рук веник, а потом и совок, и вот лицо мое уже около ее лица. Близко, безнадежно близко. Касаюсь ее щек едва губами, стираю поцелуями оставшиеся слезы. Соленые они и родные как будто. И так больно мне внутри и в то же время радостно и сладко, что сам почти плачу. И случилось то, что, наверное, должно было случиться. И не было нам обоим стыдно за это случившееся.
Лежим вдвоем на нижней полке в обнимку. Гладит лицо мое небритое ладошкой нежно, но как-то настойчиво, как будто на ощупь пытается через это понять, узнать меня. Целует мой подбородок бережно, словно это что-то ее личное, только ей понятное и приятное. Я отзываюсь, пытаясь поцеловать ее, она улыбается, и редкие капельки ее слез все падают мне на губы и щеки.
– Что с тобой? – говорю. – Зачем?
– Ничего, это я так…
«Так». Понять бы это «так».
– Я ведь, знаешь, обычная женщина, – говорит, – и мечты мои самые обычные, приземленные. Нет в них ничего запредельного. Все просто. Мужа, к примеру, хочу доброго, светлого, чтобы смотреть на него и тянуться, как листочки апрельские к солнышку. И чиститься под этим солнышком, оттаивать от нелюбви потихонечку. Я б ему ребенка родила, а то и двоих. Дети – это ведь счастье, правда? И не нужен мне какой-то там богач, олигарх или, как сейчас любят говорить, состоятельный. Мне, Коля, человек нужен. Че-ло-век, понимаешь? И кабы нашелся такой, так всю жизнь прошлую свою оставила бы в прошлом и Бога бы молила, чтоб простил мне мое беспутство и распутство. И знаю, что простил бы. Я бы так молилась, что простил бы. Эх, Коля…
Плачет опять. Навзрыд. Ну что я тут могу? Как мне ее утешить, и надо ли? Может, лучше ей от этого, кто знает?
– Вот, говоришь, понравилась я тебе. Сказал бы ты это годков пять-семь назад, пропустила бы мимо ушей. Ухмыльнулась бы, пошла, задрав нос кверху. А сейчас слова такие для меня самые желанные, самые нужные, самые честные. Я за такие слова, Коленька, на все готова, потому как не слышала их от нормальных, обычных людей никогда. Говорили, конечно – клиенты, – но, сам понимаешь, с другим смыслом. Тошнит меня от этого смысла, наизнанку выворачивает. Прости меня за то, что душу тебе здесь изливаю. Некому больше. А ты хороший, я сразу поняла…
Вот что это? Как к таким словам приспособиться? Смотрю на нее, чувствую тепло ее, искренность ее чувствую, и хочется верить. Да так, чтобы видеть в ней только доброе, и во всем мире это же видеть. Нестерпимо хочется. А после забрать ее с собой, навсегда забрать и не отдавать никому. Спрятать от всего мира, чтобы отдышалась.
С другой же стороны, червячок сомнения копошится в мозгу и тоже покоя не дает. Ведь кто она? Ты знаешь, Коля, кто, и о прошлой жизни ее догадываешься. Фантазируешь напропалую. И все это на фоне неудачной собственной личной жизни. Ведь целых два года жил со своей, не тужил. Вернее, думал, что не тужил. Жениться хотел. В ювелирный захаживал с гордым видом. Колечки обручальные присматривал. А она, бац, и все твои светлые помыслы в шелуху превратила. И было бы с кем… Как с такими мыслями покой обрести и научиться заново людям верить? А ведь верить надобно, иначе нельзя, иначе жизнь не жизнь, а жалкая пародия.
– А пошла б за меня? – тихо так, с опаской.
– Пошла бы…
– А то, что я торгаш, ничего? Сама говорила.
– Плевать. Пошла бы…
…Тяжелый стук в дверь купе, неожиданный яркий свет, и все тот же сиплый голос проводницы будит нас:
– Миграционные карты заполняем. Белгород через сорок минут.
Заполняю спросонок, ей не надо. Вот такие мы теперь, граждане разных государств. Странно, если честно.
Два часа в ожидании. Все, как обычно. Милиция, таможня. Российская, украинская. Слава Богу, без особых придирок и лишних расспросов. По прошествии всех необходимых «процедур», улыбаясь, переглядываемся и засыпаем. Помню, где-то под утро поцеловала меня и перебралась на свое спальное место.
Голос проводницы будит резко и грубо:
– Эй, вы там, Симферополь через пятнадцать минут. Ну, дают же люди.
– Понял, понял, встаю…
Поднимаюсь. Веры нет. Нижнее место поднято. На столике записка: «Если не передумаешь, звони, жду, люблю. Вера» – и телефон.
Выхожу на перрон неумытый, сонный. От собственного перегара тошнит. Во рту Сахара. Солнце крымское безжалостно бьет по глазам. Стою как дурак с чемоданом, пакетом и прощальным листком от Веры. Губы сами собой повторяют ее строки: « Жду, люблю, люблю, жду!» С похмелья все кажется какой-то не очень доброй сказкой. Хочется все забыть и послать к черту. Так бы и сделал, наверное, но неожиданный ветерок вырывает у меня из руки бумажку с номером телефона. И уносит ее куда-то вверх на высоту электропроводов, потом бросает вниз на асфальт, пудрит ее со всех сторон летней пылью и так несколько раз. Что-то находит на меня, и я слежу за этой летящей бумажкой, а спустя полминуты, опомнившись будто, бегу за ней. А она летит к пригородным электричкам. Прилипает к окну одной из них. Я за ней. Подбегаю, чуть не сбивая с ног прохожих, и вот моя рука почти хватает заветную бумаженцию. Но ветер куда хитрее, отрывает от оконного стекла и уносит к другой электричке. Бегу… Наконец-то бумажка находит пристанище в пустом тамбуре одного из вагонов. Ветер знает свое дело. Захожу туда, беру с облегчением. Радуюсь, как мальчишка. С довольным видом кладу в карман и думаю пойти к ялтинскому троллейбусу. Но происходит неожиданное. Двери электрички закрываются и состав трогается.
– Куда едем-то? – кричу сам себе. – Кудаа?
Беспризорный мальчишка лет десяти с обшарпанной зеленой двухрядкой удивленно смотрит на меня. Потом едко усмехается и отвечает:
– Куда, куда! В Джанкой, куда еще…
– В Джанкой? – переспрашиваю я.
– В Джанкой, в Джанкой…
Смерть одинокого человека
Когда я спросил у бабы Тони, самой старой обитательницы нашей коммуналки, о новом жильце, которого никто из нас, кроме нее, еще и в глаза не видел, она заворчала и даже толкнула дверь его пустующей комнаты ногой:
– Этот, что ли? Милиционер?
– А он разве милиционер? – не очень доверяя бабе Тоне, насторожился я. Только милиционеров нам и не хватало.
– Говорят, милиционер, – еще больше рассердилась баба Тоня (она всегда и на всех за что-нибудь да сердилась и негодовала по любому поводу). – Но настоящий или бывший – пока неизвестно.
– А почему не переезжает?
– Да бог его знает…
– Пьет?
– В этом доме все пьют, – отрезала баба Тоня, причисляя и меня к злостным пьяницам.
Пришлось мне согласиться с этим почетным званием: спорить с бабой Тоней совершенно бесполезно – последнее слово всегда остается за ней.
Появился новый жилец месяца через полтора. Он перевез в одиннадцатиметровую свою комнату стол, пару стульев, да несколько узлов с бельем и кое-какими вещами. Мы стали потихоньку приглядываться к нему и привыкать. Это был коренастый мужчина средних лет, с редкой козлиной порослью на подбородке. К тому же еще и изрядно полысевший. Куцая эта бороденка внушала мне некоторое сомнение по поводу его принадлежности к милиции. Мент с бородой в мои обширные представления о сотрудниках МВД явно не вписывался.
Вскоре, правда, это наивное мое предубеждение рассеялось. Новому жильцу целыми пачками приходили служебные письма и бандероли с уведомлением, о чем нам немедленно доложила баба Тоня. Фамилию жильца я теперь уже забыл (кажется, она была украинской и заканчивалась на «о»), а вот имя помню. Звали его Сашей. В милицию Саша, скорее всего, пошел в молодые годы лишь затем, чтоб перебраться из какого-нибудь украинского городка, а то и деревни в столицу. Подобных ментов в Москве хоть отбавляй.
У Саши оказалось множество всякого рода увлечений и пристрастий. Возле его комнаты лежали футбольные мячи, теннисные ракетки, гири и гирьки, самодельная штанга, банная шапка, березовый веник, рыбацкий ящичек-сиденье, охотничьи грязно-зеленого цвета сапоги с высоченными голенищами, плащ-палатка и многое другое. Баба Тоня, глядя на Сашино богатство, которое мешало ей бродить по коридору, опять ворчала и грозилась все повыбросить: «Разложился тут…»
А у меня на этот счет было иное мнение. Во-первых, натыкаясь на кухне на приходившие Саше письма и невольно прочитывая обратные адреса, я видел, что у него есть не только сослуживцы (или бывшие сослуживцы из милиционеров), но и просто хорошие, похоже, боевые друзья-товарищи. Они не забывают его, ценят за это боевое прошлое, о подробностях которого я мог только догадываться. А во-вторых, думалось мне, при нормальном жизненном раскладе: наличии семьи и более-менее сносной отдельной квартиры – Саша обязательно стал бы прекрасным мужем и заботливым отцом. Но расспрашивать его о прошлой жизни я не решался, да и зачем она мне нужна. Я был тогда еще безнадежно молод и, по правде говоря, меня не очень-то и интересовала чья-либо чужая жизнь. Все люди, перешагнувшие сорокалетний рубеж, казались мне неудачниками и аутсайдерами. Было в них, по моим юношеским представлениям, что-то от холотропно дышащей, только что пойманной рыбы. Менты же вообще будили в моем сознании одни лишь негативные эмоции. Я считал, что душевная чистота, честность, сострадание к ближнему в них напрочь отсутствуют. Более того, я был совершенно согласен с циничной современной поговоркой: «Хороший мент – мертвый мент!» К Саше я относился примерно так же, хотя мне он ничего плохого и не сделал…
Обретался в нашей коммуналке еще один сосед, Пантелей Романович, тучный старик лет семидесяти, действительно любящий хорошо выпить и еще лучше закусить (часто за наш с бабой Тоней счет, беззастенчиво заимствуя у нас котлеты, колбасу или любую иную еду, которая попадалась ему под руку). Для краткости и удобства общения мы называли его просто Пантелеем. Выпив рюмку-другую, Пантелей задевал каждого встречного-поперечного, любил побеседовать с ним на философско-житейские темы.
Сашу он, правда, в глаза предусмотрительно не трогал. Судя по всему, как все пьяницы, побаивался милицейского его звания. Но за глаза творил ему всякие мелкие пакости. То возьмет без разрешения гирю или футбольный мяч и после неделями не возвращает, то вдруг нарядится в Сашины болотные сапоги и плащ-палатку и в таком виде демонстративно разгуливает по двору, то, ерничая, называет Сашу в разговоре со мной и бабой Тоней «гражданином начальником».
Саша переносил мелкие эти пакости Пантелея спокойно, ни разу не вступил с ним в пререкания, чем, кажется, сильно разочаровал Пантелея. Вскоре Саша оформил пенсию и стал искать себе работу охранника или что-либо в подобном роде. Но у него вначале ничего не получалось: в одном учреждении-офисе ему говорили, что он не подходит по возрасту (это всего-то в сорок четыре года!), в другом отказывали из-за его боевого прошлого – дескать, все «афганцы» и «чеченцы» психи, и с ними лучше не связываться, третье место не устраивало самого Сашу – слишком маленькая зарплата, и ездить на службу надо через всю Москву. Любой иной отставник плюнул бы на все и припеваючи жил на военно-милицейскую свою пенсию. Но Саша был мужиком упрямым: он целыми днями оккупировал наш общий коммунальный телефон, и в конце концов у него все срослось. На работу Саша устроился, и, кажется, очень удачно. Баба Тоня, рьяно следившая за порядком в квартире, расходом моющих средств и туалетной бумаги, немедленно откликнулась на это:
– Пенсия у него в два раза больше моей, зарплата – двадцать пять тысяч (откуда только и узнала?!), а на туалетную бумагу три рубля жалко.
Пантелей тоже не преминул укорить Сашу своим излюбленным философско-содержательным замечанием:
– Гражданин начальник – ему все можно…
Я же предпочел отмолчаться. С Сашей мы почти не общались, поздороваемся утром на кухне – и все разговоры. Лишь однажды перед Новым годом Саша, будучи заметно навеселе, подошел ко мне во дворе дома и, хорошо зная мое увлечение игрой на гитаре, добродушно спросил:
– Ну, как она, жизнь молодая? Играешь?
– Нормально. Играю… – не проявляя особого интереса к его вопросу, ответил я и пошел по своим делам.
А Саша остался стоять возле подъезда. Моя холодность обидно задела его. Он, кажется, хотел выпить со мной и поговорить по душам «за жизнь», но я был в тот момент трезв, как стеклышко, и не расположен к подобным разговорам.
Так мы и жили в развеселой нашей коммуналке, вроде все вместе, под одной крышей, но в то же время – и каждый по отдельности. И вдруг я стал замечать, что по утрам из туалета доносятся громогласные хрипы и стоны, что там кого-то немилосердно тошнит, выворачивает все внутренности. Подобные вещи могли происходить либо с человеком, сильно страдающим от какой-нибудь желудочной болезни (застарелой язвы или гастрита), либо с большим любителем выпивки, который вчера слишком «перебрал» и теперь мучается жестоким похмельем. Я сам по молодости не раз «перебирал» все мыслимые и немыслимые нормы и хорошо знаю, что это такое.
Поначалу я подумал на Пантелея. Во-первых, он выпить не дурак, а, во-вторых, кто-то подсказал старику, что лечиться от избыточного веса можно очистительными клизмами. Пантелей со всем энтузиазмом и занялся этими процедурами, забрызгивая после них туалет таким ядовитым дезодорантом или жидкостью для травли тараканов, что переносить их зловоние было во сто крат труднее, чем любые иные туалетные запахи.
Но вскоре выяснилось, что Пантелей здесь ни при чем. По утрам в туалете болезненно, часто до потери сознания, тошнило Сашу. Это были первые звоночки и колокольчики, которыми напоминала о себе какая-то давняя запущенная им болезнь…
* * *
Как Саша от нее лечился, я, к сожалению, не узнал. Вскоре я женился и переехал на квартиру к жене, а свою комнату сдал двум знакомым студентам. В коммуналке я появлялся теперь очень редко, лишь затем, чтоб узнать, все ли там в порядке, и не слишком ли студенты досаждают бабе Тоне и Пантелею.
Во время одной из таких «проверочных» поездок я возле подъезда нашего дома столкнулся с Сашей. Судя по всему, он возвращался с зимней подледной рыбалки (на плече у него висел походный рыбацкий ящичек). Шел Саша, тяжело дыша, покачиваясь, словно пьяный, из стороны в сторону. Похоже, колокольчики его звонили все сильней и сильней…
Мы с ним молча кивнули друг другу, но не остановились и не заговорили, оба прекрасно понимая, что говорить нам не о чем: я – молод и здоров, наслаждаюсь семейной медовой жизнью, а он – смертельно болен…
Несколько месяцев после этой случайной встречи с Сашей я опять не появлялся в коммуналке. А когда однажды заглянул, студенты рассказали мне, что Сашу навещает какая-то женщина из нашего же дома. Она ухаживает за ним, моет полы не только у Саши в комнате, но и во всей квартире, готовит ему обед. Но Саша почти ничего не ест, он сильно исхудал, козлиная его бороденка совсем поредела и заострилась, проплешина на голове превратилась в настоящую лысину, обнажив туго обтянутый посиневшей кожей череп. Но больше всего студентов удивляло то, что при таком предельном истощении у Саши вырос громадный живот. По прежней своей жизни (и армейской, и послеармейской, когда я скитался по Москве в поисках пристанища) я был немного знаком с медициной и догадался, какая болезнь мучает Сашу. Скорее всего, у него асцит, брюшная водянка, и спасения от нее нет…
Сашу в тот день дома я не застал. Студенты сказали, что он ушел то ли на любимую свою рыбалку, то ли просто погулять в сквере. Я твердо решил подождать его и поподробней расспросить о болезни (вдруг все-таки ошибаюсь), а может, чем-нибудь и помочь. Но тут мне по мобильнику позвонила жена, сказала, что мы вечером идем в театр, и надо поскорее возвращаться. Я попрощался со студентами и уехал, так и не встретившись с Сашей – огорчать жену мне не хотелось…
В своих догадках о Сашиной болезни я не ошибся. Через полгода он умер. Узнал я об этом случайно. Мои квартиранты, сдав весеннюю сессию, решили съехать с квартиры (то ли нашли себе жилье получше, то ли им пообещали дать общежитие). Они позвонили мне, чтоб сообщить об этом намерении, а заодно и рассказали о Сашиной смерти. Похороны и поминки организовала ухаживающая за ним женщина. Проститься с Сашей пришли многие его сослуживцы. Они вспоминали о совместных с Сашей командировках на Северный Кавказ, об участиях в боевых операциях и вообще о нелегкой ментовской службе, которая гражданским людям не всегда ясна и понятна. Саша был и остался для них хорошим, надежным товарищем. На него можно было положиться в любой обстановке. Жаль только, что они мало чего знали о последних месяцах Сашиной жизни и о его болезни (у каждого свои дела, свои заботы), а то непременно помогли бы и в беде не оставили. Военное братство – нерушимо.
Свою комнату Саша переписал на имя ухаживающей за ним женщины. Она, как могла, поддерживала его, никогда не выказывая уныния в предчувствии скорой смерти близкого человека. Забота ее о Саше вовсе не была связана с тем, что она рассчитывала получить его комнату. Просто эта чужая женщина была таким редким по нынешним временам человеком…
– Других родственников не нашлось, что ли?! – вскоре после похорон осуждала Сашу и по смерти баба Тоня.
Пантелей глубокомысленно поддакивал ей:
– Гражданин начальник – какие у него родственники!
И оба старожила на этот раз были совершенно правы: других родственников у Саши действительно не нашлось…
* * *
Со дня смерти Саши минул год, а то и больше. Казалось бы, мне можно было бы о нем и забыть. Но каждый раз, когда я приезжаю на старую свою квартиру, мне становится непередаваемо больно и пусто на душе… Холодок случившейся в ней смерти еще играет вечно открытой форточкой нашей коммунальной кухни. Иногда я пытаюсь успокаивать себя: ну, кто мне этот Саша и что мне до него?! Но пустота и боль не отпускают меня. Все люди вместе и каждый из нас в отдельности принадлежат не только самим себе. Наша полная перипетий жизнь – есть крохотная частичка чьих-то других, чужих жизней, а их жизни – частицами нашей… Видит Бог – это так! Все мы в одной лодке. Будем же внимательны друг к другу…
Голова Олоферна
– Сегодня вечером идем к тете Инне! – неотвратимым приговором прозвучали для меня слова матери.
– Можно я останусь дома? – без всякой надежды взмолился я.
– Нет. Как мы тебя оставим? Газ, электричество. Всякое может случиться, ты еще мал.
Как мог, оттягивал. Придумал, что шорты велики, а красные колготки – девчачьи. Раскусили, нарядили. На улице выклянчил мороженое, а там и ситро. Смилостивились, купили. Съел, выпил по пути, медленно. Родители делали вид, что не замечают моей подавленности. Говоря о своем, тянули меня то за руки, то за ворот ветровки, как непослушного ослика. Дотянули.
Вошли в подъезд, как в камеру пыток. Пока лифт вез к «эшафоту», затошнило. Голова кружилась, ноги дрожали, слабели. Вывели, как под конвоем. Нажали на звонок. Прозвучал призывно. Я испуганно вздрогнул, а новый бледно-желтый дерматин, покрывающий дверь, усилил тошноту.
– Заждалась вас. Павлик, ты чего такой хмурый? Хочешь ситро? – как Кролик из мультфильма о Винни-Пухе, поправила очки тетя Инна.
Нескончаемый поток «вежливостей» еще больше закружил голову, которая была опущена и подбородком приросла к ключице. Только б не смотреть.
Дрожащими руками отрывал ботинки от онемевших ступней и хотел было слепым котенком прошмыгнуть в комнату, опустив голову, чтобы только не увидеть. (Oна висела в гостиной и из прихожей была всегда хорошо видна.) Но тетя Инна неожиданно твердо взяла меня за плечи, указательным пальцем подняла мой подбородок кверху, и мертвая голова скользнула по зрачкам. Я потерял сознание и упал…
– Джиудита! Как же ты красива, Джиудита. Эти бедра совершенны, как колонны храма Артемиды. Посчитал, милая, я желал тебя сегодня целых пять раз. Но это не приносит удовлетворения. Скорее, наоборот, отчаяние. Хочется большего. Когда любишь… всегда так… Хм… Забавно, твоя лодыжка в масле, а запястье в грунте. Неужели мольберт заменил нам ложе любви, Джиудита? – он смеялся, сидя в кресле, с почти уже допитым бокалом красного вина.
– Говорят, этой весной будет сильное наводнение, – не слушая, с печалью в голосе сказала девушка, разглядывая большую беличью кисть.
– Кто опять распространяет эту чушь? Такое же, как всегда… – он поставил бокал на резной столик с улыбающимися по углам слониками. – Не бойся, милая, это все слухи. Мне говорили, что Венецию в этот раз укрепили достойно. Дубовые дамбы и все такое… В конце концов, уедем в Кастельфранко…
Слоники, казалось, поморщились.
– Да-а, достойно… – задумчиво протянула Джиудита и вдруг суетливо перекрестилась. – Вчера весь день читала Библию, молилась… Ответь, милый, почему я такая слабая? Не чета тем, что в Писании…
– Это все преувеличения, не бери в голову… По красоте никто из них не сравнится с тобой…
– Не эта красота меня волнует…
– Духа ли? – зло усмехнулся он.
– Почему ты всегда смеешься надо мной?
– Я? Ты не права. Просто ценю в тебе лишь то, что явно…
– Тело?
– И оно прекрасно, моя милая Джиудита. Бог свидетель, душа твоя под стать ему…
Девушка дунула на кисть и попудрила себе щеку:
– Помнишь ту вдову, которая отсекла голову персидскому злодею… Чтобы спасти народ свой…
– Ах, вот ты о чем! – оживился он, протягивая руку к недопитому вину. – Ну, да: «Я совершу дело, которое пронесется сынам рода нашего в роды родов». А я всегда втайне симпатизировал месопотамскому разорителю. К тому же, точно знаю, неправда все это, и Навуходоносор вышел победителем. Да и она ли то была? Предатель Ахиор, сдается мне… Интересно, сколько вина было выпито из иерусалимских погребов?
– Как ты можешь так зло шутить? – Джиудита раздраженно бросила кисть в медную чашу.
– Не слушай меня… Ты же знаешь, я всегда говорю в таком тоне. Это помогает мне сохранять чистоту ума. Прости безродного сироту.
Девушка подошла к окну, отодвинула рукой штору и прищурилась от утреннего солнца. По каналу, умело орудуя веслом, вел в сторону площади Сан-Марко свою десятки раз штопаную лодку пожилой гондольер в черном плаще. Он вдруг поднял голову и посмотрел Джиудите прямо в глаза. Что-то странное было в этом мимолетном взгляде – зловещее или злорадствующее, – что-то не присущее солнечному венецианскому лету. Правда, старик тут же простодушно улыбнулся, обнажив черные гнилушки зубов. Однако Джиудита отпрянула от окна, уткнулась лицом в штору и расплакалась.
– Что там? – он вскочил с кресла, опрокидывая бокал с вином.
– Так всегда… – девушка уставилась на расползавшуюся по полу красную лужицу. – Это потому, что мы обычные слабые существа. Нет в нас духа Божьего. Одни сомнения. И они ведут нас и руководят нами. Смотри, вино как кровь! – Она обреченно вздохнула. – Оттого и любая мелочь кажется трагедией. Ты вот картины пишешь… В тебе хоть что-то есть от Него. А я? Кто я и зачем?
– Молчи. Вино не виновато… Ты же знаешь, что все не так. – Он спрятал девушку большими руками, краем глаза провожая лодку со стариком. – Хотя, нет, говори… Вот именно, от Бога. Это не я пишу, Он водит моей рукой. Да и зыбко все… Иногда кажется, что если подпишу, хоть одну, Он оставит меня… Не бойся, это Карло, он привозит мне вино и сыр…
– Ты слишком мнителен, милый, – казалось, испугалась уже чего-то другого Джиудита. – Рафаэль подписывает. А ты… ты лучше, чем он… Помнишь ту женщину на сундуке булочника Джованни? – она улыбнулась. – Они думают, это написал он, но не оставил подписи. Но я-то знаю, что это ты… К тому же, там и я…
– Все равно… Мне дела нет до Рафаэля. Писать мадонн, питая душу похотью одной – кощунство! Не удивлюсь, если испустит дух он на любовном ложе. Да что мне до него! Венеция каждый день рождает гениев. Тициан не менее одарен. Он еще покажет себя, ручаюсь. А наши с ним фрески в Фондако запомнят все…
Молчание наполнило мастерскую с обглоданными извечной сыростью потолком и стенами.
Они долго стояли, обняв друг друга. Ветер донес сладковатый запах воды, и вдруг его осенила какая-то мысль. Высвободившись из объятий девушки, ринулся он к окну и отчаянным движением сорвал штору.
– Ну-ка! – в заразительном восторге почти прокричал он. – Я лягу, а ты… ты укрой меня, да так, чтоб торчала одна голова… Давай же, Джиудита…
Девушка повиновалась, и вскоре он, удовлетворенный, принялся строить гримасы стоявшему в углу зеркалу.
– Вот так! – воскликнул он. – Так всё и будет. Встань надо мной. Возьми трость мою. Подойди ко мне. Ну что же ты медлишь? Нет, не то! Что-то не так!
Девушку уже покинули темные настроения.
– Большой Джорджо, ты потешный, как дитя! – засмеялась она. – Не могу понять, чего ты хочешь и что себе вообразил.
– Люблю тебя такой! – не унимался он. – Поставь же ногу мне на лоб, поставь… Давай… Джиудита… Замри теперь… Что чувствуешь?
– Тепло!
– Хм… А должна холод…
– Да?!
– Ну, вот… так все и было! Так все и будет! Моя «прекрасная вдова»! Вина!
И потекли дни. Девушка позировала каждое утро. Облаченная в тонкое бледно-розовое платье, с тростью в руках, которая в их разговорах именовалась «злодейским мечом», она становилась у окна, подкладывая под голую пятку большую оранжевую тыкву.
Наступила зима, холодная и снежная. Но, к счастью, принесла она уютный треск поленьев, запах невысыхающего масла и терпкий вкус прощальных поцелуев. А потом обрушилась и весна… Тающий снег сильно поднял воду, и наводнение, которого так страшилась Джиудита, стало явью. Крысы, пугаясь вод, зловеще скребли пол и все чаще показывали свои усатые мордочки… А затем откуда-то с севера, позванивая глухими колокольчиками, пришла чума.
И однажды он заметил черное пятно на бедре Джиудиты.
– Сегодня последний день, милый, – твердо сказала она в тот вечер. – Я ухожу. Смерть уже точит косу. Прощай, мой добрый большой Джорджо… Допишешь по памяти. Ведь ты будешь помнить меня?
Он смотрел на девушку, осторожно касаясь пальцами ее ресниц. Широкой теплой ладонью гладил потерявшую румянец, чуть прохладную кожу щек; слегка притрагивался солеными от слез губами к ее шее, которая по-прежнему была бела.
– Нет, Джиудита… Мои волосы черны, как вакса, и останутся такими навсегда… Как, впрочем, и у него, – он усмехнулся и кивнул на мольберт с почти готовой картиной. – Но главное не это… Никто и никогда, кроме нас с тобой, не будет знать, что герои не всегда герои, и злодеи не всегда злодеи, и что голова хмельного перса под пятой красавицы вдовы – это всего лишь ты и я. Хотя и любящие друг друга под звон чумных колокольчиков. Пусть только самое нежное сердце почувствует это. Увидит и не устрашится…
Через какое время я очнулся, сложно было понять. Напуганные родители делали вид, что все хорошо, дабы еще больше не пугать меня и не расстраивать гостеприимную и не меньше, чем они, переполошившуюся тетю Инну. Вскоре я уже сидел за столом, прожевывая странную котлету, начиненную рубленым яйцом, и пил ситро. Когда пришло время уходить, я без всякого страха подошел к картине. Осторожно тронул пальцами мертвую голову и внимательно посмотрел на Юдифь. Она была, как всегда, спокойна и красива, от ее лица словно струился неуловимый свет. И голова Олоферна была овеяна нежностью и любовью Юдифи.
Тихий ужас (повесть)
Звонок возвестил о долгожданном окончании уроков, и вскоре поток школьников выплеснулся из дверей и устремился прочь со двора. Когда двор опустел, двери школы вновь открылись, и на крыльцо вышли еще семеро учеников. Один из них плелся с неохотой, отстав от остальных и склонив голову, шестеро же шагали довольно бодро и этого седьмого поторапливали. Спустившись со ступенек, команда направилась за школу, где в заброшенном яблоневом саду лежали груды металлолома. Там компания и остановилась. Седьмого взяли в плотное кольцо, и что-то едкое сказав в назидание, принялись избивать. Сначала кулаками, затем ногами. Брызнула кровь, но и она не остановила бойню. Каждый из малолетних инквизиторов отрывался по полной, и, казалось, претворял в жизнь все свои, доселе скрытые, бурные фантазии. Со стороны могло показаться, что весь этот отроческий беспредел должен вот-вот закончиться, но шестерка останавливалась лишь на мгновение и снова, с еще большим воодушевлением, бралась за дело. Когда бедняга не только перестал сопротивляться, но даже шевелиться, они прекратили избиение, но тут же, видимо, решив, что содеянного недостаточно, поочередно плюнули поверженной жертве в лицо. Уходили они с места преступления очень медленно, хладнокровно, не оглядываясь, как будто правота их очевидна.
Лежавшего без сознания мальчишку через некоторое время обнаружила забравшаяся в сад малышня. Приехала «скорая» и увезла пострадавшего. А на едва оттаявшей апрельской земле осталась кровь…
…Уж больно нехорошие сны стали сниться в последнее время следователю Сергею Юрьевичу Успенскому – злые и кровавые. Самым же удивительным было то, что своими душераздирающими сюжетами они никоим образом не вязались с его нынешним, довольно устоявшимся образом жизни. Поначалу бывалый следователь старался не обращать на это внимания, надеясь, что все закончится само собой, но вскоре, осознав, что «дело» принимает хронический характер, решил подать заявление об уходе, посчитав, что именно его работа и является причиной этих кошмаров. Начальство немного помялось, как ему и положено по статусу, но, в конце концов, согласилось:
– Ладно, Серега, черт с тобой. Оттарабанил ты в нашем отделе немало, будет с тебя… Удерживать не имею права…
– Спасибо, Анатольич, знал, что поймешь, – хлопнул Успенский по погону начальника отдела Ковалева. – Я, ты знаешь, просто из-за блажи какой не ушел бы. Тут же, чувствую, всё – спекся! Нервишки не те, что двадцать лет назад, да и здоровье так себе…
– Эх, Серый, зная твой характер, ни о чем не спрашиваю, – понимающе взглянул на него Ковалев. – Сам разберешься… Ну, а возникнут проблемы, всегда помогу!
Успенский кивнул и, с грустью выдохнув, вышел из кабинета Ковалева.
Стояла удивительно хорошая погода. Августовское солнце грело, но не припекало, а ветерок можно было распознать лишь по верхушкам тополей, которые иногда тихонько покачивались. Сергей Юрьевич любил, когда все в меру, в том числе и что касаемо погоды. А его прошлая жизнь не была такой. Всегда в ней было чего-то через край, а чего-то и вообще не было.
Выйдя на улицу, он вдруг впервые за многие годы взглянул на свой город с нежностью и любовью. Оказалось, что он не заметил, как слился с ним, пророс в него, подобно корням, прорастающим в толщу земли. Все здесь было знакомым и родным. Вот драмтеатр, который он помнил с детства. Единственное пристанище местных жрецов Мельпомены. Когда-то он был темно-зеленого цвета, теперь ярко-синий. Все меняется… Школа, в которой Сергей Юрьевич когда-то учился, осталась почти такой же блеклой, лишь крыша поменялась, заблестела зеркальной жестью.
«Еще бы! – подумал Успенский. – Тридцать лет минуло. Отремонтировали наконец-то. Правильно, пора бы… Э-эх… Из учителей, скорее всего, никого не осталось. Хотя все может быть. Последняя встреча одноклассников проходила лет пять или шесть назад. Мария Сергеевна, помнится, была еще жива, да и бодра».
Успенский шел домой. Ему хотелось принять душ, хорошо поесть, а затем с сигаретой и кружкой крепкого чая сесть в свое «антикварное кресло» и долго о чем-нибудь думать, мечтать, вспоминать, созерцать, а самое главное – никуда и ни зачем в этой жизни не спешить.
Он так и сделал. Ему в первый раз за многие годы стало необычайно легко на душе, и вера в то, что теперь так будет всегда, крепла в нем. Начиная с сегодняшнего дня, ничего не нужно было планировать, в чем-то себя удерживать и урезать, оставалось только одно – жить и жить спокойно и радостно. Можно было, например, отправиться куда-нибудь на юга, потягивать молодое вино, купаться в море, ходить по горам и любить заезжих женщин. Или прикупить дачу с огородом и копаться на грядках… Или заняться охотой… рыбалкой… Завести сеттера, назвать его, к примеру, Портосом или Атосом, и в высоких сапожищах разгуливать по болотам. Чем не душеисцеляющее занятие? Столько возможностей для приятного времяпровождения!
Умиротворенная улыбка то и дело появлялась на лице Сергея Юрьевича, и сигарета казалась сладкой.
Но раздался телефонный звонок.
– Алло, Серега? Это Ковалев! – донесся голос из трубки.
– Что там еще?! – по привычке недовольно отозвался Успенский.
– Да знаешь, – неуверенно принялся объяснять Ковалев, – ты только за порог, а к нам дельце тут накапало странное. Глухарем попахивает. Кругом один молодняк. Пронин, тоже вот, заявление притаранил…
– А он-то что?
– Да хрен его разберет! Тоже, мать его, как и ты, говорит, старый, больной, почки-мочеточки… Вот такие дела…
– Ну и что ж ты хочешь? – спросил Успенский.
– Да что я хочу?! – разразился громом Ковалев. – Стольник до аванса хочу, твою мать! Как будто неясно!
– Хорошо, – вздохнув, сказал Сергей Юрьевич. – Сейчас приду.
Когда Успенский открыл дверь кабинета Ковалева, тот сидел за своим обшарпанным столом, низко опустив голову и зажав между пальцами тлеющую сигарету.
– Ну, что, сукины дети, не можется вам без старого прожженного сыскаря Успенского? – с ехидцей сказал Сергей Юрьевич.
– Да где уж нам, толстым, маленьким и с грыжей! – встрепенулся Ковалев. – Садись, Шерлок Холмс ты наш незаменимый. Вот уж не ожидал, что так выйдет.
– Да ладно тебе, Анатольич… Давай, выкладывай…
Ковалев подался к Успенскому:
– В общем, Серый, слушай и вникай! Это, кстати, в твоем районе, тебе удобней работать будет. Энгельса, четырнадцать, квартира пятьдесят восемь. Двойное убийство. Первый жмурик – Анучин Валентин Сергеевич, хозяин квартиры, второй – Кашкин Павел Евсеевич, скорее всего, его друг-собутыльник. Проживает, вернее, проживал в этом же доме, только в пятьдесят шестой квартире. Оба найдены мертвыми в пятьдесят восьмой. Время смерти около двух часов ночи, ну, плюс-минус там… Свидетелей пока нет, да и вряд ли появятся, потому как народец в этом доме, в основном, пожилой и пугливый.
– Как убиты? – спросил Успенский.
Ковалев вытер несуществующий пот с рыхлого мясистого лба:
– В том-то все и дело, замочены как-то странно. Было два выстрела из «макарыча», причем оба – в голову. Мало того, прямо в висок, тому и другому. Но потом, и это самое забавное, чуваку зачем-то понадобилось огреть своих жмуриков полутораметровым ломом. И то, что это было после, а не до, экспертиза показала точно… В этом смысле можешь не сомневаться. Ну, вот… Следов никаких, странно даже. Такое впечатление, что убийца – сумасшедший профессионал. Больше, Серый, тебя ничем порадовать не могу…
– Ну, ты мне хоть отдышаться дашь немного, начальник? Дня два, три… – Успенский задумчиво улыбнулся. – Я тут уже о море и женщинах успел помечтать, м-да…
– Серый, какой я тебе, в пень, теперь начальник? Дыши! Но, сам понимаешь, рассусоливать особо некогда… Сегодня точно можешь догулять…
И Успенский день догулял. Без особой радости, конечно, но и без излишней печали.
Так называемое дело с двумя неизвестными, ему, по правде сказать, не представлялось чем-то из ряда вон выходящим. К тому же, он хорошо знал Ковалева, имевшего неискоренимую дурацкую привычку паниковать не по делу. Единственное, что заинтриговало Сергея Юрьевича, это место преступления, да и не то чтобы заинтриговало, а вызвало давно погасший мальчишеский интерес. В доме, где произошло убийство, некогда проживала его первая школьная любовь Верочка Сотникова, девочка в свое время ладная и умная. Наверняка, за столько лет все изменилось и, скорее всего, ее адрес теперь иной, но все же этот дом сулил следователю Успенскому приятные ностальгические воспоминания.
Следующим ранним утром он уже ковырялся вместе с безусым младшим лейтенантом Кравцовым в злополучной квартире на улице Энгельса. Все оказалось в точности, как рассказывал Ковалев, и оптимизма у Успенского не вызвало. Ему продемонстрировали две стреляные гильзы и чертов лом, но дураку было ясно, что весь этот «праздничный набор» имеет грошовую цену. Были, правда, еще две пустые бутылки из-под «левой» водки, да пара граненых стаканов, но и от них толку было мало. Успенский для порядка еще раз опросил испуганных соседей, которые, разумеется, в два часа ночи крепко спали, затем опять осмотрел начертанные мелом силуэты убитых и, сказав самому себе «довольно», направился к Ковалеву.
И хотя набирающая обороты суета продвижению дела вряд ли помогала, по своему недюжинному ментовскому опыту Сергей Юрьевич знал, что так бывает в большинстве случаев, и во всей этой ситуации важен только сам подход. Ежели озадачиться реальным раскрытием дела, необходимо ждать – время всегда преподносит какие-нибудь сюрпризы. Разумеется, ждать, не сложа руки. И не приведи боже заниматься так называемым «скорым раскрытием», собирая лжеулики, как бледные поганки после дождя. Такой подход грозит неминуемым тупиком следствия, где папка с документами пухнет, как на дрожжах, а убийца продолжает беззаботно проветривать легкие озоном.
Как сообщили Успенскому на следующий день, отпечатков на чудо-ломе не оказалось, на стаканах были, но самих убиенных. Ковалев с девичьей печалью в голосе хныкал о том, как до зарезу нужны хоть мало-мальские подвижки, и что, мол, без них ему чрезвычайно совестно смотреть в глаза начальству.
Еще через день Успенский решил пойти в дом на улице Энгельса один и заново расспросить соседей, но только сделать это более дружелюбным тоном. Те поведали то же, что и в первый день знакомства, лицемерно напоив дотошного следователя вчерашним чаем и накормив вековыми бубликами, в тысячный раз подтвердив аксиому о полном отсутствии взаимопонимания между населением и органами. Все перечисленное наводило Успенского на скорбные думы о странной и даже таинственно-мистической подоплеке дела, которое ни в коей мере не связано с разбоем или грабежом. Как стало известно позже, в квартире ничего не пропало, да и не могло пропасть, потому как ничего ценного, по скупым словам соседей, в ней не было. Сами же Анучин и Кашкин на поверку оказались антисоциальными элементами, нигде и никогда толком не работавшими. Квартирный вопрос отпал сам собой. В неприватизированных квартирах прописаны они были одни, а родственники уже лет пятнадцать ими не интересовались.
Возвратившись домой, Успенский наткнулся на истерично трезвонивший телефон и вскоре был неприятно ошарашен голосом человека в трубке:
– Ну, здорово, Ус! – мрачно произнес незнакомец.
– Здорово! – машинально сказал Сергей Юрьевич. – Кто это и почему?..
– Что, не узнал? – ехидно продолжал тот.
– Алло! Кто это?! – раздраженно повторил Успенский.
– Ну, ладно, – разжалобился незнакомец. – Видать, ты, Серый, круто постарел, сдулся, память у тебя прямо-таки девичья и на следака явно не тянет. Саша это тебя беспокоит, Петров. Помнишь такого?
– Не помню, – отрезал Успенский и положил трубку.
Через несколько секунд звонок повторился.
– Ну, ты! Совсем спятил, что ли?! – воскликнул незнакомец. – Лысый это звонит, одноклассник твой! Дурила хренов! На похороны пойдешь, или как? Тут, блин, все, кто в городе из наших остались, по пятихатке скидываются на гроб, оркестр и прочие причиндалы…
– Твою мать! – выругался в сторону Успенский. – Ну, прям, как до жирафа… Саш, ты, что ль? Старость, знаешь ли, та, которая не радость и не в радость…
– Бывает, – спокойно сказал Лысый. – Ты что, в самом деле не в курсе? Кашкин-то, черт с ним, хотя тоже жалко, а вот Пучок, это да, невосполнимая потеря, хороший парень был.
– Да, да, хороший… – не зная, что сказать, промямлил Сергей Юрьевич.
– А у вас там не в курсе, кто это сотворил?
– Да нет… Ищут, как говорится, делают все, что могут.
– Ну, ясно, ясно… Я там же обитаю, где и раньше, заходи сегодня вечерком. Поболтаем, вспомним школу, водки попьем.
– Ладно, зайду часов в восемь, – нехотя согласился Успенский.
Теперь «дело» с двумя иксами приобретало совершенно иной характер. И как же это он сразу не вспомнил? Кашкин и Анучин по прозвищу «Пучок» были его одноклассниками… Неужели годы стерли в его душе почти все приметы детства? Когда он в первый раз услышал эти фамилии от Ковалева, ни одна жилка в нем не шелохнулась. Да… Вот ведь как получается – приходится под конец своей, так сказать, творческой деятельности искать убийцу одноклассников… Это – судьба, а от нее, как известно, не скрыться.
Вечером Успенский отправился в гости к Петрову.
Лысый был немного странным парнем. Его Сергей Юрьевич помнил хорошо. Странность эта проявлялась во всех многочисленных сферах его деятельности. К примеру, он увлекался собиранием этикеток вино-водочных изделий, самостоятельно научился играть на мандолине, занимался йогой по книжке и даже устраивал у себя на лестничной площадке тараканьи бега, благо с тараканами у Саши проблем никогда не было, как в квартире, так и в голове. Сильные класса не принимали его в свои стальные ряды, считая инфантильным и придурковатым, а слабых он и сам презирал и чурался. Кличка «Лысый» пристала к нему после того, как по некой неизвестной причине родители обрили его наголо. Волосы отросли, а прозвище осталось, и, помнится, жутко не нравилось Саше.
– Ты знаешь, – не здороваясь, прямо у порога начал Петров, – невероятно это все. Они, конечно, не святыми были, но жили, не в пример мне, тихой, однообразной жизнью и, как говорится, никого не трогали. Кашкин так вообще тихоней оставался при любых обстоятельствах… Не шалил… Ты проходи в комнату, присаживайся, а я сейчас по-быстрому организую…
И Петров нырнул в кухню, откуда продолжал общаться с Успенским:
– Это Пучок его с верного пути сбил, засранец эдакий. Кашкин-то, ты помнишь, небось, в классе с ним почти не водился, а тут видишь как? «Меняется все в наш век перемен», и «звук», и «слог», и даже характер… Жена от Паши лет семь-восемь назад упорхнула к какому-то хмырю, просто так, говорят, ушла, ради смены декораций, Паша-то и запил… А тут Валя ему встретился на жизненном перепутье, протянул руку и потянул за собой в неведомые дали.
– Это как же? – с деланным интересом спросил Успенский. Уж больно далек он был все эти годы от постшкольной жизни.
– Ну, Пучок еще тот был фрукт! Он как начал после школы тявками разными заниматься, так и не бросил это вонючее занятие до самой смерти. Дрессура, скажу я тебе, такая нестабильная вещь. А всякая, по моему мнению, нестабильная работенка вырабатывает жадность до денег и водки.
– Так Кашкин всегда был маменькиным сыночком: не курил по туалетам, портвейны за школой не хлебал тайком, на колготки рваные не заглядывался! – вспомнил с улыбкой Успенский. Оказывается, не все забылось окончательно.
– Так-то оно так, Сережа, а только когда тебе уже скоро полташ светит, а вся прошлая жизнь оказывается бесцветной, как воробей, невольно начинаешь торопиться и творить «чудеса»… В общем, подвязал к себе Пучок Пашулю Кашкина крепко, а тот и привык. Не сразу, конечно, но, как говорится, втянулся парниша… Деньги какие-никакие, водка, разумеется. Пучок, чтоб ты знал, в последние времена выпить был совсем не дурак.
Лысый вернулся в комнату с большим подносом, на котором возлежало множество всякой простецкой закуси и стояла бутылка водки.
– Ну, что, Серега, – провозгласил он, разливая горькую по надколотым рюмкам, – давай, раз уж встретились, помянем с тобой наших школьных товарищей. Пусть им, бедолагам, чернозем хлопком обернется… М-да…
Дрянней этого пойла Сергей Юрьевич в своей жизни ничего не пробовал, но сделал вид, что «хорошо пошла». Лысому же, как видно, было все в кайф. Он довольно крякнул, поморщился для приличия и, занюхав выпитое подмышкой, продолжил:
– Да что и говорить, жалко ребятишек… Ты, это… огурчики пробуй, сам солил… Кто бы мог подумать, что так невесело у них все закончится?
– Слушай, Саша, а ты часом не в курсе насчет того злополучного дня? Они вдвоем пили-то, или, может, кто помогал время от времени? – без всякой надежды спросил Успенский.
– Да я и сам с ними в тот день выпивал, только раньше, – усмехнулся Лысый. – Пройтись по Студенческой и никого не встретить? Не смеши! Кстати, помнишь Скомора?
– Конечно, помню, – поморщился Сергей Юрьевич.
– Он в тот день из тюрьмы пришел, или, как это у них там говорится, «откинулся»…
– Ну, и?
– Ну и повстречал я его, он из бани шел. Ты б его, Серый, видел! Детина неимоверных размеров. Представляешь, выше нас с тобой на голову и как шкаф платяной в ширину! Ну и вот… Взяли пузырек перцовки и поперлись вроде как к нему, а тут, блин, Кашкин с Пучком – юные натуралисты.
– Что же дальше? – боясь вспугнуть удачу, лениво зевнул Сергей Юрьевич.
– Дальше? Дальше выпили, и я домой потопал. Я ж, ты знаешь, не большой любитель «продолжений», а они втроем, видимо, за второй пошли.
– А за что Скомор сидел, не знаешь? – спросил Успенский.
– Да сидит-то он, как правило, по глупости, – ухмыльнулся Петров. – В этот раз, если не ошибаюсь, бабу свою избил хорошо. Ну, а в целом, парень серьезный, местная братва его за своего держит, уважает…
«Ну вот, – сказал себе Сергей Юрьевич, – кажется, открываются новые перспективы. Теперь Валера Скоморохов, в прошлом неисправимый двоечник и хулиган, стал первым подозреваемым в этой темной истории… Сколько раз я с тобой, дураком, дрался в школе, почти всегда проигрывал, теперь нужно выигрывать».
Бутылка постепенно опустела. Лысый было подвязался бежать за второй, но Успенский, сославшись на тяжелое «завтра», наотрез отказался.
– Ну, что ж, тогда чайку? – потирая ладони, предложил Петров.
– Да, пожалуй, чай это хорошо, – задумчиво протянул Успенский. – Слушай, Саш, а с кем они из наших общались в последнее время? Появлялись какие-нибудь незнакомые лица?
– Да нет, ничего особенного я не замечал. А общались они со всеми понемножку. Со мной, Бурилой, с Шишкиным. Короче, с теми, кто живет поблизости. Это ты у нас отщепенец, как ушел после восьмого, так и не слыхать тебя.
И это было чистой правдой. Сергей Юрьевич в принципе не любил пресловутые школьные годы и не усматривал в них никакой романтики. Саша Петров это, по-видимому, чувствовал всегда и сейчас тоже не забыл.
– А знаешь, я с самого начала хотел спросить… – взглянул бывший одноклассник на Успенского. – Делом этим кто занимается, не из вашего отдела часом?
– Я! Я занимаюсь, Шурик. Так что попал ты в свидетели! – цинично, с толикой скрытой иронии, выдал Успенский.
– Вот те на! – ударил себя по коленке Лысый. – Ну, так ты, блин, теперь просто обязан хоть из-под земли достать этого отморозка…
– Знаешь, Саша, – без эмоций сказал Сергей Юрьевич, – если ты всерьез думаешь, что я испытываю невероятную жалость и сострадание к гражданам Анучину и Кашкину, то ты глубоко ошибаешься. Но свою работу постараюсь вести качественно.
Лысый в глубокой задумчивости сидел в кресле и нервно грел руки о недопитую чашку чая.
– Теперь к Скомору, наверное, пойдешь? – угрюмо, и даже чуть обиженно спросил он. – Валера, кажется, последний, кто их видел… живыми…
«Странно, – подумал Успенский, – если Скомор с ними пил, почему на бутылке и стаканах отпечатки только двоих? А третьего стакана и вовсе нет. Убил?! Испугался?! Унес с собой?! Да нет же, конечно, нет. Все было совсем не так. А как?!»
– Пойду, разумеется, к нему, золотому, – ответил он.
– Сходи, сходи… Только вот вряд ли он этому обрадуется, после пары лет отсидки…
– Ну, уж на это, Саша, мне плевать с очень большой высоты, – сказал Успенский.
– Ну-ну…
Валера Скоморохов жил в старом довоенном доме под названием «гармошка». Здание, если на него смотреть издали, напоминало простенькую трехрядку с широко раздвинутыми мехами. Успенский никогда не мог себе представить, какой домашний быт под стать такому хулиганствующему элементу, как Скомор. В далеком детстве ему упорно представлялось, что Валера живет, по меньшей мере, в бандитском притоне, среди жуликов, воров и проституток. На самом же деле все оказалось иначе.
Квартира, в которой обитало семейство Скомороховых, не отличалась ни чрезмерным великолепием, ни патологической запущенностью. Мебель, приобретенная еще в перестроечные годы, выглядела вполне ухоженно, а современные модели аудио– и видеотехники говорили о материальном благополучии. Мать Скомора, которую Успенский помнил еще с детства, несмотря на годы, почти не изменилась. Она стала лишь пополнее, но неукротимая бодрость и стервозность до сих пор клокотали в ней гейзером Ваймангу, выплескивая фонтаны недовольства бытием на окружающих.
Не поздоровавшись с Успенским и, видимо, не узнав его, она громко крикнула:
– Валера, к тебе опять пришли! Когда же это все закончится?!
В ответ послышалась нечленораздельная ругань, и в прихожую вышел Валера.
– Чего надо? – бесцеремонно и грубо, глядя в упор на Успенского, резанул он.
– Не узнал? – осторожно улыбнулся Сергей Юрьевич.
– Чего надо, Ус? – еще резче повторил Скомор.
«Да, память у тебя в норме, не в пример моей!» – отметил Успенский и решил, что по-хорошему, неофициально, поговорить не удастся.
– Посоветую вам так меня больше не называть, во избежание неприятностей. Я из уголовного розыска, следователь, майор Успенский Сергей Юрьевич, и у меня к вам, гражданин Скоморохов, очень много вопросов.
– Вот так, значит… – чуть смягчился Скомор. – Ну что ж делать? Проходи, майййор…
Они прошли в просторную, со светло-коричневым паркетом комнату. Успенский сел в глубокое кожаное кресло, а Скомор расположился полулежа на разложенном диване.
– Ну, я тебя… хотя нет, вас внимательно слушаю, майййор!
Успенский неторопливо достал из внутреннего кармана плаща потрепанный блокнот, затем шариковую ручку, и тихо, но твердо сказал:
– Вспомните, пожалуйста, где вы находились двадцать первого августа этого года между нулем и тремя часами ночи.
Скомор недовольно потушил начатую сигарету о край стеклянной пепельницы, раздраженно усмехнулся и, пристально посмотрев в глаза Успенскому, сказал:
– Ты, что ж мне, Ус, мокрушку пришить вздумал? Я для этого не гож! Навешать кому-нибудь – да. Ну, украсть, тоже, как говорится, ума хватит. Но мочить – не мое! Так что это ты загнул и не по адресу обратился…
– Ну, положим, бьешь ты, Валера, в основном, женщин, да бедолаг маломощных, и то по пьяни, потому как у трезвого тебя кишка тонка… Но главное, что имею тебе сказать на будущее… Характеристику свою сраную, на верхней шконке сочиненную, ты на зоне будешь шестеркам да опущенным толкать, а мне, будь добр, отвечай четко на поставленный вопрос, и поменьше деепричастных оборотов. Где и с кем был, спрашиваю?
– Ну, ты, ладно, ладно, не серчай, начальник, – опешил Скомор. – Много где был в ту ночь…
– После того, как вы выпили, и Петров Саша ушел, ты остался с Кашкиным и Анучиным?
– Да, мы остались втроем, взяли еще одну, ну и… снова выпили! – Скоморохов неожиданно рассмеялся.
– Где вы ее выпили?
– Где, где… У меня, разумеется, по случаю освобождения. Я ж, это… как его?.. С зоны…
– В каком часу это было?
– Бля, ну ты спросил! Откуда ж я помню? Ну, может, не знаю, двенадцать. Да, кажется двенадцать, чуть больше, может…
– Что же было потом? – внутренне Успенский начал нервничать.
– Потом?! Потом я пошел прогуляться, а они, наверное, потопали дальше пить.
– К себе?
– Этого я уж не знаю, даром предвидения не обладаю, – словно сбросив с плеч непосильную ношу, вымолвил Скоморохов. – Вот так-то все и было, майййор.
Но Успенский не унимался, тем более, что в последних словах собеседника он уловил стремление закончить разговор, а это означало, что сказано далеко не все. Надо было давить, потому как сам Валера для себя, видимо, решил, что свою дежурную сказку рассказал до конца. И хотя применять силу или брать на понт Сергей Юрьевич не очень-то любил, считая, что именно такие приемы, в итоге, и дискредитировали внутренние органы, ничего другого не оставалось. Он пренебрежительно глянул на уже расслабленного Скомора, усмехнулся и, бесцеремонно прикурив сигарету от взятого из его руки окурка, сказал:
– Ну, не знаешь, так не знаешь. Что ж с тобой делать? Может, у нас вспомнишь. Ты ж парень непредсказуемый. Собирайся, Валера, прокатимся на казенной машине. Посмотришь, где я работаю… Давай, давай, пять минут на сборы, маме скажи, чтобы не беспокоилась дня три…
Валера снова закурил, и закурил довольно-таки нервно, как будто это была одна из последних сигарет в его жизни. Округлившиеся глаза тупо смотрели в наполненную окурками пепельницу и, казалось, тщетно пытались отыскать там ответ на извечный дурацкий вопрос «что делать?». Но делать было нечего. Ехать в милицию решительно не хотелось, потому как опьяняющий воздух свободы еще не до конца расправил скукоженные в местах не столь отдаленных легкие. Немного поразмыслив, взвесив все «за» и «против», Скомор угрюмо процедил:
– Ладно, уговорил. Только уясни, майор, убивать кого-либо не по мне, тем более, одноклассников своих. Я, хоть человек и пропащий, но свой внутренний кодекс чести блюду и буду блюсти до гробовой доски…
– И давно? – ухмыльнулся Успенский.
– Что «давно»? – не понял Скоморохов.
– Блюдешь, говорю, кодекс чести давно?
В глазах Скомора на мгновение сверкнула злость, но он уже привычным усилием воли, привитым ему во многих тюрьмах и зонах, проглотил ее и, выдохнув остатки, ответил:
– Неважно. Чего конкретно хочешь знать?
– То-то! – встрепенулся Успенский и торопливо потушил сигарету. – Той ночью ты еще видел их, или, может, встречался с ними? Если да, то в какое время? Кстати, время советую вспомнить поточнее, потому как от этого будет зависеть твое дальнейшее местонахождение.
– Слушай, Сережа, мне не было и нет резона мочить своих одноклассников! – со слезой в голосе, побледнев, воскликнул Скомор.
– Твою мать, а?! – Успенский хлопнул себя по колену. – Ты прям, бля, как целка-переросток кочевряжишься. Не хочешь языком шевелить, тогда шевели культями, и поехали! Ты вроде решил… Тебя хрен разберешь!
– Ладно, ладно, – пробубнил Скомор. – Был я там в полтретьего и, конечно, видел их – развороченных… Только это не я сделал, не я, понимаешь?! Мне на хрен они не нужны… Мать их, не успеешь откинуться, как в обратку кто-нибудь ненароком подмажет…
– Зачем ты к ним зашел? – удовлетворенный ответом, спокойно спросил Успенский.
– Просто хотел догнаться, а денег у меня уже не было. Как теперь выясняется, к сожалению. Я, перед тем как к ним зайти, два часа сидел в игровых автоматах на Студенческой. Все просрал! Что же касается времени, то оттуда я выполз ровно в два часа. Там приемник тренькал без умолку, и тетка по нему промяукала, что, дескать, в нашем городе два нуль-нуль…
– А с чего ты взял, что в квартире оказался в половине третьего?
– Там на кухне, на холодильнике, будильник тикал, я автоматом и взглянул на него. А вообще, кретин я. Как с зоны пришел, так решил, что хватит минутки да часы отмерять – наотмерялся вдоволь. И закинул свои котлы куда подальше, они у меня знатные, со швейцарским механизмом… Да что теперь скулить…
– Насколько я могу судить, – продолжал допрос Успенский, – от игровых автоматов до дома Анучина максимум пять минут. Ты что ж, на пузе полчаса полз до него?
– Да не то чтобы на пузе, но вроде того, – осторожно улыбнулся Скомор. – А потом я ж эту – как ее? – Добрынину Натаху встретил, помнишь, может? Проболтали с ней, кошкой, маленько. Было о чем. Я с ее хахалем на тюрьме одной сидел, «дорогу» плели из шмотья палого. Поболтали, много чего припомнили, она, сладкая, к себе звала, а я, дурак, к этим потопал. С другой стороны, не по мне чужих баб мочалить в отсутствии мужа, вроде как крадешь неправильно… Она подтвердит, если че…
– Ну, ладно, положим, все так и было, как ты мне здесь напеваешь. Пришел ты, дверь открыта была?
– Ну да. Я вроде как кулачком постучал для приличия. Смотрю, никто не открывает, я и пнул ее ботинком со злости. Та, клятая, отворилась, ну, я и…
– Вошел?! – не дал ему договорить Успенский.
– Вошел, – удивленно ответил Скоморохов. – А как же по иному-то?
– А вот это я у тебя спросить хочу! Либо ты, дорогой, летать там у себя на зоне научился, либо опять дурочку гонишь!
Успенский чувствовал, что перебарщивает, но остановиться уже не мог. Такие эксклюзивы, как Валерий Скоморохов, понимали только кнут, а пряник, который им иногда, по своему малодушию, предлагали, воспринимали, как некую взятку. На нее же покупаться считалось непростительным грехом. Сергей Юрьевич решил, что до тех пор, пока его дотошный мозг в полной мере не поверит рассказанному, давление стоит продолжать, а уж со своей истерзанной совестью он после будет разбираться.
– В ту ночь, Валера, если ты помнишь, шел дождь. Чтобы подобраться к подъезду дома, где проживали покойные, нужно свои ноги обязательно опустить в лужу, понимаешь?! Ты хочешь сказать, что за все эти годы ты из беспросветного засранца превратился в чистюлю? Никогда не поверю. В квартире и тени грязи нет! Усек?
– А вот тут ты прав, начальник, – добродушно засмеялся Скомор. – Пучок, мать его за ногу, хоть и пил в последнее время много, но чистоту поддерживал идеальную. А все из-за его работы вонючей. Клиенты, видите ли, должны от такой чистоты большое доверие испытывать. Пучок всех по этому поводу жучил. Ты, начальник, у соседей спросить можешь. Меня он тоже приструнил в свое время, давно уже… К нему, говорят, даже если кто-то просто, там, не знаю… за спичками, за солью постучится, он дальше придверного коврика не пускает, причем коврика, который с внешней стороны… Сам удивляюсь, пьяный вроде в зюзю, все, как говорится по фигу, а чоботы снял на автомате… Прошел туда… А там, бля… Надо ж, как их уделали!
– А пойло чего не забрал? Испугался?
– А то нет? – виновато огрызнулся Скомор. – После такой картинки вряд ли она, зараза, полезла бы! Я, как увидел все это, так ноги чуть не подкосились, думал, мочи уйти не будет. И не от крови, нет, ее я в своей бедолажной жизни понагляделся во как! Оторопь взяла от того, что я с ними еще несколько часов назад выпивал запросто… По плечам друг друга хлопали, ржали о ерунде всякой, как мерины, а тут, бля… Потом силы понемногу возвернулись, и я к двери. Ботинки по-быстрому натянул, даже шнуровать не стал, и… А, да, еще краем куртки ручку дверную с обеих сторон протер, на всякий пожарный… Вышел… Не помню, как до хаты доковылял, там у меня, слава Богу, было, а то не знаю, как заснул бы. Кто же их так, а главное, за что? Они ж как дети малые, безобидные…
Успенский понял, что Скомор не врет, интуиция его – следователя с многолетним стажем, редко когда давала осечку. Он снова машинально закурил, пристально поглядел на уставшего от собственного рассказа Валеру и, удовлетворенно улыбнувшись, подвел итог:
– Ладушки! На сегодня хватит с тебя. Правда, проехаться все ж таки со мной придется. Подписку о невыезде черкнешь, а там…
На следующий день Успенский почти на сто процентов убедился во всех перечисленных Валерием Скомороховым фактах, подтверждающих его алиби и непричастность к убийствам. Сомнительным казалось одно. Люди, подобные Скоморохову, по мнению Сергея Юрьевича, при виде окровавленных трупов никогда не испытывают страха, и душа их остается в привычном состоянии, оставляя пятки не обремененными своим навязчивым присутствием.
«Валера хотел выпить. Значит, должен был сделать это, взяв халявное зелье с собой, обязательно. Тут же, нет, оставил! – говорил себе Успенский. – Впрочем, это даже хорошо. Значит, закона боится крепко… Однозначно – плюс. Нет, не мог он их убить, незачем, а потом ведь только вернулся, вряд ли. Ладно, посмотрим, что дальше будет…»
Встреча с Ковалевым оказалась не очень приятной. Тот пару раз не сдержался, назвав Успенского медлительным и неповоротливым. Сергей Юрьевич наезд стерпел и поклялся стараться и прибавить обороты. Так уж сложились их отношения за двадцать пять лет: Успенский обещал, Ковалев верил, а дела? Дела раскрывались с той скоростью, которую определяла им судьба.
Вечером того же дня, возвращаясь домой, Сергей Юрьевич заметил Петрова, сидевшего на одной из недавно вкопанных лавок. В одной руке его красовалась бутылка пива, в другой сборник кроссвордов и шариковая ручка. У Успенского эта картина незамедлительно вызвала нервную дрожь. С недавнего времени он не терпел людей, с глубокомысленным видом разгадывавших нынешние постперестроечные ребусы. Потому как вопросы и загадки в них, по его мнению, были сложности средней группы детского сада, ну, что-то вроде: «столица Российской Федерации», или «река, впадающая в Каспийское море».
– О, Ус, привет! Тут такая задача… – по-свойски начал Петров, когда Успенский подошел.
– Здравствуй. Говори.
– Крупный чиновник в феодальном Китае.
– Мандарин, – равнодушно сказал Сергей Юрьевич.
– Да ладно тебе! – не поверил Лысый.
– Вот тебе и ладно. Книжки надо читать, Саша, по возможности, умные. Ты чего здесь делаешь?
– Ах, да! – опомнился Петров. – У меня для тебя кое-какие новости есть. Кстати, как продвигается дело с двумя… хотя нет, с тремя неизвестными?
– Нормально продвигается, – немного раздраженно ответил Успенский. – Ты, брат, не тяни, говори, что там у тебя, а то, если честно, устал я за день здорово, спать хочу…
– Да, вот, имею намерение тебя кое с кем познакомить, – несколько волнуясь и даже чуть ли не оправдываясь сказал Петров.
– Зачем это еще? – строго и недоверчиво спросил Успенский. – Может, тебя, тимуровца, к нам на полставки устроить? И почему тебе спокойно не живется?
– Нет уж, спасибо, такой услуги мне оказывать не надо, – почти не обиделся Петров. – А насчет моего предложения… Давай я тебя сначала познакомлю, а ты уж решишь, полезно оно тебе или нет.
– Ладно, черт с тобой, знакомь, но если это все пустое, с тебя бутылка коньяка, и причем коньяка той страны-производителя, где растет виноград! Идет?
Вскоре они оказались у злополучного дома на улице Энгельса. Словоохотливые хозяйки усталыми обветренными руками снимали с веревок высохшее белье, их мужья немногословно курили около подъезда, а дети играли в свои незатейливые игры. Ни один проходящий мимо человек не мог бы даже в своих фантазиях предположить, что несколько дней назад здесь произошло убийство.
– Не пугайся, Ус! К Пучку заходить не будем. Вряд ли он нас примет, – в своем репертуаре сострил Лысый.
– Надеюсь…
Пройдя почти весь двор, они оказались у двери подвала, из которого доносилась невнятная, сдобренная отборным матом, болтовня. Петров глазами поманил Успенского за собой, и они вошли в подвал. Там, опираясь спинами о красно-кирпичную стену, рядком сидели четыре престранных субъекта. Все с длинными прокуренными бородами и грязными, засаленными от недавно съеденной селедки руками. Во всяком случае, пахло в подвале именно селедкой.
– Блэк, надо поговорить! – как всегда без лишней вежливости произнес Петров.
– Водку принес? – прохрипел один из бородачей.
– Принес, принес, не боись, – успокоил его Лысый, доставая из внутреннего кармана бутылку.
– Господа-товарищи, у меня конфиденциальный разговор, так что попрошу на выход, – неестественно вежливо обратился к соплеменникам бородач.
Те чуть зашевелились, но по-прежнему оставались на местах.
Последовала недолгая пауза, нарушенная пугающим ревом Блэка:
– На хер все вышли быстро!!! Шевелим мудями, господа хорошие!!!
– Ладно, ладно, не стоит так нервничать, пошли мы, премного благодарны за теплый прием, сельдь была великолепна… Всего доброго! – совершенно внешне не обижаясь, заторопились те.
Старикан Блэк аккуратно разлил в пластмассовые стаканчики водку и, не дожидаясь остальных, одним махом проглотил свою порцию. Лысый и Успенский переглянулись и отставили пойло.
– Блэк, расскажи ему, что ты видел в ту ночь, когда замочили Пучка, – предложил Петров.
Ничуть не удивляясь его словам, Блэк щедро налил себе еще, выпил, и вполне приветливо повел свой оплаченный рассказ:
– Я сразу, как увидел этого торопившегося кренделя в сером плаще, подумал, что скоро здесь запахнет мокрухой. У меня к таким вещам интуиция приспособлена, дай бог всякому. Кабы я в ту ночь не пил, может, оно как-нибудь и по-другому завертелось, но я себе не изменяю. Хоть стопарик, но ежедневно… Так вот, говорю, почувствовал я тогда что-то неладное…
– Это с чего? – не выдержал Успенский.
Блэк в упор посмотрел на Сергея Юрьевича, неожиданно захохотал и, резко оборвав смех, произнес:
– Рожа! Рожа у него было какая-то невменяемая, словно обкуренная или еще под каким ширевом! И перекошенная… Не дай боже еще раз увидеть.
Блэк помолчал, погрузившись, казалось, в некие давние воспоминания, затем чему-то хитро улыбнулся, закурил и продолжил еще более спокойным тоном:
– Было время, я крепко закладывал, можно сказать, по-черному синячил… Это-то меня потом и сгубило. Почему-отчего, брехать не стану, суть не в этом, но вот случилось со мной однажды, попал я в дурку, надолго загремел, месяца на четыре. Так вот, там таких шизиков, как тот, кем вы интересуетесь, до едрени фени… Кто, как говорится, «белочку словил», кто от ихней гребаной терапии крышу сбросил, а кто сам по себе с рождения такой, но их, последних, обычно не густо набиралось. Оно и правильно, может. Чего их, юродивых, таблетками зря пичкать? Вот я и говорю, значит, понасмотрелся я… Глаза стеклянные, почти не моргают, ходят как зомби, никого не замечают. Хавчик тоже им побоку… Этот, видать, такой же был, только шибко прыткий…
– Так ты его разглядел, значит? – спросил Петров. – Узнать смог бы?
– Да не перебивай ты, мать твою! – занервничал Блэк. – Я сам все, что надо, скажу. Так вот, че я там балакал-то?! А, да… Прыткий, зараза, был. Он так, видать, спешил, что ничего вокруг себя не видел, ну, и меня в том числе. Он даже, кажется, задел меня маленько… А узнать? Не знаю даже. Я сам тогда хорошо накушался. Кабы он при новой встрече-то такой же нарисовался пришибленный, как и в ту ночь, узнал бы, клянусь! А если так, в толпе, не знаю, вряд ли…
– Ну, хоть какой из себя? – подал голос Успенский. – Здоровый, маленький, худой, косой, кривой, лысый?
– Неее! Не лысый! Точно, не лысый! – засмеялся Блэк. – Он даже, напротив, очень даже волосатый, седоватый маленько. А вообще, обычный, ничего особенного, как Санек, как ты… В сером плаще, и рожа… Да, рожа была хороша, не дай бог еще раз встретиться…
– А вы наткнулись на него, когда он обратно шел или туда? – спросил Успенский.
– Туда! Дождь ведь был. Я стоял у ихнего подъезда, прятался от дождя, значит, а он торопился, шизик… Сколько он там пробыл, не знаю, я к себе пошел, то бишь вот сюда. Дождик притих, я и потопал. А потом, господа-товарищи, откуда мне было знать его планы? У него свои, у меня свои! Одно заявляю безапелляционно, это я уж точно решил: он, сука, их замочил и никто другой.
– Ну и что ты думаешь обо всем этом? – на обратном пути горделиво спросил Петров.
– Думаю, услышанное нужно взять на заметку, но особенно доверять не следует.
– Понятно, – немного опечалившись, протянул Лысый. – А я-то надеялся хоть как-то помочь. Ну, что ж, теперь с меня трехзвездочный, да?
– Ничего ты мне, Саша, не должен. Одно скажу тебе на будущее: не лезь ты в красные следопыты. Не надо оно тебе, поверь мне. Тут ведь знаешь как? Сначала интересно, а потом тошнота начинается. Я как-нибудь сам разберусь. Да и помощников мне начальство выделяет толковых. Мы с тобой лучше так общаться будем, как добрые одноклассники.
Петров понурился, разочарованно пожал плечами и теперь уже совершенно безучастно сказал:
– Ладно. Что ж поделать? Извини. Больше я в твои сыскные дела нос не суну. Слово даю.
– Никогда не говори «никогда», – улыбнулся Успенский.
Наступила суббота. Сергею Юрьевичу предстояло провести ее в обществе своей юной пассии по имени Наташа. А свел их его величество случай. Как-то, возвращаясь под вечер из драматического театра, Успенский предстал перед попавшей в беду девушкой благородным спасителем. Виной всему были некие юные отморозки, пытавшиеся впихнуть несчастную пьяненькую особу в свой роскошный автомобиль. Сергей Юрьевич не стал долго взирать на набиравшее обороты безобразие, вытащил служебный пистолет и весело, но нервно предупредил, что стреляет он хотя и плохо, но с большим удовольствием, а ежели вдруг еще и попадет, то тогда его уже никаким калачом от этого занятия не отвадишь. На юных похитителей такие слова произвели неизгладимое впечатление. Они поспешно забрались в автомобиль и, даже не посигналив на прощание, укатили. Наталья была спасена, и, как это часто случается, стала благодарной любовницей Сергея Юрьевича.
Нужна ли была Успенскому эта романтическая связь, он не знал, хотя свыкся с ощущением необычайной комфортности и легкости отношений с двадцатитрехлетним существом. На сегодняшний день его все устраивало, да и не привык он в своей жизни сетовать и роптать на судьбу. Сценарий их совместного времяпровождения всегда был одинаков. Примерно в три часа дня они где-нибудь встречались и, если погода «шептала», недолго гуляли, затем заходили в какое-нибудь не шибко дорогое кафе, пили коньяк и ели мороженое. Неотвратимо наступал момент, когда эти два сопутствующих их встречам продукта переставали приносить удовольствие, и влюбленная пара медленной нетвердой поступью направлялась в драмтеатр. Года два назад там сделали ремонт, и главным его результатом стали новые кресла, обшитые бархатом цвета бычьей крови, чрезвычайно мягкие и просторные. Именно в них-то Сергей Юрьевич и Наташа плавно отходили ко сну, краешками ушей внимая бредовым постановкам новомодных пьес. Концовка представления мистическим образом совпадала с окончанием действия алкоголя, отчего впечатление от пьесы, в большинстве случаев, оставалось приятным.
После спектакля шли к Успенскому домой, где занимались, как это нынче странно называется, любовью. Утром же разбегались по своим делам: Сергей Юрьевич в управление, Наташа в мединститут. Все это продолжалось уже три месяца.
– Хорошо выглядишь, – поцеловав девушку в искусно нарумяненную щеку и чуть улыбаясь, констатировал Успенский.
– Ну, я пока еще не так стара, Сережа, – опустила ресницы Наташа.
Сергей Юрьевич оком римского рабовладельца окинул свою возлюбленную и, в очередной раз удовлетворившись увиденным, предложил:
– Ну что, пройдемся по местам боевой славы?
Наташа кивнула и осторожно взяла Успенского под руку, но, пройдя с любимым в ногу несколько шагов, сказала:
– Нет, дорогуша, мы пойдем ко мне, знакомиться с мамой и папой.
– Вот те на! – недоуменно воскликнул Сергей Юрьевич. – Ты бы хоть предупредила, я бы костюм надел!
– Да ладно, расслабься! Какая разница, в чем ты будешь им пудрить мозги?! – она рассмеялась. – Ты ведь будешь пудрить им мозги байками про необузданную преступность и свою исключительную роль в ее искоренении?
– Да уж прямо-таки! Когда я так делал? – искренне удивился Успенский. – А твой папенька, наверное, младше меня? Впрочем, будет с кем выпить.
– И не надейся! – нахмурила брови Наташа. – Во-первых, я поздний ребенок и мой padre старше тебя на целых восемь лет, а во-вторых, у меня дома ты будешь исключительно моим и более ничьим. Попробуй только позабыть обо мне!
Сказано – сделано.
После ритуального топтания в прихожей Наташиной квартиры все расселись за овальным столом, покрытым льняной светло-серой скатертью, и стали выпивать, закусывать и болтать всякую сдобренную бархатной лестью чушь.
– Ната говорила, вы работаете сыщиком, – демонстрируя добротную кафельно-белую металлокерамику в широкой улыбке, сказал отец.
– Да, так и есть… Я сыщик, гроза всех бандитов и воров майор Успенский Сергей Юрьевич! – для пущего смеха встал из-за стола гость.
– Опасная, должно быть, профессия? – накалывая неподатливый кусок исландской сельди на позолоченную вилку, осторожно поинтересовалась мама.
– Чрезвычайно! – продолжил Успенский тем же тоном. – Вы даже не можете себе представить! Сплошной кровавый гуляш! Ночью почти не сплю, ворочаюсь, курю без остановки, все изобретаю, как бы всех этих паразитов собрать в одном месте и взорвать, черт возьми!
– Ну и как, получается? – вклинилась в разговор Наташа.
Сергей Юрьевич посмотрел на возлюбленную, затем на ее родителей, и, высоко подняв наполненную армянским коньяком мельхиоровую рюмку, заявил:
– Ты знаешь, милая, как только всех соберу, тебе, в знак особого доверия, позволю поджечь бикфордов шнур!
Все дружно рассмеялись, и застолье продолжалось. По окончании же его выяснилось, что родители этим вечером уезжают на дачу, и просторная, неоднократно испытавшая на себе чудеса европейского ремонта квартира останется на выходные в распоряжении Успенского и Наташи.
«Ох уж эта Натали, – размышлял Сергей Юрьевич следующим утром, лежа в одной постели со своей сладко посапывавшей возлюбленной. – Странная девчонка… Неужели ей, почти ребенку, интересно проводить время с таким старпером, как я?… Пожелтевшие зубы, морщины и бесконечная проседь, даже на груди… Хм… Значит, интересно… Наверное, во мне что-то есть… Может, я умный? Ха-ха…»
День прошел в счастье и согласии. Наташа постоянно что-то готовила, видимо, полагая, что к сердцу мужчины лучше всего продвигаться проторенными дорожками. Сергей Юрьевич тем временем восседал на мягчайшем велюровом диване, самодовольно потягивая дорогостоящие папины сигары, и томно улыбался беспричинно суетившейся всюду Наташе.
Следующая ночь также была до краев наполнена страстью, подобно предыдущей, а утро донельзя напоминало (в хорошем смысле) предшествующее. Затем наступил последний вечер их кратковременной идиллии, привнесший в отношения небывалую нежность и понимание. Им никогда не было так хорошо. Казалось, сам Бог занимается устройством их счастья…
Но ворвалась ночь…
Понедельник – день тяжелый… Сергею Юрьевичу, в принципе не верившему ни в какие приметы, сегодня пришлось кардинально изменить свое мнение. Дела не клеились, причем не клеились со всех сторон. Голова трещала с раннего утра и, самое примечательное – не совсем ясно с чего. Они хоть и пили с Наташей все выходные, но не столько, чтобы после навалилось такое болезненное похмелье. Разумеется, весь этот физиологический дискомфорт Успенский готов был принять, вытерпеть и усилием своей стальной воли преодолеть, но Наташа… Ранним утром, провожая Сергея Юрьевича до двери, она не проронила ни слова, и даже не поцеловала на прощание… К тому же удивлял и повергал в уныние ее последний взгляд – испуганный и вместе с тем опустошенный, лишенный внутреннего спокойствия и равновесия. Сергей Юрьевич неожиданно для себя оказался в тревожном замешательстве и всю первую половину дня терзался в догадках.
«Может, я был груб с ней? – думал он. – Да нет же, нет! Выпил, и нес чепуху? Глупости все это, я никогда не пьянею от трех рюмок… Что же, Господи, что же?»
А в три часа позвонил Ковалев и сообщил, что сегодня в четыре утра был зверски убит Валерий Скоморохов.
Вскоре Успенский стоял над телом Скомора и записывал в блокнот всяческие подробности новоиспеченного убийства. На сей раз огнестрельных ран не было. Бедняге пробили череп табуреткой, которая от сильного удара лишилась пары ножек. Мать убиенного, находившаяся в трагическую ночь на даче, узнав о случившемся, потеряла рассудок и теперь пребывала на попечении медперсонала психиатрической больницы. Соседи рассказывали, что вчера Скоморохов беспрерывно пил, и его многочисленные гости менялись с удивительной частотой. Вскоре, видимо, прознав об убийстве, начали подходить эти самые вчерашние гости и чуть ли не в один голос заявлять о хорошем настроении Скомора. По их словам, празднество окончилось около двух часов ночи, и Валера намеревался завалиться спать…
Где искать начало и конец страшного убийства Успенский не знал. Его голова раскалывалась от переизбытка информации, странного поведения Наташи и противоречивых показаний. Во всем происшедшем он видел теперь одну сплошную мистику, и даже поймал себя на мысли, что никакого убийцы и вовсе не существует. Какая-то неведомая сила сметает железной клешней на своем пути неугодных, а он – Успенский, по воле рока является неотъемлемым звеном в устрашающе позвякивающей цепи загадок. Ведь что ему стоило отказаться от предложения Ковалева? Не отказался, мало того, с какой-то несвойственной ему легкостью взялся за дело. А теперь? Теперь он как реквием ведет это чернушное расследование, предчувствуя неотвратимую собственную гибель. Как Моцарт…
Придя домой, Сергей Юрьевич нарвался на истерично разрывающийся телефон. Это звонила Наташа.
– Как ты, милый? – робко спросила она.
– Да ничего, кручусь, как белка в колесе, – подавляя накопившиеся эмоции, ответил Успенский.
– Как ты себя чувствуешь, Сереженька?
– Да нормально все. Почему это тебя так заботит? Или я что, ночью был при смерти?
– Да нет, нет, все нормально, – затараторила она, – ты правильно делаешь, что не акцентируешь внимание на происшедшем. Хотя… – тут она разрыдалась, – Сережа, милый, у меня такой синяк на руке, я… я даже не могу ей пошевелить, понимаешь?
Наташа положила трубку. Что все это значило и как к этому относиться, Сергей Юрьевич не знал.
Следующая новость выглядела лучше предыдущих. Сразу после Наташи позвонил Ковалев и радостно объявил, что в деле намечаются кое-какие подвижки.
– Ты представляешь, Серый, не все так плохо, как я думал. Взяли тут одного, вернее, сам пришел.
– Кто это? – оторопел Успенский.
– Бомжара один. По крайней мере, рассказывает он складно, все сходится. Мотив, правда, сомнительный, а так… Приходи завтра, все сам услышишь…
На следующий день Сергей Юрьевич увидел сгорбленного, уныло сидевшего в «обезьяннике» старика-бомжа. Это был Блэк.
– Хочешь поболтать с ним? Милости прошу! – самодовольно почесывая живот, предложил Ковалев.
– Да нет, Анатольич, того, что ты сам накалякал, вполне достаточно. Мне и так все видно и понятно, – угрюмо сказал Успенский.
– И что же ты видишь? – не обращая внимания на явный скепсис следователя, поинтересовался Ковалев.
– Да что я вижу? Вижу, что за двадцать пять лет ты почти не изменился, разве что бока нарастил, да полысел изрядно.
– Чего? – выпучил глаза Ковалев.
– Что слышал! Хочешь посадить его? Сажай, но без меня, пусть он будет на твоей совести…
– Но, Серый! – взмолился начальник отдела. – Все же сходится, и отпечатки в квартире… Да и сам он не отказывается, говорит, давно хотел с этим мерзавцем разделаться!
– Ну, с отпечатками мы разберемся как-нибудь, это ты мне поверь, а насчет всего остального… Ты посмотри на него, посмотри! – разразился громом Успенский. – Да он готов взять на себя все что угодно – связь с «Аль-Каидой» и дружбу с бен Ладеном, лишь бы грядущую зиму в тепле прожить и питаться три раза в день. Как говорится, готовь сани летом. Да, Блэк? – Успенский взглянул на подозреваемого.
Тот медленно поднял голову, равнодушно посмотрел на двух ментов и, недоуменно пожав плечами, уставился в пол.
– Блэк? – удивился Ковалев. – Это Владимир Сергеевич Зязиков! Три года назад отбывший наказание за грабеж. А ты мне тут – Блэк! Сам ты Блэк!
– Ну, на это мне наплевать, кто он там и по какой статье, – сказал Успенский. – Я все равно им заниматься не буду, хоть убей.
– Ну, так это или нет, выясним, а отпускать я его все равно не имею права. Порядок такой, сам знаешь. Кравцов с ним поработает, тогда и решим…
– Ну-ну… – буркнул Сергей Юрьевич.
Он шел домой и думал:
«Наваждение какое-то… Что их всех связывает? Анучин, Кашкин, Скоморохов… Все они мои бывшие одноклассники. Вот и все. Кроме водки, никаких интересов. Такое впечатление, что это не последняя смерть… Кто следующий?»
– Серый! – окликнул Успенского знакомый голос. Это был Саша Петров, и следователь ему нисколько не обрадовался. – Чего кислый такой?
– Все тебе расскажи да покажи… – пробурчал Успенский.
– Я слышал, Блэка взяли. Думаете, он?
– Да нет, конечно, простая формальность. Не боись, скоро увидишь его…
– На скамье подсудимых, что ли? – хохотнул Петров.
– Да ну вас всех к чертям собачьим! – раздраженно махнул рукой Сергей Юрьевич.
Лысый вдруг помрачнел, подошел вплотную к Успенскому и, глядя ему в глаза, тихо спросил:
– Ну что, теперь Скомор? Ты знаешь, Серый, я хоть и обещал тебе не вмешиваться, но тем не менее… Мне с тобой необходимо поговорить… Это касается всего, что сейчас творится…
– Ну, говори, – недоверчиво усмехнулся Успенский. – Или что, опять водка нужна?
– Да нет, на сей раз обойдемся. Тут трезвость превыше всего… Пойдем, присядем.
– Ну, пойдем, загадочный ты наш, присядем…
Они направились к скамейке, сели, и Петров спросил:
– Серый, ты хорошо помнишь школьные годы и, в частности, апрель шестьдесят третьего?
– Конечно, помню, а как же, – серьезно ответил Успенский. – Я, как ты догадываешься, только об этом и думаю… А как же иначе, конечно… У меня ж, ты знаешь, других занятий нет… Только и вспоминаю апрель, именно шестьдесят третьего года, а то как же!
– Значит, не помнишь… – задумчиво протянул Петров. – Тогда скажи, пожалуйста, откуда у тебя этот шрам на лице? Или тоже забыл?
– Ах, вот ты о чем! – став серьезным, сказал Сергей Юрьевич. – Что было, то было..
– А ведь ты тогда, Ус, не прав был, – Лысый закурил и пристально посмотрел в глаза Успенскому.
– И чем же я тогда всем вам не угодил?
– Ну чем, чем… Всегда ты был, как это получше сказать, вне коллектива, – Петров опустил голову.
– Да ну?! – недобро оскалился Успенский. – А может, все-таки тем, что говорил всегда то, что думал и поступал по совести, в отличие от всех вас?
– Ну, вот, опять. «От всех нас»! Что в переводе означает: мы все такие козлы вонючие, а ты, значит, у нас такой правдолюбец непонятый, белый и пушистый, да? А самое главное – безгрешный! Так не бывает, Сережа, понимаешь, не бы-ва-ет!!!
Успенский схватил Петрова за ворот ветровки и, с силой прижав его лоб к своему, зло процедил:
– Знаешь, Саша, в этой жизни все бывает, и заруби себе это на своем любопытном носу. А в святые, ты сам помнить должен, я никогда не лез.
– Да ты что, с ума сошел? – не на шутку испугался Петров. – Что с тобой? Ну, ты, брат, даешь!
– Ладно, извини, – Успенский убрал руки. – Я не хотел. Прости. Так что там у тебя?
Петров помялся, пожал плечами:
– Да, собственно, тут и так все ясно. Скоро этот печальный список пополнят еще трое. Фамилии их нам с тобой хорошо известны. Искусов, Бабойдо и Павлов. Кто-то мстит за тебя, Ус, ну, или же ты… – Петров запнулся.
– Договаривай, договаривай, чего замолк? – глядя на него исподлобья, почти прошептал Сергей Юрьевич.
– Ну, словом, ты меня понял… – мрачно, едва слышно сказал Петров и пошел прочь.
Наташа была девушкой не злопамятной. Успенский давно уяснил это, и потому, направляясь к ней домой, не испытывал опасений. Тем более, он так толком ничего и не понял из последнего Наташиного звонка. Вообще, в их уже довольно продолжительных отношениях сложилась практика невмешательства в сугубо личные комплексы.
По дороге с Успенским случилось довольно примечательное происшествие. Наташин дом находился близ нововозведенной церкви, одной из тех, которые в нынешнее безбожное время плодятся с невероятной быстротой. И хотя Сергей Юрьевич считал себя атеистом, в храм иногда захаживал. Где-то он прочел, что всякая церковь возводится не абы где, а на специально выбранном месте. И якобы человек, периодически бывающий на этом святом месте, невольно подпитывает душу тайной божественной силой. Успенскому прочитанное показалось правдоподобным, и он порой подолгу простаивал среди молящихся, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Прибавлялась ли эта сила в нем или нет, он не знал, но где-то в глубине души верил, что прибавлялась.
Так вот, по дороге к Наташе Сергей Юрьевич решил зайти в церковь. Навстречу ему шла женщина его возраста, и Успенскому вдруг показалось, что когда-то он уже видел это лицо. Причем видел близко, и даже касался его, только тогда оно было гораздо моложе. Кажется, женщина была душевнобольной – она то бормотала что-то себе под нос, то принималась ругать прохожих.
Приблизившись к Успенскому, безумная недовольно фыркнула, и, сверкнув на него глазами, закричала:
– Ты еще ходишь здесь, дышишь?! Да тебе уже в земле пора лежать! Эх ты – мертвечина, тухлятина…
Успенский остолбенел от услышанного, и ему стало даже как-то нехорошо физически. Он стоял и провожал взглядом помешанную.
– Да не слушай ты ее! – сказал проходивший мимо старик. – Дура она, Верка-то… Несчастье у нее было давно, вот и свихнулась баба… Жаль, но что поделаешь? Ее всякий тут знает… Верка Сотня, слыхал?
И впервые в жизни Сергей Юрьевич Успенский поставил в божьем храме свечку за здравие… За здравие Верочки Сотниковой – его первой школьной любви…
Наташа встретила его широкой улыбкой, страстным продолжительным поцелуем и котлетами по-киевски, которые Успенский прямо-таки боготворил (разумеется, в Наташином исполнении). Она не проронила ни слова о минувшем инциденте, выглядела веселой, и Сергей Юрьевич тоже решил не говорить об этом.
– Ну, как тебе моя стряпня? – гордо оправляя фартук, полюбопытствовала она.
– Превосходно! – похвалил Успенский, жуя хрустящую котлету.
– Не пересолила? А то раньше покупала обычную соль, а тут вдруг решила взять «экстру», а ее нужно меньше сыпать. Пересолила, наверное, да?
– Милая, если бы ты даже ненароком бухнула целый стакан, я бы все равно не поморщился во имя нашей нерушимой любви. Не беспокойся, все замечательно. – заверил возлюбленную Сергей Юрьевич.
– Понятно, понятно, кукушка хвалит, – улыбнулась Наташа. – Слушай, я недавно поймала себя на мысли, что мы с тобой так долго вместе, а я о тебе мало что знаю. Рассказал бы о своей работе…
– С чего это ты? – удивился Успенский. – Конан Дойл со своими персонажами запал в сердце? Бедняжка. Доктор Ватсон в юбке! Оригинально!
– А что здесь такого? Очень даже любопытно. Вот, к примеру, чем ты сейчас занимаешься? Ловишь кого-нибудь?
– Да я, милая, кажется, всю жизнь кого-нибудь ловлю… Ну, если тебе так интересно – слушай.
И Успенский поведал Наташе все, не упустив и свой последний разговор с Петровым.
– Может, он прав насчет будущих жертв? – встревоженно спросила Наташа.
– Даже если и прав, то что я должен предпринять? Приставить к ним охрану? Да меня от такого предложения на смех поднимут!
– А ты их просто предупреди, всех троих, – посоветовала Наташа. – Кстати, Искусов… Однофамилец или?…
– Или, – сказал Успенский. – Он самый, Алексей Дмитриевич, глава администрации Центрального района…
– Ты должен гордиться своими одноклассниками. Смотри, они у тебя какие!
– Главное, что пока еще живые, – усмехнулся Сергей Юрьевич. – А то, чувствую, скоро мне некем будет гордиться…
Торжество, посвященное началу предвыборной кампании, происходило на даче нынешнего и, по всей видимости, будущего префекта Центрального района Александра Дмитриевича Искусова. Радость переполняла присутствующих, и даже время от времени выплескивалось кипящей магмой на соседние коттеджи.
– Искренне рад за тебя, Дмитрич, за дела твои праведные рад, – дружески похлопал Искусова по жирному плечу подполковник Свиридов. – Не такие еще горы свернем с тобой!
– С Божьей и, разумеется, с твоей помощью…
– С мой, с моей, – самодовольно покивал подполковник. – Нам же что главное, Леша? Люди! Или, как сейчас толкует наш президент, благосостояние народа, электората, а без нас оно, ну никак, понимаешь ли, расти не хочет, зараза…
– Что правда, то правда! – согласился Алексей Дмитриевич, потирая тройной гладковыбритый подбородок. – На то мы народу и даны! Он без нас никуда, да и мы без него, как машина без бензина!..
Происходящее вселяло в Искусова стойкую уверенность в правильности некогда выбранного поприща. Еще в далеком детстве он с завистью смотрел на холеных обитателей райкомов, мечтая о собственном просторном кабинете с мягким креслом, казенном автомобиле с шофером и прочих благах. Где-то в классе седьмом или восьмом Леша твердо решил стать партийным деятелем и никак не меньше. Частенько, оставаясь один дома, он подолгу смотрелся в зеркало, пытаясь хоть на миг представить себя в солидном, даже почтенном возрасте, в дорогом темно-сером, увешанном медалями и орденами, костюме и с каким-то беспредельно искренним, благородным блеском в глазах. Многое пришлось пережить Алексею Искусову, прежде чем его карьера медленно, но верно пошла в гору. Все неудачи, благодаря невероятной воле и целеустремленности, он перемолол, поборол, и добился, как он сам считал, неплохих результатов.
Отсверкал фейерверк, и вдоволь навеселившиеся гости стали разъезжаться. Супруга Искусова, будучи с высокопоставленным мужем не в самых лучших отношениях, тоже направилась к поджидавшему ее автомобилю.
– Софушка, ты оставляешь меня одного? – с деланной обидой завопил Алексей Дмитриевич. – Как же я здесь справлюсь без тебя?
Та остановилась у темно-синего BMW и, пренебрежительно взглянув на своего изрядно набравшегося мужа, зло процедила:
– Чтоб он у тебя отсох когда-нибудь! Кобелина ты неуемная!
– Вот видишь, Григорьич, – по-братски обнимая подполковника за плечи и как бы сокрушаясь, вздохнул Искусов, – не любит нас народ, не любит, и все тут! И нет мне по этой причине никакого душевного покоя. Одни расстройства… Так-то вот, Григорьич. Все, казалось бы, делаешь… Стараешься. Напрягаешься из последних сил. Хочешь машину? На тебе машину! Дачу?! Пожалуйста! Три дачи, Григорьич!!! Три!!! Каждый бархатный сезон – Доминикана, на худой конец – Гоа! Сам, бля, в Крым езжу, для прикрытия… Меня при виде Кара-Дага и Ай-Петри трясти начинает, а при входе в симферопольский аэропорт все время выпить хочется… м-да… но я терплю… А они нос воротят! Вот и говорю: не любит нас народ, нет, не любит…
Подполковник как будто не слышал его, но, глотнув из горла фигурной бутылки коньяку, неожиданно промямлил:
– Это мы еще сегодня, Дмитрич, посмотрим, как нас не любят. Я уже, чтоб ты знал, позвонил кое-куда, и… Короче, щас к нам с тобой приедут и полюбят, вот увидишь, Леша, как нас полюбят! Я те отвечаю, Алексей! И убедительная просьба, не слушай всяких там недоброжелателей, это у них от бессознательности вырывается… А глупые глупости эти в голову свою драгоценную не бери… Она тебе, Лексей, для других, более важных дел, дана! Так что, как-то так вот…
– Молодец, Григорьич, хвалю! – расплылся в мармеладной улыбке Искусов. – Можешь прокалывать дырки на погонах новые… Это я тебе не по пьяни говорю, заметь… Ты уж мне верь, Григорьич, верь… Я тебе за то помогу, что ты завсегда меня, говнюка, утешить можешь, а такое не каждому дается… Так что – дырявь!
Агентство так называемого «досуга» «Элеонора» уже год как сотрудничало с нынешним префектом Центрального района А. Д. Искусовым, и это длительная «деловая связь» объяснялась прежде всего тем, что, в отличие от других многочисленных фирм такого поистине нового типа, «Элеонора» в состоянии была предложить нечто более экстравагантное.
Алексей Дмитриевич Искусов издавна был неравнодушен к детям, или, лучше сказать – он очень любил детей! А подполковник Свиридов охотно составлял ему компанию.
На сей раз им предоставили двух тринадцатилетних девочек-азиаток, по уверению хозяйки агентства Элеоноры Валерьевны, девственниц. Это очень возбудило Искусова.
– Ой, криков-то сегодня будет, криков-то! – потирая руки, запричитал Алексей Дмитриевич. – Люблю я это дело, Григорьич, ох люблю!
– А я что, не люблю?! Я еще больше, чем ты, люблю!
Сценарий подобных оргий был всегда одинаковым, не изменился он и на сей раз. «Забавляясь» с девочками, Искусов и Свиридов не забывали дозаправляться изысканным пойлом, а временами по очереди ходили освежиться под душем.
В очередной раз возвратившись из ванной, подполковник Свиридов застал страшную картину. Испуганные девочки-азиатки, связанные, с кляпом во рту, постанывая, сидели у стены, а посреди комнаты лежал мертвый окровавленный префект Центрального района Алексей Дмитриевич Искусов.
– Все, Серега, мы теперь не при делах, – сказал Ковалев. – Фээсбэшники подключились.
– Свиридов у них?
– Да нет, он в подозреваемых не числится. Девчонки в один голос пищат, что он душ в то время принимал. А вообще, конец теперь его карьере… Допрыгался, педофил в погонах!
– А что девчонки говорят? Описали убийцу?
– Описали… Хотя и так по-русски еле-еле, а после всего увиденного и вовсе понимать перестали. На голове то ли чулок, то ли шапка… Серый длинный плащ с поясом, черные ботинки, в тряпичных перчатках. Потому и отпечатков нигде не оставляет… Высокий… Ни слова не говорил… Что еще? Вроде все.
– А охрана где была?
– Один спал, двое в карты резались, под пивко, конечно же, а последний как раз в ту минуту по большому в сортир отправился. Да, еще… камера наблюдения сработала, но запись никудышная, темно… В общем, что есть, что нет. Чертовщина какая-то!
– В сером плаще… – пробормотал Успенский. – Блэк то же самое говорил. Мне скоро этот плащ сниться будет…
– Стреляли из того же оружия, что и на Энгельса, – добавил Ковалев. – Но теперь наше дело десятое. Теперь ФСБ рулит, а мы сидим и не рыпаемся. Как цепные собаки – скажут кусать, будем кусать, скажут на месте сидеть, сложа руки, будем сидеть.
– Значит, когда мочат какого-нибудь неизвестного Васька, тут мы должны резко напрячься. А ежели кто-нибудь повыше, например, товарищ Искусов, страдающий хронической педофилией… – Успенский усмехнулся. – Ну-ну… То есть будем кочумать?
– Ага. Получается, зря я тебя тогда потревожил. Грелся бы ты сейчас где-нибудь в Геленджике с пивком в руке…
Возле дома Успенского поджидал Петров.
– Ну, что ты там еще понавыдумывал? – пожав ему руку, проворчал Сергей Юрьевич.
– Да есть кое-что… Надоел тебе?
– Ладно, пошли ко мне, я есть хочу.
После третьей рюмки Петров закурил и сказал:
– У меня для тебя, Ус, две новости. Девятнадцатого в школе встреча одноклассников.
– А вторая?
– Помнишь Витька Бабойдо?
– Ну?
– Он по автоспорту сильно пошел, тренером… У него пацан какой-то чуть ли не Шумахера обогнал, так после этого Витек просто нарасхват стал. Перебрался в Штаты, поближе к свободе и к ее статуе, оброс многочисленными регалиями, ну, и деньгами заодно… И вроде все ничего, да только тяга у него одна национальная осталась…
– К водке, что ли? – поморщился Успенский.
– К ней самой. А ты думаешь, в Америке народ выпить не любит? Ха! Еще как любит, и пьет не меньше нашего, и всякие там тоники дела в корне не меняют, а может, даже усугубляют… Помнится, где-то лет шесть назад приезжал он к нам. Многих обошел, и меня не забыл. Принес, помню, бутылку какую-то немереной емкости, говорит: пей, мол, Лысый, наслаждайся жизнью. Ну, я и пил, разумеется, какая разница, какой дрянью печень тревожить, лишь бы градус был нормальный. Уговорили мы ее с Витьком минут за сорок…
– К чему ты это мне рассказываешь? – перебил Петрова Успенский.
– Разбился он, – мрачно ответил Лысый. – Там, у себя, разбился. Вдребезги! Кости полдня собирали.
– Ну и дела… – протянул Сергей Юрьевич. – Откуда узнал?
– Сестру его встретил. Сказала, привезут его сюда хоронить… Так-то вот, Сережа… Давай выпьем, что ли…
После этой рюмки Лысого, казалось, развезло.
– Так что, Ус, – пробормотал он чуть ли не в полудреме, – в деле-то твоем всего двое осталось, получается… Павлов да Искусов.
– Ты, Саша, плохо осведомлен, – усмехнулся Успенский. – Один. Один остался. Павлов! Искусова вчера ночью на даче грохнули. Так что только Павлов.
Протрезвел Саша Петров после этих слов моментально. Он подался к Успенскому и свистящим шепотом спросил:
– Ну и как теперь? Ты до сих пор считаешь, что все это не имеет к тебе никакого отношения?!
– А ты считаешь, что кто-то до сих пор помнит историю столетней давности и мстит за меня? Тебе самому не смешно? А может, это ты, Петров? А?!
Лысый выпрямился и безнадежно махнул рукой. Выпил еще и спросил:
– Так как, придешь девятнадцатого?
– Приду, – ответил Успенский. – А то, чувствую, такими темпами скоро от нашего класса останется пшик.
Последняя встреча одноклассников состоялась пять лет назад. Хотя Сергей Юрьевич не особо чтил пресловутые «школьные годы», но встречи эти прилежно посещал, испытывая удовольствие сродни тому, которое испытывают больные чесоткой, до крови расчесывая кожу. Там, на этих ежегодных сборищах, он отмечал, что жизнь расставляет всех на свои места. Рубахи-парни мутировали либо в пьяниц (а бывшие безбашенные девочки в их синюшных спутниц), либо сделались похожими на серых мелких грызунов. Вечно задиравшие нос отличники превратились в простых служащих, то есть стали такими же серыми, как и рубахи-парни.
А вот те одноклассники, о существовании которых вообще иногда забывали учителя, добились такого, чего никто и предположить не мог. К примеру, не проявлявший себя в школьной жизни Рома Вертманов стал актером и снялся чуть ли не в Голливуде. Бывшая троечница Оля Мороз по окончании школы неожиданно взялась за ум, поступила в мединститут, и теперь была доктором наук.
Обычно на таких встречах присутствовали только классный руководитель и учительница алгебры и геометрии, но в этот раз пришла еще одна – учительница русского языка и литературы Нина Михайловна Шацкая. Видеть ее было Успенскому неприятно. Еще тридцать пять лет назад, когда его выписали из больницы, он дал себе слово никогда не вспоминать о той кровавой истории. Но сегодня, глядя на постаревшую учительницу, Сергей Юрьевич невольно погрузился в тот давний кошмар.
Нина Михайловна оценивала учеников не столько по их знаниям, сколько по тем подаркам (а это было время тотального дефицита), которые через детей преподносили учительнице родители. Чем дороже подарок, тем выше оценка. Особенно Нина Михайловна, впрочем как и всякая иная женщина, любила духи, желательно французские, неравнодушно дышала также к шоколаду, финскому сервелату и косметике. Родители Успенского, узнав о такой «славной» традиции, сказали, что ничего дарить не собираются, но после, немного остыв, предложили сыну преподнести Нине Михайловне книгу Аркадия Гайдара «Школа». Сын так и сделал… Лицо учительницы при виде столь скромного презента (а на уроках литературы она не уставала твердить, что лучший подарок это книга) перекосилось так, как если бы она понюхала испортившееся мясо. Открыв книгу и прочитав дарственную надпись, Нина Михайловна коротко сказала:
– Спасибо, Сережа.
С тех пор Успенский стал троечником.
Однажды Шацкая предложила классу экскурсионную поездку в Ленинград, но с тем условием, что все до этого времени прочитают одно многостраничное художественное произведение и потом продемонстрируют свои знания. Один из верховодов, Павлов, предложил бойкотировать такое условие и книгу не читать. Его поддержали многие, но не Успенский, который это произведение уже прочитал.
И на уроке шесть человек, несмотря на все подарки, получили колы, а он – пятерку…
После окончания последнего урока Успенского обступили все шестеро, и Павлов сказал:
– Ус, тебе это с рук не сойдет, получишь по полной, предатель!
Скоморохов же добавил:
– Попал ты, гад, попал!
Анучин неожиданно ударил кулаком Успенского в нос. Сергей попытался было ответить, но его схватили за руки, и Бабойдо ехидно улыбнулся:
– Хочешь ответить? Сейчас ответишь, только не здесь. Идем в сад…
В больнице Сергей пролежал долго. Все зажило и срослось, и здоровье, кажется, было восстановлено. Обидчиков своих он не выдал – сказал, что его избили незнакомые мальчишки. И только через много лет стал замечать, что у него возникают какие-то провалы в памяти. Жестокое избиение все-таки давало о себе знать…
А поездка в Ленинград все же состоялась, но уже в следующем учебном году.
Торжественная часть подошла к концу, и вскоре все разместились за составленными вместе накрытыми столами. Устроившийся напротив Петров отсалютовал Успенскому рюмкой водки, тот поднял свою, но пить не стал. Он отыскал глазами Павлова, которого не видел уже очень давно – тот на такие встречи если и ходил, то лишь в первые годы после окончания школы. Теперь это был не в меру упитанный коренастый мужик с заплывшими, то ли от частого принятия алкоголя, то ли от какой-то болезни, глазками, но сохранивший, тем не менее, былую подвижность и густую, зачесанную назад шевелюру. Павлов был всецело погружен в еду – он тщательно жевал свинину и запивал ее красным вином.
Когда отзвучали застольные речи, и почти все было съедено и выпито, объявили танцы. Сергей Юрьевич не слишком любил это развлечение, но не отказал, когда его пригласила некая женщина, представившаяся Лизой. Танцуя, Успенский изо всех сил пытался вспомнить такую одноклассницу, но безрезультатно.
– Что, не получается? – хитро усмехнулась она. – Я пришла в девятом классе, вас уже не было. Но я вас знаю. Леша мне о вас рассказывал, и фотографии у нас есть школьные. Ну что, догадались? Я жена Леши Павлова.
Успенский внимательно посмотрел на Лизу и попытался представить, какой она была лет тридцать назад. Получалась довольно-таки симпатичная девушка.
– И что же Леша вам обо мне рассказывал? – спросил Сергей Юрьевич.
– Да всякие смешные школьные истории…
– Понятно, – кивнул Успенский. – Да, были у нас смешные истории. И не только смешные…
Музыка смолкла, и к ним подошел Павлов.
– Узнаешь, Лешенька? – прощебетала Лиза.
Павлов вгляделся в Успенского и воскликнул:
– Господи! А я все смотрю, смотрю, вспоминаю, вспоминаю… Сергей, ты, что ли?! Дай-ка, я тебя обниму!
– Здравствуй, здравствуй! – натужно вежливо сказал Успенский и похлопал Павлова по плечу. – А вот я тебя не забыл! Я тебя, Леха, всю оставшуюся жизнь помнить буду!
– Шутит, шутит, ты смотри, Лизонька, как он шутит! – захохотал Павлов. – Он всегда такой был, сукин сын!
Успенский смотрел прямо в глаза своему однокласснику, силясь найти в них хотя бы капельку вещества под названием «совесть». Вдруг он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и, обернувшись, увидел Петрова.
Злоба вспыхнула у него в сердце, и не столько даже на всю эту покрытую толстым слоем пыли историю, которую он – ее жертва – уже успел как следует забыть, сколько на то, что до сих пор есть люди, умеющие так лихо возвращать его в те времена…
Павлов тараторил и тараторил, успев вспомнить многие случаи из школьной жизни. Разумеется, молчал он только об одном… В конце концов, он пригласил Успенского к себе домой, чтобы там продолжить банкет. И Сергей Юрьевич согласился. Ему было интересно, дойдет ли до того, что Павлов покается в содеянном.
Квартира у Павлова оказалась самой обычной. Недорогие обои, дешевая мебель, однотонные синтетические ковры… Увидев все это, Успенский испытал даже некое духовное единство со своим давним обидчиком, но слова Павлова вмиг расставили все на свои места:
– Ты, Сережа, не смотри на всю эту убогость. Это Лиза тут хозяйничала. А я скоро грант получу, и все здесь живо изменится в другую сторону…
– Это в какую же? – поинтересовался Успенский.
– В ту самую, Сережа! Нынче время не то, чтобы расхаживать в рванье и ездить на проржавленных «копейках»! Так-то вот! Садись, где нравится, сейчас нам Лизок что-нибудь эдакое смастерит.
– А ты где работаешь? – снова полюбопытствовал Успенский, усаживаясь в обтянутое бледно-желтым велюром кресло. – Где ж это нынче, в такое срамное время, в нашем захолустье, грантами разбрасываются?
– Есть места! Есть… – сыто ответил Павлов. – Тут же что важно, Сергей? Не то место, где вкалываешь, а что ты при этом из себя представляешь. Любое, даже самое приземленное занятие, если вкладывать в него не только силы, но и душу, станет приносить плоды. Я ведь как в науку пришел? Лиза поступала на химический, ну, и я с ней. Окончил, а там аспирантура, кандидатская… Теперь вот лабораторией руковожу! Изобретают там, под моим чутким руководством, всякую гадость. На нее-то нам грант и выделяют…
Лиза, вкатившая столик с наскоро приготовленной закуской, взглянула на Успенского:
– Вы вот следователь, Сережа… Все эти жуткие убийства наших мальчиков… Хоть что-то прояснилось?
Успенский неопределенно повел плечом:
– Работаем…
– Да, что-то непонятное творится… – пробормотал Павлов. – Один за другим… Вот и Леха Искусов… Помню, мы с ним в десятом классе рок-группу создали. Да, было времечко…
Павлов поднялся с дивана, подошел к книжной полке и достал оттуда аудиокассету.
– Вот она! Храню! Поставь, Лиз, там первую песню как раз Лешка поет…
Зазвучала музыка, и Алеша Искусов гнусавым голосом запел заунывную песню, вероятно, свою:
В который раз по телефону Тебе звоню, Хочу тебе сказать тихонько: «Тебя люблю!..»– Это он про Ирку Чернышову, – пояснил Павлов.
Но трубку ты бросаешь И не даешь договорить, И хоть меня ты огорчаешь, Я все равно берусь звонить!– Талант… – вздохнул Павлов. – Он ведь знаешь, как ее любил, а она, глупая вертихвостка, за Витю Бабойдо замуж выскочила. А тот года через два ее бросил ради спортсменки-акробатки. А теперь и Витюшу похоронили…
Они выпили, потом еще… Лиза, сославшись на то, что завтра ей рано вставать, пошла спать, а Павлов решил полистать альбом со школьными фотографиями. Он открыл темно-зеленую бархатную обложку и ткнул пальцем в первый снимок:
– Это я! Пятый класс! Узнаешь? Каков был, а?! Самая удачная моя школьная фотография!
Следом шло фото под условным названием «Павлов, Петров и Анучин у входа во Дворец пионеров».
– Гвардейцы, по-иному не скажешь! Ух, было время! А вот, гляди, наш класс с практиканткой! Нынче смотрю, какая все-таки симпатичная деваха нас пыталась уму-разуму учить! Помнишь, как мы ей нервы трепали? Ироды… Вернуть бы все…
Следующая фотография была сделана на уроке труда. На ней Павлов пытался выточить нечто на токарном станке, но, по всей видимости, это не слишком ему удавалось. На лице преподавателя Олега Николаевича застыли тревога и ужас.
– Как он тут за тебя боится, будто ты не деревяшку, а лимонку с поврежденной чекой точишь, – заметил Сергей Юрьевич.
– Славный мужик, переживал за нас, обалдуев, как за родных. До сих пор – представляешь? – жив! Ему уже под девяносто, если не больше. Давай, Серега, выпьем за него и за всех, кого добрым словом помянуть можно.
И они выпили, отчего-то не чокаясь, потом еще выпили, и вскоре уже не Павлов, а Успенский переворачивал толстые картонные листы фотоальбома. Так постепенно они подобрались к самому концу. На последнем снимке, на фоне гипсового памятника юному Ильичу, гордо стоял семнадцатилетний Алексей Павлов с хорошо пробившимися усами, волевым подбородком и упрямым взглядом в будущее.
– Вот так вот, Сережа… Классное было время, когда все еще впереди…
В конце альбома, обратной стороной, лежали еще несколько фотографий. Успенский перевернул их. Там была запечатлена поездка в Ленинград с Ниной Михайловной. На одной из них весь класс стоял на фоне Исаакиевского собора, и Успенский нашел себя. Вид у него после больницы был неважный.
– Хорошие снимки, Алеша! – грустно улыбнулся Сергей Юрьевич.
Павлов молчал.
– Я говорю, прекрасные снимки, Алеша! – повторил Успенский.
Павлов взглянул на него и, стряхнув пепел на пол, кивнул. В комнате висело тягостное молчание.
– Ну что ты на меня смотришь?! – не выдержал Павлов. – Что ты хочешь услышать?
Успенский молчал.
– Ждешь, чтобы я у тебя прощения попросил?! Не дождешься! Никогда не дождешься! Я, чтоб ты знал, и сейчас считаю, что ты тогда по заслугам получил! Ты предатель, Успенский! Пре-да-тель! И заруби себе это на носу!
Успенский молчал.
– Нужно соблюдать интересы большинства! – продолжал Павлов. – А ты только о себе думал! И теперь хочешь, чтобы я извинился?! Хрен тебе с маслом, Успенский!
Он резко встал и подошел к окну. Повернулся к Сергею Юрьевичу и заговорил чуть ли не шепотом:
– Я теперь спать не могу… Ведь всех судьба к рукам прибрала, даже Лешку… А Витька, вообще, черт знает где смерть нашел… Как жить с этим? Как жить?!
Павлов вернулся на диван, сгорбился и закрыл лицо руками. Успенский молча смотрел на него и гадал, что говорит сейчас в однокласснике: трусость или раскаяние? А может, просто коньяк сделал свое дело?.. Он не знал, верить Павлову или нет. Внезапно он увидел перед собой не мужика с отвисшим брюхом, а смазливого мальчишку, по которому убивались чуть ли не все девочки их класса… Мальчишка спокойно, и даже чуть с ехидцей смотрел на Успенского и будто бы вновь говорил о том, что Сергей предатель и его необходимо как следует проучить. Он так спокойно это говорил… Так спокойно…
Рука Успенского потянулась к столику, и почти опустошенная бутылка обрушилась на голову Алексея Павлова. Тот упал на пол и не шевелился, а из его разбитой головы все текла и текла кровь…
Успенский медленно налил себе в бокал красного вина, выпил, закурил сигарету и уставился в потолок. И вдруг все вспомнил. Пьяные лица Анучина и Кашкина… Они тоже твердили, что он был тогда не прав и наказание получил по заслугам.
«Два выстрела в их дурные головы решили все, а ржавый лом прошелся по ним лишь из-за упрямого чувства мести, запертого в потайных ларцах души моей… – лихорадочно думал он. – А как молил о пощаде Скоморохов, даже деньги, урод, предлагал… Ха, мне – деньги?! Да что вспоминать о нем! Вошь поганая! Наташу только жаль! Не пускала меня тогда ночью… Ударил ее, накричал… Боже! Что же со мной происходит? Что? Искусов? Тоже я! Голое жирное животное! Просто мерзость какая-то! Толстый хряк с оттопыренными боками и подбородком до пуза! Сука – ненавижу! Надо же, ха-ха! Неужели я бы в Америку поперся? Ни за что бы не поехал! Хотя… Нет, это судьба! Это не я! Нет, не я! А почему не я? Это должен был сделать я! И сделаю! И под землей тебя достану, Витя!..»
– Ну, таксист, ну, молоток! – крутя баранку милицейского «уазика», воскликнул лейтенант Кравцов. – Усмотрел у него пистолет! Он что, надгробные плиты расстреливать собрался? Вот, блин, дела! Теперь сядет…
– Не сядет, – мрачно сказал Ковалев. – Он же с оружием…
Кравцов недоуменно посмотрел на своего начальника.
– Не сядет, – повторил Ковалев. – И не гляди на меня так. На дорогу гляди. Работа у нас такая, понял?
У кладбищенских ворот их поджидал сторож. Забрался в машину и стал показывать дорогу к могиле Виктора Бабойдо.
Миновав старую часть кладбища, «уазик» поехал вдоль недавно появившихся могильных холмиков. И тут сидящие в машине услышали выстрелы…
Луна освещала человека в сером плаще, стрелявшего в упор по свежим венкам на одной из могил.
– Сергей! – крикнул Ковалев, высунувшись из машины и держа пистолет наготове. – Бросай оружие и иди сюда!
Но Успенский продолжал стрелять, как будто не слышал.
– Последний раз говорю, брось пистолет! – снова крикнул Ковалев и выстрелил в воздух.
Успенский медленно повернулся к милицейской машине, и его рука автоматически направила дуло пистолета в ту же сторону. Этого оказалось достаточно для того, чтобы положить конец всей этой истории…
Признайся старина, ты умеешь завязывать галстук? (Одноактная пьеса)
Действующие лица:
Бодров Константин – 1-ый кларнет в преуспевающем театре оперы и балета. 35 лет.
Почечуев Валентин – 3-я валторна в военно-духовом оркестре. Сверхсрочник (старший сержант), одет в военную форму. 35 лет.
Официант. (до двадцати лет)
Гардеробщик (старик лет семидесяти)
Место действия маленькое элитное кафе в центре города. Два давнишних друга, после многолетнего перерыва встречаются после работы в пятницу.
Бодров. Проходи, проходи, что ты как неживой?!
Почечуев. (боязливо оглядываясь по сторонам) Костя, зачем ты меня сюда привел? Здесь наверное кофе пол моей зарплаты стоит.
Бодров. (по хозяйски вешает пальто на руку гардеробщика)
Почечуев. (снимает шинель и берет ее с собой)
Бодров. (бодро потирает озябшие ладони и щелчком подзывает официанта) (подходит официант)
Бодров. Нам грамм триста Hennessi, лимончик, (хлопает официанта по плечу) сам порежь, тонко.. Так и… что там еще?!…Шоколад какой-нибудь, только горький… (официант утвердительно кивает и уходит). Садись Валя, садись. Что ты прям, как красна-девица? Не боись. Я угощаю.
Почечуев. Ну раз так, ловлю на слове. (садятся)
Бодров. Эх… пятница-развратница!.. Ну как ты, рассказывай?
Почечуев. Ой, Костя… Что тут говорить? С утра парадная подготовка. Днем – жмурики. Или наоборот.
Бодров. А что таким упадническим тоном? Вот и хорошо! Рад за тебя! Всегда на свежем воздухе!
Почечуев. Легко тебе говорить, сидя в теплой яме, а у меня от этого стояния суставы по ночам ноют.
Бодров. Да ладно тебе на себя наговаривать. (шутя бьет Почечуева по плечу) Ты еще крепкий старик, Розенбом. А потом, кому ты это рассказываешь? Сам два года срочной отпахал. Нормально все. Жить можно.
Почечуев. Кому как…
(официант приносит коньяк и закуску)
Бодров официанту Свободен пока… Сами разберемся. (разливает по рюмкам) Ну, давай, Валек, за встречу! За дружбу… (пьют)
Почечуев. Вкусно!
Бодров. А ты думал?! (любопытно озираясь по сторонам) А я только что из Праги. Фестиваль оперного искусства. Через неделю в Зальцбург. «Рому с Юлькой» повезем, новая постановка… Прокофьев, поди, три раза в гробу успел перевернуться, пока мы репетировали. Прикинь, Ромео в джинсах, Джульетта в топике! Хуля, модерн!!!
Почечуев. Хорошо тебе. А у меня дома сегодня будет старая постановка, классика…
Бодров. Что такое?
Почечуев. В главных ролях я и моя суженая, играем самих себя… Строго по Константину Сергеевичу. Короче, каждый день скандал и нервотрепка. А причина простая – деньги! Вернее, их отсутствие плюс генетическая неудовлетворенность жизнью и судьбой… (мимо проходящий официант случайно слышит слова Почечуева, едва заметно смеется над ним. Почечуев замечает это и стыдливо опускает глаза.)
Бодров. Да брось ты хандрить! Знаешь ведь, не в деньгах счастье… и даже не в их количестве!
Почечуев. А в чем?
Бодров. В отношении к ним. Сдается, привязан ты к деньгам порядком. Они – твое второе я. Будь проще и потянутся к тебе не только люди, но и все остальное.
Почечуев. Хорошо тебе говорить. А сам -то ты как? Жена? Дети?
Бодров. Нет, старик. Я до сорока двух подожду. Дурное дело, оно ж нехитрое. (чокаются и пьют) А потом знаешь, я женщин ценю, как вид. Люблю их за многообразие и количественное превосходство. Поэтому, пока все их виды и подвиды не изучу как следует, не женюсь. (смеется)
Почечуев. Тоже верно. Эх… вкусный напиток. Можно даже не закусывать… М-да. мы у себя там технический спирт жарим (морщится) А я вот, как в двадцать лет женился, так и мучаюсь с одной. У меня-то и женщин за всю жизнь по пальцам одной руки пересчитать можно.
Бодров. Эх Валя Валя. За что ты так себя не любишь? Ты ж еще молодой мужик. Жеребец, можно сказать! Ну хочешь, (оглядывается по сторонам) сегодня телок купим? Дурную кровушку сгонишь!
Почечуев. Да ты что! Костя! Меня жена на порог не пустит… Сразу видно – холостяк!
Бодров. М-да… Ну и дела у тебя! Не дай Бог! Любишь хоть ее?
Почечуев. Не знаю… Привык… А вообще, плохо мне Костя… Если б знал ты, как мне плохо. Иногда, поверишь ли, домой идти не хочется? А придешь, увидишь, так бы и повесился где-нибудь на люстре. Не жизнь Костя, а сплошные муки адовы. Короче, в аду я живу, Костян!
Бодров. Но тут ты хватил, старина! Повеситься вздумал! Вешаться тоже уметь надо (смеется), петлю завязать, закрепить ее как следует… Бедолага ты… Ты ж, поди, не то что петлю, ты галстук завязать не умеешь… Вон он у тебя какой! На фабрике завязанный и прошитый. А ты говоришь, вешаться! Признайся старина, ты умеешь завязывать галстук? А? (громко хохочет) Нет!? Вижу, что даже понятия не имеешь. Ну да ладно, давай еще махнем!
Почечуев. (смотрит на свой военный галстук, теребит его и плачет)
Занавес.

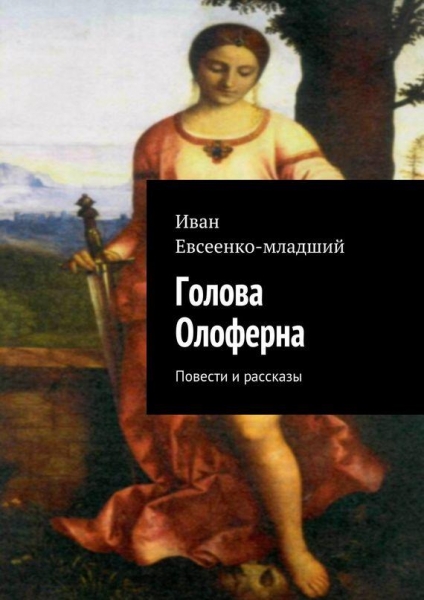
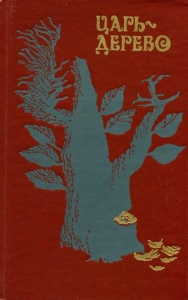




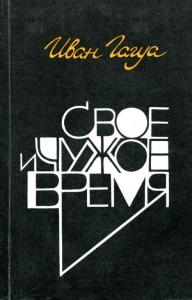

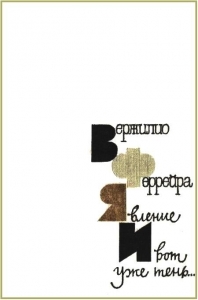

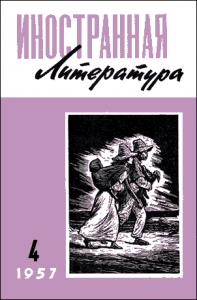
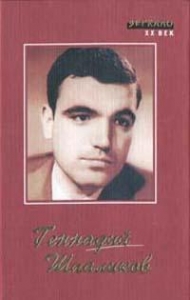
Комментарии к книге «Голова Олоферна», Иван Иванович Евсеенко-младший
Всего 0 комментариев