Барбара Пим
«Специалист по одиночеству»
Писательская судьба Барбары Пим (псевд.; наст, имя Мэри Крэмптон) сложилась не слишком благоприятно. До недавнего времени ее имя было мало известно читающей английской публике, не привлекало оно и внимания критиков. Между тем Б. Пим не новичок в литературе: она начала писать в конце 40-х годов и за последующее десятилетие опубликовала шесть романов. Увы, они почти не имели резонанса, читательская аудитория Б. Пим была весьма скромна. Когда в 1961 году несколько издательств отвергли ее очередной роман, писательница надолго замолчала.
«Открытие» Барбары Пим произошло в 1977 году — после того, как «Кейп» рискнул переиздать ее роман «Превосходные женщины»: вопреки всем ожиданиям он имел большой успех, получил хвалебную прессу. В том же 1977 году «Таймс литерари сапплемент» распространил среди писателей и критиков анкету, главным вопросом которой было — «Кого вы считаете самым недооцененным писателем?» Известный поэт Ф. Ларкин и критик Д. Сесил ответили: «Барбару Пим».
Были переизданы — и на сей раз благосклонно и с интересом прочитаны — ее ранние романы (помимо уже упомянутых «Превосходных женщин», «Сосуд, полный благословений», «Совсем не ангелы», «Ручная газель» и др.). Известность писательницы еще больше упрочил ее новый роман «Осенний квартет», опубликованный осенью 1977 года крупнейшим издательством «Макмиллан». Запоздалое признание стимулировало новые творческие замыслы Пим, но она успела реализовать лишь немногие из них: в январе 1980 года Барбара Пим скончалась.
Чем же объяснить столь крутой поворот в писательской судьбе Б. Пим, столь резкий подъем ее популярности? Только ли капризами и прихотями литературной моды? Причины, разумеется, глубже, и искать их следует в характере литературной и социальной жизни Великобритании последних десятилетий.
В 50-е годы, когда Пим опубликовали свои ранние романы, на авансцене литературной Англии были произведения «рассерженных молодых людей» (К. Эмиса, Дж. Уэйна, Дж. Брейна) и антиколониальный роман (Д. Стюарта, Б. Дэвидсона, Дж. Олдриджа) — эти произведения отражали глубокие социальные противоречия, сотрясавшие страну, болезненный процесс изживания ею прочно укоренившегося «имперского комплекса». Романы Пим казались тогда слишком камерными, далекими от злободневных проблем. Не нашлось им места и в «разболтанные» («swinging») 60-е годы с их культом вседозволенности: книги Пим посчитали слишком «старомодными», «деликатными». «Боюсь, то, что я пишу, устарело», — с сожалением констатировала тогда писательница, а позже, в романе «Осенний квартет», она с горечью мимоходом отметит, обозначив одну из тем своего творчества: «положение незамужней, одинокой стареющей женщины не интересует современных авторов».
И вот неожиданно романы Пим вписались в атмосферу Англии 70-х годов: многих охватила «ностальгия» по устойчивым моральным ценностям, прочным жизненным принципам. (Отсюда, кстати, и внимание к писателям прошлого — так называемое «викторианское возрождение».)
Романы Барбары Пим естественно вливаются в мощную многовековую традицию английской нравоописательной прозы с достаточно сильными социально-критическими интонациями. И в первую очередь — Пим и сама не раз признавалась в этом — очевидна ее верность поэтике Джейн Остен, оставившей незабываемые картины быта и нравов провинциального дворянства и духовенства, изображенных с поразительной психологической доподлинностью и наблюдательной ироничностью.
Мир произведений Пим (особенно ранних) — действительно весьма камерный мир, замкнутый пределами сельского прихода, маленькой семьи, небольшого офиса, а то и вовсе крайне узкими рамками одинокого существования. Ее герои — священники, мелкие служащие, одинокие женщины, в первую очередь одинокие женщины. Романы Пим лишены нарочитой занимательности, увлекательно закрученной интриги, более того, сюжеты их крайне просты — настолько, что порой кажется, будто в них ничего не происходит. И однако же, нам удается близко познакомиться с жизнью героев, узнать их характеры, проникнуться их заботами. Секрет в том, что безыскусственную прозу Пим всегда отличала исключительная психологическая точность наблюдений, лаконичность и выверенность деталей и описаний — скромная правдивость, ничего общего не имеющая с банальностью, хотя герои Пим вполне заурядны, а ситуации, в которые они попадают, достаточно обыденны.
В художественном арсенале писательницы есть надежное средство против банальности: порой неуловимая, но всепроникающая ирония, не позволяющая сочувствию, с которым писательница повествует о своих героях, перейти в сентиментальность. В тех же случаях, когда ирония очевидна, можно говорить о критическом исследовании обрисованного писательницей характера.
Из ранних романов Пим наиболее значителен «Превосходные женщины» (1952) — он дает представление об интересующих писательницу темах, о ее характерной героине.
…Милдред Лэтбери, дочь священника, живет одна в своей крошечной лондонской квартирке. Ей за тридцать, и она давно уже не питает никаких радужных надежд относительно своего будущего. Скромная работа (посещение престарелых леди), постоянное хождение в церковь, дружба со священником и его сестрой, участие в благотворительных делах (в основном организация дешевых распродаж и лотерей), чтение по вечерам (главным образом журналов и брошюр на религиозные темы) — таков круг занятий и интересов Милдред. Она понимает, что живет скучной, серой, однообразной жизнью и с иронией зачисляет себя в ряды «превосходных женщин»: достойных, добропорядочных, но малоинтересных, «наблюдателей», а не участников жизни. Порой собственная добропорядочность гнетет героиню: «Добродетели — превосходная вещь, всем нам следует к ним стремиться, но иногда они могут и давить».
Милдред чувствует, что ее существование никчемно, оно лишено даже подлинных страданий, горьких и дорогих воспоминаний. «Для большинства из нас, — говорит Милдред о себе и себе подобных, — жизнь состоит скорее из мелких неприятностей, чем больших трагедий».
Знакомство с четой Нэпьеров, оказавшихся на некоторое время ее соседями — блестящим офицером Рокки и его красивой безалаберной женой, все помыслы которой заняты не домашними заботами, а антропологией, — выбивает Милдред из привычной колеи. Она даже чуть-чуть увлекается обаятельным Рокки, но… «любовь — не моя чаша», признается она сама. Ее роль — помогать другим переживать свои неурядицы, мирить поссорившихся Нэпьеров, помогать им переезжать, читать верстку и составлять указатель для их приятеля Эверарда Боуна, утешать священника Мэлори, когда расстраивается его помолвка, и т. д. и т. п. — то есть оставаться «превосходной женщиной».
Такой же жизнью-пустышкой живут и другие героини Пим, достойные представительницы английского «среднего» класса. И если Милдред хотя бы иной раз задумывается над никчемностью, «бесполезностью», «анонимностью» своего бытия, то Уилмет Форсайт, героиня романа «Сосуд, полный благословений», напротив, приходит к выводу, что нужно ценить свое безбедное уютное существование, которое обеспечивает ей ее муж-чиновник и которое она пыталась было разнообразить то легким флиртом (разумеется, вполне «респектабельным»), то каким-нибудь интеллектуальным времяпрепровождением (например, занималась от нечего делать португальским языком).
Точно так же берегут свой налаженный быт и покой сестры Бид, старые девы Белинда и Харриет, которых унылая повторяемость событий в их жизни не только не тяготит, но, наоборот, создает ощущение надежности, устойчивости, осмысленности. Ленч, чай, обед, посещение церкви, прием гостей (само собой, в первую очередь — местных священников) — это не только вехи дня, это и вехи всей незаметно и бесцельно промелькнувшей жизни. Как бы пуста и однообразна она ни была, она удобна, а потому «любая перемена — сама по себе зло», и, когда сестрам представляется возможность выйти замуж, они отказываются. Куда уж там переворачивать свою жизнь, когда даже небольшое отклонение от заведенного порядка и то воспринимается как досадное, а порой даже шокирующее неудобство. Пим находит для этого выразительный иронический пример: когда архидьякон Хоклив предлагает Белинде почитать перед завтраком стихи, она чувствует неловкость, хотя она любит и стихи, и архидьякона, но «…казалось странным думать о поэзии до ленча». Да, эти «превосходные женщины» не способны бороться за свое счастье, не умеют ни любить, ни даже страдать по-настоящему; к примеру, безответная любовь Белинды к Хокливу никогда не воспринималась ею самой трагически: так, привычная, легкая, не лишенная приятности боль…
Когда в конце 70-х годов к Пим пришла известность, критики, склонные к броским определениям, назвали ее «специалистом по одиночеству». Справедливое определение, как видно уже на примерах раннего творчества Пим. Однако английская критика не отметила своеобразие подхода Б. Пим к теме одиночества: сочувствуя своим героям (точнее, героиням), писательница в то же время не особенно и щадит их, добровольно выбравших однообразное, стерильное существование, которое Пим живописует с тонкой, проницательной иронией. Этой иронией, однако, и исчерпывался критицизм ее ранних романов, критицизм, обращенный к тому же лишь на самих героев, — Пим не делала попыток выйти к социальным истокам такого образа жизни.
Подлинной удачей Барбары Пим стал роман «Осенний квартет», ее лучшее произведение, на котором фактически завершилось ее творчество. Присущая писательнице точность психологического рисунка облика персонажа вырастает до наблюдательно подмеченных особенностей английского национального характера, а это в свою очередь складывается в яркую характеристику английского образа жизни.
В 70-е годы стало, как никогда прежде, очевидно, что одиночество, отчуждение, сделавшиеся нормой взаимоотношений между людьми в западном обществе, приобретают размеры поистине социального бедствия, особенно одиночество стариков. Думается, успех романа Пим объясняется тем, что ей удалось выявить национальную специфику этого явления, показать его преломление через английский характер.
«Осенний квартет» — книга об одиночестве людей на пороге старости, о том, как они, обреченные на это одиночество и привыкшие к нему, переживают осень своей жизни. Нехитрая метафора, вынесенная в заглавие, не раз затем повторяется — в том или ином варианте — в тексте романа, проходя сквозь него печальным лейтмотивом, напоминанием о ненужности, никчемности завершающейся жизни персонажей: это и уход Марсии и Летти на пенсию, неизбежный «как опадание листвы осенью», и оставшиеся у Нормана неиспользованные дни от отпуска, с которыми он не знает, что делать, и которые «ворохом сухих листьев будут скапливаться осенью на тротуаре».
«Квартет» — Марсия, Летти, Норман и Эдвин — сложился достаточно случайно: эти люди, каждому из которых за шестьдесят, вместе работают в некоем учреждении. Мы так и не узнаем точно, чем именно они занимаются («кажется, что-то связанное с отчетностью, с составлением картотек»), и эта сознательная неопределенность лишь подчеркивает неважность, почти бессмысленность их работы. Окончательно же она выявляется, когда Летти и Марсия уходят на пенсию и их никем не заменяют; у Летти, как-то заглянувшей в контору, закрадывается ощущение, будто они с Марсией «никогда и не существовали».
Повествование о незначительных бытовых ситуациях не мешает Пим представить характеры во всей их индивидуальности, она умело использует выразительные детали, точно подмечает психологические особенности каждой личности. Четыре главных персонажа взяты словно непосредственно из жизни, со всей своей заурядностью, привычками, чудачествами, они удивительно достоверны и в то же время типичны (как обычно, Пим особенно удались женские образы). Они — характерное порождение современного английского общества, одновременно его жертвы и защитники, стихийные приверженцы его краеугольной доктрины индивидуализма.
Сколь ни различны персонажи романа, их общая особенность — «безграничная свобода, которую дает одиночество» и вкус которой им дано познать сполна. В прошлом у них были близкие люди, вероятно, какие-то привязанности: мать у Марсии, сестра у Нормана, жена у Эдвина. У Летти, которая кажется самой жизнестойкой из всех четверых, жизнь промелькнула, даже не оставив дорогих воспоминаний, движение времени в памяти Летти запечатлелось лишь последовательной сменой мод.
В настоящем же жизнь персонажей представляет собой одинокое прозябание, которому они не пытаются противопоставить хотя бы тепло человеческого общения. Совместная работа в течение нескольких лет не сближает героев. Коллективное чаепитие в конторе, обмен ничего не значащими любезностями, иной раз репликами по поводу какого-нибудь происшествия — этим, в сущности, исчерпываются их взаимоотношения. За пределами учреждения они никогда не встречаются — сама мысль об этом кажется им нелепой, смехотворной. Эдвин, живущий неподалеку от Марсии, боится случайно встретить ее: «При встрече с ним она смутится не меньше, чем он». Одна мысль о том, чтобы в будущем разделить с Норманом кров, вызывает «мурашки» у его зятя. Норман, посетивший этого зятя в больнице, очень тяготится проведенным у него получасом визита. Эдвин как-то сталкивается с Летти в церкви, и она «так тепло встретила его, что он, наверное, испугался, потому что больше сюда не приходил…». Примеры можно было бы множить и дальше.
Дело отнюдь не в том, что эти люди испытывают друг к другу какую-то особую неприязнь. Пим удается показать, что одиночество, отчуждение — нормальное проявление человеческих взаимоотношений в мире, где живут ее герои. Суть не в том, что им не с кем общаться, суть в том, что у них не возникает потребность в общении, их одиночество — сознательно выбранный принцип, образ жизни. Героям и в голову не приходит искать избавления от одиночества, они не делают никаких попыток сблизиться друг с другом, им чуждо взаимное сочувствие — это было бы вторжением в частную жизнь, а английское «privacy» священно. (Впрочем, похоже, не для всех: миссис Поуп, у которой поселяется Летти, в отсутствие квартирантки обыскивая ее комнату, считает своим долгом «проверить, все ли там в порядке».) «Не стоит вмешиваться» — эта фраза в той или иной модификации повторяется в романе, выражая сугубо английское понимание права индивида на независимость.
До чего может довести боязнь утратить «независимость», стремление замкнуться в собственном, крайне ограниченном мирке, иллюстрирует судьба Марсии, самой несчастной из всего «квартета». Марсия болезненно, можно сказать воинственно-агрессивно, избегает контактов с окружающими. Кажется, единственное, что еще доставляет ей удовольствие, — это посещение больницы, где она периодически проходит осмотр, чувствуя себя при этом незаурядной личностью: ведь она подверглась тяжелой операции, а это не с каждым случается!
Психическую деградацию Марсии, являющуюся реакцией на привычное, многолетнее одиночество, Б. Пим передает выразительной, многозначительной деталью: основным занятием Марсии становится накопление пустых молочных бутылок «на случай какого-нибудь кризиса в масштабе всей страны» — пресловутая английская эксцентричность, доведенная до патологического исхода.
Но допустим, что нежелание Марсии общаться с миром — ненормальное, исключительное явление. Но ведь и Летти, которая цепко держится за жизнь, следит за собой, заботится о своем внешнем виде и гардеробе, — и для Летти нестерпима мысль об общении с внешним миром. Мысль о том, чтобы остаться жить в доме, проданном священнику-нигерийцу, у которого большая и дружная семья, готовая принять в свой круг и Летти, кажется ей противоестественной, она может жить только в обычном «холодном» английском доме, «стерильном» и «молчаливом». Точно так же избегает она всяких контактов, которые могли бы помочь ей пробить броню одиночества, выйти к людям, установить взаимопонимание.
Жизнь каждого из персонажей — нечто серое, респектабельное и на редкость пустое: никаких сильных эмоций, привязанностей, почти никаких дел. Иллюзию наполненного, хотя и обыденного существования создает лишь ежедневная рутина: поездки на работу, отсиживание в конторе положенные часы, возвращение домой. У Эдвина эта иллюзия дополняется его церковно-благотворительными делами, у Летти — попытками, оказавшимися несостоятельными, заняться «серьезным» чтением. Норман пытается увлечься идеей провести отпуск в Греции, где он думает заняться… подводным плаванием. Но мечты так и остаются мечтами — и не только потому, что средств маловато; главное — не хватает душевной энергии, не хочется менять заведенный порядок жизни, пусть и предельно скучной.
Свободное время — вечер, отпуск, праздники — самое тяжелое время в жизни героев, когда они особенно остро ощущают свою неприкаянность, и каждый из них с удовольствием возвращается к спасительной рутине.
Но может быть, «квартет», оказавшийся в поле зрения писательницы, — все же исключительное, нехарактерное явление для сегодняшней Англии? Контекст, в который вписываются судьбы героев романа, не позволяет утвердительно ответить на этот вопрос. Их сотни, тысячи таких, как эти четверо. Они ежедневно сталкиваются друг с другом в кафе, метро, в парке, библиотеке — лишь для того, чтобы пройти мимо, оставаясь чуждыми друг другу, не способными даже на кратковременный дружеский контакт: разговор, сочувственный взгляд, улыбку. Так и живут они, страдая от одиночества и в то же время тщательно оберегая его, жертвы, но в какой-то мере и виновники своего несчастья, «выхолощенные» люди, изжившие в себе «ненужные» эмоции.
Разобщенность, отсутствие нормального, полноценного общения между персонажами романа еще больше оттеняют примеры фальшивой доброжелательности, предложения помощи, заранее рассчитанные на отказ. Так, молодые супруги Присцилла и Найджел, после долгих колебаний пригласившие Марсию, свою соседку, разделить с ними рождественский обед, втайне надеются, что она откажется: «…Когда я предложил скосить траву у нее на лужайке, она воспротивилась, сказал с надеждой в голосе Найджел».
И уж вовсе неполноценным суррогатом заботы о человеке выглядит деятельность благотворительного Центра, пытающегося «поддержать» одиноких стариков. Наигранная приветливость и казенное сочувствие (их задача, без обиняков заявляет опытная сотрудница Центра, — «устанавливать контакты, если потребуется, даже в принудительном порядке») — слабое оружие в борьбе с подлинным, глубоко укоренившимся одиночеством, и это убедительно иллюстрирует в романе прискорбная история Марсии.
Но, как можно судить по «Осеннему квартету», в старости есть вещи и пострашнее одиночества: порой речь идет попросту о физическом выживании, о настоящей борьбе с нуждой. Персонажи романа не раз говорят о тяжелой жизни старых людей в Великобритании, прямо обвиняя в этом государство: обсуждают вопрос об инфляции и росте цен (которые, заявляет склонный к язвительности Норман, «будут подскакивать, кто бы ни стоял у власти»), что ударяет прежде всего по старикам, о плохих жилищных условиях (в газете опубликовано сообщение о смерти старухи от гипотермии). Особенно взволновал «квартет» трагический случай: старый человек бросился под поезд метро. «Вот вам недурной пример того, как человек проваливается сквозь сетку социального обеспечения», — комментирует это событие Норман, а Летти добавляет: «Это с каждым может случиться».
Замечательное искусство иронии, которым владеет Пим, особенно проявилось в сцене, где описывается уход на пенсию Марсии и Летти. Учреждение полагает своим долгом устроить скромные проводы в обеденный перерыв («их статус… не давал им права на прощальный вечер»), они проходят скованно, всем как-то неловко, никто, в сущности, не знал, чем занимались эти две пожилые женщины. Они еще не ушли, а о них уже говорят в прошедшем времени. Тем не менее устроители довольны: долг выполнен и о мисс Кроу и мисс Айвори можно забыть навсегда.
Впечатление несостоявшихся жизней — вот что прежде всего выносит читатель из романа «Осенний квартет». Трагическая ненужность, никчемность и бессмысленность существования персонажей не искупается и чуть оптимистической, с нотками традиционного английского стоицизма концовкой: смерть Марсии сближает троих оставшихся, и есть намек на то, что их отношения станут как-то человечней, живее.
Из самых последних книг Б. Пим наибольший интерес представляет посмертно изданный роман «Несколько зеленых листьев» (1980), в котором мы вновь встречаем традиционные темы писательницы, и в первую очередь, как и прежде, тему одиночества, губящего личность, отчуждения, разъединяющего людей.
Быть может, творчество Барбары Пим занимает не самое видное место в современной английской прозе. Но благодаря таким писателям, как Пим, утверждающим непреходящий смысл истинных человеческих ценностей, право человека на достойное существование, не скудеет в английской литературе давняя и прочная гуманистическая традиция, отмеченная великими именами, традиция, которая и сегодня успешно противостоит натиску «массовой литературы» с ее культом насилия и агрессии, пренебрежением к жизни и заботам простого человека, презрением к миру души.
И. ВасильеваОсенний квартет (Роман)
1
В тот день они, все четверо, хотя и в разное время, побывали в библиотеке. Библиотекарь, если и обратил бы на них внимание, то, наверно, подумал бы, что эта четверка чем-то связана между собой. Они же, каждый, заметили этого молодого человека с длинной, до плеч, золотистой шевелюрой. Пренебрежительное отношение к длине и пышности его волос — такая шевелюра вообще неуместна в библиотеке и на библиотечной работе — объяснялось явной оглядкой на несовершенство их собственных причесок. У Эдвина, начинающего седеть, волосы были редкие, плешивые на макушке и низко подстриженные. «И постарше вас стригутся теперь длиннее», — сказал ему его парикмахер. Такой стиль ни к чему не обязывал, и Эдвин считал, что он вполне приличествует человеку, которому только-только перевалило за шестьдесят. Что касается Нормана, то у него волосы всегда были «непокорные» — жесткие, вихрастые, теперь уже с сильной проседью, а в молодые его годы они не желали лежать гладко ни на темени, ни у пробора. Теперь на пробор ему не требовалось причесываться, и он перешел на средневековое «кружало», так что получалось нечто вроде «ежика» американской матросни сороковых и пятидесятых годов. У обеих женщин — у Летти и у Марсии — прически были настолько разные, насколько это можно себе представить в семидесятых годах нашего столетия, когда большинство тех, кому за шестьдесят, регулярно ходят в парикмахерскую укладывать свои короткие блондинистые, седые или крашенные в рыжий цвет кудряшки. У Летти волосы были блекло-русые, для нее, пожалуй, подстриженные немного длиннее, чем следует, и жиденькие, как у Эдвина. Ей иногда говорили, правда, теперь все реже и реже: «Какая вы счастливая, совсем не седеете», но сама-то Летти знала, что вперемежку с темными у нее попадаются и седые волосы и что на ее месте большинство женщин, наверно, употребляли бы подкрашивающее полосканье. А Марсия упорно красила свои короткие, жесткие, безжизненные волосы в резкий темно-коричневый цвет из очередного флакона, которые, один за другим, хранились у нее в шкафчике в ванной комнате с тех самых пор, как она заметила у себя первые сединки, а было это лет тридцать назад. Если с того времени и появлялись более подходящие, более натурального оттенка средства для окраски волос, то Марсия и понятия об этом не имела.
Сегодня, во время обеденного перерыва, все они ушли, каждый по своим делам, в библиотеку. Эдвин просматривал там церковный справочник «Крокфорд» и «Кто есть Кто» и даже «Кто был Кем», так как сейчас он подробнейшим образом изучал биографию и послужной список одного священнослужителя, недавно получившего приход в тех местах, где Эдвину случалось иногда бывать. Норман пришел в библиотеку не в поисках литературы, не так уж он любил читать, а просто потому, что тут было приятно посидеть и ходить сюда немного ближе, чем в Британский музей, куда он кое-когда заглядывал в обеденный перерыв. Марсия тоже считала, что в этой библиотеке уютно, тепло, вход бесплатный, ходить недалеко и тут хорошо посидеть зимой, сменив приевшуюся обстановку конторы. К тому же в библиотеке можно было подобрать рекламные листовки и брошюры, в которых публикуются сведения о различных льготах для пожилых людей, живущих в Кэмдене. Теперь, когда Марсия уже перешагнула за шестой десяток, она не упускала случая выяснить, какие у нее права на бесплатный проезд в автобусах, на скидку и на удешевленное меню в ресторанах, на обслуживание в парикмахерских и на педикюр, хотя никогда этой информацией не пользовалась.
Кроме того, в библиотеке можно было освобождаться от ненужных вещей, не подходивших, по ее понятиям, под разряд отбросов, место которым в мусорных ящиках. Сюда входили разные бутылки, только не молочные, эти она хранила в сарае у себя в садике, некоторые коробки, бумажные пакеты и многое другое — то, что можно сунуть куда-нибудь в уголок, когда никто этого не заметит. Одна из библиотекарш послеживала за Марсией, чего та и не подозревала, запихивая помятую клетчатую коробочку из-под овсяного печенья «Килликренки» в укромное местечко за книгами на полке с беллетристикой.
Из всех четверых одна только Летти ходила в библиотеку ради собственного удовольствия и старалась почерпнуть там кое-какие знания. Она не скрывала своего пристрастия к чтению беллетристики, но если у нее и возникала когда-нибудь надежда напасть на роман, в котором описывалась бы жизнь таких, как она, то ей пришлось убедиться, что положение незамужней, одинокой стареющей женщины не интересует современных авторов. Миновали те дни, когда она заполняла списки «Бутса» для книголюбов названиями книг, рецензии на которые печатались в воскресных газетах. В ее читательских вкусах произошла перемена. Не найдя того, что ей хотелось найти в «романах о любви», Летти обратилась к биографиям, которых выходило великое множество. А поскольку в них было «все правда», они казались ей гораздо лучше выдумки. Может, не лучше Джейн Остин или Толстого, которых она, правда, не читала, но, во всяком случае, эти книги были «стоящие», не то что произведения современных писателей.
Может быть, и потому, что Летти, единственная из этой четверки, действительно любила читать, она, единственная же, завтракала не в конторе. Ресторан, который она обычно посещала, назывался «Рандеву», хотя он не очень-то подходил для романтических свиданий. Люди, работающие поблизости, толпились там от двенадцати до двух, старались побыстрее съесть заказанное и убегали. Когда Летти села за столик, там уже сидел какой-то мужчина. Он сунул ей меню, бросив на нее быстрый, неприязненный взгляд. Ему подали кофе, он выпил его, оставил официантке пять пенсов и ушел. Женщина, занявшая его место, начала старательно изучать карточку, подняла на Летти свои блекло-голубые глаза, в которых сквозила тревога по поводу новых налогов, и, очевидно, собиралась высказаться относительно роста цен. Потом, поняв, что отклика на это от Летти не дождешься, опустила взгляд, заказала макаронную запеканку с картофельной стружкой и стакан воды. Подходящий момент был упущен…
Летти взяла счет и встала из-за стола. Несмотря на внешнее безразличие, она все прочувствовала. Человек потянулся к ней. Они могли бы поговорить, и между двумя одинокими женщинами завязалась бы какая-то связь. Но, заморив червячка, ее соседка низко нагнулась над своей запеканкой. Для каких-либо дружеских жестов время было упущено. И в который раз Летти не удалось установить контакт с человеком.
Вернувшись в контору, Эдвин, порядочный сластена, откусил голову у черного мармеладного голыша. Ни в его поступке, ни в выборе десерта не было ничего расистского. Просто он любил острый лакричный вкус черных голышек, предпочитая их более пресному апельсиновому или малиновому «типажу» мармелада. Мармеладный голыш был последним блюдом его ленча, который он обычно съедал за своим письменным столом среди бумаг и ящиков с карточками.
Когда Летти вошла в комнату, Эдвин протянул ей пакет с мармеладными голышами, так уж у них было принято, но он знал, что она откажется от угощения. Увлекаться сластями значило потакать своим слабостям, и, хотя теперь Летти уже перевалило за шестьдесят, из этого не следовало, что она может не заботиться о своей худенькой, стройной фигуре.
Остальные обитатели этой комнаты тоже завтракали. Норман ел куриную ножку, а Марсия кое-как слепленный сандвич с торчащими из него салатными листьями и скользкими ломтиками помидора. Из электрического чайника, стоявшего на коврике на полу, валил пар. Кто-то включил его, собираясь выпить чаю, а выключить забыл.
Норман завернул куриную косточку в бумагу и аккуратно положил ее в корзинку под столом. Эдвин не спеша опустил в кружку пакетик с заваркой и залил его кипятком из чайника. Потом добавил туда ломтик лимона из круглой пластиковой коробочки. Марсия открыла банку с растворимым кофе и налила кипятку в две кружки — себе и Норману. Ничего многозначительного в этом поступке не было — просто они завели между собой такой обычай из соображений удобства. Оба любили кофе, а покупать большую банку и делить ее на двоих было дешевле. Летти, уже позавтракавшая в ресторане, не стала пить чай, а принесла из уборной стакан воды и поставила его на свой стол, на цветную, ручной работы соломенную салфеточку. Ее место было у окна, она держала на подоконнике горшки с вьющимися растениями, с теми, что размножаются путем выброса побегов — своих точных крошечных копий, которые идут в рост после пересадки. «Природу любишь ты, а вслед за ней Искусство», — процитировал однажды Эдвин и даже хотел продолжить, что Летти «руки грела у жизни на ее огне», — греть-то грела, но, учтите, не на таком уж близком расстоянии. И вот теперь этот огонь угасает для каждого из них. Так неужели же она и все они готовы покинуть этот мир?
Нечто подобное, видимо, возникло в подсознании и у Нормана, просматривающего газету.
— Ги-по-тер-мия, — по слогам прочитал он. — Умерла еще одна старуха. Надо быть осторожнее, не то подхватишь эту гипотермию.
— Ее не подхватывают, — авторитетно заявила Марсия. — Это не заразная болезнь.
— Положим, если человека нашли мертвым, как эту старуху, считайте, что именно гипотермию она и подхватила, — сказал Норман в оправдание своего диагноза.
Рука Летти потянулась к радиатору и там и осталась. — По-моему, это такое состояние или результат таких обстоятельств, когда человеческое тело охлаждается, теряет тепло… словом, что-то в этом роде.
— Значит, это всех нас касается, — сказал Норман своим отрывистым голоском под стать его щуплой, миниатюрной фигуре. — Найдут нас когда-нибудь умершими от гипотермии.
Марсия улыбнулась и нащупала у себя в сумке листовку, взятую сегодня в библиотеке, — ту, в которой говорилось о скидке на плату за отопление в домах, где живут престарелые, но ни с кем этими сведениями не поделилась.
— Веселый разговор, — сказал Эдвин, — но, пожалуй, весьма уместный. Четыре человека, каждый накануне выхода на пенсию, каждый живет в одиночестве, родственников поблизости ни у кого нет — это все про нас.
Летти пробормотала что-то, видимо не соглашаясь с ним. И все же это была неоспоримая истина — каждый из них жил сам по себе. Как ни странно, они заговорили об этом еще сегодня утром — навела их на такой разговор опять какая-то заметка в газете Нормана. Вспомнили, что скоро День матери, значит, магазины полны всяких «подарков», и цены на цветы сразу подскочили. Правда, цветов никто из них не покупал, но вздорожание заметили и подвергли обсуждению со всех сторон. Вряд ли у людей их поколения матери могли быть в живых, так что дороговизна им не страшна. Но, откровенно говоря, иногда странно было вспоминать, что мать была у каждого из них. У Эдвина она дожила до почтенного возраста — до семидесяти пяти лет и скончалась после непродолжительной болезни, не обременяя своего сына заботами. Мать Марсии умерла не так давно в лондонском пригороде (Марсия теперь жила в ее доме одна), умерла в спальне на втором этаже, а возле нее лежал старый кот по кличке Снежок. Старушка скончалась восьмидесяти девяти лет, в возрасте, считающемся древним, но ничего примечательного в ней не было, ничем особенным она не отличалась. Мать Летти умерла в конце войны, и отец женился вторично. Потом и отец умер, а мачеха спустя время нашла себе другого мужа, так что Летти потеряла всякую связь с тем городом на западе Англии, где она родилась и выросла. Она предавалась сентиментальным и не совсем точным воспоминаниям о том, как мать гуляла по своему садику в свободном легком платье и обрезала увядшие цветы. Один только Норман не помнил своей матери. «Не было у меня мамочки», — говорил он, как всегда иронично, с обидой в голосе. Его и сестру вырастила тетка, но именно он свирепее всех обрушился на торгашеский дух, проникший в старинный обычай празднования Материнского воскресенья.
— Вам-то хорошо, у вас есть церковь, — сказал Норман, обращаясь к Эдвину.
— И отец Геллибренд, — сказала Марсия, потому что они столько всего слышали об отце Г., как его называл Эдвин, и завидовали Эдвину, что у него есть такая надежная опора — церковь недалеко от Клэпем-Коммон, где он был церковным распорядителем (что бы это ни значило) и членом приходского совета. С Эдвином все будет в порядке, потому что он хоть и вдовец и живет один, у него есть замужняя дочь в Бекнеме, которая, конечно, позаботится о том, чтобы старика отца не нашли мертвым от гипотермии.
— О да! Отец Г. надежная опора, на него можно положиться, — согласился Эдвин. Но ведь церковь открыта для всех. Он удивлялся, почему ни Летти, ни Марсия не ходят в церковь.
Почему не ходит Норман, это еще можно понять.
Дверь распахнулась, и в комнату вошла вызывающего вида, развязная, пышущая здоровьем молодая негритянка.
— Почта есть? — спросила она.
Все четверо почувствовали, какими они должны выглядеть в ее глазах. Эдвин, наверно, крупный, лысый, с розоватым лицом, Норман маленький, сухенький, седина точно щетка, Марсия, как всегда какая-то чудная, Летти поблекшая, с пушистыми волосами, на вид такая провинциалка, а все еще печется о своих нарядах.
— Почта? — заговорил Эдвин, первым откликнувшись на вопрос девушки. — Да нет, Юлалия. Почту мы раньше половины четвертого не сдаем, а сейчас… — он сверился со своими часами, — …сейчас точно два часа сорок две минуты. Хитрит, авось получится, — сказал он, когда потерпевшая неудачу девушка вышла.
— Норовит удрать пораньше, лентяйка такая-сякая, — сказал Норман.
Марсия устало закрыла глаза, когда Норман начал прохаживаться насчет «черных». Летти попробовала переменить тему разговора, ей было неприятно осуждать Юлалию или заслужить обвинение в неприязни к цветным. Но все же эта девица вызывала раздражение, и ее не мешало бы одернуть, хотя в такой бьющей через край жизнестойкости, несомненно, было что-то беспокоящее, особенно на взгляд пожилой женщины, которая чувствует себя рядом с ней еще более седой и какой-то выпотрошенной, иссохшей на слабеньком английском солнце.
Наконец настало время чая, и за несколько минут до пяти мужчины убрали со стола свои бумаги и вместе вышли из конторы, хотя оба они должны были разойтись в разные стороны от самого порога здания. Эдвин ехал по северной линии метро до Клэпема, а Норман по Бейкерлу до Килберн-парка.
Летти и Марсия начали наводить порядок у себя на столах, но без всякой спешки. Они не стали говорить или судачить об ушедших мужчинах, которых воспринимали как часть конторской обстановки и не считали достойными обсуждения, разве только те вдруг выкинут что-нибудь из ряда вон выходящее. За окном голуби, на крыше поклевывали один другого, очевидно выискивая насекомых. Наверно, это все, что и мы, люди, можем делать друг для друга, подумала Летти. Им всем троим было известно, что недавно Марсия перенесла тяжелую операцию. Теперь она уже неполноценная женщина: ей удалили какой-то очень важный орган — матку или грудь, этого точно никто не знал. Марсия сказала только, что операция была серьезная. Летти знала, что у Марсии удалена грудь, но даже она не догадывалась, какая именно. Норман и Эдвин обсуждали этот вопрос и делились своими соображениями по этому поводу, как водится у мужчин. Они считали, что Марсия должна была все рассказать им, поскольку они тесно связаны между собой по работе. И пришли к выводу, что после операции она стала еще чуднее, чем раньше.
В прошлом и Летти, и Марсия, вероятно, знали любовь и были любимы, но теперь чувства, которые следовало бы питать к мужу, любовнику, сыну и даже внуку, не находили у них естественного выхода: ни кошка, ни собака, ни даже птичка — никто не разделял с ними жизнь, а Эдвин и Норман не могли внушить к себе любовь. У Марсии был раньше кот, но старый Снежок умер, «скончался» или «ушел из жизни», как бы вам ни заблагорассудилось это назвать. Одинокие женщины могут почувствовать лишенную сентиментальности нежность одна к другой и проявляют ее в непритязательных знаках внимания, вроде голубей, которые выклевывают насекомых друг у друга. Если такая потребность возникала у Марсии, выразить ее словами она не умела. А вот Летти сказала: — У вас усталый вид. Приготовить вам чашечку чая? — И когда Марсия отказалась, Летти продолжала: — Надеюсь, вагон не будет переполнен и вам не придется стоять. В такое время в поездах спокойнее, ведь скоро уже шесть. — Она хотела улыбнуться, но, взглянув на Марсию, увидела ее темные глаза, пугающе огромные за очками, точно глаза какого-то ночного цепкохвостого зверька. Глаза лемура или потто? Марсия же, покосившись на Летти, подумала, что она похожа на старую овцу, но, в общем-то, благожелательная, даже если иной раз чуточку навязчива.
Норман ехал по Стэнморской ветке линии Бейкерлу навестить в больнице своего зятя. Теперь, когда его сестра умерла, родственной связи между ним и Кеном не осталось, и по дороге в больницу Норман чувствовал себя человеком добродетельным. Родственников у Кена нет, думал он, ведь единственный отпрыск их брака, дочь, эмигрировал в Новую Зеландию. Собственно говоря, у Кена была приятельница, на которой он собирался жениться, но она не приходила к нему в те дни, когда его навещал Норман. Пусть приходит один, решили они между собой. Никого у него нет, а тут все-таки побудет с близким человеком.
Сам Норман никогда не лежал в больнице, но Марсия не раз упоминала мимоходом отдельные подробности своего больничного опыта и особенно останавливалась на мистере Стронге — хирурге, который оперировал ее. Опыт Кена, конечно, не шел ни в какое сравнение с опытом Марсии, но все же некоторое представление о больнице давал. Норман стоял в толпе, готовясь прорваться вместе со всеми в распахнувшиеся двери, как только будет дан сигнал. Он не принес с собой ни цветов, ни фруктов, поскольку они договорились, что посещение — это все, что от него ожидают или требуют. До чтения Кен был не большой охотник, хотя «Ивнинг стандард» Нормана проглядывал с удовольствием. Он работал инструктором по вождению машин, но его теперешнее пребывание в больнице объяснялось не аварией по вине некой пожилой дамы, сидевшей за рулем, как подшучивали над ним в палате, а язвой двенадцатиперстной кишки — следствием жизненных тягот вообще, усугубленных, безусловно, волнениями, связанными с его профессией.
Норман сел у кровати Кена, стараясь не глядеть на других больных. Вид у Кена сегодня довольно кислый, подумал он, но в постели мужчины обычно выглядят не самым лучшим образом. Пижамы почему-то кажутся на них весьма непривлекательными. Дамы прилагают больше усилий в своем выборе ночных рубашек пастельных тонов и ночных кофточек с разной отделкой, как Норман успел углядеть в женской палате, когда поднимался наверх. На тумбочке у Кена была только пачка бумажных носовых платков, бутылка витаминизированного напитка, больничный пластиковый кувшинчик с водой и стакан, но под кроватью Норман заметил металлическую посудину для рвоты и странного фасона «вазу» из чего-то серенького, вроде картона, которая, как он заподозрил, имела отношение к мочеиспусканию или, по его выражению, к делам водопроводным. Зрелище этих полускрытых предметов вызвало у него чувство неловкости и негодование, так что он не сразу нашелся, о чем заговорить со своим зятем.
— Что-то у вас сегодня тихо, — сказал он.
— Телевизор испортился.
— А-а! Я чувствую, что-то не то. — Норман посмотрел на большой стол посредине палаты, на котором стоял громадный ящик с экраном, безмолвным и серым, как лица зрителей, лежащих в постелях. Его следовало бы покрыть скатеркой, хотя бы для приличия. — Когда это с ним приключилось?
— Вчера. И никто на этот счет не побеспокоился. Уж, кажется, такую малость могли бы сделать.
— Ну что ж, у тебя останется больше времени на размышления, — сказал Норман, постаравшись, чтобы это прозвучало насмешливо и даже несколько жестоко, потому что какие там размышления могли быть у Кена, кроме тех, которые вызывает телевизор. Где Норману было знать, что Кен действительно может поразмыслить и даже больше того — помечтать о водительской школе, которую он задумал открыть вместе со своей приятельницей. Какие он изобретал названия для этой школы, лежа в больнице! «Надежность» или «Высший класс» очень бы ей подошли, но потом его вдруг осенило: «Дельфин»! И он увидел вереницу машин — бирюзово-голубых или светло-желтых, — летящих, мчащихся по Северной магистрали, не заглушая мотора у светофоров, как это сплошь и рядом бывает с учащимися. Он раздумывал также о марке автомобиля, который у них будет, — ничего заграничного и не с мотором в задней части, что совершенно противоестественно, вроде часов с квадратным циферблатом. Поделиться с Норманом своими мечтами он не мог, потому что Норман машин не любил и даже не умел водить. Кен всегда относился к нему с презрительной жалостью, такой он немужественный и служит в какой-то конторе вместе с пожилыми женщинами.
Они сидели, почти не обмениваясь ни словом, и оба почувствовали облегчение, когда зазвонил звонок и пора было уходить.
— Как тут у тебя, все в порядке? — спросил Норман, вскочив с места.
— Чай слишком крепкий.
— А-а… — Норман растерялся. Точно он может что-то предпринять по этому поводу! Чего Кен от него ждет?
— А нельзя попросить сестру или кого-нибудь из санитарок, чтобы давали пожиже или подливали больше молока?
— Крепость все равно чувствуется. Все дело в заварке. Понимаешь? Если чай крепкий, так уж крепкий. И вообще говорить об этом со старшей сестрой или с санитарками бесполезно. Это не их дело.
— Тогда с той, которая заваривает.
— Как же, стану я! — проворчал Кен. — А крепкий чай, да при моей-то язве! Хуже этого ничего быть не может.
Норман встряхнулся всем телом, точно сварливая собачонка. Не за тем его сюда принесло, чтобы впутываться в такого рода дела, и тут же, покорившись командирше-ирландке — медсестре, которая выпроваживала его из палаты, — он вышел и даже не оглянулся на Кена.
На улице его раздражение только усилилось, потому что проносившиеся мимо машины не давали ему перейти через дорогу к автобусной остановке. Потом пришлось долго ждать автобуса, а когда он доехал до площади, где стоял его дом, там опять было полно машин, припаркованных одна к другой и даже заехавших на тротуар: некоторые были такие громадины, что налезали на бордюрный камень, и ему приходилось огибать их тыльную часть — их ягодицы, гузна, задницы. — Суки! — пробормотал он, лягнув одну своей маленькой, сухенькой ножкой. — Суки, суки, суки!
Этого никто не услышал. Миндальные деревья стояли в цвету, но он не заметил их розоватой белизны под горящим фонарем. Он отпер входную дверь своего дома и прошел к себе в комнату. Он выбился из сил за этот вечер и даже не почувствовал, что, навестив Кена, принес ему какую-то пользу.
У Эдвина вечер прошел более удачно. На обедне с пением, как всегда в будний день, было человек семь, не больше, но в алтаре собрался весь причт. После службы они с отцом Г. пошли в пивную выпить пива. Говорили всё о церковных делах: закупить ли более ароматичный ладан, поскольку «Мистическая роза» почти на исходе, позволить ли молодежи проводить изредка воскресную службу под гитары и все такое прочее, что скажут прихожане, если отец Г. предложит вести богослужение по Третьей серии.
— Молиться стоя? — сказал Эдвин. — Не понравится это людям.
— Но Поцелуй миролюбия… с дружеским жестом повернуться к тому, кто рядом, ведь это… — Отец Г. хотел сказать «идея прекрасная», но, подумав о своих прихожанах, счел такое выражение не совсем удачным.
Вспомнив, как пусто было в церкви во время службы, на которой они только что присутствовали, Эдвин тоже засомневался. На гулкой пустоте скамей всего пять-шесть человек, а таких, кто стоял бы и мог обратиться к соседу с каким-нибудь жестом, и вовсе не было. Но по доброте своей Эдвин не хотел портить мечтаний отца Г. — мечтаний о множестве молящихся. Он часто сокрушался, думая об англокатолическом взлете веры в прошлом столетии и даже о более близкой ему по духу атмосфере двадцатилетней давности. Высокий, мертвенно-бледный, в мантии, в биретте, отец Г. был бы тогда более на месте, чем в храме семидесятых годов нашего века, когда многие священники из тех, кто помоложе, носят джинсы и ходят с длинными волосами. В тот вечер один из таких как раз был в пивной. Эдвин представил себе, какие он служит службы у себя в церкви, и сердце у него упало. — А не лучше ли оставить все как есть? — сказал он драматически, нарисовав себе мысленно, как орды молодых людей и девиц топчут его, размахивая гитарами… Да, только через мой труп!
Они расстались около полуотдельного дома Эдвина неподалеку от лужайки. В холле Эдвину вспомнилась его покойная жена Филлис. Вспомнилась в ту минуту, когда он остановился у двери в гостиную, прежде чем войти туда. Будто послышался ее чуть ворчливый голос: «Это ты, Эдвин?» Точно мог быть кто-то другой! Теперь же он пользовался безграничной свободой, которую дает одиночество: мог когда угодно ходить в церковь, целыми вечерами сидеть на молитвенных собраниях, хранить в чулане вещи, собранные для благотворительной распродажи, и держать их там по полгода. Мог ходить в пивную или к священнику и засиживаться там до полуночи.
Эдвин поднялся в спальню, напевая свой любимый гимн: «О ты, творец сиянья дня!» Мотив у этого григорианского хорала был замысловатый, и, стараясь спеть его правильно, он отвлекался от смысла слов. Во всяком случае, не следует перебарщивать, утверждая, будто теперешние прихожане «погрязли в грехе и вражде меж собой», как говорится в одной строке этого хорала. Нынешняя публика такого не примет. Теперь мало кто и в церковь-то ходит.
2
С некоторых пор Летти часто приходилось сталкиваться с напоминаниями о своей смертности или, выражаясь менее поэтично, о различных этапах на подходе к смерти. Не так явно, как некрологи в «Таймс» или в «Телеграф», говорили об этом те случаи, которые назывались у нее «огорчительными». Вот, скажем, сегодня утром в часы пик в метро какая-то женщина тяжело осела на скамью, когда люди второпях бежали мимо нее по платформе, и до того напомнила ей одну школьную одноклассницу, что она заставила себя задержать шаги и наконец убедилась: нет, это не Дженет Беллинг. Оказалось, не Дженет, а могла быть и она, и все равно это человек, это женщина, доведенная жизнью до такого состояния. Может, помочь ей? Пока Летти решала, как ей быть, какая-то молодая девушка в длинной запыленной черной юбке и в поношенных туфлях нагнулась над этой поникшей фигурой и что-то тихо спросила ее. Женщина мгновенно вскинулась и угрожающе заорала — …твою мать! — Нет, это не Дженет Беллинг, подумала Летти, сразу почувствовав облегчение. Дженет не могла бы так выразиться. Но пятьдесят лет назад никто бы не позволил себе такого. Теперь все по-другому, так что по этому судить нельзя. Тем временем та девушка с достоинством зашагала прочь. Она оказалась храбрее Летти.
Это было утром в «день флажка». Марсия вгляделась в молодую женщину, которая стояла у входа в метро со своим лоточком и позвякивала кружкой. Что-то имеющее отношение к раку. Марсия двинулась к ней размеренным, торжественным шагом, держа в руке монетку в десять пенсов.
Улыбающаяся женщина была наготове: значок в виде маленького щита нацелен на лацкан пальто Марсии.
— Большое спасибо, — сказала она, когда монетка звякнула, упав в кружку.
— Благое дело, — негромко проговорила Марсия. — И мне это очень близко. Понимаете, у меня тоже…
Женщина ждала, явно нервничая, ее улыбка увяла, но она, как и Летти, была под гипнозом этих обезьяньих глаз за толстыми стеклами очков. А тут, как назло, несколько молодых вполне перспективных мужчин, которых можно было бы склонить к покупке значков, прошмыгнули в метро, притворившись, что им некогда.
— У меня тоже… — повторила Марсия, — удалили…
В эту минуту к женщине со значками подошел прельстившийся ее миловидностью немолодой мужчина и положил конец попыткам Марсии завязать разговор, но воспоминаний о том, как она лежала в больнице, ей хватило на всю дорогу до дому.
Марсия была одной из тех женщин, которые, поддавшись наставлениям матерей, дают клятву, что нож хирурга никогда не коснется их тела, ибо женское тело — это нечто такое интимное! Но в критическую минуту о том, чтобы противиться операции, не могло быть и речи. Она улыбнулась, вспомнив мистера Стронга — хирурга, который оперировал ее, — мастэктомия, удаление матки, удаление аппендикса, тонзилэктомия — что ни назовете, ему все едино, говорил его спокойно-уверенный тон. Она вспомнила, как он шествовал по палате в сопровождении своей свиты, вспомнила, как, волнуясь, наблюдала за ним, ожидая того великого мига, когда он подойдет к ее койке и спросит, будто поддразнивая: «Ну, как мы сегодня себя чувствуем, мисс Айвори?» Тогда она рассказывала ему о своем самочувствии, и он слушал ее, иногда задавая какой-нибудь вопрос, или, поворачиваясь к старшей сестре, справлялся с ее мнением, сразу сменив свой шутливый тон на профессиональную деловитость.
Если хирург считался богом, то священники были служителями божьими чуть ниже чином, чем врачи-ассистенты. Первым к ней подошел интересный молодой капеллан-католик, провозгласивший, что всем надо время от времени отдыхать, хотя, судя по его виду, ему никакого отдыха не требовалось, и что если даже пребывание в больнице по ряду причин бывает тягостно, то все же иногда оно для нас как тайное благодеяние, ибо нет такой ситуации, которую нельзя было бы обратить себе на пользу, и поистине сказано, что нет худа без добра… Он продолжал все в том же духе, расточая свое ирландское обаяние, и Марсии не сразу удалось вставить слово и сообщить ему, что она не католичка.
— Ах, значит, вы протестантка! — Своей резкостью это слово ошеломило ее, привыкшую к словам менее определенным и более мягким — таким, как «вы принадлежите к англиканской церкви» или «вы англиканского вероисповедания». — Ну что ж, приятно было с вами побеседовать, — сдался он. — Протестантский священник скоро к вам придет.
Англиканский священник предложил ей приобщиться святых тайн, и, хотя она была не богомольная, предложение его приняла, отчасти из суеверия, а еще потому, что это как-то выделяло ее из всех, кто был в палате. Причастие получила еще только одна женщина. Прочие осудили помятый стихарь священника, удивлялись, почему он не носит нейлоновый или териленовый, и вспоминали своих священников, которые отказывались совершать обряд венчания и крестить в своей церкви, если родители младенцев не посещали церковных служб и были повинны во многом другом, что говорило о людском безрассудстве и о нехристианском поведении.
Конечно, в больнице, особенно в те дни, когда ее навещал священник, мысли о смерти сами собой приходили в голову, и Марсия задавала себе беспощадный вопрос: как же все будет, если она умрет, ведь близких родственников у нее нет? Пожалуй, похоронят на кладбище для бедных, если такое все еще существует, хотя оставшихся денег хватит на похороны, но, как знать, может, ее тело сунут в печь, а она никогда этого не узнает. Надо смотреть на все трезво. Правда, можно завещать некоторые свои органы на научные исследования или для пересадки. Эта последняя идея не оставляла ее, сочетавшись с мыслью о мистере Стронге, и она собиралась заполнить страницу в той книжечке, что ей выдали при поступлении в больницу. Собиралась, но так и не собралась, а к тому же операция прошла благополучно, и она не умерла. «Я не умру, но буду жить…» Есть такой стих, который тогда все вертелся у нее в голове. Теперь ничего такого она не читала и вообще не читала, но эта цитатка иногда вспоминалась ей.
Дожидаясь поезда в то утро, Марсия увидела надпись размашистыми заглавными буквами, накорябанную кем-то на стене платформы: «СМЕРТЬ АЗИАТСКОМУ ДЕРЬМУ». Она долго смотрела на нее, повторяя шепотом эти слова, точно стараясь понять их смысл. Они вызвали у нее еще одно воспоминание о больнице — воспоминание о человеке, который вез ее на каталке в операционный зал. Бородатый, красивый какой-то чуждой, благородной красотой, голова и стан закутаны в голубоватую кисею. Он назвал ее «милая».
Когда Марсия вошла в контору, все трое подняли на нее глаза.
— Вы, кажется, опоздали? — съязвил Норман.
Как будто его это касается, подумала Летти. — Сегодня утром в метро была задержка, — сказала она.
— Да, да! — подтвердил Норман. — Видели надпись на доске в Холборне? «Поезда задерживаются вследствие того, что на станции Хаммерсмит под колесами обнаружено неизвестное лицо». «Лицо» — так это теперь называется?
— Бедняга, — сказал Эдвин. — Иной раз задумываешься, почему происходят такие трагедии.
Летти промолчала, вспомнив, как она сама расстроилась в это утро. Та женщина когда-нибудь может оказаться под колесами. Летти никому не рассказывала об этом, но теперь решила рассказать.
— Н-да! — сказал Норман. — Вот вам недурной пример того, как человек проваливается сквозь сетку социального обеспечения.
— Это с каждым может случиться, — сказала Летти. — Но теперь нет причин, чтобы человек доходил до такого состояния. — Она взглянула на свою шерстяную юбку, не новую, но только что из чистки, отглаженную. Во всяком случае, не надо опускаться.
Марсия ничего не сказала, но взгляд у нее был, как всегда, какой-то странный.
Норман проговорил чуть ли не весело: — Что ж, и это нам всем предстоит. Во всяком случае, не исключена такая возможность — не удержит нас сетка социального обеспечения.
— Да перестаньте вы! — сказал Эдвин. — Прочитали, что кто-то умер от гипотермии, и теперь это у вас из ума нейдет.
— Скорее всего, мы умрем от голода, — сказал Норман. По дороге в контору он заходил в продуктовый магазин и теперь занялся просмотром покупок в хозяйственной сумке — пластиковом мешке несусветного узора и пестрой расцветки, намекающем на какие-то неожиданные черты его натуры, — сверяя свои расходы с чеком, выданным ему кассиром. — Хрустящие хлебцы — 16, чай — 18, сыр — 34, фасоль — маленькая баночка — 12, — подсчитывал он вслух, — бекон — 46, меньшей упаковки не было, копченая спинка устрицы, как это у них называется, но не лучшего качества. Казалось, могли бы заготавливать и в меньшей упаковке для одиноких, как вы считаете? А передо мной стояла женщина, так она заплатила двенадцать фунтов с лишним. Мне везет, всегда я стою у кассы вот за такими… — бубнил он.
— На вашем месте я бы положила бекон, где похолоднее, — сказала Летти.
— Да. Суну его в какой-нибудь шкаф с документами, — сказал Норман. — Напомните мне, а то я забуду. То и дело читаешь, что пожилого человека находят мертвым, а в доме — ни куска. Ужасно, правда?
— Не надо до этого доводить, — сказал Эдвин.
— Можно запастись консервами, — как-то отчужденно проговорила Марсия.
— А потом, может, сил не хватит банку открыть, — с удовольствием сказал Норман. — Да мне и хранить их негде.
Марсия сосредоточенно посмотрела на него. Она часто задумывалась: как там все заведено у Нормана? Никто из них, конечно, не видел его спальни-гостиной. Эта четверка, работающая вместе, не ходила друг к другу в гости и не встречалась вне служебных часов. Поступив сюда на службу, Марсия слегка заинтересовалась Норманом, это чувство было на много градусов холоднее нежности, но некоторое время все же занимало ее мысли. Однажды в обеденный перерыв она пошла следом за ним. Держась на надежном расстоянии позади него, она видела, как он шагает по опавшей листве, слышала, как он сердито крикнул вдогонку машине, которая не затормозила у перехода через улицу. Поймала себя на том, что следом за ним входит в Британский музей, поднимается по широкой мраморной лестнице, идет дальше по гулким галереям, где столько всяких чудищ и стоит, и лежит за стеклом витрин, и, наконец, тоже останавливается в Египетском зале у выставки мумий разных животных и маленьких крокодильчиков. Тут Норман смешался с толпой школьников, и Марсия потихоньку ушла. Если бы она и захотела показаться ему, то время встречи и такие вопросы, как: «Вы часто здесь бываете?», были явно неуместны. Норман никому из них не говорил о своих походах в Британский музей, и если бы даже сказал, то никогда бы не признался, что созерцает крокодильи мумии. Это была, безусловно, его тайна. Со временем чувства Марсии к Норману угасли. Потом она попала в больницу, и в жизнь ее, наполнив собой все ее мысли, вошел мистер Стронг. Теперь она почти не обращала внимания на Нормана, судила о нем как о нелепом человечке, и его копанье в продуктовой сумке и перечисление купленного только раздражали ее. Она и знать не хотела, что он будет есть дома, ей это было совершенно безразлично.
— Да, кстати! Не забыть бы купить хлеба в перерыв, — сказал Эдвин. — Отец Г. зайдет ко мне закусить перед собранием приходского совета, и я хочу угостить его одним из моих «фирменных» блюд — запеченная фасоль на гренках, а сверху яйцо-пашот.
Женщины, как и следовало ожидать, улыбнулись, но Эдвин считался опытным кулинаром, а у них вряд ли бывает к ужину что-нибудь более изысканное, подумал он, выходя из кафе, торговавшего хлебом, с большим белым батоном в бумажном пакете. Он позавтракал, вернее, перекусил в этом кафе, оформление которого — увы! — сильно изменилось за последнее время, хотя выбор блюд остался прежним. И ему, и другим постоянным его посетителям стало неуютно среди модернового сочетания оранжевых и серо-зеленых тонов и панелей «под сосну». Лампы тут были подвесные, абажуры разрисованы бабочками и кроме всего прочего — «музычка», еле слышная, но въедливая. Эдвин вообще никаких перемен не одобрял, но, поскольку здание Гемиджа снесли, ему было теперь удобнее добираться в обеденный перерыв до своей церкви, хотя даже церковь — его возлюбленная Англиканская Церковь — тоже не была застрахована от кое-каких перемен. Иногда он заглядывал туда помолиться, поглядеть, что и как, полистать приходский журнал, если таковой оказывался на месте, но чаще всего изучал доску с объявлениями, выясняя, какие предстоят службы и другие мероприятия. Сегодня его заинтересовало извещение о скромном завтраке в пользу известного благотворительного общества (и как ни странно — «с вином»), который, пожалуй, стоило посетить.
Летти, как обычно, делала покупки по дороге домой в маленьком магазине самообслуживания, с хозяевами из Уганды, открытом до восьми вечера. Покупала она там только консервы и только расфасованное, не доверяя продуктам, лежащим без упаковки. У себя в удобной спальне-гостиной с умывальником за ширмой и с маленькой электрической плиткой она приготовила рис с остатками курицы, потом села послушать радио и взялась за коврик, который вышивала для сиденья кресла.
Хозяйка дома — пожилая женщина, сдававшая комнаты людям самым порядочным, — держала еще трех жилиц вроде Летти и венгерскую иммигрантку, более или менее приспособившуюся к порядкам в доме: радио пускать потише и ванную оставлять в том состоянии, в каком хочешь ее увидеть. Жизнь в этом доме шла спокойно, хотя и несколько уныло, может быть, даже многого была лишена. Но лишение всегда предполагает, что тебя чего-то лишили, что-то у тебя отняли, как, скажем, грудь у Марсии, а Летти, собственно, ничем особенным и не была богата. Но иногда ей думалось, а может, в этом «ничем не богата» тоже есть свое преимущество?
В тот вечер по радио передавали пьесу, постепенно уводящую назад, в прошлое одной старушки. Она напомнила Летти ту женщину, которая утром у нее на глазах повалилась на скамейку в метро. Можно ли себе представить, какая она была в этот же час, скажем, год назад, потом пять, десять, двадцать, тридцать и даже сорок лет назад? Но такое бегство в прошлое вряд ли подходило самой Летти, которая жила только в настоящем, аккуратно и крепко держась за жизнь, справляясь по мере сил с тем, что жизнь могла предложить ей, хоть это было не так уж и щедро. Ее биография повторяла биографии многих женщин — тех, кто родился до 1914 года и рос единственным ребенком в мелкобуржуазной семье. Она переехала в Лондон в конце двадцатых годов, поступила учиться на секретаря и поселилась в общежитии для служащих женщин, где познакомилась с Марджори, единственной, с кем у нее сохранялись отношения все эти долгие годы. Как и большинство девушек ее возраста и воспитания, она ожидала, что выйдет замуж, и, когда началась война, девушкам действительно ничего не стоило найти себе мужа или близкого человека, хотя бы и женатого, но замуж вышла одна только Марджори, а Летти по-прежнему тащилась в хвосте у своей подруги. К концу войны Летти уже перешагнула за тридцать, и Марджори потеряла всякую надежду пристроить ее. Летти, в общем-то, никогда особых надежд и не подавала. Послевоенное время запечатлелось у нее в памяти только по одежде, которую она носила в те или иные памятные годы: «Новый силуэт», предложенный Диором в 1947 году, удобная элегантность пятидесятых годов, а в начале шестидесятых кошмар мини-юбок — такой жестокой моды для тех, кто далеко не молод. А вот на днях она прошла мимо дома в Блумсбери, где они с Марджори служили в тридцатых годах — на первом этаже здания времен короля Георга, — и очутилась перед бетонным сооружением, похожим на то, в котором они четверо служат теперь, но не заметила, конечно, что здания эти одинаковые.
В ту ночь, вероятно под впечатлением пьесы, которую передавали по радио, Летти видела сон. Во сне время вернулось назад, в год Серебряного Юбилея, когда она гостила у Марджори и у ее жениха Брайена в коттедже, который они купили в загородном поселке за 300 фунтов. Там был и приятель Брайена, приглашенный ради нее, — красивый, но скучный молодой человек по имени Стивен. В субботу вечером они отправились в пивную и сели там в пустом, затхлом салоне с обстановкой красного дерева и с рыбьими чучелами по стенам. Все здесь отдавало сыростью, как будто никто никогда сюда не заходил, и так оно, вероятно, и было, кроме самых робких посетителей, вроде них. Все четверо пили пиво, хотя девицам оно не нравилось и не производило на них заметного «эффекта», разве только заставило призадуматься, есть ли в таком примитивном заведении дамская уборная. На другом конце пивной, в общем баре, было светло, ярко, шумно, но их четверка казалась здесь какой-то неприкаянной. В воскресенье они пошли к утренней службе в местную церковь. Алтарь там был запачкан птичьим пометом, и священник обратился к прихожанам с призывом жертвовать на ремонт крыши. В 1970 году эту церковь закрыли как «излишнюю» и в конце концов снесли, поскольку она «не имела ни художественного, ни исторического значения». Во сне тем жарким летом 1935 года Летти лежала в высокой траве со Стивеном или с кем-то, смутно похожим на него. Он лежал совсем близко к ней, но у них так ничего и не было. Она не знала, что сталось со Стивеном, но Марджори с тех пор овдовела и живет одна, так же как и Летти. Все ушло, ушло то время, те люди… Летти проснулась и долго лежала, раздумывая над странностями жизни, вот так ускользающей от тебя все дальше и дальше.
3
Марсия вошла в свой дом — в тот дом, который у агентов по продаже недвижимости уже приближался к разряду «полуотдельный, двадцать тысяч». Дома на ее улице почти достигли этой цены, но дом Марсии несколько отличался от других. Снаружи вид у него был самый обычный — цветной витраж во входной двери, два больших эркера и витраж поменьше над крыльцом. Покрашен он был традиционно — темно-зеленый с кремовыми наличниками, но требовал новой покраски, а тюлевые занавеси на окнах (как считали некоторые) не мешало бы выстирать. Но мисс Айвори все еще работала, и она была не из тех, кому можно предложить свою помощь. Соседи в домах более ухоженных справа и слева от ее дома поселились здесь недавно. Изредка при встречах они здоровались, но Марсия у них не бывала, и они не заходили к ней.
Внутри дома было мрачновато, двери — темно-коричневые, всегда таинственно закрыты. На всем лежала пыль. Марсия прошла прямо на кухню, сумку с покупками поставила на стол, покрытый газетой. Она знала, что надо заняться приготовлением обеда. Сестра, ведающая в больнице бытовым обслуживанием пациентов (теперь их называют работниками социального обеспечения), говорила: очень важно, чтобы, придя с работы домой, человек как следует поел. Но Марсия только и сделала, что налила в чайник воды, собираясь выпить чаю. Все силы ушли у нее еще утром на то, чтобы приготовить себе чем позавтракать в перерыв на службе. Теперь ни о какой другой еде ей и думать не хотелось, разве только взять сухарик к чаю. «Печенье поддерживает силы», говорили во время войны, но она никогда не отличалась большим аппетитом. Всегда была худая, а после больницы похудела еще больше. Все на ней висело, но она не очень-то заботилась о своей внешности, не то что Летти, которая то и дело покупает всякие обновки и очень расстраивается, если не может подобрать вязаную кофту точно в тон к другим своим вещам.
Неожиданно раздался звонок, резкий, настойчивый. Марсия точно окаменела, сидя на стуле. Гости у нее никогда не бывали, никто к ней не приходил. Кто бы это мог быть, да еще вечером? Снова раздался звонок, она встала и прошла в комнату, выходящую на улицу, откуда из бокового окна можно было увидеть, кто поднялся на ступеньки крыльца.
Помахивая связкой ключей от машины, там стояла молодая девица. По ту сторону улицы Марсия увидела небольшую синюю машину. Она нехотя отперла дверь.
— А-а! Вы мисс Айвори, да? А я Дженис Бребнер.
Лицо у нее было розовое, взгляд открытый. Молодые женщины теперь, кажется, не увлекаются косметикой, и даже Марсия заметила, что некоторым косметика пошла бы на пользу.
— Мы тут, в нашем Центре, беспокоимся об одиночках.
Неужели она приготовила заранее такую фразу? Ведь прямо-таки отбарабанила. Марсия промолчала.
— То есть о тех, кто живет один.
— Вы думали, что найдете меня мертвой? Так понимать ваши слова?
— Да что вы, мисс Айвори! У нас этого и в мыслях не было!
Казалось бы, как тут не рассмеяться — ведь смешно! Но Дженис Бребнер поняла, что этого делать не следует. Добровольные работники Центра ничего особенно смешного в своем деле не встречают. Правда, иной раз улыбнешься, разговаривая с теми, кто находится под твоей опекой, потому что среди этих людей попадаются просто очень милые. Но бывают случаи и трагические. А вот мисс Айвори — к какой категории ее отнести? Как известно, мать мисс Айвори умерла несколько лет назад, теперь она живет одна, не так давно вышла из больницы после тяжелой операции. Сестра, которую Дженис знала, дала ей понять намеком, что за этой женщиной следовало бы приглядывать. Правда, она продолжает работать, но о ней мало что известно — с соседями она не общается, в доме у нее никто никогда не был. Вот и сейчас эта мисс Айвори не пригласила Дженис зайти, и они продолжали разговор, стоя на пороге. Вламываться к людям в дом, конечно, нельзя, но мисс Айвори, женщина одинокая, могла бы обрадоваться дружескому посещению и случаю поговорить с человеком.
— Мы просто подумали… — продолжала Дженис, вспомнив, что по инструкции тут важно проявить такт и осторожность. — Мы подумали, может, вы захотите прийти к нам как-нибудь вечером на дружескую встречу? Вы знаете, наш Центр рядом с муниципалитетом.
— Нет, вряд ли, — резко сказала Марсия. — Я работаю, и вечера у меня заняты.
Но телевизионной антенны на крыше ее дома нет, так что непонятно, чем она так занята вечерами, подумала Дженис. Впрочем, она сделала все, что могла, может быть, заронила семечко, а это самое важное.
Как только дверь за ней закрылась, Марсия поднялась наверх, в спальню — проследить Дженис Бребнер. Она увидела, как та отперла машину и села за руль, держа в руке какую-то бумагу и, видимо, сверяясь с нею. Потом уехала.
Марсия отошла от окна. Она была в той комнате, где умерла ее мать. С тех самых пор здесь все оставалось почти как было. Тело покойницы, конечно, вынесли и похоронили, все, что делается в таких случаях, было сделано, погребальные обряды соблюдены, но потом у Марсии не хватило сил переставить в комнате мебель, а миссис Вильямс, которая в то время приходила к ней убирать, не поощрила ее в этом деле. «Вам будет приятнее, чтобы все осталось как есть, и ничего тут не меняйте», — сказала она. Ей, наверно, просто не хотелось двигать мебель. На кровать перебрался спать Снежок, и так было до самой его смерти, когда черные пятна у него на шкурке приобрели бурый оттенок, тело стало легким, и вот однажды исполнилось время его, он перестал дышать и принял мирную кончину. Ему было двадцать лет, в переводе на человеческий возраст сто сорок. «И не захочешь жить до такой старости», — сказала тогда миссис Вильямс, как будто человеку дано выбирать или предпринимать что-нибудь по этому поводу. После смерти Снежка и погребения его в саду миссис Вильямс ушла от Марсии, так как ей стало трудно работать, и Марсия даже не пробовала прибирать в комнате матери. На одеяле по-прежнему валялся старый меховой катышек, который принес Снежок в свои последние дни, и с тех пор он высох, стал точно какая-то окаменелость давних веков.
— У мисс Айвори очень странный пристальный взгляд. И она явно не хотела впускать меня в дом, — сказала Дженис, вернувшись в Центр и купаясь в сознании исполненного, хотя и малоприятного долга.
— А вы не обращайте на это внимания, — сказала ей старшая и более опытная сотрудница. — Сначала многие из них так держатся, но контакт все же установлен, а это главное. Такова наша задача — устанавливать контакты, если потребуется, даже в принудительном порядке. И, поверьте мне, это приносит большое удовлетворение.
Дженис удивилась, но ничего ей не сказала.
На другом конце лужайки Эдвин, совершающий вечернюю прогулку, изучал доску с церковными объявлениями. Там не было ничего, кроме самых основных сведений — в восемь часов утра по воскресеньям святое причастие, в одиннадцать утреня, в будние дни служб нет, и, когда он тронул дверную ручку, оказалось, что церковь заперта. Жаль, конечно, но теперь всё так: не запирать церковь опасно — столько сейчас воровства и хулиганства. Чувствуя легкое разочарование, он отошел от доски, зашагал по лужайке до первого поворота, который вел в нужном ему направлении. Прочел название улицы, вспомнил, что здесь живет Марсия, и прибавил шагу. Если столкнуться с ней или даже только пройти мимо ее дома, это как-то неудобно, подумал он. Оба они в известном смысле люди одинокие, но ни ему, ни ей не придет в голову встречаться помимо конторы. При встрече с ним она смутится не меньше, чем он. Во всяком случае, Эдвин всегда чувствовал, что Марсия больше дружит с Норманом и что если уж ей кто больше по вкусу, так это Норман. Тогда что же? Может быть, он, Эдвин, приятельствует с Летти? Да не-ет, вовсе нет. Эта мысль почему-то вызвала у него улыбку, и он пошел дальше — высокий улыбающийся человек с переброшенным через руку дождевым плащом, хотя погода стояла теплая и в небе не было ни облачка.
4
С наступлением весны, с приходом солнечного тепла начала мая все четверо стали проводить обеденный перерыв чуть-чуть по-иному. Эдвин отправлялся в свой обычный поход по церквам, потому что это время года было богато праздниками и все церкви в округе предлагали обширную разнообразную программу служб, но, кроме того, он зачастил в садоводческие магазины, посещал агентов по туризму и собирал разные брошюры, прикидывая, куда бы поехать на отдых, — остальные позаботились об этом еще в январе. Норман, собравшись с духом, сходил к зубному врачу и вернулся в контору жалкий-прежалкий, с термосом, куда был налит суп, единственное, чем он мог позавтракать.
Марсия забросила свою библиотеку и очутилась в магазине, где гремела музыка, где продавались иностранные товары и восточная одежда, мужская и женская, сшитая на живую нитку. Она повертела в руках грубую керамическую посуду кричащей расцветки, легенькие блузки и юбки, но ничего не купила. Оглушающая поп-музыка сбила ее с толку, и она почувствовала, что люди к ней приглядываются. Одурманенная, ошалевшая, она вышла на солнце. Очнулась, услышав сирену машины «скорой помощи», и примкнула к толпе, собравшейся вокруг человека, лежащего на тротуаре. Сердечный приступ… Мойщик стекол оступился и упал вниз… Наперебой звучали взволнованные приглушенные голоса, но никто не знал толком, что случилось. Марсия подошла к двум женщинам и попыталась выяснить, в чем дело, но они только и могли сказать: «Вот бедняга! На него страшно смотреть! Несчастная жена!» Мысли Марсии вернулись к больнице, она вспомнила, какое поднималось волнение при виде машины «скорой помощи». Она лежала тогда на нижнем этаже, совсем близко от приемного покоя. Теперь ее несколько разочаровало, что этот человек пытался приподняться с тротуара, но санитары остановили его, внесли в машину на носилках, и Марсия, с застывшей на лице улыбкой, вернулась в контору.
Нормана и Летти обоих потянуло на свежий воздух. Норман хотел отвлечься от зубной боли, а Летти была под влиянием навязчивой, чудаческой идеи о необходимости хоть небольшой ежедневной прогулки. И вот оба они по одиночке, не подозревая, что и другой пошел туда же, отправились в Линкольнс-Инн-Филдс, ближайшее от конторы открытое место.
Нормана повлекло к баскетбольной площадке, где играла женская команда, и он, хмурый, уселся на скамейку. Он сам не понимал, что его привело сюда. Раздраженный сухонький человек с зубной болью злился на пожилых мужчин, которые вместе с ним составляли большинство зрителей вокруг баскетбольной площадки, злился на полуголую, длинноволосую молодежь, валяющуюся на траве, злился на тех, кто сидел на скамейках — эти ели сандвичи, мороженое в вафельных рожках, сосали леденцы на палочке и бросали объедки на траву. При виде баскетболисток, скачущих, прыгающих во время игры, ему пришло на ум слово «распутство» и что-то про «псов оскалившихся» — это из псалмов, что ли? Потом он представил себе, как собаки скалят зубы, высунув язык, точно улыбаются. Посидев так несколько минут, он встал и, недовольный жизнью, пошел в контору. И только зрелище изуродованной машины с продавленным боком, которую вела по Кингсвею аварийная, несколько подняло его настроение, так же как приободрила Марсию сирена «скорой помощи», но он тут же вспомнил, что возле его дома уже который день стоит брошенная машина и ни полиция, ни городской совет не принимают никаких мер по этому поводу, и снова обозлился.
Летти же с ее пристрастием к моциону и свежему воздуху готовилась насладиться благами весны.
Нас учит ясно и светло Весенний лес, мгновенный кров, Распознавать добро и зло Верней всех мудрецов.[1]Летти все это знала, хоть и не старалась проникнуть в сложный смысл этих строк. Она шла быстро и не собиралась сесть и посидеть на скамейке, потому что большинство их было занято, а на свободных сидели какие-то психопаты, которые бормотали себе под нос и ели что-то странное. Лучше уж пройти дальше, хотя было жарко и ей хотелось отдохнуть. Она не возмущалась, видя целующихся и обнимающихся на траве, хотя сорок лет назад, в годы ее молодости, люди так себя не вели. А правда ли, что не вели? Может, тогда она просто ничего такого не замечала? Она прошла мимо здания Онкологического института и подумала о Марсии. Даже Марсия когда-то намекала ей на что-то такое, что было у нее в жизни. Что-то подобное в жизни было, конечно, у каждого. Люди любят делать такие намеки, и тогда начинаешь подозревать их и приходишь к выводу, что многое тут придумано и основывается на пустяках.
Когда все снова сошлись в конторе, зашел разговор об отпусках. Вот уже несколько недель на столе у Эдвина были разбросаны брошюры, сулящие немыслимые прелести туризма, но все знали, что он только листает их изредка, а ежегодный отпуск неизменно проводит в семье своей дочери.
— Греция, — сказал Норман, взяв брошюру с Акрополем на обложке. — Вот куда мне всегда хотелось съездить.
Марсия с удивлением уставилась на него. Остальные тоже изумились, но виду не подали. Что это? Какая-то новая сторона жизни Нормана, какое-то до сих пор не обнаруженное стремление вдруг выплыло наружу? Свой отпуск он всегда проводил в Англии, и это всегда плохо кончалось.
— Говорят, там изумительное освещение, есть в нем что-то совершенно исключительное, — сказала Летти, вспомнив то ли услышанное, то ли прочитанное где-то. — И море цвета темного вина… Кажется, так это описывают?
— Какого там цвета море, мне безразлично, — сказал Норман. — Меня интересует плавание.
— Подводное плавание? Вы об этом? — спросил удивившийся Эдвин.
— Ну и что? — с вызовом ответил Норман. — Сейчас многие этим занимаются. Под водой находят клады, сокровища…
Эдвин засмеялся. — Ну, тогда отпуск у вас получится не такой, как в прошлом году, — сострил он. Норман ездил с туристской группой на запад Англии, и по каким-то неведомым причинам единственный его отзыв об этой поездке был: «Первый и последний раз». — По-моему, вы там не очень-то много кладов обнаружили.
— Я никогда не могла понять, почему люди уезжают из дому, — сказала Марсия. — Когда становишься старше, в такие поездки не так уж и тянет. — Если Нормана действительно одолевают какие-то тайные стремления, вполне мог бы ограничиться посещениями в обеденный перерыв Британского музея. Посидел бы там, полюбовался бы сокровищами исчезнувших цивилизаций, подумала она. Сама же Марсия никуда не уезжала; во время отпуска она предавалась каким-то загадочным утехам.
— Да, разглядывать картинки — это, пожалуй, все, на что я способен, — сказал Норман. — Вот Летти у нас дело другое.
— Я в Грецию никогда не ездила, — сказала Летти, но из всей этой четверки она была, пожалуй, самая смелая. Летти не раз отправлялась в круизы вместе с Марджори, и открытки, присланные ею из Испании, Италии и Югославии, все еще украшали стены конторы. Но в этом году Марджори, видимо, решила остаться дома, и, так как, уйдя на пенсию, Летти собиралась поселиться вместе с ней в ее коттедже, было бы неплохо свыкнуться с жизнью в небольшом загородном поселке. Двух недель хватит, чтобы получить представление о том, как люди проводят время в таких местах. Она будет совершать походы по окрестностям, участвовать в пикниках, если позволит погода. «А в саду на полянке цветут пышные розы, и все такое прочее, — как говорил Норман, когда речь заходила о том, как Летти будет жить, уйдя на пенсию. — Но погода все может испортить, — не мог не добавить он. — Уж мне ли этого не знать!»
5
Когда поезд подошел к платформе, посреди поля, как ни в чем не бывало, сидел фазан. Между более солидных ухоженных машин у станции Летти увидела машину Марджори — запыленный синий «Моррис 1000». Даже теперь, сорок лет спустя, Летти вспоминала «Вельзевула» — первую машину Марджори, купленную в тридцатых годах за двадцать пять фунтов. Интересно, нынешняя молодежь тоже дает своим старым машинам смешные названия? Теперь автомобилизм — дело гораздо более серьезное, ничего забавного в нем нет, если машина стала символом престижа своего хозяина и за желаемый номерной знак надо платить большие деньги.
Марджори схватила чемодан Летти и сунула его в багажник. Обеспеченная вдова, поселившаяся в загородном поселке, Марджори была совсем не похожа на бесшабашную молодую девицу, которую Летти помнила с юных лет, хотя кое-какие романтические замашки у нее сохранились. Теперь она проявляла повышенный интерес к недавно назначенному к ним приходскому священнику, и Летти впервые увидела его, когда Марджори — вот уж не ожидала! — потащила ее в воскресенье в церковь. Его преподобие Дэвид Лиделл (он предпочитал, чтобы его называли «отец») был довольно высокого роста брюнет, лет уже за сорок, церковное облачение, безусловно, очень шло к нему. Хорошо, что у Марджори есть такой интересный новый священник, подумала Летти, добрая душа. Жители поселка были большей частью ушедшие на покой супружеские пары с непременными при них внуками. Здесь велось некое подобие светской жизни, которое поддерживалось главным образом хождением в гости на рюмочку коньяку, и как-то вечером Марджори пригласила к себе молчаливого элегантного отставного полковника, его неумолчно болтающую жену и отца Лиделла. При ближайшем рассмотрении — и в «штатском» — отец Лиделл разочаровал Летти. Он оказался человеком самым обыкновенным, в рыжеватом твидовом пиджаке и в серых фланелевых брюках довольно неудачного покроя — то ли слишком широких, то ли слишком узких, во всяком случае таких теперь не носят.
Отсидев положенное время и выпив еще по рюмке, полковник с женой удалились, но отец Лиделл, видимо отдававший себе отчет, что у него дома ничего съедобного нет, задержался, и Марджори пришлось пригласить его к ужину.
— Н-да, положение не совсем приятное, — явно чего-то не договаривая, сказал он, когда Марджори вышла на кухню и Летти осталась с ним наедине.
— Да? Почему неприятное? — Летти не уловила, к кому относятся его слова — к нему одному или ко всему человечеству.
— Потому что не можешь отплатить подобным же гостеприимством, — пояснил он. — Марджори всегда такая радушная.
Оказывается, он называет ее по имени, и это приглашение к ужину уже не первое.
— По-моему, в небольших поселках люди вообще очень радушные, — слегка осадила его Летти. — Гораздо радушнее, чем в Лондоне.
— Ах! Лондон… — Вздох был, пожалуй, несколько преувеличенный.
— Дэвид перебрался сюда, конечно, из-за своего здоровья, — сказала Марджори, вернувшись в комнату и сразу вступая в разговор.
— Ну и как, вам здесь лучше? — спросила Летти.
— У меня всю эту неделю была диарея, — последовал ошеломляющий ответ.
Наступила короткая — на какую-нибудь долю секунды — пауза, и если обе женщины несколько растерялись, они сразу же пришли в себя.
— Диа-рея, — задумчиво повторила Летти. Она всегда затруднялась в правописании этого слова, но, решив, что столь банальное признание не соответствует серьезности момента, больше ничего не добавила.
— Крепкое вино помогло бы вам лучше, чем наши извечные приходские чашечки чая, — смело посоветовала Марджори. — Например, коньяк.
— Энтеровиоформ, — сказала Летти.
Он улыбнулся жалкой улыбкой. — Может быть, это помогает английским туристам на Коста-Брава, но разница в том, что у меня…
Фраза так и увяла, не дойдя до конца, и в чем заключалась эта «разница», оставалось только догадываться.
— Да, когда бываешь за границей… Приехали мы в Неаполь, Napoli, — сказала Марджори чуть ли не игриво. — Помнишь, что было в Сорренто, Летти?
— Я помню только лимонные рощи, — сказала Летти, решив переменить тему разговора.
Дэвид Лиделл закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, ощущая всем своим существом, как приятно быть в обществе интеллигентных дам. Он к этому не привык. Грубые голоса здешних жителей действовали ему на нервы, а иногда эта публика позволяла себе говорить ужасные вещи. Любые попытки «улучшить» церковный обиход встречались с презрением и враждебностью, а когда он стал посещать коттеджи, ему приходилось смотреть телевизор, потому что у людей не хватало понятия его выключить. Он ужасался — живут здесь без водопровода, без теплой уборной, а находятся в рабстве у этого ящика! Старухи, которые в прежние времена были опорой прихода, и те не желали посещать церковь, даже если их доставляли туда и обратно на машине. Единственное, что привлекает на церковные службы кое-кого из прихожан, — это Праздник урожая, Поминальное воскресенье и Рождественские песнопения. По контрасту со здешней публикой Марджори и ее приятельница, мисс Такая-то — особа малоинтересная, фамилия ему не запомнилась, — женщины в высшей степени культурные, и он с наслаждением ел цыпленка под бешамелью и беседовал с ними о поездках в Италию и Францию.
— Орвието, — промолвил он. — Но пить его надо там, на месте. — И они, конечно, согласились с ним.
Летти он показался очень скучным, но Марджори она этого не сказала. Погода была прекрасная, и ей не хотелось затевать разговор на спорные темы ни за чаем в саду, ни во время неспешных прогулок по лугам и лесам. Кроме того, если, выйдя на пенсию, она поселится в коттедже вместе с Марджори, не стоит слишком уж критиковать священника, тем более что он, видимо, будет часто заходить к ним. К этому придется привыкнуть, когда живешь в небольшом поселке. И ко многому другому тоже. На совместных прогулках это она, Летти, натыкалась на мертвую птицу или на высохший трупик ежа или видела раздавленного кролика посреди шоссе, когда они ехали на машине. Марджори, наверно, часто приходилось видеть такое, и она уже не обращала на это внимания.
В последний день отпуска Летти они решили съездить на пикник в живописное местечко недалеко от поселка. День был не праздничный, значит, там будет немноголюдно, но главное то, объявила Марджори перед самым отъездом, что с ними сможет поехать Дэвид Лиделл.
— Разве у него нет никаких обязанностей на неделе? — удивилась Летти. — Даже если нет службы в церкви, то надо же посещать больных и стариков!
— Болен сейчас только один человек, и он в больнице, а старикам его посещения не нужны, — сказала Марджори, давая Летти понять, что ее старомодные взгляды неуместны в наши дни в Государстве Всеобщего Благоденствия, где здоровье каждого человека всем известно и всеми обсуждается.
— Я все стараюсь вытаскивать Дэвида на природу, когда только можно, — добавила Марджори. — Ему необходимо отдохнуть, отключиться от дел.
Летти отметила это «на природу», имевшее, видимо, какой-то особый смысл, и, памятуя о потребностях Дэвида Лиделла, она не удивилась, когда ее втиснули на заднее сиденье машины вместе со всем приготовленным для пикника и со старым терьером Марджори, который оставлял на ее чистых темно-синих брюках жесткие белые волосы. Марджори и Дэвид сели на переднее сиденье и дорогой вели разговоры о делах поселка, в которых Летти не могла принимать участие.
Когда они приехали на место, Марджори извлекла из багажника два складных парусиновых стула, торжественно поставила оба — себе и Дэвиду, и Летти поспешила заверить их, что она устроится на коврике, так будет лучше. Тем не менее у нее осталось такое чувство, что значение ее было умалено, что она как-то принижена, ибо сидит на более низком уровне, чем другие.
Поев холодной ветчины, яиц вкрутую и выпив белого вина — этот не совсем обычный штрих Летти приписала присутствию Дэвида Лиделла, — все трое замолчали; может быть, после вина, выпитого среди дня, их одолела естественная сонливость. Для сна обстановка была не совсем подходящая: их трое — двое на стульях, Летти на коврике, и все же, невольно закрыв глаза, она на некоторое время отрешилась от своего окружения.
Открыв глаза, она обнаружила, что смотрит прямо на Марджори и Дэвида, которые сидят на своих тесно сдвинутых парусиновых стульях, кажется, держа друг друга в объятиях.
Летти тут же отвела от них взгляд и снова закрыла глаза, не зная, может, это ей приснилось?
— Кому налить кофе? — звонким голосом спросила Марджори. — У нас есть еще в другом термосе. Летти, по-моему, ты заснула?
Летти приподнялась с коврика. — Да, я, кажется, задремала, — призналась она. Почудилась ей эта сцена, или к таким вещам тоже придется привыкать, когда поселишься здесь?
Как только Летти вернулась из отпуска, собрался уезжать Эдвин. В конторе без конца обсуждалось, ехать ли ему автобусом или поездом, взвешивались все за и против того и другого способа передвижения. В конце концов победил поезд. Поездом дороже, но быстрее, и Эдвин наездится в машине со своим зятем, с дочерью и с их двумя детьми. Они будут недалеко от Истборна, где есть великолепные церкви, и он предвкушал поездку туда. Вдобавок осмотрят сафари-парк и роскошные поместья, где столько всего интересного. Может быть, доберутся даже до Лайонз-оф-Лонглит, вволю покатаются по автострадам. Мужчины на переднем сиденье, дочь Эдвина и дети сзади. Для всех для них это будет хорошей разрядкой, но дети растут, и потом, пожалуй, захочется поехать в Испанию, а как тогда быть с Эдвином? Испания ему не понравится, решили дочь с зятем. Может быть, он проведет отпуск с кем-нибудь из конторы? Может, так эта проблема и разрешится?
Расставшись со своими сослуживцами, Эдвин о них почти не думал. Вспомнилась ему только Марсия, и при довольно странных обстоятельствах. Перед отходом поезда он стоял на вокзале у книжного киоска, соображая, не купить ли ему что-нибудь почитать. Он уже успел сбегать на Португал-стрит за последним номером «Черч таймс», но этого ему на всю дорогу не хватит. В киоске был большой выбор журналов с яркими обложками; на некоторых изображались полные, обнаженные бюсты молодых женщин в соблазнительных позах. Эдвин разглядывал их совершенно хладнокровно. У его жены Филлис тоже были груди, но он не помнил, чтобы это выглядело именно так — круглые, как воздушные шары. Потом он вспомнил Марсию и ее операцию — мастэктомия… так, кажется, это назвал тогда Норман. Значит, ей удалили одну грудь, а это утрата для любой женщины, хотя Эдвин не мог себе представить, чтобы у Марсии было такое же роскошество, как у девиц на журнальных обложках. И все же ее нельзя не пожалеть, хотя особа она малоприятная. Может быть, следовало заглянуть к ней в тот вечер, когда он вышел с лужайки на ее улицу? Он не знал, ходит ли Марсия в ту церковь, что стоит на запоре, и навещает ли ее священник. Она никогда об этом не говорила, но за ней, конечно, кто-нибудь из церковных деятелей приглядывает, и там знают, что такие всегда держатся особняком, следовательно, включать их в организованную программу не следует. Эдвин не принадлежал к той школе, которая считает, что деятельность церковников есть продолжение деятельности общественной, но он знал, сколько людей добропорядочных, честных, благожелательных стоят теперь на такой позиции. Марсию вряд ли оставят без присмотра, так что беспокоиться о ней нечего. Стоя сейчас на вокзале Виктория, он ничем помочь ей не сможет. И, отвернувшись от журналов, напомнивших ему Марсию, он купил номер «Ридерс дайджест» и выкинул ее из головы.
Церковные деятели действительно предприняли осторожную попытку войти в контакт с Марсией и предложили ей поехать с экскурсией в Вестклиф-на-Море («Это интереснее, чем Саутенд.»), но она ехать не захотела, и вынуждать ее к этому не стали. Дженис Бребнер тоже беспокоилась, почему Марсия никуда не уезжает в отпуск, и подала ей на выбор несколько советов, но Марсия ни одному из них не последовала. — Она ужасно трудная! — жаловалась Дженис своей приятельнице — больничной сестре. — Эти люди даже не желают, чтобы им оказывали помощь. А ведь есть такие, которые благодарят тебя, с ними так хорошо, им стоит помогать… — Она вздохнула. Марсия была, безусловно, не из таких.
И все же на время отпуска Марсия припасла себе два развлечения, но какие — она никому не сказала. Первое — посещение больницы, где она должна была пройти амбулаторный осмотр в клинике мистера Стронга. Время, указанное на ее карточке, было 11.35 — весьма странное время; создавалось такое впечатление, что все рассчитано в пределах пяти минут, чтобы людям не приходилось зря там околачиваться. Марсия пришла в больницу минута в минуту, отметилась в регистратуре и села, ожидая вызова. Если кто при ходил раньше назначенного времени, можно было почитать журналы, выпить чаю или кофе из автомата и, конечно, посетить уборную. Марсия ничего такого не сделала и сидела на стуле, глядя прямо перед собой. Она заняла место в стороне от других и рассердилась, когда какая-то женщина, сев рядом с ней, попыталась вступить в разговор. Ожидающие не обращались друг к другу; все сидели так, как сидят в приемных у врачей, разве только над этим бдением нависало нечто совсем иное, ибо у каждого, кто ждал своей очереди, было что-то «не совсем благополучное». Марсия промолчала в ответ на замечание насчет погоды и продолжала смотреть прямо перед собой, уставившись на дверь, на которой была дощечка с надписью «Мистер Д. Г. Стронг». Рядом другая дверь, на дощечке «Д-р Г. Уинтергрин». Невозможно было определить, к кому ждут вызова все эти люди — к хирургу или к терапевту; никаких отличий на них не замечалось, и все они, и мужчины и женщины, испуганные, а некоторые даже подавленные, были разного возраста.
— Вы к доктору Уинтергрину? — упорствовала соседка Марсии.
— Нет, — сказала Марсия.
— Ах, значит, к мистеру Стронгу. За те полчаса, что я сижу здесь, в этот кабинет еще никто не входил. Я-то жду доктора Уинтергрина. Он замечательный врач, иностранец. Кажется, поляк. Глаза такие добрые, просто замечательные. Обходит палаты всегда с гвоздикой в петлице. Сам их выращивает у себя в саду в Хендоне. Его специальность — расстройства пищеварения, желудок. Он, конечно, и на Харли-стрит принимает. А мистер Стронг как, тоже на Харли-стрит?
— Да, — холодно ответила Марсия. Ей не хотелось говорить о мистере Стронге с этой женщиной, не хотелось пускаться в обсуждение вещей, для нее священных.
— Тут иногда студенты оперируют, — продолжала женщина. — Надо же им научиться… Ведь правда?
В эту минуту сестра вызвала Марсию, и Марсия поняла, что настала ее очередь. Не будучи человеком наивным, она не ждала, что попадет обязательно к мистеру Стронгу, хотя на двери в кабинет стояла его фамилия. Она вошла туда, разделась до половины, легла на кушетку и не очень огорчилась, когда ее стал обследовать златокудрый молодой человек — ассистент, проходящий практику по хирургии. Он осмотрел ее в высшей степени профессионально, смерил кровяное давление, выслушал стетоскопом. На ее новое розовое белье, конечно, не обратил никакого внимания, но восхитился аккуратностью операционного шва — дело рук мистера Стронга — и сказал ей, что она слишком худа и что ей надо побольше есть. Но человек, еще не достигший двадцати пяти лет, вряд ли знал, чего ждать от женщины, которой за шестьдесят лет. Неужели они все такие худые? Из тех, кого он мог припомнить, уж его-то двоюродная бабушка, ровесница мисс Айвори, совсем не такая, хотя ему и не приходилось видеть ее раздетой.
— За вами надо кому-нибудь присматривать, — мягко сказал он, и Марсия не обиделась, не рассердилась на него, как это было, когда на то же самое ей намекали церковные деятели и дама из патронажной службы, но больница — дело другое. Она спокойно, горделиво протянула регистраторше свою карточку, чтобы ее записали на очередную проверку.
Второе развлечение, которое Марсия припасла себе на отпуск, была поездка к мистеру Стронгу, вернее, к дому, где жил мистер Стронг. В телефонном справочнике она вычитала, что он принимает не только на Харли-стрит, но и в Далвиче, куда было легко доехать на 37-ом автобусе.
После посещения больницы она выждала неделю, сохраняя промежуток между этими двумя удовольствиями, и теплым солнечным днем отправилась посмотреть дом мистера Стронга. Автобус был почти пустой, кондукторша добродушная, внимательная. Она сказала Марсии, где лучше выйти и как попасть на нужную ей улицу, но, пробив ее билет, пустилась в разговоры, вроде той женщины в больнице. На этой улице такие красивые дома… У Марсии, наверно, там живут знакомые или… вряд ли, конечно, но, может, там ей обещали работу? Это ужасно! — подумала Марсия. Почему люди так любят вмешиваться в чужие дела, а если им ничего не отвечаешь, принимаются распространяться о своих. Ей пришлось выслушать длинный рассказ о муже и о ребятишках — категориях, о которых она понятия не имела, и, как только автобус притормозил у ее остановки, она вышла и пошла по улице под теплым летним солнцем.
Дом мистера Стронга, как и соседние дома, был весьма внушительного вида — именно такой, какого и заслуживал мистер Стронг. В палисаднике перед ним — кустарник. Марсия представила себе, что в мае тут расцветает ракитник и сирень, но теперь, в начале августа, любоваться в этом садике было нечем. Может быть, позади есть розы, сад за домом, кажется, большой, но ей были видны только качели на высоком раскидистом дереве. Мистер Стронг, конечно, человек семейный, у него есть дети, и теперь все они, наверно, уехали на море. Дом казался совершенно пустым, значит, можно постоять здесь, разглядывая его; отсюда видно, что занавеси с рисунком Уильяма Морриса предусмотрительно задернуты. Занавески не тюлевые, промелькнуло у нее в уме, да тюлевые и не подходят мистеру Стронгу. Мысли у Марсии были неотчетливые, с нее хватало того, что здесь можно постоять. Потом она с полчаса прождала автобуса, не замечая задержки, наконец добралась до дому, вскипятила себе чашку чая и сварила яйцо. Молодой врач в больнице посоветовал ей больше есть, и она была уверена, что мистер Стронг согласился бы с ним.
На следующий день Марсия вернулась на работу, но в ответ на вопросы, как она провела отпуск, отвечала уклончиво, говорила только, что погода была хорошая и что смена обстановки пошла ей на пользу, словом, отделывалась общими в таких случаях словами.
В первый день отпуска Нормана сияло ослепительное солнце, и в такой день было бы хорошо съездить за город или на море или погулять рука об руку с любимой в Кью-Гарденз.
Ни о чем таком Норман и не подумал, проснувшись утром и вспомнив, что сегодня ему не надо идти на работу. Так как времени у него было достаточно, он решил приготовить себе настоящий завтрак — яичницу с беконом и со всеми причиндалами, куда у него входили помидоры и гренки, — завтрак повкуснее ежедневной тарелки корнфлекса или пшеничных хлопьев. И завтракать он будет в пижаме и в халате, точно герой какой-нибудь пьесы Ноэла Кауарда. Поглядели бы они на меня сейчас! — подумал он, вспомнив Эдвина, Летти и Марсию.
Халат у него был искусственного шелка, пестрый, с геометрическими разводами цвета бордо и «старого золота». Норман купил его на распродаже, решив, что такой будет ему к лицу и чем-то — неизвестно чем — «поможет». Он готов был биться об заклад, что у Эдвина ничего подобного нет, наверно, какая-нибудь клетчатая шерстяная хламида, сохранившаяся еще со школьных времен. У Летти, конечно, что-нибудь нарядное, с отделкой и прочими финтифлюшками, как у тех дам, которых он видел, когда навещал в больнице Кена, но о халате Марсии размышлять ему не захотелось. Как ни странно, он поймал себя на том, что избегает думать о ней, и сразу переключил мысли на другое. Во всяком случае, громкий окрик хозяйки — что-то там у вас пригорело! — тут же вернул его на землю.
Большую часть своего отпуска Норман провел за такими же пустяковыми, бессмысленными делами. По правде говоря, он не знал, чем занять себя, когда нет работы. Вся последняя неделя ушла у него на то, чтобы ходить к зубному врачу, прилаживать новый протез и привыкать есть в нем. Зубной врач был йоркширец, пожалуй, слишком веселый на взгляд Нормана, и, хотя работал он от Государственного Здравоохранения, Норману пришлось выложить ему немалую сумму денег за такое количество неприятностей. Покорнейше вас благодарю! — с раздражением думал он, и, когда наконец уверился, что может позволить себе нечто более существенное, чем суп и макароны с тертым сыром, вернулся на работу. В запасе у него осталось еще несколько отпускных дней. «Как знать, могут пригодиться!» — сказал он, но сам чувствовал, что эти дополнительные дни никогда ему не понадобятся и ворохом сухих листьев будут скапливаться осенью на тротуаре.
6
Летти не так уж удивило письмо Марджори, сообщавшей, что она выходит замуж за Дэвида Лиделла. Вот, оказывается, сколько всего может произойти за такой короткий срок, особенно когда живешь в небольшом поселке, хотя чем это объясняется, Летти не знала.
«Нам с Дэвидом стало ясно, что мы с ним, люди такие одинокие, можем много дать друг другу!» — писала Марджори.
Летти не приходило в голову, почему ее подруга вдруг может стать такой одинокой. Жизнь овдовевшей Марджори, поселившейся за городом, всегда казалась ей завидной и полной таких обыденных, но захватывающих событий.
«Дом приходского священника здесь совсем неблагоустроен, — было дальше в письме. — Там столько всего надо переделать. И ты подумай! Агент по продаже недвижимости говорит, что я могу просить (и получу!) за мой коттедж 20 000 фунтов! Ты, конечно, поймешь, что единственное, что меня несколько тревожит, — это мысль о тебе, дорогая моя Летти. Вряд ли ты сможешь (и вряд ли сама захочешь, в чем я ни минуты не сомневаюсь) переехать к нам и жить с нами, когда уйдешь на покой. И вот мне пришло в голову, что ты, может, поселишься в Холмхерсте, где скоро должна освободиться комната. За смертью, конечно, только дай мне знать о своем решении как можно скорее…» Дальше следовали скучные подробности, смысл которых заключался в том, что Марджори поможет Летти «устроиться», так как она знает женщину, которая всем там ведает. Это не дом для престарелых, ничего подобного, потому что туда принимают только по строгому отбору, по личной рекомендации…
Летти не дала себе труда внимательно прочитать все до конца, В письме Марджори звучал чуть ли не девичий восторг, но у влюбленной женщины, даже если ей уже за шестьдесят, чувства могут быть не менее пылкие, чем у девятнадцатилетней девушки. Пробежав последнюю страницу, Летти узнала, что Дэвид такой замечательный, что он очень одинок, в последнем приходе его не оценили, и тут у нас тоже некоторые отнеслись к нему недоброжелательно. И наконец, что они так любят друг друга и что разница в годах («Я-то ведь старше его на десять лет») не имеет никакого значения. Летти подумала, что разница между ними должна быть ближе к двадцати, чем к десяти годам, но она уже была готова признать эту любовь, хоть и не понимала ее. Любовь была тайной, которую она ни разу в жизни не испытала. В молодости ей так хотелось полюбить, она чувствовала, что должна полюбить, но любовь так и не пришла к ней. Она привыкла к своему изъяну и не вспоминала о нем, но все же ее смутило и, пожалуй, даже слегка испугало, что Марджори это чувство не чуждо.
О том, чтобы поселиться в Холмхерсте, не могло быть и речи — жить в большом красно-кирпичном здании на широкой луговине, которую она часто проезжала по дороге к Марджори! Как-то раз она увидела там старуху — та с потерянным видом выглядывала из-за кустов живой изгороди, и воспоминание об этой старухе так и не покинуло ее. Но вот придет время уходить на пенсию, и ждать этого дня уже не долго, а она так и останется в своей спальне-гостиной. В Лондоне можно жить очень интересно: музеи, художественные выставки, концерты и театры — то, без чего, как говорят, скучают, чего жаждут люди, которые живут не в Лондоне. Все это будет доступно Летти. На письмо Марджори, конечно, надо ответить, послать ей поздравление с законным браком, как полагается, и успокоить ее совесть, поскольку она расстроила планы Летти. Ответить надо, но не обязательно сейчас.
По пути домой Летти увидела около станции метрополитена тележку с цветами. Ей пришло в голову, что надо бы купить букет их хозяйке, пригласившей всех своих постоялиц на чашку кофе вечером. Только не эти круглогодичные хризантемы, а что-нибудь помельче, поскромнее, вроде анемонов или фиалок. Ничего такого у продавца не нашлось, но не покупать же по дешевке нечто похожее на маргаритки, покрашенные светло-зелеными или розовыми чернилами. И Летти отошла, так ничего и не купив. У самого подъезда ее догнала Мария — венгерка, которая тоже жила в их доме. В руках у нее был покрашенный светло-зеленой краской букетик, который Летти только что отвергла.
— Так красиво! — восторженно проговорила Мария. — И всего десять пенсов. Вы не забыли, мисс Эмбри пригласила нас сегодня выпить кофе, так что, я думаю, надо принести цветы.
Летти поняла, что Мария и тут ее обскакала, как это часто случалось, когда она развешивала в ванной свое выстиранное мокрое белье и брала Леттину «Дейли телеграф», якобы по ошибке, вместо своей газетки.
Мисс Эмбри жила в нижнем этаже, и три ее постоялицы — Летти, Мария и мисс Элис Спарджон — выползли из своих комнат, точно зверьки из норок, и в половине восьмого спустились вниз.
Какие у нее вызывающе красивые и добротные вещи, подумала Летти, принимая из рук мисс Эмбри чашку марки краун-дерби. Выяснилось, что она перебирается со всеми своими красивыми вещами в загородный дом для престарелых, может быть, в тот самый, от которого решила отказаться Летти.
— Устроил меня туда мой брат. — Сообщая им это, мисс Эмбри улыбнулась, может быть, потому, что ни у одной из ее постоялиц не было мужчины, который улаживал бы ее дела. Все они были незамужние, из мужчин никто к ним не ходил, и даже родственники не навещали.
— Артур все взял на себя, — подчеркнула мисс Эмбри, а в это «все» входил и дом, который надо было продать или уже продали, как обычно, вместе со всеми постояльцами.
— А кто такой наш будущий хозяин? — Мисс Спарджон первая высказала то, что было у всех у них на уме.
— Очень милый джентльмен, — мягче мягкого проговорила мисс Эмбри. — Он с семьей займет нижний этаж и подвал.
— А семья у него большая? — спросила Мария.
— Насколько я понимаю, с ними, кажется, будет жить его близкий родственник. Как хорошо, что кровные узы и родственные чувства все еще уважаются в некоторых уголках земли!
Эти слова вынудили Летти осведомиться, кто их новый хозяин — может, он не англичанин, иностранец, если можно так выразиться? И мисс Эмбри ответила так же уклончиво, дав понять, что да, до некоторой степени иностранец.
— Как его звать? — спросила Мария.
— Мистер Джейкоб Олатунде. — Мисс Эмбри выговорила это имя раздельно, словно заранее напрактиковавшись в произношении.
— Значит, он черный? — Прямой вопрос опять осмелилась задать венгерка Мария.
— Да, белой его кожу, пожалуй, не назовешь, но, например, кто из нас может считать себя белой? — Мисс Эмбри оглядела своих постоялиц: Летти — розоватая, Мария — бледно-желтая, мисс Спарджон — как пергамент. Цвет лица у всех разный. — Вы знаете, я жила в Китае, так что различие в цвете кожи меня мало интересует. Мистер Олатунде уроженец Нигерии, — добавила мисс Эмбри.
Она откинулась на спинку стула и положила руку на руку — бледные, ни на что не годные руки, испещренные коричневыми пятнами, — и предложила своим постоялицам выпить еще кофе.
На ее предложение откликнулась только подхалимка Мария, пролепетав: «Такой чудесный кофе!» Мисс Эмбри улыбнулась, наливая ей вторую чашку. На сей раз это был не тот свежемолотый дорогой сорт кофе, каким она угостила бы гостей по своему выбору. Но ведь теми нелепыми крашеными цветочками — преподношением Марии — она вряд ли украсила бы свою гостиную, так что до некоторой степени они квиты.
— Так. Значит, все ясно, — провозгласила мисс Эмбри. Председатель объявил заседание закрытым. — Мистер Олатунде вступает во владение домом с последнего квартала.
Потом, на лестнице, когда постоялицы расходились по своим комнатам, между ними шли такие толки:
— Не надо забывать, что Нигерия еще совсем недавно считалась британской, — сказала мисс Спарджон. — На карте она была выкрашена розовой краской. В некоторых старых атласах так и есть.
Летти подумала, что, судя по тому, как все складывается, на карте теперь ничего розового не осталось. Этой ночью, когда она лежала в кровати и долго не могла заснуть, вся ее жизнь развернулась перед ней, как это бывает в сознании утопающего… По крайней мере так говорят. Но самой Летти тонуть, конечно, не приходилось и вряд ли придется. Смерть, когда она пожалует, предстанет перед ней в другом обличье, более «подходящем» для таких, как она, поскольку трудно себе представить, чтобы ее когда-нибудь постигла смерть через утопление.
— Беда не приходит одна, — сказал Норман на следующее утро, когда Летти поделилась в конторе изменениями в своих планах на будущее. — Сначала ваша приятельница собралась замуж, а теперь еще это… А что дальше? Дайте срок, и третья беда нагрянет.
— Да, беды норовят прийти втроем, по крайней мере так люди судят-рядят, — заметил Эдвин. В созерцании чужих несчастий всегда присутствует несомненный интерес и даже тщательно скрываемое чувство удовольствия, и минутку Эдвин отдавался тому и другому, покачивая головой и обдумывая, какая постигнет Летти третья беда.
— Только не признавайтесь, что вы сами выходите замуж, — шутливо сказал Норман. — Вот это и будет третьей бедой.
Как и полагалось в таких случаях, Летти пришлось ответить на столь нелепое предположение улыбкой. — На это не рассчитывайте, — сказала она. — Но, если мне захочется, я уеду из Лондона и поселюсь за городом. Там есть такой дом, очень хороший, где можно получить комнату.
— Дом для престарелых? — спросил Норман, быстрый, как молния.
— Нет, не совсем… Можно со своей обстановкой.
— Дом для престарелых, где можно со своей обстановкой, со всем своим барахлом и со своими цацками, — продолжал Норман.
— Бросать комнату в Лондоне, конечно, не обязательно, — сказал Эдвин. — Может быть, ваш хозяин порядочный человек. Наша церковь принимает в свое лоно много замечательных африканцев, и они очень хорошо себя показали в алтаре. Большие любители церковных обрядов и всякой пышности.
Это было слабое утешение для Летти, так как она больше всего боялась чуждой ей несдержанности поведения и громогласия — то есть того, чем отличалась черная девушка у них в конторе.
— Н-да, их обиход покажется ей довольно-таки непривычным, — сказал Норман. — Запахи из кухни и все такое прочее. Знаю я эту публику.
До сих пор Марсия не принимала участия в обсуждении этого вопроса, так как в душе у нее зародился страх, хоть и не очень сильный, что она должна будет приютить Летти у себя в доме. Уж если на то пошло, Летти всегда была добра к ней, предложила однажды налить ей чашку чая перед уходом домой, и, хотя предложение не было принято, все же оно не забылось. Но это не значило, что Марсия обязана пустить Летти к себе, когда та уйдет на пенсию. Нет, это невозможно, чтобы у нее в доме жил кто-то чужой. Две женщины не обойдутся на кухне, убеждала она себя, забыв на минутку, что сама пользуется кухней только для того, чтобы вскипятить чайник или подрумянить ломтик хлеба. А как быть со стенным шкафом, где Марсия держит свою коллекцию консервных банок, и с ее не совсем обычным складом молочных бутылок, уж не говоря о пользовании ванной и развешивании там выстиранного носильного белья? Нет! Трудности непреодолимы. Женщины-одиночки должны сами налаживать свою жизнь, разумеется, Летти прекрасно это знает. И если Марсия не устоит, тогда будет как с Дженис Бребнер, которая приходит, задает личные вопросы, суется со своими дурацкими советами и предлагает делать то, что Марсия делать не желает. Нет, нельзя ей селить у себя Летти только потому, что у нее собственный дом и она живет в нем одна. Негодование закипало у Марсии в груди, она спрашивала себя: «Что я, обязана?» Но ответа на ее вопрос не было, потому что никто его не задавал. Никому это и в голову не приходило, не говоря уж о самой Летти.
— Подожду, посмотрим, как все будет, — благоразумно сказала Летти. — И вообще подыскивать новое жилье в августе не годится. Время неподходящее.
— Август, август, ты жестокий, — сказал Норман, вычитавший где-то что-то подобное.
Не столько жестокий, сколько неудобный, подумал Эдвин. 15 августа — Успение, в восемь часов вечера торжественная месса. Может не хватить прислужников, даже при наличии этих замечательных африканцев, и вообще в конце жаркого летнего дня люди не очень-то охотно ходят на богослужение. Казалось бы, Рим мог подобрать более подходящую дату для этого праздника. Но Успение снова празднуется, насколько он помнит, с 1950 года, а церковные порядки двадцатилетней давности были в Италии, конечно, несколько иные, чем в Англии семидесятых годов, иные даже в англиканской церкви, где большинство верующих вообще не ходит на богослужения, а те, кто ходит, могут быть в отпуске. Некоторые считают, что отец Г. слишком настаивает — «перехлестывает через край» — на выполнении так называемых обязанностей людей веры, но Эдвин все же будет сегодня вечером в церкви вместе с двумя-тремя другими молящимися, а это самое главное.
— Может, мы и поладим с мистером Олатунде, — бодро, мужественно проговорила Летти. — Во всяком случае, торопиться я не стану.
7
Дженис каждый раз собиралась с духом перед тем, как пойти к Марсии. Эта ее подопечная была совсем не похожа на тех пожилых леди, которых навещала Дженис, да и термин «пожилая леди» к Марсии не подходил, а в эксцентричности ее нет ни милого чудачества, ни шарма. Но такие всегда попадаются, и надо относиться к ним так, будто они бросают вам вызов: пробейтесь ко мне, разберитесь, что у меня в душе.
Следующий свой визит к Марсии Дженис решила нанести в субботу, но не вечером, а утром. Те, кто работает, по утрам в субботу обычно бывают дома, и у некоторых, только не у Марсии, можно рассчитывать на чашечку кофе, если придешь в удобное для них время. Однако дверь Марсия открыла, и это было уже кое-что.
— Ну, как вы живете? — спросила Дженис и, не дожидаясь приглашения, вступила в переднюю, потому что важно было «получить доступ». — Не трудно вам хозяйничать? — Пыль на столике говорила сама за себя, пол был серый, замызганный. Настоящая «грязь-мразь». Дженис улыбнулась своей шутке. Но улыбаться тут нельзя. Как же она все-таки справляется со всеми своими делами? Хоть бы сказала что-нибудь, пусть любую банальность, вместо того, чтобы нервировать человека своим взглядом. На стуле в передней стояла хозяйственная корзинка. Вот повод, чтобы разговориться, и Дженис с облегчением ухватилась за него.
— Я вижу, вы ходили за покупками?
— Да. Всегда хожу по субботам.
Это по крайней мере обнадеживает — суббота у нее день для покупок, как и у всех женщин. Что же она купила? Кажется, одни консервы. Надо тактично навести критику на ее покупки, подать дружеский совет. Свежие овощи, хотя бы одна капуста, лучше консервированного горошка, а яблоки или апельсины лучше, чем консервированные персики. Она может себе позволить это, просто не желает питаться разумно, — вот самое досадное, самое неприятное в этих людях, к которым ходишь. Но она, правда, лежала в больнице и все еще, как говорится, «под наблюдением врача». А он интересуется ее диетой?
— Я люблю, чтобы дома было много консервированных продуктов, — величественно изрекла Марсия, когда Дженис начала было убеждать ее, что свежие продукты полезнее.
— Да, да, конечно! Консервы — это очень хорошо, особенно если вы не можете выйти из дому или вам не хочется пройтись по магазинам. — Какой смысл навещать таких, как Марсия, если они не желают слушать ваших указаний и советов? Дженис начинала понимать, что вмешиваться в жизнь этой женщины не следует, нужно только приглядывать за ней. И лучше не поднимать вопроса, надо или не надо заниматься домашними делами. Ведь некоторые вообще не любят этим заниматься.
— Ну, так будьте здоровы. Я еще загляну к вам.
Когда она удалилась, Марсия перенесла хозяйственную корзинку на кухню и выгрузила свои покупки. Раз в неделю она покупала несколько консервных банок и теперь не спеша занялась расстановкой их в шкафу. На то, чтобы распределять и сортировать их, уходило много времени; банки можно было расставлять либо по размеру, либо по содержимому — мясо, рыба, фрукты, овощи. В последнюю категорию входили такие не поддающиеся классификации продукты, как томатное пюре, мясной фарш в виноградных листьях (это было куплено по наитию) и манный пудинг. Тут требовался немалый труд, и Марсия занималась этим с удовольствием.
Погода в тот день была хорошая, и она вышла в сад и по густой некошеной траве дошла до сарайчика, где у нее хранились бутылки из-под молока. Бутылки надо было проверять время от времени, а кое-когда даже сметать с них пыль. Случалось, что одну из этих бутылок она возвращала молочнику, однако всегда следила, чтобы запас их не очень уменьшался, потому что в случае какого-нибудь кризиса в масштабе всей страны, а это теперь часто случается, или вдруг война, тогда вполне может быть нехватка молочных бутылок, и мы опять окажемся в таком же положении, как в прошлую войну, когда нам говорили: «Нет бутылки, нет и молока». Приводя в порядок свою коллекцию, Марсия вдруг возмутилась, обнаружив среди посуды «Компании по продаже молочных продуктов» одну постороннюю бутылку — на ней стояло «Окружное молочное хозяйство». Эта откуда взялась? Раньше такие ей не попадались, и молочник, конечно, ее не возьмет — молочники принимают только свои. Она вертела бутылку в руках и, нахмурившись, старалась вспомнить, откуда такая могла попасть к ней. И вдруг ее осенило! Как-то раз Летти угостила ее молоком в конторе. Она ездила к этой своей приятельнице за город, привезла оттуда пинту молока, сама выпила немного, а остальное предложила Марсии. Вот, значит, как это сюда попало. Марсия рассердилась на Летти за то, что та подсунула ей чужую бутылку. Пусть теперь забирает ее обратно.
Увидев, как Марсия выходит из сарайчика с молочной бутылкой в руках, Найджел, молодой человек из соседнего подъезда, вспомнил наставления своей жены Присциллы и решил воспользоваться подходящим случаем, чтобы проявить дружеские, добрососедские чувства к этой женщине.
— Мисс Айвори, хотите, я скошу вам траву? — спросил он, подойдя к изгороди. — Косилка у меня наготове. Хотя, откровенно говоря, такую высокую траву лучше бы косой.
— Нет, благодарю вас, — вежливо ответила Марсия, — мне больше нравится так, как есть, — и ушла в дом. Она все еще сердилась на Летти за молочную бутылку. Конечно, о том, чтобы предложить ей комнату в своем доме, не может быть и речи. Не такой это человек, с которым можно жить под одной крышей.
В тот вечер, притаившись у себя наверху, Летти вслушивалась в то, что творилось за стенами ее комнаты. Эти распевы песнопений и ликующие возгласы говорили не о шумном сборище гостей, ибо ее новый домохозяин, мистер Олатунде, был священнослужителем какой-то секты. «Аладура», — пробормотала мисс Эмбри, но это название ничего не объясняло, кроме непрестанной вереницы посетителей и громких песнопений. Теперь Летти и впрямь почувствовала себя как утопающий — так зримо разворачивалось перед ней ее прошлое, особенно те события, которые привели к теперешнему ее положению. Почему она, англичанка, родившаяся в 1914 году в Молверне, в почтенной английской семье, сидит одна в этой комнате в Лондоне, куда доносятся восторженные клики и песнопения нигерийцев? Наверно, потому, что она не вышла замуж. Не нашлось мужчины, который взял бы ее в жены и заточил в каком-нибудь уютном городке, где песнопения поют только по воскресеньям и не сопровождают их ликующими кликами. Почему это не сбылось? Потому, что она считала любовь непременным условием замужества? Теперь, оглянувшись на последние сорок лет своей жизни, она была не так уж уверена, что не ошиблась. Сколько лет потрачено впустую в надежде на любовь! Она задумалась об этом, потом внизу все смолкло, и, воспользовавшись затишьем, Летти собралась с духом, сошла вниз по лестнице и постучалась — как ей показалось, слишком робко — в дверь к мистеру Олатунде.
— Вы не могли бы чуть потише? — спросила она. — Может быть, люди спят…
— Но христианская вера велит бодрствовать, — сказал мистер Олатунде.
Как на это ответить, неизвестно. Летти не нашлась, что сказать ему, и мистер Олатунде продолжал улыбаясь:
— Вы христианская леди?
Летти запнулась. Первым ее побуждением было сказать «да», потому что она, разумеется, христианская леди, даже если сама бы так не выразилась. Но как описать этому полному жизни, экспансивному черному человеку, что твоя вера — это нечто серое, формальное, респектабельное, то, что проявляется в соблюдении некоторых обрядов и в тепленьком благорасположении ко всем и к каждому. — Простите, — сказала она, отступая назад. — Я не о том… — А о чем же? Глядя на этих улыбающихся людей, которые столпились около нее, она почувствовала, что вряд ли сможет повторить жалобу на их шум.
Вперед выступила красивая женщина в длинном пестром одеянии и в тюрбане. — Мы сейчас ужинаем, — сказала она. — Хотите с нами?
На нее пахнуло сильным пряным запахом, и ей вспомнился Норман. Она вежливо поблагодарила эту женщину, сказав, что уже поужинала.
— Вам, пожалуй, не понравится наша нигерийская стряпня, — с некоторой долей самодовольства сказал мистер Олатунде.
— Да, пожалуй. — Летти отошла от двери, стесняясь этих улыбающихся людей, обступивших ее со всех сторон. Мы совсем не такие, удрученно подумала она. И задала себе вопрос: а как бы поступили при схожих обстоятельствах Эдвин, и Норман, и Марсия? — но ни к какому заключению не пришла. Реакции других людей непредсказуемы, и, хотя она могла себе представить, как легко вписался бы Эдвин в религиозную атмосферу этого вечера и даже принял бы участие в этих обрядах, вполне возможно, что и Норман с Марсией, обычно строго соблюдающие свою обособленность, примкнули бы, как это ни удивительно, к здешней дружелюбной компании. Только она, Летти, осталась в стороне от нее.
8
В конторе было много разговоров о том, в каком положении оказалась Летти, обсуждали, что ей делать, и чем дальше, тем острее становился этот вопрос, особенно когда Мария нашла себе место живущей экономки в одной семье в Хэмпстеде, а мисс Спарджон готовилась к переезду в дом для престарелых.
— Теперь вы будете там совсем одна, — с удовольствием сказал Норман. — Непривычно вам покажется, а? — Может, эта третья беда служила подтверждением его пророчества, что несчастья всегда приходят втроем.
— Ваш новый домохозяин, кажется, священник? — спросила Марсия.
— Д-да, в некотором роде… — Летти представила себе, как отец Лиделл сидит в кресле Марджори, откинувшись на его спинку, закрыв глаза и потягивая орвието, — вот уж ничего похожего на мистера Олатунде. Видно, священник священнику рознь, подумала Летти. — Мне не хотелось бы обижать его, осуждая тех, кто живет с ним, — сказала она. — Сам он, по-моему, очень милый человек.
— Разве у вас нет другой приятельницы, с которой можно поселиться? — сказал Эдвин. — Кроме той, что выходит замуж. — У Летти должна быть уйма друзей, целая армия симпатичных женщин из ЖДС[2] или таких, как прихожанки его церкви — правда, не все, тут надо с выбором. Таких, наверно, полным-полно. Они везде попадаются.
— Лучше всего, когда есть родственники, — сказал Норман. — Родственник обязан помогать. В конце концов кровь не водица, и даже если родство между вами дальнее, все равно можете рассчитывать на помощь.
Летти вспомнила кое-кого из своей родни — тех, с кем она не встречалась с детства. Живут они где-то на западе Англии. Да, эти вряд ли захотят приютить ее у себя.
— А вы никогда не думали пустить к себе жильца? — спросил Эдвин, обращаясь к Марсии.
— Деньги бы пригодились, — вставил Норман. — Когда выйдете на пенсию.
— Мне деньги не понадобятся, — нетерпеливо сказала Марсия. — Обойдусь без жильцов. — «Немыслимо!» — это было первое, что пришло ей в голову в ответ на предложение Эдвина. Приютить Летти! И она вспомнила ту бутылку из-под молока. Да Летти тоже на это не пойдет. Она сама сейчас запротестовала и явно смутилась, испугавшись как за Марсию, так и за себя.
— Есть организации и даже отдельные лица, которые берутся помогать одиноким женщинам, — почему-то вдруг сообщил Эдвин.
— Ко мне иногда заходит молодая особа — воображает, будто я нуждаюсь в ее помощи. — Марсия невесело рассмеялась. — А я, если хотите знать, ни в ком не нуждаюсь, скорее наоборот.
— Но ведь вы лежали в больнице, — напомнил ей Эдвин. — Поэтому они и думают, что вас надо проверять.
— Да! Но проверяться я хожу в клинику к мистеру Стронгу. — Марсия улыбнулась. — Я не желаю, чтобы меня посещали молодые девицы и указывали мне, покупать ли консервированный горошек или нет.
— Приятно все-таки, что о тебе заботятся, — неуверенно проговорила Летти, подозревая, что заботы о Марсии могут распространяться не только на консервированный горошек. — Ну что ж, надеюсь, у меня все наладится, когда я выйду на пенсию, а пока я еще не вышла.
— Но скоро выйдете, — сказал Норман, — а отсюда, с работы, вам будет причитаться не так уж много вдобавок к государственной пенсии. Кроме того, надо учесть инфляцию, — присовокупил он, не объясняя, как это делается.
— Инфляцию-то как раз и не учтешь, — сказала Летти. — Сваливается на нас нежданно-негаданно.
— Вы мне говорите! — сказал Норман и, нырнув в карман, вытащил оттуда чек из магазина самообслуживания. — Вот послушайте! — И он начал свое очередное перечисление. Больше всего ему, кажется, досаждал рост цен на консервированный суп и фасоль, что странным образом выявляло его ежедневный рацион.
Никто на это не откликнулся, никто его не выслушал. Марсия с удовлетворением подумала о своем шкафе, набитом консервными банками, а Летти решила пораньше уйти на обеденный перерыв и съездить автобусом на Оксфорд-стрит за покупками. Один только Эдвин, считая, должно быть, что женщинам следует помогать, продолжал думать о Летти и о ее делах.
День всех святых, 1 ноября, приходился на будни. Была вечерняя служба, прихожан на этот раз собралось много, а в следующее воскресенье Эдвин посетил ту церковь, куда заходил иногда, потому что раньше жил поблизости. После утрени там подавали кофе с печеньем. Он появился тут, преисполнившись забот о Летти.
Приготовление кофе обставлялось торжественно, и заведовали этим все прихожанки по очереди. Они знали Эдвина по его периодическим посещениям их церкви, и, войдя теперь в холодный придел, аляповато разукрашенный членами юношеского клуба, он услышал голос пожилой женщины, возражающей против подачи к кофе печенья.
— Подавать печенье лишнее, — говорила она. — Выпьем горячего кофе, и больше нам ничего не нужно.
— А я люблю пожевать что-нибудь, когда пью кофе, — возразила ей миниатюрная женщина в пушистом сером пальто. — Миссис Поуп никогда не дашь ее лет, это мы все знаем, но пожилым людям ведь не требуется много есть. Если бы знать заранее, что коробка с печеньем пустая, можно было бы пополнить запас, купить его побольше.
Со своим довольно-таки бесцеремонным наскоком Эдвин ворвался в самую середину этой перепалки — У одной из вас, леди, наверно, есть свободная лишняя комната.
Наступило молчание, неловкое молчание, почувствовал Эдвин, и обе женщины начали оправдываться, точно отказываясь от приглашения на свадебный пир: это, собственно, не комната, а чуланчик, там хранится все, что пойдет на церковный базар. И чуланчик может понадобиться, когда приедут родственники. Последняя карта была козырная, но Эдвин не отступился. У него не был заготовлен дальнейший ход, но теперь он понял, что для начала ему лучше всего было бы рассказать о Летти, описать ее положение, подчеркнуть необходимость отдельной комнаты, словом, воззвать к совести и растрогать сердца. Но как описать Летти? Сказать, что она его приятельница? Но ведь никакой дружбы между ними нет. К тому же, поскольку она женщина одинокая, это может родить сплетни. Одна моя знакомая леди? Это звучит слишком игриво и жеманно. Женщина, которая работает у нас в конторе? Вот так, пожалуй, лучше всего. Слова «женщина», «работа», «контора» дают благоприятное представление об особе предпочтительного пола, которая по целым дням на службе и может даже оказаться приятной собеседницей в случае, если иногда и посидит дома.
И Эдвин продолжал, перейдя на доверительный тон — Понимаете, как обстоит дело… Одна женщина — она работает у нас в конторе — попала в довольно затруднительное положение. Дом, где она живет, продан вместе с жильцами, теперь там новый хозяин со своей семьей, она к таким не привыкла, они несколько шумные…
— Черные? — сказала, как отрезала, миссис Поуп.
— Да, собственно, это так и есть, — кротко признался Эдвин. — Но заметьте, мистер Олатунде прекрасный человек и до некоторой степени священник.
— Как это так? — спросила миссис Поуп. — Или он священник, или он не священник. Никаких степеней тут быть не может.
— Он священник какой-то африканской религиозной секты, — пояснил Эдвин. — А их службы не совсем такие, как у нас. Они громко поют, вскрикивают.
— А эта женщина… леди? Я полагаю, ее можно так назвать?
— Да, разумеется. В этом смысле никаких оснований для беспокойства, — небрежно проговорил Эдвин, чувствуя, что Летти, безусловно, подходит под такое определение, если применять к ней эту мерку.
— Значит, в том доме для нее слишком шумно?
— Да, конечно, потому что сама она человек очень спокойный.
— Собственно, у меня есть большая задняя комната, а когда в доме еще кто-то живет, это может быть весьма кстати.
Эдвин вспомнил, что миссис Поуп проживает одна.
— Упадешь с лестницы, споткнешься о ковер, а встать не сможешь…
— Часами так пролежишь, пока кто-нибудь придет, — подхватила миниатюрная, пушистая.
— Кости теперь стали такие хрупкие, — сказала миссис Поуп. — Перелом может привести к серьезным осложнениям.
Эдвин сообразил, что они удаляются от темы. Ему хотелось довести дело до конца и чтобы Летти получила комнату. Правда, миссис Поуп стара, но она активная, самостоятельная, а Летти как женщина, конечно, сможет оказать помощь, если хозяйка заболеет или с ней стрясется какая-нибудь беда. Он уже видел, как дальнейшая жизнь Летти подчиняется церковному распорядку. Сегодня День всех святых, потом День усопших; в поминовении всех святых и усопших каждый может принимать участие. Потом Введение во храм и быстро, пожалуй, слишком быстро следом за ним — Рождество. Затем День подарков, день святого Стефана, но его редко отмечают, если только это не престольный праздник; потом День избиения младенцев, Иоанн Евангелист и Крещение. За Обращением святого Павла и Сретением господним (когда поют одно из менее торжественных песнопений Кибла) вскоре последуют воскресные службы перед Великим постом, но тогда вечера становятся короче. Первый день поста, среда — это важная дата: вечерняя служба и помазание прахом, черный мазок на лбу: «ибо прах ты и в прах возвратишься». Некоторым это не нравится — считают такой обычай «мрачным» или «не очень приятным».
— В задней комнате у меня раковина с горячей и холодной водой, может иногда принимать и ванну. Не нужна же ей ванна каждый вечер. — От частого мытья портится кожа, горячая вода сушит жировые вещества… Миссис Поуп склонялась к тому, чтобы взять к себе Летти, Эдвин же был занят тем, что пропускал ее сквозь церковный календарь. На вопрос, часто ли ей понадобится ванна, он вряд ли мог бы ответить.
Про Великий пост, конечно, все знают, даже если не соблюдают его. Вербное воскресенье, предваряющее службы Страстной недели — уже не такие, как прежде, но кое-что все же сохранилось от чина Омовения ног в Великий четверг, от Страстной пятницы и Страстной субботы со всеми чинами, предшествующими Воскресению Христову. Фомино воскресенье — это всегда спад после того, что было до него, но потом Вознесение, потом Духов день, или, как его более правильно называют, Пятидесятница. Следом праздник Тела Христова с крестным ходом, если погода хорошая, потом Троицын день, дальше длинные, жаркие воскресные дни, когда служат в зеленых облачениях, а иногда отмечают день какого-нибудь святого… Вот так было всегда, и так оно и будет вопреки новомодному духовенству, которое тщится ввести так называемые современные формы обрядности — рок-н-ролл, и гитары, и споры о третьем мире вместо вечерних молитв. Правда, Эдвин не знал, ходит Летти в церковь или нет, и это было единственное, что осложняло дело. Она помалкивала, когда он заводил речь на эту тему. Но вот устроится в задней комнате у миссис Поуп, выйдет на пенсию, и тогда кто знает, какие перемены произойдут в ее жизни.
9
— Так вы и есть мисс Кроу.
Приветствие не самое дружелюбное, подумала Летти, и как на него ответить? Только подтвердить, что она и есть мисс Кроу, и предположить, что женщина, выглядывающая из-за чуть приоткрытой двери, — это миссис Поуп. А с чего, собственно, ожидать дружелюбия, когда между ними установятся отношения домохозяйки и постоялицы? Как будто дружелюбие — это нечто само собой разумеющееся. Нечего надеяться на тепло, потому что такси завезло ее в самую северную часть Лондона, хотя здешний почтовый адрес всего Северо-Запад, 6.
Это было незадолго до Рождества — в день святой Люции, подчеркнул Эдвин, хотя святая Люция, кажется, не имела никакого отношения к ее переезду. Норман, как водится, больше всего напирал на то, что она переезжает на новую квартиру в самый короткий зимний день. — Поезжайте туда засветло, — посоветовал он. — Не то придется мыкаться в темноте по незнакомым местам.
— Приходится быть осторожной, — продолжала миссис Поуп, открывая дверь чуть пошире. — Сейчас столько всяких самозванцев.
Летти пришлось согласиться с этим, хотя ей показалось, что миссис Поуп не тот человек, на которого могут посягать самозванцы. По впечатлению, которое она произвела на Эдвина, и по его описанию миссис Поуп было уже за восемьдесят, и она «великолепно сохранилась для своих лет», но Летти увидела перед собой весьма импозантную особу с благородными, почти римскими чертами лица и с массой густых седых волос — иногда их именуют «пышными», — уложенных в замысловатую, вышедшую из моды прическу.
После оживления и тепла в доме мистера Олатунде дом миссис Поуп показался Летти мрачным, каким-то затихшим. Массивная темная мебель, тикающие стоячие часы, которые тикали так громко, что уснуть можно было, только привыкнув к ним. Летти показали кухню, где ей разрешалось готовить, показали шкаф, где ей разрешалось хранить продукты. Ванная и уборная были указаны мановением руки, поскольку подобные помещения демонстрировать не принято. Войдя потом в уборную, Летти увидела, что окно ее смотрит на садики позади домов с почерневшими пеньками на мерзлой земле, а там, дальше, железнодорожное полотно, по которому грохотали поезда, вырвавшиеся из подземки. Да, не стоило выбирать такой район для жительства, хотя это, конечно, временно, но «беднякам не до выбора», как не преминул указать ей Норман.
Комната сама по себе была вполне приличная, к счастью, не заставленная мебелью, раковина с горячей и холодной водой, как и говорил Эдвин. Летти почувствовала себя гувернанткой из викторианского романа, которая приезжает на новое место, но только детей здесь не будет и не будет никаких надежд на романтическое чувство к вдовому хозяину дома или к его красавцу сыну. В прошлом такие женщины, как она, вряд ли оказывались в подобном положении, а в наше время их именуют в газетных объявлениях «незамужняя, служащая, одинокая деловая леди». Вот кто обычно снимает комнаты в чужих домах. Летти часто приходилось размещать и развешивать свою одежду в отведенных ей комодах и гардеробах и расставлять по местам свои личные вещи, которые могли бы хоть немного рассказать, что она за человек. Например, книги — поэтические антологии, хотя ничего новее, чем «Современная Поэзия. Выпуск второй», у нее не было, и книга, взятая из библиотеки; транзистор, горшок с почти распустившимся гиацинтом, вязанье в цветастой кретоновой сумке. Фотографий не было совсем — ни Марджори, ни родного дома, ни самой Летти, ни родителей, ни кошки, ни собаки.
Слава богу, миссис Поуп предоставила ее самой себе по крайней мере на первый вечер, подумала Летти, приготавливая в тихой кухне яйцо-пашот на гренке. Потом, лежа без сна первую ночь на чужой кровати, которая станет скоро для нее такой же привычной, как собственное тело, она поняла, что совершила важный поступок, совершила переезд, не спасовала, справилась. Среди бессонной ночи ей вдруг послышались чьи-то шаги на лестничной площадке и глухой стук. А что, если это миссис Поуп грохнулась? Она пожилая, грузная — поднять ее будет не легко. Летти надеялась, что ей не придется это делать, не придется проверять, справится ли она тут, но в конце концов она заснула и больше ничего такого не слышала.
На следующее утро все в конторе ждали, что там у Летти, и даже волновались. Всем не терпелось узнать, как она устроилась на новом месте. Хозяином положения чувствовал себя Эдвин — и по праву, потому что комнату ей нашел он, и остальные понимали, что Эдвин сделал доброе дело, избавив ее, так сказать, от мистера Олатунде.
— Только не получилось бы из огня да в полымя, — заметил Норман. — Смотрите, не влипнуть бы вам с этой старушенцией и со всеми дальнейшими осложнениями.
— О, миссис Поуп вполне самостоятельна, — поспешил сказать Эдвин. — Она член приходского совета и особа весьма деятельная.
— Может быть, может быть, — сказал Норман. — Но из этого не следует, что она крепко держится на ногах. А вдруг упадет?
— Да, сегодня ночью мне так и почудилось, — сказала Летти. — Но ведь это с каждым может случиться. Любой из нас может упасть.
Вдаваться в обсуждение этой темы, которую предложила Летти, видимо, никому не хотелось. Но Эдвин повторил вслух те мысли, которые возникли у него во время первого разговора с миссис Поуп. — С этим любая женщина справится, и без всякого труда, — довольно резко осадил он Нормана. — Не станут они поднимать суматоху, вроде нас с вами, окажись мы в таком положении.
— Равные возможности! — сказал Норман. — Именно тот случай, когда мы, мужчины, предоставляем действовать женщинам. Но кто же тогда несет ответственность за человека, и какую?
— Обычную ответственность по отношению к другому человеческому существу, — сказала Летти. — И надеюсь, я выполню все, что от меня требуется.
— Но иногда не советуют трогать упавшего человека, — стоял на своем Норман. — Пожалуй, только навредите ему.
— Надо вызвать «скорую помощь», — сказала Марсия, впервые включаясь в разговор. — Врачи «скорой» знают, что делать. А пользоваться кухней можно в любое время? — продолжала она, все еще чувствуя за собой легкую вину, что не предложила пустить к себе Летти. Нет, это просто невозможно! — не выходило у нее из головы. И опять она забыла взять с собой в контору ту молочную бутылку.
— Да, об этом мы договорились. Я приготовила ужин и завтрак — там электрическая плита, а я к этому привыкла, и место есть, где держать мою собственную посуду.
— Очень важно, где хранить консервы, — сказала Марсия. — Вы потребуйте, пусть она найдет вам место. Нельзя же держать их в комнате, где спишь.
— А мне приходится все держать у себя, — сказал Норман.
— Да, беднякам не до выбора, как вы любите напоминать нам, — сказал Эдвин. — Надеюсь, этот переезд окажется удачным, — добавил он. — Если что будет неладно, я несу за это ответственность.
— Напрасно вы так думаете, — успокоила его Летти. — Человек должен сам приспосабливаться к обстоятельствам.
— От человека все и зависит, — весело сказал Норман. — Вот так и надо действовать.
Прежде чем подняться наверх из своей гостиной в нижнем этаже, миссис Поуп дождалась, когда Летти выйдет из дому. Она дойдет пешком до автобусной остановки или спустится в метро, подумала миссис Поуп, входя в комнату Летти и зная, что ее жилица не вернется домой раньше половины седьмого.
Летти не попросила у хозяйки ключа от своей комнаты, а миссис Поуп считала, что надо обязательно проверить, все ли там в порядке. Не мешает также посмотреть, какие у новой жилицы вещи, и таким образом узнать, что она собой представляет.
Прежде всего ее поразил порядок в комнате — чистота и порядок. Она была несколько разочарована тем, что не обнаружила там ничего интересного на виду. Но жилица, рекомендованная мистером Брейтвэйтом — для нее он был не Эдвин, а мистер Брейтвэйт, — разумеется, женщина почтенная, может, даже набожная, и миссис Поуп удивилась, не найдя на тумбочке у кровати ни религиозных брошюр, ни даже Библии, а только роман из кэмденской библиотеки. К любой биографии миссис Поуп отнеслась бы с уважением, но романы ее не интересовали, и она даже не полистала эту книжку. Перейдя к умывальнику, она увидела коробку талька и дезодорант, баночку питательного крема и тюбик «Стерадента» для чистки искусственных зубов, рядом зубные щетки, пасту и новенькую цветастую косметическую салфетку. В маленькой аптечке над раковиной были только слабительные таблетки, аспирин и никаких диковинных лекарств, хотя жилица могла держать их у себя в сумке. На туалетном столике были аккуратно расставлены косметические средства. Оглянувшись через плечо на дверь, миссис Поуп выдвинула верхний ящик. Там лежали несколько пар аккуратно сложенных чулок или колготок, перчатки, косынки и маленький кожаный футляр с бижутерией. В футлярчике — небольшая нитка жемчуга, явно ненастоящего, два-три ожерелья, несколько пар сережек и два кольца — одно золотое с полукругом бриллиантиков (материнское — подарок жениха к помолвке?) и второе — дешевое, с крылышком бабочки в серебряной оправе. Ничего ценного и ничего интересного, решила миссис Поуп. В комоде лежало белье — идеально чистое, аккуратно сложенные джемперы и кофточки. Содержимое платяного шкафа более или менее соответствовало тому, о чем говорили прочие вещи, и миссис Поуп только мельком взглянула на платья, висевшие на плечиках, на костюмы и юбки. Был там и брючный костюм — теперь брюки носят и женщины Леттиного возраста, — костюм тоже выглядел вполне прилично и респектабельно, как и остальные ее туалеты. Взгляд миссис Поуп задержался только на одной вещи — на яркой расцветки ситцевом кимоно, которое вроде бы не соответствовало остальным вещам гардероба мисс Кроу. Может, это подарок какого-нибудь миссионера или родственника, приехавшего из тех мест? Были и такие вещицы, о которых и не спросишь, но увидит же она когда-нибудь, как мисс Кроу будет выходить в них из ванной. О мисс Кроу можно сказать, что она будет идеальной жилицей, ибо ничего противоречащего этому обнаружено не было, но миссис Поуп спустилась к себе вниз несколько разочарованная результатами своей проверки.
10
Рождество в году лишь раз, С праздником поздравлю вас… —иронически продекламировал Норман избитую цитатку. Опровергать этот факт никто не стал, его тон никого не покоробил, потому что Рождество — нелегкое время для тех, кто уже не молод, у кого нет ни родных, ни близких, и каждый в конторе задумался о неизбежных испытаниях и трудностях, которые принесут с собой эти так называемые праздничные дни. Только Эдвин проведет Рождество по традиции в роли отца и деда. Принято говорить: «Рождество — праздник детский», и он был готов признать это и поступать соответственно, хотя предпочел бы провести его у себя дома, отдав ему дань скромной рюмочкой между церковными службами за компанию с отцом Г. в знак того, что праздник этот носит до некоторой степени мирской характер.
Норман получил приглашение отобедать вместе с зятем Кеном и с приятельницей Кена — женщиной, которая, видимо, займет место его покойной жены, сестры Нормана. «У него же никого нет», — сказали они, как и в тот раз, когда разрешили ему приходить к Кену в больницу. «Ладно, помогу им одолеть индейку», — так Норман отозвался на приглашение, и, поскольку городской транспорт в тот день не работал, Кен собирался заехать за ним на своей машине и доставить его обратно, следовательно, в этом смысле все будет в порядке. Ненавистная Норману машина все же иногда могла пригодиться.
А вот обе женщины — Летти и Марсия — внушали опасения или «представляли собой некую проблему», — как выражалась Дженис Бребнер. Родных, с кем они могли встретить Рождество, у них не было, и вот уже много лет им хотелось как можно скорее покончить с этим праздником. Летти часто ездила на Рождество к своей приятельнице, но в этом году у Марджори есть отец Лиделл. Летти навсегда запомнила, как он сидит, откинувшись на спинку удобного кресла, попивая соответствующее случаю вино, наверно бургундское или, отдавая дань времени года, даже глинтвейн. Как бы там ни было, а она чувствовала, что на сей раз будет помехой, да ее, собственно, никто и не приглашал. Марджори не позвала ее, значит, наверно, смущена, и ничем не омраченное счастье не осенит для Марджори праздничные дни и праздничный отдых. В войне, как говорится, победителей нет, и, хотя эта мысль неприменима к данным обстоятельствам, все же что-то подходящее в ней есть.
С годами Марсию все меньше и меньше волновало наступление рождественских праздников. Когда мать была еще жива, эти дни проходили тихо, отмечались они только приготовлением индейки большего, чем обычно, веса — мясник всегда рекомендовал этим двум леди, которые проводят праздник без гостей, «отличного каплуна» — да особым угощением и лакомой шкуркой индейки для старого Снежка. После смерти матери его общества было вполне достаточно для Марсии, а когда и Снежка не стало, справлять приход Рождества уже не было никакого смысла, и этот день постепенно слился с другими днями праздничной недели, ничем не отличаясь от них.
— Как же быть с мисс Айвори? Надо что-то предпринять, — единодушно решили Найджел и Присцилла. Рождество такой праздник, когда надо что-то «предпринимать», проявлять заботу о стариках, или о пожилых, как их деликатно именуют, хотя слово «пожилые» вызывало у Присциллы представление о женщинах Востока, маленьких и хрупких, совсем не похожих на мисс Айвори.
— Самое тяжелое для них — это одиночество, так по крайней мере говорят, — сказала Присцилла. — Они, несчастные, просто жаждут, чтобы было с кем побеседовать. — Как-то вечером она встретила на улице Дженис Бребнер, которая не могла ни дозвониться, ни достучаться до Марсии. «Никакой тебе радости», — пожаловалась Дженис, хотя слово «радость» в данном случае совсем не подходило. Дженис уезжала на рождественские праздники и беспокоилась о Марсии, И Присцилла пообещала присмотреть за ней и даже пригласить ее как-нибудь к обеду, а можно ли придумать более удобный повод для этого, чем рождественская индейка?
У Найджела были на этот счет кое-какие сомнения. — Мисс Айвори не так уж стара, — запротестовал он. — Человек она независимый, работает, хотя и со странностями. Пригласишь ее — ну что ж, прекрасно, только не знаю, подходящее ли это общество для твоих дедушки с бабушкой.
— Может, откажется? — сказала Присцилла. — Но я чувствую, что пригласить надо.
— А когда я предложил скосить траву у нее на лужайке, она воспротивилась, — сказал с надеждой в голосе Найджел.
— Рождество — дело другое, — сказала Присцилла, и Марсия, видно, была того же мнения, потому что, принимая приглашение, она даже ухитрилась улыбнуться.
Дед и бабушка буквально обласкали Марсию, так они были рады, что их не считают стариками, о которых надо «проявлять заботу». Бабушка Присциллы, элегантно бело-розовая, с великолепной прической и в изящном, пастельных тонов туалете, представляла собой такой разительный контраст с Марсией, с ее грубо покрашенными волосами и на редкость безобразным платьем несуразно яркого голубого цвета! Поселившись на пенсии в Букингемшире, дед и бабушка Присциллы вели такой осмысленный, такой активный образ жизни! Каждый день был для них так полон, так интересен! Приезд в Лондон к Присцилле пройдет со смыслом — посещение театров и музеев. А что делает Марсия, вернее, что она будет делать, когда выйдет на пенсию в будущем году? Думать на такие темы было мало приятно, и ответ на этот вопрос, заданный вежливо и по-доброму, ничего толком не объяснил. Не оценила Марсия и традиционного рождественского обеда. Когда выяснилось, что она ничего не пьет, это бросило первую тень легкого уныния на все происходящее за столом, а надежда на то, что она хотя бы отдаст должное еде, не оправдалась, так как почти вся ее небольшая порция осталась на краю тарелки. Она пробормотала что-то насчет своего скромного аппетита, но Присцилла подумала: хоть бы из вежливости притворилась, будто ест, ведь на приготовление обеда ушло столько трудов! Но об этом-то и предупреждала ее Дженис: от этих людей не жди никакой радости, но тем не менее работай на них не покладая рук. Может, с Марсией дело обошлось бы проще, будь она действительно старенькая или совсем дряхлая.
После обеда компания перешла к камину, подали кофе и шоколадные конфеты. Всех стало уютно клонить ко сну, всем хотелось прилечь и закрыть глаза, но при Марсии об этом и подумать было нельзя. Разве можно заснуть, если на вас устремлен пристальный взгляд этих круглых, как бусины, глаз. Все почувствовали облегчение, когда Марсия вдруг встала и заявила, что ей пора домой.
— А как вы проведете остальные дни? — спросила Присцилла, будто решив наказать себя еще больше. — Что у вас намечено ко Дню подарков?
— Ко Дню подарков? — Марсия, кажется, не поняла, что такое «День подарков», но после короткой паузы заявила величественным тоном — Мы, люди служащие, ценим наше свободное время и не собираемся тратить его на какие-то там пустяки. — Все, конечно, отнеслись к ее ответу с уважением и в то же время обрадовались, что о ней не надо больше заботиться в рождественские праздники.
На следующий день Марсия встала поздно и, давно собираясь заняться этим, все утро провела за разбором ящика стола, забитого старыми газетами и бумажными мешками. Потом просмотрела содержимое своего стенного шкафа, но ни к чему так и не притронулась до самого вечера, а вечером открыла небольшую банку сардин. Эта банка была припасена для Снежка, так что ее запасов не убыло. Она то ли слышала, то ли читала где-то, что сардины содержат ценное белковое вещество, но не это заставило ее открыть банку. Она даже не вспомнила, что молодой врач в больнице советовал ей питаться получше.
Летти собралась встретить Рождество мужественно и проявила известную смелость, решив не поддаваться неизбывному чувству одиночества. Оно не пугало ее, к одиночеству Летти привыкла, но люди, пожалуй, догадаются, что приглашений на праздник она не получила, и, чего доброго, пожалеют ее. Она просматривала газетные статьи и терпеливо слушала радиопередачи, напирающие на коллективное чувство вины, которое испытывают люди не старые, не одинокие и не обремененные родственниками или соседями, словом, теми, кого надо пригласить на Рождество, и убеждалась, что ей-то по крайней мере не в чем винить себя в эти праздничные дни. Марджори, должно быть, тоже не чувствовала за собой никакой вины, размышляла Летти, так как она и не предложила Летти встретить Рождество вместе и прислала ей поздравительную открытку и подарок (в нарядной упаковке — мыльную пену и крем для рук) задолго до праздников во избежание каких-либо недоразумений по этому поводу. Я бы все равно туда не поехала, когда там этот Дэвид Лиделл, решительно сказала себе Летти. У него, конечно, найдется время побыть со своей невестой, хотя сейчас уйма всяких праздничных служб в церкви, и, вспомнив тот пикник, Летти не пожелала играть роль третьей лишней при них.
Итак, Летти приготовилась встретить праздник в одиночестве, потому что, насколько она знала, миссис Поуп собиралась ехать на Рождество к сестре, которая жила в небольшом городке в Беркшире. Но в последнюю минуту планы изменились, последовали переговоры по телефону, и в конце концов миссис Поуп заявила, что она никуда не уедет. Изменения в планах произошли в результате споров из-за отопления. Сестра миссис Поуп, видимо, крайне скупая, не хотела включать дополнительные обогреватели раньше января, а в коттедже у нее было не только холодно, но сыро и очень неуютно.
— Я туда не поеду и вообще никогда больше к ней не поеду, — преисполнившись чувством собственного достоинства в свои восемьдесят с лишним лет, заявила миссис Поуп, стоя в воинственной позе у телефона.
— Это так важно, чтоб в доме было тепло, — сказала Летти, вспомнив разговоры в конторе о гипотермии.
— У вас что-нибудь приготовлено к рождественскому столу? — подумав, спросила ее миссис Поуп.
Летти не приходило в голову, что миссис Поуп может предложить ей принять участие в рождественском обеде — разделить трапезу или внести свою долю в угощение, ведь до сих пор они всегда ели порознь, хотя и встречались на кухне, когда готовили себе завтрак или ужин. Сначала ей не хотелось признаваться, что у нее куплена курица, потому что человек, съедающий один целую птицу (хоть и самую маленькую), производит довольно-таки мерзкое впечатление, но, сообразив, о чем говорит миссис Поуп, она решила признаться начистоту.
— У меня есть ветчина и рождественский пудинг с прошлого года, так что давайте пообедаем вместе, — сказала миссис Поуп. — А то как-то нелепо получится — две женщины живут в одном и том же доме, а рождественский обед едят порознь. Я, правда, Рождество ничем особенным не отличаю, но ведь пожилым людям вообще нельзя объедаться, ни в праздники, ни в будни.
Летти не оставалось ничего другого, как выслушивать рассуждения миссис Поуп на ее излюбленную тему о том, что большинство людей питается чрезмерно. Это не прибавляло удовольствия к обеду, и Летти невольно подумала, как было бы хорошо, если бы она провела праздник у себя в комнате в доме мистера Олатунде. Веселая нигерийская встреча Рождества, конечно, включила бы и ее в свою орбиту, и она в который раз засомневалась, правильно ли поступила, выехав из того дома. Но первый день Рождества подходил к концу, а это сейчас было самое главное.
Радио предлагало на выбор комедию под гогот студийной аудитории, но слушать это у нее не было настроения, или рождественские песни, грустные по воспоминаниям о детстве, о тех днях, возврата которым нет. И она раскрыла книгу, взятую в библиотеке, и села почитать, подумав о том, как встретили Рождество ее сослуживцы по конторе. Потом вспомнила про Кенсингтонскую распродажу, которая должна начаться на другой день после Дня подарков, и сразу оживилась.
— Во все тяжкие пустился? — с необычной для него игривостью сказал Норман, когда Кен подлил себе вина в рюмку.
— Да! Хорошую еду — вот такую, какой нас сегодня угостили, — всегда надо приправить как следует. Вот так я считаю, — сказал Кен.
— Только бы потом не пожалеть об этом. — Норман не мог удержаться, чтобы не омрачить праздничный обед, ну хотя бы слегка. Ведь последний раз, когда он видел Кена, тот лежал пластом в хирургическом отделении больницы и такой был жалкий! А теперь, кажется, снова воспрянул духом с этой своей подружкой — ее имя Джойс, уменьшительное Джой, — которая не только весьма привлекательна на вид и прекрасная кулинарка, но еще и с небольшими деньгами и даже выдержала экзамен в Институте усовершенствования автомобилистов, что бы это ни значило. Следовательно, у Кена есть все основания для того, чтобы пускаться во все тяжкие.
Ладно, милуйтесь там у кухонной раковины за мытьем посуды, подумал Норман, сидя у камина, куда они чуть ли не силком усадили его, когда он предложил им для виду свою помощь.
— Кладите ноги повыше, — сказала Джой. — Вам надо отдохнуть, вы же труженик.
Норман подумал, что если уж на то пошло, так все они труженики, хотя он и Кен почти всю свою труженическую жизнь проводят сидя — Кен на месте инструктора по вождению машин, а он, Норман, за своим столом, трудясь над тем, что только ему ни подсунут. Тем не менее он был не прочь отдохнуть немного, особенно после сытного обеда, а смотреть на горящий в камине уголь всегда приятно и не надо думать, найдется ли у тебя нужная монета для счетчика.
— А где он все-таки живет? — спросила Джой, погружая руки в розовых перчатках в раковину с водой.
— Норман? Снимает спальню-гостиную где-то около Килберн-парка.
— И все один и один? Ему, должно быть, очень тоскливо.
— Многие так живут, — резонно отметил Кен.
— Все-таки Рождество… Как-то грустно.
— Но мы же пригласили его сегодня. А что еще можно сделать?
— Ты никогда не думал поселиться вместе с ним?
— Вместе с ним? Ты что, смеешься?
— Да не теперь! Но когда твоя жена, когда Мериголд… — запинаясь, произнесла Джой. Она до сих пор не привыкла к этому имени, и ей не верилось, что жену Кена действительно так назвали… — …когда она скончалась и ты остался один…
Кен насупился и замолчал. Пусть выложит все, что у нее на уме. Ах, вот как! Значит, он мог бы предложить Норману — своему шурину, с которым у него нет ничего общего, кроме того, что он, Кен, был женат на его сестре, — предложить ему поселиться вместе с ним? Подумать только, жить с Норманом под одной крышей! При одной мысли об этом бегут мурашки по телу, и, представив себе, как бы все это было, Кен улыбнулся, его начал разбирать смех, суровость прошла, и он игриво шлепнул свою будущую вторую жену чайным полотенцем.
Резвятся там на кухне, подумал Норман, услышав их смех, но не позавидовал им, так как его отношение к такого рода делам выражалось следующим образом: «Что кому нравится, а меня да помилует бог!» Кен высадил Нормана из своей новенькой канареечно-желтой машины у крыльца его дома, и Норман, вполне довольный судьбой, проследовал к себе в спальню-гостиную. На сей раз встреча Рождества прошла более или менее приятно, но таких увеселений, как сегодняшнее, с него хватит, и он с удовольствием предвкушал, что вернется в контору и услышит, как там все было у остальных.
В вагоне, возвращаясь из поездки к дочери с ее семейством, Эдвин чувствовал усталость, упадок сил и в то же время облегчение. Его, конечно, уговаривали погостить подольше, но он сослался на неотложные дела, так как после первого дня Рождества с довольно посредственно отслуженной мессой (без пения) и Дня подарков надо было приканчивать холодную индейку и унимать капризничающих ребят. Ему все это надоело. Зять довез его до станции, а остальное семейство поехало на представление для детей, где к ним присоединятся другие бабушка и дедушка и опять же куча ребятишек. Сборище будет очень веселое, но не в его «духе», как выразился бы Норман.
Вынув свою записную книжку, Эдвин проверил, что предстоит в последующие дни. Сегодня, 27-го, святой Иоанн Евангелист, и вечером — как следует, с пением, отслужат вечерню по другую сторону лужайки, в церкви святого Иоанна, это их престольный праздник, а тамошний священник — приятель отца Г. Далее, 28 декабря отмечается День Избиения младенцев, и надо постараться попасть в Хаммерсмит. Никто и не подозревает, сколько всяких служб на рождественской неделе, не считая первого дня праздника.
11
Они вернулись в контору второго января. Никому из них не нужен был День Нового года, чтобы прийти в себя после новогодней встречи, потому что в гостях никто из них не был, а ведь раньше, когда им приходилось работать первого января, они всегда ворчали. Теперь добавочный день праздника тянулся, пожалуй, слишком долго, и все четверо были рады вернуться на работу.
— Или на то, что называется работой, — как заметил Норман, откинувшись на спинку стула и барабаня пальцами по своему пустому столу.
— В это время всегда затишье, — сказала Летти. — К Рождеству обычно стараются разгрузиться.
— Чтобы расчистить стол, — многозначительно проговорила Марсия, вспомнив допотопную фразу, которая если и имела отношение к их теперешнему положению, то лишь весьма отдаленное.
— Да, возвращаешься на работу, а на столе пустота, — брюзгливо проговорил Норман. Теперь, когда первое любопытство было удовлетворено и он узнал, как другие провели рождественские праздники, ему стало скучно.
— А вот что получено, — сказал Эдвин, держа в руке отпечатанный на ротаторе листок. Он передал этот листок Норману, и тот прочитал его вслух.
— Заупокойная служба в память человека, который ушел в отставку еще до нас, — сказал он. — Какое это имеет отношение к нам?
— Я не знала, что он умер, — сказала Летти. — По-моему, это наш бывший председатель?
— Траурное сообщение было в «Таймс», — подчеркнул Эдвин. — Наверно, решили, что наш отдел должен быть представлен.
— Как они могут рассчитывать на это, если здесь его никто не знал? — сказала Марсия.
— Наверно, прислали на всякий случай — вдруг кто-нибудь захочет пойти, — сказала Летти своим обычным миролюбивым тоном. — Может, у нас есть такие, кто работал вместе с ним.
— Но это же сегодня! — с возмущением проговорил Норман. — Предупреждать за такой короткий срок! Когда же мы туда попадем? И как быть с работой?
Ему никто ничего не ответил.
— В двенадцать часов дня, — презрительно сказал Норман. — Прелестно! За кого они нас принимают?
— А я, пожалуй, пойду, — заявил Эдвин, посмотрев на часы. — Оказывается, служить будут в университетской церкви. Самое подходящее место для заупокойной службы по агностику.
— Вы эту церковь, конечно, знаете? Бывали там? — спросила Летти.
— Да, прекрасно знаю, — как бы между прочим ответил Эдвин. — Она, можно сказать, неконфессиональная. Всем должна угождать. Надеюсь, найдется там кто-нибудь, кто знает эту службу.
— Ну что ж, будем надеяться. А может, вы сами отслужите? — иронически осведомился Норман. Его раздосадовало, что Эдвин, казалось бы, без всякого на то основания, решил воспользоваться случаем и уйти с работы, но какие тут могли быть «основания», он вряд ли мог бы сказать.
Церковь все еще стояла в рождественском убранстве с чопорными пойнсеттиями и веточками остролиста в оконных проемах, но рядом с алтарем висело присланное из дорогого цветочного магазина некое изделие из белых хризантем, как бы подчеркивая, что сегодня церковь выполняет двойные обязанности.
Мемориальные службы не очень-то входили в круг интересов Эдвина, особенно когда они посвящались лицам, с которыми у него не было ничего общего, а если и было, то очень мало. Такие службы отличались от погребальных — похорон на его веку хватало: отец, мать, жена и многочисленная родня жены. Не было тут сходства и с реквиемом, это больше напоминало светский прием — элегантно одетые дамы в шляпах, в меховых шубках и мужчины в темных костюмах, в добротных зимних пальто. Как мало они были похожи на тех немногих провожающих, с которыми ему приходилось бывать на похоронах! Правда, время траура прошло, сейчас воздавали должное жизни и заслугам покойного, и в этом-то и было главное отличие этой службы от прочих церковных служб. Другое, весьма существенное отличие заключалось в том, что в этот январский день в церкви было тепло. Ноги Эдвина приятно обвевали дуновения горячего воздуха, и он заметил, что женщина, стоявшая перед ним, расстегнула воротник своей меховой шубки.
Гимны, избранные на сей раз, были «Он явит силу свою» и еще один с современным текстом, написанным, вероятно, специально для такой службы, чтобы не оскорблять памяти воинствующего агностика или атеиста, и положенным на никому не знакомую музыку. Потом было прочитано из Екклезиаста, и один из молодых коллег покойного — человек в расцвете сил, сдержанно гордившийся своей молодостью, — произнес короткую речь, превознося достоинства своего покойного коллеги. Эдвин раза два видел этого человека в конторе и поэтому счел свое присутствие в церкви вполне оправданным. Как-никак он представляет здесь Нормана, Летти и Марсию, и это в порядке вещей.
Направляясь вместе с другими к двери, Эдвин заметил, что кое-кто не выходит на улицу, а ныряет в полупритворенную боковую дверцу, которая ведет в нечто вроде ризницы. Входил туда не каждый, а только те, кому, видимо, оказывалось предпочтение, и Эдвин вскоре понял, в чем тут дело. Он углядел в ризнице стол, уставленный рюмками с чем-то похожим на херес (вряд ли виски, подумал он). Ему не составило труда нырнуть в ризницу вместе с другими ныряльщиками, и его никто ни о чем не спросил; по виду он, несомненно, имел на это право — высокий, седой и торжественно мрачный.
Выпив рюмку хереса — тут было на выбор: полусухой или сухой, а сладкий, очевидно, сочли не подходящим для данного случая, — Эдвин осмотрелся по сторонам, набираясь впечатлений, чтоб было о чем рассказать затем в конторе. Он отметил набор предметов, обычный для англиканской церкви и сближающий здешнюю ризницу со всеми прочими, где ему приходилось бывать: цветочные вазы и подсвечники, наваленные горкой сборники церковных гимнов без переплетов и наверняка с вырванными страницами, изъятое из инвентаря распятие замысловатой выделки, видимо отвергнутое прихожанками, которые чистили медные вещи, а с ним возиться не пожелали. На крючке висел отглаженный териленовый стихарь на проволочных плечиках, а на вешалке красные рясы и несколько старых — черных и пыльных. Но эти подробности вряд ли заинтересуют Нормана, Летти и Марсию. Им захочется узнать, кто был в церкви и как люди себя вели, что говорили и что делали.
— Ну что ж, по крайней мере проводили его, — сказал пожилой человек рядом с Эдвином. — Покойный был бы рад, что мы выпили хереса. — Он поставил пустую рюмку на стол и взял вторую.
— Так всегда говорят, — сказала подошедшая к ним женщина. — И утешаются этим. Ведь удобнее считать, что, как бы мы ни поступили, они всегда нас одобрят. Но Меттью за всю свою жизнь ни разу не был в церкви, и, может быть, единственное, что он бы одобрил, — это угощение хересом.
— Я полагаю, он был крещен и в детстве ходил в церковь, — заметил Эдвин, но те двое отошли от него, как бы давая ему понять, что он слишком много себе позволяет, не только отпустив такое замечание, но и вообще появившись на мемориальной службе. Однако же он, Эдвин, состоял в штате этого учреждения, хоть и на скромной должности, и имел такое же право, как и всякий другой, почтить память человека, с которым и знаком не был.
Эдвин допил свою рюмку и бережно опустил ее на стол. Он заметил, что стол покрыт белой скатертью, и подумал — так, между прочим, — может, это полагается, такова здесь традиция? Пить больше он не стал, хотя вполне мог бы осушить еще одну рюмку. Но нет, не стоит. Кроме того, об этом могут прознать, и будет неприятно.
Теперь надо было подумать о завтраке. В конторе Эдвина ждал сандвич, но появляться сейчас перед сослуживцами рановато, и, зайдя в кофейню на Саутгемптон-роу, он сел там за столик в укромном уголке и в глубоком раздумье стал пить крепкий бразильский кофе.
Напротив него сидела влюбленная парочка, но он их не замечал. Он думал о своих похоронах — на мемориальную службу ему вряд ли потянуть, но на реквием безусловно — с оранжевыми свечами, с воскурением ладана и со всеми прочими церемониальными подробностями, которые в таких случаях полагаются.
Он раздумывал: переживет ли его отец Г.? И какие песнопения он выберет?.. Часы пробили два, и Эдвин понял, что ему пора возвращаться в контору.
Когда Эдвин вошел в комнату, Норман поднял голову и бросил на него недовольный взгляд. Очевидно, что-нибудь «поступило», и ему пришлось возиться с этим.
— Ничего себе работа, такую только подавай. Ушли к двенадцати на мемориальную службу и пропали на целых три часа, — прокомментировал Норман.
— На два часа двенадцать минут, — сказал Эдвин, сверившись со своими часами. — Захотели бы, тоже могли бы сходить.
— Красивая была служба? — спросила Летти. Редко бывая в церкви, она думала, что такие службы всегда служат красиво.
— Я бы этого не сказал, — ответил Эдвин, вешая свое пальто на вешалку.
Когда Эдвин подходил к своему столу мимо Марсии, на нее пахнуло запахом кофе и спиртного. — Чем вы там занимались? — спросила она, не рассчитывая получить ответ на свой вопрос.
12
Учреждение, в котором работали Летти и Марсия, считало своим долгом устроить проводы, когда им придет время уходить на пенсию. Их статус пожилых, не имеющих специальной квалификации служащих не давал им права на прощальный вечер, и было решено устроить проводы во время обеденного перерыва, что будет вполне уместно, хотя и несколько повысит обычную сонливость во вторую половину рабочего дня. Еще одно преимущество такого решения заключалось в том, что в обеденный перерыв можно подавать только полусухой кипрский херес, тогда как вечером требуются более экзотические и более дорогие напитки, а иногда и старательно припрятанная бутылка виски или джина — «нечто крепкое», как именовал это Норман, огорчаясь, что у него к этой бутылке допуска не бывает. Можно подать и сандвичи, и тогда людям не понадобится завтрак, а кроме того, некоторые считают, что на таких приемах «лучше, когда ешь» — по крайней мере каждый чем-то занят.
Выход на пенсию дело серьезное, к нему следует относиться с уважением, хотя для большинства в штате эта задача просто непостижима. К такому событию надо готовиться, состояние пенсионера надо учитывать, вернее, «изучать», это уже обсуждалось на семинаре, хотя выводы и рекомендации, к которым там пришли, не имели никакого отношения к уходу от дел Летти и Марсии, такому же неизбежному, как опадание листвы осенью, а оно ведь не требует никакой подготовки. Если Летти и Марсия опасались, что близость этой даты наведет кого-нибудь на мысли об их возрасте, то смущались они напрасно. Теперь их возрастом никто не интересовался, так как они уже давно достигли той черты, когда об этом больше не думают. Каждой будет вручен конверт с небольшой суммой денег, а государство позаботится, чтобы они могли удовлетворять свои основные потребности, которые, вероятно, не так уж и велики. Пожилым женщинам обильного питания не требуется, тепло для них гораздо важнее, и у таких, как Летти и Марсия, вероятно, имеются некоторые средства или сбережения — кое-что про черный день на счету в Почтамте или в Строительном обществе. Рассчитывать на это весьма утешительно, и, даже если у них нет никаких денежных ресурсов, социальное обеспечение сейчас настолько улучшилось, что никому не приходится ни голодать, ни мерзнуть. Если же власти окажутся не на высоте, на то и существуют средства массовой информации — непрестанные критические передачи по телевидению, будоражащие статьи в воскресных газетах и тревожные фотоснимки в иллюстрированных газетных приложениях. Словом, о мисс Кроу и мисс Айвори можно не беспокоиться.
Заместитель директора (исполняющий обязанности), которому поручили произнести приветственную речь, не знал точно, чем именно занимаются и чем занимались всю свою жизнь мисс Кроу и мисс Айвори. Деятельность их отдела была как бы окутана тайной — кажется, что-то связанное с отчетностью, с составлением картотек. Наверняка об этом никто ничего не знал, но работа была явно «женская», которую легко выполнять при помощи компьютера. Самое главное заключалось в том, что замены им не предвиделось, так как весь их отдел должны были постепенно ликвидировать и сохраняли его только до той поры, пока все, кто там работает, уйдут на пенсию. Материал для выступления оказался малоблагодарным, но под влиянием хереса его можно было использовать с толком.
Заместитель директора вышел на середину комнаты.
— Мы собрались сегодня чествовать здесь мисс Айвори и мисс Кроу, но никто не знает и никогда не знал точно, чем, собственно, они занимались на работе, — смело заявил он. — Они были… да и сейчас остались, все такими же — то есть людьми, делающими свое дело спокойно, втихомолку, в тишине, в тайне, как говорится, творя добро. Добро? — слышу я, как меня переспрашивают. Да, добро, повторяю я, именно это я хочу сказать. В наше время, когда в промышленности постоянно возникают беспорядки, такие люди, как мисс Кроу и мисс Айвори (фамилии поменялись местами, но это вряд ли имело значение), служат примером для всех нас. Их отсутствие скажется, скажется очень сильно, а замену им мы подыскать и не пытались, но разве кто-нибудь станет отрицать, что они заслужили право на отдых! Мне доставляет большое удовольствие вручить каждой из этих леди от имени нашей фирмы и от штата наших служащих небольшой знак признательности за их долгую и верную службу, вместе с нашими наилучшими пожеланиями на будущее.
Летти и Марсия вышли вперед и получили по конверту с чеком и с поздравительной карточкой, на которой стояла соответствующая надпись; даритель вспомнил, что его ждут где-то на завтрак, и улизнул, рюмки снова наполнили, послышался гул голосов. Как только ходячие темы были исчерпаны, вести общий разговор оказалось нелегко. Вскоре люди, связанные каждодневной работой, разбились на кучки. Для Летти и Марсии было естественно очутиться в обществе Эдвина и Нормана, а последнему так же естественно прокомментировать речь заместителя директора и сделать вывод из всего сказанного, что тем, кто выходит на пенсию, предстоит наводить порядок в автомобильной промышленности.
Марсия обрадовалась, очутившись среди своих, среди тех, кого она хорошо знала. Сталкиваясь с работниками других отделов, она ощущала свою безгрудость, чувствовала, что они догадываются об ее дефекте, об ее ущербности. Но в то же время ей доставляло удовольствие распространяться о себе, наводить разговор на темы о больницах и хирургах, понизив голос, почтительно произносить имя мистера Стронга. По правде говоря, ей было даже приятно говорить «моя мастэктомия», огорчало ее только слово «грудь» и то, что с этим словом связано. Ни в речи заместителя директора, ни в других речах и разговорах об ее выходе на пенсию слово «грудь» не прозвучало ни в одном своем значении (в груди лелеем мы надежду или грудью стоять на страже… там чего-нибудь), а ведь заместитель директора мог бы сказать нечто подобное, будь его речь литературнее.
Все, конечно, знали, что мисс Айвори перенесла тяжелую операцию, но платье, в котором она появилась сегодня — синтетика цвета светло-голубого гиацинта — было на несколько размеров велико для такой тощей фигурки, так что оно скрывало ее формы. Те из присутствующих на чествовании, кто не был знаком с Марсией, как зачарованные взирали на нее — этот странный вид, эти крашеные волосы и пристальный взгляд круглых, как бусины, глаз! Она могла бы служить необычным развлечением, если бы у кого-нибудь хватило смелости завести с ней разговор. Но когда доходило до дела, никто на это не решался. Стареющая, с сумасшедшинкой, накануне выхода на пенсию… Сочетание получалось сложное, и не удивительно, что люди сторонились ее или отделывались самыми пустячными репликами. Трудно было представить себе, как сложится в дальнейшем жизнь этой женщины — немыслимо и даже страшновато думать об этом.
У Летти, напротив, все было до уныния прямолинейно. Даже ее кремовый в зеленых разводах вязаный костюм и только что уложенные мышиного цвета волосы — все было абсолютно выдержано! Летти уже подходила под разряд типичной английской старой девы, которая, выйдя на пенсию, переедет за город, поселится в коттедже, будет жить в обществе себе подобных, примет участие в церковных делах, будет посещать собрания Женского института, займется садом, рукоделием. И на проводах с Летти разговаривали только на эти темы, но ее скромность и воспитанность не позволяли ей признаться, что не поселится она в загородном коттедже вместе со своей приятельницей и, вероятно, проживет до конца своих дней в Лондоне. Летти знала, что человек она неинтересный, и не вдавалась в скучные подробности, разговаривая с молодежью, а та из любезности справлялась о ее планах на будущее. Даже Юлалия, их черная сотрудница, неожиданно одарила ее лучезарной улыбкой. А другая девица с полной, гладкой шеей, прямой, как алебастровая колонна — такую просто невозможно представить за очень уж заземленной работой на должности конторской машинистки или делопроизводителя, — даже она весело сказала Летти, что теперь ей можно смотреть дневные телепередачи, и Летти начала видеть в таком времяпрепровождении одну из главных радостей в жизни пенсионерки. Она не могла признаться этой милой девушке, что телевизора у нее нет.
Но пора было вернуться к работе. И наконец, Летти с Марсией и Эдвин с Норманом очутились у себя в отделе.
Мужчины, и тот и другой, были явно в хорошем настроении. За годы службы им неоднократно приходилось участвовать в проводах на пенсию, и последние проводы, видимо, соответствовали наивысшему стандарту, который измерялся тем, сколько раз бутылка с хересом обходила по кругу.
— Что и говорить, когда пьешь херес среди дня, это немного сказывается на печени, — провозгласил Норман, — но все-таки лучше херес, чем вовсе ничего. Свое действие он оказывает. — Норман шутливо покачнулся из стороны в сторону.
— Двух рюмок с меня довольно, — сказала Летти. — Я ничего не заметила, но, по-моему, мне кто-то подлил, потому что у меня такое состояние, будто… — Какое у нее состояние и как его описать, Летти не знала. Она была, конечно, не пьяна, а скорее «навеселе», или «под хмельком», что тоже звучало не слишком прилично.
Марсия, которая ничего не стала пить, кроме небольшого стакана апельсинового сока, поджала губы и улыбнулась.
— Ну что ж, вы по крайней мере не сопьетесь, когда уйдете на пенсию, — поддразнил ее Норман.
— Ненавижу эту мерзость, — заявила она.
Летти сидела и думала, какие ей предстоят тоскливые вечера в безмолвном доме миссис Поуп. Пожалуй, не стоит держать бутылку хереса у себя в комнате… Пока что, когда ее целыми днями не бывает дома, отношения у них с миссис Поуп очень хорошие, а что будет дальше, когда она выйдет на пенсию? Такое устройство с жильем, конечно, временное. Никого не порадует мысль, что проживешь остаток своей жизни в северо-западном пригороде Лондона. А почему бы ей не подыскать себе комнату где-нибудь поблизости от того места, где поселится Марджори со своим будущим супругом? Ведь в последнем своем письме Марджори намекала, что она приветствовала бы это, ей не хочется порывать их связь после стольких лет дружбы… Еще можно вернуться на запад Англии, туда, где она родилась, убеждала себя Летти, послушно соглашаясь с общепринятым мнением, что жизнь пенсионерки все еще полна всяческих возможностей.
Она стала опоражнивать ящик своего письменного стола, аккуратно перекладывая его содержимое в свою хозяйственную сумку. Не так уж много надо было оттуда забрать: пара легких туфель — она переобувалась в них, когда хотелось сменить обувь, — пачка бумажных носовых платков, почтовая бумага и конверты, тюбик слабительных таблеток. По примеру Летти и Марсия занялась тем же, бормоча что-то и запихивая содержимое ящика в свой объемистый чемодан. Летти знала, что ящик Марсии набит до отказа, хотя не заглядывала туда: когда Марсия выдвигала его, она видела мельком, как наружу лезут разные вещи. Там были спортивные кеды, в которых Марсия так неуклюже ступала в первые дни после покупки, но вот она достала оттуда несколько банок — мясные консервы, фасоль, супы, и Летти это удивило.
— Да у вас там настоящее пиршество, — сказал Норман. — Эх, кабы мы знали!
Марсия улыбнулась, но ничего на это не сказала. Норману все его поддразнивания сходят с рук, подумала Летти. Она отвернулась, не желая видеть, что Марсия вынимает из своего ящика. Это походило бы на вмешательство в ее личную жизнь, во что-то такое, о чем лучше ничего не знать.
— Без вас как-то странно будет, — с неловкостью выдавил из себя Эдвин. Он не знал, что надо говорить, когда настает такая минута. Никто из них не знал, потому что это был такой случай, когда требовалось что-то большее, чем обычное «до свидания» или «всего хорошего» в конце рабочего дня. Может быть, женщинам надо преподнести какой-нибудь подарок — но какой? Они с Норманом обсуждали это и в конце концов пришли к выводу, что дело чересчур сложное. «От нас ничего такого не ждут, это только смутит их, — заключили они оба. — И вообще, как будто мы видимся в последний раз!»
При данных обстоятельствах проще всего было прийти именно к такому выводу и не особенно вдаваться в подробности. Потому что они, конечно, встретятся — Летти и Марсия придут в контору, «заглянут когда-нибудь». Можно даже встретиться и не на работе — сойтись на завтрак или «еще что-нибудь придумать»… и, хотя никакого воображения не хватало, чтобы «придумать что-нибудь», им стало легче на душе, когда все они разошлись каждый своим путем, надеясь на встречу в туманном будущем.
13
— Вы выходите на пенсию? — сказала Дженис Бребнер. — А что вы теперь будете делать, у вас уже решено?
— Что я буду делать? — Марсия устремила на нее пустой взгляд. — Это как понимать?
— Да собственно… — Дженис запнулась, но, как она потом рассказывала, решила продолжать, несмотря ни на что. — У вас теперь будет много свободного времени, ведь на работу ходить не надо. — Марсия никогда не говорила ей, чем именно она занята в конторе, но Дженис догадывалась, что работа у нее не очень увлекательная. И вообще что может делать такая, как Марсия? Хоть бы она перестала нервировать ее своим пустым взглядом, будто и понятия не имеет, почему Дженис спрашивает, чем она будет заниматься, выйдя на пенсию.
— У женщины всегда найдется чем заполнить время, — наконец сказала Марсия. — Это мужчины не знают, что им делать, когда они выходят на пенсию. У меня дом требует забот.
— Да, правда. — Позаботиться о доме не мешает, подумала Дженис. Но справится ли с этим Марсия? Физически с домашней работой как будто справится, так что подыскивать ей помощницу не надо, даже если и найдется такая. Но для того чтобы поддерживать чистоту и порядок в доме, требуется соответствующий склад натуры, а вот этого-то у нее и нехватка. Неужели она не замечает, какая здесь пылища, или ее это не беспокоит? Может, ей нужны другие очки? Вот тут совет придется к месту… Дженис вздохнула, как это часто с ней бывало, когда она думала о Марсии. Сейчас тут нечего делать, надо только присматривать за ней и кое-когда заходить и проверять, справляется ли она с хозяйством.
В понедельник утром Марсия проснулась как обычно, начала одеваться, готовясь отправиться на работу, и вдруг вспомнила, что сегодня первый день после ее выхода на пенсию. «Катись, время, катись», — говоришь в те дни, когда пенсионный возраст кажется тебе просто немыслимым, как выигрыш в футбольный тотализатор или по электронно-вычислительной машине. И вдруг, вот оно, «докатилось». У женщин всегда найдется чем заполнить свободное время.
Марсия снесла вниз поднос, на котором принесла себе утренний чай, но чашку оставила на туалетном столике, где она и простоит несколько дней с остатками забеленного молоком чая, который в конце концов расслоится и закиснет. В контору идти сегодня не надо, и она сняла уже надетое платье, переоделась в старую субботнюю юбку и помятую кофточку. Кофточку следовало бы погладить, но кто это заметит или осудит, а складки скоро сами расправятся от тепла ее тела. Подойдя к раковине на кухне, она собиралась вымыть вчерашнюю посуду, но вдруг увидела валявшийся на кухонном столе полиэтиленовый мешок. Как это сюда попало, и что в нем было? Сейчас столько продается в пластиковых мешках, что всего и не упомнишь. Самое главное не бросать их где попало, а класть в надежное место, потому что на каждом напечатано: «Во избежание удушения следите, чтобы эта упаковка не попала в руки младенцев и малолетних детей». Напечатали бы заодно «в руки людей пожилых и престарелых», у которых вполне может возникнуть непреодолимое желание удушиться. И Марсия унесла этот мешок наверх, в бывшую спальню, где теперь у нее хранились картонные коробки, оберточная бумага, бечевки, и сунула его в ящик, и без того набитый пластиковыми мешками, заботливо хранимыми там от младенцев и малолетних детей. Прошло уже много лет с тех пор, как дети появлялись в этом доме — малолетних давным-давно не было, а младенцы, может быть, и вовсе не возникали.
Марсия долго пробыла в этой комнате, прибирая там и раскладывая все по порядку. Пластиковые мешки надо было вынуть из ящика и разложить по размерам и фасонам — словом, рассортировать. Она уже давно собиралась заняться этим, но как-то не находила подходящего времени. Теперь же, в первый день выхода на пенсию, перед ней расстилалась вечность. Она со смешком вспомнила Дженис Бребнер, которая спрашивала своим жеманным интеллигентным голоском: «А что вы теперь будете делать, у вас уже решено?»
Разбор мешков занял столько времени, сколько прошло бы в конторе до перерыва на завтрак, и Марсия подумала: а чем сейчас заняты Эдвин и Норман? Наверно, как всегда — едят то, что принесли из дому: Эдвин всякие там деликатесы, а Норман заваривает кофе из большой банки, которую она оставила ему. Потом Эдвин отправится в какую-нибудь церковь посмотреть, что там происходит, а Норман прогуляется до Британского музея, сядет там и будет разглядывать мумии животных. Или не пойдет дальше ближайшей библиотеки, просмотрит газеты, и при мысли о библиотеке она вспомнила, что так ничего и не сделала с молочной бутылкой, которую ей подсунула Летти. На худой конец ее всегда можно оставить не в одной, так в другой библиотеке, так как в ту самую она больше ходить не собирается.
О своем завтраке Марсия даже не подумала и поела только вечером — выпила чашку чая с ломтиком хлеба, который нашла в хлебнице. Она не заметила зеленоватой плесени на корке, но есть ей не хотелось, и она съела только полкуска, положив остальное назад в хлебницу — про запас. Надо будет, конечно, сходить в магазин, пожалуй, завтра, только не сегодня, хотя у индийцев, наверно, еще открыто… Она никогда много не ела, и столько у нее остается всего недоеденного, всяких кусочков, которые надо приканчивать!
Летти показалось, что она проспала в то первое утро, на самом же деле проснулась она в обычное время, даже немного раньше, так как миссис Поуп встала в шесть часов и, громко топая, вышла из дому, должно быть, отметить день какого-нибудь ничем не примечательного святого. Летти, наверно, все равно бы проснулась, так сильна была сорокалетняя привычка. Говорят, пожилые люди просыпаются рано, подумала она, так что, может, эта привычка навсегда останется при ней.
«А что вы будете делать, когда выйдете на пенсию?» — спрашивали ее люди — кто заинтересованно, кто с кровожадным любопытством. И она, естественно, отвечала, как принято в таких случаях: хорошо, что не надо ходить на работу, хорошо, что теперь будет время делать то, что ей всегда хотелось (что именно, она не уточняла), читать книги, на которые у нее не хватало времени: «Миддлмарч», «Войну и мир», может быть, даже и Пастернака. И раз уж дело дошло до пенсии, можно повторить высказывание Марсии: «Женщина всегда найдет, чем занять время». Да! В том-то вся и суть, что ты женщина. Вышедших на пенсию мужчин, вот кого жалко. Конечно, в одном отношении она отличается от Марсии, у нее нет собственного дома, который требует ухода, а вот только одна эта комната в доме другой женщины, и ведь существуют границы того, что в ней можно делать, как ее обставить. Тем больше оснований для того, чтобы заняться чтением серьезной литературы, и значит, надо сходить в библиотеку. Вот и хорошо, что в первое свое свободное утро она выйдет из дому и прогуляется с определенной целью.
К тому времени, когда Летти решила сойти вниз, на кухню, и приготовить завтрак, миссис Поуп вернулась из церкви. Она держалась бодро и была исполнена добродетели. Утро выдалось промозглое, но прогулка освежила ее. На утренней службе было всего три человека — пятеро, если считать священника и служку. Летти не знала, как надо принять это сообщение, поскольку она слышала от Эдвина, что столь ранние службы теперь считаются устаревшими и ходить надо на вечерние мессы. Но мысль об Эдвине подсказала ей тему для разговора, и она нашла, о чем спросить миссис Поуп — о том, связан ли Эдвин с их церковью.
— Да нет, он не нашего прихода, бывает у нас, только если какая-нибудь особая служба, — сказала миссис Поуп, яростно скобля обуглившийся гренок. — Мы, видите ли, недостаточно строго придерживаемся… Без ладана.
— Без ладана? — Летти снова растерялась.
— Ладан, как известно, не все переносят. Если у кого астма… Вы еще не оделись к завтраку, мисс Кроу?
Летти, спустившаяся на кухню в своем приличном синем шерстяном халате, поняла, что ее осуждают. — Сегодня первый день, как я вышла на пенсию, — смущенно пояснила она, чувствуя, что такой ответ малоубедителен и не может служить ей оправданием.
— Но я думаю, вам самой будет приятно, что вы не опускаетесь. Многие пенсионеры совершенно разваливаются. Сколько мне приходилось таких видеть. Мужчина занимает важный пост, потом выходит на пенсию…
— Но я женщина и важных постов никогда не занимала, — напомнила ей Летти. — А сегодня утром я пойду в библиотеку… Наконец-то у меня будет время для серьезного чтения.
— Ах, чтение… — Миссис Поуп, видимо, не считала чтение занятием стоящим, и их разговор, если это можно назвать разговором, увял. Миссис Поуп ходила в церковь натощак и теперь собиралась насладиться беконом и очищенным гренком, а Летти вернулась к себе в комнату с яйцом в мешочек и с двумя ломтиками хрустящего хлебца.
Позавтракав, она оделась более тщательно, чем Марсия в ее первый день после выхода на пенсию. Подходящий случай надеть новый твидовый костюм, который был слишком хорош для конторы, и потратить больше времени, чем всегда, на то, чтобы подобрать ему в тон джемпер и шарфик. Пока что ее день отличался от обычного, но, когда наступило время уходить, она вдруг поняла, что по дороге в библиотеку, где у нее читательский билет, ей предстоит пройти здание конторы, то есть проделать ежедневный путь — как на работу. Но теперь, двумя часами позднее, в вагоне было не так тесно, и, когда она вышла на своей станции, все предпочли ехать наверх на эскалаторе, а не подниматься по лестнице пешком.
Чтобы попасть в библиотеку, ей пришлось миновать свою контору, и, разумеется, она взглянула на это серое бетонное здание и подумала: а что там, на третьем этаже, делают сейчас Эдвин и Норман? Представить себе, как они пьют кофе, было не так уж трудно, и хорошо, что на ее месте и на месте Марсии никого нет, никто их работу не делает, раз замены им не предвидится. И если теперь необходимость в них отпала, то, может быть, этой необходимости вообще никогда не было, показалось Летти, и у нее появилось такое чувство, что и ее, и Марсию как ветром сдуло, будто они никогда и не существовали. С этим ощущением своей ничтожности она и вошла в библиотеку. Молодой библиотекарь с золотистыми волосами до плеч сидел на месте, и хоть это было утешительно. Она уверенно подошла к полкам, где стояла литература по социологии, полная решимости приступить к серьезному чтению. Эта решимость и надпись «Общественные науки» направили ее именно сюда, и ей хотелось поскорее выяснить, о чем в этих книгах говорится.
— Интересно, что там делают сейчас наши девочки? — сказал Норман.
— Девочки? — Эдвин прекрасно знал, кого Норман имеет в виду, но он не привык так говорить или думать о Летти и Марсии.
— Уютно полежали, вставать не надо, потом позавтракали в постели, подзакусили в городе и марш по магазинам. Второй завтрак у «Дикинса и Джонса», может быть, у «Д. Г. Эванса». Потом домой, задолго до часа пик, а дальше… — Тут воображение у Нормана иссякло, а Эдвин при всем своем желании не мог заполнить, паузу.
— На Летти это очень похоже, — сказал он, — но чтобы Марсия так проводила время, быть того не может.
— Да, она по магазинам слоняться не будет, — задумчиво проговорил Норман. — Это Летти ходила в перерыв на Оксфорд-стрит и даже автобуса покорно дожидалась.
— Мы с ней иногда встречались в очереди, когда я ездил в церковь Всех святых на Маргарет-стрит.
— Вы не пытались тогда увлечь ее за собой? — иронически проговорил Норман.
Эдвин смутился, точно он на самом деле отваживался на такие попытки и потерпел неудачу, Норман же не настаивал на ответе. — Без них как-то непривычно, — сказал он.
— Может, они как-нибудь заглянут к нам, — предположил Эдвин.
— Обещали заглянуть.
— Я как-то не могу себе это представить. Им надо будет подняться в лифте, а это уж совсем другая картина.
— Да, мы не в цокольном этаже, а то нас можно было бы увидеть с улицы, — сказал Норман почти с тоской в голосе.
— По крайней мере теперь стало свободнее. — Эдвин разложил свои припасы на столе, за которым раньше сидела Летти: ломтики хлеба, тюбик растительного маргарина, сыр и помидоры. Вынув из сумки пакет с мармеладными голышами, он вдруг увидел перед собой Летти как живую, но почему она вдруг возникла именно в эту минуту и с такой четкостью, сказать он не мог. И при чем тут мармеладные голыши?
День этот был долгий и, как ни странно, утомительный, такой же утомительный, чувствовала Летти, как и на работе. Может быть, это потому, что проснулась она рано, а вечер затянулся за счет промежутка от чаепития до ужина, — ей не помнилось, что такой промежуток существовал раньше. Она твердо решила прочитать какую-нибудь книгу из тех, что принесла из библиотеки, но это оказалось делом нелегким. Очевидно, для того чтобы приучить себя к серьезному чтению, требуется время и, может, надо начинать с утра, когда голова свежее.
Первый день Марсии промелькнул молниеносно, хотя стремительность была не свойственна ей. Она не почувствовала бега времени и удивилась, когда вдруг стало темно. Самым ярким ее ощущением была досада при мысли о том, что может пожаловать эта благодетельница Дженис Бребнер, и она не стала зажигать огня, а сидела в темноте, слушая бессмысленную болтовню и атавистическое бормотанье приглушенной программы радио. У нее не осталось никакого воспоминания об этом первом дне после выхода на пенсию.
14
Летти была на пенсии уже целую неделю, получила первую пенсионную выплату и только тогда пришла к заключению, что социология не совсем то, на что она возлагала столько надежд. Может, книги выбраны не те, ведь, несомненно, «общественные науки» должны быть гораздо интереснее, чем это. Она думала, что будет испытывать наслаждение, будет упиваться — может, эти слова чересчур сильные для того, чтобы описать ее предвкушения, — упиваться избранным ею предметом, а не зачахнет от скуки, не скиснет, не увязнет в этой тарабарщине, не будет то и дело смотреть на часы — не пора ли выпить кофе. Может быть, она уже в том возрасте, когда ничего нового не воспринимаешь, когда мозги уже притупились? А был ли у нее когда-либо интеллект? Вспоминая всю свою прошлую жизнь, Летти убедилась, как трудно найти в ней что-нибудь такое, что требовало бы от нее интеллекта, уж во всяком случае не на той работе, с которой она только что ушла. К умственному труду она, по-видимому, совершенно неспособна, а ведь есть люди и постарше ее, которые проходят разные науки в Открытом университете. Миссис Поуп знает одну женщину, ей уже за семьдесят, а она на втором курсе этого университета. Но у миссис Поуп всегда находятся такие, кто творит чудеса, и Летти мало-помалу стала избегать ее и старалась готовить еду, когда знала наверняка, что миссис Поуп на кухне не будет. Зачастую она сидела, затаившись у себя в комнате, и прислушивалась к тому, что делается внизу, пытаясь уловить запахи стряпни, хотя уловить их было довольно трудно, так как миссис Поуп жареного почти не ела, если не считать бекона. Летти ловила себя на том, что наливает себе вторую рюмку хереса, выжидая, когда миссис Поуп уйдет из кухни. Но она все же придерживалась старых своих правил: не пить хереса до вечера, так же как не читать романов утром, а это последнее правило было преподано ей школьной директрисой сорок лет назад.
Когда срок возврата книг по социологии истек, Летти с чувством вины, разочарованно отнесла их в библиотеку. Но, ведь уйдя на пенсию, человек должен радоваться свободе хотя бы первые несколько недель. Люди говорят: надо хорошенько отдохнуть, переделать все дела, на которые вы давно целились. Почему же она не может просто читать романы и слушать радио, вязать и думать о своих нарядах?
А что, интересно, делает сейчас Марсия, как ей живется? Жаль, что у нее нет телефона, по телефону было бы проще поболтать или условиться о встрече.
— Теперь вы можете путешествовать, — убеждали ее люди, и Летти приходилось соглашаться с ними, хотя ей трудно было представить себе эти путешествия — одна в туристской группе, потому что Марджори теперь занята своим Дэвидом Лиделлом. Включив радиопрограмму «Спрашивайте — отвечаем», она услышала вопрос об отпуске для одиноких и ответ на него, вызвавший в воображении группу общительных людей обоего пола, средних лет и пожилых и с общими интересами: ботаника, археология и даже «вина» (но не привычка пить в одиночку). Под конец она все же приуныла и не продвинулась дальше чтения рекламной брошюры, вроде Нормана, который собирался нырнуть под воду в поисках сокровищ у берегов Греции. Все ее сборы в путешествие закончились поездкой на уик-энд к дальней родственнице в город на западе Англии, где она родилась.
Эта родственница, женщина одного с ней возраста, встретила ее по-дружески, приветливо, и по вечерам они уютно сидели вдвоем и занимались вязанием. Летти уже давно привыкла к тому, что жизнь ее проходит без мужчины и что поэтому и детей у нее нет. Родственница была вдова, и она ничем не дала Летти почувствовать ее неполноценность. И все же, гостя там, Летти начала понимать, в чем еще она не преуспела. Раньше это никогда не приходило ей в голову, но, разглядывая семейный альбом своей родственницы, она вдруг ясно осознала, чего ей не хватает — у нее нет внуков! Вот в этом все и дело. Могла ли она вообразить такое много лет назад?
Вернувшись домой, она снова подумала, что надо как-то связаться с Марсией. И решила, написать ей открытку, предлагая встретиться в городе — позавтракать вместе или выпить чаю. Обмениваться впечатлениями о жизни на пенсии, пожалуй, рановато, но по крайней мере можно будет поговорить о том, как у них там все было в конторе.
Следующий раз Дженис пришла к Марсии через несколько недель после того, как та вышла на пенсию. Пора бы этой женщине обжиться и выработать какой-то жизненный обиход, думала Дженис. Ей, конечно, не хватает общения с людьми, того, что было в конторе. «Они», пенсионеры, часто жалуются на это, им не хватает раз и навсегда заведенного порядка, связанного даже со скучной работой. И все же Марсия сама говорила, что женщина всегда найдет чем занять время, и у нее есть дом, за которым надо приглядывать. У нее есть сад, а саду тоже не мешает уделить хоть капельку внимания, рассуждала Дженис, стоя на крыльце и глядя на покрытый пылью лавровый кустарник, почти закрывший своей листвой окно нижнего этажа.
Когда Марсия наконец нехотя открыла входную дверь, Дженис поразилась происшедшей в ней перемене. Она не сразу поняла, в чем, собственно, дело. Выйдя на пенсию, Марсия больше не утруждала себя тем, чтобы подкрашивать корни волос, и они выделялись белоснежной сединой на фоне жестких темно-коричневых прядей. Может, она нарочно их не красит и ждет, когда отрастут мягкие седые кудерьки, как у большинства пенсионерок из тех, кого Дженис навещает, хотя, зная Марсию, надеяться на это трудно. Ей бы надо остричь окрашенную часть волос и перейти на короткую седую стрижку, какую носят пожилые дамы. Дженис подумала, не сказать ли ей тактично, что в некоторых кэмденских парикмахерских подстригают пенсионеров по сниженном ценам. Нужно ли тут соблюдать такт? С такими, как Марсия, лучше всего действовать напрямик, и сейчас самое подходящее время для этого.
— Вы, наверно, знаете, что по понедельникам и вторникам с девяти до двенадцати у «Мариэтты» причесывают по сниженным ценам? — сказала Дженис самым сладким своим голоском. Эти пенсионеры — сущее наказанье, ведь многие понятия не имеют, какие у них права, не знают, что люди просто из кожи вон лезут, лишь бы помочь им!
— Я взяла в библиотеке листовку, и там все это написано, — раздраженно проговорила Марсия, и Дженис поняла, что ее выпроваживают.
— Имейте в виду, к нам в Центр всегда можно прийти, — сказала она, выходя на крыльцо. — У нас многие бывают — всё пенсионеры. Любят покуковать среди своих. — Может, это было неудачно выражено, потому что получилось довольно смешно. Представьте себе, все эти пенсионеры кукуют друг с другом. Иной раз так бы и спровадила их куда-нибудь отсюда. Муж Дженис Тони подсмеивался над ними, но над стариками смеяться нельзя, внушала себе Дженис. А Марсия даже не улыбнулась на это «кукованье» и ни словом не отозвалась, когда ее пригласили в Центр. Дженис вздохнула.
Марсия видела, как она села в машину и уехала. Теперешняя молодежь и шагу пешком не ступит, подумала она. И что это за разговоры о парикмахерских? Кому бы говорить, только не ей. У самой волосы пегие, пряди разных цветов. Марсия вообще не любительница ходить в парикмахерские, уже сколько лет там не была. Не то что Летти, которая каждую неделю туда забегала. Вот уж кто воспользуется сниженными ценами для пенсионеров… Марсия стояла в прихожей, чувствуя, как при мысли о Летти в ней закипает раздражение. Это главным образом из-за той молочной бутылки, но тут есть и что-то другое. Летти прислала ей открытку, предлагая как-нибудь встретиться. Очень нужно! Кто ее знает, что она еще может всучить при случае. Незачем и отвечать на эту открытку.
Летти ждала какого-нибудь ответа от Марсии на свое предложение о встрече, но не удивилась, так ничего и не получив. От людей быстро отвыкаешь, а те годы в конторе, когда между ними не было близких отношений, казались теперь такими далекими. Вместо ответа Марсии, хотя это не шло ни в какое сравнение, она получила письмо от Марджори, которая извещала, что приезжает в Лондон за кое-какими покупками и приглашает Летти позавтракать вместе.
Они встретились в ресторане при магазине на Оксфорд-стрит. Вот так Норман и представлял себе Летти за завтраком в первый день после ее выхода на пенсию. Как выяснилось, Марджори приехала в Лондон покупать одежду в приданое, что Летти сочла не только отжившим обычаем, но и не совсем подходящим для женщины, которой уже за шестьдесят. Но Марджори всегда считалась натурой романтической и всегда ухитрялась извлекать все самое лучшее из самых невыгодных обстоятельств. Марсия, вспомнилось Летти, и то питала «интерес» к хирургу, который оперировал ее, и каждый раз предвкушала очередное посещение больницы. Одна только Летти прожила свою жизнь без романтических увлечений, и предстоящее замужество Марджори просто не укладывалось у нее в голове. Хотя разочарование из-за краха ее планов на будущее уже прошло, разделить полностью восторги Марджори она все еще не могла. Но подать совет относительно выбора одежды всегда была готова, а это уже кое-что.
— Платье на мне будет голубое, крепдешиновое, — говорила Марджори, — и еще я хочу купить маленькую шляпку в тон.
— А по-моему, что-нибудь с широкими полями, — сказала Летти. В их возрасте лучше, чтобы на лицо падали мягкие тени, подумала она.
— Ты так считаешь? Да, правда! Я ведь не член королевской семьи, разглядывать меня не станут, да и не захотят. — Марджори рассмеялась. — И толп народа тоже не предвидится, все будет очень скромно.
— Да, конечно! — Свадьбы пожилых людей обычно так и справляют.
— Летти, а ты не обиделась?
— Обиделась, на что? — Такой вопрос удивил Летти.
— На то, что я не пригласила тебя в подружки.
— Конечно, нет! У меня этого и в мыслях не было. — Когда пожилые женщины вот так угождают друг другу, тут есть что-то несуразное, и она удивилась, что Марджори заговорила об этом. Уж если на то пошло, так подружкой она была на первой свадьбе Марджори. Неужели Марджори забыла об этом?
Но напоминать ей Летти сочла бестактным.
— Гостей у нас не будет, только мой брат в роли посаженого отца и шафером один приятель Дэвида, тоже священнослужитель.
— А у него есть какая-нибудь родня?
— Только мать — он единственный сын.
— Но мать на свадьбе не будет?
Марджори улыбнулась.
— Да ведь ей уже под девяносто, так что я ее не жду. Она живет в одной религиозной общине, ее взяли туда монахини.
— Там она и пробудет до конца дней своих? Что ж, хорошо придумано. — Оказывается, благочестие дает неожиданные преимущества, подумала Летти, и миссис Поуп, наверно, тоже собирается когда-нибудь переехать к монахиням.
— А как ты живешь, Летти? — спросила Марджори, когда в их разговоре наступила пауза. — Довольна своим новым жильем? Это, кажется, СЗ6, Хэмпстед?
— Ближе к западной части Хэмпстеда, — призналась Летти. Если б это был центр Хэмпстеда, она так бы и сказала.
— А по-моему, в Холмхерсте, как я советовала, тебе было бы лучше. Я еще могу тебя записать туда. Там наверняка скоро освободится место.
— Ты об этом говорила. Кто-то должен был умереть, но место, наверно, уже занято.
— Ну, кто-нибудь еще умрет. Это постоянно случается, — весело сказала Марджори.
Они выпили кофе, и Летти сказала, что пока она останется там, где сейчас живет.
— Да, ты как будто удачно устроилась, — сказала Марджори, которой явно хотелось, чтобы так оно и было. — Судя по всему, миссис Поуп замечательная женщина.
— Да, для своего возраста она просто удивительная, — сказала Летти, повторяя то, что ей приходилось слышать от других. — Ведет большую работу по делам прихода. Ты, наверно, тоже займешься всеми этими делами, когда выйдешь замуж.
— О-о! С наслаждением! Помогать людям — разве это не цель нашей жизни, разве это не то, ради чего… — Марджори осеклась, и Летти поняла, что она не захотела договаривать и подчеркивать разницу между своей достойнейшей ролью помощницы рода человеческого и положением Летти — ни на что не годной пенсионерки.
— А я иногда подумываю, не пойти ли мне работать, — сказала Летти. — Может, не на полный день.
— Ты только не торопись, — быстро проговорила Марджори, не желая лишаться такого предмета роскоши, как подруга, от которой никакого проку, не то что от нее самой. — Наслаждайся свободой и всем, что теперь тебе доступно. Будь у меня время, я бы занялась чтением серьезной литературы.
Летти вспомнила те книги по социологии, которые она вернула в библиотеку, но Марджори уже перескочила на другое — на пару теплых домашних туфель для своего будущего супруга. Не сходить ли им к «Остину Риду»? Когда они выходили из ресторана, Летти оглядела пышные формы своей приятельницы и подумала: когда, в какие годы прожитой жизни у нее, у Летти, так все неудачно сложилось?
15
— Дело не в деньгах, — говорил Норман. — Видит бог, я не поскуплюсь на завтрак нашим старушкам.
Эдвин отметил, что Летти и Марсия, называвшиеся раньше «девочками», теперь превратились в «старушек». Оба эти наименования не совсем подходили им, но ничего лучшего Эдвин придумать не мог и поэтому обошелся без комментариев. — Мы ведь говорили, что будем держать с ними связь, — напомнил он Норману, — а сколько пролетело времени с тех пор, как они ушли с работы.
— Да, времени пролетело порядочно, но надо же было дать им привыкнуть к своему — положению. С встречей мы не торопились, и правильно сделали. А завтрак можно оплатить льготными талонами, если, конечно, пойти в «Рандеву».
— Льготными талонами? Вы так думаете? Это как-то не очень… — Эдвин запнулся.
— Вы хотите сказать элегантно? А вы что, воображаете, этот завтрак пройдет на высшем уровне элегантности? — Норман был настроен весьма язвительно. — Я говорю о самой затее, а не о деньгах. Выложить 50 пенсов на их завтрак я не отказываюсь.
— Боюсь, вам придется выложить побольше, — сказал Эдвин. — Хотя можно частично использовать и льготные талоны. У меня их порядочно в запасе, ну а Летти и Марсия ведь ничего не узнают.
В «Рандеву» платят в кассу, вот кто-нибудь из нас пойдет и рассчитается, а они ничего и не увидят.
— Очень уж это нескладно, — продолжал Норман. — Мы никогда не завтракали с ними в ресторанах. Представляете себе нас, всех четверых, за одним столиком?
— Что ж вы хотите — угостить их в конторе сандвичами? Вряд ли они поблагодарят нас за это.
— Но о чем мы будем разговаривать? Спросим их, как они себя чувствуют и все такое прочее, а дальше?
— Ничего, все обойдется, — сказал Эдвин с уверенностью, которой вовсе не чувствовал, хотя он так привык к нудным встречам с церковными деятелями, что позавтракать в обществе двух бывших сослуживиц ему было бы вполне под силу. И в конце концов это была его идея пригласить Летти и Марсию к завтраку. Совесть замучила его, и наконец он написал им — конечно, из конторы, так как это считалось «деловым» письмом, — и послал обеим приглашение. Летти ответила сразу же, сообщая, что она будет рада повидаться с ними. Ответ Марсии пришел попозже, и ее согласие на встречу прозвучало так, будто она оказывает им большое одолжение, потому что очень занята. Эдвин и Норман заинтересовались, чем она так загружена, что ей все некогда. Может быть, поступила на работу, хотя это было маловероятно.
— Подождите, скоро узнаем, — сказал Эдвин, так как время встречи подступало все ближе. Он слыхал от миссис Поуп (присутствуя на их храмовом празднике), что Летти устроилась хорошо, но что она «держится больше особняком», точно в этом было нечто предосудительное. О Марсии со времени ее ухода на пенсию ничего не знали, хотя Эдвин иногда проходил в конец той улицы, где она живет, и нет-нет да и собирался нагрянуть к ней как-нибудь без приглашения. Но что-то… что именно, он и сам не понимал, удерживало его от этого. Притча о добром самаритянине все время приходила ему на ум, хотя она была тут совсем не к месту. Дело не в том, что «он прошел мимо», ведь ему даже не случалось приближаться к дому Марсии, а у нее как будто все было благополучно. Правда, он не знал, все ли у нее благополучно, но уж если кого и обвинять в том, что с ней не поддерживают связи, так это, почему-то казалось ему, Нормана.
Было условлено: Летти и Марсия придут в контору и все вместе они отправятся завтракать. Первой появилась Летти в своем лучшем твидовом костюме, держа пару новеньких перчаток в руках. — Как хорошо, что можно обойтись без хозяйственной сумки, — сказала она, обегая глазами не только Эдвина и Нормана, которые выглядели как обычно, но и всю несколько преобразившуюся комнату.
— Я вижу, вы несколько распространились, — сказала она, заметив, что теперь мужчины занимают все помещение, которое когда-то отводилось им четверым. И снова у нее появилось чувство собственного ничтожества, когда ей стало так ясно, что и ее, и Марсию вытеснили отсюда полностью, как будто они никогда и не существовали. Оглядывая комнату, она задержалась взглядом на паучнике, который в свое время сама же принесла в контору и не потрудилась взять с собой, уйдя с работы. Паучник разросся; он пустил много маленьких отростков, и они свисали вниз, покачиваясь над отопительной батареей. Есть ли в этом какое-то значение, доказательство того, что она когда-то существовала, что память о ней еще сохранилась здесь? Во всяком случае, Природа делает свое дело, живет, что бы ни случилось с нами; это Летти знала.
— Да, растеньице разрослось, — сказал Эдвин. — Я поливаю его раз в неделю.
— Частичку себя вы здесь оставили, — небрежно проговорил Норман, и оба они, словно сговорившись, перешли на другое, может быть опасаясь, не придала бы Летти иного, более глубокого смысла этим словам. — Марсия знает, когда мы условились? — сухо спросил Норман. — Чтобы занять столик, надо прийти пораньше.
— Да, я говорил, в двенадцать тридцать, и, кажется, уже пора, — сказал Эдвин. — Вот кто-то идет.
Это была Марсия, и она произвела на них сильное впечатление своим странным видом.
Получив приглашение от Эдвина, Марсия сначала сказала себе: нет, об этом не может быть и речи. Тратить время на поездку в город ради завтрака! Потом, сообразив, что надо воспользоваться удобным случаем и вернуть Летти ту самую молочную бутылку, она сунула ее в пластиковый пакет и положила в свою хозяйственную сумку. Сумку она с собой захватила в отличие от Летти, так как хотела потом сходить в гастрономический магазин Сейнзбери, чтобы пополнить свой запас консервов.
Тем троим понадобилась минута-другая, прежде чем они пришли в себя при виде призрака, представшего перед ними. Марсия еще больше осунулась, светлое летнее пальто висело на ее исхудавшем теле. Она была в ношеных сапогах на меху и в штопаных-перештопаных чулках, а на голове у нее сидела несуразно веселенькая соломенная шляпка, из-под которой выбивались наружу пегие пряди спутанных волос.
Эдвин, не отличавшийся наблюдательностью, заметил, что все это как-то не вяжется одно с другим, но, на его взгляд, выглядела она почти так же, как и раньше. Норман подумал: вот бедняга, похоже, совсем сбрендила. Летти, всегда придававшая значение одежде, пришла в ужас. То, что женщина так мало заботится о своей наружности, даже не видит, как она выглядит, обескуражило ее, и она почувствовала угрызения совести, словно именно ей надо было как-то помочь Марсии, когда та вышла на пенсию. Но ведь она предложила Марсии встретиться, а Марсия не ответила на ее письмо… А теперь ей же стыдно, что она стесняется сидеть с Марсией за одним столиком.
К счастью, в «Рандеву» народу было мало, и они заняли столик в сторонке.
— На сей раз этот ресторан оправдывает свое название, — сказал Норман, приступая к непринужденному разговору, пока остальные изучали меню. — Действительно, рандеву… — Он не сказал «с друзьями», потому что это слово не совсем подходило к ним, а «с коллегами» прозвучало бы слишком официально и довольно нелепо.
— Это место встречи тех, кто давно не встречался друг с другом, — подсказала Летти, и мужчины почувствовали признательность к ней; но в те дни, когда она завтракала здесь одна, ей не пришло бы в голову описать этот ресторан именно так. Здесь всегда было полно людей, в одиночку поедавших то, что они заказывали только для себя.
— Ну-с, что мы будем кушать? — сказал Эдвин, обращаясь к Марсии, у которой был такой вид, будто ее надо поскорее покормить, поскорее, если можно так выразиться, обеспечить ей питание.
— Да, судя по всему, вам надо как следует подзаправиться, — сказал Норман напрямик. — Что, если начать с супа, а потом жаркое или цыпленка?
— Нет, мне только салат, — сказала Марсия. — Я среди дня много не ем.
— Но остальные, наверно, захотят что-нибудь более основательное, — с радушием сказал Эдвин.
— Да, для салата погода не совсем подходящая, — поддержала его Летти.
— А я-то думал, что салат для вас как раз самое подходящее, — сказал Норман. — Вы, по-моему, малость пополнели. — Он говорил, поддразнивая ее, но ей послышался в его тоне оттенок злорадства. Летти знала, что он прав, потому что в последнее время еда стала для нее одним из главных интересов и главных удовольствий в жизни. — Пожилые люди любят поесть, — продолжал Норман, вряд ли поправив этим дело, потому что Летти даже теперь не считала себя пожилой. — Но есть и такие, кто к еде равнодушен.
— Ну, давайте, давайте, — сказал Эдвин, видя, что официантка переминается около их столика. — Кто что заказывает?
В конце концов Летти попросила себе цыпленка «forestière», Норман свиную отбивную, а Эдвин, вегетарианские убеждения которого не исключали рыбных блюд, камбалу с жареной картошкой. Марсия не поддалась искушению, как выразился Норман, и настояла на небольшой порции салата с творогом. Что касается напитков, то мужчины заказали себе пиво, а Летти уговорили взять рюмку белого вина. Марсия, разумеется, от вина отказалась, всячески подчеркивая свою трезвенность, к вящему удовольствию двоих молодых людей за соседним столиком.
— Ну-с, так… — Облегчение, которое почувствовал Эдвин, когда их заказы благополучно прибыли, сказалось в его более свободной манере, так как он, по его словам, чувствовал себя ответственным за успех этого предприятия. — Все довольны? А вы не хотите булочку с маслом к вашему салату? — предложил он Марсии.
— Я всегда ем без хлеба, — заявила она.
— Смотрите, как бы не довести себя до того, что, пожалуй, вовсе перестанете есть, — провозгласил Норман. — Называется это anorexia nervosa. Передача была по радио.
— Anorexia nervosa — болезнь молодых девушек, — сказала Марсия, исправляя его ошибку с высоты своих медицинских познаний. — Я никогда много не ела.
— Надеюсь, цыпленок хорош? — спросил Эдвин у Летти. Как будто ему не все равно, что Летти ест, подумал он, удивляясь сам себе, но что поделаешь, приходится играть роль хозяина при таких обстоятельствах.
— Благодарю вас, все очень вкусно, — вежливо ответила Летти.
— Овощи и так далее, — сказал Норман. — Поэтому, наверно, и называется «forestière». Гарнир из того, что растет в лесу. Хотя овощи в лесу, по-моему, не произрастают.
— У меня с грибами, — сказала Летти, — а грибы растут везде — и в рощах, и в лесу.
— Грибы, которые растут в лесу, по-моему, не годятся, — сказал Норман.
— Да, сейчас многие виды грибов выращивают в домашних условиях, — сказал Эдвин. — Дело доходное, пенсионеры могут этим заниматься.
— Только не те, кто ютится в спальне-гостиной, — сказал Норман. — Но вот вы с Марсией вполне можете их выращивать, потому что у вас свои дома и, наверно, есть подвал или какой-нибудь сарайчик в саду.
Марсия подозрительно посмотрела на него. — Мой сарайчик приспособлен совсем для другого, — сказала она.
— Страшные тайны, — сказал Норман, но Марсию это не рассмешило.
— По-моему, Эдвин вовсе не собирался рекомендовать нам выращивание грибов, — сказала Летти, — хотя некоторые преуспевают в этом деле.
— А вы знаете таких? — спросил Эдвин.
— Нет, нет! — поторопилась ответить Летти.
Тут этой специфической теме их разговора пришел конец, наступило короткое молчание, которое нарушил Эдвин, спросив, что они собираются заказать еще: — Сладкое, пудинг или десерт, как говорят американцы?
— Спасибо, я больше ничего не хочу, — твердо сказала Марсия. Неаппетитно расковыряв свой салат, она оставила почти весь его на краю тарелки.
Летти вспомнила замечание Нормана о ее полноте и решила: семь бед один ответ, уж если завтракать, так завтракать. Зато сегодня вечером на ужин у нее будет что-нибудь малокалорийное. — Мне яблочный пирог и мороженое, — сказала она.
— Яблочный пирог тетушки Бетси, — уточнил Норман. — Я, пожалуй, возьму то же самое.
Эдвин выбрал сладкий пудинг и стал уговаривать Марсию заказать себе что-нибудь, но не преуспел в этом.
— А мы так и не поинтересовались, чем вы, пенсионерки, заняты? — сказал Норман. — Развлекаетесь вовсю?
Такие вопросы придали более легкий тон их разговору, и Летти рассказала им о своей попытке заняться социологией и о бесславном поражении на этом пути.
— Ничего удивительного, — сказал Норман. — И не утруждайте вы себя таким чтением. Хороший отдых, вот что вам нужно. И вы его заслужили после всех своих трудов.
Летти опять призадумалась, что же это за труды такие, которые ни на ком из них не отложили своего отпечатка. — Я провожу время хорошо. — Нельзя, чтобы они почувствовали даже смутно, как ей одиноко и скучно и как томительно тянется у нее время.
— А что там у вашей приятельницы — у той, что собиралась замуж за священника? — спросил Норман.
— Она еще не вышла. Мы с ней недавно завтракали вместе.
— Они, видать, не торопятся, — сказал Эдвин, не заметив двоякого смысла своей реплики, за что сразу ухватился Норман.
— И правильно, — сказал он. — Женился на скорую руку, да на долгую муку.
— По-моему, им это не грозит, — сказал Эдвин.
— Да, конечно, — сказала Летти. — Эта поговорка вряд ли относится к тем, кому за шестьдесят.
— А может, и относится, — сказал Норман. — А почему бы нет? По-моему, вы говорили, что эта дама на несколько лет старше своего суженого.
— Разве? Я что-то не помню. — Летти надеялась, что она не подвела свою приятельницу.
— Ну, а вы что поделывали все это время? — Эдвин повернулся к Марсии с добродушием, которое вряд ли заслужило резкость ее ответа.
— Это мое дело, — отрезала она.
— Опять ходили в больницу? — спросил Норман, стараясь ублажить ее. — Вы все еще под наблюдением?
Марсия пробормотала что-то про мистера Стронга и потом, уже гораздо громче, начала жаловаться на назойливость Дженис Бребнер.
С чувством сожаления Летти дотянула последние капли вина. Рюмка была совсем небольшая. — А меня такие не навещают, — сказала она.
— У вас не было серьезной операции, — сказала Марсия громче, чем следовало. Опять к удовольствию молодых людей за соседним столиком.
— Ну что ж, честь и слава нашей Службе здравоохранения, — сказал Эдвин. — Забота о тех, кто побывал в больнице, у них налажена. По-моему, это всех обнадеживает.
— А что, вы разве готовитесь к такой же операции, какая была у Марсии? — пошутил Норман.
Все почувствовали, что это уже слишком, и Эдвин поторопился спросить, не заказать ли кофе на всю компанию.
— Я не хочу, — сказала Марсия. — Мне пора. Столько всего надо закупить.
Да побудьте вы с нами, пока мы кофе не выпили, — сказал Норман, стараясь задобрить ее. — Не так уж часто нам удается посидеть поговорить.
Странное выражение появилось на лице у Марсии, но заметила это одна Летти. Марсия будто смягчилась. Неужели Норман что-то значит для нее? Но это скоро прошло, и, пока остальные пили кофе, она снова стала торопиться.
— А вам обоим опять надо приниматься за труды, — сказала Летти, когда обеденный перерыв совсем подошел к концу.
— Если это действительно можно назвать трудами, — сказал Эдвин.
— Иной раз и правда трудимся, — сказал Норман. — Скорее бы на пенсию.
Летти подумала: а что он будет делать тогда в своей спальне-гостиной — и хотела поговорить с ним об этом, но времени на такие разговоры уже не осталось — мужчинам надо было приниматься за работу или за то, что называлось у них работой, а они и так уже прогуляли больше, чем обычно. Но ведь это особый случай, такое бывает не каждый день, и, если от них потребуют объяснений, они сумеют оправдаться. Но им никто ничего не сказал, и оба, незамеченные, проскользнули к себе в комнату.
Марсия быстро вышла в переулок к небольшому филиалу гастронома Сейнзбери. Сунув руку в хозяйственную сумку, прежде чем класть туда консервные банки, которые предстоит купить, она нащупала там молочную бутылку в пластиковом мешочке. Забыла отдать ее Летти. Вот досада! Надо догнать их. И она быстро зашагала назад, но они ушли далеко, даже из виду скрылись. Расстроенная, Марсия повернула обратно.
Она подошла к гастроному, но около него было пусто — никто оттуда не выходил, никто туда не входил. Неужели она забыла, может, у них короткий день? Разве сегодня суббота? Она подошла поближе и заглянула в дверь. Глазам ее предстало поразительное зрелище — внутри все было чисто и прибрано, остались почти одни голые стены. Магазин закрыли навсегда, по-видимому несколько недель назад, а ей никто ничего не сказал. Этот филиал Сейнзбери прекратил существование, нет его больше, и, значит, здесь не купишь консервов на пополнение своих запасов в шкафу. И ни с того ни с сего Марсия обвинила во всем Эдвина и Нормана, не сообщивших ей об этом. Ничего другого не оставалось, как пойти в библиотеку.
Распростившись с мужчинами, Летти тоже отправилась туда, и Марсия тихонько подошла к ней, когда Летти остановилась у полки с биографической литературой.
— По-моему, это ваша, — осуждающе сказала Марсия, протягивая ей молочную бутылку в пластиковом мешочке.
— Молочная бутылка? — Летти, конечно, не помнила, откуда бутылка взялась, и Марсии пришлось объяснить ей это, причем говорила она во весь голос, так что читатели стали оглядываться на них, а молодой библиотекарь уже был готов сделать ей замечание.
Почувствовав напряженность в воздухе, Летти приняла бутылку, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, и Марсия быстро удалилась, преисполненная сознания, что, хотя поездка в город к завтраку отняла у нее уйму времени, все же своего она добилась. Обремененная этой бутылкой, не имея при себе хозяйственной сумки, Летти ушла из библиотеки, не выбрав себе книги, и бросила бутылку в ящик возле бакалейной лавки недалеко от конторы. Марсия могла бы и сама это сделать, рассуждала Летти, но не тем, верно, голова у нее забита. Летти не стала, не захотела разбираться, чем забита голова у Марсии. Встреча с ней расстроила, взволновала ее почти так же, как случай с той женщиной, которая повалилась на скамью в метро, хотя теперь это такое давнее дело.
Вернувшись домой, Летти застала миссис Поуп в холле с каким-то листком в руках.
— Окажите помощь престарелым, — провозгласила миссис Поуп. — Престарелым за рубежом требуется ноская, добротная, прочная одежда.
Летти не нашлась, что сказать на это.
Когда они простились с Летти, Норман обратился к Эдвину: — Признавайтесь, сколько вы там потратили, и я заплачу свою долю.
— Да нет, что вы! Я расплатился главным образом талонами, а то, что было сверх, — это пустяки. Вы уж позвольте мне… — быстро проговорил Эдвин, потому что его часто преследовала мысль, а как там живется Норману в его спальне-гостиной, тогда как сам он занимает целый дом.
— Ладно, спасибо, старик, — после неловкой паузы сказал Норман. — Но в общем получилось у нас неплохо, как вы считаете?
— Да, все прошло хорошо, лучше, чем я ожидал, но вид Марсии мне совсем не нравится.
— Вы мне говорите! По-моему, она окончательно сбрендила. Но врачи ее наблюдают, хоть это слава богу. И из патронажной службы к ней ходят.
— Она жаловалась, что слишком уж часто. За ней, очевидно, присматривают.
На том они и закончили разговор на эту тему, но Эдвин все-таки успел сказать, что надо бы когда-нибудь повторить встречу, послать Летти и Марсии приглашение на завтрак. Но обоим было приятно при мысли, что это будет не скоро и что сейчас они свой долг исполнили.
16
Хотя ее старого кота уже несколько лет не было в живых; Марсия все еще скучала о своем Снежке, и как-то вечером он особенно живо вспомнился ей, когда в шкафчике под умывальной раковиной нашлось его блюдце. Она удивилась и даже немного расстроилась, увидев, что на нем остались засохшие кусочки кошачьей еды «Киттикэт». Неужели она не вымыла блюдца с тех самых пор, как он умер? Должно быть, так оно и есть. Человека со стороны это не удивило бы, но Марсия считала себя аккуратнейшей хозяйкой, а о посуде Снежка она особенно заботилась, держа все, по ее собственным словам, «безукоризненно чистым».
Найдя блюдечко, она решила навестить кошачью могилу, которая была где-то в дальнем конце сада. Когда Снежок умер, мистер Смит, живший до Найджела и Присциллы в соседней половине дома, выкопал ему могилу, и Марсия положила его туда, завернув в полу своего старого голубого репсового халата, на котором кот спал. Посреди жизни нашей стережет нас смерть, подумала она в тот день, чувствуя все значение этого клочка материи и того, что с ним было связано. Могилу она никак не отметила, но место запомнила и, проходя по тропинке, всегда думала: вот здесь могила Снежка. Но время шло, где это место, забылось, и теперь, в разгар лета, когда трава выросла, найти могилу стало трудно. Эта часть сада так заросла, что она не могла различить, где кончается тропинка и начинается цветочная клумба. Там рос раскидистый куст кошачьей мяты, значит, могила должна быть где-то рядом, потому что Снежок любил валяться здесь, но теперь ничего нельзя было разобрать, хотя Марсия разводила руками сорняк и листья. Потом ей пришло в голову, что если взрыхлить землю в этом месте, то могила обязательно обнаружится, может, она откопает клочок голубого репса, а потом даже и кости.
Марсия зашла в сарайчик и вынесла оттуда лопату, но лопата была очень тяжелая, и если раньше она могла орудовать ею, то теперь такая тяжесть стала уже не под силу. Это, конечно, после операции, подумала она, снова пытаясь копнуть землю и подрубить густые заросли сорняка: одуванчиков, вьюнка и чертополоха — растений с крепкими перепутавшимися корнями.
Вот тут Присцилла и увидела, как она стоит скрючившись в дальнем конце сада. Что ей там понадобилось, копает такой тяжелой лопатой! Вот морока! Одно расстройство с ней! Старые люди — особенно мисс Айвори — вечно у нее на совести. Мисс Айвори не только их соседка, она еще и «неблагополучная», по словам Дженис Бребнер, хотя что это значит, Присцилла едва ли себе представляла. Но тут есть, о чем тревожиться. Правда, Найджел предлагал мисс Айвори скосить заросли у нее на лужайке, но она предпочла оставить все как есть, а пожилым людям нельзя перечить. Независимость — это последнее их сокровище, и его надо уважать. А все-таки, может, немножко помочь ей по саду, ну, например, вскопать что-нибудь… но только не сейчас, когда Присцилла ждет гостей к обеду и надо еще сделать салат из авокадо и приготовить майонез. В такой хороший вечер неплохо бы подать коктейли в маленьком патио, который они сами у себя устроили, но вид запущенного садика соседки нарушит всю элегантность приема гостей, а если мисс Айвори, как на грех, будет рыть там землю, тогда надо что-то предпринять.
Но вот, к облегчению Присциллы, мисс Айвори пошла в дом, волоча за собой тяжелую лопату. Остается только надеяться, что она знает, что делает.
Очутившись у себя в кухне, Марсия не могла сообразить, зачем ей понадобилось выходить в сад, потом увидела кошачье блюдце, отмокающее в раковине, и все вспомнила. Никаких следов могилы она не нашла, а копать дальше у нее не хватит сил. Надо бы поесть, но готовить себе что-нибудь слишком хлопотно, открывать консервную банку и трогать свои запасы ей не хотелось. И она заварила чай и положила в чашку много сахару, как в больнице. «Чашечку чаю, мисс Айвори? А сахару, милая?» С теплым чувством Марсия вспомнила те дни и ту славную женщину — ее звали Нэнси, — и как она разносила всем чай.
В тот же летний вечер Летти, миссис Поуп и та маленькая пушистая миссис Массон разбирали вещи, присланные в ответ на воззвание о помощи престарелым беженцам.
— Что бы вы подумали, если б вам пожертвовали вот такую штучку? — спросила миссис Поуп, показывая им ярко-красную мини-юбку. — Люди просто понятия не имеют, что тут нужно.
— Среди восточных женщин есть совсем маленькие, — неуверенно проговорила Летти. — Может, кому-нибудь и подойдет. Правда, трудно сказать, что им нужно… Как-то не видишь, какие они… — Те ужасы, которые показывали по телевизору у миссис Поуп, трудно было увязать с явно неподходящей одеждой, ворохом лежавшей на полу в столовой миссис Массон. Миссис Поуп отказалась держать у себя эти вещи. «Кому придет в голову, что женщина, которой за восемьдесят…» — заявила она, и, конечно, в этом был какой-то резон, только не совсем ясно, какой именно. Летти подозревала, что глубоко укоренившийся страх перед «лихорадкой и всякой заразой» не позволял миссис Поуп слишком близко соприкасаться с чужой, ношеной одеждой. Что же до того, почему женщина, которой за восемьдесят, хранит у себя столько старья, это никого не касалось — миссис Поуп всегда поступала так, как ей вздумается, и Летти решила, что старость дает какие-то преимущества, хоть и немногочисленные.
Все месяцы после ухода на пенсию Летти всячески старалась войти в жизнь северо-западного лондонского пригорода, где она жила теперь. Это значило, как рисовал себе Эдвин, что ей надо посещать церковные службы и, сидя подальше, где-нибудь на задней скамье, стараться понять, что церковь дает людям, помимо привычки и соблюдения обрядов, и даст ли она что-нибудь ей самой, и если даст, то какие формы это примет. Однажды холодным мартовским вечером она присоединилась к небольшой группе — их собралось не больше двух-трех человек — и обошла все четырнадцать изображений Христа, молясь около каждого. Это было в среду на третьей неделе Великого поста; накануне выпал снег и, не тая, плотно лежал на земле. В церкви было очень холодно. Старухи опускались у каждого креста, колени у них похрустывали при этом, вставая, они цеплялись за край скамьи. «Страдания, страдания, о горе, горе нам…» — повторяли они, но все мысли Летти сосредоточивались только на ней самой и на том, как ей прожить остаток своих дней. На Пасху в церкви было, конечно, лучше, всюду нарциссы, молящиеся принаряжены, но в Духов день стоял холод, небо свинцово-серое, отопление выключено. Но разве же люди ходят в церковь только потому, что тут светло, тепло, можно выпить кофе после воскресной службы и услышать дружеские слова священника?
Как-то раз Эдвин пришел в эту церковь, и Летти так тепло встретила его, что он, наверно, испугался, потому что больше сюда не приходил. «Да он по всем церквам ходит, куда захочет, туда и идет», — сказал кто-то, но Летти и сама знала, что так оно и есть. Даже отец Г. не мог похвалиться его безраздельной преданностью. «Он вдовец, — сказала миссис Поуп. — Вы, конечно, знаете это, ведь работали вместе. Он так старался подыскать вам комнату, когда тот, черный, купил дом, где вы жили. Очень хорошего мнения о вас, так тепло отзывался». В устах миссис Поуп этим многое было сказано, но весьма сомнительная перспектива прикоснуться к «теплу» Эдвина не согрела холодного сердца Летти.
Теперь по крайней мере она чувствовала, что занята делом, помогает разбирать и упаковывать одежду для престарелых беженцев. Конечно, лучше бы помочь кому-нибудь поближе к дому, представить себе людей, которые будут носить эти вещи, даже ту ярко-красную мини-юбку, но так не получалось. Все мало-мальски пригодное заталкивали в черные пластиковые мешки, а непригодное откладывали в сторону на распродажу.
— Вам, конечно, придется сделать у себя генеральную уборку после всего этого, — сказала миссис Поуп, и миссис Массон согласилась с ней, но все же нашла нужным добавить, что комнату она и так убирает каждый день.
— А нельзя ли, чтобы эта одежда поступала прямо в церковь? — предложила Летти.
— Да нет, что вы такое говорите! — сказала миссис Поуп, но Летти, только-только приобщившаяся к церковным делам, не постигла еще всех их сложностей и не могла разрешить эту задачу. Все, что тебе кажется возможным, на деле выходит совсем по-другому.
— Какой чудесный вечер! — сказала Летти, глядя в окно. — А ракитник-то как расцвел!
Возвращаясь с работы домой, Норман не обратил внимания на цветущий в сквере ракитник, но возрадовался сердцем, увидев, что старую машину, брошенную здесь с неделю назад, наконец-то убрали. Норман обращался по этому поводу и в полицию, и в муниципалитет, и в такой погожий летний вечер ему было особенно приятно убедиться, что он чего-то достиг, а это чувство навещало его не так часто. За этим последовала какая-то неуспокоенность, и, поджарив бекон с помидорами, открыв небольшую баночку своей любимой фасоли, он почувствовал, что не усидит у себя в спальне-гостиной, читая «Ивнинг стандард» и слушая радио. Ему захотелось выйти из дому, поехать автобусом в другую часть Лондона — любым автобусом, первым, который подойдет, если автобус вообще соизволит подойти, добавил он иронически.
Автобус все-таки подошел, Норман сел и взял билет до Клэпем-Коммон, вспомнив тут же, что в тех местах живет Эдвин, хотя они вряд ли сейчас столкнутся. Эдвин, наверно, на какой-нибудь особенной службе в одной из своих многих церквей.
Поднявшись на второй этаж автобуса, Норман приготовился ехать долго, во всяком случае за долгую поездку и было заплачено, подумалось ему. Сел он на переднее сиденье, точно турист, обозревающий Лондон, и стал смотреть на то, что проходило перед ним, что открывалось его глазам — на хорошо знакомые места, здания, реку. Потом пошли сады и люди, приводящие в порядок лужайки и садовые изгороди, а на обочинах дорог — мужчины, занятые ритуальным обрядом возни со своими машинами. Доехав до более или менее подходящей остановки, он вышел из автобуса и отправился напрямик, куда глаза глядят. Теперь ему было не совсем ясно, что его привело сюда, что ему здесь — именно «здесь» — понадобилось, Свернув с лужайки, он вошел в переулок и так же, как Эдвин с месяц назад, увидел дощечку с названием улицы, где жила Марсия. Но в противоположность Эдвину Норман не удалился прочь, а пошел по этой улице, сам не зная, с какой целью. Он, конечно, не собирался заходить к Марсии, не помнил даже номера ее дома. Но неужели дом Марсии нельзя будет отличить от соседних? — спросил Норман самого себя. Он, наверно, выделяется среди изощренно безвкусных пригородных «полуотдельных» викторианских строений? У каждого такого дверь, окрашенная в пастельные тона, старинные фонари у входа, асфальтированный патио, гараж.
И он оказался прав. Дом Марсии с облупившейся краской зеленого и кремового цвета, пыльным лавровым кустарником и грязными занавесками нельзя было не заметить. Норман стоял на другой стороне улицы и смотрел на него как зачарованный, так же, как на мумии зверей в Британском музее. Дом казался нежилым, занавески задернуты не до конца, и в такой теплый вечер — ни щелочки в окнах. Сад, насколько Норману было видно, совершенно запущен, но великолепный старый ракитник стоял в пышном цвету. Его ветки никли к полуразвалившемуся сарайчику, и вдруг Норман увидел у этого сарайчика Марсию с полными руками молочных бутылок. Волосы у нее сильно поседели, на ней было старенькое ситцевое платье в крупных розовых цветах. Зрелище это настолько ошеломило Нормана, что он словно прирос к месту. Ему показалось, что она увидела его, и с минуту оба они стояли, как он тогда у витрины с мумиями зверей в Британском музее, не подавая виду, что узнали друг друга. Потом Марсия исчезла, должно быть, зашла в дом с заднего хода, подумал Норман.
Он перешел; улицу, не зная, как ему поступить дальше. Подойти к двери, позвонить, объявиться? Подсознательно его тянуло убежать, но, не успев ничего решить, он увидел, как с другой стороны к дому Марсии подходит молодая женщина. Она шла, видимо, по делу и, увидев Нормана, задержавшегося у этого дома, строго спросила его: — Вам кто-нибудь тут нужен?
— Нет, я просто гуляю, — поторопился ответить Норман.
— Я наблюдала за вами, — продолжала Дженис. — Вы кого-нибудь знаете тут?
— А вам какое дело? — отрезал Норман.
— Мы должны быть настороже. Ничего не поделаешь, приходится. Последнее время тут было несколько ограблений.
— Прелестно! — вырвалось у Нормана. — Вот уж не думал, что у Марсии Айвори есть что красть.
— Ах, вы ее знаете? Тогда извините меня, но теперь такие происходят дела, что поневоле становишься подозрительной. — Дженис улыбнулась. — Я ведь сама собираюсь зайти к мисс Айвори. Я общественница из Центра.
— Присматриваете за ней?
— Точно. Навещаю время от времени.
— Вот и прекрасно. Ну, всего хорошего. Я пойду. — Норман шагнул в сторону.
— А вы не повидаете ее, раз уж пришли? — спросила Дженис.
— Я ее уже повидал, — сказал Норман, успев отойти подальше. И, собственно говоря, так оно и было. Этого зрелища — Марсия с молочными бутылками — оказалось вполне достаточно, чтобы сказать: я ее уже повидал. Что раз видал, того уж не забудешь, подумал Норман. По крайней мере теперь можно сказать Эдвину, что хотя дом Марсии с виду несколько дерьмовый, как сейчас выражаются, но за ней приглядывает бойкая общественница. Он, конечно, не скажет Эдвину о своей вечерней прогулке — как объяснишь, что ему понадобилось в этом районе Лондона, почему его туда вдруг понесло? Было такое, и все тут, но Эдвину этого не понять.
А тем бременем Дженис весело сообщила Марсии: — Оказывается, у вас был гость.
Марсия холодно уставилась на нее, как это всегда бывало, когда к ней обращались с каким-нибудь вопросом или замечанием.
— Тот джентльмен, которого я встретила на улице.
— Ах, этот! — презрительно сказала Марсия. — Мы с ним работали вместе. Мне такие посетители не нужны.
Дженис вздохнула. Продолжать разговор об этом забавном человечке явно не стоило. — Ну, а как ваши дела? — спросила она. — Ходили сегодня за покупками?
17
Гуляя в лесу, Летти набрела на лужайку, заросшую диким чесноком. — Вот прелесть! — воскликнула она.
— А ты бы видела, какие здесь цвели колокольчики! — восторженно проговорила Марджори, как и подобает собственнически настроенной жительнице сельских мест. — В этом году они были изумительные, а теперь почти сошли. Тебе надо бы приехать недели две назад, когда они стояли во всей красе.
А ты меня не приглашала, подумала Летти, потому что только теперь, когда Дэвид уехал навестить свою мать (которой под девяносто, вспомнилось Летти), Марджори написала ей, спрашивая, не хочет ли она провести несколько дней за городом.
— Мы с тобой почти как в прежние времена, — продолжала Марджори.
— Да, пожалуй, — согласилась Летти, отметив мысленно словечко «почти». — Но за эти годы столько всего было.
— Правда, правда! Кто бы мог подумать!.. Когда я впервые встретилась с Дэвидом, мне и в голову не пришло… — Марджори пустилась в воспоминания о первой встрече и о дальнейшем развитии отношений с человеком, за которого она собирается замуж. Летти дала ей сколько угодно болтать, а сама смотрела на все вокруг, вспоминая, какой тут был осенний ковер буковой листвы, и думала: а что, если лечь здесь и лежать, готовясь к смерти, когда выносить эту жизнь станет трудно? Находили ль когда-нибудь старого человека, конечно пенсионера, который дошел до такого состояния? Вряд ли пролежишь здесь, никем не обнаруженная, потому что в этот лесок любят выводить своих собак их суматошные хозяйки. О том, чтобы поговорить на эту тему с Марджори, и думать нечего, и самой в нее вникать тоже не годится. Тут маячит опасность.
Марджори все еще не оставила мысли устроить Летти в Холмхерсте, и в тот вечер они должны были ужинать у тамошней заведующей мисс Даути.
Бет Даути — женщина лет сорока пяти, с пронзительным взглядом, была нарядно одета, причесана волосок к волоску и сильно накрашена, что, как ни удивительно, придавало ее облику некую старомодность, Она то и дело подливала себе в рюмку джина, объясняя это тем, что на такой работе трудно обходиться без «моральной поддержки», как это почему-то у нее называлось. Летти поймала себя на мысли, хорошо ли относится мисс Даути к пожилым людям, но, может быть, оборотистость важнее, чем добрые чувства, а эта женщина производила впечатление особы весьма деловитой.
— Как вы думаете, Летти может рассчитывать на комнату в Холмхерсте? — спросила Марджори. — Вы говорили, что у вас скоро освободится место.
— После Лондона вам у нас не понравится, — заявила Бет. — Вы взгляните, какие они. Подойдите к окну.
Летти остановилась у окна с рюмкой в руках. Три старые женщины — не компанейским числом трое — медленно шли по саду. Ничего примечательного в этих старушках не было, разве только чувствовалась в них полная отчужденность от любого проявления жизни. И Летти вдруг рассердилась на Марджори, которая считает, что Летти удовольствуется таким существованием, а сама выходит замуж за весьма привлекательного священника. Все складывается точно так, как было сорок лет назад, когда Летти вечно тащилась и хвосте за своей приятельницей, но теперь можно обойтись и без этого. Когда Бет снова подлила ей в рюмку, она решила, что комната в Холмхерсте ей совершенно не нужна — лучше лечь и лежать в лесу, укрывшись буковой листвой и папоротником, и спокойно ждать смерти.
— Это одно из самых любимых кушаний отца Лиделла, — сказала Бет, подавая на стол небольшую, покрытую крышкой кастрюлю из керамики. — Цыпленок под бешамелью. Надеюсь, вы тоже это любите?
— Да, да, — пробормотала Летти, вспоминая то время, когда она ела цыпленка под бешамелью у Марджори. Неужели Дэвид обходит весь поселок и снимает пробу со стряпни одиноких женщин, прежде чем решить, на ком из них остановить свой выбор? Блюдо, которое они ели сегодня вечером, отвечало всем требованиям кулинарии.
Придя домой, Марджори сказала: — Смешно получилось с этим цыпленком! Бет дала нам понять, что она приглашала Дэвида к столу. Знала бы ты, как она за него цепляется!
— И вино, что мы пили… по-моему, — орвието?
— Да, вино тоже его любимое. Как это все забавно, ты не находишь?
Летти ничего такого не находила, потому что этот нелепый эпизодик намекал на нечто более серьезное, во что ей не хотелось вникать.
— Не понимаю, как Бет Даути может позволить себе угощать джином, — продолжала Марджори. — Он теперь так вздорожал. Хорошо, что Дэвид не употребляет спиртного.
— И слава тебе боже! — согласилась с ней Летти, сразу почувствовав что-то неладное в соседстве спиртного с божеским, но не в силах подыскать подходящую замену такому сочетанию.
В тот вечер Марсия отправилась к врачу. Заранее она не записалась и даже не знала, к кому из трех врачей попадет на прием, но это не имело особого значения, так как мистера Стронга среди них не было. Ей ничего не стоило просидеть там часа два, даже не полистав растрепанных журналов, она просто наблюдала за теми, кто ждет приема. Многим из них, по ее мнению, нечего тут было делать. Она прикидывала, скольким из этих людей, если таковые вообще имелись, пришлось, как ей, побывать на операционном столе. Большинство были люди молодые, будто прямо с работы и будто ничего у них никогда не болело. Все, что им требуется, — это справки. Только зря отнимают время у врача, думала она. И не удивительно, что Государственная служба здравоохранения испытывает финансовые трудности.
Когда выкликнули ее имя, Марсия все еще не успокоилась, и, будь за столиком молодая врачиха или та, сладкоголосая, с Ближнего Востока, она распалилась бы еще больше. Но это была не та и не другая, это был тот, кого она называла «мой собственный врач», человек средних лет, мягкий, внимательный. Он и уложил ее тогда в больницу, он первый и обнаружил опухоль у нее на груди.
— А-а, мисс Айвори… — Его руки перебрали бумаги на столе. — Ну-с, как наши дела? — Мастэктомия, вспомнил он. Пациентка трудная, со странностями. Диагноз быстрый, но точный. — Как вы себя чувствуете?
Марсии только это и требовалось, и она начала свой рассказ. То, о чем она говорила, было бессвязно и даже не по существу, но у доктора создалось впечатление, что тут действительно что-то неладно. Она жаловалась на какую-то общественницу, на соседей, которые хотели скосить траву у нее на лужайке, на то, что ей не удалось найти могилку своего кота, высказала подозрение, что «кто-то» перенес ее на другое место, говорила, как трудно ей вести счет бутылкам из-под молока, говорила и о человеке, с которым она когда-то работала, а теперь он приходит шпионить за ней, и о том, что филиал магазина Сейнзбери недалеко от их конторы теперь закрыли, — и все эти жалобы были свалены в кучу.
Врач, привыкший к откровениям своих пациентов, слушал все это краем уха, а сам осматривал ее, проверял давление и не знал, что ему с ней делать. Она сказала, что скоро ее вызовут на очередной осмотр, и это несколько развязало ему руки. Ребята Стронга, несомненно, что-нибудь придумают. А сейчас он убеждал ее подумать о себе и побольше есть — очень уж она худенькая.
— Я никогда много не ела, — как всегда горделиво, заявила Марсия. — Но никто не упрекнет меня в том, что я плохо питаюсь. Вы бы видели мои запасы в шкафу!
— Я не сомневаюсь, что вы прекрасная хозяйка, — дипломатично ответил ей врач. — Но дайте мне слово, что, придя домой, вы приготовите себе сытный обед. Не чашечку чая и не кусочек хлебца с маслом, мисс Айвори! Не знаю, что скажет мистер Стронг, когда увидит, как вы похудели.
Имя мистера Стронга возымело свое действие, и Марсия заверила врача, что, вернувшись домой, она приготовит себе что-нибудь. Всю дорогу она думала о мистере Стронге и о том, что, вернее всего, подадут у него сегодня к обеду — может быть, бифштекс или какую-нибудь вкусную рыбу, лососину или палтус, и гарнир из свежих овощей с собственного огорода. Овощи там, конечно, посажены, хотя, когда она ходила в прошлом году посмотреть на его дом, ей не было видно, что растет в дальнем конце сада. Теперь, может, она увидит, есть ли там бобы и салат или капуста и спаржа. Марсия так давно не занималась огородными делами, что затруднялась вспомнить, какие овощи сейчас по сезону. А что, если съездить туда на автобусе и посмотреть? Может, там есть боковой вход на участок и оттуда будет виден конец сада?..
Уже темнело, и, пока она раздумывала, к остановке подошел автобус, освещенный изнутри точно сказочный галеон, который только и ждет, чтобы посадить ее и повезти на поиски чудес. В его блистающем нутре переговаривались и показывали друг другу свои покупки женщины, возвращающиеся после четвергового похода по магазинам Вест-Энда. Только транжирят деньги, подумала Марсия, садясь на переднее сиденье, чтобы не иметь ничего общего с этими болтушками.
Подъехав к остановке у дома мистера Стронга, она поняла, что если отсюда и будут видны грядки с овощами, то разглядеть в такой темноте, какие там овощи, не удастся, и к тому же она и не помнила, почему ей захотелось посмотреть, что там растет. Может быть, и огорода никакого нет, только лужайка с цветочным бордюром или даже теннисный корт. Но теперь это неважно, подумала она, подходя к дому, потому что он был ярко освещен, как автобус, как огромный океанский лайнер вроде «Королевы Марии», а никакой не галеон, и элегантно одетые люди выходили из машин и шли по дорожке к дому. У супругов Стронг, очевидно, был прием.
Марсия стояла на тротуаре по другую сторону улицы, инстинктивно спрятавшись в темноте под деревом, подальше от уличного фонаря. Гости званы к обеду или на вечерний прием? Где ей было знать, какой прием может устроить мистер Стронг, ведь единственное, что она могла вспомнить, — это когда подают «вино и сыр», но такое угощение было недостойно мистера Стронга.
Когда Марсия лежала в больнице, у них в палате, конечно, шли разговоры о врачах-консультантах, которые совершали обходы больных. Больные обсуждали их жен, их семейные дела. Некоторые из этих консультантов, разумеется, были женаты на женщинах-врачах или на медицинских сестрах, на тех женщинах, с которыми они встречались по работе, но о мистере Стронге все говорили, что ему повезло, ходили слухи, будто он женат на дочери дипломата, у которого дом на Белгрейв-сквер. Марсия не очень-то полагалась на эти сведения, и вообще ей не хотелось раздумывать о жене мистера Стронга, но сейчас, глядя на подъезжающих к дому гостей, она была готова поверить, что доля правды в этих пересудах есть. Она стояла как во сне, стояла и смотрела, пока машины не стали подъезжать реже и реже — видимо, скоро их больше не будет.
Потом ей вдруг вспомнился Норман, и то, как она увидела его на другой стороне улицы, когда шла с молочными бутылками в свой сарайчик. Ее тогда возмутило, что Норман очутился там, возмутил назойливый интерес, который он проявляет к ее делам. Неужели и ей можно приписать такую же назойливость только потому, что она стоит сейчас здесь?
Она еще раз взглянула на дом мистера Стронга, потом перешла улицу, чтобы слышать голоса и смех, доносившиеся из комнаты на первом этаже. Потом медленно побрела к автобусной остановке. По счастью, подходил нужный номер, и она припустилась бегом, чтобы попасть на него.
Это было ей не по силам, и она повалилась на ближайшее сиденье, ничего не соображая и даже не взяв билета. Но через минуту-другую пришла в себя — отчасти из самозащиты, негодуя на кондукторшу, которая громогласно спросила ее: — Все в порядке, милочка?
— Конечно, в порядке, — сухо ответила она.
Но, придя домой, она поняла, что поход к врачу и потом к дому мистера Стронга утомил ее больше, чем всегда. «Ну что ж, удивляться тут нечему…» — вспомнилась ей реплика Нормана. И еще: «Выложились до конца», — говаривал он.
Сидя за кухонным столом, она вспомнила, что пообещала врачу приготовить себе сытную еду, придя домой, но ей даже думать о стряпне было невыносимо. Пожилым людям вообще не следует много есть, неужели врач сам этого не понимает? Чашку чая? Безусловно. Чай подбадривает, а с тех пор, как она обзавелась пакетиками с заваркой, чаепитие стало куда проще. В магазине самообслуживания она купила упаковку со 144 пакетиками, и этого ей хватит недель на семь минус один день. Но до тех пор надо еще побывать в больнице; карточка с датой вызова в клинику мистера Стронга стояла у нее на каминной доске. Правда, такие напоминания совершенно излишни, особенно после того, что она видела сегодня.
Эта мысль побудила ее подойти к стенному шкафу и выбрать там консервную банку. Вот сардины из запасов для Снежка, но может, лучше взять «Мясо на завтрак»? При банке был ключик, но не успела она повернуть его несколько раз, как он сломался, и у нее не хватило сил возиться с банкой дальше. Она оставила ее, полуоткрытую, на сушильной доске рядом с раковиной и ограничилась тем, что ей, собственно, и требовалось, — двумя-тремя послабляющими галетами.
— Значит, вы не зашли к ней и не сказались? — спросил Нормана Эдвин.
— За кого вы меня принимаете? Можете себе представить, какую встречу мне бы там оказали? Она стояла около сарайчика с полными руками молочных бутылок и, наверно, видела меня.
— Да, зная Марсию, можно понять, почему вы не захотели врываться к ней незваным.
— Врываться! — сказал Норман со своим обычным ироническим смешком. — Самое подходящее выражение! Я встретил там эту общественницу, и она приняла меня за наводчика.
— Присматривает за ней? И правильно делает, сейчас такое время, нельзя рисковать, — сказал Эдвин. — Я пройду там как-нибудь вечером, посмотрю, может, ей надо будет помочь.
Но Эдвин, конечно, не представлял себе, чем бы он смог «помочь» Марсии, если бы ей понадобилась помощь. Сама по себе эта идея была маловероятна, и он высказал ее лишь для очистки совести. Но все-таки они с Норманом работали вместе с Марсией, и человек посторонний счел бы их обязанными помочь ей или по крайней мере предложить свою помощь. Выразить готовность, как сказал бы Норман. Но в тот вечер, в день Тела Господня, в приходской церкви Эдвина должна была состояться служба, с крестным ходом, который начнется в восемь часов и продлится, пожалуй, не меньше часа. После службы они с отцом Г. отправятся в пивную, так что зайти к Марсии ему будет некогда. Не лучше ли отложить это на конец недели — на субботу днем или на воскресенье перед вечерней? Тогда можно будет не засиживаться у нее.
— Я там редко бываю, — уточнил Норман. — Меня Клэпем не манит.
— Да, вам ближе к Летти, — сказал Эдвин.
— Ну и что из этого? Неужели вы предлагаете мне заглянуть к ней?
Неизвестно почему, но эта мысль рассмешила их обоих, и то, что вначале было попыткой разрешить серьезную задачу, обернулось шуточкой. Но почему это развеселило их? — удивился Норман. Ничего смешного тут нет. Может, это чисто нервное, но при чем тут нервы? Скорее подсознательное, сказал Эдвин, и то, что Летти и Марсия проникли в их подсознание, рассмешило обоих еще больше. О таких вещах они не привыкли ни рассуждать, ни даже задумываться.
18
— Мисс Айвори, вы не откроете мне? — Стоя на крыльце ее дома, Дженис думала: «А навестил ли кто-нибудь Марсию за те две недели, что я пробыла в Греции? Вряд ли, ведь Марсия хоть и со странностями, но не инвалидка и сама справляется со своими делами. Да, нечего сказать, вот как мне повезло!»
В садиках вдоль улицы пестрели поздние летние цветы — георгины и астры, ранние хризантемы, розы повторного цветения, — и даже за домом Марсии, вокруг того, что называлось у Присциллы и Найджела «бутылочным сарайчиком», росли высокие желтые ромашки. Присцилла и Найджел никогда не бывали в этом сарайчике, но часто видели, как Марсия то входит, то выходит оттуда с бутылками в руках. На это занятие она тратит чуть не все время. Занятие довольно сумасбродное, но, в сущности, безобидное, и чем оно хуже других человеческих увлечений, таких, как собирание спичечных коробок или сигаретных этикеток? Нужно уважать в человеке личность. И если знакомство с Марсией чему-нибудь и научило Дженис, то по крайней мере этому. И все-таки она чувствовала, что надо попытаться уговорить ее уехать куда-нибудь на отдых. Конечно, не в Грецию, вообще не «за границу», — трудно себе представить, что Марсия сидит в таверне и ест не мясное блюдо с двумя овощными гарнирами, а осьминога или что-нибудь в этом роде. Но несколько дней в Борнмуте или туристская поездка в Котсуолдские Холмы подкрепят ее на всю зиму.
— Мисс Айвори! — Дженис снова нажала звонок и постучалась в дверь. Неужели она вышла?.. Хотя кто ее знает! Попробовать, может, не заперто? Дженис толкнула дверь, но она была на запоре. Надо попытаться войти с заднего хода, хотя если Марсия вышла, то задняя дверь тоже должна быть заперта. Будь Найджел или Присцилла в городе, у них все можно было бы узнать, но ведь они в Сардинии, лежат где-нибудь на пляже и даже не думают о своем модном домике рядом с лужайкой в развивающемся районе и об этой странной женщине, своей соседке. Да, в отпуске уходишь мыслями от всех этих дел, не без горечи подумала Дженис.
И тут она увидела несколько бутылок молока — не на крыльце, а за углом дома, в маленьком деревянном ящике, где, видимо, Марсии оставляли молоко, чтобы бутылки стояли в тени и чтобы их не украли, пока она на работе. Это испугало Дженис, и она побежала к задней двери — а вдруг Марсия лежит больная и не может даже спуститься вниз за молоком? Если войти в дом в ту дверь, можно будет окликнуть ее, и, если Марсия лежит в постели, она отзовется. А вдруг она упала и не может двинуться с места, не может добраться до телефона? Да есть ли у нее телефон? Может быть, и нет. Соседи в отъезде, и она так и будет лежать без помощи… В теории Дженис представляла себе любую ситуацию, все, что могло случиться, но, заглянув в стекло задней двери, она никак не была готова к тому, что увидела — Марсия, уронив голову, сидела за столом без сознания, а может быть, даже и мертвая.
Дженис осторожно постучала в дверь, испуганно позвала: — Мисс Айвори! — не надеясь на ответ, не желая даже его услышать, и увидела на столе чайную чашку и банку галет «Семейное ассорти». Потом тронула дверную ручку. Ручка подалась, и она убедилась, что ничто ей не мешает войти в дом.
— Но ведь она не моего прихода, — с некоторым раздражением проговорил отец Г. — Знаете, как у нас разграничивают приходы: одна улица входит, а соседняя — нет.
— Конечно, знаю, — сказал Эдвин. — Просто я решил прогуляться в этом направлении и подумал, может, вы тоже со мной пойдете… А что — вечер теплый, в самый раз погулять. Она, правда, женщина со странностями, я вам рассказывал. Может быть, даже не пригласит нас войти.
— А кто ближний мой? — задумчиво проговорил отец Г., когда они вышли на улицу, где жила Марсия. — Сколько мне приходилось читать проповедей на эту тему! Может быть, вот тут мы и совершаем ошибку… да, именно тут. Сказал же я вам, что женщина, о которой идет речь, не моего прихода.
— Ну так числится в другом приходе, — заметил Эдвин.
— Безусловно, — не задумываясь, ответил отец Г. и назвал имя одного весьма популярного в этих местах священника. — Но по-моему, он не очень-то любит посещать своих прихожан. Пижон Тони, — добавил он, не удержавшись от нелестного комментария. — Рок-н-ролл и вольные импровизации вместо молитвенных текстов.
— Правда, ее навещает одна общественница, как говорится, приглядывает за ней, но я видел ее несколько месяцев назад — мы завтракали вчетвером… и тогда же подумал, может, надо что-то сделать, как-то помочь.
— А вы говорили еще про какую-то другую женщину, которая там у вас работала… Казалось бы, она… — не договорил отец Г., исполненный блаженной веры в то, что на женские плечи можно взвалить многое.
— Да, казалось бы… — Эдвин улыбнулся. — Но вы не знаете Марсии — мисс Айвори. Да, собственно, кто ее знает!
— И кого мы вообще знаем? — сказал отец Г., едва ли способствуя разгадке проблемы «Марсия».
— Ну, кажется, пришли. Вот ее дом, видите, как он отличается от соседних, сам о себе говорит.
Отец Г. привык бывать в убогих домишках, но тут и он признал, что дом Марсии действительно отличается от других домов на этой улице. — Ступайте к двери, — сказал он. — Вы-то знакомы, а если она человек трудный, мое появление может ее отпугнуть. Пожалуй, и не откроет нам.
Выйдя из-за дома, Дженис скорее обрадовалась, чем испугалась, увидев за спиной Эдвина отца Г. в его священническом одеянии. Хотя она не слишком жаловала англиканскую церковь и вообще религию, если не считать безобидного суеверного почтения к тем, кто сходил у нее за «католиков», все же ей не пришло бы в голову отрицать, что иной раз и от религии бывает польза. Почтенный на вид человек — таким выглядел в ее глазах Эдвин — явился в сопровождении священника. Это успокоило ее. Они-то, наверно, знают, как тут надо поступить.
— Вы пришли к мисс Айвори? — сказала Дженис. — По-моему, там что-то случилось… Мисс Айвори заболела или… — Ей не хотелось говорить «умерла». — Она на кухне, сидит за столом и не шевелится. Я через стекло ее увидела. Как раз хотела позвать кого-нибудь, чтобы помогли…
И надо сказать, Дженис не могла бы найти более подходящих помощников, чем эти двое. Несколько лет назад, вернувшись вечером домой, Эдвин обнаружил, что его жена Филлис, не успев поставить в духовку картофельную запеканку, лежит без сознания на кухне. Отцу Г. часто приходилось входить в дома умирающих или уже умерших; вообще-то он предпочитал такую ситуацию своим обычным посещениям прихожан, когда надо было вести напряженную беседу за неизбежной чашкой чая со сдобным печеньем. Следовательно, и тот и другой вполне могли принять необходимые меры.
Но главное заключалось в том, что Марсия была жива. Она даже слабо улыбнулась Дженис, которая хлопотала, укладывая в чемодан ее вещи для больницы, пока они ждали санитарную машину.
— Поразительно! — рассказывала потом Дженис. — Я собирала, что ей взять с собой, выдвинула один ящик, а в нем полно ночных рубашек от Маркса и Спаркса. Никогда бы не подумала, что мисс Айвори носит такие, судя по тому, как она одевается. Все новенькие, ненадеванные, она, наверно, берегла их для какого-то особого случая.
Когда санитарная машина уехала, увозя Марсию и Дженис, мужчины остались в доме одни. Они сидели на кухне, где Дженис подавала им чай. После того как Марсию увезли, Эдвин почувствовал себя неловко, как будто он не имел права сидеть в доме Марсии, ни разу не побывав у нее до этого.
— Странно складываются отношения с женщинами, когда вы работаете вместе, — сказал он. — В рабочие часы вы с ними держитесь по-свойски, а вне конторы решительно все меняется… И не берешь на себя смелости… — Он вспомнил, как они с Норманом расхохотались при одной только мысли, что Норман мог бы зайти к Летти или что внутри их четверки существует какой-то контакт. Визит к Марсии всегда устрашал их, и они старались даже не думать об этом.
— А вы никогда не бывали у нее, ведь живете совсем рядом, всего несколько шагов через лужайку? — не попрекнул Эдвина, а просто осведомился отец Г.
— Да собирался… раза два даже подходил к дому, но так и не зашел.
Отец Г. допил чай и встал из-за стола с чашкой в руке. — Как по-вашему…
— Вымыть? Да нет, наверно мисс Бребнер сама этим займется. Не будем вмешиваться.
И они вышли из дома, не забыв запереть за собой дверь. Ни один из них и словом не обмолвился о том, в каком состоянии были кухня и прихожая, о пылище всюду и о других свидетельствах давней запущенности этого жилья. Отец Г. просто ничего такого не замечал, а Эдвин, чувствуя, что тут не все ладно, старался не вникать в эти дела, так же как не вникал он и в другие стороны жизни Марсии. Единственное, что привлекло здесь его внимание, был совершенный пустяк — не до конца открытая консервная банка возле раковины. Он всегда удивлялся, до чего женщины неумелый народ, когда надо открыть простую консервную баночку.
Отойдя на некоторое расстояние от дома, оба, естественно, почувствовали, что им необходимо выпить — восстановить силы и приободриться. Ведь обоим пришлось испытать такие волнения! Не думал Эдвин, что легкая прогулка через лужайку по направлению к дому Марсии кончится таким казусом. А почему, собственно, казус? Марсию застали в тяжелом состоянии, но отправили же ее на санитарной машине в больницу, где самый лучший уход за ней обеспечен. Они сделали, что могли. Тем не менее желание выпить было сильнее всего — выпить, а потом поужинать. События последнего часа оттянули вечернюю трапезу, а ведь каждому известно, что волнения влекут за собой неожиданные последствия, и не всегда самые благоприятные и желательные. В желудке у Эдвина было ощущение пустоты, и он вспомнил, что ничего не ел с самого завтрака.
— Пойдемте ко мне, поедим, что бог послал, — сказал он отцу Г., зная, что у того в доме рассчитывать на угощение не приходится. А у него, у Эдвина, по крайней мере стоят в кладовке остатки вчерашней запеканки.
— Вот спасибо… я сильно проголодался.
Эдвин разлил херес по рюмкам. Может быть, после таких волнений следовало бы выпить коньяку, подумал он. Нет, не стоит, ведь неприятности эти его самого не касались. Но связаться с Летти все-таки надо, она, верно, захочет навестить Марсию в больнице. Да собственно говоря, им всем не мешало бы побывать там, столпились бы все трое у ее постели. Снова поймав себя на улыбке, он чуть не захохотал, и, будь здесь сейчас не отец Г., а Норман, улыбка перешла бы, к его величайшему сожалению, в хохот. Все это весьма огорчительно — теперь только подумаешь о Летти и Марсии, так сразу получается какая-то комедия. Но с отцом Г. дело другое. Посреди жизни непрерывно встречается он со смертью…
— Как вы считаете, навестить мне ее в больнице? — спросил отец Г. — Это можно устроить. Тамошний капеллан мой старый приятель. Она, может быть, думает, что поскольку я был там и видел ее в таком…
— Что Марсия думает, я не берусь сказать. Но по-моему, ей будет приятно, если ее навестят, — неуверенно проговорил Эдвин. Ручаться за Марсию было трудно.
На следующее утро Эдвину пришлось рассказать обо всем Норману.
— По-моему, сумасшедший дом ей больше подходит, чем обычная больница, — грубовато проговорил Норман, может быть скрывая под грубостью какие-то неясные чувства. — Что нам полагается делать? Послать ей цветы через «Интерфлору»? Объявить в конторе подписку? — Он стоял у окна и встряхивался всем телом, точно сварливая собачонка, выскочившая из воды.
— Я куплю цветы и сам их отнесу. Больница от меня недалеко, — мягко проговорил Эдвин. — И дам знать Летти.
Норман пошарил у себя в брючном кармане и вынул монету в пятьдесят пенсов. — Скажете, что цветы от всех нас. Вот, возьмите.
— Спасибо. К ней я не стану проходить, а цветы оставлю для передачи, — сказал Эдвин. К счастью, чувство неловкости, которое вызывали у них все эти обстоятельства, не позволило им расхохотаться, чего так опасался Эдвин. Вероятно, есть все же на свете вещи — особенно больницы, — сохранившие за собой право оставаться священными.
— Идти туда и видеться с ней мне не хочется, — сказал Норман. — Я ходил в больницу, когда там лежал мой зять Кен, но у Кена больше никого нет, потом он мой кровный родственник, и навестить его все-таки надо.
Эдвин хотел было заметить, что зять не считается кровным родственником, но решил лучше промолчать, а что касается тех, у кого нет близких, то следовало бы вспомнить, что в эту категорию входит и Марсия.
Телефон зазвонил в доме миссис Поуп как раз в ту минуту, когда они с Летти усаживались перед телевизором. Последнее время так у них и было заведено, начало этому положила миссис Поуп, спросив Летти, не хочет ли она посмотреть «Новости дня» или что-нибудь общеобразовательное на культурные или научные темы, и теперь Летти почти каждый вечер спускалась вниз и смотрела все, что показывали на экране, — независимо от того, стоило это смотреть или нет.
— Вот беда, это еще кто? — сказала миссис Поуп, выходя в переднюю. — Вас спрашивают, — неодобрительным тоном бросила она Летти. — И чего это люди звонят в такое время?
Летти с извиняющимся видом пошла к телефону. В самом деле, с тех пор как изобрели телевидение, звонить людям в такое время не стоило, потому что, когда передают три программы, одну из них уж обязательно смотрят. На самые плохие передачи и то есть любители, а кто вправе судить, какая из этих программ самая плохая, какую никто не захочет смотреть.
Когда Летти вернулась в комнату, миссис Поуп выжидательно подняла на нее глаза. Летти редко вызывали по телефону, а сама она, кажется, никогда не звонила. — Голос мужской, — сказала миссис Поуп, побуждая Летти к откровенности. — Так что это была не ваша приятельница из загорода.
— Да, это Эдвин Брейтвэйт.
— Ах, мистер Брейтвэйт! — Миссис Поуп ждала, что последует дальше.
— Он сказал мне, что Марсию Айвори, которая работала у нас в конторе, увезли в больницу.
— В больницу увезли? — сразу загорелась миссис Поуп, и Летти пришлось повторить ей все, что она узнала от Эдвина: У Марсии был обморок, и они вызвали «скорую помощь». За этим последовали дальнейшие расспросы, и в конце концов Летти рассказала миссис Поуп про операцию у Марсии, добавив все подробности, которые ей были известны.
— А откуда мистер Брейтвэйт узнал об этом? — спросила миссис Поуп.
— Должно быть, он и застал ее в обмороке на кухне.
— Что-то не похоже на него, — усомнилась миссис Поуп.
— С ним, кажется, был священник… Может быть, из их прихода… решил навестить ее…
— Да, это вполне вероятно. Но может, он просто был другом этой леди? Как вы думаете? Все-таки работали вместе, жили близко…
Летти не сочла для себя возможным обсуждать эту догадку. Близкие отношения между Эдвином и Марсией? Это уже слишком. Вы бы ее видели, хотела она сказать, но сжалилась и промолчала. О человеке, который тяжело болен и лежит в больнице, такого не говорят. Но в жизни столько всего фантастического, и, может быть, у Эдвина и Марсии действительно что-то намечалось. Замужняя женщина — не надо забывать, что миссис Поуп была когда-то замужем, — вполне может уловить в отношениях между людьми разные тонкости, которые прошли бы незамеченными для неопытной Летти. Ведь существовал же когда-то мистер Поуп. Для Летти он всего лишь фотография в гостиной миссис Поуп, и нечего ей гадать, что там скрывается за этой исполненной терпения физиономией в серебряной рамке. Но теперь телевизионный экран потребовал от них обеих полного внимания.
И надо же такое совпадение! Им показали больницу, но не в обычных романтических тонах, а как царство хирургии. На экране шла операция, ее поясняли и сопровождали показом различных этапов оперативного вмешательства.
— Уму непостижимо, как они теперь наловчились! — удовлетворенно произнесла миссис Поуп. — Но вашей приятельнице это вряд ли предстоит.
— Да… — извиняющимся тоном проговорила Летти. — Вероятно, она просто лежит там в палате.
— Будь у нас цветной телевизор, — продолжала миссис Поуп, — мы бы точно знали, что там делает хирург. И кровь была бы настоящая, а не томатный кетчуп, как в этих страшных фильмах.
— А я не хочу, чтобы мне все точно показывали, — сказала Летти, отворачиваясь от крупного черно-белого кадра с пульсирующим сердцем и берясь за свое вышивание.
— Нравится вам или не нравится, все надо смотреть, — заявила миссис Поуп, приметив, что Летти отвернулась от экрана. — Нечего закрывать глаза.
Летти потянуло возразить ей: вполне можно было бы посмотреть какой-нибудь вестерн по другой программе, впрочем, и это не обязательно.
— А у мистера Брейтвэйта цветной? — спросила миссис Поуп.
Летти была вынуждена признаться, что она не знает, есть ли у Эдвина вообще телевизор. Он никогда об этом не говорил, так же как и о том, что питает какие-то чувства к Марсии. Если кто-нибудь и питал, так это Норман, подумала она, совершенно сбитая с толку.
19
Марсия всегда остро воспринимала драму, неизменно связанную с санитарной машиной, и ей даже хотелось самой проехаться в такой машине, но, когда пришел ее черед, она вряд ли могла почувствовать, что мечта, столь необычная, все же сбывается.
«Недосягаема в своих палатах», — сказал бы про нее один старый поэт, но эта палата — больничная, маленькая — вряд ли могла бы вместить в себя весь мир, как чудилось ему в его фантастических видениях. Марсия лежала под красным одеялом, и в голове у нее не возникало ни одной поэтической строки. Поникнув на кухонный стол, она сознавала, что в дом входили люди, ей казалось, что она слышит голос Эдвина, что она опять в конторе, но где же Норман? В полузабытьи она видела, как хлопочет около нее Дженис Бребнер, кажется, чем-то взволнованная. Марсия пыталась сказать ей, что наверху, в ящике комода, у нее хранится полдюжины новых ночных рубашек, ни разу не надеванных, и втолковывала про карточку на каминной доске, про ту, на которой стоит дата ее ближайшего обследования в амбулатории, но так ничего и не могла сказать. Пыталась, но и слова не вымолвила. Потом она услыхала, как Дженис болтает какие-то глупости про ночные рубашки — «новенькие, ни разу не надеванные», — и вот тут улыбнулась. Конечно, новенькие и специально припасенные ради такого случая. Она уже отрешалась от Дженис и скоро будет недосягаема для всех этих деятелей патронажной службы, которые только и знают, что пытаются заставить ее делать то, чего ей совсем не хочется, — например, ходить в Центр, и покупать свежие овощи, и ездить отдыхать куда-то.
Разочаровало ее только то, что санитарная машина шла без звонков, а ведь когда она ходила завтракать в перерыв, ей часто приходилось слышать этот волнующий трезвон, если недалеко от конторы на улице что-нибудь случалось. Но на сей раз все было спокойно, по-деловому: санитары подняли ее и опустили на койку в машине, назвали ее «милой» и сказали, что она совсем легонькая. В больнице около ее кровати столпились молодые врачи, значит, ее случай серьезный. Никого из них Марсия не припомнила, наверно, стажеры, отбывают полугодовую практику, а один из них, может, ординатор? Двое ее осмотрели, но другая пара — им следовало бы прислушаться к тому, что тут говорят, — болтала о какой-то танцульке, на которую они то ли пойдут, то ли уже ходили, и это было нехорошо с их стороны. Она твердо знала, что мистер Стронг не одобрил бы такого поведения.
Позднее, должно быть, гораздо позднее, потому что теперь это было в каком-то совсем другом месте, молодые врачи ушли, и она ждала, когда же придет мистер Стронг, и беспокоилась — а вдруг вместо него появится какой-нибудь другой хирург или обычный врач. Она, наверно, произнесла его имя вслух, потому что молодая круглолицая сестра, которая оправляла ей подушку, сказала — Не беспокойтесь, мисс Айвори, мистер Стронг будет завтра утром.
— Вам цветы, мисс Айвори! Значит, кто-то вас любит! — Громкий, веселый голос напомнил Марсии Дженис, но это была, конечно, не она. — Хризантемы! Какая прелесть! И цвет просто необычайный! Прочитать вам, милочка, что написано на карточке? Сейчас узнаете, кто вам их прислал. Тут вот что: «От Летти, Нормана и Эдвина с наилучшими пожеланиями. Надеемся на скорое выздоровление». Как мило, правда? — В представлении сестры Летти и Норман были супруги, а Эдвин их сынишка. Имя довольно редкое, такое же необычное, как розовато-лиловые хризантемы. Марсия улыбнулась, но промолчала, да сестра и не ждала от нее ответа. Бедняжка! Где ей отвечать? И уж какое тут «скорое выздоровление»!
Женщина с соседней койки с интересом приглядывалась к Марсии. Когда появляется в палате новый человек, все-таки немного легче на душе, но Марсия лежала с закрытыми глазами. Да, с этой, пожалуй, не разговоришься. Чудно, что ей прислали цветы, таким цветов обычно не присылают, а вот и еще от двоих. Сестра снова прочитала то, что было написано на карточках: букет от Дженис, анемоны, а второй (садовые цветы) от Присциллы и Найджела: «С огорчением узнали о Вашей болезни… поправляйтесь скорее». Судя по ее виду, рассчитывать на это нечего. Когда ее взвесили, в ней было всего тридцать восемь килограммов.
В дальнем конце палаты возникло движение — приближался мистер Стронг со свитой из молодых врачей и со старшей медицинской сестрой, которая катила перед собой тележку с историями болезней.
— Он здесь, милочка, — шепнула Марсии соседка, но Марсия по-прежнему лежала с закрытыми глазами, должно быть в забытьи. И все-таки она знала, что ростом он выше сопровождающих его молодых врачей и что галстук на нем зеленый.
— Мисс Айвори? А мы не ждали вас так скоро. — Голос мистера Стронга звучал ласково, тон был не укоризненный, но ей показалось, что он недоволен ею, и, открыв глаза, она увидела, что мистер Стронг, чуть нахмурившись, смотрит на нее. Потом он повернулся к старшей сестре и сказал что-то вполголоса.
— Вы сильно потеряли в весе. Наверно, не следили за собой как должно. — На этот раз в его голосе послышались строгие нотки.
Марсия хотела сказать ему, что она никогда много не ела, но не могла вымолвить ни слова.
— Ничего… Не надо говорить. — Мистер Стронг повернулся к одному из молодых врачей. — Ну-с, Брайен, история болезни у вас — послушаем, какой вы поставите диагноз.
Брайен, молодой человек с коротко подстриженными белокурыми волосами, сказал что-то на медицинском языке, но его ответ мистера Стронга не удовлетворил, и он обратился к другому врачу. Тот смешался еще больше. Пробормотал, что больная в «терминальном состоянии», употребив выражение, совершенно непонятное Марсии, до которой доносился только поток слов. Они начали настоящую дискуссию по поводу нее.
— Вы обо мне говорите? — сказала она почти шепотом.
— Да, вы у нас сегодня в центре внимания. — Но мистер Стронг сказал это очень просто, совсем не так противно и язвительно, как сказал бы Норман.
— Если сказано «Посещения не разрешаются», значит, нам и соваться туда нечего, — сказал Норман, когда они с Эдвином приканчивали свой завтрак в конторе. Поскольку мармеладных голышей в продаже не было, Эдвин протянул Норману пакетик с набором лакричных конфет, и Норман выбрал две — коричневую и черную.
— Я всегда вспоминаю ее за завтраком, — продолжал Норман. — Как она мне кофе заваривала.
— Она и себе заваривала, не только вам, — осадил его Эдвин.
— Правильно, обязательно надо было испортить мои романтические воспоминания, — с шутливой резкостью сказал Норман. — Эх, бедняга!.. Даже посетителей к ней не пускают! А что еще сестра говорила, когда вы позвонили?
— Сказала, что мисс Айвори чувствует себя удовлетворительно, — они всегда так отвечают. — Его жена Филлис, умирая, тоже «чувствовала себя удовлетворительно», но, вероятно, это один из обязательных вариантов ответа. — Ей нужен покой, никаких волнений.
— Ну еще бы! При виде нас она, конечно, взволнуется, — заметил Норман.
— Да! Еще сестра говорила, что ее очень обрадовали цветы. Такой необычный колер.
— Марсия сама так сказала?
— Нет, вряд ли… Это сестра от себя добавила. Я так понимаю, что Марсии сейчас не до разговоров… Судя по тому, в каком виде я ее тогда застал.
— Она и в конторе была не из болтливых, — задумчиво проговорил Норман. — Интересно, что там с ней будут делать?
— Сестра ничего не сказала — ни про операцию, ни вообще… Поживем — увидим. Я буду справляться о ней. Между прочим, получилось довольно неудобно. Когда я пришел туда с цветами, меня спросили, не знаю ли я, есть ли у нее родственники и кто ближайший.
— Она, должно быть, указала кого-нибудь перед операцией. Как-то раз упомянула, что у нее есть где-то двоюродная сестра.
— Вот оно что! — Эдвин несколько смутился. — Им нужен был кто-то, так сказать, тут же, на месте, и я выдал себя за родственника, — признался он. — За ближайшего. — Эти слова, произнесенные вслух, открывали неограниченные возможности.
— Уж лучше вы, чем я, — грубо сказал Норман. — Одному богу известно, во что это для вас выльется.
— Наверно, надо будет справляться о ней и прочее тому подобное… Только и всего. Это самое малое, что я мог для нее сделать.
— Не оказалось бы самое малое самым большим. Будем хоть на это надеяться, — мрачным тоном сказал Норман.
— Посещения не разрешаются? Значит, она только что после операции? — допытывалась миссис Поуп.
— Да нет, вряд ли! Это так сестра ему сказала, — ответила ей Летти.
— Знаем мы, что это значит. Попомните мои слова.
К этому времени Летти успела убедиться, что слова миссис Поуп всегда следует помнить. — Надо бы сходить туда и повидаться с ней, — сказала она, но довольно неуверенно, так как на самом деле навещать Марсию в больнице ей не хотелось, просто она чувствовала, что хотеть это надо.
— Вряд ли вас туда пустят, — сказала миссис Поуп.
— Да, судя по всему, вряд ли. Надо подумать, что ей послать, кроме цветов. — Но что? Она терялась в догадках, вспоминая свою последнюю встречу с Марсией. Туалетную воду, тальк, кусок очень хорошего мыла — все это Летти приняла бы с удовольствием, если бы сама лежала в больнице, но Марсия? — Может, какую-нибудь книгу? — с сомнением в голосе проговорила она.
— Книгу? — Тон у миссис Поуп был презрительный. — Нужна ей книга, когда посетителей не пускают.
— Да, читать она, наверно, не сможет, — согласилась Летти. И вообще, читает ли Марсия, видал ли ее кто-нибудь с книгой? В библиотеку она ходила совсем с другими целями. Она из тех, кто говорит, что у них нет времени на чтение. А ведь однажды она всех удивила, процитировав какие-то стишки, застрявшие у нее в памяти еще со школьных времен! Тогда, может, послать ей какой-нибудь сборник стихотворений в мягком переплете с красивой картинкой на обложке, конечно не слишком современной… Летти и так и сяк обдумывала это, но в конце концов остановила свой выбор на лавандовой воде — на том, чем можно освежать лоб больному, к которому не пускают посетителей.
— Если ваша мисс Айвори настолько плоха, как мне кажемся, — продолжала миссис Поуп, — тогда она и не будет знать, прислали вы ей что-нибудь или нет. Вы пенсионерка, не забывайте этого.
— А мне все-таки хочется что-нибудь послать, — сказала Летти, рассердившись на миссис Поуп. — Как-никак, а мы работали вместе все эти годы. — В конторе служили две женщины, думала она. Ну пусть они не стали близкими друзьями, но все-таки что-то их связывало… Скучная, однообразная работа, пустая воркотня и дурное настроение, передававшееся мужчинам.
— И работали-то вы вместе, по-моему, всего два-три года, — сказала миссис Поуп. — Не такой уж большой срок.
— Да, но для нас это был важный период в нашей жизни, — сказала Летти, окончательно решив послать флакон лавандовой воды.
Лаванда. Это благоуханье перебило все больничные запахи. Мистер Стронг вспомнил свою бабушку, хотя у нее не было ничего общего с мисс Айвори. Но почему его так удивило, что от мисс Айвори пахнет лавандой? Удивительно другое, то, как он вообще мог уловить запах лавандовой воды при осмотре больной, но этот могучий воскреситель памяти застал его врасплох, и на короткий миг он — хирург-консультант в знаменитой лондонской клинике, врач с доходной частной практикой на Харли-стрит — превратился в семилетнего мальчишку.
Кто-то возился с ней, приводил ее в порядок, потому что мистер Стронг начал обход, а мы хотим выглядеть аккуратненькими в его глазах, не правда ли? На лбу у нее было ощущение влажной прохлады. Кто-то… Летти или Бетти… как там, на карточке?.. прислал ей чудесную лавандовую воду… запах такой приятный, свежий, как в деревенском саду. У мисс Айвори, кажется, есть свой садик, а там, верно, растет лаванда? Марсия не могла вспомнить, растет у нее лаванда или нет. Ей вспомнилась только кошачья мята в дальнем конце сада и как она искала и не могла найти могилу Снежка. Он тогда все холодел и холодел, и блохи соскочили с него, а теперь могилу она не может отыскать. Уж лучше бы ее помог найти Найджел из соседнего дома, вместо того чтобы предлагать, не скосить ли вам траву, а траву косить не надо, потому что ей так больше нравится — по крайней мере никто не войдет в сад. Как-то днем, когда это было, вспомнить трудно, она увидела: Норман торчит на другой стороне улицы и подглядывает за ней. Надо было подойти к нему и спросить напрямик, что это он задумал, с какой целью слоняется возле ее дома. Еще было так: она только что поступила тогда на работу и однажды прошла за ним в обеденный перерыв всю дорогу до Британского музея, поднялась по лестнице туда, где выставлены мумии, и увидела: он сидит там среди школьников и разглядывает мумии зверей. И она ушла, не зная, что и подумать… Потом стала заваривать ему кофе, ведь глупо покупать каждому маленькую банку, когда большие обходятся гораздо дешевле… А что было дальше? Она запнулась… дальше, кажется, ничего не было. Она беспокойно повела головой из стороны в сторону. Вот, кажется, к ней подходит капеллан, больничный капеллан или тот, другой — томный такой из церкви в конце улицы? Они оба молодые, длинноволосые. Нет, ни тот и ни другой. Это ассистент мистера Стронга, его зовут Брайен. Как хорошо, что мистер Стронг зовет всех молодых врачей по имени — Брайен, Джеффри, Том, Мартин и Дженнифер, единственная среди них женщина.
Молодой врач склонился над Марсией. Вид ее ему не понравился — такая даже в лучшие свои времена ничем не может порадовать. К счастью, мистер Стронг был еще в палате, и, чтобы вернуть его, понадобилась всего лишь минута. Мистер Стронг озабочен состоянием мисс Айвори, и, если с ней что-нибудь случится, он захочет быть рядом.
На мистере Стронге по-прежнему был зеленый галстук — все тот же или он любит зеленый цвет? Рисунок на галстуке мелкий, частый. Его густые брови хмуро сдвинулись над серыми глазами. Он всегда хмурится — может, она в чем-нибудь провинилась? Плохо ела? Его глаза впивались в нее — пронзительные глаза хирурга, так о них говорят? Нет, это про руки хирурга, на них обращают внимание, их обсуждают, как руки пианиста, и на концертах люди стараются сесть так, чтобы видеть эти руки. Но ведь хирург некоторым образом тоже художник, взять хотя бы этот аккуратный, ровный шов… Марсия вспомнила свою мать, как она говорила, что никогда не позволит, чтобы ее тела коснулся нож хирурга. Как это нелепо, когда подумаешь о мистере Стронге… Марсия улыбнулась, его нахмуренные брови разгладились, и он, казалось, улыбнулся ей в ответ.
Капеллан шел к мисс Айвори, но ему сказали, что он опоздал. «Мисс Айвори умерла, скончалась…» — Эти слова отдались у него в голове, точно рекламный стишок из телевизионной передачи, но он вознес молитву об упокоении души усопшей и настроился на встречу с ее родными и близкими. Но тот, с кем ему потом пришлось встретиться, оказался отнюдь не родственником, а пришел, чтобы, так сказать, заполнить брешь. Всего лишь «приятель», кто-то из конторы, где они работали. И удивительно! Он считает, что не надо корить себя, если не смог предотвратить смерть, поскольку каждому христианину она так желанна. Все, что касалось мисс Айвори, было улажено спокойно и по-деловому, без упреков и, разумеется, без слез, что весьма облегчило всю процедуру.
20
— Обитель Отдохновения и Покоя, так их, кажется, именуют? — сказал Норман. — Место, куда помещают покойников, — добавил он с запинкой, потому что не мог еще привыкнуть к тому, что Марсия умерла.
— Придумано хорошо, — вполголоса проговорила Летти. — Место отдохновения. Когда умерла ее мать, тело оставалось в доме до дня похорон. Летти запомнилось, что она ничего тогда не чувствовала и беспокоилась только о том, как ей справиться со всеми заботами, как принять неожиданно приехавших дальних родственников и приготовить им завтрак.
— Да, вот мы опять все вместе, как и прежде, — сказал Эдвин, но его слов никто не подхватил, потому что это было не совсем так, «как и прежде».
Все трое они сидели за чашкой кофе в доме Эдвина перед тем, как ехать на погребальную службу в крематорий, о которой он договорился. Смерть Марсии явно сблизила их, потому что они вспомнили свое обещание в недавнем прошлом и, может быть, прикидывали, кто из них уйдет следующим, но это так, между прочим, потому что все трое были в добром здравии, а про операцию у Марсии знали и к чему это может привести, тоже знали. Самое главное для них сейчас было то, что они в первый раз видели жилье Эдвина, так как он никогда их к себе не приглашал. Нас свела смерть, подумала Летти, критическим женским оком оглядывая старомодные вышитые подушки и вышитые салфеточки на креслах — все то, что успела навышивать Филлис в те длинные вечера, когда Эдвин заседал на собраниях приходского совета. Размышления Нормана касались вещей более практических, имеющих отношение к материальной стороне дела: Эдвин мог бы пустить к себе постояльца, даже двоих, и получать приличный для делового человека еженедельный доход, мог бы даже разрешить жильцам пользоваться кухней. Не то чтобы ему, Норману, пришло в голову селиться вместе с Эдвином, даже если его так уж прижмет, но это, конечно, вряд ли. Факт остается фактом — Эдвин живет в собственном доме один, значит, у него нет нужды в дополнительных средствах, и, когда ему придет время уходить в отставку, он не будет жить на одну только пенсию.
До крематория в юго-восточном районе Лондона дорога была длинная, и мало-помалу разговор у них стал налаживаться.
— В конце концов Марсия сейчас тоже с нами, — сказал Эдвин, — и, поскольку она все равно не приняла бы участия в нашем разговоре, давайте беседовать, как обычно.
Это приглашение к «обычной беседе» будто лишило их языка, потом Летти сказала, какие красивые розы в садике, мимо которого они проезжали.
— Кто бы из нас мог такое подумать, когда мы завтракали все вчетвером, — сказал Эдвин.
— Эх, бедняга! Она ведь и тогда была немножко с приветом. Заметили? — сказал Норман.
— Это, наверно, было начало конца, — сказала Летти. — Почти ничего не стала есть, так, чуточку салата.
— Да ведь она никогда много не ела, — сказал Норман таким тоном, будто он был единственным обладателем этой тайны. — Сама так говорила.
— Когда живешь один, иной раз не очень-то заботишься о еде, — сказал Эдвин, будто одиночество, кроме него, никому из них не было знакомо.
— А я всегда стараюсь раз в день поесть как следует, — сказала Летти.
— Миссис Поуп, конечно, разрешает вам пользоваться кухней? — поинтересовался Эдвин. — А кухонная посуда у вас своя?
— Есть две-три тефлоновые кастрюли и сковорода для омлета, — сказала Летти, торопясь поскорее проговорить это, так как по ее понятиям разговор становился слишком обыденным, а кроме того, ей не хотелось слушать, что будет докладывать о своей сковороде Норман.
— Э-э! А я все шлепаю на сковородку, — как она и ожидала, сказал он. — И омлеты, и все прочее. Хотя то, что у меня получается, вряд ли можно назвать омлетом.
Катафалк прибавлял ходу, и машина, которая следовала за ним, тоже могла бы поторапливаться, подумал Норман. Ловко у них придумано — постепенное увеличение скорости. Водитель требуется опытный, хотя там, наверно, автоматика работает. Кен, должно быть, знает, как это устроено, вот и будет о чем поговорить с ним в следующий раз. Беседовать с Кеном особенно не о чем, он только и может что о машинах.
— А нам еще далеко? — спросила Летти. — Я этого района Лондона не знаю.
— Я отвозил сюда Филлис, — деловито сказал Эдвин. — От меня до этого крематория ближе всего.
— Да, конечно. — Летти смутилась, но воспоминание о покойной жене, видимо, не опечалило Эдвина, он только добавил, что до кремации отслужили в церкви и что народу на службе собралось порядочно.
Эдвин посмотрел на часы. — Нам назначено на одиннадцать тридцать, — сказал он. — Там, наверно, строго придерживаются расписания. А вон у входа машина отца Г. Должно быть, обогнал нас у светофора.
— Проскочил на желтый свет. С него станется, — сказал Норман.
— Да, наверно, так и есть, — сказала Летти, обрадовавшись, что цель их путешествия уже видна. — Вон те ворота впереди?
— Да, они самые, — подтвердил Эдвин.
— Куда мы все придем, — сказал Норман.
— Бедная мисс Айвори, — шепнула Присцилла, наклонившись к Дженис. — Я очень рада, что смогла приехать, как-никак мы ее соседи… и рада оказать вам моральную поддержку.
Дженис не слишком-то понравилась такая формулировка. Как будто ей нужна моральная поддержка! Но, может, Присцилла имела в виду только обряд в крематории — то, с чем не каждый день встречаешься. А во всех других случаях жизни Дженис в моральной поддержке не нуждается. Да, она застала мисс Айвори на кухне, когда та в обмороке привалилась к столу, а потом она умерла в больнице, и, хотя такой случай не совсем обычный — чтобы не сказать прискорбный, — это никак не бросает тени на патронажную службу, и Дженис не заслуживает обвинения в халатности. Смерть — это конец всего, высшая точка существования. Так и у мисс Айвори — надлежащий финал истории ее жизни, и можно будет долгие годы приводить это в качестве примера, в качестве образца тех трудностей, с которыми сталкивается доброволец патронажной службы. Некоторым людям просто невозможно помочь, невозможно научить их, как себя вести ради своего же собственного блага, и вот именно такой и была мисс Айвори. Дженис облекала свои мысли в форму доклада, так как со слов одного врача в больнице выяснилось, что мисс Айвори, безусловно, находилась в терминальном состоянии еще до того обморока. Единственная беда заключалась, может, в том, что она, Дженис, не установила должной связи с мисс Айвори, в том, что сетка социального обеспечения не подхватила ее… Придумали же такое страшное выражение!
Заметив, что Дженис и Присцилла приехали в довольно ярких каждодневных платьях, Летти подумала: нечего было беспокоиться, что у нее нет ничего подходящего для похорон. Те, кто помоложе, с этим явно не считаются. Темно-синее платье и жакет выглядят скромно, но вряд ли сойдут за траурные; продавщица в магазине назвала этот цвет «французский синий», что придавало ему некую старомодную фривольность. Мужчины были, конечно, при черных галстуках, потому что такие галстуки, должно быть, у каждого есть дома или их можно легко раздобыть.
Reguiescat in pace[3] и да воссияет над ней вечный свет, думал Эдвин. Он хорошо сделал, что попросил отца Г. отслужить эту короткую службу. Отец Г. проследит, чтобы все прошло как полагается, в надлежащем порядке, чего, пожалуй, не всегда можно ждать от тех священников, которые служат в крематориях и провожают одного покойника за другим. Он был доволен, что Дженис Бребнер и соседка тоже тут, большего от них и не жди. И все-таки хорошо, что не они и не бедняга Норман, а он, Эдвин, и отец Г. застали Марсию в таком состоянии.
Норман был как-то странно взбудоражен тем, что Марсия лежит в гробу, что ее вот-вот предадут пламени, и вдруг на память ему пришел легкомысленный стишок, когда-то где-то прочитанный:
Земля земле. Принцессин прах В могилу мчит на всех парах.Он не знал, как ему быть — то ли рассмеяться, что здесь вряд ли уместно, то ли заплакать, чего тоже делать не следует, да и вообще он уже с давних пор не проливал слез. Шторы сомкнулись, гроб заскользил прочь, и Норман склонил голову, чтобы не видеть этого заключительного акта.
Потом они вышли из крематория и, чувствуя себя неловко, стали кучкой под ярким летним солнцем.
— Какие прелестные цветы, — негромко проговорила Летти, поворачиваясь к Дженис и Присцилле. Извечная уместность цветов и на этот раз ослабила напряженность минуты. Две охапки пламенеющих гладиолусов, белых и розовых гвоздик и два венка из оранжерейных роз, сиреневых иммортелей и белых хризантем лежали на том месте, где было начертано «Марсия Джоан Айвори».
— Мы с Присциллой решили, что она предпочла бы срезанные цветы, — несколько вызывающе сказала Дженис, устремив взгляд на венки. — Некоторые специально оговаривают это.
— Бедняга Марсия! Вряд ли она была в состоянии что-нибудь оговаривать, — сказал Норман. — На венок сложились мы — Летти, Эдвин и я… Сиреневые и белые… Вспомнили, что…
— Да, конечно, вы ведь работали вместе, — сказала Присцилла самым светским тоном. Она не знала, как ей вести себя с этим чудным маленьким человечком и с другим — тот высокий, но почти такой же чудной. Надо надеяться, что скоро можно будет уйти отсюда, поскольку ее общественный долг выполнен.
— А второй венок от родственницы Марсии, — сказал Эдвин. — От дальней родственницы. Она так расстроилась, что не смогла приехать на похороны.
— Сорок лет не видались, — ввернул Норман.
— Но сын ее приехал, — сказал Эдвин. — И то хорошо. Он, видимо, работает в Лондоне.
— Тот молодой человек, что сидел сзади? — спросила Летти. Она обратила внимание на существо неопределенного пола с длинными белесыми патлами и в кафтане.
— Да, он самый, с бусами.
Они разошлись. Эдвин, Летти и Норман пошли к отцу Г., который, сдерживая нетерпение, поджидал их у своей машины. Эдвин сел на переднее сиденье рядом с отцом Г., а Летти и Норман втиснулись на заднее, где стоял чемодан с облачением отца Г. Двое спереди вели оживленный разговор главным образом на церковные темы, а те, что сидели сзади, ехали молча. Норман не знал, о чем сейчас можно говорить, и даже не умел разобраться в своих ощущениях, чувствуя только, что похороны дело печальное, но Летти было тоскливо, точно со смертью Марсии она осталась одна-одинешенька. А ведь они и близкими друзьями не были.
21
— Да, кто бы мог подумать…
Норман обязательно должен был сказать нечто подобное, подумала Летти, вспомнив, как они завтракали в ресторане. Да, кто бы мог подумать тогда в «Рандеву», что следующая их встреча будет такой. Правда, теперь с ними отец Г., а это несколько меняло дело.
— Ну-с, так… — Отец Г. взял меню и стал изучать его. Он полагал, что стоимость завтрака поделят они с Эдвином: Летти — женщина, а Норман не совсем тот человек, от которого можно ждать, что он угостит вас. Готовясь к похоронам, отец Г. прикидывал, что будет после них, так как у покойной, кажется, нет родственников, которые могли бы устроить поминки. Может быть, Эдвин пригласит их всех к себе, предположил он, но потом узнал с облегчением, что тот, видимо, передумал и остановил свой выбор на ближайшем от этих мест ресторане с подачей спиртных напитков. Так гораздо лучше, чем тесниться в ужасающе безвкусной гостиной его пригородного дома и пить сладкий херес или неизбежную чашку чая. А удобно ли будет, думал отец Г., заказать то, что ему сейчас в самый раз… сухое мартини?
— Я чувствую, надо выпить, — сказал Эдвин, как бы откликнувшись на мысль отца Г.
— Да, я тоже… — пролепетала Летти.
— Такой денек кого хочешь подкосит, — хмуро выговорил Норман. Он собирался сказать, что человека подкашивают похороны, но это слово как-то не давалось ему, точно он и в мыслях его не держал, уж не говоря о том, чтобы произнести вслух.
При такой поддержке отец Г. решил, что надо действовать, и действовать незамедлительно. Он подозвал официанта и заказал напитки: Эдвину и Норману полусухой херес, себе — сухое мартини, а даме… Колебания Летти, ее неуверенность, следует ли им пить спиртное, поскольку бедняга Марсия ничего такого и в рот не брала, отец Г. расценил как женскую скромность или неосведомленность в делах пития. — А что, если сухое мартини? — предложил он. — Это вас подбодрит.
— Да, я чувствую, мне надо что-нибудь такое, — согласилась Летти и, выпив мартини, поняла, что оно в самом деле подбодрило ее. А ведь верно, подумала она, в такие минуты это действительно подкрепляет. И кроме того, Летти стало ясно, что, хотя бедняги Марсии больше нет с ними, они, все четверо, живые люди — Эдвин, как всегда степенный, седой, Норман явно чем-то взволнован, а отец Г. — распорядительный священник с повадками командира. Оглядевшись по сторонам, Летти увидела корзину искусственного душистого горошка неестественно ярких цветов, компанию «бизнесменов» за длинным столом и двух элегантно одетых женщин, которые сравнивали образцы материалов на занавески. Ощущая свою жизнестойкость, она поддалась на уговоры отца Г. и выбрала себе oeufs Florentine, потому что это звучало заманчиво. Отец Г. заказал бифштекс, Эдвин — запеченную камбалу, а Норман — цветную капусту в сухарях. — У меня аппетита нет, — добавил он, тонко намекнув остальным, что им тоже не мешало бы сдерживать свои аппетиты.
— Вы теперь на пенсии? — сказал отец Г., заводя разговор с Летти. — Это, должно быть… — и запнулся в поисках слова, которым можно было бы описать положение Летти. — …открывает большие возможности, — наконец-то нашелся он, вспомнив, что вся наша жизнь есть не что иное, как большая возможность.
— Да, конечно! — После сухого мартини Летти свои возможности несколько переоценила. — Я теперь могу чем угодно заниматься.
— Это можно по-разному истолковать, — сказал Норман, вернувшись к своему обычному зубоскальству. — Интересно, что вы там затеяли?
— Да нет, ничего особенного, — сказала Летти. — Просто у меня больше свободного времени — для чтения… и всяких других дел.
— А-а, понятно, дела общественные, — сказал отец Г., одобрительно кивнув головой.
— По-моему, Летти надо больше получать от патронажной службы, чем отдавать ей, — сказал Эдвин. — Ведь она как-никак ушла на покой, принадлежит к старшему поколению, если можно так выразиться.
Летти подумала, как нехорошо со стороны Эдвина совать ее в эту категорию, когда она, несмотря на возраст, почти не поседела, и отца Г., похоже, оттолкнула такая малопривлекательная характеристика. Он не любит ни пожилых, ни престарелых, ни стариков со старухами — называйте их, как хотите.
— А что мы дальше закажем? — спросил Эдвин.
— Помните последнюю нашу встречу? — вдруг спросил Норман. — Что мы тогда ели?
— По-моему, у нас с вами был яблочный пирог и мороженое, — сказала Летти.
— Правильно! Яблочный пирог какой-то там тетушки. У Эдвина был сладкий пудинг, и он еще уговаривал Марсию взять себе то же самое, но она так и не сдалась.
Наступило молчание, и с минуту они не могли придумать, о чем говорить. Всем им, наверно, было ясно, что, когда у людей такая потеря, не следует держать горе при себе. До сих пор имя Марсии не упоминалось, и, может быть, Норман поступил правильно, произнеся его.
— У нее всегда был такой плохой аппетит, — сказала наконец Летти.
— Да, не едок она была. — Голос у Нормана чуть дрогнул на этих словах, но он справился с собой.
Надо будет позвать его как-нибудь к ужину, подумал Эдвин, пусть поговорит о ней, если захочет. Эта перспектива не очень-то порадовала Эдвина, но что поделаешь — надо! Хотя выполнять христианский долг не всегда приятно.
— А что будет с домом мисс Айвори? — спросил отец Г., точно упоминание о недвижимой собственности могло вывести разговор на более высокий уровень. — Он, наверно, отойдет к этой ее… э-э, родственнице?
— Да, наверно, к тому молодому человеку с бусами или к его матери, — сказал Эдвин. — По-моему, это ее единственные родичи.
— Если его немного подмалевать, получится неплохое владение — снисходительно проговорил отец Г. тоном агента по продаже недвижимости.
— Что это значит — подмалевать? — вызывающе спросил Норман.
Отец Г. улыбнулся. — Его, знаете ли, не мешало бы разок-другой покрыть краской… такое у меня создалось впечатление. Ну-с, кто хочет мороженого? — умиротворяюще спросил он, решив, что мороженое, словно масло, пролитое на бурные воды, успокоит разгневанного Нормана скорее, чем любые его словеса.
— Напоследок нам подали мороженое, — рассказывала Летти. — Там было столько разных сортов на выбор — такое чувство, будто в детстве. Норман и то вспомнил, что самое его любимое — земляничное. По-моему, он даже немного оживился.
— Я не знала, проголодаетесь вы или нет, — сказала миссис Поуп. — После похорон по-разному бывает.
Летти удивилась и втайне осталась очень довольна, что миссис Поуп думала о ней и — мало того! — беспокоилась, не захочет ли она поесть, вернувшись домой. Время — начало шестого — ничего не сулило, кроме раннего ужина, но это как-то ни то ни се.
— Эдвин знал один ресторан в тех местах, так что это оказалось очень кстати, — пояснила Летти.
Миссис Поуп ждала подробностей, и Летти пришлось рассказать ей, что они ели. Бифштекс — это в самый раз для отца Г., ведь он и служил в крематории, а священники вообще любители мясных блюд, заметила миссис Поуп, мясо им даже необходимо. Леттин выбор — oeufs Florentine — фриволен и говорит об отсутствии такта, как и появление на похоронах в платье цвета «французский синий». Почему это люди нападают на французов и на все французское? Теперь, когда у нас Общий рынок, все должно складываться по-иному, и надо как-то изменить отношение. Или мы вдруг переймем эту фривольность? И Летти призналась только в том, что заказала себе «блюдо из яиц».
— Ну что ж, яйца так же питательны, как мясо, — провозгласила миссис Поуп, — так что вряд ли вы захотите варить себе еще одно яйцо на ужин.
— Выпью, пожалуй, чашечку чая… — Чай всегда весьма кстати, и можно будет тихо-мирно поговорить о крематории.
22
Норман вошел в дом Марсии, отперев переднюю дверь ключом, который передал — ему адвокат. Он вступил в «жилое помещение покойной мисс Марсии Джоан Айвори». Так изобразил он это самому себе и в этих словах, потрясенный тем, что Марсия завещала ему свой дом, ударился в обычную для него непочтительность, обсуждая это с Эдвином. Завещание было составлено, видимо, сразу после операции, когда Марсия стала лицом к лицу с тем, что ждало ее впереди. Деньги, сколько бы их там ни было, отходили к ее двоюродной сестре с правом наследования ее сыном. — Он сможет купить себе еще одну нитку бус, — прокомментировал это Норман.
— Норман — крупный собственник! — поддразнил его Эдвин, и это восстановило равновесие между ними, так как Норман тоже стал домовладельцем, и теперь уже можно было не сокрушаться о судьбе этого бедняги, обреченного на одиночество в своей спальне-гостиной. Было бы, конечно, правильно, если бы Марсия оставила этот дом Летти, которая тоже живет в одиночестве в своей спальне-гостиной, хотя она и пользуется обществом миссис Поуп. — Вы собираетесь жить там? — спросил Эдвин, вспомнив, в каком состоянии был этот дом, когда они с отцом Г. зашли туда. — Потребуется кое-какой ремонт, — не удержался он, чтобы не подпустить шпильку Норману. — Цела ли там крыша?
— Подумаешь! — сказал Норман. — Нет мне дела до какой-то там крыши!
— А вдруг будет протекать… дождь пойдет, снег.
— В Лондоне снег идет редко, особенно в том районе, что южнее Темзы.
— А вы что-нибудь знали? Догадывались?
— Да откуда? Понятия не имел!
— Не забывайте, она вам кофе заваривала, — стоял на своем Эдвин.
— Только потому, что большая банка на двоих обходится дешевле, на что вы не раз мне указывали, — сердито возразил ему Норман.
Они расстались немного недовольные друг другом, и на следующий день Норман не пошел на работу и отправился смотреть дом. У него оставалось несколько дней от отпуска, и все уладилось просто. Кто бы мог подумать, что один из этих дней пригодится на такое дело! «Всесильна божеская длань, ее чудес не перечесть», и это было настоящее чудо.
Ключ легко вошел в американский замок, но, кроме него, был еще и врезной. Марсия оберегалась от грабителей, особенно потому, что ее почти весь день не бывало дома. Стоя в холле, Норман увидел прежде всего громоздкую мебель времен Эдуарда — стоячую вешалку, стол и стулья — и не обратил особого внимания на пылищу, которая лежала на всем. Не удивительно, подумал он, что ее столько здесь скопилось за это время, все понятно. Он переходил из комнаты в комнату и видел здесь не себя — хозяина, а Марсию, какой она была в те дни, когда познакомилась с ним, а пригласить его к себе так и не удосужилась. Но если бы пригласила, может, все сложилось бы по-иному? Да нет, никогда не пригласила бы, и это было сутью их отношений. Значит, все-таки были какие-то отношения? Он вспомнил, как она прошла за ним в Британский музей и ему пришлось затесаться в толпу школьников перед этими мумиями и глазеть на них, дожидаясь, когда можно будет уйти. Она думала, что он не видит ее, но он видел и с тех пор больше не ходил в музей, а бегал в библиотеку. Потом кофейная банка на двоих, о чем вечно зудел ему Эдвин. Но на самом деле ничего такого у них не было…
Норман поднялся вверх по лестнице. Вошел в комнату — наверно, это ее спальня. Обои с рисунком розочками были старые, узорчатый ковер выцветший. У кровати стоял столик, на нем — несколько книжек, среди них сборник стихотворений, что удивило его, и стопка брошюр из библиотеки с перечислением различных льгот для пенсионеров и пожилых людей. На кровати было наброшено старое грязно-белое покрывало, расшитое елочкой, неубранные подушки и простыни. Это кровать, на которой она спала, где ей снились сны, где она дожидалась смерти, хотя умерла и не здесь. Эдвин и отец Г. застали ее внизу, поникшую на кухонный стол.
Норман подошел к стоявшему у окна туалетному столику с зеркалом на шарнирах. Значит, Марсия разглядывала себя на ярком свету, когда видно каждую морщинку? Но она была вовсе не из тех, думал он, кто часто смотрится в зеркало, и не очень-то заботилась о своей наружности, хоть и красила волосы. А когда ей пришел конец, старшая сестра говорила что-то о ее прекрасной седине, значит, в последние дни волосы отросли, и темные концы их, наверно, обрезали. Она лежала такая красивая, говорила сестра, такая спокойная, такая безмятежная, но в больнице, должно быть, всегда так говорят, ведь им приходится, как он считал, «угождать» родственникам. Марсия — красавица! Надо же такое! Но теперь, получив от нее по завещанию дом, он готов был поверить, что в больнице она, может, действительно показалась чуть ли не красавицей.
А вот комод, должно быть, с ее носильными вещами и со всякой мелочью. Ему особенно не хотелось разглядывать все это, но любопытство взяло верх. Осторожно, на пробу, словно нарушая святость ее стола в конторе, он выдвинул один из ящиков комода.
К его удивлению, там было полно пластиковых мешочков разных размеров — все аккуратно свернутые и разложенные по величине и по форме. В этом порядке есть что-то потрясающее, подумал он, что-то неожиданное, и в то же время именно чего-то такого можно было ждать от Марсии.
Он задвинул этот ящик и стал посреди комнаты, не зная, как ему быть. Неужели он должен возиться со всей этой дребеденью? Это женское дело. Здесь нужна Летти — вот пусть она и разбирается и решает, что делать с одеждой. Связаться с ней? Да, конечно! Но может, обратиться к той двоюродной сестре? Преимущество, вероятно, за ней, как за родственницей? Она так расчувствовалась тогда, что не смогла приехать на похороны, так, может быть, кое-что из здешнего добра — платья или мебель — принесет ей чудесное исцеление от такой чувствительности?
Раздумывая об этом, Норман перешел в следующую комнату и остановился поглядеть в боковое окно. Отсюда ему были видны свежепокрашенные добротные дома и ухоженные садики — резиденции его будущих соседей, если он решит поселиться здесь.
— Там какой-то человек стоит у окна, — сказала Присцилла. — В доме мисс Айвори. Как по-вашему, это ничего?
— Может, нам пойти узнать, кто это? — сказала Дженис. Они с Присциллой сидели во дворике и пили кофе. Был чудесный солнечный октябрьский день — настоящая золотая осень. Дженис ходила навестить одну из своих подопечных на соседней улице, но какой-то доброхот из церковных деятелей, решив облагодетельствовать старушку, увез ее кататься. Зачем это посторонние люди вмешиваются в работу патронажной службы и все путают?.. Правда, теперь у нее неожиданно оказалось свободное утро. Вот она и забежала к Присцилле, у которой тебя радушно угостят чашечкой кофе и можно посплетничать. Собственно, сплетничать они не собираются, а просто поговорят о том, что будет с домом мисс Айвори и каких соседей ждать теперь Присцилле с Найджелом.
— Он, кажется, из тех, кто был на похоронах, — сказала Присцилла. — Они работали вместе в этой своей конторе.
— А что ему тут понадобилось? — удивилась Дженис. — Когда мисс Айвори была жива, небось он не приходил к ней. — В голосе Дженис слышалось негодование — оказывается, у мисс Айвори были какие-то друзья, которые могли бы навещать ее, а не навещали. Но разве попечение о людях одиноких, таких, как мисс Айвори, это не ее работа, разве это не оправдывает ее существования, не стало ее raison d’être? Нельзя же, чтоб было и то и другое, иногда напоминал ей муж. Если будут помогать друзья и родственники, тогда она сама окажется безработной.
— Пойдемте туда, посмотрим, — решительно проговорила Дженис. — Скажем ему, что заметили в доме постороннего и пришли проверить, все ли тут в порядке. Мы же понятия не имеем, что он за человек.
Это общественница и ее знакомая — соседка, подумал Норман, видя, как они идут к дому. Им-то что здесь понадобилось?
— Да? — неприветливо, грубо буркнул он, приоткрыв на щелочку входную дверь.
Какой странный человек, подумала Присцилла, готовясь ответить ему самым выдержанным, самым своим светским тоном, но Дженис опередила ее.
— Я Дженис Бребнер, — сказала она. — Я присматривала за мисс Айвори. — Заявление довольно бессмысленное, почувствовала она, поскольку из него можно заключить, что ее попечения ничего хорошего не принесли. — Мы увидели какого-то человека в верхнем окне, — быстро проговорила она.
— Да. Меня увидели, — сказал Норман. — Теперь этот дом мой. Мисс Айвори оставила мне его по завещанию.
Нелестное для него изумление, с которым была встречена эта новость, не удивило Нормана. Они, видимо, не поверили ему. Та, которую звали Присцилла, была высокая блондинка в вельветовых брюках, другая («Я Дженис Бребнер», — передразнил он ее про себя), ниже ростом, приземистая, — настоящая мать-командирша из патронажной службы. После того как он бросил свою бомбу, патронажная заговорила первая.
— Это действительно так? — спросила она.
— Так ли? Конечно, так! — негодующе ответил Норман.
— Очень приятно, — сказала Присцилла. Она не рассчитывала завоевать Нормана своей явно неискренней светскостью — у нее хватило ума на это, — но если такой человек будет их новым соседом, то почему не установить с ним добрых отношений. Тем не менее ей очень хотелось, чтобы не он поселился в этом доме. Она мечтала о молодой супружеской чете такого же возраста, как она и Найджел, и даже с детьми, чтобы можно было по очереди дежурить в детской, когда они с Найджелом решат обзавестись семьей. Ей хотелось таких соседей, которых можно будет приглашать к обеду, чего нельзя сказать ни об этом чудном человечке, ни о его друзьях, какие бы эти друзья ни были.
Но Дженис, которой ничего такого впереди не маячило, могла себе позволить большую откровенность. — Вы будете жить здесь? — спросила она напрямик.
— Я еще не решил, — сказал Норман. — Может, буду, а может, и нет.
На этом этапе их беседы обе женщины решили удалиться, оставив Нормана в полной уверенности, что он показал им что к чему. В дом он больше не стал заходить и приступил к исследованию сада. «Исследование» самое подходящее слово, когда приходится чуть ли не прорубать себе дорогу сквозь эти заросли, решил он. В саду стоял небольшой сарайчик, что было весьма кстати, и он уже видел, как будет расставлять там свои инструменты и всякие другие причиндалы. Может, после Марсии тут остались вилы и газонокосилка, лопата и мотыга, хотя вряд ли она пользовалась ими последнее время. Он растворил дверь сарайчика. Вон там, в углу какие-то инструменты, но почти все пространство этого помещения занимали молочные бутылки, расставленные на полках; их было, наверно, больше сотни.
И Норман решил — нет, хватит с меня! Душная теснота его спальни-гостиной вдруг показалась ему такой уютной, такой заманчиво спокойной, что он решил скорее вернуться туда — домой, в свою «обитель». Но ведь он стал теперь домовладельцем, и от него зависит, Что делать со своим владением — перебраться сюда или продать его, а за дом на этой улице можно выручить приличную сумму, судя по тем особнячкам, которые он видел. Тот факт, что решение этого вопроса зависит от него, что теперь он может оказать какое-то влияние на жизнь людей, таких, как Присцилла и ее муж, родило в нем новое, до сих пор не изведанное ощущение — горделивое чувство, как говорится, собаки с двумя хвостами, и, высоко подняв голову, он зашагал к автобусной остановке.
В тот же самый вечер Эдвин вернулся с работы и, сидя у себя дома по свою сторону лужайки, раздумывал, что делал Норман в «доме Марсии», как это у него до сих пор называлось. При других обстоятельствах он мог бы прогуляться туда, но сегодня — 18 октября, в день св. Луки, — где-нибудь, вероятно, будут служить вечернюю мессу. В церкви, которые открыты во время обеденного перерыва, ходить нечего — печальный контраст с теми временами, когда отец Темз, а потом отец Боуд собирали толпы конторских служащих. Эдвин с сожалением припомнил еще одну церковь, где он часто бывал и где служили великолепно, но этой церкви больше нет. Скандал, разыгравшийся в начале пятидесятых годов — Эдвин хорошо его помнил, — положил конец великолепным службам, прихожане разбежались оттуда кто куда, и в конце концов ее закрыли как «излишнюю». На этом месте — там, где раньше веяло запахом ладана, — стояло высокое учрежденческое здание. Да, история печальная, и результат ее таков, что вечерней мессы в день св. Луки там не будет. Лука, возлюбленный целитель наш! Казалось бы, в церковь напротив той больницы, где умерла Марсия, сойдутся в такой день набожные врачи: хирурги и терапевты, стажеры, ассистенты и сестры, — да не тут-то было! В церкви св. Луки по воскресеньям служат только самое необходимое, а в будни там и вовсе ничего не происходит. И при мысли об этом у Эдвина возникли серьезные подозрения на тот счет, что хирург Марсии, мистер Стронг, набожностью не отличается… Припомнилось какое-то его высказывание, какой-то непочтительный отзыв о капеллане… Словом, почтить св. Луку негде, и в конце концов эту мысль придется оставить.
И тут Эдвину вдруг пришло в голову, что надо позвонить Летти. На похоронах она показалась ему какой-то одинокой, хоть и живет вместе с миссис Поуп. То, что Летти поселилась там, конечно, очень хорошо, но разве общение с женщиной, которой уже за восемьдесят, — это все, что ей нужно? И с этой мыслью Эдвин подошел к телефону и набрал ее номер, но там было занято. Тогда он решил сегодня больше не звонить, а отложить звонок на завтра или на какой-нибудь другой день, когда вспомнится. В конце концов спешить-то некуда.
23
Летти питала старомодное уважение к лицам священнического сана, но в семидесятых годах это уже устарело. Она не раз убеждалась, что священники такие же люди, как и все прочие, чтобы не сказать больше. Упор на человеческую природу — все мы люди, все человеки — был положен в основу проповеди, которую она недавно слышала в церкви миссис Поуп, словно проповедник готовил своих прихожан к каким-то чудовищным проявлениям человеческой натуры. Но в данном случае это проявилось лишь в том, что он распорядился убрать несколько задних скамей в церкви, чтобы освободить место для маленьких детей на время службы, что вызвало негодующие протесты некоторых прихожан.
— Он нас всех решил закабалить! — провозгласила миссис Поуп.
Удивившись такому яростному выступлению миссис Поуп, Летти хотела вступиться за священника, но тут зазвонил телефон. Минутой раньше (или позже) это был бы звонок Эдвина, отважившегося на дружеский жест по отношению к «такой одинокой» Летти, но, оказалось, звонила Марджори — «ваша приятельница, которая собирается замуж за того священника», как ее иногда рекомендовала миссис Поуп, и вдруг выяснилось, что Марджори не собирается выходить за него замуж. Судя по тому, что Летти поняла из ее невнятного словоизвержения — связь была неважная, и она не все расслышала, — по каким-то причинам помолвка была расторгнута.
— Бет Даути! — стенала Марджори. — И ведь я понятия не имела…
Первую минуту Летти не могла сообразить, кто это — Бет Даути, потом вспомнила. Директриса дома для пенсионеров из благородных, вот кто такая Бет Даути — деловая женщина с окаменевшей прической, та самая, которая так щедро разливала джин по рюмкам, знала, какие блюда предпочитает Дэвид Лиделл, и помнила о его пристрастии к орвието. В том, что две женщины с помощью яств и вин отбивают друг у друга любовь священника, чувствовалось что-то непристойное, но это было именно так. Все мы люди, все человеки…
Когда телефонная трубка наконец легла на место, основное, что воспоследовало из их разговора, было следующее: Летти должна как можно скорее выехать к Марджори. Разумеется, не сегодня вечером — сегодня и поезда подходящего не будет, — но завтра с самого утра обязательно.
— Да-а… — Летти повернулась к насторожившейся миссис Поуп. — Это моя подруга. Он нарушил свои обещания, — сказала она. — Там появилась другая женщина — директриса дома для престарелых.
В таком изложении все это звучало ужасно, но особенно резнуло ее словечко «престарелые», сказанное хоть и безотносительно к ней.
— Ну, знаете! — Миссис Поуп не находила слов, чтобы в полной мере выразить свои чувства. По сравнению с этим судьба нескольких задних скамей в их церкви была сущим пустяком. — Вам, конечно, надо к ней поехать, — добавила она не без зависти.
— Да, завтра с самого утра, — сказала Летти. Она чувствовала странную приподнятость, старалась подавить ее в себе, но волнение не исчезало. Надо было обдумать, как ей одеться в такую неожиданную поездку. Для октября погода стояла очень теплая, но не следует забывать, что за городом всегда холоднее.
— У него неполадки с пищеварением, и потом мать, ей уже за девяносто, и вообще… — Марджори запнулась, — …разница в возрасте. Он ведь на несколько лет моложе меня.
Летти сочувственно пробормотала что-то. Все это было уже известно, но теперь — когда Марджори объясняла, что произошло, и как Дэвид Лиделл избегал назначать день свадьбы, и что однажды свадьбу отложили из-за болезни матери, — теперь Летти казалось удивительным, как это он вообще соглашался жениться. Каким образом Бет Даути ухитрилась уломать его — вот в чем надо разобраться! Все прочие причины как были, так и остались, и Бет Даути не намного моложе Марджори.
Марджори, видимо, не знала, чем это объяснить, или же была слишком расстроена, чтобы вдаваться в подробности. Летти уже подумывала, не будет ли Бет Даути в свою очередь тоже отвергнута и найдется ли такая женщина, которой удастся подвести Дэвида Лиделла к желанному концу, но ничего об этом не сказала.
— На что только женщина ни пойдет! — воскликнула Марджори. — Этого нельзя ни предвидеть, ни объяснить.
Сущая правда, согласилась Летти и поймала себя на том, что думает о Марсии, которая завещала свой дом Норману и тем самым подтвердила непредсказуемость женской души. И теперь, когда Марсия умерла, ее поступка уже ничем не объяснишь.
— Куда же Дэвид Лиделл теперь уедет? — спросила Летти.
— Уедет? В том-то вся и беда — никуда он не уедет. Здесь останется.
— Решил здесь остаться?
— Решил — не решил, не знаю. По-моему, он просто не думает о переезде.
— Но ведь он не так давно у вас живет и, принимая во внимание некоторые обстоятельства… — Летти осеклась, не доверяя самой себе, и почувствовала, что продолжать не стоит. Но, если подумать как следует, зачем Дэвиду Лиделлу уезжать отсюда? Он ничего плохого не сделал, а только передумал, и ведь считают же люди, что лучше сразу разобраться в своих ошибках, чем откладывать это в долгий ящик. — А где он будет жить? — продолжала она. — Неужели в Холмхерсте, в доме для престарелых?
— Нет, вряд ли. Они, наверно, устроятся у него.
В том неприютном доме, где столько всего надо переоборудовать! — подумала Летти. Может, поделом ему? — А его не тревожит, что ты тут будешь рядом — и одна? — сказала она.
— Ах, Летти! — Марджори улыбнулась снисходительной улыбкой, прощая своей приятельнице ее простодушие. — А ты знаешь, у меня такое чувство, что недолго я здесь проживу одна.
— Вот как? — Услышав это признание, такое скромное, Летти подумала: что, собственно, Марджори имеет в виду? Неужели здесь, в поселке, успел появиться еще один возможный супруг? Не слишком ли быстро один за другим?
— Как ты не понимаешь… — Марджори пустилась в объяснения, и Летти сразу же все поняла. Теперь, когда надежды на замужество не оправдались, пусть Летти вспомнит о своих прежних планах на жизнь, ведь теперь ей ничто не помешает осуществить их. Она (разумеется) переедет сюда, к Марджори, как только сможет.
А что потом? — подумала Летти. Пройдет несколько месяцев или несколько лет, и у Марджори опять появится кто-нибудь, за кого она задумает выйти замуж, а что тогда будет с Летти? В прошлые годы, когда они были вместе, Летти всегда тащилась за Марджори, но стоит ли придерживаться этого обыкновения? Сначала она все обдумает как следует, а решать сразу не будет.
— А кольцо ты ему, конечно, отослала? — сказала она, намеренно возвращаясь к разговору о расторгнутом обручении.
— Да что ты! Конечно, нет! Дэвид хотел, чтобы я оставила его у себя. Вряд ли он стал бы требовать свое кольцо назад, принимая во внимание некоторые обстоятельства.
— Требовать, пожалуй, не стал бы, но, может, тебе самой не захочется его носить? — сказала Летти.
— Ах, оно такое красивое! Лунный камень в старинной оправе. Знаешь, мне всегда хотелось иметь старинное кольцо, — щебетала Марджори, расписывая, насколько такое кольцо интереснее, чем традиционное с бриллиантиком, которое ей преподнес ее первый муж. — С годами руки полнеют, пальцы становятся толще, и большое кольцо лучше выглядит. — Она протянула левую руку с лунным камнем, чтобы Летти убедилась в ее правоте.
24
— Чудеса за чудесами! Вот все, что я могу сказать. — Норман вынул из пластикового мешочка сандвич с солониной.
— Доказательств тому хоть отбавляй, — сказал Эдвин, берясь за чайный пакетик. — Вчера вечером я говорил по телефону с миссис Поуп, и она мне все рассказала. Был звонок от Леттиной приятельницы, оказывается, у нее все рухнуло — она не выходит замуж. Там, конечно, полное расстройство, поэтому Летти туда и поехала.
— А чем она-то может помочь? Будет выслушивать причитания своей подружки? По-моему, от нашей Летти мало проку в таких критических случаях.
— Много от нее ждать не приходится, но все-таки, когда рядом друг женщина… — Эдвин запнулся, не зная, какого рода помощь может оказать Летти.
— Да, я с вами согласен — иногда женщины приносят пользу.
— Особенно, когда они оставляют вам свои дома по завещанию, — шутливо сказал Эдвин. — Вы, наверно, уже привыкли к роли собственника?
— Я его продам, — сказал Норман. — Не хочется мне там жить.
— Вот это правильно. Он для вас слишком велик, — резонно заметил Эдвин.
— Да нет, не в этом дело, — обиженно проговорил Норман. — Дом самый обыкновенный, полуотдельный, такой же, как у вас, а ведь вам он не слишком велик. Не желаю я кончать свои дни в спальне-гостиной.
— Да, конечно. — Тон у Эдвина был умиротворяющий, как всегда в тех случаях, когда он хотел охладить этого раздражительного человечка.
— Дни свои я, скорее всего, кончу в доме для престарелых, — сказал Норман, открывая большую банку растворимого кофе. — Называется «Семейная». Чудно! Ведь пользуются такими банками большей частью служащие в учреждениях. — Он высыпал в кружку ложечку кофейного порошка. — Небольшая экономия все же есть — так мы с Марсией считали.
Эдвин ничего на это не сказал. Молча он повертел ложкой чайный мешочек; кипяток окрасился струйкой золотистого цвета. Потом, как всегда, бросил в кружку ломтик лимона, надавил на него и приготовился пить чай. Слова Нормана, то, как он сказал: «Мы с Марсией», — навели его на мысль, что когда-нибудь эти двое могли бы и пожениться. Правда, немыслимо представить себе, как бы это все получилось. Допустим, встретились бы они много лет назад, когда оба были помоложе… Уж не говоря о том, как трудно представить их себе молодыми, они, может, и не увлеклись бы друг другом в те времена, а слово «увлечение» звучит как-то нелепо в связи с Норманом и Марсией. Но все же что сближает людей, даже самых несходных? У Эдвина остались только смутные воспоминания о том, как он ухаживал и как женился в те дни, когда он служил причетником в самой ортодоксальной англокатолической церкви, прихожанкой которой была Филлис. В тридцатые годы люди заключали браки не так, как сейчас, по крайней мере не так с этим спешили, уточнил он. А если бы Марсия не умерла, могли бы они пожениться и жить в ее доме? Но об этом, почувствовал он, спрашивать Нормана нельзя…
Норман сам вмешался в раздумья Эдвина и попросил его совета насчет того, что, видимо, не давало ему покоя.
— А платья и прочие вещи, что мне со всем этим делать?
— О чем это вы?
— О платьях Марсии и о ее домашних вещах. Правда, племянник, тот, который в кафтане и с бусами, кое-что взял, но предупредил, что его мамочка не желает с этим возиться и что я могу поступать с вещами Марсии как мне угодно. А я… я вас спрашиваю! — Норман с яростью поддел ногой корзинку для бумаг.
— Вы не советовались с соседкой и с той из патронажной службы, которые были на похоронах?
— С этой сексуально озабоченной блондиночкой и с сучкой-командиршей из благотворительниц? — Раздражение подбавило ярких красок в словарь Нормана. — Еще чего! Стану я с ними связываться!
— А что, если поговорить в тамошней церкви, может, у них найдутся желающие?
— Ну, конечно! Разве от вас дождешься другого совета? Не сомневаюсь, что ваш приятель, отец Г., пришел бы на помощь!
— А что? И придет! — сказал Эдвин, занимая оборонительную позицию. — Старье очень хорошо берут на распродажах.
— Старье? Благодарю покорно. Значит, по-вашему, вещи Марсии подходят под этот разряд?
— А вы вспомните, последний раз, когда мы встретились, вид у нее был довольно странный… — начал было Эдвин и замолчал. Эти бессмысленные препирательства никуда не приведут. Может быть, в воспоминаниях Нормана Марсия изменила свой облик — стала милой женщиной с серебристыми волосами, с мягким выражением лица — такой, как описала ее на смертном одре старшая сестра? — А вы не думали обратиться к Летти? — спросил он. — Я уверен, она не откажет.
— Да, это мысль дельная. — Норман был явно благодарен ему за такой совет. Лучше так, чем звать чужого человека.
— Но что нам делать со всеми этими молочными бутылками? — спросил Эдвин.
— Понятия не имею, — сказал Норман. — А вы что бы сделали — так и оставили бы их тут?
— Как-нибудь постепенно отделался бы. Выставлял бы каждый день молочнику по нескольку бутылок.
— Давайте сейчас и выставим, — предложила Летти.
— Молочники требуют: сполосни и выстави, — сказал Норман.
— А эти вон какие чистенькие, — отметил Эдвин.
— Марсия, наверно, рассердилась бы на нас за это, — сказала Летти. — Она, видно, с какой-то целью собирала и хранила их в сарайчике в таком порядке, такими идеально чистыми.
Все трое они с интересом провели полдня в доме Марсии, разбирая ее вещи. Летти больше всего удивило количество одежды, рассованной по шкафам и комодам, — платья тридцатых годов и еще более давние, те, что теперь опять входят в моду; некоторые явно принадлежали еще матери Марсии. Платья, которые Марсия сама носила в молодости, до того, как они с ней познакомились. Были там вещи, купленные сравнительно недавно, большинство, неизвестно почему, ни разу не надеванные. Берегла ли она их на какой-то особый случай, который так и не представился? Теперь этого уже не узнаешь.
Они начали свою работу с верхнего этажа, а когда спустились вниз, на кухню, то еще больше удивились, открыв стенной шкаф и обнаружив там настоящую выставку консервных банок.
— Зачем она столько всего накупила? — воскликнул Эдвин.
— А вы сами разве консервы не покупаете? — Норман сразу перешел в оборону. — Ничего удивительного в этом нет.
— Но она будто никогда ничего не ела, — сказала Летти.
— Сама говорила: «Я много не ем», — напомнил им Норман.
— Наверно, расчетливая была, как миссис Тэтчер, — сказал Эдвин. — Цены-то все время подскакивают…
— И будут подскакивать, кто бы ни стоял у власти, — отрезал Норман.
— Так все замечательно подобрано, одно к одному, и в таком порядке, — сказала Летти, не скрывая своего удивления. — Мясные консервы, рыбные, фрукты, а вот тут супы, запеканки, паштеты…
— Все на легкий ужин, — сказал Норман. — Я очень люблю запеканки. Они меня спасали, когда я возился с зубами.
— Представляю себе! — сказала Летти, теперь вся сочувствие.
— Я так считаю, пусть Норман забирает все это себе, — сказал Эдвин. — Если ее родственница со своим сыном разрешили вам распоряжаться тут…
— Сыну все-таки нужно кое-что дать… Молодой человек — хиппи, ютится в хипповом пристанище. Эти банки будут ему весьма кстати. Он, к счастью, не подозревает, сколько их тут. И давайте сами возьмем по несколько штук, — сказал Норман.
Нерешительно, потому что им было как-то неловко хозяйничать в шкафу Марсии, они, все трое, стали отбирать себе консервы. Выбор в какой-то мере отвечал склонностям каждого. Эдвин взял ветчину и тушенку, Летти — креветки и компот из персиков, Норман — супы, сардины, фасоль и запеканки.
Потом в нижнем углу шкафа они обнаружили бутылку хереса, неоткупоренную. Это был кипрский херес, изготовленный, как вас уверяют, из винограда, произрастающего в виноградниках, которые принадлежали когда-то царице Савской.
— Откупорим? — спросил Норман. — Скажите, а вам не кажется, что она припасла это нам, может быть, на такой вот случай?
— Вряд ли она могла представить себе, что мы соберемся здесь, — сказала Летти. — Соберемся, и без нее.
— Давайте послушаемся Нормана, — сказал Эдвин. — А что, если Марсия предвидела столь исключительные обстоятельства и так все и задумала? — Может, правильно он это истолковал, потому что не каждый день такое случается. И в самом деле, подумал он, если кто-нибудь и способен разгадать, что рисовала себе, что задумала Марсия, если кто-нибудь мог проникнуть в ее тайну, так это только Норман.
— Царица Савская, — сказал Норман. Он уже отыскал рюмки и теперь наливал всем щедрые порции золотистой влаги. — Мне это нравится. Итак, будем здоровы!
— Вы теперь, наверно, переедете за город, Летти, поскольку ваша приятельница замуж не выходит? — сказал Эдвин, когда херес добавил свое приятное тепло к тому удовольствию, которое он испытывал, зная, что виды на будущее у Летти улучшились. Ее судьба решалась самым благоприятным образом.
— Я еще не решила, — сказала она. — Что-то меня теперь за город не тянет.
— И правильно, — сказал Норман. — Чего не хочется делать, того и не делайте, и не позволяйте собой командовать. Сами все решайте. Жизнь-то она ваша, а не чья-нибудь другая.
— Но по-моему, вам нравилась деревенская жизнь, — недоуменно проговорил Эдвин, потому что по его понятиям женщины средних лет и женщины пожилые стремятся или должны стремиться за город.
— Да нет, не то что нравилась… — сказала Летти, вспомнив мертвых птиц и покалеченных кроликов и злую на язык тамошнюю публику. — Просто, когда мы сговаривались с Марджори, иногда казалось, что так и надо. А теперь я могу выбирать. — Она сделала большой глоток сладкого хереса, и у нее появилось приятнейшее чувство — почти ощущение своей силы. Такое же, как у Нормана, когда, решая, поселиться ли ему в доме Марсии, он открыл, что может повлиять на жизнь других людей. Теперь Летти поняла, что и Марджори, и миссис Поуп будут ждать ее решения.
— Но в Лондоне-то вы не останетесь? — приставал Эдвин.
— Не знаю. Надо будет как следует все обдумать, — сказала Летти. — Да, кстати! — добавила она. — Марджори интересовалась, не захотите ли вы как-нибудь провести день за городом? Можно поехать туда с утра, там и позавтракаем.
Она не удержалась от улыбки, потому что практически это зрелище выглядело довольно нелепо: все они — Марджори, Летти и двое мужчин — в тесноте ее «морриса».
— Эти твои приятели, с которыми ты работала в конторе… Эдвин и Норман, — сказала Марджори, старательно произнося оба имени, — почему бы их не пригласить сюда на денек?
Чем бы Марджори ни заинтересовалась, это надо подхватить, почувствовала Летти. Может быть, она отвлечется от постигшего ее разочарования, хотя трудно себе представить, что Эдвин и Норман могут стать предметами романтических мечтаний, а уж таких, кто бы меньше их любил загородное приволье, и вовсе не сыщешь. И тем не менее начинаешь понимать, что у жизни бесконечный запас возможностей — все в ней приходит на смену одно другому.
Примечания
1
Из стихотворения У. Вордсворта «Наоборот». — Перевод В. Муравьева.
(обратно)2
Женская Добровольная Служба (благотворительная организация, помогает больным и нуждающимся). — Прим. ред.
(обратно)3
Да почиет в мире (лат.).
(обратно)
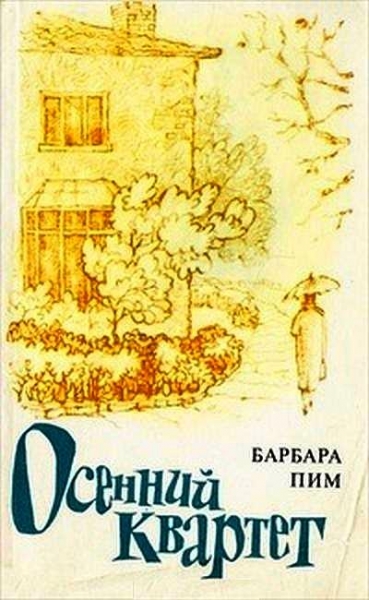



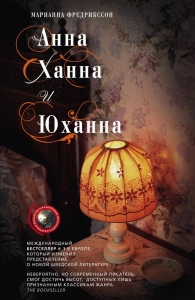
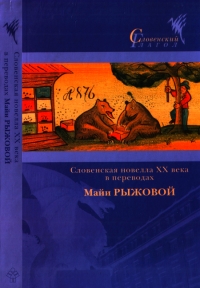

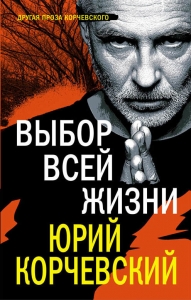

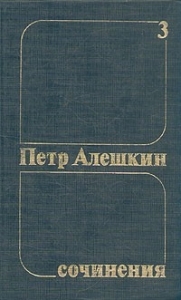
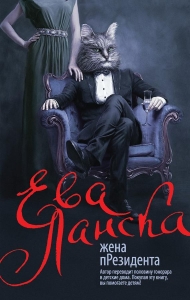


Комментарии к книге «Осенний квартет», Барбара Пим
Всего 0 комментариев