Александр Солин Неон, она и не он
Часть I. «Оргазм»
«Всегда кажется, что нас любят за то, что мы так хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит»
Л.Н.Толстой«Родина там, где чувствуешь себя свободно…»
Абу-ль-ФараджКогда открылась на нужной странице книга Судеб и, устранив вольное толкование небесных орбит, утвердила его право, когда проникла в него наследственная пыль неисповедимых путей и обернулась звериной мудростью; когда первый луч света отразился в зеркале невинной души, а единоутробные страхи напугали сон грядущими откровениями – взошла луна его предписанного одиночества и озарила туманный ландшафт навязанного пространства.
В далеких лесах дикие звери разминали мягкие лапы, намереваясь встать у него на пути. На высоких склонах подрагивали гремучие камни, готовясь обрушиться на его голову. Догнивали изнутри расшатанные помосты, чтобы рухнуть под ним.
Давно отменили рисунок импрессионисты, заменив его разноцветными квантами энергии, отчего дрогнула и ожила трепетная фольга листьев, прислушиваясь к синевато-малиновому монологу барбарисового куста.
Черные люди на другом конце земли возвестили новую эру, исказив до неузнаваемости гармонию и звук, а в небе расцвели огненные цветы.
Пустые заботы плыли в лодках по сухим расплющенным городам, сверяя свой путь с карманными путеводителями в мягких обложках.
Мерцающие вампиры поселились в дворцах и хижинах, навязывая мнения, плодя бойкие языки и вычитая из отпущенного срока тщету многочасовых бдений.
Миллиарды мужчин и женщин назначали и отменяли встречи, жевали и спали, болели и выздоравливали, обновляя свои вирусные базы.
Муравьи рассуждали о глобальных проблемах, пытаясь представить, что будет, когда они обзаведутся автомобилями.
И только юный ветер мечтал сочинить нечто глубокое, лазурное, негаснущее, полное покоя и благого обмана, и тем утолить голод камней и жажду рек, разгладить искаженное лицо печали и возвысить звук одинокой струны.
Не тогда ли впервые услышал он плач зверя и увидел, как догорает чужая луна?
1
Тихая заводь несмышленого возраста, в которой водится белобрысое существо, не ждущее подвоха. Богатство мира множится с каждым днем. Его можно потрогать, его можно назвать. Почему нельзя то, что хочется? Почему невозможно взлететь? Где живет повелитель всего? Ветер заставляет жмуриться и склеивает слезами ресницы, пряча от глаз зеленую даль, откуда он прилетел. Воздух невыразимо хорош. Он живет на лугу и под домом, он пахнет небом и одеколоном на щеках отца, сквозь который пробивается слабый аромат материнских духов. Как страшно одному в темноте! На крыльце без матери плачет котенок. Собачье тело под шерстью теплое, как лужи после дождя. Изловчиться и поймать то, что можно съесть. Рыбу, например. Кинуть ее в банку с водой, где она будет умолять отпустить ее за три желания. Вокруг много «нельзя», а если что-то интересное, то чужое. Построились по двое и взялись за руки! Почему ему не хочется отпускать ее руку? Когда он вырастет большой, он на ней женится. Он знает песни и хочет их распевать. Он знает стихотворения и хочет их петь. У него есть краски, и он хочет рисовать. Вокруг него люди, и он хочет их любить, потому что они любят его…
Все это теперь не более чем дальние подступы к сегодняшней высоте, разглядывая которые в бинокль памяти можно различить как общую диспозицию, так и отдельные места их волнистого рельефа. Хорошо, например, видны неподвластные ржавчине и подернутые мягкой дымкой умиления конструкции дружбы. Легко угадываются затянутые мхом позднего прощения укрытия, где он прятался от артобстрелов насмешек. Скромно выглядят развалины неприязни, поросшие бурьяном забвения. Лучше всех, пожалуй, сохранились участки, вспученные ярким и упругим, как итальянская увертюра любовным чувством.
Панорама тех лет – что набор картинок неравноценного качества. Одни выцвели, другие исчезли, третьи шевелятся по ночам, четвертые нуждаются в сопровождении слов и жестов. В них нет объема, ни перспективы, и маскировочная сетка забвения разбежалась мелкими трещинами по их тусклой лакированной поверхности. Его присутствие на многих из них можно было бы теперь считать неловким и даже смешным, если бы нынешняя, промежуточная высота не заставляла смотреть на прошлое снисходительно.
…Следующие за детством дни его, складываясь в линию слабоколебательного характера (слабохарактерного колебания?), прочертили короткий отрезок отрочества, по которому полноватый и неуклюжий подросток проследовал под присмотром отца-инженера, матери-конструктора и беспартийных бабки с дедом до певучей своей юности. В мелкоячеистой его памяти мелкой рыбешкой запутались люди, предметы и приметы, из которых с пластилиновой легкостью лепилось его взросление.
Только что он, поторапливаемый матерью, покинул их тесное жилище, и вот уже трехмерное тело коммунальной квартиры схлопнулось в плоскость входной двери, а сам он, скользнув на лифте по оси ординат до нулевой отметки, двигается по асфальтированной дуге гигантской окружности до тех пор, пока его дом не превратится в точку А, а точка Б не станет школой. Там он, доверившись взрослым на слово и подгоняемый, словно подопытный зверек оглашенными звонками, мечется по лабиринту педагогического процесса, набивая соты памяти тем, что однажды окажется ненужным и, выпав в осадок, растворится в ней, не оставив о себе ни малейшего сожаления. Гораздо полезнее, хотя и болезненнее опыты общения и разобщения, которым подвергается добрый, чувствительный подросток с глазами, исполненными удивленного внимания. Через несколько часов он находит из этого лабиринта выход и, поменяв левую сторону на правую, движется в направлении родных стен.
Маленький прилежный человек обречен находиться среди стен даже больше, чем взрослые. А потому ничего удивительного в том, что он стремится раздвинуть их единственным доступным ему способом – чтением книг, лаская ими до поры, до времени свое деятельное воображение. Кроме того, у него есть слух, и от музыки он испытывает непонятное волнение. Он не любит шумные игры, сторонится возбужденных сверстников, но он не жаден, и у него всегда можно списать. К этому следует добавить, что звук «р», попав ему в рот, не находил там места и слетал с языка, оставляя после себя дырявое созвучие.
Его дни за исключением сезонных болезней ровны, предсказуемы и отмечены запланированными открытиями. Кто, глядя на спокойного, рассудительного мальчика скажет, что внутри него бушует онтогенез: в три смены на полную мощность трудятся химическая и строительная промышленности, и многорукие нейроны, плодясь и размножаясь, крепкими рукопожатиями плетут сети разума; что команда из отборных инстинктов уже готова принять роды маленького «я» и поместить его на самосохранение в компании с самолюбием, самомнением и самообманом. И, пожалуй, самое главное – в секретной лаборатории уже сварен и вот-вот отправится в кровь бурливый настой из рогов и копыт широко известного господина с тем, чтобы приготовить отрока к мистерии грехопадения и лишить его ангельской сущности. И что немаловажно – в этом возрасте все политические режимы хороши.
Одно событие следует упомянуть здесь особо – переезд семьи из коммуналки на Петроградской в двухкомнатную квартиру на Гражданке. Вдруг разом, до судорог в горле рухнул его тщательно оберегаемый мир скудных привязанностей, включающий двух очкастых друзей и тихую девочку Ксюшу, примечательную, скорее, яркими бантами, чем бледным невзрачным личиком. Поразительная детская способность затаить в себе даже взрыв сверхновой откликнулась на событие лишь легкой рябью недовольства на лице, зато потрясла его сны. Остаток учебного года в шестом классе новой школы он провел в душевных конвульсиях, врачуя боль мягкой, как губка души знакомством с тремя ровесниками своего склада, обнаруженными им во дворе громадного дома.
В начале лета за ним приехал второй дед и увез с собой в Пензенскую область в небольшой город Кузнецк, где он был принят детьми отцовых сверстников со всем подобающим его происхождению и титулу ленинградца уважением. Изумленный приятным вниманием, он впервые обнаружил прямую и стойкую пользу своему положению в вещах, так же отстраненных от его сути, как модная одежда от тела.
Это было замечательное ласковое лето среди грубоватых, простодушных детей провинции, живших с родителями в деревянных, обнесенных заборами и зеленью домах вдоль пыльной полынной дороги недалеко от реки. Лето, полное солнца, воды, движения и южного пахучего ветра. Здесь он впервые играл в футбол, и был назначен вратарем, поскольку ничего другого не умел. Эта роль так точно легла на его почти мессианское ощущение мира – вставать последней надеждой на последнем рубеже – что более страстного вратаря не видели здесь ни до, ни после него. Домой он вернулся загоревшим, похудевшим и ласковым. Таким он и отправился в седьмой класс.
Не заискивая, не ища расположения, он постепенно сошелся с такими же сыновьями перемещенных на окраину лиц, как он сам, и к концу учебного года был произведен горластым большинством в главные умники по планированию. Мир потеснился и освободил для него место под солнцем.
Если его спрашивали, он говорил, что лучше сделать так-то и так-то. Если с ним не соглашались, он не спорил, но почему-то всегда выходило, что лучше было так и сделать, как он сказал. Ни командовать, ни указывать у него не получалось, и от этого положение его держалось на чистом авторитете. Завистникам же оставалось только шипеть по поводу его главного недостатка – картавости. Оттого-то, умея говорить, он больше предпочитал слушать других.
Летом он снова был в Кузнецке, где выяснилось, что на свете живет замечательная девочка Галка Синицкая, у которой веснушки вокруг носика, белые зубки, влажные пухлые губы, легкие гладкие ноги, а русые волосы, собранные на затылке хвостиком, каждый день перетянуты новой ленточкой. Еще выяснилось, что кроме нее есть Тамара Носкова, девочка скромная, стеснительная, черноволосая, с длинной шеей и тонкими лодыжками. Все лето он пытался решить для себя, какая из них лучше, изумляясь той незаслуженной фамильярности, с которой другие мальчишки с ними обращались. За лето он подрос на четыре сантиметра.
В восьмом классе его взросление продолжилось, подбираясь к тому новому состоянию, с которым ему предстояло вскоре породниться. Незаметным образом исчезла полнота, неуклюжесть сменилась очевидной ловкостью, глаза, исполненные наивности и удивленного внимания, заполнились убедительным ироническим блеском, великодушием обогатилась доброта, приятная спокойная улыбка укротила чувствительность. Кроме того, в русском языке обнаруживалось все больше слов, лишенных буквы «р», что позволяло ему успешно маскировать свою ахиллесову пяту, предосудительную славу которой он никак не мог взять в толк. И, наконец, ближе к весне, тестировать его новые достоинства явилась первая любовь собственной персоной.
У него, как это обычно в этом возрасте бывает, вдруг открылись глаза, и он обнаружил в одной из одноклассниц, до этого ничем не примечательной, необъяснимую и волнующую перемену в выражении лица, фигуре, манере укладывать волосы, походке, голосе, общении. Нечего и говорить, что вся она с головы до пят оказалась самая красивая, самая умная и самая недоступная.
Робость – вот итог его наблюдений, смятение – вот контрапункт его чувств. Можно ли без волнения наблюдать соединение пухлых пунцовых губ и сочной спелой мякоти яблока, или как сплетение тонких пальцев рук сочетается под нежным подбородком с напускной строгостью? Как потупленный в тетрадь взор оставляет без присмотра черный пушистый веер ресниц? Как в кругу подруг воодушевленное озорным вдохновением лицо ее совершает открытие за открытием?
Невозможно уложить растрепанные мысли в логическую спираль школьных наук, когда твое сердце вплетено в ее тугую косу, когда нетерпеливое ожидание встречи исторгает в сторону небесного попечения возглас душевного отчаяния. Трудно представить, что было бы с ним вечерами, если бы не музыка. И когда его любимые «Би Джиз» с отечественного магнитофона «Весна-202» (дорогущий подарок внуку от двух еще крепких ветвей семейного дерева) сладкими голосами твердили ему, как глубока его любовь – лишь в ней одной находил он отраду и утешение.
Он искал любой повод, чтобы приблизиться к ней и сказать что-нибудь небрежное в сторону погоды, например. Подходил всегда как бы случайно, боком, нутром чувствуя, как пространство между ними уплотняется до непреодолимого барьера. Тон его к тому времени приобрел улыбчивую язвительность – верный признак внутреннего прозрения и здорового недовольства миром. О том, чтобы ненароком коснуться ее не было и речи. На уроках он научился подглядывать за ней особым способом – расставлял локти, подпирал лоб растопыренными пальцами и подолгу смотрел на нее сквозь тающие по краям розовые щелочки, отчего математичка однажды поинтересовалась, не болит ли у него голова. Нет, голова у него не болит, однако с сердцем явно не все в порядке. Но вот, наконец, она случайно ловит его взгляд, и беззаботная улыбка бледным голубем летит к нему с ее лица. Из черных мартовских туч прямо на горячее солнце падает белый снег!
Сладкая пытка первой любви, шрамы на сердце от которой остаются на всю жизнь, продолжалась до конца учебного года. По его окончании был устроен выпускной вечер, поскольку немалая часть восьмиклассников покидала школу, чтобы распорядиться остатком жизни по собственному усмотрению.
Первый взятый рубеж, как первая храбрость, и когда артист советской эстрады запел про честную любовь, он отбросил к черту условности и пригласил ее на танец, прикоснувшись, наконец, к своей мечте. Глядя через ее плечо, он потным голосом сообщил, что его любимая группа – «Би Джиз». В ответ она сказала, что обожает Аллу Пугачеву, а также сообщила, что родители решили отправить ее в техникум. «А как же я?» – вот вопрос, который после ее слов комом застрял у него в горле, начисто испортив настроение. В тот вечер он еще дважды танцевал с ней, но так и не посмел взглянуть на нее в упор.
Лет через пять он совершенно случайно встретит ее на улице и узнает. Остановит ее, назовется и будет жадно вглядываться в нее, отмечая неровный цвет лица и чуть заметную рыхлость кожи, прыщики над губой и на скулах, нечистые волосы и пухлые пальчики с потертым маникюром, которыми она будет жестикулировать перед его носом, обдавая потоком невыразительных слов. Быстро выяснится, что она свободна и не прочь встретиться, но он сделает вид, что торопится и покинет ее, так и не признавшись, кем она для него когда-то была. На прощанье она даст ему свой телефон, и он запишет и пообещает звонить, но так и не позвонит.
2
Если кто-то считает, что у красивой женщины – красивая жизнь, то с Наташей так все и было вплоть до четырнадцати лет.
«Папина дочка», – говорили про нее, едва личико ее расправилось и научилось улыбаться.
Многократное подтверждение этой замечательной схожести заставляет предполагать, что господь бог с его генетиками хочет, чтобы первый ребенок женского пола был похож на отца, а первенец-сын – на мать. Такое перекрестное опыление действует до поры до времени, ибо то, что не видно вначале, обязательно обнаружится позже, и папина дочка к старости непременно обретет материнский характер, а маменькин сынок на склоне лет обнаружит в себе отцовское нутро, и, стало быть, справедливое равновесие будет восстановлено.
Наташин родитель был мужчина видный и основательный. Из особых примет кроме раскидистой на обе стороны шевелюры, орлиного взгляда и твердого подбородка с ямочкой, имел мягкий баритон, которым, подыгрывая на гитаре, возбуждал к себе интерес на комсомольских вечерах и в беспартийных компаниях. В сочетании его имени и фамилии – Николай Ростовцев – люди мало-мальски образованные слышали прозрачный отзвук школьной хрестоматии, что в сочетании с его мужественным обликом заставляло испытывать к нему почтительную симпатию. Удивительно ли, что дочь его, еще не успев родиться, уже звалась Наташей. Наташа Ростовцева – в этом есть некое приобщение к эпическому, этакий деликатный замах на знатность, своего рода попытка через родство фонетическое намекнуть на родство духовное. Вот если бы так звали дурнушку, то ни приобщения, ни замаха, ни намека тут не было бы и в помине, а было бы лишь бестактное намерение без всяких оснований попользоваться нестареющим телом русской литературы. Можно себе представить, какую коллекцию ухмылок собрала бы ни в чем неповинная девушка, случись с ней такая неприятность!
Другое дело Наталья Николаевна, у которой папины достоинства, безусловно, усилились мамиными, поскольку очевидно, что жена Наташиного папы должна была обладать прелестями, соответствующими его качествам. А потому иначе, как ангелочком Наташу никто не называл. Маленькая Наташа не возражала и шла к зеркалу. Ведь это так важно для будущей женщины, когда, обращаясь к своему отражению, видишь там небесное существо в бантиках, сидящее на руках бога-отца! К трем годам проникли в нее его приметы – раскидистая шевелюра, орлиный взгляд, твердый подбородок с ямочкой, крепкий прямой нос, добрый рот с мягким баритоном и мужественный запах – проникли, легли на душу и стали эталоном.
В детском саду не было отбоя от охотников до ее руки. Она гуляла со всеми по очереди, но замуж выходить ни за кого не собиралась. Умиление окружающих сделало ее если не капризной, то своенравной, что мальчишкам почему-то нравилось.
Она прилежно поглощала ту сказочную пищу для детского ума, от которой натурам впечатлительным позже с таким трудом приходится избавляться. Знала много стихов и декламировала их с блеском в глазах. Разучивала новые песни, и не только потому, что этого требовала мама-педагог. В квартире вместе с ними проживало пианино, злорадно поджидая, когда она подрастет.
В восемь лет она была спокойной и независимой девочкой, внимания которой домогались одиннадцатилетние мальчишки, не говоря про ровесников. Поскольку были они все потомственные отпрыски чумазых трубоделов, какими славился родной Первоуральск, то и услуги по переустройству окружающего мира они предлагали соответствующие. Например, привязать к кошачьему хвосту пустую банку и отпустить кошку. И привязывали, и отпускали, ища ее одобрения. Но пригрела она своим вниманием лишь невзрачного мальчика без имени, который принес ей откуда-то грязного котенка.
Мальчишки – это скучно. Низкорослые и коренастые, щербатые и наспех стриженные, они очень хотели быть взрослыми. Они возникали перед ней с таинственным огоньком в глазах – она их не замечала. Они курили и норовили коснуться ее руки – она морщила нос. Они мечтали летать – она их не понимала. Они уверяли, что на небе сидит боженька – она говорила «Глупости!» и уходила играть в классики без малейшего интереса к причинам повышенного к ней внимания.
Ей было позволено все. Ей наперебой предлагали золотую рыбку и ветер, что склеивает ресницы, воздух на лугу и велосипед, место вратаря и кубик Рубика, блатной нож с наборной ручкой и уж совсем странные вещи – спрятаться в темном сарае. Малолетний кобелек лет двенадцати, скороспелый почитатель онанизма, воспроизводил все ужимки взрослого соблазнителя – таинственно щурился, кривил рот и подмигивал, затем наводил на нее гипнотический огонек беспородных желтых глаз и, понизив голос, говорил: «Ну чё, идем?» Подружка Катька, что состояла при ней адъютантшей, и в чьи обязанности входило пробовать и оценивать предлагаемые дары и услуги, была послана туда вместо нее. Оказалось, что в темном сарае целуются, и что, по мнению Катьки, это ништяк. Разумеется, она туда не пошла. Ее единственным мужчиной на свете по-прежнему оставался любимый папочка.
Размеренная провинциальная жизнь в заводском доме с центральным отоплением и кнопкой звонка у двери, постоянно занятые умственным трудом родители, школа обычная и музыкальная, аккуратные тетрадки с пятерками, учебники, обернутые мягкой бумагой, домашние задания и тихие бабушкины шаги за спиной, неподатливые клавиши и оладьи с малиновым вареньем, теплая постель и зимняя стылая темень за окном, в которой нужно отыскать школу, предрассветные позевывания и Катькин торопливый, подогретый горячими новостями говорок.
К двенадцати годам черновик ее пропорций сформировался, смущая воздыхателей ранней соблазнительной гибкостью. Но поскольку желание нравиться в ней еще не проснулось, то и признание собственных достоинств задерживалось до лучших времен. И когда однажды верная толстуха Катька пожаловалась ей на жизнь: «Тебе, Наташка, хорошо, ты красивая!», она оказалась неспособна оценить всю глубину Катькиной грусти. И когда в тринадцать прибежала показать матери трусики с характерными следами, к появлению которых теоретически была готова, и мать, в задушевном порыве прижав ее к себе, дрогнувшим голосом объявила: «Совсем ты у меня взрослая стала!», ее нимало не тронул тот факт, что вот она и превратилась в готовое прорасти зерно.
Теперь уже и старшеклассники запускали в нее прицельные взгляды. Ее же одолела страсть к физкультуре. Все виды ей нравились, но особенно полюбились лыжи и бег на длинные дистанции. После дистанции она была возбуждающе хороша. Летом – с прилипшими к матовому лбу каштановыми прядями, испариной возле носика и блестящими глазами, сверкающая длинными голыми ногами и принимающая, сама того не ведая, позы грешной невинности. Зимой – с румянцем в кремовых обводах, в лыжной, сдвинутой на затылок шапочке и поигрывающая складным гибким телом, без всякой, опять же, заботы об изяществе поз.
Кажется, только здесь и проявлялся ее темперамент, глубоко запрятанный в остальное время под испытующим взглядом способной и воспитанной девочки. Сдержанность и полное отсутствие кокетства – словно задумали ее для какой-то высокой и непогрешимой цели.
Хотя были еще, пожалуй, обстоятельства, где проявления ее личности доходили до открытого восторга. Грандиозные походы по Чусовой, что регулярно совершались отцом и его товарищами, и в которые брали ее, остались в памяти залежами золотой руды.
Эта многоликая переменчивая река, одинаково способная служить аллегорией настроениям, противоположным по смыслу, была словно будущая жизнь – непредсказуема и восхитительна. Земноводное, обреченное на вечное движение существо с цветом и повадками змеи, чье дно не способно разглядеть даже летнее солнце и чьи крутолобые берега прикрывают наготу зеленой шубой, из-под которой нет-нет, да и проступит любопытное каменное лицо, чтобы взглянуть на распростертое перед ним сельцо. Привалы на пологих песчаных берегах, прохладная свежесть упругой влажной кожи, бурные, рождавшие жалость судороги серебристого рыбьего отчаяния, бормотание смолистого лешего, пробуждавшее странные пугающие желания, костер с ароматом дальних дорог, уха со звездами, гитара, языческий танец огня, смешные и грустные песни, мягкий баритон ее отца и сам он, душа компании – добрый, легкий, несравненный. А вокруг Урал – вольный, неприступный, могучий, сказочный…
Была у нее в седьмом классе соперница, Нинель Скворцова – девочка не менее яркая, но вздорная и недалекая, собиравшая вокруг себя сверстниц себе под стать. Девочки тихие и серьезные жались к Наташе, она же принимала их под крыло, не спрашивая себя, за что ей такой жребий. От их соперничества класс напоминал вешний поток, меж высоких берегов которого колыхался капризный прибой предпочтений. Были тут и там свои перебежчики, разведчики и диверсанты.
На переменах Наташа выслушивала донесения, сплетни и ябеды, выносила приговоры, мирила и разводила, и в отношениях с подружками последнее слово всегда было за ней. С мальчишками обращалась, как с существами глупыми, назойливыми и бесполезными, чем отдаляла от себя обидчивых, пополняя ими свиту соперницы и оставляя себе самых стойких и молчаливых. И все же она, скорее, держала оборону: не в ее вкусе было строить козни.
До чего же он несносен, этот диковинный мир набирающего силу самосознания, будь то личность или целый народ! Расширяясь и упираясь в границы, он действует бессознательно, как газ, которому непременно надо если не разрушить, то продавить. Должно пройти время, чтобы он прозрел и смирился с равновесием.
Тем летом ее в последний раз отправили в лагерь. Достигшая верхнего предела пионерского возраста, она оказалась в первом отряде, обнаружив уникальность своего положения в сравнении с прочим неспелым красногрудым населением лагеря. Кто бы сомневался: ведь для девочек первый отряд – это пробирка, в которой юное девственное вещество, соединенное с солнцем, ветром, водой и вниманием, вступает в реакцию с псевдовзрослыми ожиданиями мужского амфитеатра. Это, если хотите, последняя стадия посвящения, которую родной пионерский монастырь устраивает своим воспитанницам перед вольным странствием. А всякому посвященному, как известно, положено знать мирские тайны.
Нельзя сказать, что тайны эти были скрыты от нее раньше, имея в виду окружение всезнающих подруг. Просто пикантные подробности межполовых отношений всегда относились ею в разряд «бессовестных» и скользили мимо ушей, не проникая внутрь. И хотя на пляже особенности девичьей анатомии в сравнении с мальчишеской со всей очевидностью проступали наружу, она ни по доброй воле, ни под влиянием нескромных подруг не углублялась в запретную с детства зону.
Впрочем, принимая во внимание нюансы отечественного семейного быта, принуждающего родителей заниматься любовью чуть ли не на глазах своих детей, или, как в Наташином случае, отгородившись дверью спальной, здоровому детскому любопытству вполне по силам почерпнуть из их придушенной возни кое-что полезное для своего кругозора.
Вот и Наташа, влетая воскресным утром в родительскую спальную, не раз, случалось, заставала их в объятиях пусть и остывающих, но при ее появлении быстро и стыдливо распадающихся. Обнаружив их смущение, Наташа спешила ретироваться, чтобы избавить себя от неловкого прикосновения к чему-то такому, чего стыдятся даже сами взрослые. В такое утро мама была главной в доме, и папа, попадаясь на ее пути, с особой нежностью целовал ее, а она с томной грацией отвечала на его нежности. Видя в этом продолжение того тайного и неудобного, что между родителями недавно было, вникать в особенности взрослой жизни Наташа, тем не менее, не спешила.
Конечно, в половых вопросах пресное мамино меню проигрывало против острой и жирной пищи Наташиных подруг. Но все мамины попытки насторожить и упредить, также как подруг просветить и возбудить стекали с нее розовым дождем искреннего недоумения.
Может, с высоты наших дней такое пугливое неведение кому-то из молодых покажется неубедительным, но не стоит забывать, что это было время стыдливых запретов и глухих намеков, время, когда слово «презерватив» произносилось с оглядкой и понижением голоса, а девичьей честью дорожили крепче, чем партбилетом. Подкрепленные неписаными канонами воспитания, соображения эти способствовали строгости и благочестию нравов, порушенных ныне приключившейся с нами неоновой революцией, всеми средствами внушающей ошалевшему обывателю, что похоть человека и есть его суть.
Но вот, наконец, Наташе четырнадцать, она в лагере и спешит приобщиться жгучих тайн. Общественный долг был задвинут ею далеко на задний план, уступив место неудержимому напору чувств и обмиранию внутренних органов.
Словно голоногие спутницы богини юности бродили они в свободное время по двое, по трое, горделиво расписывая своих дружков или признаваясь в симпатиях к ничего не подозревавшим, а то и вымышленным героям. Ей пришлось выдумать образ воздыхателя, тем более что выбирать было из кого. В ее рассказах он выглядел вроде пуделя – большим, лохматым и верным. Заслонившись полуправдой и благоразумно поддакивая, она жадно впитывала сочные подробности чужих откровений, трактовкой сильно напоминавших сомнительный прогноз погоды. Все ее товарки были пока невинны, но целовались уже по их словам отчаянно и, главное, знали, где следует остановиться.
Слушая их сказки, развешивало уши солнце, молодел сосновый лес, возбуждались невидимые птицы, распрямлялся травяной покров, струили дурман потайные железы цветов. После отбоя те же разговоры велись под вертлявый скрип пружин и писк комариных бормашин.
Через два дня Наташа решила – надо влюбиться, как все. Она принялась присматриваться к наличному мальчишескому составу, и ее идеал совпал с командиром их отряда и капитаном футбольной команды лагеря Лешей Переделкиным – крепким, симпатичным и до строгости серьезным мальчишкой. Оставалось обратить на себя его внимание.
Она повадилась являться на тренировки и, стараясь попасть ему на глаза, прогуливалась по беговой дорожке. Во время игры, ярко и страстно болела, вскакивала, хлопала и кричала «Давай, Леша, давай!». Но поскольку то же самое делали почти все девчонки, его внимание на нее никак не обращалось.
Если где-то поблизости раздавался Лешкин голос, она непроизвольно искала глазами его обладателя. На построениях поедала юного командира немигающим взором, чтобы поймав его взгляд, тут же улыбнуться. Помимо этого молча и жадно прислушивалась к разговорам, в которых так или иначе упоминалось его имя. Однажды ночью он ей даже приснился. Однако добилась она лишь того, что одна из ее новых подружек смутила ее, сказав: «Ты че, тоже в Лешку влюбилась? Не трать время, он за Юлькой бегает!»
Это было бы смешно, если бы не было похоже на заклятье – Юлька была яблоком с той же яблони, что и Нинель. Здесь лишний раз подтвердилось ее похожее на миссию свойство: там, где она появлялась, девочки тихие и серьезные жались к ней, как к положительному магнитному полюсу, и при этом обязательно находилась стерва другой полярности, что собирала вокруг себя всех остальных.
Между тем ее на все лады расхваливал старший пионервожатый Костя, на нее заглядывалась добрая половина лагеря, ее записками и через подружек каждый вечер звали на свидание. Она возлагала большие надежды на прощальный костер, но оттесненная Юлькой и ее хохотушками, очутилась сбоку и позади Лешки, где задорными песнями выворачивая себе душу, весь вечер прощалась с его бессердечным профилем, озаренным растущей вверх рыжей бородой костра.
Возвратившись из лагеря, она все чаще стала посматривать на себя в зеркало.
3
Узнав через неделю, что Инку на все лето отправили на дачу, он к радости родителей согласился ехать к деду в Кузнецк.
Все его кузнецкие друзья оказались на месте и в добром здравии. Они повзрослели, и если бы он не удовольствовался радостным бабушкиным утверждением, какой он стал большой, то примерив матрицу их перемен на себя, испытал бы законное удовлетворение от параллельности их метаморфоз. Тем более что собственного взросления, как и все в его возрасте, он не замечал и в зеркало глядел, только укладывая поперек взгляда тонкие светлые волосы. Но, во-первых, сама по себе такая примерка малоэффективна даже в зрелом возрасте – стареют все, но только не мы – а во-вторых, и без того было очевидно, что они обогнали его: руки в карманах и папироса в зубах была их обычная нынче поза. Как обещанием наверстать отставание он обменялся с ними крепким рукопожатием и всем лексиконом мегаполиса погрузился в переоценку мужских ценностей, побитых за год молью времени. Он явился сюда не с пустыми руками: он привез им «Би Джиз», о которых здесь слыхом не слыхивали.
Последовали упоительные дни абсолютной свободы, насколько мог быть свободным в России летом восемьдесят второго года пятнадцатилетний юноша, лишенный корысти, подлости, коварства, похоти и уроков. Благословенные дни, когда можно было безнаказанно смеяться над несовершенством мира, не заботясь о том, что когда-нибудь мир обнаружит твое собственное несовершенство, превратив кожу и душу в пергамент оскорбительных надписей. Незабвенные часы, опаляемые солнцем, остужаемые водой, обласканные горячим песком и унесенные розой ветров вместе с запахом полыни на все четыре стороны!
День начинался среди чуткой прохлады родительского дома. К десяти утра свет в окне набирал силу, отчего срабатывали фотоэлементы глаз и будили его по частям: сначала за голову взлетали руки, затем вздымались колени, потом выгибалась спина и, наконец, отправив все перечисленное по местам, включалась хлопающая глазами голова. Продолжая лежать, он прислушивался к миру, пока не обнаруживал за стенкой движение. Тогда он вставал и шел за стенку. Бабушка и дед приветствовали его. Пригоршня воды на еще не знакомое с бритьем лицо и завтрак – жареная колбаса с яичницей, хлеб, масло, молоко. «Не торопись!» – просила бабушка, улыбаясь.
По окропленной росой дорожке из вросшей в землю каменными корнями плитки, мимо сочной яблочной тени, к калитке и дальше, на середину улицы, где меж продавленной колеи стелется во всю длину улицы зеленый коврик – чтобы взглянуть, не маячит ли в ее концах кто-нибудь из своих. Если нет, то шел выяснять, в чем задержка. Обычно задержка происходила от хозяйственной занятости, которой все его друзья были, так или иначе, привержены.
Его здесь любили и заботами не грузили. «Чем тебе помочь?» – спрашивал он для порядка бабку. «Ничем, Димочка, ничем! Сходи лучше к деду, может, ему что надо…» – отвечала бабка. Он шел к деду, и дед говорил: «Ничего не надо, Димка, спасибо! Лучше бабушке помоги с прополкой, когда время будет!»
«Совсем на Костю не похож. Вежливый очень. Костя, тот разбойником был» – сказала однажды, как ей показалось вполголоса, бабка деду. На что дед резонно заметил: «Какие его годы, успеет еще…»
Что такое быть разбойником? Ходить босиком в подвернутых штанах с папиросой в зубах и, не вынимая рук из карманов, звонким матерным словом подкреплять несовершенные устои жизни? Он попробовал представить себе отца в таком виде и смутился.
Собравшись, как минимум, втроем, обсуждали, чем заняться. Если все приметы были в пользу жаркого дня, и от небесной жаровни уже с утра веяло подгоревшим сизым маревом, а брошенные ветром на произвол судьбы листья готовились к изнурительному отражению солнечных атак – они шли на речку с неосторожным именем Труёв, которую они, спасая от грубых шуток, звали Труйка. Там и тянулось незаметно их время, перематываемое кассетой магнитофона и перемалываемое крепкими, как их зубы недетскими словами. Рано или поздно появлялись Галка с Тамарой, делая их суровую мужскую жизнь возбудительной и лучезарной.
Не имея возможности обнажиться друг перед другом в бане, мужчины и женщины приходят для этого на пляж. Таково всеобщее раздевательное свойство береговой полосы, где стыдливые приличия признаются обществом утратившими силу, в какой бы части света они ни действовали. Явив себя компании, девчонки намеренно неторопливо стягивали с себя платье. Сжав коленки и скрестив внизу руки, они прихватывали его с двух сторон за подол и, выворачивая наизнанку, тянули вверх, оголяя до впалого живота то, что скрывалось под ним. Оказавшись в нем с головой и руками, они подтягивали его изнутри, пока не освобождали голову, которой тут же встряхивали, осаживая волосы. Затем, держа перед собой напяленное на руки платье, окончательно освобождались от него, позволяя ему упасть на траву.
Бросая укромные взгляды на их в высшей степени волнующее устройство, он чувствовал себя стаканом, который стремительно наполняется газировкой, переливаясь через край.
«Ты смотри, Димыч, какие у Галки цыцы! – понизив голос, цедил в его сторону самый старший из них, семнадцатилетний Саня. – Ее уже пороть можно запросто!»
Он краснел и отворачивался. Что можно делать с Галкой, которая была на год его старше, кроме как целовать, он толком еще не знал.
Галка, чертовка, и вправду, была хороша. В отличие от застенчивой Тамары, которой не было еще пятнадцати, и чье тело пока не напиталось соками, Галка на ощупь (а проверить это она позволила сама, когда подойдя и обратившись к нему спиной, попросила отряхнуть с себя песок) представлялась ему вроде гладкого упругого листа алоэ, растущего у него на подоконнике. Казалось, продави ее ногтем, и живой, пахучий сок любопытной каплей проступит наружу!
Иногда она принималась смотреть на него с иронической улыбкой, как смотрят на человека, имея в виду его мало кому известный конфуз, и вдруг прыскала в сторону, будто внутри у нее срабатывал клапан смешливого давления. Причины этой ее манеры он понять не мог.
Для разнообразия они усаживались вместе с мальчишками играть в карты, и в его наэлектризованное поле проникало вкрадчивое приглашение коснуться их припудренного песком тела. Следуя перипетиям игры, девчонки азартно изворачивались, их коленки порой распадались больше, чем следовало, и тогда неведомое треугольное существо, что скрывала собой передняя часть трусиков, дышало через щели между кромками и телом, как сквозь жабры. На животах и над бедрами у них вспыхивали тонкие морщинки, на плечах шелушилась сгоревшая кожа. «Так нечестно!» – возмущались их надутые губки.
Таким вот образом, взбивая пенными брызгами бурую воду и прилипая глянцевыми телами к горячему песку, перебивая друг друга и не обращая внимания на посторонних, неслись они по течению времени, пока волчий аппетит не разгонял их по домам, куда они, поблескивая бронзой и медью, брели в одних трусах, чтобы вечером вновь сойтись и проводить солнце на посадку. Не считая девчонок, их было семеро возрастом от тринадцати до семнадцати.
«Не торопись!» – просила бабушка, улыбаясь и наблюдая, как он поглощает обед.
Наступал вечер, и набухшее лиловое небо опускалось на землю, выдавливая из тенистых палисадников влажные, загустевшие ароматы. По одному приходили к Санькиному дому. Толковали о разном или сосредоточенно слушали «Би джиз». На лицах проступали солнечные поцелуи, а загар на руках цветом напоминал копченую колбасу.
Когда проступали звезды, он рассказывал им про созвездия и космос, о котором много читал. Если на звезды долго глядеть, то кажется, что они плывут. Если смотреть всем вместе, кто-нибудь обязательно обнаружит там спутник, ткнет пальцем в небо и вскрикнет: «Вижу! Вон там! Смотрите, смотрите!..» И все станут пристраивать взгляд в направлении его пальца и горячиться: «Где, где? Не вижу… А, вижу!»
«Откуда ты все знаешь?» – спросила его однажды Галка, когда друзья разошлись, и они, прикрытые ветвями черемухи, оказались одни возле ее дома.
«Книжки надо читать!» – покровительственно изрек он, ощутив, как крупная дрожь, возникнув где-то в глубине живота, волной прошла по телу. Слабый звездный свет, исторгнутый миллионы лет назад – по существу реликтовый, мнимый, как записи «Би Джиз», что давно отделились от своих творцов – обрел после стольких лет пути последний приют на ее лице, оттаивая от космического холода в тепле ее кожи.
«Про это в книжках нет!» – загадочно произнесла она.
«Про что – про это?» – не понял он.
«Про это самое!» – улыбалась она в прозрачной темноте.
«Ну, про что?» – занервничал он.
«Про то, что моя мать целовалась с твоим отцом!»
«А ты откуда знаешь?» – растерялся он.
«Знаю, раз говорю!»
И не дожидаясь ответа, ткнулась губами в его губы и убежала.
Вернувшись к себе, он опустился на крыльцо и, растерянно улыбаясь, обратил лицо к звездам. Лохматый пес по кличке Верный возник перед ним живой частью темноты, взобрался к нему и улегся рядом. Он положил руку на его спину и запустил пальцы в шерсть. Собачье тело под шерстью было теплое, как лужи после дождя.
4
Ах, этот день их первой встречи и та восхитительно румяная аллея под дряхлым взором осеннего солнца, где разжимая бессильные восковые пальцы падали на землю листья, и прощальное безмолвие их растерянных траекторий сплеталось в тонкую паутину грусти. Человек такого сорта, как он, про которого французы непременно сказали бы «хорош во всем – негоден ни к чему», имея в виду его неустроенное семейное положение, готов плести ее из всего, что есть под рукой. Задумчивая мечтательность, дежурная спутница одиночества, поселила в нем с некоторых пор предчувствие долгожданного появления счастливого номера, который выкидывает иногда судьба, чтобы заполнить им пустые клетки нашего лотерейного бытия.
Все его романы заканчивались привычным удивлением одному и тому же прозаичному расчету, который его избранницы старательно скрывали иллюзионом безгрешного прошлого. Поначалу он, очарованный зритель, попадал под обаяние их аудиовизуального монтажа, но довольно скоро цветная пленка лирических нежностей обрывалась, зажигался скудный свет отрезвления, и мерцающие грезы сменялись душноватым зальцем с потертыми креслами и потемневшим экраном, откуда ему хотелось поскорее сбежать. К счастью или сожалению, такое открытие не добавляло его доброй натуре цианистой мудрости, а вместо этого вселяло надежду на удачу в следующей попытке.
Последняя его подружка, еще три года назад уличенная в вынашивании брачных планов, подходивших к ее тридцатидвухлетней сочной внешности, как розовое к голубому, ни за что не желала расставаться друзьями и, поддавшись отчаянию, вела себя то дерзко, то стыдно, то смеялась, то плакала, теряя достоинство и привлекательность. И хотя после четырех лет тесного знакомства житейская точка зрения находила ее кандидатуру на роль его жены наиболее подходящей – не было все же в его к ней чувствах огонька, искры, того божьего повеления, которому невозможно противиться и о чем он втайне не переставал мечтать. А между тем постель была ее стихией, и если он так долго не решался с ней порвать, то ее шаловливая, распаляющая, ненасытная техника была тому причиной. Но кто сказал, что это серьезное основание для брака?
Их затянувшееся расставание длилось полтора месяца. Он не отказывал ей во встречах и как мог, утешал. Говорил, что он ужасный человек и что она будет с ним несчастна, что не стоит терять с ним времени, и лучше, пока не поздно, найти другого, тем более, что с ее кукольным личиком, приоткрытым капризным ротиком и глазами невинной лазури, которые так и хочется целовать, сделать это будет проще простого. В подтверждение он прижимал ее к сердцу и прикладывался губами к ее мокрым глазам, чем, разумеется, только питал ее астеническую надежду. Он искренне ей сочувствовал, и жалость к ней превосходила то отчуждение, что в очередной раз возникло в нем, бог знает почему.
И вот неделю назад она позвонила и попросила о прощальной встрече. Он согласился. Пользуясь отсутствием матери, она увлекла его в спальную, где он, поддавшись упругому натиску обнаженных форм, дважды оросил ее дождем полуторамесячного воздержания. Она ушла от него довольная, с торжествующим блеском в глазах, пообещав больше не звонить никогда…
Сегодня выдался славный денек. Солнце с утра прожгло в одеяле облаков многочисленные дыры, серая ткань расползлась, и ветер, растолкав ее остатки по дальним углам, сник. Стеклянная голубизна окон цвета рекламной воды украсила четырехкомнатную сталинскую квартиру с видом на Московский проспект. Он встретил открытие торгов чашкой кофе и прикупил немного «Райки», «Лучка» и «Сбера», с целью поиграть внутри дня, чтобы прочистить нюх. Провозившись с ними до половины первого, он оставил бумаги на счету и заторопился на прогулку. Пронзительно голубой глубокий воздух из морских кладовых проник в него во дворе, коснулся чистых струн и наполнил тихим звуком неведомой радости. Скорым шагом он устремился в сторону парка.
Попав на проспект, он влился в шаркающий поток и вскоре нагнал поперечное препятствие из трех стрекочущих девчушек, по виду едва достигших переходного возраста. Сбавив шаг, он стал искать возможности обогнать досадный заслон, но тут до него донеслись слова, которые даже в мужском исполнении требовали понизить голос, предварительно оглянувшись по сторонам. Удерживаемый болезненным любопытством, он изменил намерение и остался позади, вслушиваясь в их по-детски нескладную грубую речь, пока до него не дошло, что одна из них живописует, в каких позах ей пришлось побывать прошлой ночью. Судя по искристому энтузиазму, в эти игры она начала играть не так давно, и их новизна ее пока забавляла. Подружки в ответ дергались, тоненько и возбужденно повизгивали, словно речь шла о бесплатном мороженом. Повиливая выпирающими задками, поигрывая узким мятыми спинкам, неухоженные, с неопрятными повадками, они семенили по Пулковскому меридиану, не замечая никого вокруг, хватая друг друга за руку и помечая интересные места круглым, как глаз совы кличем: «Да ты чо-о-о!..» Он так увлекся жанровой стороной сцены, что чуть не пропустил вход в парк. Спохватившись, он некоторое время глядел им вслед, словно ожидая, что они вот-вот растают, подтвердив тем самым свою дьявольскую фантомность. Можно себе представить, какого сорта дружки лелеют их досуг! Что же из них выйдет, и кого они народят, когда придет время!
Публичная исповедь покоробила его и возбудила. Как он, оказывается, далек от сегодняшних нравов! Эти нынешние испорченные девочки, которые годятся ему в дочери, уже вытворяют такое, что далеко превосходит весь его богатый и целомудренный опыт! Доведись ему, не дай бог, оказаться в постели с одной из них, то не он совратит ее, а она его! Противясь смущенному воображению, он представил, как бы это выглядело – невесомое худенькое тело с кукольным испорченным личиком цепляется за него обломанными ногтями, имитируя повадки взрослой женщины и испытывая на самом деле не удовольствие, а смешливое любопытство. Густой краснолицый стыд заполнил самые укромные уголки его существа. «Господи, куда мы катимся!» – подумал он, оглядывая мирных с виду граждан образца две тысячи седьмого года, что серой мошкарой клубились перед куполом метро, которое всасывало их одной половиной рта и выплевывало другой.
Проникнув в парк, он огляделся. Белое, без единой кровинки солнце бродило по недоступным ему летом аллеям, трогало черные скелеты деревьев, трепало по щекам румяные клены, обнажалось в голубом зеркале озер. Еще минута и грянет роковое свидание, и вколоченным одним махом гвоздем скрепит помост его благополучного прошлого с будущими испытаниями. Уже учтен закон случайных ошибок и рассчитана точка встречи, и пусть невыносимо хорош прохладный воздух, но судьбоносная встреча не ведает предвкушения, не помечена в календаре и, как всякий внезапный ожог, способна поначалу причинить боль.
Никто не знает, отчего приходит ее время. Может, супружеская чета света и тени (ибо, что такое тень, как не преданная супруга света) своей расчетливой игрой оживила в душе нечто глубокое, лазурное, негаснущее, полное покоя и благого обмана. Или пятнадцать его отвергнутых любовниц, замешав колдовство на запахах от Ив Роше и Рив Гош, сообща приговорили его к пытке безответной любовью. А, может, виноват вчерашний дождь, что начертил на стекле расплывчатый маршрут их соединения. А, может, это не так, и Повелитель всего, знавший за миллионы лет о его рождении, знал и все остальное, потому что так предначертано.
А вот и Она собственной персоной.
«Как! Такая совершенная и не моя?!» – остолбенел он, провожая ее растерянным взглядом. Крылатый небесный наводчик доложил наверх о попадании и, согласно последовавшим инструкциям, возложил расчет дальнейших траекторий на пронзенное сердце.
Следуя отрешенным от всего прочего взглядом за ней (черной королевой) и ее спутницей (черной ладьей), он черным слоном совершил выпад к аллее, в которую они по желтому полю углубились, готовый, если они решат двигаться по краю доски, совершить обходной маневр и встретить их на одноцветном поле. Убедившись, что они повернули обратно, он быстро сообразил, где сможет попасть им на глаза, ретировался на другой край аллеи и, дождавшись их появления, двинулся навстречу. Не доходя до них метров пяти, он увидел, что ладья как бы нечаянно уронила часть доспехов (перчатку) и не хочет этого замечать. Он возликовал и, подчиняясь рыцарскому кодексу, ринулся исполнять красноречивый приказ. Возвращая перчатку, он успел разглядеть романтичный легкий шарфик, прячущий озябшие руки на груди у прекрасной незнакомки, ее скрученные на затылке в тугой узел волосы с благородным отблеском полированного каштана, крупные бриллиантовые сережки и пронзительно-светлые глаза на строгом, красивом лице, где затаилось царственное равнодушие.
Он дрогнул, онемел и упустил момент знакомства. Не пытаясь стронуться с места, он растерянно наблюдал, как дистанция между ними растягивается до того предела, за которым попытка присоединиться выглядела бы как навязчивая и неприличная. Наконец он заставил себя продолжить путь. Как трудно сохранять фланирующую независимость, желая всем сердцем обернуться! Он миновал памятник полководцу и тут же обернулся – они медленно удалялись в сторону СКК. На его прозрачное счастье их фигуры хорошо угадывались в немногочисленной массовке, а неторопливость позволяла предположить, что они повернут назад. Так оно и вышло. Прикрываясь бронзой и мрамором, он дождался подходящего момента, вышел из-за укрытия, поравнялся с ними и, свернув, как на параде голову, осторожно им улыбнулся. «Еще раз спасибо!» – помахала ему подруга-ладья, однако, черная королева даже не взглянула в его сторону.
«Нет, нет, она не той породы и не того достоинства, чтобы знакомиться с первым встречным!» – принялся он ее оправдывать. А кроме того, она обязательно должна быть замужем. Невозможно представить, чтобы она была не замужем! А если так, то о каких тут, позвольте спросить, видах можно говорить? Лишь один раз он имел связь с замужней женщиной, и с тех пор по горло сыт той нервной беспорядочной остротой ощущений, которые сопровождают заговор по имени супружеская измена. Возможно, кого-то это волнует, ему же только мешает. Вдобавок, ему не понравилось амплуа совратителя, чья разрушительная роль, подмеченная им еще во времена раннего чтения «Мадам Бовари», никак ему не подходила. Ну, и как тут быть?
И он сделал то, что не делал никогда – держась на приличном расстоянии и прячась за прохожими, проследовал за ними на проспект, где они перешли на другую сторону и заторопились в направлении центра. Не доходя до Кузнецовской, они остановились перед внушительной дверью, за которую, применив кодовый ключ, и проникли. Он прошел мимо обвешенного щегольскими табличками подъезда. Итак, в этом доме, судя по всему, она живет или работает. Он развернулся и отправился домой. Было без пятнадцати два.
Именно с этого часа главная тема симфонии его жизни, составленная до сего времени из вольных звуков бродячей свирели, набрала силу, вознеслась, захватила и больше уже не отпускала.
Раз уж речь тут зашла о музыке, то следует заметить, что был он самый, что ни на есть, ее стихийный потребитель. В свое время родители, глядя на подплясывающего, подпевающего мальчонку имели мысль отдать его в музыкальную школу, но посовещавшись, мысль прогнали по причинам самым прозаическим – не хватало ни времени, ни терпения, а потом и вовсе стало поздно. Жалел ли он о том, став взрослым? Ничуть: музыка всегда была с ним. До поры он, как и все следовал общим вкусам – франкомания, италомания, дискомания, не считая державшихся особняком «Битлз», «Би Джиз», «Пинк Флойд» и прочих, каких только можно было в то время достать, включая доморощенный «Аквариум», в чьей не совсем чистой воде водились странные земноводные.
В шестнадцать лет, переболев общедоступным, он увлекся джазом, что говорило, скорее, о его склонности к замкнутости, чем об изысканном музыкальном вкусе. И хотя он везде полагался на чутье, сбить его с толку было вполне возможно. Слушал он так, будто подставлял разгоряченное лицо свежему ветру – не заботясь о его химическом составе, ни о происхождении – недостаток, но и великое преимущество всех неискушенных в нотной грамоте: тех, кто слушает музыку сердцем, а не ухом.
В восемьдесят девятом году он приобрел видеомагнитофон и, задыхаясь от жадности, принялся поглощать все, что раньше от него скрывали, в том числе «Лихорадку субботнего вечера». Наконец-то звуковая дорожка фильма совпала с видеорядом, заполнив пробел в эстетическом чувстве и попутно взбудоражив порядочность. Оказывается, фильм вовсе не был похож на розовую лирическую комедию, как утверждала ранее музыка. Более того, на первом месте там находилась неприкрытая сексуальная озабоченность, чему вся романтическая мишура, в том числе и его обожаемые «Би Джиз» служили лишь прозрачной возбуждающей ширмой. А это уже пахло предательством!
Впрочем, в грохоте цепей, которые население страны в то время с удовольствием теряло в обмен на целый мир, обещанный им горячими головами, потонули и не такие откровения. Новые видеоинструкции быстро заполняли молодые мозги, откуда исчезали неокрепшие идеи, уступая место понятиям. С одной стороны Брюс Ли крушил направо и налево все, что находилось выше и ниже мужского пояса, с другой стороны Микки Рурк говорил и показывал, как манипулировать верхней и нижней половинами женского тела. В результате жизнь оказалась гораздо проще, чем о ней у нас принято было думать. Открылись недоступные ранее удовольствия, и лишь вопрос денег стоял между желаниями и их достижением. Деловой цинизм менял обстановку и мебель, а вместе с ними и отношения между полами.
Что поделаешь – если счастья нет на светлой стороне Луны, его идут искать на темную…
5
Питерская осень, чью вялость и слабоволие не удавалось растормошить даже кипучим заморским ветрам, окончательно смирилась, махнула на себя рукой, оделась в серое, поникла. Грустить и плакать стало ее любимым занятием. Что поделаешь: осень в этих краях – это не та дородная южная дама, которая сдается с лазурным достоинством, а северная пасмурная немощь, что собрав воедино все мелкие атмосферные неприятности и поместив их между летом и зимой, как между зрелостью и старостью, пускает грустные корни в нашей душе. Таково здесь межсезонье – невнятная часть питерской жизни.
И все же: нет плохой погоды – есть плохое настроение. Именно оно с некоторых пор поселилось у Натальи Николаевны в том потайном сердечном месте, где на аптекарских весах достижений и досад составлялось ее душевное равновесие. Выходило, что судьба, как паршивая кошка, облюбовала чашу с неприятностями и наведывалась туда гораздо чаще. В итоге разность подношений равнялась Наташиному незамужнему и бездетному положению, что в последнее время вызывало у нее плохое настроение и неважно влияло на стратегический ресурс, каким являлась ее внешность. Вдобавок ко всему, разность эта перебралась в ее неспокойные сны, где и совокуплялась по ночам с сочувственным шорохом дождя. Занятная ситуация, если принять во внимание, что в глазах других она выглядела красивой, рассудительной и успешной – словом, сама себе на уме.
В тот день осень вышла из комы и обнаружила, что над ней склонилось голубое в белых прожилках небо, а в углу хорохорится малокровное октябрьское солнце. Наскоро пообедав в офисе на Московском, Наташа в сопровождении еще одной жрицы Фемиды, которую она из лучших побуждений относила к своим подругам, отправилась через дорогу в парк Победы на прогулку.
Всякий поторопившийся на нее взглянуть не мог не признать, что ее восхитительный, неприступный облик был бесконечно далек от той продажной, растиражированной красоты, которую бессовестные коммерсанты, похитив с олимпийских вершин, приковали к галерам рекламы. Однако те счастливцы, кому удалось бы поймать ее взгляд, не нашли бы там ничего, кроме равнодушной, отрешенной строгости. Довольно уже неприятностей пришлось ей пережить, чтобы с досадой назначить их причиной свою незаурядную внешность (или неумение ею пользоваться?), и не искать в ней самоупоения.
Они вошли в парк, умерили шаг, и в глазах Наташи появился интерес. Оглядывая разоренные осенью места и теша душевную смуту жалкими остатками того зеленого пиршества, что царило здесь совсем недавно, она глубоко и протяжно вдыхала свежий, с заметным привкусом прелости воздух. Дойдя до прудов, они направились в сторону Кузнецовской, и тут подруга возбужденно встрепенулась:
– Ты видела? Нет, ты видела?
– Что? – не поняла Наташа.
– Ты видела, как он на тебя пялился?
– Кто – он? Зачем?
– Ясно зачем! Чуть голову не свернул!
– Ах, оставь! Ты же знаешь – я на улице не знакомлюсь!
– Ну да, ну да! Но ты знаешь, на вид – классный кобель, точно говорю. Ну, обернись, Наташка, посмотри!
Наташа с внезапной злостью отмахнулась:
– Слушай, оставь, пожалуйста, свое глупое сватовство! Дай мне спокойно подышать!
Подруга, а точнее, компаньонка Наташи по офису, где, как известно, дружить следует до определенных пределов, была бойкой и бесцеремонной молодой особой приблизительно одного с ней возраста. Она, например, не моргнув глазом, могла пропеть клиенту: «Что же вы, мать вашу, сразу-то не сказали! Ведь у нас здесь, как у врача!», имея в виду, что адвокат – это тот же доктор для материальных интересов клиента, и что здесь, как и в случае с настоящим доктором не следует утаивать деликатные обстоятельства делового недомогания, которые часто могут оказаться роковыми. Грустила она редко, в остальное же время глаз у нее блестел в поисках вульгарной словесной фигуры. Как и все замужние женщины, она имела зуд пытаться сделать такими же своих незамужних подруг.
В лучах низкого слепящего солнца они шли под руку, отбрасывая протяжные, резкие тени на желтую, поминальную ковровую дорожку. Безжизненные листья, чье разложение уже началось, откликались под их ногами влажным шорохом, как печальные, ненужные слова. Не доходя до Кузнецовской, они повернули назад, вышли на главную аллею и направились в другую от Московского проспекта сторону.
– О! Гляди! Снова он! – не сдержалась подруга.
– О, господи, Юлька, ну, перестань же! – взмолилась Наташа, даже не пытаясь выяснить, о ком идет речь.
– Смотри, смотри, опять пялится! А вот погоди, мы его сейчас проверим! – совсем обнаглела Юлька.
Навстречу им, заложив руки за спину, двигался относительно молодой, светловолосый, слегка грузноватый, но стати не потерявший мужчина, одного с ними, подкаблученными, роста, в черных брюках, опрятной обуви и кожаной куртке. Не доходя до него метров пять, Юлька как бы нечаянно уронила перчатку и, отвернув лицо, двинулась дальше. Мужчина ринулся к месту падения, подхватил перчатку и, догнав обернувшуюся хозяйку, с певучим низким рокотом обратился к ней, глядя при этом на Наташу:
– Вот, пожалуйста, это ваша…
– Ой, спасибо, а я и не заметила! Вот спасибо вам большое! – пропела в ответ подруга, но этого времени оказалось достаточно, чтобы Наташа разглядела мужчину.
Он не был красив. Слегка вытянутое лицо его с правильными чертами выглядело полноватым, что в сочетании с бледной тонкой кожей предполагало сидячий образ жизни. Высокий лоб, который залысины делали еще выше. Остатки волос зачесаны назад. Правильной формы голова и скромные уши. Рот не мал и не велик, а в самый раз, чтобы сделать улыбку приятной. Ну, и, конечно, глаза – внимательные, напряженные и… восхищенные. Было, кроме того, очевидно, что он старше нее, и что куртка на нем тонкой, явно не турецкой выделки. Ну, и ладно, ей-то какое дело. И они разошлись, но недалеко от памятника встретились вновь. Он осторожно им улыбнулся, и они разминулись окончательно.
Вечером ее вызвал шеф, усадил на мягкий стул, зашел сзади, положил руки ей на плечи и, обдав накопленным за день, как лошадь после забега, запахом пота, склонился к ее уху:
– Наташка, я страшно соскучился…
– Давай не сегодня! – не оборачиваясь, ответила она.
– А когда?
– Я скажу.
Он отошел и сел за стол.
– Намечается поездка в Париж… – сообщил он сдержанно.
Она молча смотрела на него.
– Что-то ты мне сегодня не нравишься! – вздохнул он.
– Я и сама себе не нравлюсь! – скривилась Наташа.
Он внимательно посмотрел на нее и, не дожидаясь ее ухода, погрузился в бумаги.
«Поезжай сам в свой Париж, а мне пора личную жизнь устраивать! Хватит, попользовался!» – завершила про себя Наташа протокол их беседы, выходя из кабинета на свободу.
И вовсе не случайная встреча с мужчиной, лицо которого мелькнуло и забылось, была причиной внезапного, стремительного выпада, от укола которого разом лопнул нарыв ее бесхозного бытия, и что-то горячее – пусть даже гной или кровь – растеклось по душе и принесло облегчение. Ну, конечно, не он, а сам факт существования подобных мужчин с внимательным, напряженным и восхищенным взглядом был тому причиной. Ведь как все на самом деле просто – нужно только найти такого мужчину и приручить!
6
Первый сексуальный опыт пришел к нему все в том же Кузнецке. Было ему тогда девятнадцать, он окончил второй курс финэка и, уступая просьбам деда и бабки, которые не видели его уже два года, приехал к ним на каникулы. Слившись с вагоном и постукивая колесами на стыках, он с «Женщиной в песках» на коленях представлял себе летние удовольствия, и чем ближе к конечному пункту, тем чаще кисть воображения рисовала ему Галку, какой он ее запомнил. Расставаясь два года назад, она грустно смотрела на него из-за мальчишеских спин.
Встретив друзей, он нашел их в добром здравии и до неузнаваемости повзрослевшими. Подходили степенно, крепко жали руку, говорили скупо, но с чувством и тут же лезли за сигаретами. Он привез с собой два блока «Мальборо» и угощал, не скупясь. Несмотря на долгое его отсутствие, громких новостей оказалось гораздо меньше, чем можно было ожидать: Ромка служил в пехоте, Санька на Северном флоте, а по возвращении собирался жениться на Галке. Еще двое уйдут в армию осенью, а до того должны напоследок погулять. А потому, идем в магазин за портвейном, а после – на речку! Согласен? Еще бы! Для того и приехал! Как же я рад всех вас, чертей, видеть! Нет, я и вправду соскучился! А помните, как мы у заречных выиграли два ноль?
Галку он увидел вечером. Она незаметно вышла из-за смеющихся лиц и встала у него перед глазами: «Здравствуй, Дима! С приездом!»
О, да! Он приехал не зря, он это сразу понял. Перед ним, отведя плечи назад, как мужчины отводят их вперед, чтобы уравновесить тяжесть рюкзака, стояла, распирая грудью квадратный вырез платья, статная девушка, чьи нынешние прелести лишь отдаленно напоминали ту молоденькую пальму, которую он помнил. Глаза подведены, губы слегка накрашены, легкий загар на свежем лице, шее, открытых плечах и руках. Он смутился, а она подалась вперед и поцеловала его в щеку.
В тот вечер он допоздна сидел на крыльце, запустив пальцы в постаревшую собачью шерсть и глядя на возбужденные звезды. Спал плохо, беспокойно ворочался и сбрасывал во сне одеяло. Томился, словом.
С их компанией Галка, как прежде, уже не водилась – никаких речек, ни скамеечек по вечерам. Днем она работала, вечером оставалась дома. Видя ее, возвращавшуюся с работы, он издали махал ей рукой. Она махала в ответ и уходила в дом. Однажды она остановилась и рукой дала знать, чтобы он приблизился.
«Почему не заходишь в гости? – улыбаясь, спросила она, когда он подбежал и встал напротив. – Пойдем!»
И взяв его за руку, повела за собой.
Никогда раньше он не был у нее дома. Ступив на крыльцо, размерами, перилами и темно-коричневым цветом похожее на дедово, он вслед за ней проследовал сквозь зеленоватое пространство веранды. Она открыла дверь в дом, пропустила его вперед и объявила из-за его спины:
«Мама, смотри, кого я привела!»
На зов вышла ее мать – в меру полная женщина, с открытым милым лицом и гладко зачесанными назад волосами. В прошлые свои приезды он, всякий раз встречая ее на улице, здоровался, а она, пристально глядя на него, улыбалась в ответ и говорила: «Здравствуй, Димочка!»
Она сразу узнала его:
«Господи, вырос-то как! Настоящий жених!»
Они сошлись, и она его поцеловала.
«Совсем на отца не похож!» – то ли пожалела, то ли похвалила она.
Его усадили пить чай, осыпали вопросами, и он остроумно и непринужденно поведал о веселой суматохе городской жизни и о своих взглядах на настоящее, прошедшее и будущее. Провожая, мать поцеловала его и теперь уже решительно пожалела:
«Нет, совсем на отца не похож!»
«Заходи к нам почаще!» – провожая, напутствовала его Галка, откидывая за плечи длинные русые волосы.
Через день она позвала его в кино. Они пошли на последний девятичасовой сеанс, и в темноте зала она взяла его руку и уложила вместе со своей на разделявший их подлокотник. Рука ее была мягкой и нежной, как божественное тесто. Он сидел, смущенный и потный, тесно прижавшись к ее голому, круглому плечику. Домой они вернулись в сумерках. Он проводил ее до калитки, и там она предложила на десерт зайти к ней: ее мать, видите ли, сегодня в ночь. Он согласился и понес в дом свое объятое лихорадкой субботнего вечера сердце.
Она усадила его на диван, включила телевизор, жить которому оставалось от силы час, а сама пошла в другую комнату, где переоделась в похожий на ночную рубашку сарафан. Вернувшись и подобрав и без того короткий подол, она уселась рядом. Чувствуя, как набирает силу мелкая дрожь, он косился на мятые ромашки, что отчаянным ворохом прикрывали ее заповедные места, на сжатые коленки и мерцающий отсвет полуобнаженных бедер, разделенных умопомрачительным глянцевым ущельем, рождавшим невыносимое, мучительное желание спрятать там ладонь. Она подвинулась совсем близко, прижалась к нему цветастым бедром и, взяв его холодную руку, положила себе на голое колено. Повернув к ней побледневшее лицо, он увидел ее глаза с нерастворимой искрой экрана на самом дне и призыв распустившихся губ. Неловко изогнувшись и плохо соображая, он прижался к ним. Она одной рукой обхватила его затылок, другую завела ему за спину. Он сделал то же самое, и принялся поедать ее, полагая, что чем крепче, тем лучше. Она сначала отвечала, затем отодвинулась и, с улыбкой глядя на него, полуутвердительно спросила:
«Ты раньше не целовался?»
«Целовался!» – покраснел он.
«Смотри, как надо…»
Сжав его голову теплыми мягкими ладонями, она нежно прикоснулась к его губам и принялась играть с ними, прихватывая, покусывая и посасывая, после чего покрыла его лицо мелкими поцелуями.
«Вот как надо!» – ласково улыбнулась она, медленно откинулась на спинку дивана и закрыла глаза, приглашая его показать, как он усвоил урок.
Подвернув для удобства ногу, он старательно воспроизвел все, что запомнил, добавив кое-что от сердца. Его одинокий часовой изнывал в тесноте брюк, тело одеревенело. Почувствовав его муку, она сходила в другую комнату, принесла подушку, бросила на диван и легла. Он лег рядом, и ему стало свободно и жарко. Он зацеловал ей лицо, добрался до выреза, откуда выглядывал солидный аванс внушительной груди и, умоляюще попросил: «Сними…»
Она встала, выключила рогатый торшер и телевизор, и пока комната проступала в темноте незнакомыми таинственными чертами, скинула сарафан, извлекла лифчик и осталась в комбинации. Он стащил с себя все, кроме трусов. Легли, и она велела: «Поцелуй мне грудь!». Он отвел бретельки и пустился в кругосветное путешествие с северного полушария на южное – оба знойные, упругие, неизведанные. Она некоторое время молчала, а затем, показав рукой на шоколадные полюса, сказала:
«Целовать надо здесь. Вот так…»
Притянув к себе его голову, она прихватила губами мочку его уха и показала, как надо. Он понял и припал к набухшим полюсам. Обхватив его затылок, она направляла его крепнущее рвение и бормотала:
«Так, так… правильно, Димочка… правильно, мой хороший…»
И в этом месте с ним случился конфуз. Он скрючился, задергался, и она, поняв, что приключилось, заговорила торопливо и успокаивающе: «Все хорошо, мой милый, все хорошо…». Рука ее неожиданно проникла ТУДА и, завладев его вулканом, бесстыдно и ласково укротила извержение. Он же, весь пунцовый, лежал, зажмурившись и неловко уткнувшись лицом в ее плечо.
Потом были сконфуженные хлопоты. Нежно и покровительственно поцеловав его, она забрала трусы и ушла их застирывать. Он сидел на диване с наброшенной на бедра рубахой и на чем свет ругал свою поникшую честь. Она вернулась, и они снова легли.
«Извини…» – уткнувшись ей в плечо, пробормотал он.
«Ну что ты, глупый!» – откликнулась она.
Ее рука бродила по его голове, зарываясь в волосы, как до этого его рука в собачью шерсть. Призрачный свет уличного фонаря, разбавив темноту, остывал на полу, уткнувшись в подножие дивана, как он в ее плечо.
«Откуда ты все знаешь?» – приподняв голову, вдруг спросил он с ревнивой строгостью.
«Глупый ты, Димочка! – спокойно ответила она. – Не могла же я ждать, когда ты соизволишь явиться! Так получилось…»
«Я не хочу, чтобы ты с кем-то еще встречалась, кроме меня, – насупился он. – Теперь ты моя!»
«Твоя, мой хороший, твоя!» – охотно согласилась она.
Он добрался до ее губ и уже знакомыми тропинками спустился на грудь, готовя себя к визиту в неведомую страну, где его ждала сладкая судорога, с которой он был тайно знаком еще подростком. Но почему все так странно устроено? Почему поцелуи и ласки зримы, а кульминацию нужно прикрывать телом и прятать от глаз? И почему это так стыдно и таинственно? Вот теперь он, наконец, и узнает, чем взрослый грех слаще детского!
Часовой занял свой пост. Настырный и ненасытный, как ни одна другая часть тела. Одинокий клинок, мечтающий о ножнах – нежных обнаженных ноженьках. Она почувствовала его силу, сказала: «Подожди», встала и ушла. Возникнув из темноты, протянула ему плоский пакетик: «Вот, надень…»
«Что это?» – не понял он.
«Резинка. Специально для нас купила…»
Она легла, а он уселся к ней спиной и, невзирая на полное невежество, довольно споро управился. Слегка изогнувшись, она подтянула комбинацию и обнажила смутно белеющие трусики, под которыми сквозь щели между кромками и телом, как сквозь жабры дышало неведомое треугольное существо – последнее белое пятно на атласе ее анатомии. У него перехватило дыхание. Неудобно пристроившись, он склонился над священными белыми покровами, взял их за узкие мягкие края и неловко обнажил таинственный черный островок в центре смутно белеющего тела. Не отрывая от него завороженных глаз, он застыл, и тогда Галка перехватила у него трусы, избавилась от них, после чего развела колени и протянула к нему нетерпеливые руки. С сердцем в горле, он неловко навалился на нее и принялся нащупывать вход, каждый раз упираясь во что-то мягкое и неподатливое. Она помогла ему, и он со скрипучим усилием проник в нее.
Подталкиваемый сверху ее рукой, он совершил с десяток неуверенных движений и обмяк.
«Все хорошо, Димочка, все хорошо!» – шептала она, оглаживая его спину.
Через полчаса ему удалось погрузиться на нужную глубину, и его крейсерское плавание началось. Предпринимая все меры, чтобы не дать повода для слухов, они встречались регулярно, и к концу своего пребывания он превратился в опытного и пылкого любовника. Перед отъездом он дал ей слово, что женится на ней, как только окончит институт. Решено было, что он будет приезжать сюда на каникулы, так же, как она к нему в Ленинград, не говоря уже о тех письмах, которые они собирались писать друг другу каждый день.
Сначала он и вправду писал, а она отвечала, но письма его становились все сдержаннее и реже, пока не иссякли совсем. На следующий год он не поехал в Кузнецк, а осенью она вышла замуж за Саньку. Через десять лет он приехал сюда с отцом на похороны деда. На поминках, улучив момент, он сказал ей, слегка пополневшей, но по-прежнему соблазнительной:
«Прости, Галка, я страшно перед тобой виноват…»
Она ничего не ответила и вскоре с поминок ушла, оставив их с Санькой одних. С тех пор они не виделись.
7
…Свою прежнюю жизнь Наташа поделила между тремя мужчинами. Только их пустила она в свою постель, дважды после этого раскаиваясь и удивляясь – как ее, не по годам проницательную, угораздило с ними связаться!
В девяностом году, после школы она приехала в Ленинград и сходу поступила в университет на юрфак, имея наивное желание разобраться в той весенней отечественной картине, когда благие порывы, громоздясь, словно льдины при ледоходе, оборачиваются затором, наводнением и очередной исторической клизмой.
Как она приживалась здесь – особый разговор. Всякий провинциал, прибывающий жить в этот город, рано или поздно вынужден свести знакомство с матерью бронхита – унылой влажностью, которая вместе со спертым дыханием недр наполняет его улицы, стирая громады домов и укрощая фонари. Ей пришлось смириться и даже полюбить те часы – нет, дни! – когда город похож на захудалую прачечную, где капает с потолка и течет по стенам.
Увлеченная расхожими поэтическими представлениями, она, в конце концов, нашла в болотной испарине этого северного ската квазирациональный контекст, который, как и все непознаваемое в русской истории также верно вырастал из непогрешимого и абсурдного единства государственных интересов с гражданским самоотречением, как язва желудка и свободные нравы из святого служения искусству и жизни на колесах. Так мирятся с недостатками любимых супругов, так люди верующие в добро ищут его в злодеях. Иначе бы она открыла, что только болезненно впечатлительный человек может находить достоинства в тех архитектурных недоразумениях, что возведенные второпях для извлечения дохода, волнами разошлись от Зимнего дворца, камнем брошенного в гигантское болото.
Она быстро сошлась с однокурсницами, вернее, они сами потянулись к ней по силовым линиям ее доброго покровительства. Именно здесь, в Питере в полной мере оценили хрестоматийное обаяние ее имени и фамилии.
Как известно, в стране в это время вовсю шел процесс, на котором Наташа и ее друзья, как и все советские люди, проходили свидетелями. Не стоит, однако, переоценивать ее озабоченность судьбой страны. Возможно, будь она в то время в другой, менее экзальтированной среде, она на многое не обращала бы внимания, мимо многого прошла бы стороной. Огромные кипучие пространства родины и температура отдельных ее частей сосредоточились для нее в немногочисленных объектах города, которые удостаивались ее внимания. Сюда входили факультет, общежитие, Публичка, магазины, а также прогулки по городу и места культурных мероприятий.
Из годов, проведенных ею в музыкальной школе, сколотился прочный помост, с которого она теперь могла тянуться к филармоническим плодам живых концертов. Кроме того, ее заворожил театр, куда она, имея стипендию и деньги от родителей, ходила довольно часто и исключительно в сопровождении подруг. Несмотря на то, что границы ее личной свободы раздвинулись, а разрушение моральных устоев советского общества дикими орхидеями набирало силу, ей хватало благоразумия держаться от противоположного пола на безопасном расстоянии, так что после двух лет совместного обучения сокурсникам оставалось только гадать, кому достанется этот прекрасный уральский самоцвет.
Когда в конце августа девяносто первого она вернулась в Питер, там только и разговоров было, что о недавних событиях. Все питерцы юрфака, бывшие на тот момент в городе, самомобилизовались и приняли посильное участие в демонстрациях и теперь, сверкая победными взорами, делились живописными подробностями того, как они отстояли демократию. Больше всех лавров в их группе собрал Мишка Равиксон, которого кто-то из команды мэра якобы использовал чуть ли не с секретной миссией. Кому он послужил и чем, Мишка, естественно, не распространялся, но взирать на себя заставил с уважением. В том числе и Наташу. Вот ему-то она, в конце концов, и досталась.
Это был высокий и гибкий красавец-еврей с длинным лицом, прямым изящным носом, ироническим, без всяких там зубов навыкате ртом, с ровной и чистой кожей, черными кудрями и влажными искрометными очами, отчего в сборном виде он сильно смахивал на карточного валета. Речь имел свободную и убедительную, голосом владел, как пожарным краном, учился блестяще. Рядом пусть и со способными, но неотесанными сверстниками он выглядел, как наследный принц ближневосточного шейха. С однокурсниками он, однако, держался дружелюбно и с сочувственным участием. Но присмотревшийся к нему внимательнее обнаружил бы в его глазах лелеемую искру тайного превосходства, которой он, как фирменным знаком, ставил точку в неизменно удачных для себя спорах. Никто не сомневался, что его, как юриста ждет завидная и славная участь. К тому же, так угадать с услугой в пользу нынешней власти…
Вскоре Наташа поймала себя на том, что ей приятно за ним наблюдать. На лекциях она стала искать место, откуда делать это было удобнее. Как-то раз она увлеклась и не успела отвести глаза. Он перехватил ее взгляд и улыбнулся, после чего принялся за ней аккуратно и ненавязчиво ухаживать. Его все чаще видели рядом с ней на лекциях. Дело дошло до того, что он повадился провожать ее после занятий до общежития, а потом, потеснив подруг, взялся сопровождать в ее прогулках по городу.
Наташа, не имея в ту пору никаких предубеждений против его народа, а стало быть, и его самого, относилась к его ухаживаниям с напряженным интересом. Его внимание льстило ей, волновало и пугало. Нет, нет, в себе она была уверена! Попытайся он скользким намеком или дерзким жестом нарушить границы пристойности, и она мигом вернула бы его на то место, откуда он ей улыбнулся. Ничего не поделаешь – ведь она была всего лишь красивой провинциалкой, которой рано или поздно следовало побеспокоиться о замужестве с кем-то из местных. Очевидно, что затевать серьезные отношения раньше времени – значит, дать им разогнаться до неудержимого состояния, отчего в самый разгар учебы можно заехать не туда. С другой стороны, откладывать их на последний момент – значит, хвататься второпях за первого попавшегося.
Женщина должна быть расчетливой. Такова честная правда всякого существа, поставленного в неравные условия с более сильным. Только ведь все решения в нашем плоском биполярном мире сводятся в конечном счете к выбору меньшего из двух зол, и выбираем мы чаще всего все-таки большее зло.
После недолгих колебаний она становила свой выбор на Мишке и взяла курс на осторожное с ним сближение, строго следя за тем, чтобы не запятнать себя тонким повизгивающим смешком, каким неуверенные в себе девицы встречают всякое слово их самодовольных кавалеров. В такой многозначительной тональности завершился третий курс и начался четвертый.
Тем временем страна, жившая своей жизнью, преподала будущим правоведам очередной урок правового нигилизма: в Москве люди, лишенные любви и страсти, с помощью танков делили власть, а поделив, отдали побежденных на препараторский стол Фемиды. Что ж, власть в нашей новейшей истории – такой же коммерческий проект, как прочие, а история России – это история власти и станет историей общества только тогда, когда общество станет властью. Пока же у подслеповатого правосудия не весы, а карманы, и от того, кто и что в них подбросит, зависит его полновесный вердикт…
Когда после зимних каникул она вернулась из Первоуральска, Мишка в первую же их встречу объявил, что хочет познакомить ее с родителями.
«Очень приятно вас видеть! Миша много о вас рассказывал!» – встретила ее мать Михаила, жгучей, надменной красоты женщина, едва они проникли в квартиру на третьем этаже большого дома на Фонтанке с видом на закат. Наташа смутилась и, утопив ноги в тапочках, двинулась в сопровождении матери и сына в глубину коридора, где к ним присоединился отец семейства – невысокий, крепкий, румяный человек с прицельным смеющимся взглядом. Все вместе они расселись в гостиной за большим старинным столом и принялись знакомиться.
«Конечно, Миша о вас много рассказывал, даже можно сказать – все уши прожужжал, но я и не предполагала, что вы такая милочка!» – просто и сердечно выразилась мама, Раиса Моисеевна.
«Да что там милочка – настоящая красавица!» – добродушно прогудел папа Леонид Львович.
«Папа, мама… – встал слегка побледневший Михаил, – я пригласил Наташу, чтобы при вас сказать ей, что я безумно ее люблю и прошу стать моей женой!»
«Я так и знала, я так и знала…» – сказала мама и приложила к глазам платочек.
«Ну, это же замечательно! Молодец, сынок!» – прогудел довольный папа.
Наташа, пораженная громом его слов, сидела не шелохнувшись и широко открыв глаза. Все-таки, предложение громыхнуло на годик раньше, чем следовало.
«Что скажешь, Наташенька?» – умоляюще обратился к ней Михаил.
«Я согласна… – потупилась Наташа. – Но что скажет мой папа?»
«С вашим папой я поговорю сам, после того, как мой сын официально попросит у него вашей руки!» – с мрачной торжественностью объявил папа, что напротив.
«Дайте, я вас поцелую, Наташенька!» – сказала, вставая, мама.
«И я! Как-никак, помолвка!» – вскочил папа.
Они поцеловали будущую невестку, потом сына, затем поцеловались сами. После этого Михаил подошел к Наташе и поцеловал ей руку.
«Это еще не все! – объявил он, залез во внутренний карман, достал небольшую кубическую коробочку и открыл: – Это тебе, Наташенька, в знак моей любви!»
И достав из коробочки колечко, верхом на котором восседал небольшой самоуверенный камешек, надел его на безымянный пальчик совсем растерявшейся Наташи.
«Я так и знала!» – прослезилась мама, еще раз поцеловала Наташу и пошла на кухню готовить чай.
За чаем было много разговоров, в том числе было сказано следующее:
«Я всегда была против, чтобы Миша женился на русской, но глядя на вас, Наташенька, нисколько не жалею! Знаете, еврейская порода в этой стране выродилась! И это даже хорошо, что наша кровь смешается с вашей!» – так сказала мама.
«У вас прекрасные еврейские волосы, Наташенька, а это главное! В остальном мы сделаем из вас настоящую еврейку!» – это, конечно, сказал папа.
«Не слушай ты их! Они просто помешаны на чистоте крови!» – это сказал сын.
Кроме того наметили свадьбу на июль этого же года.
«Жить будете у нас!» – сказал в заключение папа.
При расставании ее снова расцеловали. Теперь уже и Михаил. Она не сопротивлялась: в конце концов, поцелуй за предложение жениться – это не кровать.
Ее родители спорить не стали. Только папа сказал:
«Знаешь, Наташка, я не люблю евреев, но случись погромы – я первый буду их прятать».
Оставалось прояснить самый главный вопрос, касающийся ее поведения в постели в первую брачную ночь. Имея о соитии отдаленное и заумное представление, она, приехав в конце июня домой, обратилась за инструкциями к разбитной Катьке.
«Э-э, Наташка! Наше дело – раздвинуть ноги и не дергаться! – снисходительно пояснила милая ее сердцу Катька, давно забывшая, когда, где и как потеряла невинность. – Да ты не волнуйся, девка! Сама поймешь, что к чему! Только имей в виду – в первый раз будет больно и будет кровь…»
Родители, кажется, понравились друг другу, жених был неотразим, такой невесты здесь еще не видели, и прогремела грандиозная еврейская свадьба, после которой некий Мишкин родственник отвез молодых в укромную квартиру, где и оставил одних.
8
Пожелав спокойной ночи и многозначительно улыбнувшись, родственник удалился, и то, к чему Наташа с нарастающим замиранием весь вечер готовилась, предстало перед ней во всей своей восклицательной неизбежности. Ею неожиданно овладел тягучий, сладкий страх. Двусмысленный и растерянный, своей прилагательной частью он тянулся к неведомому удовольствию, а существительной – желал оттянуть кровавый финал как можно дальше.
«Хочешь чаю?» – заботливо обратилась она к мужу.
«Потом, потом!» – просипел Мишка и, не имея терпения, тут же обхватил ее жаркими руками, завладел губами и проник в нее винным дыханием. Он собрался было подхватить ее и нести в спальную, как того требовал красивый мещанский обычай, но она воспротивилась и пожелала сначала посетить ванную. Прихватив халат и укрывшись там, она долго разглядывала себя в тусклом зеркале. Зеркала, как люди: бывают жалостливые, бывают бессердечные. Этому же было на все наплевать.
Подрагивая от волнения (но не от желания, что подтвердят дальнейшие события), Наташа привела себя в порядок, накинула поверх новой шелковой сорочки халат и, испытывая стыд и… любопытство, прошла со свадебным платьем в спальную, где в кровати уже маялся Мишка. Под прицелом его жадных глаз она расправила на кресле платье, отделилась от белой ночи занавесом неплотных штор, прошла к своей половине кровати и села спиной к мужу. Помедлив, она собралась с духом, освободилась от халата, затем, скрючившись, скинула сорочку и, сверкнув стремительной наготой, юркнула в постель к своему первому голому мужчине. Так на Руси испокон веку учат плавать: бросают под одеяло, и плыви, как знаешь…
В отличие от нее Мишка кое-что уже познал. Откинув вместе одеялом неуместную более деликатность, он уверенно и нервно бросил тонкие пальцы на клавиатуру ее тела и приступил к прелюдии. С первым же аккордом у нее перехватило дыхание. Впервые мужские руки касались ее груди, живота, бедер и – о, ужас! – хозяйничали там, где кроме нее никто и никогда не бывал! Что он делает?! Зачем он мнет и целует ее грудь?! Зачем его электрические пальцы пытаются проникнуть в ее святилище?! Неужели ему не стыдно?! Неужели так надо?! Неужели без этого нельзя обойтись?! И что – отец с матерью делают и чувствуют то же самое?! Сжав ноги, зажмурив глаза, отвернув пылающее лицо и совершенно не представляя, как себя вести, она испытывала малоторжественное смятение: самый важный из всех инстинктов отказывался ей помочь! Мысли ее путались, бесстыжие, небывалые ощущения следовали одно за другим, требуя у ее безволия освободиться из цепких Мишкиных рук и укрыться в ванной.
«А когда он залезет на тебя, расслабься…» – вспомнила она Катькины наставления, почувствовав на себе тяжелую, горячую Мишкину дрожь. Помогая себе коленом, он принялся мягко, но настойчиво расталкивать ее ноги, и тогда она, поняв, что от нее требуется, последовала Катькиному совету и, сгорая от стыда, раздвинула их. Но Мишке этого оказалось мало, и она, освобождая бедра от его ерзающего нетерпения, развела их так широко, что невольно вообразила себя некрасивой раздавленной лягушкой.
Мишка устроился на ней, вцепился снизу в ее плечи, въелся в нее губами и замер, как на старте упоительного забега. Она же, впервые придавленная мужским голым телом, никуда бежать не хотела и застыла с опечатанным ртом и бьющимся сердцем, испытывая отчаянный, душный стыд. Мишка заворочался, задвигал бедрами, и Наташа почувствовала, как что-то инородное, мягкое и слепое тычется в нее, требуя впустить, но вместо того чтобы раскрыться, она стиснула зубы и напряглась, готовясь, как учила ее Катька, не к удовольствию, а к боли. Обнаружив в ее укреплениях брешь, настырный инородец просунул туда голову и с болезненным распирающим усилием принялся продираться внутрь. Оскорбленное неслыханным обращением лоно заставило ее рывком свести колени, но Мишкины бедра помешали, и тогда она судорожно выгнула спину. Прилипший к ней Мишка, вероятно, решил, что она хочет освободиться и с испуганной силой пронзил ее. Внезапная, преувеличенная ожиданием боль обдала пах, отчего она жалобно вскрикнула, дернулась и исторгла из себя нахального гостя. Потеряв сладкую цель, Мишка кинулся ее искать, нашел, но вдруг смешно замычал, задергался, после чего обмяк и затих…
Испачкав окрестности ее галактики чем-то сырым и теплым, он лежал на ней, уткнувшись лицом в подушку. Было тяжело, но она терпела, понимая, что произошло что-то неловкое и досадное. Когда он сполз, она незаметно провела рукой по лобку, и ладонь ее покрылась густой слизью. Растопырив пальцы и подхватив чистой рукой халат, она молча устремилась в ванную.
Особая минута, примечательный момент! Именно отсюда проистекает ее брезгливое отношение к мужскому семени. Скорее всего подспудной причиной тому – ненавидимый ею с детства кисель, который, прилипнув к ложке, тянулся за ней, пока его несли ко рту. Как сопли – говорили в детском саду. Туда же следует отнести густые носовые выделения, которые по очереди выбивали из себя незатейливые мальчишки, а так же сгущенное молоко. Так или иначе, но смотреть на все липкое и скользкое без отвращения она не могла с детства.
Вернувшись, она нашла Мишку в постели. Не глядя на него, она разделась и спряталась под одеялом. Мишка нежно поцеловал ее и довольным голосом объявил: «Сейчас я тебе что-то покажу!» Выждав несколько секунд, он эффектным жестом откинул одеяло и, тыча пальцем в направлении ее лона, радостно сообщил: «Смотри!» Она быстро села и в крепнущем свете зари, что сочился через неплотные шторы, разглядела под собой небольшие черные пятна крови…
Все дальнейшие Мишкины попытки водрузить на ее скважине древко победы успеха в эту ночь не имели – мешали спазмы и боль. Она была смущена и расстроена, он же в перерывах между бесплодными попытками нежно и заботливо утешал ее, пока она не заснула в его объятиях. На том их первая брачная ночь и закончилась.
Ее обостренные революционной новизной впечатления не пощадили Мишкиной щепетильности, хоть и был он на самом деле в ту ночь нежен и ласков. То, пусть и смутное представление о событии, которого она ожидала, совершенно не совпало с тем, что случилось, и в своем разочаровании она долго винила ненасытную торопливость мужа.
Два дня они провели в осторожных попытках преодолеть возникшее препятствие, следя за тем, чтобы рвением не перебить охоту, и на третий день им это удалось. Мишка предельно деликатно проник в ее святилище, где достаточно долго и со вкусом обживался, после чего скрепил их семейный союз первой порцией любовного раствора. Остатки боли в виде ее страдальчески прикушенной губы способствовали его удовольствию самым возбуждающим образом…
Таким вот заурядным и малоромантичным образом жизнь ее, прорвав тонкую запруду невинности, устремилась в новое, неизведанное русло. Потеряв вместе с девственностью певучую фамилию, она превратилась в Равиксон, что перед оформлением заграндокументов повлекло за собой смену паспорта. Париж отложили на осень, а пока уехали на дачу в Комарово, где заполняли антракты между постельными сценами уходом за гнездышком, походами в магазины и на залив. В выходные дни они менялись с родителями на городскую квартиру, где продолжали наслаждаться вкусом новобрачного меда.
Дорвавшись до сладкого, чем она несомненно и безусловно являлась, Мишка домогался ее страстно, жадно и неутомимо, и ей, чтобы оттянуть очередную дегустацию, часто приходилось прибегать к отговоркам и невинным хитростям. Помимо регулярного недосыпания, бледности и прыщиков на лице здесь примешалось еще одно обстоятельство, которое если не обеспокоило ее, то насторожило.
В том памятном разговоре с Катькой накануне свадьбы, когда она среди прочего пыталась выяснить, чего ей следует ждать от неведомого соединения мужского и женского начал, Катька в ответ закатила глаза и промычала: «М-м-м… Это не описать! Оргазм называется. Сама все узнаешь, когда кричать начнешь…»
Кричать ей, однако, не пришлось, и даже стонать не получалось. Ощущения, которые она переживала, походили на истому жаркого полдня, на теплый песок и дрему под пляжную разноголосицу, на убаюкивающий шорох волны, словом, на все то многочисленное и приятное, что существует вокруг нас, но не стоит того, чтобы придавать ему особое значение. Порой к этой благости подбиралось что-то грозовое и мутное, но гремело где-то вдалеке, так и не накрывая ее. В перерывах она не испытывала того неодолимого желания, от которого с Мишкой случались истеричные нежности и темнели глаза, а потому никогда не заигрывала с ним, лишь до известных пределов отвечая на ласки, а порой и вовсе укрощая его нетерпение.
Между тем, молодой муж обставлял их утехи с жеребячьим рвением. Обычно он начинал с затяжного, отдающего табаком поцелуя, пытаясь проникнуть языком внутрь ее рта. Она терпела и внутрь не пускала. Тогда его мягкие женственные губы съезжали ниже, где становились подобны жадному клюву голодного петуха, склевывающего зерна нетерпения с ее тела. Он любил тревожить и целовать ее изящную грудь, умиляясь фарфоровому отсвету и хрупкости божественной девичьей принадлежности и между делом подсматривая, как ей это нравится. Грудь отзывалась недовольным, чуждым замирающей остроте волнением.
Закусив губами и грудью, он отправлялся к главному блюду, и по мере его приближения к нему она начинала нервничать, но не от возбуждения, а от крайней неловкости – неужели он способен на такое?! На самом пороге бесстыдства она отталкивала его голову, и он заканчивал дело обычным образом. Роясь в ее опушенном душистом саше, как в собственном кармане, он лихорадочно и обстоятельно обшаривал его уголки в надежде отыскать там предназначенный ему в награду крик или хотя бы стон. Проявив в конце темперамент отбойного молотка и запятнав ее испариной, он покидал драгоценный мешочек, ничего там не найдя.
В ней, наконец, проснулся инстинкт и научил ему аккомпанировать. Она обвивала его руками, обхватывала ногами, толкала ему навстречу бедра, изгибалась и закидывала голову, а после, в очередной раз неудовлетворенная, отделялась, тихо радуясь, что все кончилось. Это не мешало ей воздавать должное его стараниям. Прильнув к нему – горячему, влажному и пустому, она успокаивала его, легкими ладонями сглаживая изъян их неравного партнерства.
Ей нравилось его тело – чистое, гладкое, слегка смуглое и, что особенно важно, почти непотливое. Он, не скрываясь, мог встать с кровати и разгуливать по комнате нагишом, словно приучая ее стыдливость к новым открытиям. Она украдкой на него засматривалась, минуя неприличные подробности, потому что невозможно воспитанной девушке вместе с невинностью в одночасье потерять стыдливость, как бы охотник того не желал. Сама же она продолжала дорожить наготой, и как только необходимость в ней отпадала, тут же натягивала на себя одеяло.
Пытаясь избавить ее от стеснительности, он прибег к сеансам эротического видео, склоняя ее затем к воспроизведению увиденного. Однако новые позы и приемы (разумеется, те, что она находила приличными) дела не меняли, но польза от просмотров все же была, хотя бы в части звукоизвлечения, имитирующего кайф. В первый раз, когда она это сделала, он даже растрогался: «Ну, слава богу! А я уж думал, что я плохой муж!»
В двадцатых числах июля к ним пришли теперь уже их общие первые месячные. Скважину запечатали, укрепили трусиками и поместили на карантин. У нее сильнее обычного болело там, где положено, отдавало в спину, подташнивало. Она часто отдыхала, крепилась и пыталась улыбаться. Мишка, умиленный ее слабостью, нежно жалел ее и живо интересовался подробностями. Она, подбирая слова, объясняла, как устроен ее ежемесячный женский крест. Мишка обнимал ее, с чувством прижимал к груди, говоря: «Бедная моя девочка, ей так больно!..» и стоически перенес четырехдневное воздержание, выходя курить на воздух, что он в плохую погоду делал обычно на кухне.
Однажды, как и следовало ожидать, он все же спустился ниже пояса. Она пыталась отталкивать его голову, но он решительно отверг слабый протест тонких рук и припал к ее шелковистому бутону. Умирая от стыда, она, кажется, перестала дышать, а он никак не мог оторваться. После этого он повадился ходить туда всякий раз, особенно когда желал надежно возбудить свои отсыревшие пороховницы. Он считал (и это она знала точно), что доставляет ей неописуемое удовольствие. Никакого, однако, удовольствия, кроме пунцовой неловкости она не испытывала, а что именно от нее требовалось взамен, она прекрасно поняла, когда однажды он уговорил ее посмотреть принесенное откуда-то порно.
«Фу, какая гадость!» – терпела и морщилась она в ответ на многозначительные взгляды мужа, но когда на экране женщина перепутала пихательное отверстие с дыхательным, она вскочила и вспыхнула: «Какой ужас!» – имея в виду прозрачное и унизительное приглашение брать пример с проституток.
За этим последовала их первая размолвка. В ту ночь она спала отдельно, вынудив его поутру пуститься в путаные объяснения его намерений, вызванных, якобы, исключительно ее пользой. В чем, однако, заключалась польза при глотании этой гадости, не говоря уже о способе ее извлечения, она так и не поняла. Как бы то ни было, ни разу за все время их совместной жизни ему так и не удалось ее к этому склонить. Теперь, по прошествии стольких лет она понимает, что это был первый случай, когда ее несовременное целомудрие восстало против демонов сексуальной революции, жертвой которых стал ее бывший муж. Разве обязана она была следовать его инструкциям, имея на этот счет свое брезгливое мнение?
Все же небольшой реванш он получил. Когда в августе ее одолела вторая в их совместной жизни женская немощь, он довольно прозрачно дал ей понять, что в таком случае нужно делать – взял ее руку в свою и, поместив куда надо, сопроводил ритмичными инструкциями. Она подчинилась, но после того, как все кончилось, поспешила с брезгливо растопыренными пальцами в ванную.
Как-то ночью ей приснилось, что она завороженно наблюдает со стороны за их упражнениями. Подбрасываемая скакуном, она колышется в седле, и движения ее, начинаясь в бедрах, через живот, грудь и шею, волной достигают головы и складываются в змеиный полет. Вдруг что-то горячее и бурное взорвалось внутри нее, заставив проснуться. Она распахнула глаза, приходя в себя и побуждаемая единственной заботой – разбудить спящего мужа, чтобы оседлать и догнать остывающее желание. Но не разбудила и не оседлала, а взяла себя в руки, успокоилась и заснула.
Постепенно ей становилось ясно, что по каким-то причинам, выяснение которых она отложила на осень, из них двоих наслаждается пока он один. Следовало посоветоваться со знающими людьми, полистать энциклопедию, а пока набраться терпения и надеяться на лучшее…
9
В добавление к постели, как основному блюду были еще закуски – то самое ассорти милых пустяков, которое подается новобрачным в перерывах между горячим. Пустяков, возможно, даже более важных, чем постель, потому что из них, собранных воедино и расплавленных пышущим жаром постели, отливаются и при остывании получаются те самые слоники, что идут потом по семейному комоду к миражам призрачного счастья.
Например, завтрак в кровать, который он, если просыпался раньше, нес ей с грацией заправского официанта, получая за это чаевые в виде поцелуя. Она в свою очередь загадывала проснуться раньше, и если удавалось – спешила на кухню. На участке были грядки зелени и клубники, и она успевала посетить их, перед тем, как его разбудить. Все ее жесты, выражения лица, значения слов, действия, цели были теперь подчинены новому смыслу, вытекающему из заботы о случайном человеке, с которым, как она полагала, жизнь свела ее навсегда.
Он любил наблюдать, как она готовит, убирает, читает, дремлет, мечтает. Подглядывал за ее утренним туалетом и подготовкой ко сну. Перебирал ее скляночки, тюбики и прочие колдовские штучки, умиляясь при этом и не забывая припадать к ее обнаженным рукам и плечам. Когда она садилась, он располагался у нее в ногах и клал голову ей на колени. Он не забывал напоминать ей о времени приема противозачаточных таблеток, которые она, посоветовавшись с матерью, а та, в свою очередь с кем-то еще, начала принимать за неделю до свадьбы. Находя ее, одинокую, в раздумьях, он заходил сзади и обнимал, прикладываясь к ее голове щекой и бормоча: «Натали, ты моя, Натали…». Прижимая ее к себе, он искренне ужасался, что мог не встретить ее никогда. Она же находила эту мысль скорее философской, чем роковой.
В жаркую погоду они ходили на залив. На улице он брал ее руку в свою, и они шли, помахивая их сцеплением. На пляже он находил место подальше от остальных, словно не желая, чтобы чужие взгляды касались того, что принадлежало теперь только ему. Зайдя с ней в воду по плечи, он заключал ее в объятия и, становясь похожим на видеогероя из хлорированного бассейна, приспускал плавки, пытаясь сделать то же самое с подводной частью ее купальника. И только ее решительное нежелание служить помпой для грязной воды останавливало его.
Возвратившись, они принимали душ. Затем она готовила обед, а он путался под ногами. Она притворно сердилась и пыталась прогнать его со своей территории, готовя себя к роли строгой еврейской жены. Затем был обед и отдых. Они ложились в постель и иногда дремали, восполняя время ночных забав, а отдохнув, принимались по его хотению за дневные. Ему не просто это нравилось – он этим жил. Во всяком случае, тем летом. И так на его месте поступил бы каждый, чью постель на законных основаниях разделила стыдливая очаровательная нимфа с длинными ногами и тонкими руками. Вечером на гарнир были звезды и твердая уверенность, что оргазм совсем рядом…
Была ли она тогда счастлива? Нет. Скорее, она была беспечна. Беспечность же не есть счастье, а всего лишь отсутствие забот.
Наступила осень, а с ней пора учебы. За лето она под действием Мишкиных гормонов выгодно изменилась, превратившись в цветущую молодую женщину в самом грешном смысле этого слова, глядя на которую хотелось плакать и завистницам, и обожателям. Отдавая должное ее законному женскому опыту, подруги-девственницы спрашивали:
«Ну, как у вас с этим делом?»
«Прекрасно!» – отвечала она, лучезарно улыбаясь и твердо зная одно: удел женщины – доставлять мужчине удовольствие.
Они заняли самую дальнюю комнату квартиры на Фонтанке, где звуковое сопровождение их однобокой страсти гасло в антиквариате, которым было набито их гнездышко. Ее обаяние, приветливость и рассудительное благоразумие выступили ходатаями перед Мишкиной матерью и обеспечили ей благожелательное отношение. Про отца его и говорить нечего – не чая в ней души, он носил с собой их свадебную фотографию, с удовольствием демонстрируя ее при случае и коллекционируя искреннее восхищение молодоженами.
В середине сентября она посетила женскую консультацию. Пожилая обстоятельная докторша, осмотрев ее, отклонений у нее не обнаружила.
«Все у тебя, деточка, нормально. Что касается твоих жалоб, то, во-первых, поменяем тебе таблетки, не знаю, кто тебе их прописал. Во-вторых, мужу своему скажи, чтобы не только о себе думал. В-третьих, не надо на этом зацикливаться и сама будь поактивнее. В общем, дерзай, деточка, и через месяц покажись!»
Легко сказать – дерзай! Она и рада бы дерзать, но как? Смешно сказать, но обратиться за наставлениями ей было не к кому. И дело даже не в том, что рядом не было искушенных подруг, а в том, что просить их об этом – значит, признаться в стыдной неполноценности, чего нельзя было допустить ни под каким видом! Стало быть, полагаться приходилось только на инстинкт и вдохновение.
Она не баловала мужа разнообразием поз и обычно довольствовалась раскидистой миссионерской участью, с большой неохотой взбираясь на него, когда он ее к этому принуждал. Нежась под опахалом ее вялого усердия, Мишка созерцал ее покорную фарфоровую наготу и, словно не веря, что эти хрупкие сокровища принадлежит ему, смаковал и оглаживал у нее все, до чего могли дотянуться его сухие, горячие руки. «Не торопись!» – просил он, но роль голой наложницы ей быстро надоедала, и она энергично и безжалостно доводила мужа до белого каления.
Сообразив, что в таком положении она сама себе хозяйка, Наташа той же ночью оседлала мужа и попыталась получить свое законное наслаждение. Ее ступа летала туда-сюда, силясь подставленным пестиком продолбить стену, за которой прятался неуловимый оргазм. Ей даже почудилось, что она ухватила его за хвост, и он вот-вот окажется пойман, укрощен и поставлен на службу. Она извлекла из себя хриплое победное глиссандо, но тут изо рта загнанного Мишкиного скакуна брызнула пена, поджилки его задергались, ослабли, и он упал. Соскользнув с мужа, она взвыла от досады.
«Что с тобой сегодня, Наташка?» – воскликнул ошарашенный Мишка.
«Соскучилась!» – ответила она, вытягиваясь рядом с ним.
«Вот так бы всегда!» – прижал он ее к себе.
Отдохнув, она против всех своих правил заставила мужа ее ласкать, а затем повторила попытку. Вначале она медленно, не торопясь ворочала бедрами, рассчитывая нащупать внутри себя зудящий отклик и им, как искрой запалить бикфордов шнур оргазма. Но вместо отклика возникли некрасивые, похожие на слипшиеся леденцы звуки «глюк, гляк, глёк, глик…». Они отвлекали, от них хотелось избавиться, и она решила поменять позу, которую берегла, так сказать, про запас. Повернувшись к изумленному Мишке спиной, она кое-как пристроилась и продолжила. Было непривычно и неудобно, а кроме того, приходилось следить за тем, чтобы не потерять Мишку.
«Раскорячилась, прости господи!» – мелькнуло у нее, и она вернулась в прежнее положение, после чего, пришпоривая себя животными «ы-ы-ы…», нанизывала себя на Мишку до тех пор, пока он не застонал.
Затем была еще одна попытка, до того безнадежно тоскливая, что она чуть было не прервала ее на полпути, если бы под ней не бесновался муж.
«Натали, ты у меня сегодня просто чудо!» – только и смог пробормотать он, перед тем, как заснуть.
А дальше было вот что: несмотря на все старания, ей так и не удалось добиться желаемого, отчего она постепенно сникла и впала в пассивное состояние. Про себя она решила, что во всем виноват Мишка: его самозабвенному упоению, видите ли, не хватало огня, чтобы запалить фитиль ее страсти. О том, что с ней происходит на самом деле, она благоразумно умалчивала и к врачу, как было условлено, не пошла – статья в энциклопедии ее изрядно охладила.
Ничто, однако, не помешало им отправиться в середине октября на десять дней в Париж. Впервые оказавшись там, как, впрочем, и за границей, она пережила восторг совпадения идеального с реальным. Именно таким она представляла себе Париж – город-мечту, город-любовь, город-аромат. Город-узор, сотканный на холсте прибрежных холмов вкусами и временем. Город-лавочник, сделавший возвышенный порок своим самым ходким товаром. Город-женщина, питающийся любопытством и обожанием, уставший от них и продолжающий их требовать.
Ожившие достопримечательности, восставшие из книг романтичные имена и названия, снисходительные французы и француженки, открывающие рот, чтобы через трубочку губ выпустить певучую стайку круглых цветных птиц. Ощущение театральности, яркого представления, что разыгрывается круглый день, не покидало ее. Чтобы не утонуть в новизне восприятия, глаз ищет подобие, знакомые черты и находит их. «Смотри, совсем, как у нас в Питере!» – часто восклицала она, хватая его за руку.
Мишка здесь был похож на француза, она – на жену француза. На нее таращились, и это ей льстило. Париж разбудил в ней чувственность. Ей показалось, что здесь она могла бы испытать оргазм, и однажды ночью у нее чуть было не получилось. Во всяком случае, грохотало где-то совсем рядом со скрипучей кроватью.
10
Вольно же ей загружать чужую память всплывающим окном своего изображения! Его невозможно удалить, ни задвинуть в угол. Его опасно открывать – разрушительный любовный вирус грозит покалечить материнскую плату незадачливого пользователя. Единственный способ уберечься – отыскать хозяйку вируса и просить о пощаде.
Он провел утро в радостных раздумьях, восторженно взирая на опереточный парад своих устремлений, готовых тут же выступить в поход под воображаемые звуки свадебного марша. Всё вокруг и внутри него пришло в движение. В нем легко и обильно возникали наброски чувств, каких ему давно не доводилось переживать. Юношеская свежесть и безрассудность проглядывали в них – как раз то, чем были окрашены отношения с его первой и незабвенной возлюбленной. Хорошо знакомое охотничье нетерпение овладело им. Он принял решение, набросал план и кинул его, словно якорь на два часа вперед, в мнимые воды будущего, после чего принялся подтягивать туда свою лодку, перебирая минуты, как увесистые звенья якорной цепи.
К часу дня он был готов – одет, побрит, едва надушен. Решил он идти в парк, чтобы быть там приблизительно в то же время, что и накануне. Полагая ее подъезд в основание стратегии, в тактике он, тем не менее, решил следовать интуиции.
В сравнении со вчерашним днем погода отбросила сухую сдержанность. Наверху было пасмурно и тесно. Можно было предполагать дождь, который смыл бы надежду на ЕЕ появление, но пока что их обратная зависимость складывалась в его пользу. Он даже возвел глаза к небу: «После встречи – хоть потоп!»
Войдя в парк, он попал на дорожку из серого песка и двинулся вдоль растительной недвижимости, понуро внимавшей утешениям остывающей земли. Стайка детей, общавшихся между собой во всю пронзительную силу своих маленьких легких, обогнала его. Закинув руки за спину и будоража ожидание волнением, он направился на главную аллею.
Хронология жизни, как веревочная лестница парусного корабля: чем выше перекладина, тем ближе небо. Будем надеяться, что до неба ему все же дальше, чем до верхней палубы, с которой ему в свое время открылся выпускной вузовский простор. Много ли помнит он из тех далеких сосредоточенных лет, и следует ли вскрывать капсулу памяти, чье содержимое хранит события, что выплеснулись из жерла истории, растеклись по ее склонам и стали застывшей лавой фактов? Так уж ли необходимо на пороге новой жизни ворошить заплечный мешок, прикидывая, что взять с собой и от чего отказаться? Или все же принять обряд очищения и облачиться в чистое белье?
…В начале девяностого он расстался с финэком и очутился на машиностроительном заводе, преследуемый с одной стороны призраком советских нарукавников, а с другой – неким устойчивым сквозняком перемен, который совсем скоро станет гулким бездомным ветром и пойдет гулять по стране. Он провел в финансовом отделе несколько месяцев, внимательно прислушиваясь к разноголосице споров и слухов, принюхиваясь к веселому запаху всеобщего разложения и укрепляясь в намерении бежать оттуда при первой же возможности. Два неслыханных события способствовали его побегу – в Москве открыли первую биржу, и оттуда же народу разрешили иметь в частной собственности банки, заводы, газеты, пароходы и прочие средства угнетения. Новое солнце, на этот раз неоновое вставало над страной, готовясь осветить и обласкать тех, кому раньше и в тени было тепло, и погрузить в еще более густую тень тех, кого его лучи никогда не баловали, с какого бы боку оно ни всходило.
Страну выставили на торги и, проработав на заводе полгода, он покинул захиревшую обитель производственного капитала, увлекшись капиталом совсем иного рода. Биржевые игры захватили его воображение своей реальной возможностью обналичивать фиктивный капитал. Надо было только научиться плавать. С доброй помощью старого друга своего отца он устроился в доморощенную фирму с громким, ничего не говорящим названием, с пятью столами, шестью стульями, двумя телефонами и компанией авантюристов с кипящими глазами.
Это было время плохих новостей, шальных денег и ошарашивающих слухов. Они шли по зыбкой трясине того болота, в которое стремительно погружалась страна вместе с ее почтой, телеграфом, вокзалами, банками, мостами, Зимним дворцом и кремлевскими мечтателями. Своей чуткой сосредоточенностью они напоминали бродячего фотографа, который, сбросив на землю потертое пальто и продев руки в рукава, перезаряжает пленку, с той разницей, что под пальто не фотоаппарат, а толстый пучок разорванных проводов, среди которых нужно нащупать верные и соединить.
И вот в самом конце девяностого раздался тот самый звонок судьбы, который и обеспечил его благополучие и независимость. Однажды ему домой позвонил бывший однокурсник Юрка Долгих, зарабатывавший на хлеб в одном из банков. Среди прочего сообщил, что Риге нужны переводные рубли, а где их взять, да в таком количестве он не знает. И если ему, Димке, это интересно, то вот ему рижский телефон, и пусть он не забудет его в своих молитвах. Телефон он записал, поблагодарил и ушел к бывшей однокурснице, на которой в то время оттачивал свою любовную технику.
На следующий день он улучил момент и позвонил в Ригу. К своему удивлению, приятный женский голос на другом конце провода подтвердил нужду ее министерства в тех самых рублях, что как гнилые нитки трещали вместе с тканью, нас соединявшей. Он уточнил детали и пообещал позвонить в ближайшее время.
Единственный человек, к которому он мог обратиться, был все тот же старый друг отца. И надо же было такому случиться, что именно в его объединении, имеющем право на торговлю с капиталистами, как раз и оказались в достаточном количестве те самые рубли, от которых, к тому же, там мечтали избавиться! Другими словами, его руки под пальто нащупали верные провода. Но перед тем как по ним побежал ток, пришлось освободить их от изоляции подозрительности, зачистить до блестящего интереса и крепко скрутить.
Взяв компаньоном Юркой Долгих, он срочно зарегистрировал фирму и посетил Ригу. Там он остановился в той самой гостинице, которую совсем недавно обстреляли не то наши, не то аборигены. Знакомясь, девушка-администратор показала выбоину в мраморе вестибюля, что напомнила ему мемориальные следы из времен блокады. «Как же вы здесь живете?» – спросил он. «Вот так и живем!» – улыбнулась белокурая красавица.
В министерстве его хорошо приняли и в письменном виде согласились с его комиссией. Дальше был тот самый основной, до предела насыщенный предосторожностями договор сторон, куда он влез впитывающей прокладкой. Вскоре основные стороны обменялись безналичными реверансами, а еще через два месяца, накануне исторического развода, Рига расплатилась с ним сполна. Через Юрку он обналичил сто тысяч долларов и рассчитался с ним и с другом отца. Оставалось еще двести тысяч, которые любым способом следовало увести со счета до окончания полугодия. Юрка взялся сделать это через свой банк, но нужна была фирма за рубежом.
Дмитрий в очередной раз обратился к другу отца, и тот познакомил его с молодым потомком русских эмигрантов по имени Патрик, который с вежливой улыбкой и изящной бесцеремонностью мародерствовал в ту пору на советских развалинах. За отдельную плату он согласился принять Дмитрия в Париже, чтобы помочь ему открыть счет и приобрести оффшорную компанию, о которых в то время мало кто у нас знал.
Он полетел туда из Москвы. Был конец мая. Сев в самолет, он обнаружил там шумную актерскую компанию, из которых самыми известными были Всеволод Абдулов, Александр Абдулов и Александр Беляев. Всеволод смотрел на попутчиков мягким, добрым, нездешним взглядом, Александр, напротив, был конкретен, и сидя рядом с Беляевым, весь полет напролет жонглировал бутылкой коньяка и сигаретой. Популярное лицо его отдавало краснотой и грешной человечностью. Беляев изредка подавал реплики и был серьезен. Когда прилетели, их долго не выпускали, но, наконец, подъехал трап, и первым, поместившись в иллюминатор, на французскую землю ступил не кто иной, как Примаков. Через некоторое время освободили остальных. «Какие, однако, удивительно разные интересы слетелись вместе со мной во Францию!» – подумал он тогда.
Его встретил Патрик, и через час, задыхаясь от эмоций, он уже поселился в четырнадцатом округе. До вечера он жадно поедал Париж, а утром они отправились в Люксембург – игрушечную страну, приветливую и снисходительную. Ехали не меньше трех часов, общаясь на русском и английском, который прекрасно ладил с его картавостью. В одном месте Патрик указал направо и сказал, что это и есть та самая знаменитая Шампань. Мимо проплыл крепкий остроконечный палец каменного собора, вдали кудрявились рукотворные красновато-зеленые морщины, и солнечный пот стекал на них с трудолюбивого светила. Когда до границы оставалось совсем немного, Патрик опять ткнул направо – там белые купола атомной станции остановились на самом краю горизонта. На подъезде к границе Патрик указал ему на пограничников и велел молчать, если те станут его о чем-то спрашивать, но они обратились к Патрику и, судя по всему, ответом остались довольны. В Люксембурге он оформил покупку оффшора, открыл банковский счет и дал обед в честь банкира и двух дружелюбных сотрудников управляющей компании.
На следующий день с утра Патрик свел его с местными коммерсантами, с которыми он договорился о поставках в Россию подержанных компьютеров. Пригласив Патрика с женой поужинать и, положившись на их выбор, он ринулся на Елисейские поля. Фланируя мимо шикарных витрин и снисходительно посматривая на покорно склонившиеся цены, он ощущал новую, властную силу своего кошелька. В плотном потоке жизнерадостных лиц, навстречу гладковолосым невозмутимым красавицам и розово-лиловому цветению он переместился к Эйфелю, потом к Нотр-Дам, а затем в Люксембургский сад.
Полнясь восторгом финансовой состоятельности, он приобрел по пути песочного цвета брюки, терракотовый пиджак, рубашку и галстук. Напротив Люксембургского сада он купил плейер и несколько кассет – Арт Тэйтум, Эррол Гарнер, Тэдди Уилсон – и в самолете большую часть обратного пути провел, поместив в черных наушниках черный рояль и черных музыкантов, один из которых был почти слеп, другой не знал нот, а третий, зрячий и образованный, стал певцом белого салонного лицемерия.
Но перед этим был ужин в «Куполь». Патрик с женой заехали за ним к семи часам и под чистым вечерним розовым небом повезли на Монпарнас, выдувая через вытянутые трубочки губ похвалы своему выбору.
«О, Куполь, это нечто грандиозное! – говорили они, округляя глаза. – О! Арагон, Пикассо, Модильяни, Сартр, Дали, Ив Монтан и все, все, все!.. О! Богема, устрицы, ягненок!.. Тысяча квадратных метров, почти пятьсот посетителей одновременно! О, это лучшее, что есть в Париже! О, это грандиозно, это обязательно надо видеть!..»
Их провели между рядами столов, расположение которых показалось ему похожим на тесноватые загоны, и усадили недалеко от центральной скульптуры планетарного масштаба, в которой каждый при желании мог увидеть, что хотел. Он, например, увидел невообразимое эротическое сплетение, своей абсолютной нескромностью доставлявшее разборчивому наблюдателю пикантное удовольствие.
Как и положено заказали устрицы, а кроме того, рыбное ассорти. Хозяева настоятельно рекомендовали ему жаркое из ягненка, выбрав для себя тушеного лосося. На серебряных вазах им принесли несчастных устриц, и жена Патрика показала, как с ними расправляться. Когда он поддевал их крючком, ему чудилось, что они жалобно пищали. «Лимону, лимону побольше!» – советовал Патрик. Но даже с лимоном они в тот раз ему не понравились. Не понял он также, что такого необыкновенного его спутники нашли в вине, поднося его к губам, словно для поцелуя.
В ожидании главного блюда он улучил момент и по русской привычке стал разглядывать тех, до кого мог дотянуться взглядом. Кругом бок о бок сидели мужчины и женщины совершенно незнакомой человеческой породы, занятые только собой и своими собеседниками. Лишь один раз их внимание оказалось всеобщим – когда у всех на виду выступила когорта официантов и пропела здравицу случайному имениннику. Лица присутствующих изобразили умиление, а Патрик заметил, что здесь так принято.
Наконец подали горячее. На большом квадратном блюде, как на кремовом полотне уместилась красочная продуктовая композиция больше художественного, чем гастрономического содержания. По неясной причине ягненок ему тоже не понравился, хотя он и съел его из уважения к почтенному заведению. В конце, как и положено, был десерт, кофе и необыкновенно крепкий арманьяк. Весь ужин обошелся ему почти в четыре тысячи франков, но это расходная, так сказать, сторона дела.
Надежно укрыв деньги за границей, он приобрел в Питере две квартиры, записав их на отца и тетку. Перед тем, как уйти, бездетная тетка вернула ему квартиру, добавив к ней свою, так что теперь кроме большой квартиры на Московском, в которой он жил с матерью, у него имелись еще три. Сдавая их, он имел доход пусть и не такой значительный, как от прочих операций, но постоянный и стабильный, который при получении даже не пересчитывался. Кроме того, здесь у него имелось активов не менее чем на два миллиона долларов, которые пройдя через крах и реинкарнацию, отложились капиталом в виде ценных бумаг и акций. Имелся также счет в иностранном банке на такую же сумму.
Безусловно, по нынешним временам он не был вызывающе богат – скорее был достаточно обеспечен, чтобы, к примеру, содержать взбалмошную любовницу. Он держал в голове намерение перебраться за границу, но откладывал его до той поры, когда в стране отчетливо запахнет жареным. Со своими женщинами он был снисходителен, щедр и великодушен. Однако по мере того как живое, трепетное чувство теряло запах и вкус, его одолевали скука и желание одиночества. Они-то и привели его в ту аллею, где так хорошо отпаиваться воздухом живительной голубизны, и куда гипертонические листья-эмигранты заманили и ее.
11
Через полгода после свадьбы, как раз накануне Нового года их родители, скинувшись, купили им двухкомнатную квартиру на Васильевском. Квартира была не в лучшем состоянии, зато рядом с метро. Они переехали и стали там осваиваться, постепенно приводя ее в порядок. Веселые горластые друзья и сокурсники любили бывать у них, оставляя на кухне после себя запах спиртного, закусок и табака. Иногда его личные друзья приводили подруг и просили пустить их в одну из комнат, чтобы побыть там наедине. Мишка никому не отказывал, и когда они возвращались на кухню, посмеивался над их взъерошенным видом. После их ухода она сердито выговаривала ему за снисходительность.
«Да будет тебе, Наташка! – отмахивался он. – Что мне, дивана жалко?»
Однажды во время очередной случки она случайно зашла в смежную комнату и застыла, услышав за стеной взмывающий на удивленных качелях сдавленный стон, в котором в отличие от ее стонов трепетало неподдельное страстное мучение. Она жадно вслушивалась в его модуляции, чувствуя, как ее первоначальное легкое недовольство обращается в черную зависть. Она не вышла провожать гостей, а после их ухода сухо велела Мишке впредь не превращать квартиру в бордель.
В девяносто пятом они закончили пятый курс, и как в прошлом году поделили лето между Комарово и городом, отметив там годовщину свадьбы. К этому времени муж-обожатель уступил место мужу-собственнику, что рано или поздно непременно должно было случиться, будь она хоть самой страстной любовницей в мире. Что поделаешь – она была всего лишь холодной красавицей и всю свою непознанную страсть направляла на учебу, превзойдя успехами собственного мужа. Он, однако, относился к этому спокойно, утверждая, что в наше время важны не пятерки, а связи.
Наступила осень, и через полгода юрфак, обратившись в фантомы мучительных предэкзаменационных снов, занял место в основании их постатейного мировоззрения. Его отец на тот момент кормил город просроченными консервами, и теплое место для его любимой невестки давно уже было нагрето. Сам же Мишка по его протекции был принят в юридическую фирму, близкую, как он говорил к городским верхам. Проработав там полгода, он предложил план, по которому следовало создать семейную юридическую фирму, где она стала бы директором, а он, по его выражению, подгонял бы туда клиентов. Все взвесив, если, конечно, в России через одну тысячу девятьсот девяносто шесть лет после рождества Христова можно было все взвесить, они так и поступили. К их удивлению, дело пошло, и пошло неплохо.
Ее одолели административные заботы. Трудно вообразить на женщине более нелепый наряд, чем деловое выражение лица, но оно ей, как ни странно, шло, нисколько не умаляя ее витринной женственности. Для других, не для него. Он часто задерживался, приходил поздно, приносил с собой запах коньяка и табака, и она в таких случаях решительно пресекала его попытки воспользоваться ее законной доступностью.
Так они прожили до девяносто восьмого – хорошо зарабатывая, посещая и принимая друзей, находя время для культурных вылазок и каждый год совершая романтическое путешествие за границу. Были за это время ссоры и примирения, ласки и отчуждение, праздники и будни. Были с его стороны приступы ревности и упреки в недостаточном к нему внимании. Были подарки и благодарные поцелуи. Были деньги и настоятельная необходимость рожать. Словом, их слоники на брачном комоде размеренно брели к призрачным миражам счастья, неся груз семейных забот и радостей, содержащих в разумных количествах все, кроме оргазма – грустного повода для пошлого финала их отношений.
Однажды совершенно случайно она разговорилась с клиенткой – успешной дамочкой тридцати пяти лет. Речь как-то сама собой зашла о несчастных фригидных женщинах, на что простодушная дамочка поведала, что она как раз из их породы, и чего она только не перепробовала, пока не родила, а как родила – тут-то все и переменилось! Наташу это откровение так пробрало, что она тут же решила завести ребенка, которого заводить все равно надо было, но сделать это хоть и с помощью мужа, но тайком от него. Она прекратила пить таблетки и своим обнаженным рвением ввергла Мишку в очередное удивление.
Через положенное время она ощутила непривычные признаки, и закрепив их недельным сроком, отправилась среди рабочего дня к гинекологу, который, осмотрев ее, первым поздравил с интересным положением. Она тут же поспешила домой, чтобы дождаться мужа и приятно его ошарашить.
Попав в квартиру, она обнаружила на вешалке его плащ рядом с другим плащом, несомненно, женским. Здесь же находилась его обувь, брошенная вперемешку с чужими женскими туфлями. Почувствовав, как сердце ее сжала незнакомая когтистая лапа, она молча двинулась осматривать квартиру. Уже подходя к той самой комнате с пресловутым общественным диваном, она услышала подсурдиненый женский крик, а приоткрыв дверь, увидела голого Мишку, который короткими кроличьими толчками раскручивал юлу в лоне незнакомой девицы, добиваясь ее непрерывного устойчивого жужжания. Она смотрела на них не в силах уложить происходящее в голове, они же, не замечая ее, надрывались в затянувшейся коде. Она широко открыла дверь и ступила в комнату. Мишка скатился с девицы и, уставившись на жену глупым, передернутым похотью и изумлением лицом, спросил:
«А ты почему дома?»
«Я тебе не помешала? – удивительно спокойно сказала она. – Ну, что же ты, продолжай, не стесняйся!»
И разом потеряв к Мишке интерес, покинула комнату.
Выпроводив девицу, он кинулся к ней с объяснениями. Среди прочих болезненных глупостей, выкрикнутых незнакомым, покрытым красными пятнами лицом, она услышала то, что всегда боялась услышать от него: «Ты никогда меня не любила и к тому же ты фригидная! Ты даже не можешь толком ублажить своего мужа!»
Судя по всему, лекарство от ее напасти он выбрал самое простое, и пока она, обеспечивая их благополучие, пропадала на работе, ублажал себя здесь не первый раз, следуя при этом жалким остаткам благоразумия, чтобы не осквернять их супружескую кровать.
“To u t passе, tout lasse, tout casse” – говорят французы, желая сказать: «Ничто не вечно под луной». Или, следуя дословности: «Все проходит, все надоедает, все разбивается». Кроме того, важно как они это произносят: «Ту пасс, ту лясс, ту касс», отчего простая житейская истина, облаченная в воздушный наряд фонетической гармонии, обретает непреодолимую наскально-философскую печаль. И нет в ней утешения, когда проходит, надоедает и разбивается то, что было нам близко и дорого.
«Ты меня любишь?» – часто спрашивал он, и никогда она.
«Люблю» – отвечала она.
«И я тебя люблю!» – отвечал он.
Любила ли она его? Когда-то она думала, что любила. Но если иметь в виду, что любовь дается нам только раз, то она ждала ее впереди: так, как Володю она не любила никого и уже не полюбит. Тогда что же у нее было с Мишкой? Как ни досадно это теперь признавать, но в ее замужестве было больше расчета, чем чувства. Так что же? Ведь если любовь есть повод для брака, то и брак может стать поводом для любви. И если бы он дал шанс и себе, и ей, очень возможно, что она его полюбила бы. С другой стороны, жене, не обремененной любовью, легче добиваться от мужа желаемого. Она же умела добиваться от него того, чего хотела, кроме одного – верности…
В тот же вечер она сняла и оставила на кухонном столе обручальное и другое, подаренное им при помолвке кольцо. Все прочие ценности-драгоценности она посчитала справедливым оставить себе в награду за верную и непорочную службу этому похотливому чудовищу. За этим последовала череда неприятных и нервных действий, связанных с разводом, дележом имущества, бизнеса и вины. Вышло вот как.
Отец выкупил у ее родителей половину квартиры, которую они, удрученные таким оборотом, уступили без лишних слов. Фирма после дележа наличных и безналичных средств осталась за ней, подержанный «Пассат» перешел к нему, так же, как две поношенные полосатые рубашки, купленные для него в Париже. Она выскоблила из себя его ребенка, рассчитывая выскоблить из памяти и его самого.
«Случись погромы – его бы я прятать не стал…» – сказал ей отец и увез на пару недель на родину, в Первоуральск.
Удивительно ли, что ее история тех лет похожа на скучную книгу, которую не хочется перечитывать.
12
Однажды вечером, вскоре после развода она отводила душу тем, что лишала жизни болтливых свидетелей ее семейного поражения – их общие фотографии.
Извлекая из альбома наглядные доказательства ее былого благодушия, она с сухим блеском в глазах выискивала там в первую очередь себя, припоминая, где и когда это было. Если она себе нравилась, то брала ножницы и удаляла лишнее, то есть Мишку. Если не удавалось удалить его без того, чтобы не причинить вред ее изображению, она с желчным треском рвала вчерашний день, роняя его остатки в коробку для мусора. Стоит ли говорить, что первыми там оказались их приторные свадебные сладости, от которых сводило скулы, и чье уничтожение доставило ей затяжное мстительное наслаждение. Подчиняясь мрачному позыву, она рвала их с неистовством ведьмы, наводящей порчу на предмет ее мести. С каждым исчезнувшим фото ей определенно становилось легче.
Среди прочего ей попалось вот что: она в ресторане, за сервированным в ожидании веселого путешествия столом. Перед ней пустая тарелка с приборами и бокал с белым вином, уместивший в себе миниатюрную, искристо-желто-бежевую панораму зала. Задумчивая грация королевы вечера на пороге всеобщего внимания: локотки на краю стола поджаты и обвиты ладонями, плечики приподняты. Она успела вскинуть взгляд и глядит красиво, прямо и безмятежно. Пленительная поза женщины, скрывающей за милой улыбкой невинные тайные мысли. А чуть повыше ее головы, в углу, сливаясь с серым фоном обоев и оттого не сразу заметная – маска с выражением всезнающего злорадства, скорее карнавальная, чем театральная. Не то часть декора, не то часть проступившего в момент съемки параллельного мира: этакий услужливый метафизический знак будущих неприятностей. Снято и преподнесено кем-то из своих в пору брачного благополучия. Странно, что она раньше не обратила внимания, либо не придала значения этой плутовской личине, ухмыляющейся за ее спиной, словно желая сказать: «И не говорите потом, что не были предупреждены!..»
В отличие от прочих фото снимок этот родил в ней внезапную растерянность. С одной стороны ей, искушенной театралке, хорошо было известно, что во всяком мало-мальски художественном замысле именно задний план озаряет переднюю мысль. С другой стороны, при всем уважении к безымянному фотографу было бы несерьезно наделять его пугающей прозорливостью гения: людей с такими свойствами среди ее знакомых, насколько она знает, никогда не водилось. Но даже если маска попала в кадр по чистой случайности, то случайность эта в итоге оказалась чересчур многозначительной, чтобы быть заурядным куском гипса.
Она пригляделась. Крупный убедительный нос, широко раскинув крылья, навис над сочно подведенными, стянутыми насмешливой улыбкой губами, чьи разбежавшиеся уголки, в свою очередь, тронули щеки полумесяцами складок. Ямочки на переносице, верхней губе и подбородке, как пунктиры той нейтральной полосы, что делит лицо на два независимых государства. Кроме того она обнаружила, что под маской искусно скрыт особый светильник. Проступая сквозь вздернутые прорези глаз сливовидными расплавленными белками и опираясь на стену упругим красноватым светом, он создавал впечатление непринужденной чертовщины.
Самым же поразительным было то, что по какой-то тридесятой причине маска напоминала… лицо ее отца! Даже странно, что в течение стольких лет она не замечала этого сходства, а оно все это время выглядывало из-за ее спины. Неожиданно взволнованная, она смотрела на нагловатого с пылающими глазами шута, не торопясь признавать фамильных черт и не желая видеть вещую связь между заплечной ухмылкой и Мишкиной изменой. Следуя неясному беспокойству, она поместила снимок в самую гущу сильно поредевшего альбома…
После развода она отправила на помойку пресловутый диван, добавив к нему прочие материальные следы Мишкиного пребывания, а также вернула девичью фамилию. Слух о разводе быстро облетел ее бывший курс, возбудив печальное недоумение у одних и неуемную радость у других и лишний раз подтвердив ее гордый удел: там, где она обживалась ее либо горячо любили, либо тихо ненавидели. Среди причин Мишкиной измены называлась ее фригидность, что послужило для нее лишним доказательством его редкой непорядочности.
Ей звонили многие из тех, с кем она училась, и музыкальный слух ее безошибочно отделял лживую кантилену сочувствия от искреннего сбивчивого участия. Удивительно скуден оказался круг людей, пожелавших ее пожалеть, и возрождение ее происходило в первую очередь при поддержке тесного союза нескольких друзей и подруг, не считая нематериального вороха нескучных забот, которых потребовала брошенная на ее попечение фирма.
Первой кинулась ее утешать Машка Сидорчук – славная, стеснительно-пухлая, восторженная девушка, сохранившая ей верность до сего дня. С ней Наташа смело могла говорить о самом сокровенном и неудобном. Зная, что добросовестные круги от их тесного общения разбегутся во все стороны, она поведала о его страсти к минету и прочим анальным извращениям, как и о безуспешных попытках ее к этому склонить. Одухотворив своей непорочностью причину их развода, она предоставила святой Марии довести эти доводы (безусловно, честные и основательные) до сведения широкой общественности, рассматривая их, как моющее средство от пятен рыбьего жира на ее женской репутации. И ей же она призналась в прерванной беременности, прекрасно понимая, снарядом какого калибра ее заряжает. И все же даже Марии она не открыла своей женской слабости. Вместо этого, испытывая отныне нужду в помощнице, она предложила подруге работать вместе.
Немного погодя рядом с ними при полной амуниции, примкнув штыки, заняли позиции Светка Садовникова, Дина Захаревич и Ирка Коршунова. С воодушевлением приняв к сведению Машкины донесения, они добавили туда благородное возмущение, повысили обличительный градус, и через них она громко сказала свое веское слово против его домыслов. Теперь они часто наведывались к Наташе и засиживались у нее, ведя спасительные беседы и толкуя о превратностях бабьего счастья, не подвластного даже высшему юридическому образованию. Наташа принимала утешения с достоинством и благодарностью. Из четырех подруг три были замужем и, кажется, в меру счастливы, но из солидарности охотно хаяли своих мужей, рассчитывая таким странным образом поднять ей настроение.
«А мой, озабоченный, когда захочет этого дела – вынь ему, да положь! Где угодно готов – хоть в машине!» – с плохо скрываемым одобрением возмущалась кудрявая Светка, два года, как замужем.
«А что, бывает и в машине?» – с замиранием спрашивала незамужняя Машка.
«Еще как бывает! Очень, кстати, неудобно! Ужас просто! – возбуждалась крупная Светка, не справляясь с впечатлениями. – Правда, я это дело тоже люблю, а потому поощряю…»
Светка была из породы тех самодостаточных женщин, что делясь подробностями интимной жизни, ничего не требуют взамен. О том, что ее первая брачная ночь получилась бурной и кровавой она, раздувая ноздри, рассказала Наташе при первой же возможности. «Три простыни сменила!» – с затаенной гордостью сообщила она. А все потому что кровь была, а боли не было. Ну, может быть, в самом начале, и то чуть-чуть. В первый раз она ничего не почувствовала – лежала, горячая и красная, выпучив глаза, вцепившись в мужнины руки и забывая дышать. К тому же все закончилось слишком быстро. Ко второму разу она немного успокоилась и кое-что ощутила – будто внутри нее, не желая заводиться, чихал мотор. А в конце третьего раза закатила глаза и куда-то полетела. Она попыталась описать свои ощущения, возбудилась, запуталась и сказала: «Да что я тебе рассказываю – ты и сама все прекрасно знаешь!» И Наташе пришлось подтвердить, что у нее приблизительно все так и было. «Да, да, именно – глаза закатила и куда-то полетела!» – сказала она.
Судя по нескромным подробностям, с оргазмом у подруг было все в порядке, и высшее женское наслаждение их голодные мужья дарили им регулярно и безотказно. Пожалев на прощанье хозяйку, подруги уходили стелить супружеское ложе, оставляя ее наедине с холодной постелью и неясным будущим.
Какое счастье, между тем думала Наташа, что она не любила Мишку! Представить невозможно, что сейчас с ней творилось бы, если было бы наоборот! Обратно тому, как дальние эротические раскаты не вырастали у нее в бушующую грозу, оскорбление изменой обернулось чувствительной, но все же затухающей чередой душевных толчков. «Слышать об этом ничего не хочу!» – затыкала она уши, когда разгоряченные подруги принимались ее сватать. Только нового случайного знакомства ей для полного счастья и не хватало!
Смятение ее располагалось вовсе не там, куда глядели подруги. Зачем бог дал ей длинные ноги, тонкие руки и смазливое личико, если проку от них без оргазма никакого – горевала она, вспоминая случайную девицу, чьей страстной кубышкой на ее глазах так аппетитно пользовался Мишка. Неужели такие вот сговорчивые дуры и дальше будут вставать на ее пути? И что же ей теперь следует ждать от будущих отношений с другими мужчинами? А если и вправду все дело в ее неспособности ощутить кайф и, стало быть, по-настоящему возбудить самца? Неужели ее удел – шагать по граблям, заведомо ожидая очередного удара по лбу самолюбия?!
13
Выждав положенное время, ей позвонили, а затем одновременно заявились три, как она точно знала, верных поклонника – Сережка Агафонов, Витя Коновалец и Яша Белецкий. Подбадривая свое смущение крепнущей профессиональной бесцеремонностью, они прошли на кухню, где не были уже больше года, и осели для чаепития. Видимо, полагая, что она необыкновенно страдает, они принялись развлекать ее рассказами о своей работе, отыскивая примеры посмешнее. Из их компетентных экспромтов выходило, что достаточно нынче нескольким злодеям объединить усилия, и они могут творить такое, что не снилось самому Аль Капоне. И объединяют, и творят, и ничего с ними не поделаешь, потому что правовая база вместе с ее внутренними органами дырявая, как швейцарский сыр, а криминал теперь такой же честный бизнес, как и честный бизнес – криминал. Все запуталось, и распутать уже невозможно, а можно только разрубить, но рубить охотников нет. И одному богу лишь известно, как совместить сегодня кирпич порядка и стекло свободы. Что касается их самих, то да, они до сих пор не женаты.
«Мальчики, вам поскорее надо жениться, вот что вам надо!» – сказала она им на прощание, проверяя версию их марьяжного интереса.
«Так вот и мы о том же!» – согласился Серега, выразительно глядя ей в глаза.
Ну, уж нет! Лично она теперь будет ждать удар любовного тока!
Очевидно, что женщине ее семейное положение многократно интереснее, чем положение страны, чья излюбленная многовековая поза на четвереньках также утомительна, как и неэстетична. Современная женщина должна иметь чулки, белье, одежду, обувь, запахи, косметику, сумочку с ключами от квартиры и машины, полный холодильник, работу, мужа, а если повезет, то и ребенка. Должна иметь внимание и быть избавлена от непристойных предложений и посягательств, и для нее гораздо важнее ее желания, чем то, каким образом стране это достается. Особенно если она юрист, а ее страна – банкрот. Какое ей, собственно, дело до того, что не может быть прочным общественное здание, в фундамент которого заложена кража! Что ей это угрюмое и прискорбное безобразие, что творится вокруг, если для нее, как для юриста от этого только польза! Ведь лучший друг дантиста – кариес, Касперского – вирус, чиновника – бюджет, а юриста – бестолковое государство. В конце концов, население всегда делилось и будет делиться на два сорта: на тех, кто ждет от страны совершенства (второй сорт) и тех, кто пользуется ее недостатками (первый сорт). Все это к тому, что она была счастливее многих, потому что у нее было свое дело, которое требовало такой же заботы, как и ребенок.
Дело началось еще при Мишке, и было ему имя «Юстиниана». Что ни говори, а такое красивое имя мог придумать только влюбленный мужчина. Все началось с незатейливых услуг по регистрации компаний и сопутствующих формальностей. Девочка-помощница бегала между скромным офисом на Петроградской и Регистрационной Палатой, пока она принимала клиентов и расточала улыбки. Те, кому она улыбнулась один раз, обязательно хотели видеть ее вновь. Спустя некоторое время благодаря Мишкиным связям появились клиенты посерьезней – за консультациями, с исками, с делами для арбитража, и это был уже другой уровень. Она находила и привлекала опытных крючкотворов, хорошо им платила и понемногу училась сама. Вскоре она выиграла свое первое дело в Арбитражном суде. И хотя дело с самого начала представлялось верным, они с Мишкой отпраздновали победу, которая от спортивной отличалась лишь отсутствием зрителей.
Незадолго до разрыва она взяла в штат пожилую, но цепкую Ирину Львовну, с появлением которой фирма приобрела достаточную самостоятельность и плавучесть. К Наташе она, несмотря на скрипучий нрав, относилась по-матерински, к Мишке – по-свойски, не скупясь демонстрировала боевое искусство и, судя по всему, была рада осесть на теплой независимой кочке. Их развод ее огорчил, но отношение к работе и к Наташе она не поменяла. В бытовом смысле она к пятидесяти годам, как большинство одержимых юриспруденцией женщин, превратилась в ванильный сухарь, а в профессиональном – в кремень, способный точными ударами высекать искры унылой злости из противной стороны. В офисе не переводились цветы и конфеты, дня не проходило, чтобы не звучала фраза: «Нам рекомендовали обратиться к вам…». Таким образом, дело два года крепло и кормило, и к моменту разрыва она уже не представляла, как можно идти к кому-то в услужение и месяцами ждать зарплату. Ей приходилось много перемещаться, она пользовалась такси, и следуя своим планам, за полгода до измены получила права. Развод задержал приобретение машины, но не отменил.
Через полтора месяца после ее развода страна зашлась в затяжной падучей по имени дефолт. Казна, погрязшая в долгах, не имела даже средств, чтобы платить по процентам, и люди у руля, успевшие привыкнуть к формуле «Что нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги» не стали ломать голову, а решили действовать испытанным способом: «Где не помогут жертвы, помогут большие жертвы». Деньги, жадность, азарт и беспризорная власть – какая пошлая страница российской истории!
Добавим ради красного словца, что в отличие от вещей, политические системы мы ремонтировать не умеем, мы их просто выбрасываем, и потому история России за последние сто лет – это сумбур вместо музыки. Несмотря на попытки отдельных композиторов добавить ей стройности и гармонии, нынешние достижения пока скромны: осветить страну неоном – не значит прогнать тьму. Всё включено, а все равно темно. И если верно, что сексуальная революция сопровождается угасанием творческого начала, то впереди нас ждет бескрылая эпоха комиксов. И все же, думается, желающие похоронить Россию будут опозорены временем…
Поскольку все свои валютные сбережения Наташа хранила не в банке, а в прозрачном пакете, сунутом под стопку чистого постельного белья, то в отношении внутренних цен она оказалась в крайне выгодном положении. В декабре стало возможным купить машину. Она призвала на помощь друзей, и они по объявлению подобрали ей за семь тысяч долларов подержанную «Мазду», которая до дефолта стоила все пятнадцать. Так она обзавелась первым в жизни автомобилем, украсив его платиновый перламутровый кузов своей неотразимой внешностью. Что ни говорите, а обманщик-автомобиль для женщины есть не что иное, как лакированный усилитель ее повелительных наклонностей!
Потянулись плотные, набитые заботами дни. Она вставала утром приблизительно в одно время, приводила в порядок свою не утомленную ночными забавами двадцатишестилетнюю внешность, влезала в кокон, свитый из капрона, шелка, шерсти и хлопка и отправлялась по маршруту, заданному муравьиным смыслом жизни. Чаще всего день начинался с офиса, где ее ждали шумные заботы, чьи сетования не утихали даже в спокойные дни. Бумаги, звонки и встречи в офисе чередовались с поездками в суд, к клиентам, которых она посещала, отдавая дань их важности, к коллегам и нужным людям. По пути она могла забежать в магазин, чтобы засвидетельствовать свое почтение моде, или в театральную кассу, чтобы обеспечить ближайшее будущее культурным досугом. Слава богу, она была избавлена от посещений парикмахерских, способных только испортить ее густые длинные волосы, которые она, однажды подглядев у парижанок, завела привычку схватывать на затылке узлом переменной степени небрежности.
После работы чаще всего следовали одинокие, но совсем неутомительные вечера. Музыка, иногда книга, телевизор вполголоса, телефонные дружеские бдения. Ее жизнью продолжали интересоваться как друзья, так и недруги. Она с удовольствием принимала у себя подруг, с неохотой наведываясь к ним в гости, где на нее по-особому поглядывали их мужья. Раз в неделю она в компании с Машкой посещала театр, либо иной храм искусства.
«Как ты обходишься без мужика?» – спросила ее однажды бесцеремонная Светка.
«В смысле?» – удивилась Наташа, подумав, что речь идет о домашнем хозяйстве, с которым она и сама прекрасно управлялась.
«В смысле кровати, каком же еще!» – отвечала Светка.
Что и говорить, вопрос таил в себе подвох: ее способность к долгому воздержанию косвенным образом свидетельствовала против нее. Ей пришлось оправдываться непомерной занятостью, с которой вот-вот будет покончено, и тогда она займется поисками достойного мужика. Сами понимаете: мужика завести – не кошку подобрать. Кстати, кошку она, как одинокая женщина, уже завела.
Так она и жила, пока однажды в августе двухтысячного у нее в офисе не появился новый клиент…
14
Его удачный дебют лишь подтвердил ту истину, что страна наша – не консерватория, а, скорее, казино, где успех одного не есть успех всех, тем более в пору всеобщей линьки.
Когда миллионам граждан были вдруг предложены новые правила игры, то всё оказалось очень похоже на то, как если бы честных людей, желающих выиграть, заставляли бы жульничать и воровать, заведомо зная, что они на это не способны. Отсюда недалеко до подозрения, что правила эти писались людьми особого сорта, приятно возбужденными представившейся возможностью пролезть в историческую щель с целью отнять всеобщее добро и поделить его между собой. Не их ли темными усилиями в очередной раз, говоря словами многоязычного изгнанника, «крошились границы России и разъедалась ее плоть»?
Также очевидно, что попытки отдельных начальников, вполне, кажется, искренних и порядочных, не смогли этому помешать. Удивительно ли, что объявленный ими путь лежал на самом деле не к праздничному пирогу, а к мешку с сухарями. Страна оказалась в руках не созидателей, а разрушителей, и нет ничего странного после этого в том, что изрядное число современных граждан привязано к ней не чувством, не корнями, не будущим благополучием, а исключительно нищетой.
Взвешивая осадок прошлых лет (наша ли в том вина, что он оказался горьким? конечно, наша!) следует заметить между прочим, что поскольку здесь пишется не история страны, а история возникшего в ней чувства, не упомянуть о вышесказанном нельзя, как нельзя не брать в расчет качество воды того аквариума, в котором плавают наши золотые рыбки. С другой стороны, что за занятие, ей-богу – сидя на берегу реки забвения таскать оттуда ржавые загогулины хорошо известных фактов! Уж если и заниматься этим, то с целью очистить ее русло, что, однако, больше подходит ангажированным историкам.
…Обретя «зеленую» почву, он, следуя золотой заповеди финансиста «главное – сохранить, а если возможно, то приумножить», принялся воплощать ее со всей страстью и вдохновением молодости. Тем более что для того, кто преследовал тогда не размах, а надежность, достаточно было иметь связи в банке и пару верных, а точнее сказать, повязанных интересом друзей.
Через Юрку Долгих и его банк он втащил сюда немного денег и купил, как уже было сказано, две квартиры. Значительно позже, когда деньги перестали скрывать, он в добавление к своим теперь уже четырем квартирам купил у беглого нувориша участок с домом в районе Зеленогорска недалеко от залива. Таким образом, числившаяся за ним на момент их знакомства недвижимость стоила никак не меньше двух миллионов долларов.
Вместе с Юркой он продолжил поставку компьютеров, постепенно наращивая объемы. Оборудование его операционной было предельно лаконичным: фирма за рубежом и фирма в стране – два органа, между которыми циркулировало устойчивое товарно-денежное кровообращение. Он сам себе продавал и сам у себя покупал, и его правая рука прекрасно знала, что делает левая, и при этом одна мыла другую. Уже тогда он взял за правило отправлять половину прибыли за границу, где она оседала высококалорийным подкожным жиром.
Когда решены проблемы материальные, взор ищет, чем утешить душу. Поскольку достаток его в ту пору не бросался в глаза (о чем, кстати, тогда нелишне было заботиться), то он никогда не оказывался в положении, о котором предупреждал жизнерадостный Эпикур: «Многие, накопив богатства, нашли не конец бедам, а другие беды». Запросы его не превосходили рамок разумного – видео, аудиоаппаратура, подержанный «Ауди» и добротная одежда, к которой он, как и к женщинам, питал устойчивую слабость. Отремонтировав квартиру на Московском, он перевез туда родителей, оставшись жить в милой его сердцу хулиганской слободе, храня ей верность, как покалеченной по его вине любовнице. Сепаратное проживание оказалось как нельзя кстати – появилась возможность, о которой в бесприютные советские времена мечтали вульгарные последователи того же Эпикура: «Вам восемнадцать лет, у вас своя квартира, вы можете любить шутя!»
Так уж он был устроен, что не мог обходиться без сладко пахнущего, стройного и капризного существа, дарующего нагую благосклонность, словно милостыню. Ему нравилось добиваться женского внимания, касаться рук, губ, тела, обладать ими, наконец, но про себя он испытывал странное желание – хотел, чтобы та, которой он добился, заставляла бы добиваться ее вновь и вновь. Другими словами, он любил, чтобы его не любили. Именно так обстояло дело с девчонкой из соседнего двора на два года его старше – не то продавщица, не то кладовщица – с которой он связался после Галки. Именно с ней он впервые обнаружил в себе то сладостное самоистязание, что посторонний наблюдатель назвал бы синдромом влюбленного Сизифа. Их роман длился года полтора и запомнился ему унизительным рысканьем в поисках свободного гнездышка. Обычно найдя такое место, он звонил ей, и она являлась и соединялась с ним на скорую руку, словно делая одолжение – без лишних слов и нежных признаний. От этого каждая их встреча была, как первая, и нервный градус их отношений заключался именно в его щекотливом двусмысленном положении – придет она в этот раз или нет. Сомнительно, однако, что девушка из подворотни оказалась настолько проницательной, чтобы разгадать его аномалию и вести себя соответствующим его желанию образом. Иначе придется признать, что она из той же подворотни, что и Кармен. Как бы то ни было, однажды она не пришла никогда. Помнится, он страдал.
Если женщина падала к его ногам, как спелая груша, он продолжал ею пользоваться, стараясь при этом быть с ней честным, ласковым и внимательным. Так случилось с Лелей Ерохиной, бывшей его однокурсницей, отношения с которой целили прямо в брак. Девушка она была и цветущая, и бойкая, и домовитая, но сверх того, гибкая, вразумительная и деловитая.
В конце июня восемьдесят девятого, в самый разгар неожиданно хмельной для него пирушки по случаю окончания пятого курса, она участливой феей выступила перед ним из глуховатой карусельной пелены и увела на улицу, откуда на такси привезла его, мычащего, к себе на квартиру, где он и проснулся утром в ее постели. Она спала рядом, отвернувшись и прикрывшись голым круглым плечиком. На супружеском расстоянии от него под голубоватой простыней набирал пологую силу ее русалочий хвост и крутой волной нависал над талией. Шелковистые взбитые волосы по-свойски струились с кремовой, в мелкий цветочек подушки. Он смотрел на их золотистый отлив и удивлялся, как раньше не замечал этот сухой солнечный блеск. Он попытался вспомнить, что было ночью, так как ночью между ними определенно что-то было. Однако если ему и следовало чего-то стыдиться, то только своего беспомощного и беспамятного состояния.
Она проснулась и с припухшим смущением повернулась к нему. Он осторожно улыбнулся, и она, краснея, скинула голубой русалочий покров и жарким упругим телом устремилась к нему под кремовое в мелкий цветочек одеяло. Через несколько минут он, сам того не ожидая, впервые в жизни лишил девушку девственности, а значит, теперь был обязан на ней жениться…
Он обещал жениться на ней сразу после института, но потом два года откладывал: сперва под предлогом неустойчивого материального положения, затем необходимостью его стабилизировать, после – из-за неразберихи в стране, каждый раз добавляя к этому новые невнятные доводы. Осенью девяносто первого она переехала к нему на Гражданку, где принялась авансом налаживать семейный быт. Они часто бывали в гостях у его и ее родителей, где их, не скрывая нетерпеливых ожиданий, всегда тепло принимали. И в самом деле, все, кажется, было взвешено, отмеряно, условлено и оговорено. Не хватало лишь слабого толчка, чтобы события покатились в сторону печатей, цветов и шампанского. Разумеется, в ее арсенале был такой толчок, даже, можно сказать, пинок – внезапная беременность, верное средство от нерешительности. И то, что она к нему не прибегла, говорит, скорее, о ее дальновидности, чем о безрассудстве.
Между тем он не жалел на нее денег и доверил ей по совместительству официальную часть своей бухгалтерии, отчего она была в курсе всех его безналичных дел. Весной девяносто второго он успел показать ей Париж, а через три месяца тот же Париж их и разлучил. И вот как это было.
15
В начале сентября он отправился к благодушным после каникул французам, чтобы встряхнуть и добавить огоньку в их мелкобуржуазные сердца. С каждым новым посещением Париж добрел к нему, как добреет местный лавочник к покупателю, посетившему его лавку более трех раз. Станьте его постоянным клиентом, и вам обеспечено фамильярное обращение – высший сорт французского уважения.
Город, пропитанный мягким светом, с удовольствием отгибал уголки своих страниц: откликался звонкими камнями узких улиц, играл летучими оттенками красок, добавлял беглые кофейные нотки в неподвижный аромат кухонной духоты, кичился и сочился урожаем, смеялся над будущим увяданием. Жертвы вавилонского столпотворения все также сновали по нему, как мыши сквозь беспризорный сыр.
В аэропорту его встретил Патрик и повез на переговоры в свой офис. Там его уже ждали двое добродушных французов, с которыми он был знаком заочно, и с ними молоденькая девушка, с чрезвычайно милым, почти как у Брижит Бардо личиком. Те же широко поставленные, догоняющие скулы глаза, прямой коротенький носик, вздернутая верхняя губа, наполовину обнажающая белые зубки. Пухлый полуоткрытый ротик был слегка приплюснут, словно невидимый ангел припал к нему с поцелуем. Золотистые крашеные волосы, схваченные на затылке хвостом, дополняли сходство. Формы ее были расчетливо приведены в соответствие с небольшой стройной фигуркой. На ней было темно-синее в белый горошек платье, не скрывающее аппетитные, в колготках телесного цвета коленки, и строгий серый приталенный пиджак. Леля определенно была роскошнее, но от девушки исходило нечто мягкое, вкрадчивое, кошачье и, в тоже время, беспомощно невинное.
«Мишель…» – согласно обычаю улыбнулась она, когда дело дошло до знакомства.
Мужчины попросили кофе и приступили к обмену любезностями. Девушка достала большой блокнот в синюю клеточку и, хмуря лобик, приготовилась записывать. Оказавшись напротив, он заглянул в визитку, которую она ему вручила. Michele Dutronc, assistante du DG (Мишель Дютрон, помощница гендиректора).
Сдвинутые брови делали ее трогательно серьезной. Двум непослушным прядям не сиделось за ушами, и они мало-помалу выбирались оттуда и нависали над склоненным лицом. Она быстро и досадливо отправляла их назад и снова обращалась к блокноту. Когда ему задавали вопрос, она вскидывала голову и внимательно смотрела на него в ожидании ответа. Он начинал отвечать, и ее черная ручка, такая же тонкая, как ее пальчики щекотала блокнот мелким почерком. Подметив эту особенность, он стал затягивать с ответом, делая вид, будто роется в памяти. Она, как и все, терпеливо ждала, глядя на него, а ему в это время хотелось ей широко и ласково улыбнуться.
На самом деле было не до улыбок.
Испытав первую волну иноземного нашествия, российский рынок постепенно насыщался. Теперь, чтобы привлечь к покупкам менее состоятельную публику, требовался товар подешевле, и дешевизна эта должна была начинаться с поставщиков. И как раз с этим у французов было плохо. Так плохо, что ему нужно было решать, работать ли с ними дальше или искать более выгодные предложения. Французы это прекрасно понимали, но, судя по всему, поделать ничего не могли.
«Собирается ли мистер Maksjmoff работать с традиционно французскими товарами?» – спросила она его под конец певучим голосом на хорошем английском языке.
«Например?» – поинтересовался мистер Maksjmoff.
«Например, вина, парфюмерия, модная одежда…» – ответила она.
«Надо подумать!» – широко и ласково улыбнулся, наконец, он.
На вечер наметили ужин в тихом месте. Расставаясь, он спросил ее, будет ли она там присутствовать. Она переглянулась с директором, и он ответил вместо нее: “Why not?”
Тихим местом стал ресторан “Vagenende” на бульваре Сен-Жермен. Патрик с женой забрали его, как всегда, из полюбившегося ему отеля в четырнадцатом округе, откуда до Сены было рукой подать. По дороге Патрик пытался выяснить, что он думает по поводу предложенных цен. Он же, чувствуя себя хозяином положения, от определенного ответа уклонялся, отвечал: «Дорого. Надо подумать». Хотя и без того было ясно, что согласиться на их цены, значит, идти если не на убытки, то на смехотворную прибыль.
Без четверти восемь добрались до ресторана и у бордового навеса стали ждать остальных, воскурив в густую розовую синеву коричневые карандаши тонких сигар. К восьми подъехали добродушные джентльмены с женами и привезли с собой Мишель. На ней было черное платье, из щедрого выреза которого уютно вздымалась упругая грудь, а милую головку ее украшала копна золотых волос. Держась позади нее, он с провинциальным изумлением рассматривал ее прическу, гениальной изощренностью не уступавшую самой природе. Каким-то простым и удивительным образом ее волосы на затылке в союзе с двумя невесть откуда взявшимися косами были расположены таким манером, что образовали полное подобие той волнующей позы, которой женщина приглашает мужчину посетить ее сзади, с тем лишь осложнением, что место посещения прикрыто при этом кокетливой розочкой.
Одухотворение порока, возвышение низкого, смелый намек, утонченный призыв – не в этом ли заключен неотразимый парижский стиль?
Попав в зал, она сняла накинутую на плечи тонкую бежевую кофту, обнажив изящные, тронутые загаром руки. Ее усадили рядом с ним, образовав, таким образом, компанию из четырех пар.
Какой удивительной способностью радовать и возрождать обладают парижские рестораны! Кажется, нет места священнее и равноправнее для француза, чем подобные заведения. Вот и здесь: даже устрицы и омары выглядели такими же участниками застолья, как и гости.
Через некоторое время пришло оживление, открылись сердечные поры, и хоботки любопытства потянулись друг к другу. Дамы интересовались у него через мужей, что происходит в России, и он грузными и торжественными словами пытался убедить их и себя, что родина его наконец-то взялась за ум и встала на путь свободы, равенства и братства. Дамы никак не могли взять в толк, как возможно, чтобы такие проверенные рецепты общественного устройства опоздали в Россию на двести лет, смотрели на него с искренним участием, переспрашивали, уточняли, не въезжали, говорили: “Ahh-a!”, а когда, наконец, поняли, то пришли в восторг и поинтересовались, кто его родители. Он отвечал, что они образованные люди, которым довелось, наконец, вздохнуть с облегчением и что теперь им никто не указ.
В воздухе витал крепкий аромат свободы, и французская речь – напряженный продукт укрощенного резонанса – мягкая, точеная, ароматная, стремительная и тягучая одновременно была таким же украшением вечера, как игра кремового и шоколадного в позолоченных зеркалах, резные деревянные детали, серебряные блюда, рубины в бокалах, хрустящие салфетки, рукотворное вечно полуденное небо, расписанное тропической зеленью и незабудками, священнодействие поваров, гарсонов и ОНА.
«Мишель, у вас замечательно смелая прическа!» – понизив голос, сказал он, склонившись и жадно нащупывая среди бесцеремонных запахов кухни и табака ее собственный аромат.
«Вы находите?» – заведя назад руку, коснулась она розочки, нисколько не смутившись.
«Oh, yes!» – подтвердил он, ощутив что-то легкое, морское и свежее, рожденное полетом ее руки.
«Merci!» – вежливо поблагодарила она.
«Могу я задать вам нескромный вопрос?»
«Конечно!»
«Вы замужем?»
«Конечно, нет!»
«Почему?»
«Но мне всего двадцать один! Ведь это так рано для marriage!»
Умная девушка. Он принялся рассказывать ей, как много, если покопаться, застряло в образованных русских людях от французской культуры. Вот он, например, еще в юности перечитал всех французских классиков и чуть не плакал над «Мадам Бовари» и «Дамой с камелиями».
«О, Мадам Бовари!» – откликнулась она из другого, несколько манерного мира.
К сожалению, теперь дела не оставляют ему много времени для чтения, но он все же прочитал «Обличителя» Рене-Виктора Пия.
«В самом деле? – оживилась она и тут же обратилась к компании: – Послушайте, оказывается, мистер Maksimoff читал «L’imprecateur»!»
«А-а! О-о! Не может быть! Замечательно! Здорово! И что мистер Maksimoff думает по этому поводу?»
Что он мог думать? Как, в самом деле, можно сравнивать благородную мигрень по имени капитализм с той белой горячкой, которая расправляла свои зеленые крылья над его страной? Ведь это не времена Бальзака и даже не Мольера, а какое-то средневековье, какой-то артельный хаос, в который погружалась Россия!
«Замечательная книга, весьма и весьма поучительная! – глубокомысленно изрек он и, наклонившись к ней, добавил: – Мишель, не могли бы вы звать меня просто Дима?»
«Oh, DimA! Okeу!» – охотно согласилась она.
В конце концов, он составил о ней самое лестное представление. Она была без косметики – вот главное открытие – и все же так естественна и свежа. Чуть-чуть, может быть, ресницы. Едва-едва, кажется, брови. В остальном – сплошная незамаскированная прелесть. Ее обнаженная гладкая рука на расстоянии, которое можно сократить одним неловким движением его руки, прямая спинка, поддерживающая отпущенную на свободу грудь, пряди волос, стекающие на высоту прямых плеч, ораторствующие ключицы – расчетливая и губительная принадлежность к союзу черного, золотого и кремового.
Вот сосуд, думал он, в котором, судя по его книжным представлениям, умещался тот самый набор повадок, вкусов, мнений, те радужные переливы кошачьей независимости, убийственной вежливости, утонченного сладострастия, ветреной любви, остроумного отвращения, расчетливого бездушия, очаровательного отчаяния, и прочего, такого возвышенного, низкого и заразительного, чему пытаются подражать женщины всего мира. Инопланетянка, до которой страшно дотронуться, источник высшего восторга и гибельной тоски! Определенно, француженки – другая порода женщин!
Вышли наружу, и он, улучив момент, спросил ее:
«Мишель, вы позволите вас проводить?»
«Why not? – ответила она ровным голосом, и объявила компании: – Мистер Maksimoff любезно предложил меня проводить, поэтому мы оставляем вас!»
«Очень любезно с вашей стороны, – обратился к нему ее шеф. – Тогда, до завтра!»
Все разъехались, они остались одни.
«Такси?» – предложил он.
«Давайте немного пройдем, а потом возьмем такси!»
«Вы не замерзнете?» – с сомнением поглядел он на ее кофточку.
«Нет, сегодня тепло!»
Что ж, для него, питерца, может, оно и так, но кто знает субтильную природу француженок. Господи, до чего он дожил: фланирует по Парижу с умопомрачительной парижанкой, как по Питеру с Лелей, которой готов, кажется, изменить! Да мог ли он еще совсем недавно о таком думать?! Вот она – универсальная и всемогущая сила денег!
Давно сгустились сумерки, сдав город в плен неживым неоновым краскам, запятнавшим его цветными лицами. Она шла рядом, ровно и вежливо отвечая на его вопросы и изредка задавая свои. Они миновали безымянную лавку, где торговали музыкальной аппаратурой и дисками, и он спросил, где, по ее мнению, он мог бы отыскать редкие записи. Она спросила, что его интересует, он ответил, что есть два французских джазовых пианиста – Марсьяль Соляль и Ральф Шилькруна, записи которых он давно ищет. Не прочь также отыскать ранние записи «Double six de Paris». Она ответила, что из французских джазменов знает только Джанго Рейнхарда и Стефана Граппели – последний написал музыку к «Вальсирующим»: просто чудная, совершенно необыкновенная музыка! Он охотно согласился и чтобы заручиться встречей, продолжал мягко настаивать на ее помощи.
«Ну, хорошо. Я попытаюсь вам показать, где это можно найти. Завтра».
Ну, разумеется, завтра.
Она жила в районе Люксембургского сада, за бульваром Монпарнас, на улице Буасонад, на пятом этаже узкого дома, зажатого с двух сторон большими домами, как худой человек толстяками. Они довольно быстро туда доехали, он подал ей руку и помог выйти.
«Если вы не торопитесь, мы могли бы подняться ко мне и что-нибудь выпить…» – сказала она, выпуская его руку.
«С удовольствием!» – не стал он себя упрашивать и отпустил такси. Было около двенадцати.
Они прошли мимо недремлющего консьержа, поднялись по лестнице и оказались в небольшой квартирке, которую она, как оказалось, здесь снимала. Пригласив его снять пиджак и сесть на пухлый диван, она спросила, что он будет пить.
«То же, что и вы» – сказал он.
«Тогда Мартини» – заключила она и ушла в другую комнату. Пока она отсутствовала, он осмотрелся.
Комната, где он находился, служила, по-видимому, гостиной и была обставлена и ухожена с другим, незнакомым ему вкусом. Высокий потолок был ее легкими, низкая мебель возвеличивала. Кровосмешение стилей наводило на мысль, что Мишель живет здесь не одна.
Хозяйка принесла на маленьком подносе два бокала и бутылку Мартини. Она успела переодеться, и теперь на ней было легкое цветастое платье, короткое и двусмысленное, как японское стихотворение. Кроме того, она распустила волосы, отчего лицо ее округлилось и стало домашним.
«Какую музыку вы любите, DimA?» – стояла она перед ним, сверкая сладкими девчоночьими коленями.
«Ну… не знаю, я много чего люблю. Когда-то я любил «Би Джиз», а теперь люблю би джаз…» – сострил он, стараясь не смотреть на ее ноги.
«О, Би Джиз! Посмотрите там! – махнула она рукой в сторону музыкального центра. – Там что-то должно быть…»
Он встал и сделал два шага в указанном направлении. Под центром, на полках он нашел десятка два CD – в основном записи французских певцов. Среди них ему попался Джо Дассен. Он разобрался с аппаратурой, запустил диск и вернулся на диван.
«А-а, Джо Дассен! Вы любите Джо Дассена?» – спросила она и, передав ему бокал, уселась рядом.
«Да, у нас он очень популярен, хотя мало кто знает, о чем он поет».
«Вот как? Забавно! Впрочем, вы не много потеряли. Ведь все мужчины поют про любовь, не так ли?»
Ее гладкое, без единой морщинки личико было обращено к нему, скрывая в уголках рта едва заметную усмешку.
«Как, разве вы не любите песни про любовь?» – шутливо изумился он.
«А вы?» – утопив в бокале губы, спросила она, в упор глядя на него.
«Обожаю!» – с шутливым вызовом ответил он.
«И напрасно. Они все лгут» – спокойно сообщила она, продолжая смотреть на него.
Он смутился.
«У вас здесь очень хорошо! – поспешил он сменить тему. – Мне почему-то кажется, что вы живете здесь не одна…»
«Как вы догадались?» – искренне удивилась она.
«Я не знаю. Мне так кажется…»
«Вы угадали, я живу с подругой»
«И где же она сейчас?»
«Я попросила ее переночевать у нашей общей подруги»
«Почему?»
«Потому что знала, что понравлюсь вам» – сказала она совершенно естественно и, поставив бокал на столик, выжидательно обратила к нему лицо. Он сделал со своим бокалом то же самое и подвинулся к ней вплотную. Взяв ее за руки, он мягко подался к ее лицу и, собираясь развязать красный бант ее губ, отодвинул назойливого ангела. Последовала осязательная игра ртов, которая для большинства людей имеет такое же значение, как захват крепостных ворот, открывающий вход внутрь крепости. Убедившись, что крепость не прочь, чтобы в нее вошли, он отстранился, стянул брюки и откинулся на спинку, подставив ей бедра, и она, приподняв подол платья, под которым уже ничего не было, легко забралась туда, медленным тугим движением надвинулась на него, сжала коленями и, нависнув, закачалась вместе с ним на кожаных волнах дивана…
16
Что он знал до сих пор о языке любви, думал он, лежа на спине рядом с притихшей Мишель. Галка, продавщица, Леля – все они по-разному и в то же время одинаково косноязычно вели себя в постели, потому что надо родиться в стране любви, чтобы говорить на ее языке, ибо как бы старательно его потом не изучали, он все равно не станет родным. При всех режимах француженка была вольна искать любви, выбирать ее, пробовать на вкус и на цвет, жить ею и предаваться ей по своему усмотрению.
Неостывшими мыслями он вернулся к их троекратному «ура». На первый взгляд Мишель не предпринимала ничего сверхъестественного. Прикасаясь, прижимаясь к нему, обвивая и направляя его, она необъяснимым образом возбуждала в нем теплые быстрые токи, летучий восторг, внезапную дрожь, ласковые толчки, из чего рождалось томительное блаженство. Она придавала своим ласкам такую же обстоятельность, полноту, изящество и неожиданность, какие отличают настоящую любовную поэзию от простых междометий. Так ребенок управляет миром, заставляя взрослых умиляться и восторгаться его бессознательному совершенству.
И еще он понял, что Леля совершала большую ошибку, заботясь в постели только о себе…
«Что ты думаешь по поводу контракта?» – спросила она утром по дороге в отель, куда они ехали, чтобы забрать его бумаги.
«Я подпишу его!» – не задумываясь, ответил он.
«Спасибо, ты очень любезен!» – поблагодарила Мишель, отводя глаза. Она изучала финансы в высшей школе и подрабатывала в небольшой компании друга ее отца. Ох уж эти добродушные друзья отцов!
После заключительных переговоров, где довольные французы его горячо благодарили, он отказался от прощального ужина и отправился с Мишель на ее букашечном R4 колесить по городу. Праздничная карусель продолжалась до вечера, затем они ужинали в небольшом итальянском ресторане недалеко от Люксембургского сада, потом вернулись к ней, пили Мартини, целовались на диване и болтали обо всем, что приходило на ум. После легкой, искристой увертюры последовала восхитительная бурная ночь с новыми, непозволительными еще вчера подробностями, которыми оба остались чрезвычайно довольны.
«Ты замечательный любовник!» – призналась она наутро.
Исполненный восторженного перебора душевных струн, он поминутно целовал ее в разные открытые места. Только сейчас он почувствовал, как утомительны для него любовные упражнения с Лелей.
«Я буду скучать!» – сказал он ей перед расставанием.
«Я тоже…»
Вернувшись, он не нашел ничего лучше, чем объявить Леле, что им следует расстаться. Изумленная Леля пыталась разумным образом выяснить причину такой поспешности, не выяснила, но о сути догадалась и собрала вещи, которые он вместе с ней отвез к ее родителям. К чести Лели следует сказать, что подобный исход она вполне допускала и, погоревав немного, взяла себя в руки и через год вышла замуж за внезапно разбогатевшего друга детства. Следующий раз они встретились по случаю десятилетия окончания института, и он нашел ее веселой, располневшей и вполне довольной.
А что же Мишель? А вот что.
Их общение было достаточно живым, тем более что для этого имелся повод в виде контракта. Он сильно скучал и пользовался любым случаем, чтобы напомнить о себе. Притворно интересовался конъюнктурой товаров, которыми, якобы, рассчитывал заняться, прекрасно зная, что заниматься ими не будет. Он получал от нее факсы с ценами, способных только отпугнуть покупателей, а в качестве утешения – заманчивые предложения залежалого барахла, которое широким потоком сливалось в то время в Россию.
В середине ноября он, согласовав с ней свое появление, приехал в Париж. Патрик отвез его к себе в офис, а потом в отель. Она заехала за ним вечером, дала себя поцеловать и забрала с собой. Они ужинали в маленьком ресторане на бульваре Монпарнас, а вернувшись, устроились на диване. Он попробовал заняться любовью тут же на диване, но она его натиск не одобрила, и степенно приготовившись ко сну, уложила его с собой спать. Он все же добился ее, неохотную, после чего она сказала: «Прости, DimA, мне завтра рано вставать», и повернулась на другой бок.
Наутро он встал вместе с ней, и пока она сосредоточено порхала по квартире, украдкой наблюдал за ее превращением в деловую молодую особу. Когда пили кофе, она спросила, куда бы он хотел пойти вечером. Он сказал, что если она согласна, то вечером они могли бы остаться дома, и он приготовит ужин a la russe. Ах, как это мило, что он умеет готовить! Она будет рада оценить его кулинарные способности! А теперь пора, она, как всегда, опаздывает. Он уговорил ее не тратить время на то, чтобы везти его в отель, куда он сам прекрасно доберется. Ах, какой он милый! Пусть он, в самом деле, извинит ее, что она оставляет его до вечера одного, но вечером (она многозначительно улыбнулась) она обещает, она точно обещает ему много внимания, ведь завтра суббота! Пусть он ждет ее в отеле. И, поцеловав его, она растворилась в потоке машин.
Заехав в отель, он спросил в рецепции адрес надежного ювелирного магазина.
«Но у нас в Париже все магазины надежные, мсье!» – тонко улыбнулся прилизанный служащий приблизительно одного с ним возраста.
«Знаем мы вашу надежность!» – хмыкнул он про себя, а вслух спросил адрес ближайшего магазина.
Все ювелирные магазины объединены неким священным трепетом, как это и пристало алтарю бога Мамоны, где золотой телец выставляет частицы своей плоти. Он явился туда к полудню, выбрал и купил за десять тысяч франков колье из красного золота с бриллиантами и изумрудами, соединенными в созвездие, готовое сверкающим звездопадом упасть между двумя полушариями ее груди, и заскользить дальше вниз, обжигая, как его поцелуй…
По пути он приобрел диск с песнями Эдит Пиаф – коллекцию обнаженного женского чувства, и альбом Эррола Гарнера «Концерт у моря» – мощный и совершенный, как жизнь прибоя. Что ни говори, а его чувство к ней было не лишено экзальтации.
Она позвонила в четыре, и через полчаса заехала за ним. Была слегка возбуждена не то предстоящим отдыхом, не то приятной новостью, о чем он допытываться не стал. По дороге заглянули к мяснику за курицей, к зеленщику за травами и в супермаркет за всякой мелочью. Они останавливались перед стеллажами, склонялись над корзинами, и она весело и оживленно объясняла ему назначение непонятных ему товаров, а когда он не понимал, смеялась и хватала его за руку. Разумеется, он множил свое непонимание. Она сама выбрала вино и на выходе попыталась расплатиться. Он, как и у мясника с зеленщиком, не дал ей этого сделать, загородив собой кассу.
Ветер с океана гнал мрачные низкие облака, от которых хотелось укрыться в тепле и покое ее груди. Приехав к ней, он повязал на себя фартук и принялся за дело, позволив ей наблюдать. Он приготовил курицу в кляре, почистил и сварил мелкий картофель, нарезал помидоры, огурцы и прочую зелень, заправил, отнес и поставил на стол.
Пока он готовил, она с любопытством поглядывала на него, иногда подходила к нему и подставляла губы, которые, она знала точно, он хотел целовать. Он попросил ее надеть то самое черное платье, в каком она была прошлый раз, сказав, что приготовил сюрприз. Волосы она забрала на затылке в живописный, трогательно растрепанный, как его сердце узел. Зажгли свечи, сели. Было около семи.
«Подожди!» – сказал он, вышел из-за стола, достал из кейса Эдит Пиаф и включил.
Лишь обнимет он меня Чуть шепотом пьяня — Мне жизнь мила, как розы…Ей понравилось все, что он приготовил. В самом деле, понравилось. Она даже не представляла, что бывает так вкусно! Оказывается, в России тоже умеют готовить! Он наполнил бокалы, поднял свой и неожиданно спросил, не хочет ли она стать его женой. Она даже бровью не повела и спокойно ответила, что он очень, очень милый, но что она пока не думает о замужестве. Кроме того, они еще плохо знают друг друга, а у них не принято выходить замуж, не узнав человека поближе. Может быть, года через два, а пока им и так хорошо, не правда ли? Нет, в самом деле, пусть он на нее не сердится, она его любит и надеется, что полюбит еще больше, но потом, не сейчас.
Падам… падам… падам… Там «люблю», как плохая лапша Падам… падам… падам… «Навсегда» там не стоит гроша!– пела Эдит Пиаф.
«Во всяком случае, теперь ты знаешь мои намерения… – сказал он и, достав из кейса продолговатый черный футляр, положил его перед ней: – Мне кажется, тебе не хватает вот этого…»
Она открыла, совершенно спокойно взглянула на колье, а затем на него: «Но это, наверное, стоит кучу денег!»
«Мишель, ты была честна со мной и можешь поступить с ним, как захочешь. Оно тебя ни к чему не обязывает. Мне просто захотелось сделать тебе подарок. Может быть, когда-нибудь, взглянув на него, ты вспомнишь меня…»
Она растроганно на него посмотрела: «Спасибо, DimA! Это очень мило с твоей стороны! Помоги мне его одеть…»
Он помог, и она пошла к зеркалу. Вернувшись, она подошла к нему и припала долгим поцелуем. И без того восхитительная, она стала недоступно чужой. Плохое предчувствие качнуло пламя свечей.
Они уселись на диван и взялись за руки.
«Прости, если я поставил тебя в неловкое положение! – сказал он. – Ты вовсе не обязана отвечать мне тем, что тебе может быть неприятно!»
Вместо ответа она встала и ушла в соседнюю комнату. Оттуда она вернулась в том самом коротком платье, в котором впервые забралась на него. Подошла и встала перед ним, сверкая полуголыми ногами. Он понял, что она имела в виду, и расстегнул ремень…
Всю ночь она была с ним необычайно нежна и трепетна, пока не исчерпала его до дна, и он не погрузился в тепло и покой ее груди.
Последующие два дня до самого его отъезда они не расставались ни на минуту. Объездили город, обедали в самых дорогих ресторанах, позировали на Монмартре, где он вышел этаким мрачным мачо с натурально тлеющей сигаретой во рту рядом с белокурым насмешливым ангелом. Она смотрела на него прозрачным ласковым взглядом, на улице брала его под руку, а ночью доводила до изнеможения всеми известными ей способами. Расставаясь в понедельник утром, он сказал: «Мишель, что бы ни случилось, знай, что я тебя очень люблю!»
Она нежным взглядом обвела его лицо и сказала: «Я тебя тоже, ДимА!»
Он попросил разрешения взять их портрет с собой, на что она охотно согласилась.
Вернувшись, он продолжил переписку. Кроме того, он довольно часто ей звонил, и она всегда мило ему отвечала. Он быстро извелся без нее, и спустя некоторое время предложил ей приехать в Питер. Расходы по ее путешествию он брал на себя. Она вежливо его поблагодарила, написав, что всегда мечтала побывать в России, но не зимой, а возможно, ближе к лету. Он, в свою очередь, сообщил, что в таком случае рассчитывает до ее приезда в Питер быть в Париже, где надеется вновь ее обнять, так как безумно ее любит и скучает. Некоторое время она отделывалась общими фразами, а в начале февраля девяносто третьего написала, что у нее новый друг, и когда ДимА приедет, они обязательно посидят где-нибудь втроем…
Их скоротечный роман – это сплошная упущенная выгода, о которой он, однако, никогда не жалел, отчасти оттого, что компенсировал ее другими путями, отчасти по причине теплых и грустных воспоминаний о ветреной инопланетянке с пухлым полуоткрытым ротиком и слегка приплюснутыми губами, от которых не мог оторваться невидимый ангел.
«Сказано: красота – обещание счастья. Но нигде не сказано, что это обещание будет исполнено» – вот слова французского поэта, как нельзя кстати подходящие миллионам мужчин, так или иначе оказавшихся в его положении.
17
Хлопнув дверью кабинета, на что она, находясь во всепозволительной связи с его хозяином, имела полное право, Наташа завершила тем самым свой маленький бунт, пройдя путь от крепнущего напора решимости до окрашенной бледнолицым волнением рубиконовой переправы, что отнимала ее, обновленную, у одного самца и вела к другому. Не так ли взбаламученное штормом море выкидывает на берег ларец с драгоценностями, сулящий тому, кто его нашел удовольствие жить, как захочется? И пусть в ее случае удовольствие это относительное, ибо новый самец есть новая зависимость, все равно это лучше того, что было у нее с хозяином кабинета и, увеличенное лупой раздражения, виделось ей не иначе как стыд, срам и унижение.
Неужели непонятно, изводила она себя поздним прозрением, что по-настоящему гордой и независимой женщине, какой она всегда хотела быть, достаточно уловить даже не сам аромат любого из этих цветов зла, а лишь их отдаленный душок, чтобы сразу же порвать отношения! Возможно, у нее притупился нюх. Однако следуя жизненным наблюдениям, придется признать одно из двух: либо гордых и независимых женщин не бывает, либо мы ничего не знаем об их существовании.
Теперь она и сама уже не скажет точно, когда ее начало штормить, но та последняя и сокрушительная для ее любовника волна взметнулась и накрыла ее с головой накануне. Ей приснился удивительный, восхитительный, изумительный сон, в котором царила безликая мужская тень, согретая лучами ее обожания. Она любила кого-то во сне, любила страстно, горячо, всем сердцем, всеми печенками, и казалось, что ее любовное чувство, как чудотворное средство вот-вот воплотит неясную тень в личность, и она, проснувшись, увидит того, кого так любит, стоящим возле ее кровати. Иными словами, сонное море выбросило на ее пустынный берег ларец, в котором вместо сокровищ хранилась сама Любовь.
«Как же так! – спрашивала она себя во сне. – Почему я живу без любви, когда я могу, хочу и должна любить?!»
Восторг был так силен, что не угасал два дня. Возвышенное любопытство заставило ее на следующий день отказаться от машины и спуститься в метро, в надежде возбудить чьим-то обликом обещанное сердцебиение. Довольно быстро стершись до дыр о толпу невзрачных особей, энтузиазм ее все-таки дожил до того ясного полдня, когда она встретила в парке мужчину с восхищенным взглядом. Секунды хватило ей, чтобы разочаровано признать:
«Не он, нет, не он!»
Вечером перед сном, сидя у элегантного тонконогого перламутрового трюмо, она дольше обычного играла со своим зеркальным отражением: подмечала и трогала усталые тени под глазами, морщила и расправляла лоб, слегка надувала и сдувала щеки, чтобы оценить их впалость, распускала пряди, чтобы приструнить проступившие скулы. Она протерла тоником лицо, нанесла крем, и пока та, другая, в зеркале втирала его слепыми обученными движениями, задумалась, отрешенно глядя на зазеркальную красотку.
События дня кратким резюме представлялись ей. Среди прочего несколько смазанных слайдов напомнили эпизод в парке. Она тут же решила отправить их в архив, но та, другая, в зеркале вдруг выпрямила спину, тонкие пальцы ее замерли на лице, а затем нервно забегали по нему, пока не сошлись на коленях. Помедлив, она заставила ту, другую, подобрать волосы и, удерживая их на затылке заведенной назад рукой, слегка откинуть голову. Закинутое лицо можно было бы назвать мечтательным, если бы не насмешливо скошенные глаза, и тут уж следует говорить о надменности. Зазеркальная кокетка тем временем взялась подставлять желтоглазому светильнику точеное гладкое лицо, отбирая из всех его выражений наиболее выгодные. Наташа снисходительно наблюдала за ужимками визави, пока та не вернула отдельные части тела на свои места, отменив преждевременные посулы откинутой головы и отведенных плеч.
«Рожать тебе давно пора, кукла деловая!» – уязвила она ту, другую, похищенную зеркалом, и на том завершила сеанс синхронного разглядывания.
Наутро, желая знать, что ее ждет снаружи, она обратилась к окну. Да, пасмурно, да, сыро, но небезнадежно, хотя все еще может измениться в угрюмом и гиблом пространстве, заключенном между плоскими и близкими обкладками неба и земли. Достаточно, например, дюжине вороньих крыльев вспороть неподвижный воздух над парком, и хрупкое равновесие нарушится, конденсат придет в движение и, разбухая до непосильных для воздуха капель, осыплется на тугие зонты, освободив место новому равновесию.
Ее интерес к погоде стал первым поспешным признаком приготовлений к событию, такому же неожиданному, как и предсказуемому. Оказалось, что едва проснувшись, она уже знала, что пойдет сегодня в парк, чтобы ближе приглядеться ко вчерашнему мужчине и даже, возможно, откликнуться на его поползновения, которые, была она уверена, обязательно последуют. Осторожный интерес, возникший у нее вечером, за ночь пустил корни, разросся и зацвел, окатив бесприютное сердце озорным возбужденным ароматом.
Будет ли он ее там ждать, спрашиваете вы? Конечно, будет! Вопрос лишь в том, пойдет ли туда она. Как странно и стремительно, однако, меняются предпочтения! Еще вчера случайный и неинтересный, сегодня он был ей любопытен. Но почему все же он? Ведь вчера это определенно был не он! Господи, помоги ей, наконец, разобраться в себе и избавиться от сомнений! Как она устала быть разумной, не желая, между прочим, признавать, что вся ее разумность в результате выходит ей боком!
«Какая пошлость, эти случайные знакомства! Разве она не знает, как это бывает и чем заканчивается? Разве с ней не пытались знакомиться?» – верещал на подъезде к офису внутренний голос.
Конечно, знает. Конечно, пытались. Но также верно и то, что все (все!) такие попытки заканчивались ничем. Это ли не абсолютное подтверждение разборчивости ее скорбной памяти! Причем, ей даже не было нужды далеко заходить. Так, недлинный диалог, неосторожное слово, жадная искра в глазах, и она уже знала, кто скрывается под обходительной личиной. И даже научилась красиво и необидно отстраняться. Ведь она не какая-то там гламурная дурочка с силиконовой душой и набором кухонных истин. Ее душе, пережившей ужасные страдания, знакомо великодушие, и она, в отличие от подобных дурочек, умеет поставить на место, не прибегая к их презрительному фарфоровому взгляду, ни к надменному выражению пустого лица. Оттого-то посетители ее театра смущенно тушевались и занимали места согласно купленным билетам, лишь иногда пополняя передние ряды хороших знакомых.
18
Придя на работу и кое-как дотянув до обеда, она, испытывая воинственный трепет, отправилась в парк. Шла под драпированным серыми складками небом, под сбивчивый диалог каблуков, под комариный зуд нарастающего волнения. Двух вещей она сейчас одинаково страшилась: во-первых, того, что ее сердце, придавленное критической массой ожидания, сотворит очередную глупость, позволив первому встречному увлечь себя, а во-вторых – возможного разочарования.
«Может, не стоит? – шепнул ей кто-то на входе в парк. – Ты обеспечена, независима, холодна – зачем тебе мужчина, тем более случайный?»
Но она уже шла по главной аллее, внимательно и незаметно поглядывая по сторонам и пытаясь проникнуть в перспективу, на пути которой встал бронзовый полководец. Обычная для этого места публика – разнополая, малочинная, грузная, груженая, не стильная, безвкусная. Она миновала Жукова и…
«Ну, вот, пожалуйста, что и требовалось доказать!» – усмехнулась она.
За толсто шуршащими тетками, за неопрятными, озабоченными мужиками, за мамашами с прицепами-детьми и стариками-тихоходами, посреди одушевленного парка, под непросыхающим сердечным небом, со дна терпения, из глубины ожидания, вопреки логике и здравому смыслу – там, далеко, где невозможно различить чужого лица маячил его черный силуэт. Бедное сердце, как трудно ему достучаться до олимпийского спокойствия!
Она с неуместным волнением следила за его приближением, и широкая сырая аллея накрепко соединила ее с надвигающимся мистером Икс. Когда стало невозможно скрываться, она перебросила сумочку с одного плеча на другое, приладила ее повыше приталенного бедра, подтянула перчатки, поправила шарфик, лацканы и воротник пальто – словом, привела себя в сосредоточенное состояние, как это делает перед боем солдат. После чего попыталась напустить на себя беспечную независимость – сделала вид, будто рассматривает сгущенную зелень зябнущих кустов. Сначала по левую руку от себя, затем, быстро переведя взгляд, сравнила ее с такой же зеленью справа. И пока она этим занималась, расстояние между ними сократилось до решительного. И тут он вместо того, чтобы освободить проход, предоставив ей самой решать – задержаться, если он обратится к ней, или пройти мимо – встал поперек ее пути, всем своим видом излучая светское радушие, которое невозможно было миновать. Обнаружив, что сама идет к нему в руки, она растерялась, замедлила шаг и, всеми силами стараясь сохранить напускное безразличие, остановилась в метре, вопросительно глядя на него и про себя порицая за дерзость. Впрочем, он сделал именно то, чего она сама желала.
– Как замечательно увидеть вас вновь! – непривычно приветствовал он ее низким бархатным голосом, не торопясь уступать дорогу. Она, вместо того, чтобы ответить, рассматривала его, выискивая дефекты.
Русская порода – это отсутствие породы. Есть, конечно, своеобразие, особенно заметное у молодых. Например, мягкость и расплывчатость черт. В свою очередь, взрослые лица, как русский пейзаж – широки и запущены. И если бы не женщины, украшающие своей иконописной метафоричностью косноязычие мужских черт, да не характер – истинный скульптор русского лица, неизвестно, во что бы эта порода превратилась.
Ну да, он действительно не был красив, хотя достаточно вытянутое, полноватое лицо его с бледной сухой кожей имело приятные черты. Высокий в залысинах лоб, правильной, разумной формы голова и скромные уши. Выступающий овал подбородка подпирал приветливый, без малейших признаков самодовольства рот. Он вовсе не был похож на дерзкий луч солнца среди хмурых туч – приятное, живое лицо, не более того. Вот только глаза – умные, напряженные и восхищенные, были там главными, придавая значение всему остальному.
Она молчала, не зная, как себя повести: не готовая к радушию, она, в тоже время, опасалась излишней сухостью потушить восхищенный блеск его глаз. Видя, что она не отвечает, он заторопился и напомнил, что они виделись здесь накануне.
– Ах, да, припоминаю! – наморщила она лоб и разыграла вежливое снисхождение: – И что же?
Он забормотал, что посчитал это достаточным поводом заговорить с ней, но если она против, то пусть скажет – он тут же уйдет. Лицо и голос его окрасились покорностью, и он отступил, освобождая путь. Она вслушивалась в его правильную речь, удивляясь непривычному узору слов, сплести который под силу только искушенному притворству или неподдельной деликатности. И то, что он как бы отпускал ее на самом пороге знакомства, было к лицу и тому, и другому. Интересно, что бы он стал делать, если бы она пошла дальше?
«Ну уж нет, дружок! Теперь доиграем до конца!» – прибирая власть к рукам и чувствуя себя на пороге открытия, решила она и спросила, что он собирается делать, если она согласится. Он воспрял и стал умолять ее дать ему шанс.
«Интересный, однако, тип!» – разглядывала она его, пытаясь понять, кого ей послала судьба и с какой целью. Выбор, собственно говоря, был невелик: перед ней либо опытный соблазнитель, либо простодушный романтик. Если с первым все ясно, и в его незатейливой сущности можно будет довольно скоро убедиться, то второй если и мог считаться подарком судьбы, то весьма на ее взгляд скуповатым. Неужели она не заслужила большего? Само появление его, обставленное с изощренным режиссерским вкусом, ей хотелось бы считать вторым актом единой со сном пьесы. Иначе, к чему этот сон, эта пронзительная мечта о любви? Значит, тот, кто послал ей сон, а теперь и его продолжение во плоти считает его лучшим для нее выбором? Но если эти глаза лгут, то, боже мой, на кого же ей тогда уповать?
– Ну что же с вами делать… – продолжила она, небрежным тоном скрывая донимавшие ее сомнения. – Я так понимаю, что даже если я попрошу вас не мешать, вы все равно будете приходить сюда и приставать с вашим предложением!
– Не сомневайтесь! – как ребенок радостно засмеялся он.
– Да вы, оказывается, просто назойливый тип! – сказала она скорее с иронией, чем с порицанием.
– Нет, вовсе нет. На самом деле я много думал о вас и соглашусь на любое ваше внимание, даже самое малое, самое незначительное! Но если вы не хотите об этом слышать…
Тут она быстро взглянула на него и отвела глаза. Дурачок! Кто же не хочет об этом слышать? Только не слишком ли рано ты заговорил о чувствах? Ведь это признак мужчины либо экзальтированного, либо опытного, а они для женщин, как известно, самые опасные! И что же ей тогда делать? Как – что?! Давно известно: женщина, обнаружившая угрозу должна бежать! Как, вот так сразу? Не выслушав до конца? А если угроза мнимая? И поскольку все сомнения – в пользу обвиняемого, она осталась и атаковала его: а, кстати, когда это он успел о ней так много думать, если, как говорит, впервые увидели ее только вчера?
Они уже шли рядом, сами не заметив, как это случилось.
Оказывается, он думал о ней после того, как увидел накануне, всю ночь и сегодня, а если бы не встретил, то думал бы и дальше. Нет, ну точно – чокнутый романтик! Признаваться в этом в первую же встречу! Какое-то реликтовое ископаемое из «Гранатового браслета»! И как же ей с ним обращаться? Как та княгиня Вера Николаевна со своим телеграфистом?
Он представился, и оказалось, что он вовсе не Г.С.Ж., а Дима Максимов. «Димочка…» – попробовала она про себя его имя на вкус. В ответ она тоже назвалась, и он, удивив незаурядной проницательностью, легко и безошибочно проник в тайну ее имени, догадавшись, кто и почему ее так назвал.
Она даже не заметила, как завязался воздушный, быстрый, необязательный разговор. И когда среди прочего она попеняла торговцам и шашлычникам, которые устраивают балаган на том месте, где в войну сжигали умерших от голода людей, он высказал ряд убедительных и дельных замечаний, приведя пикантный пример из немецкого классика, у которого довоенные влюбленные парочки забывали на могильных плитах кладбища нижнее белье и которое классик называл семенами жизни в обители смерти. Он хотел, было, пуститься в литературные дебри (не иначе преподаватель литературы!), но она отмахнулась, и он перекинулся на другие темы. Как бы вскользь упомянул, что живет где-то неподалеку с матерью, чем откровенно намекнул на свое холостяцкое положение. Поскольку на глупость это не было похоже, то она приписала его намек неопытности и простодушию: сообщать незнакомке такие многозначительные подробности – это ли не верх бестактности!
После этой оплошности чары его потускнели, и она решила, что для первого раза достаточно.
– Ну, что же, – сказала она, – вы, безусловно, приятный собеседник, но мне пора!
В ответ он вызвался проводить ее до подъезда.
– До какого подъезда? – машинально спросила она, не оборачиваясь.
– Возле Кузнецовской, там, где ваш офис! – ответил он доверчиво.
От неожиданности она остановилась и медленно повернулась к нему.
– Откуда вы это знаете? Вы что, следили за мной? Может, вы еще знаете, где я живу? – с неприятным изумлением сухо произнесла она.
В ответ он торопливо забормотал, что она слишком много для него значит, чтобы он мог позволить себе не знать, где ее можно было бы найти, но где она живет, он честное слово не знает.
Наташа смотрела на его лицо, запоздало напуганное тем, что от его неосторожных слов она может сейчас повернуться и уйти – лицо мальчишки, привыкшего быть честным, невзирая на последствия – смотрела и снова не знала, как ей быть. Без сомнения, это была неслыханная дерзость с его стороны! Но уйти, не оборачиваясь, заставив его, быть может, броситься за ней и уговаривать простить или нечто подобное (кто знает, на какие порывы он способен!), что могут увидеть, как это бывает в глупых ситуациях, чудом оказавшиеся здесь знакомые – нет, это было бы слишком неприлично! А, главное, было бы жестоко к его беззащитной честности и к слабому угольку надежды, который успел разгореться в уголке ее души. К тому же его явное отчаяние тронуло ее.
Она нахмурилась и попыталась быть строгой, но долго не продержалась, покачала головой и с деланным огорчением сказала:
– Вы странный человек, Дмитрий, и может, даже маньяк!
Какое, однако, шершавое начало отношений! Не прошло и часа, как они знакомы, а она уже дважды имела повод его отвергнуть. Она молчала, разглядывая его побледневшее лицо с остановившимися глазами, и вдруг ей стало жалко его:
– Бог с вами, провожайте! – торопливо сказала она.
Он вспыхнул, выпрямился и просевшим голосом спросил, замужем ли она. С самого начала допуская, что он ее об этом спросит, она еще раз подивилась своей проницательности и ответила, что когда-то была там. Он явно обрадовался.
– А если бы я была замужем? – спросила она из любопытства к размеру его решимости.
– Это ничего бы не изменило… удовлетворил он его.
У подъезда он спросил, могли бы они увидеться сегодня после ее работы, и она твердо сказала, что сегодня никак нельзя. А когда же он снова ее увидит? Скорее всего, завтра. В парке, в то же время. Он помнит время? «До секунды!» – улыбнулся он. Тогда до свидания, ей пора. И державно улыбнувшись, она скрылась за тяжелой металлической дверью.
В оставшееся до вечера время она думала о нем, отодвигая его образ в сторону, лишь когда неотложные и срочные дела требовали ее внимания. В конце концов, она не выдержала и уехала в офис на Петроградской, а когда оказалась дома, мысли ее, наконец, разлились широким полноводьем.
Ее впечатления о нем, как говорят в таких случаях, были неоднозначны и противоречивы. Нельзя сказать, что он ей понравился, как и утверждать обратное. Например, его лицо категорически не совпадало с тем, что готовым шаблоном покоилось в ее душе и совпадало с обликом отца, а потом и Владимира. И ладно бы дело ограничивалось отсутствием подобия физиономического, но ее раздражало явное отсутствие в нем мужественности. Справедливости ради следовало сказать, что явного безволия там тоже не наблюдалось, но в целом черты лица его показались ей невыразительными, с налетом сентиментальности, что было не в ее вкусе. Она привыкла, что знакомясь, самцы щеголяли именно сумрачной, брутальной частью своего темперамента.
Не расположили к себе граничащее с наивностью простодушие и какая-то ненормальная искренность. И эта его манера цитировать классиков. К чему умничать, рискуя поставить собеседника в глупое положение? Ведь она же не осыпала его статьями из Гражданского кодекса! И, наконец, эта его выходка с подъездом. Следить за ней, свободной и независимой женщиной! Если он с этого начинает, то чего же ждать от него потом? А вдруг он по природе бешеный ревнивец, этакий ласковый маньяк? Словом, на смотрины (а ведь это были самые настоящие смотрины) он явился, как был – в халате и домашних тапочках.
Она достала альбом, извлекла оттуда фотографию с маской на стене и вгляделась. Плут за ее спиной устало косился сливовидными расплавленными белками, натужно растягивал в надоевшей улыбке губы и пытался, как ей показалось, выразить сочувствие. Однако к чему оно относилось – к прошлому или будущему понять было невозможно.
К концу вечера судебное заседание за недостаточностью улик пришлось отложить, с чем ее правозащитная, адвокатствующая часть его и поздравила: широкий волнующийся поток не смыл его, и он зацепился за берег ее жизни. Осталось только на нем утвердиться.
Наташа залезла под одеяло, вытянулась и закрыла глаза. Перед ней, одинокой и смущенной путешественницей, простиралась неизвестная, манящая и пугающая страна, и так было всегда, когда она знакомилась с мужчинами ее жизни. Ее Володя, ее бедный Володя… Боже мой, неужели это было так давно?!
19
…Однажды в начале августа двухтысячного у нее в офисе появился новый клиент. Вернее, перед этим он позвонил и засвидетельствовал свою неслучайность – ему их, видите ли, рекомендовали: не могли бы они его по такому случаю принять? Конечно, могли, и ему было назначено. В дальнейшем она не раз удивлялась тому обстоятельству, что свел их тот самый клиент, которого она, сочиняя за год до этого романтичную историю любви, взяла за образец. Тот самый, чьи облик и повадки импонировали ей зрелостью и рассудительностью. Предтеча, так сказать, спасителя. Провозвестник веры, надежды, любви и их кошмарного финала…
В указанный час перед ней возник крепкий, молодой, стремительный мужчина с открытым загорелым лицом, светлыми ясными глазами и непокорными выгоревшими прядями. Его сходство с ее отцом было настолько очевидным, что Наташа на какой-то миг растерялась. Нет, нет, конечно, это был другой человек – вот и черты у него помельче, хотя такой же упрямый лоб и крупный рот. Вдобавок, скулы у него уже, и нос тоньше. И подбородок резкий, твердый, с ямочкой, но глаза не смеются, а глядят на нее с культурным вниманием и официальным почтением, как на артистку оригинального жанра, обученную развязывать гордиевы узлы юриспруденции. Кожа у глаз отмечена белыми шрамиками морщинок, что разбегаются по вискам. Так бывает, когда человек много щурится под солнцем. То же самое видела она у отца после их походов по Чусовой. Общее впечатление, словно в двух разных людях растворили одну и ту же эссенцию!
В тот день новый клиент (разрешите представиться – Федулов Владимир Авдеевич!) легко и непринужденно присел перед ней в предложенное кресло и твердым голосом поведал о своем житье-бытье на поприще заготовки и продажи леса и своих законных претензиях к налоговой инспекции, которые на тот момент имел. Наташа с каким-то тайным удовольствием и преждевременной тщательностью выпытывала у него подробности, делая это с единственной целью: задержать его возле себя подольше.
С ним оказалось приятно работать: сразу поняв, что от него требуется, он за несколько дней собрал необходимые документы, и Ирина Львовна, подготовив иск, запустила процесс. Пока суд да дело, он звонил и наведывался, и перед каждой встречей Наташа испытывала нетерпеливое волнение. Он не пытался произвести впечатление, держался просто, слушал внимательно, в ответах был краток и никогда не задерживался дольше, чем нужно. Смущаясь, она стала искать поводы, чтобы позвонить ему и услышать его неизменно приветливый голос. Иногда он звонил в ее отсутствие, и когда она появлялась, Мария докладывала: «Звонил твой Владимир Авдеевич!»
Она тут же набирала его, и если он был на месте, как бы мимоходом интересовалась: «Вы мне звонили? Да? И что?»
Однажды, позвонив ему на трубку, она наткнулась на его далекий недовольный голос и осеклась. Две недели он не подавал признаков жизни, также как и она не пыталась узнать, где он и что с ним. В середине сентября он, как ни в чем не бывало, объявился с огромным букетом роз и тортом.
«Зачем торт, кому цветы?» – сверкнув глазами, сухо спросила Наташа.
«Вам!» – с широкой улыбкой ответил он.
Наташа встала и демонстративно водрузила цветы на стол Ирины Львовны: «Вам, Ирина Львовна, от Владимира Авдеевича!» Затем поставила торт на Машин стол: «Тебе, Машенька, от него же! Поправляйся!» Затем спросила его громко и небрежно: «Где пропадали?»
«Вы не поверите – в лесу! – продолжал улыбаться он. – Чаем угостите?»
Во время чопорного чаепития он наклонился к ней и, понизив голос, сказал: «Вы уж извините меня, Наталья Николаевна, за невежливость. Последний раз, когда вы звонили, я сильно занят был – участвовал в драке!»
«В какой еще драке?» – со строгим удивлением спросила она.
«Здесь, в порту… Парни выпили лишнего и устроили разборку. Пришлось вмешаться»
«А после драки у вас что – не было времени позвонить? – обидчиво воскликнула она и тут же спохватилась: – Две недели от вас ни слуху, ни духу! У нас же к вам вопросы!»
«Извините, Наталья Николаевна! – ответил он, с улыбкой глядя на нее. – Больше такое не повторится!»
Его посещения и звонки продолжались почти три месяца, в течение которых он ни разу не позволил себе выйти за рамки почтительной сдержанности, о чем она, стыдно признаться, глубоко сожалела. Она и не заметила, как ровное пламя ее симпатии превратилось в пожар, и молчаливое ее чувство перешло все возможные границы, оставив далеко позади то необязательное наваждение, что было у нее с Мишкой в их лучшую пору.
И наступил день, когда немало повозившись, Ирина Львовна забодала нерадивых мытарей. По этому поводу он пригласил всех в ресторан. Ирина Львовна и Маша поблагодарили и, сославшись на дела, деликатно отказались, оставив Наташу на его попечение.
Вечером он приехал за ней на машине, она спустилась, и он повез ее в «Дворянское гнездо». На ней было длинное, темно-синее кашемировое пальто, а гладко зачесанные и собранные на затылке в узел волосы отданы под янтарный надзор ажурной заколки. Он был в тонкой кожаной куртке, под которой виднелись голубая рубашка и умеренно яркий галстук. Непокорные пряди на голове усмирены свежей стрижкой.
«Почему «Дворянское гнездо»? – спросила Наташа.
«Когда-нибудь у меня тоже будет дворянское гнездо» – буднично, словно речь шла о гараже, ответил он.
Декоративные и гастрономические подробности ресторана плохо запали ей в память – он и только он был ей интересен. Ей хотелось смотреть на его, говорить с ним, улыбаться ему, заставить ухаживать, свести с ума, наконец! Господи, да как он сможет устоять перед ней, если она его захочет! А она его хочет – хочет до стона, до слез, до неприличия!
Кланялись свечи на столе, добавляя тепло его умиротворенному лицу, сияли нежностью его глаза, ласковая улыбка трогала щеки полумесяцами складок, а на переносице, верхней губе и подбородке пытались прятаться тени. Его спокойная рассудительность сдерживала ее лихорадочное возбуждение. И вот вкратце история, рассказанная им под трепет свечей и протяжные вздохи смычков белокожей красавице в черном открытом платье, не спускающей с него глаз.
Ему тридцать два, и сам он из Подпорожья, там у него мать, отец, сестра, друзья и бизнес. После армии поступил здесь в Лесотехническую академию. Закончив, вернулся на родину, работал там по казенной части, потом занялся лесным бизнесом. Был женат, детей нет. Что еще? Когда был пацаном, один раз чуть не утонул в Свири, а другой раз заблудился с друзьями в тайге. Хорошо, собака лесника их обнаружила… Вот, пожалуй, и все. А, вот еще что! Поскольку он занят экспортом, приходится мотаться между Подпорожьем и Питером. Все надо проверять самому. Здесь снимает квартиру. Что еще? Мечтает приобрести лесопилку и заняться деревообработкой. А еще мечтает построить здесь большой дом на берегу залива и перебраться туда жить. Деньги есть, а вот времени нет, нет времени решительно. Даже с друзьями некогда встретиться. Пьет ли он? Вот как сейчас – всего второй бокал за вечер. Голова все время занята другим. Нет, в данный момент не делами, а простите за откровенность, Наталья Николаевна, вами. Потому что он никогда не встречал такой умной и необыкновенно красивой женщины. Да что там женщины! Совсем еще девушки! Почему преувеличивает? Нет, это она скромничает! Он, между прочим, до сих пор не верит, что она согласилась с ним пойти. Что еще? Ах да, поскольку всегда на свежем воздухе, то здоров, как бык. Часто ли приходится драться? Да, бывает. И здесь, и там бывает. Лесорубы – народ, знаете ли, впечатлительный и обидчивый, особенно, когда выпьют. Все время считают, что их обманывают. Может, кто-то и обманывает, но не он. Как же он может обманывать земляков? Тем более, что ему и самому приходилось валить лес. Не подумайте, что в заключении, ха-ха-ха! Лес не только там валят. Да, кстати, вот еще случай был: неопытный пацан составил пакет – это когда два или три ствола заваливают на один, а потом подпиливают его, и стволы ложатся куда надо пакетом. Большой опыт требуется. Так вот, хорошо он в тот раз резвый оказался. А друга придавило. Нет, не насмерть. Ах, как жалко, Наталья Николаевна, что вы не были в тайге, в настоящей, нетронутой тайге! А пожар в тайге! Вы видели когда-нибудь, как горит тайга? Хотя, откуда… Кстати, и хорошо, что не видели. Да, музыку он любит – у него в машине всегда «Авторадио» включено. В театре? Помилуйте, Наталья Николаевна! Его театр – это лес, да дорога! С женой два года прожили. Разошлись, потому что дома подолгу не бывал. Однажды приехал, а она сбежала с каким-то проходимцем – двадцать три ей тогда было. Два года уже, как один. Пожалуй, все. А как она? Он знает, что она не замужем, и это с одной стороны замечательно, а с другой – поразительно. Что случилось? Та же история – муж изменил. Два года назад. А, впрочем, она его не любила, а потому нисколько не жалеет. Выскочила по молодости, по глупости, теперь вот не торопится. Слава богу, детей не успела с ним завести. Нет, она детей, конечно, любит, но есть ситуации, когда они лишние. Что же, здесь он, пожалуй, согласится: детей нужно заводить не торопясь и с любимым человеком. Да что они все о ней, да о ней! Пусть лучше он еще что-нибудь расскажет о себе! И снова трепет свечей и протяжные вздохи смычков, и белокожая красавица в черном открытом платье не спускает глаз с красавца-мужчины.
Ну, вот, пожалуй, и все. Кажется, им уже пора. Да, пожалуй, соглашается она, уже зная, что повезет его к себе. Они добрались до ее дома, и там она спросила, не хочет ли он посмотреть, как она живет.
«Неудобно, Наталья Николаевна! Поздно уже!» – замялся он.
Она взяла его под руку, и они поднялись к ней. Она предложила ему чай, и он, обдав ее чувствительными волнами неловкости, с большой охотой согласился. Они пили чай из фарфоровых, тонких и прозрачных, как весенний лист чашек, и он чересчур оживленно вспоминал случаи из армейской жизни, где он всегда был голоден, а ей никак не удавалось лирической нотой разбавить его натужную деликатность. Однако настоящая любовь находчива и самоотверженна. Улучив момент, когда он встал из-за стола, чтобы, как он полагал, расстаться, она, обмирая от собственной храбрости, шагнула к нему, обхватила руками за шею, закрыла глаза и подставила губы. Он на секунду растерялся, а затем прижал ее к себе так крепко, словно собирался задушить. И когда через бесконечное время она, закатив глаза и плохо соображая, отняла, наконец, у его жадного рта свои измятые губы, он подхватил ее и закружился по квартире.
«Сюда, сюда!..» – бормотала она, обхватив его за шею одной рукой, отставив другую и ощущая головокружительную слабость. Он открыл дверь и шагнул, было, в комнату, где Мишка ей изменял, но она в последний момент изогнулась и ухватилась вытянутой рукой за косяк: «Нет, нет, не сюда!..» Он вернулся, нашел верный путь, в неоновой темноте донес ее до кровати и с бесконечной осторожностью уложил на покрывало.
«Раздень меня…» – попросила она.
Он откинул черный занавес подола и, целуя теплую замершую кожу, стянул с нее чулки. Затем усадил, и платье легко скользнуло через воздетые руки. Охваченная томительным восторгом, она откинулась на подушку, и пока он сдирал с себя одежду, скинула лифчик и, оставшись в трусах, лежала, раскинув безвольные руки. Склонившись над ней, он благоговейно устранил символическое кружевное препятствие и с неведомой ей доселе нежной, звериной страстью взял ее. Все продолжалось не более минуты, и она, не испытав телесных судорог, тем не менее оказалась наверху блаженства…
Забыв о полотенце и ванной, она шептала, прильнув к нему:
«Я люблю тебя, Володенька! С первого дня люблю!»
20
Что за удивительная штука жизнь! Настолько же безрассудна, как и мудра, также груба, как и изысканна, в той же степени отвратительна, как и упоительна. Милосердие у нее произрастает из жестокости, счастье из отчаяния, великодушие из отвращения, и только любовь живет сама по себе, неизвестно из чего возникая и непонятно во что превращаясь.
Какой взлет, какое вознесение, какая высота – даже дыхания не хватает! «Как! Дожить до двадцати семи лет и не ведать этого счастья – любить?! Да о чем же я думала раньше?» – не переставала изумляться она, торопясь домой, чтобы броситься ему на шею, зная, что он подхватит и закружит ее, а затем, отстранившись, будет глядеть на нее темнеющими от неутолимого желания глазами, и она, сомкнув веки, ослабеет в его объятиях. Достаточно ему было соединиться с ней губами, и святая искра превращала их в единый пылающий костер, который он бережно нес на руках в постель. Если у него хватало терпения, он медленно раздевал и целовал ее, если же нет – он, уложив ее и не отрывая от нее глаз, срывал с себя одежду, пока она делала тоже самое. Она дрожала, обмирала, но как только он сливался с ней, она успокаивалась, и умиление и материнская нежность наполняли ее до краев, превращаясь в чистый, священный восторг. Это было похоже на гормональное сумасшествие.
Он не признавал случайные места, как то: стол, стул, диван, ковер, ванну и прочие скрюченные положения, полагая такие упражнения оскорбительными для нее. Он любил простор, он предпочитал парение и во время пожаротушения следовал здоровым, неизвращенным инстинктам. И хотя искомый оргазм, как завистливый родственник по-прежнему отказывался радоваться ее счастью, Наташу это уже мало огорчало. Под его напором она словно наслаждалась жарким солнцем, стоя по колено в морской прозрачной воде, пусть даже не имея возможности заплыть на глубину, чтобы, сложив над головой руки, отпустить себя, сотрясаемую судорогами любовной асфиксии, к центру земли – именно так теперь она представляла себе оргазм. Его же, кажется, мало заботило, как она себя под ним ведет – о других позах ей не получалось даже думать: это было похоже на взаимное пожирание – жадное и торопливое. То, чем они с ним занимались, также напоминало их с Мишкой утомительные забавы, как натурпродукты генномодифицированные. В перерывах они, временно свободные от желания, но не от обожания, лежали в темноте, обострив осязание кожи и не желая распадаться, и неоновый свет фонарей, такой же прозрачный и пастельный, как их постельные разговоры, притворялся близким родственником лунного света. Если они о чем-то и жалели, то только об одном – почему они не встретились раньше. Впрочем, все побывавшие в употреблении любовники жалеют об этом на первых порах с разной степенью искренности. Но бывает, как в их случае, что искренность дорастает до жертвенности.
Это было восклицательное время ее жизни. Мир никогда еще не был таким ярким, свежим и нарицательным. «Володино время!» – вспоминала после она. Кстати, на следующий день после той памятной ночи он купил дорогое кольцо, надел ей на палец и торжественно объявил:
«Теперь ты моя невеста, хочешь ты того или нет!»
«Хочу!» – сказала она, пряча, как она потом полюбит, лицо у него на груди.
Только тут, видите ли, какое дело…
Что касается ее, то она была готова под венец (только венчание!) хоть завтра. Он же смотрел на это несколько иначе.
«Наташенька, лапушка моя, ты видишь – ведь у меня даже нет жилья!» – начинал он.
«Как нет? А это что?!» – обводила она рукой свою квартиру.
«…А переезжать к тебе примаком мне не позволяет ни честь, ни совесть! Я должен построить дом для нас и наших детей и привести тебя туда! Дай мне время, я уже этим занимаюсь!»
«Какие вы, мужчины, глупые! – говорила она, ероша ему волосы. – Ладно, не хочешь брать меня в жены, не надо! Мне с тобой и так хорошо!»
Они и без того уже считали себя мужем и женой, каковыми и представлялись посторонним людям. Простотой, мужественностью и обходительностью он очаровал ее подруг и завоевал уважение их мужей, и теперь они часто ходили в гости и принимали у себя. Когда он уезжал, она не находила себе места, и лишь крепнущая сотовая связь спасала ее от отчаяния.
Через три месяца он принес тисненый лист бумаги и передал ей со словами: «Наташенька, это мой тебе свадебный подарок!»
Бумага оказалась купчей на участок в двадцать пять соток где-то под Зеленогорском и была оформлена на ее имя. Она ахнула и упала ему на грудь.
Через месяц на участке завертелось строительство, и у них появился повод навещать их будущий дом. Она с волнением разгуливала по растущим внутренностям лабиринта: здесь будет большой зал, здесь совмещенная кухня, там детская, тут ее спальная, рядом его спальная, а дальше его кабинет. Еще был в планах второй этаж с большой солнечной верандой, откуда, возможно, будет виден залив. На участке росли около двадцати вековых елей и сосен. Чем не дворянское гнездо?
«Давай родим кого-нибудь!» – все чаще предлагала она.
«Подожди, моя лапушка, не время еще! Я понимаю – ты можешь меня не послушать и сделать по-своему, по-женски, но поверь мне – еще рано! Я и сам хочу мальчишку, но… рано!»
Летом они были в Подпорожье, где он познакомил ее с родителями и сестрой.
«Наташа, моя жена. Прошу любить и жаловать, как меня самого!» – сказал он, как точку поставил.
Ее приняли с тем же семейным радушием, как это было бы с ним у нее дома. Та же уральская простота и сердечность, та же серебряная, цвета рыбьей чешуи, речная гладь петляет сквозь расступившуюся тайгу. И в этих общих родовых приметах она нашла лишнее подтверждение их взаимной предназначенности, их неизбежного слияния. Восторг и счастье, счастье и восторг – вот то экзальтированное, до подступающих к горлу слез состояние, которое не покидало ее.
Она сразу же подружилась с его сестрой Верой, что была младше ее на четыре года. Вера шутливо требовала от брата не быть жадиной и отпустить, наконец, Наташу от себя, чтобы дать им, девушкам, побыть наедине. И когда им это удавалось, она показывала Наташе город, вспоминая по ее просьбе истории из жизни брата. Оказалось, что его бывшая жена училась в той же школе, что и Вера и, зная ее, она предупреждала брата, что та смазлива и ветрена, но ведь эти мужики пока лоб не расшибут, не успокоятся, говорила она, хмуря чистый, без следов столкновения с жизнью лобик. Наташа обнимала ее и звонко хохотала:
«Какое счастье, что она оказалась смазлива и ветрена!»
Вера была в полном восторге от выбора брата.
«Ты не представляешь, как он тебя любит! Ты счастливая, Наташка!» – сообщила она ей при прощании, блестя глазами и, видимо, мечтая про себя о такой же любви.
Следующий год ничем не отличался от предыдущего, если не считать крепнущего ощущения невозможного счастья. Их любовь, и без того превосходившая все границы разумного, росла вместе с их домом, превращавшегося в монументальное, неприступное и вместе с тем изящное, живописное гнездо, тепло и уют которого должны будут согреть не только их самих, но и их детей, внуков, правнуков и далее в геометрической прогрессии. Он по-прежнему мотался между Подпорожьем и Питером, иногда не появляясь по две недели, и его возвращения выливались в бурный карнавал души и тела. На ее уговоры кого-то нанять, чтобы не мотаться самому, он отвечал, что люди наняты и работают, но есть такие привередливые нюансы, которые он должен проверять сам.
«Вот подожди, лапушка, через годик покончим с экспортом и займемся переработкой!»
Они успели побывать в Первоуральске у ее родителей, на двух испанских курортах, в консерваториях, операх и театрах. Не успели только налюбиться и намиловаться: в середине августа две тысячи второго его нашли на лесной дороге в его потрепанном вездеходе. Выстрелом картечи ему снесло полголовы. Он месяц не дожил до назначенной на сентябрь свадьбы. Ей на работу позвонила его сестра и сквозь плач сообщила, что Володи больше нет. Она помнит лишь звон в ушах и свой гаснущий крик: «Во-ло-дя-я!!», который звериным воплем раздирал на лоскуты перепуганные души присутствующих, пока она сползала в кресле…
Она не верила в его смерть, пока его убитые горем родственники у закрытого гроба не заставили ее в это поверить. И тогда она, не чувствуя ног, подошла и встала рядом – вдовий наряд и черные, пустые глаза. Кажется, его хоронил весь город.
После того, как ее привели в чувство, она затаилась, прислушиваясь, как проникшая внутрь нее невидимая рука ухватила ее внутренности и ждет подходящего момента, чтобы вывернуть ее наизнанку. Десять дней вокруг нее, окаменевшей, хлопотала Мария, не оставляя ни на минуту, проделав с ней путь на похороны и после девятидневных поминок обратно. По возвращении ее сменили подруги, устроив круглосуточное дежурство. На пятнадцатый день вечером Светка, принеся ей в комнату чай, зацепилась ногой за ковер, неловко взмахнула рукой, чашка и блюдце отлетели, грохнулись об стену, и короткий звонкий стон осколков располосовал тишину. Наташа, сидевшая на кровати, вздрогнула, посмотрела на осколки, затем на Светку и вдруг, повалившись на кровать, зарыдала в голос, приговаривая и заикаясь:
«Володенька, Володенька!..»
Через пять минут она, всхлипывая, уснула и спала беспробудно до девяти утра. Утром она начала разговаривать.
Убийцу нашли. Им оказался спившийся мутант из соседней деревни. Всю жизнь он, променяв любовь на водку, незаметно мутировал, пока не обратился в зверя. Он и сам не мог объяснить, почему он это сделал. Защитник настаивал на его праве на самооборону (у этих ублюдков, оказывается, есть права). По его словам потерпевший сжимал правой рукой карабин, а значит, имел намерение его применить. Несмотря на вздорность этого утверждения, убийце дали всего девять лет, вместо того, чтобы растерзать на части тут же в зале суда.
Осенью Наташа продала почти готовый дом, в котором все равно не смогла бы жить. Она последний раз посмотрела на поникшие стены, унылую мокрую крышу и пустые темные окна, которые так и не зажглись. Позвонив его сестре, она велела открыть счет в банке, намереваясь перевести туда деньги.
«Нет! – твердо ответила сестра. – Это ваш с Володей дом. Он любил тебя и считал своей женой. Нет, не возьму!»
Невзирая на уговоры, она стояла на своем. Тогда через его друга, который подхватил здесь дела, она передала половину суммы, а по телефону предупредила, что если Вера деньги не возьмет, она выбросит их в Неву. Кроме того, велела приезжать к ней, когда угодно, как к родной сестре.
Она продолжала тянуть на себе «Юстиниану», являясь тем гвоздем, без которого развалилась бы вся конструкция и, сторонясь шумных, бессмысленных компаний, полюбив одиночество и печаль, тихо прожила следующие два года, оплакивая порушенное счастье.
Через пару месяцев после его смерти она, перебирая и целуя его фотографии, наткнулась на уже известный снимок, где сидит в ресторане за сервированным в ожидании веселого путешествия столом, а над головой ее – улыбающаяся маска шута. Улыбка его в этот раз была безжизненно печальна и, казалось, ничто уже не заставит его улыбаться.
И то сказать – все было слишком хорошо, чтобы хорошо кончиться. Об одном она жалела бесконечно – зачем она его послушалась и не родила!
21
Заснул он счастливый, проснулся торжественный и ликующий: ему назначено, он не отвергнут! Боже мой, какая женщина, какая чудная женщина! Нет, в самом деле, надо быть рефлектирующим педофилом Набокова, чтобы видеть в красивой женщине нечто «плачевное и скучное». Подумать только: Гейзихе, матери Лолиты, выписанной автором с такой унизительно-изящной брезгливостью, было тридцать пять – чуть больше, чем ЕЙ! Что ж, значит, он несовременен даже для Набокова! Ну, и плевать! Слышите вы, любители «клубнички»? Ему плевать на вас и на вашу скотскую породу!
Водрузив ее облик на постамент души, он благоговейно закружил вокруг, и со всех сторон выходило, что лучше ее на свете никого нет и не бывало. Как в ней все слажено и уместно! Вдобавок к физическому совершенству у нее, безусловно, образованная, тонкая и чуткая к жизненным выбоинам душа. Желая распустить тугой узел чувств, он призвал на помощь Эррола Гарнера и заставил его исполнять «Я помню апрель». Примеряя свое зудящее предвкушение к одной из самых роскошных и совершенных записей безграмотного черного гения, он, подпевая и подплясывая, пустился по комнате, чем на несколько минут сократил путь до назначенной встречи, который на тот момент равнялся целым трем часам нетерпения. Дождавшись, когда кода обдаст его весенней свежей радостью, он поспешил на кухню, откуда тянуло плотной смесью табака и кофе.
Его мать, Вера Васильевна, впервые обнаружившаяся, но не последняя фигура в нашем повествовании, сидела за столом, рассеянно роняя пепел в пустую пепельницу. После того как ее любимый муж, а его отец, крепкий на вид шестидесятивосьмилетний мужчина, умер два года назад во сне от остановки сердца, в ней поселились испуг и растерянность. Всю жизнь находясь под защитой его жаркого темперамента, она к моменту описываемых событий едва вставала с колен, поверженная туда его уходом по-английски.
Сын стремительно вошел в кухню, и она подняла на него глаза.
– Мать, сказано же тебе – курить воспрещается! – на ходу извлек он сигарету из ее задумчивых пальцев и, не скрывая приятного возбуждения, добавил: – С добрым утром!
– Ты чего такой радостный? – подозрительно поинтересовалась мать, смирившись с сыновним произволом в пользу любопытства.
– Эх, мамуля! Тут такое дело! – мечтательно начал сын. – Совсем как в той песне поется: «Послушай мать, задумал я жениться…»
– Да! ты! что! – выпустив финальное «о», как колечко дыма и забыв закрыть после этого рот, откинулась на стуле Вера Васильевна. – Это я что же, выходит, могу дожить до внуков?
– Ну, знаешь, пока все очень зыбко, нервно и волнительно, но если звезды не подведут…
– Ну, расскажи, расскажи, кто она, что она, как вы встретились, и на какой стадии ваш проект! – потребовала мать, спеша освободить тайну сына от застежек и помолодев от волнения на несколько лет. И он, неразумно опережая события, поведал ей о встрече с роковой шатенкой. Матери, которая со всеми без исключения его подружками была мила и дружелюбна, заочная невестка сразу же понравилась.
– Как жалко, что твой отец не дожил до этого дня! – увлажнились ее глаза.
Выпив кофе и докурив сигарету, он пошел приводить себя в порядок. Все время, пока он оставался дома, мать попадалась на его пути, трогательно и несовременно наставляла и задавала вопросы, как например: «А где вы будете жить?» Не в силах справиться с нетерпением, он отправился в парк на сорок минут раньше. На прощанье мать поцеловала его и перекрестила.
Облака, избавившись за ночь от испарины, поднялись выше, освободив город от своего гнетущего высокомерия – насмешливого свойства всех низких потолков. Бодрящая прохлада была ему по сердцу. Он дошел до метро, купил белую розу и, освещая ею путь, понес тугой бутон, как символ ЕЕ упругой прелести и их еще нераспустившихся отношений. Серый мир, пропущенный через чудесный кристалл ее облика, превращался в радужный обман. Он прошел в конец широкой аллеи, чтобы убедиться в ее отсутствии, хотя и без того было ясно, что раньше его она не явится. Убедился и вернулся к главному входу, перекрыв возможные пути ее появления.
Когда назначенное время поправилось на пятнадцать минут, он занервничал. Предполагать можно было всякое – от ее законного права на опоздание до внезапно возникшей трудовой повинности. Об остальном он не хотел даже думать – настолько ее образ, ставший к этому времени идеальным, не допускал сомнений гуще обозначенных. Когда опоздание перевалило за полчаса, он принялся прикидывать допустимое отклонение, вытекающее из того странного и необязательного уговора, которым она с ним обменялась. Он спросил: «Когда?» и она ответила: «Скорее всего, завтра», что, между прочим, также означает «Скорее всего, не завтра»! Кроме того, она сказала – «В парке, в то же время». Но какое время она имела в виду? Время их встречи или расставания? Он был настолько глуп от счастья, что не удосужился уточнить ни того, ни другого. Во всяком случае, если через полчаса она не придет, он смело может покидать свой пост и отправляться домой.
Настоящее счастье, как большое богатство легким не бывает. Он же, несмотря на внешнюю мягкость и обходительность, на самом деле таил внутри себя упорство и никогда в жизни не дружил с отчаянием. Ну, может быть, только однажды, когда его оставила Мишель, он позволил романтической грусти овладеть собой, предавшись на пару с изысканным французским вином не менее изысканному русскому страданию. Не отчается он и сегодня, если через десять минут ему придется все же уйти, потому что рано или поздно он ее добьется: не помирать же ему в безответных сердечных муках!
22
Близился назначенный час, и она, прекрасно понимая, какое потрясение готовит своей судьбе, занервничала. Одно дело – случайная встреча, которая мимолетным безликим облаком проплыла над их головами и отправилась дальше, чтобы никогда не вернуться, и совсем другое – вторая встреча, которую иначе как свиданием уже не назовешь. А свидание – это надежда, которая бог знает что способна ему внушить. Пока у него нет номера ее телефона, пока она имеет возможность его избегать, пока, в конце концов, она не объявила любовнику о разрыве, она вольна распоряжаться собой. Дело ведь не в том, с кем она спала, а в том, что спать с Феноменко больше не собирается. Но и переходящим призом быть не желает. Может, пожить одной, отдохнуть, собраться с мыслями, снова почувствовать себя независимой, а там видно будет?
Она пошла в чайную комнату, сварила кофе, разбавила его густой, навязчивый вкус утешительной мягкостью сливок и ушла к себе. Приняв мелкими глотками горячее средство от нерешительности, она прикрыла глаза и стала ждать результата.
«Не ходить!» – зажглось на табло прикрытых век.
Испытав облегчение, она вернулась к работе. Просматривая документы, прикладывая их один к другому, обнаруживая пробелы и делая пометки, она постепенно увлеклась и спустя некоторое время без волнения отметила, что прошло уже двадцать восемь минут сверх условленного часа. Испытав удовлетворение от собственного хладнокровия, она еще пятнадцать минут купалась в благодушии, пока не ощутила смутное беспокойство. Оно стремительно разрасталось и вдруг вспыхнуло, и тут Наташе стало ослепительно ясно, что не удастся порвать отношения с Феноменко, если взамен их не появятся другие. Без них ее бунт – все равно что попытка причалить к облаку.
Она взглянула на часы: уже пятьдесят минут судьба смеется над ней беззвучным смехом! Какое ужасное затмение, какой обширный инсульт здравого смысла! Лихорадочно одевшись, никого не предупредив и даже не приценившись к своему зеркальному изображению, она кинулась на выход.
«Неужели не дождался, неужели ушел?! Ах, какая я дура, какая дура!..»
Она пересекла проспект, не замечая, что почти бежит. Полы ее свободного светло-коричневого пальто, едва успевая прильнуть к коленям, взлетали вновь, высокий воротник откинулся, словно кучер, пытающийся осадить порыв ее непокрытой головы. Вбежав в парк с главного входа, она сразу заметила его, стоявшего с розой в руке там, где начинались деревья. Она резко сбавила ход и восстановила походку. Увидев ее, он сорвался с места и устремился навстречу. От нее не укрылось, что лицо его расцвело мальчишеской радостью. Не дав ему сказать, она заговорила первой.
Сослалась на привередливого клиента, из-за которого ей пришлось задержаться. Пожалела, что у нее не было номера его телефона – тогда бы она смогла ему позвонить и предупредить. Она, конечно, могла бы дойти до парка, но невозможно было оставить важного клиента. Ах, как ей неловко! Больше всего она боялась, что он уйдет и будет думать о ней, бог знает что! Он порывался ей что-то сказать и протягивал розу, которую она, не глядя, приняла. По его бледному, застывшему лицу она догадалась, что он замерз. Сколько же времени он здесь находится? Господи, какая же она дура! Она сунула розу подмышку, взяла его руки в свои и даже сквозь тонкие перчатки ощутила их холод.
– Господи, Дима, да вы тут без меня совсем замерзли! Ах, какая же я нахалка!
– воскликнула она.
Он, видимо, не ожидал от нее такого потока чувств, расцвел от удовольствия и заверил, что все равно бы ее дождался – не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, не через месяц, так через год. Другими словами, к жертвам ради нее он был уже готов. Довольная, что все так благополучно разрешилось, она собралась было предложить пойти в кафе, как он вдруг пожелал повиниться в обмане.
«Какой обман? Зачем обман? Господи, что еще не так?» – подумала она, чувствуя, как против воли опустились ее руки, и улыбка сходит с лица.
Оказалось, что у него есть какой-то недостаток, который он обязательно хочет ей открыть. Воодушевление ее стушевалось, порыв угас.
Он начал говорить. Она была так напряжена, что поначалу не поняла, о чем идет речь. Наконец до нее дошло, что он с детства не выговаривает звук «р», и от этого все его страдания. Ожидая чего-то скандального и разрушительного, она смотрела на него с недоумением – ну как можно всерьез относиться к тому, что он сказал? Или это какая-то утомительная манера путать ясный ход событий? Он, видя ее затруднение, употребил несчастный звук убедительное количество раз и уставился на нее в ожидании приговора.
– И это все? – недоверчиво спросила она.
– Все… – ответил он, выражением лица желая сказать: «А разве этого мало?»
– И больше никаких сюрпризов?
– Никаких, клянусь!
– Интересно! – облегченно улыбнулась она. – Но вчера я не заметила в вашей речи никаких недостатков!
– Дело в том, что я еще со школы научился более-менее обходиться. В русском языке достаточно слов, чтобы выразиться, не грассируя. Вот и вы говорите, что вчера ничего не заметили, хотя говорили мы о многом… Просто не всем это нравится, а я очень хотел вам понравиться, очень!
Внимательно глядя на него, она чуть-чуть помолчала и сказала:
– А вы знаете, Дима, я нахожу ваше произношение очень милым, нет, правда, очень и очень милым!
– В самом деле?! – радостно воскликнул он.
– Да, да! И еще мне кажется, что с вашим, как вы называете недостатком, вы прекрасно могли бы говорить по-английски!
– Это как раз то, что я и делаю, находясь за границей! – с видимым облегчением засмеялся он.
– Вот и прекрасно! И хватит об этом! Пойдемте лучше где-нибудь посидим! – распорядилась она.
Он обрадовался и предложил ресторан, но она отказалась, и они направились в сторону центра, туда, где по его сведениям находилось кафе, которое и обнаружилось на углу Московского и Благодатной.
Устроившись в укромном уголке, они заказали два кофе и миндальные пирожные. Переждав стеснительную паузу, она спросила его о том, что ее интересовало в первую очередь, а именно: чем он занимается. Про себя она отвела ему нечто гуманитарное и рассудительное – литературу, например.
Оказалось, что он работает с деньгами: вот уж полная неожиданность! Она тут же вспомнила Мишку, которому из-за махинаций с деньгами пришлось бежать в Израиль, где следы его и затерялись.
– Опасное занятие, – протянула она. – У меня довольно давно был… один знакомый. Он тоже работал с деньгами. Так вот, в результате ему пришлось бежать в Израиль.
– Я не работаю с чужими деньгами, у меня достаточно своих… – со скромным достоинством произнес он и к этому добавил, что ему сорок лет, что у него высшее образование, и он ни разу не был женат. Каждый пункт его анкеты был так весом, что заслуживал как минимум десяти вопросов, и она, не зная с чего начать, совершенно не к месту спросила:
– А вы драться умеете?
– Не приходилось! А что, нужно? – слегка опешил он.
– Ну, хорошо, я так понимаю, что мне тоже нужно представиться! – воинственно выпрямила она спину.
– Вовсе нет! – заторопился он. – Я и так знаю о вас все, что мне нужно!
– Вот как! И что же вы знаете? – подозрительно глянула она на него.
– Вам около тридцати и вы не замужем. Остальное мне знать незачем…
– Спасибо, вы очень любезны – но мне, между прочим, уже тридцать четыре!
– О! – неподдельно удивился он. – Никогда бы не подумал!
– Да, к сожалению! Но я немного о другом. Я понимаю, что нынче между полами не принято грузить друг друга лишними подробностями там, где этого не требуется, но я, знаете ли, не того поля ягода, которую можно сорвать и пойти дальше! – с нарастающей злостью произнесла она и оттолкнула от себя чашку.
– Наташенька, вы меня не поняли! – заторопился он. – Я имел в виду, что-то, что я знаю о вас мне достаточно, чтобы здесь и сейчас предложить вам руку, сердце и мое состояние!
Если бы у нее в этот момент было что-то во рту, она непременно бы подавилась. А так она всего лишь вскинула на него изумленные глаза, пытаясь обнаружить в его открытом взгляде, прямой спине, расправленных плечах и сцепленных пальцах коварный подвох. Хотя, кто же захочет шутить с ней в таком духе!
Да, он ее удивил. Он так ее удивил, что она покраснела, вернула на место чашку и, отломив маленький кусочек от запеченного в лунный свет миндального диска, принялась жевать его, не зная, куда пристроить взгляд.
– Вы меня пугаете вашей поспешностью! – наконец сказала она. – Как долго вы меня знаете?
– Целых три дня! – с гордостью ответил этот сумасшедший.
– Да-а… Даже не знаю, что сказать. Нет, конечно, я знаю, что сказать и говорю вам «нет», но за предложение спасибо. Я тронута. Нет, я в самом деле тронута!
В ответ она услышала, что он нисколько не сомневался, что она ему откажет, и что это благоразумно с ее стороны. Но если он такое сказал, то лишь затем, чтобы преодолеть ее недоверие и обидное представление о нем, как о человеке легкомысленном, который привык питаться ягодами с упомянутого ею поля. Он мог бы ей сказать, что полюбил ее с первого взгляда, но боится ее этим окончательно напугать. А потому пусть все идет, как идет. Его намерения она теперь знает, остается только в них убедиться.
Некоторое время она молчала, а затем отважно заговорила:
– Я была замужем и разошлась, когда мне было двадцать пять. Муж мне изменял… Он долго за мной ухаживал и клялся в любви, как и все мужчины. Я поверила, и, как видите, ошиблась. С тех пор к скоропалительным предложениям отношусь с подозрением. Так что поймите и не обижайтесь. И хватит обо мне. Скажите-ка лучше, почему вы сами до сих пор не были женаты?
– Вас, Наташенька, наверное, ждал! – улыбнулся он.
– А серьезно?
Он попытался объяснить серьезно, но как-то смутно и неубедительно. Она посмотрела на часы и спохватилась. Сейчас вернется Феноменко и станет спрашивать ее. Не найдя, будет ей звонить. Что и говорить, самое неприятное у нее с ним впереди. Ну, и ладно. У нее теперь, кажется, появился шанс расстаться с ним по-хорошему. Только не следует торопить события: пара недель в запасе у нее есть. Она внезапно взяла легкомысленный тон, окатила им своего спутника и, выйдя с ним на улицу, пустилась в разговор о погоде. Перешли Кузнецовскую, свернули во двор. Там подошли к ее «Туарегу», и она, достав из сумочки ключи, открыла его и положила розу на заднее сидение. Он напомнил ей о номере ее телефона. Она его назвала. Он в свою очередь сообщил ей свой и поинтересовался, когда они увидятся в следующий раз. Она обещала позвонить. Он проводил ее до подъезда, и там они распрощались.
Поднимаясь по лестнице, она думала, как объяснить свое отсутствие.
23
Что случилось? Почему вместо того, чтобы следовать крепнущей нити узнавания, она вплела в нее занозистые волокна вежливого равнодушия? Ведь он был предельно внимателен, учтив и откровенен. Да, он выложил свой главный козырь, и тот был бит отказом. Но ведь он принужден был это сделать! Принужден ее внезапным божественным недовольством, устранить которое могло только убедительное подношение его любящего сердца на золотом блюде!
…После того, как Мишель его бросила, он два месяца мучился, то обливая ее улыбчивый образ слезами, то осыпая проклятиями, не забывая поливать сверху красным вином и коньяком. Он резко поменял свое отношение к Парижу – этому насмешливому монстру, где бессовестно расставив железные ноги в ажурных чулках, высится символ неверности и легкомыслия французских женщин. Он перенес свои финансовые дела в Стокгольм, полагаясь кроме резонов экономических на шведскую приветливость и основательность. Вдобавок он завел шашни с финнами и немцами и до девяносто пятого года питался их второсортным экспортом, не забывая одновременно кормить «крышу», таможню и входящие во вкус надзорные органы.
Однажды в мае, через три месяца после измены, он заехал в отдаленный магазинчик, где торговали его электроникой, и обнаружил там новую продавщицу – буквально сказать, русскую копию Мишель, сложением и чертами даже более изящную, но без ее продувного шарма. Пораженный чудесной находкой, он тут же, в каптерке свел с ней знакомство. Она представилась Юлей двадцати неполных лет. Удивительно ли, что в то небогатое время она приняла его за принца на белом коне и, порвав с нагловатым нищим сверстником, поступила к нему на содержание. К счастью, она оказалась лишена замысловатой жизненной софистики, которой следовало ее французское подобие. Всему остальному он ее быстро научил.
Он дарил ей духи, похожие на те, которыми пользовалась его заморская Кармен, заставлял так же забирать волосы, следил за ее бельем, одеждой и косметикой, поправлял речь и шлифовал привычки. Он привел ее к одному с Мишель знаменателю, так что порой в темноте спальной не мог отличить ее от оригинала и, попадая в сентиментальный плен воспоминаний, опасался только одного – как бы не назвать ее чужим именем. Он потакал ее расцветающим прихотям, осыпал подарками, и вообще делал ее жизнь приятной, как делал бы это, будь на ее месте Мишель. Одного он не сделал – предложения руки и сердца: проведя с ней около трех лет, он устал от ее крепнущего иждивенчества и безнадежной ограниченности. Следуя бытующему мнению, что сходство внешнее предполагает сходство внутреннее, он распространил ее недостатки на Мишель и, расставшись с ней, решил, что таким извилистым образом отомстил француженке. А чтобы смягчить нелепость расставания, купил любовнице подержанный Пассат. Вот такая вышла психотерапевтическая аппроксимация.
Приблизительно в то же время они с Юркой Долгих стали сворачивать операции с импортом и переводить средства на рынок госбумаг. Там, не иначе как с помощью дьявола, заварилась любопытная и удивительно вкусная каша. Они открыли в банке счет и внесли пробную сумму. Результат оказался настолько же приятным, как и весомым. Вскоре они увлеклись и окончательно забросили хлопотный импорт. Распределив деньги между тремя банками, они были озабочены теперь лишь тем, чтобы вовремя продать бумаги, конвертировать прибыль и отправить на заграничный счет.
Легкие деньги, как воздушный шар, оторвали от земных забот многих фабрикантов и сбили их с инвестиционного пути. Все кинулись искать свободные средства, чтобы припасть к чудесному источнику, что забил вдруг из финансовых российских глубин. Воцарился ажиотаж не хуже времен золотой лихорадки. Доходность временами переваливала за сто процентов годовых, укрепляя мнение людей осторожных, что добром это не кончится. Впрочем, никто не отменял золотое правило игры, будь она на деньги или на власть: вовремя войти и вовремя выйти, так же как никто не отправлял на пенсию ее круглоглазых крупье – жадность и страх. И те, кто заехал с бумагами в дефолт, убедились в этих простых истинах на собственной шкуре. Выигравших почему-то всегда неизмеримо меньше, чем участников.
Он орудовал госбумагами, как серпом с весны девяносто шестого по осень девяносто седьмого, пока по фасаду мирового благополучия не пробежала первая трещина: в одночасье, как это бывает, обвалились рынки сначала в Азии, а затем биржевое домино с электронной скоростью разбежалось по всему миру. Прислушиваясь к глухому ворчанию мировых финансовых недр, он наступил на горло жадности и большей частью вышел из госбумаг, а с оставшимися десятью процентами дотянул до дефолта, успев все же продать их накануне.
Теперь, когда те события уплотнились и затвердели, немало доморощенных врачей хотели бы видеть в них лишь некое досадное образование, этакую историческую доброкачественную опухоль, не более того, тогда как настоящий смысл их заключается в том, что случилась агония, а за ней и падение той смертельно уставшей лошади, что тащила карету российской империи большую часть прошлого века. И то, что на нее за семь лет до смерти накинули трехцветную попону, лошадке не помогло. Тем же любителям скачек, которые считают, что поставили не на того Буцефала и которым не нравятся нынешние ухабы и кучера, следует заметить, что они упустили момент, когда в российскую карету запрягали новую лошадь, и что это уже совсем другая, свежая лошадь, которая околеет не так скоро, как им хотелось бы…
Вскоре после своего расставания с лже-Мишель он, возвращаясь из Стокгольма, познакомился в самолете с переводчицей Ларисой – сдержанной, подтянутой, ухоженной блондинкой. Ее гладкие медовые волосы, отведенные плечики, воинственная грудка, гордая шейка и мелодичный, слегка капризный всезнающий голосок мило укладывались в шуршащий целлофановый набор новых замашек, что так легко и быстро превращаются у большинства побывавших за границей русских людей в уморительный снобизм. Типическая новизна вместе с исходящим от нее тонким запахом духов привели его в боевое состояние. За время полета он сумел составить о себе представление, как о состоятельном и загадочном господине – попросил разрешения и угостил ее самым дорогим коньяком из тех, что были, намекнул на таинственные финансовые дела, связывавшие его со Швецией; покуривая Dunhill, глубокомысленно поведал свои впечатления об англоязычной версии «Лолиты», которую приобрел два года назад, едва, на самом деле, одолев к этому времени четыре главы. Она благосклонно отнеслась к его вниманию, позволила довести себя на такси до ее дома в Купчино и пригласила к себе на чай, который он без сомнения заслужил. За чаем он вел себя внимательно и культурно, сочувственно отнесся к ее мечте поселиться в Швеции, и под анестезию низких бархатных интонаций, пользуясь капельницей из крепкого раствора льстивого, сочувственного восхищения и посулов великодушной щедрости, в тот же вечер оказался в ее постели.
Видимо, предыдущий опыт научил ее экономно относиться к любовному огню и не щелкать зажигалкой по каждому поводу, отчего она в тот вечер оставалась деловита и холодна, несмотря на все его старания завести ее аккуратный, гладенький автомобильчик. После трех попыток, что она ему предоставила, он вынужден был признать, что впервые потерпел поражение. Это уже потом, когда он окружил ее материальным вниманием и подношениями, она милостиво сменила картинные стоны на неподдельные.
Будучи связана со Швецией языком, она постоянно сновала туда-сюда в каком-то одной ей известном ритме. Несколько раз они ездили в Стокгольме вместе, и тогда жизнь их, красиво встроенная в благородную старину города, напоминала возвышенные страницы модного любовного романа. В свободное время они бродили по улицам, заходя в понравившийся магазинчик и унося оттуда приглянувшийся ей пустячок. Она долго выбирала, непринужденно болтая с польщенным персоналом, и он, наблюдая со стороны за ее зрелым космополитизмом, с грустью предчувствовал их неизбежное расставание. Иногда ей нравились отнюдь не пустяки, и он никогда не отказывал. Ужинали они в разных ресторанах, стараясь не повторяться при выборе кухни. Ночью гостиничные кровати, повидавшие всякого, стонали под их натиском. Приблизительно также они вели себя и здесь, сожительствуя то у него, то у нее.
Так продолжалось полтора года, пока однажды после очередного возвращения из Швеции она не призналась, что некий пятидесятилетний швед сделал ей предложение.
«И ты согласилась?» – спросил он.
«Нет еще, потому что хотела посоветоваться с тобой…» – отвечала она.
Было, однако, ясно, что свой выбор она уже сделала, а поскольку он никогда не видел ее своей женой, то поцеловал и попросил о последнем свидании. Она не отказала, и он устроил ей, виноватой, такой девичник, о котором она, наверное, еще долго вспоминала после одноразовых инъекций своего пожилого шведа.
В конце девяносто седьмого, когда тришкин кафтан российской экономики трещал по швам, а в криминале погрязли безгрешные прежде люди, они расстались. Строго говоря, она не была интердевочкой, но умела пускать в ход интердевичьи средства в нужное время и в нужном месте. За что же ее судить…
Ах, Наташа, Наташа, раненная птица! Почему она девять лет без мужа? Может, он и вправду, торопится? Может, начинать следует с другого? Одно теперь очевидно: ему придется долго и терпеливо доказывать ей серьезность своих намерений. И хотя мужская шкура имеет свойство толстеть со временем в прямом и переносном смысле, он был уязвлен и озадачен.
Вечером позвонил Юрка Долгих, пожалел, что давно не виделись и предложил встретиться. Пожалуй, время военного совета пришло – индекс долго топчется на месте, да и недельная гистограмма теряет силу. Сдается ему – надо продавать.
24
Тот сумрачный бред, который в течение первых двух недель после его гибели сопровождал ее ночное забытье, происходил из ее решительного отказа признавать случившееся. Она беседовала с шествовавшим рядом с ней призраком, рассказывая про тот порядок, который, как ей мерещилось, навела в ожидании его приезда в их будущем доме. Она умоляла его поскорее вернуться, чтобы поехать туда и там зачать их дитя. Возвращаясь в черный день, она каменела и ожидала ночи, чтобы снова говорить с призраком. К ней вернулись сны, и в них, рыдающих и бессильных, увидела она свое неродившееся дитя – кудрявую кукольную малышку, похожую на Володю, как это и следует девочке. Улыбающиеся и молчаливые, они приходили вдвоем и, побыв немного, уходили, несмотря на все ее попытки удержать их и даже уйти вместе с ними.
Из черной безжизненной бездны ее, потемневшую, подурневшую, исхудавшую, вызволяли всем миром. Тот же тесный круг потрясенных друзей, что сомкнулся вокруг нее после развода, снова спасал ее от самой себя. Запасаясь присутствием духа, они вместе и поодиночке приходили к ней, чтобы ужаснуться горю, которое осязаемо и укоризненно глядело изо всех углов, позволяя говорить лишь виновато и вполголоса, находя оптимизм неуместным, а смех оскорбительным. Довольно скоро они убедились, что лучшие слова соболезнования – это неловкое молчание. Приложившись к размеру поразившего ее горя, они уходили, стыдясь того смехотворного хныканья, которым люди благополучные врачуют прыщики своей души.
Через неделю после того, как Светка разбила чашку, Наташа смогла оставаться ночью одна. Днем она бродила по квартире, присаживаясь время от времени куда придется и обращая безжизненное лицо в горемычное сиротское будущее. Кошка Катька, пригретая ею после развода, забиралась к ней на колени, позволяя бестрепетным пальцам прикасаться к сердцебиению самой Вселенной, которое кошки, жрицы вечности, улавливая чуткой антенной ушей, озвучивают с неведомой нам целью. Иногда ее хозяйка принималась плакать, не достигая, однако, границ истерики.
Спустя два дня, в субботу, Светка предложила сходить в церковь.
«Зачем мне туда идти…» – вяло отозвалась Наташа.
«Свекровь сказала, что помогает, и к тому же погода сегодня прекрасная!» – бесхитростно обосновала Светка. Про себя она решила любым способом вывести Наташу на воздух, где та не была уже десять дней.
«Помогает тем, кто верит…»
«Свекровь говорит, что ОН помогает всем! Надо только хорошенько попросить!»
«Вот как? Сначала забирает, а потом помогает?! Может, ЕМУ за это еще спасибо сказать?!» – вдруг вскинулась, сверкнув глазами, Наташа, как будто ей, наконец, назвали заказчика убийства.
«Ну, что ты, что ты! Не говори так! Нельзя так говорить! Раз забрал, значит, так нужно!» – смешала Светка строгость с испугом.
«И ты всерьез веришь, что ОН есть? Да если ОН есть, то как же мог такое допустить!..» – распахнулись навстречу слезам Наташины глаза.
«Успокойся, Наташенька, успокойся! – захлопотала Светка. – Не хочешь идти – не надо! В конце концов, ЕГО и отсюда можно попросить, но говорят в церкви другая энергетика, понимаешь! И погода сегодня редкая…»
«Да я и креститься-то не умею…» – неожиданно сникла Наташа.
«А чего тут уметь! Вот, смотри!» – оживилась Светка, показывая, как это делается, и что-то смиренное и неподвластное высшему образованию проглянуло в прилежном мелькании ее руки. Оказалось, она давно задумала их аудиенцию у бога и даже прихватила с собой два головных старушечьих платка.
Поддавшись уговорам, Наташа принялась собираться. Она прошла в ванную, где скорее по привычке, чем по необходимости оказалась перед зеркалом. С того рокового дня она перестала заботиться о внешности, лишь изредка ополаскивая холодной водой опухшее от слез лицо. Счастливая свежесть ее поблекла и выцвела, взор потух, волосы потускнели, опущенным плечам не хватало жизни. Равнодушно оглядев себя, она ограничилась тем, что припудрила впадины под глазами, на дне которых после слез скопилась черная печаль, как на прибрежных камнях после прибоя проступает белая соль. Надев глухое темное платье, она набросила сверху синюю кофту и похожая ликом на изможденную икону, написанную декаденствующим иконописцем, отправилась со Светкой пешком на Смоленское кладбище. Золотая осень приветствовала их своей цыганской чахоточной красой.
Добрались до кладбища, и при виде его Наташа почувствовала, как незримые тиски, в которых пребывало ее сердце, пришли в движение.
«Подожди, – сказала она Светке, – подожди…»
Они остановились, и Наташа, отвернувшись, с минуту стояла, пока мир перед глазами дрожал и переливался, собираясь покатиться по щекам.
«Может, не пойдем?» – спросила Светка, посчитав свою задачу выполненной.
«Нет, теперь пойдем. Хочу взглянуть в глаза твоему богу…»
Дойдя до церковного крыльца, они надели платки, перекрестились и вошли. Уже с порога Наташу окатил тот густой, приторный запах божьей прихожей, что делает всех, кто сюда попадает одинаково послушными. Запах, навсегда связанный у нее теперь с видом закрытого гроба и с непреходящим недоумением: почему она здесь, и кто эти незнакомые люди вокруг? Ее качнуло, а к горлу подкатила тошнота.
Светка купила две свечки и спросила женщину за прилавком, как им помянуть умершего. Та начала было объяснять, что нужно поставить свечку вот на тот столик (канун называется) и сказать: «Упокой, Господи, душу раба Твоего…», но скользнув взглядом по Наташиному лицу, чьи возраст и ранняя печаль подсказали ей, что дело здесь, скорее, любовное, захотела узнать, своей ли смертью умер усопший. Ну вот, она так и подумала. Что делать, к сожалению, время сейчас такое. Тогда, девочки, надо сказать: «Упокой, Господи, душу невинно убиенного раба Твоего…»
Так и сделали – сначала свою свечу прилепила Светка и, воспользовавшись первой частью инструкции, шепотом попросила за своего благополучно умершего деда. Наташа покорно наблюдала за ее мелкими суетливыми движениями, пытаясь серьезно отнестись к тому большому и важному (если верить верующим) что скрывалось за бесхитростными манипуляциями. Она зажгла свою свечу от Светкиной и, укрепив на свободном месте, начала едва слышным шепотом: «Упокой, Господи, душу…», но споткнулась: язык не поворачивался продолжить «…невинно убиенного раба Твоего Владимира…» Она занервничала, и тут у нее как-то само собой вырвалось: «Господи, прошу тебя, пожалей там у себя моего Володю!»
Постояли, переживая телеграфную простоту молитвы и не зная, что делать дальше. Вокруг неулыбчивые лица, двигаясь, словно тени, легко и неслышно подходили к полыхающему столу, зажигали от него свой хрупкий огонь и добавляли в общий костер. Шевелением губ либо сосредоточенным молчанием они творили обряд, перемещаясь затем к большим позолоченным образам, чтобы глядя им в глаза, передать по назначению подробное ходатайство, а отправив послание и заручившись поддержкой, покинуть храм с тем же видом облегчения, с каким отправив письмо до востребования, покидают почту.
Наташа молчала, тупо глядя на трепетное сердечко свечи. Внезапно ей на память пришло их первое свидание в «Дворянском гнезде», где на столе в тот вечер рядом с розами пылали роскошные свечи – влюбленные, жаркие, радостные. И вот теперь эти тонкие, ломкие, тщедушные светлячки, источающие гробовой запах…
И вдруг из артезианских глубин души через горизонт жгучих слез обиды и кипящий пласт боли и страха, сквозь грунтовый слой бурных, горячих слез радости и подпочвенную влагу сострадания прорвалась к ней под напором отчаяния, брызнула из глаз и холодной мертвой водой заструилась по щекам невыносимая правда: «ВСЕ КОНЧЕНО, И НИЧЕГО УЖЕ НЕ ИСПРАВИТЬ!» Ни слова не говоря, она повернулась и кинулась к выходу. Выбежав наружу, она, не помня себя, не разбирая дороги и на ходу срывая платок, устремилась прочь…
Через два месяца после его смерти она впервые появилась в офисе. Говорила негромко и без выражения, а в серебристый колокольчик ее смеха добавили тусклое вещество, отчего он никак не хотел звучать. Желая избавиться от квартиры, которая дважды ее предала и, не имея достаточно средств, чтобы купить новую, Наташа занялась продажей дома, в котором все равно не смогла бы жить. В ноябре нашелся покупатель, и дом был продан за хорошие деньги вместе с мебелью и прочим теперь уже ненужным добром. Как ни тяжело ей было, она навестила осиротевшее гнездо, прошла по его холодным, готовым лелеять чужое счастье комнатам, окидывая взглядом отвергнутую судьбой гармонию красок и легкость пропорций и всеми силами противясь попыткам воображения оживить сослагательное наклонение. Покинув дом, она дошла до ворот и оттуда в последний раз бросила взгляд на поникшие стены, затейливые изломы унылой мокрой крыши и пустые темные окна, которые так и не зажглись…
Вскоре она переехала в стодвадцатиметровую четырехкомнатную квартиру на 12-й линии, в двух шагах от Невы, куда, будь жив Володя, они ходили бы гулять белыми ночами. На новоселье собрались все ее друзья. Был стол в полупустой гулкой гостиной, негромкие разговоры и их с Володей фотография на стене. Ни смеха, ни музыки, ни веселья. Даже Сереге Агафонову было отказано исполнить ее любимый романс «Не уезжай ты, мой голубчик…», который теперь не то что петь – цитировать было страшно.
На работе она бралась за все дела, даже безнадежные, надеясь чужими заботами заглушить то скорбное неутихающее завывание, что звучало в темном тоннеле, до которого сузилась теперь ее жизнь. Вечерами прогоняла тишину бормотанием телевизора, скороговоркой приобщавшего население к мировой скорби, а в промежутках перебивавшегося незатейливым мыльным промыслом. Она истово соблюдала траур, тем более, что для этого ей не нужны были, как это часто бывает, усилия – он прочно поселился в ее душе.
Полюбив одиночество и печаль, избегая шумных, бессмысленных компаний, она тихо прожила следующие два года, оплакивая порушенное счастье и бесконечно жалея лишь об одном – зачем она его послушалась и не родила!
Она отклоняла приглашения друзей и подруг, чья относительно благополучная жизнь находила достаточно поводов для совместного веселья. «Не хочу кислым видом портить вам праздник!» – говорила она. В марте две тысячи третьего она все же позволила себе присутствовать на бракосочетании Марии, где была свидетелем невесты, а затем и на самой свадьбе, пробыв там не более часа. Глядя на счастливую подругу, за которую была искренне рада, она удивила себя, подумав: «Легче некрасивой толстушке пролезть в игольное ушко, чем красавице задержаться в Эдеме…»
На годовщину Володиной смерти она отправилась в Подпорожье, и сестра его, Вера, нашла, что она сильно изменилась. Нет, она по-прежнему красива даже без косметики, но красота ее какая-то усталая и равнодушная. «Не греет…» – осторожно выразилась Вера, полагая по молодости, что жизнь остановить невозможно, что и подтвердила делом, выйдя через полгода замуж. Наташа приехала на свадьбу, и сидя рядом с ее матерью, грустно улыбалась, глядя на воздушную невесту, на чьем месте в этой семье должна была сначала быть она.
Шло время, и все больше тускнела та сказочная пора, где остался ее Володя. Все дальше отставал от нее призрак, как отстает от тронувшегося поезда провожающий нас человек. Но еще долго колокол ее сердца звонил по нему, не уставая…
25
И вот после двух лет тихого печального существования в ее жизни наметился, как говорят в таких случаях, перелом. Перемены принес ее отец, занявший к тому времени видное положение на своем новотрубном заводе и получивший доступ к кнопкам управления. Будучи отцом любящим и заботливым, он придумал, как тонко и невинно учесть интерес дочери и расширить ее юридические угодья: следовало поменять фирму, занимавшуюся делами завода на Северо-западе, на другую и встроить туда Наташины услуги.
Он обсудил с дочерью свой план, она согласилась и указала на юридическое бюро «Феноменко и партнеры», имеющее на тот момент солидную в профессиональных кругах репутацию. Николай Михайлович приехал в Питер, встретился с Алексеем Феноменко и предложил защищать интересы завода, где только возможно, при условии, что этим у него будет заниматься его дочь. По правде говоря, для такого сытого и самодовольного заведения иметь клиентом еще один завод – все равно, что любовнице олигарха прибавить к коллекции бриллиантов лишний перстень. Но когда выяснилось, что папино предложение подкреплено необыкновенными достоинствами дочери, вопрос решился быстро и положительно. Были подписаны нужные документы, после чего мэтр обменялся рукопожатием с папой и поцеловал руку дочери.
Его бюро славилось связями, основательностью и продвинутостью, а сам он, несмотря на относительную молодость (сорок лет), считался одним из самых удачливых и успешных юристов города. Это был яркий, плотный брюнет с повелительными наклонностями, львиным рыком, хорошими зубами, раскатистым смехом и густым баритоном, которым он умело владел. Густые короткие волосы на голове полулежали стерней, закручиваясь на макушке воронкой. Обильная черная растительность произрастала на руках и, как потом выяснилось, покрывала все тело. Он умел производить впечатление свойского парня – при знакомстве стискивал руку, заглядывал в глаза и улыбался широко и доверительно. Естественно, играл в теннис и баловался горными лыжами. Был женат на некрасивой женщине и имел от нее пятнадцатилетнюю дочь.
Он был сколочен из той молодой деловой породы, что творческим возрастом удачно совпав с лихими переменами, набиралась соков, опыта и сил в самую зловонную пору всероссийского разложения. Он освоил и практиковал европейскую кабинетную систему, которая строит дело на плечах крепкого юриста, как строят спектакль на личности ведущего актера. Собственные таланты в сочетании с многозначительными московскими связями позволили ему занять влиятельное место в том замкнутом мире власти, к которому во все века принадлежит лукавая каста юристов, торгующая писаными законами себе на пользу. Вдобавок к внутреннему рынку его бюро являлось членом Европейской юридической ассоциации, которой он поставлял богатых российских клиентов, поскольку с другими дел не имел.
Стоит ли удивляться, что сорокалетний фавн, одолеваемый здоровьем, состоянием и завидными достижениями, сразу же положил на Наташу глаз, искривив занимаемое ею пространство пристальным, чутким и небескорыстным вниманием. Уж если самый угрюмый мужчина при общении с красивой женщиной способен обнаружить неожиданную учтивость и обходительность, то можно себе представить, какие средства при этом пускает в ход самоуверенный состоятельный сердцеед. Ласковый обволакивающий взгляд, приспущенный голос, вкрадчивые льстивые интонации, заманчивые предложения – вот дешевый набор современного делового гусара, взирающего на поле битвы из окна кабинета или через тонированное стекло автомобиля, и планирующего все и вся, в том числе собственную похоть.
Наташа довольно скоро почувствовала его к ней непрофессиональный интерес. Она даже пожалела, что поддалась на уговоры отца и покинула свой привычный независимый мирок. Впрочем, особой необходимости видеться с Феноменко у нее поначалу не было, а та формальная встреча, на которую он ее вскоре пригласил, была обставлена им с напускной серьезностью и преувеличенной деловитостью. Он сообщил, что рад сотрудничеству с такой успешной и увенчанной годами фирмой (каких, на самом деле, в городе хоть пруд пруди) и ее истинным украшением – Натальей Николаевной, которая теперь, как он надеется, украсит и его бюро. Он упомянул, между прочим, некоторых его клиентов – таких значительных по сравнению с ее клиентурой, что сквозь намеренное упоминание ясно блеснул намек на разницу масштабов. Наташа намек проглотила: а что прикажете делать, когда имеешь дело с акулой? Затем он как бы невзначай похвалил ее за то, что она вовремя разглядела и оставила первого мужа, который впоследствии показал себя на редкость непорядочным человеком и обманул уважаемых людей. Вслед за тем, добавив в тарелку своего любезного лица ложку постного сочувствия, он выразил опоздавшие на два года соболезнования по поводу гибели ее последнего мужа, а также поздравил с приобретением квартиры в престижном месте Васильевского острова.
Что и говорить – такая осведомленность ее впечатлила: оказывается, кое-кому хорошо известно то, что на самом деле представлялось ей делом сугубо личным и непрозрачным! Первой ее мыслью было встать и хлопнуть дверью, потому как этот плотный тип с круглым лицом бульдожьей масти явно перешел границы необходимого любопытства. Какое его собачье дело, с кем она спала и что с ними стало! Зачем ему знать, где и за сколько она купила квартиру! Одно дело навести справки о репутации фирмы (это нормально, это святое!) и совсем другое – копаться в интимных подробностях жизни ее директора! А сколько из того, что он о ней накопал, он не назвал! Да если он еще питается слухами! Нет, нет, встать и уйти, не забыв хлопнуть дверью! Но не встала, не ушла, не хлопнула, а справившись с собой, язвительно сообщила, что ей жаль его драгоценного времени, которое он потратил, собирая о ней сведения – все это она могла рассказать ему сама. Тем более что в жизни ее не было и нет ничего такого, чего бы ей следовало стыдиться. Он в ответ рассмеялся и сказал, что если бы было по-другому, они бы здесь не сидели и так мило не общались.
Далее он намекнул, что в приватном разговоре с ее батюшкой он обещал приобщить ее к настоящим, большим делам международного значения. К чему откладывать – он приглашает ее в Париж, где нужно быть через месяц на полугодовом коллоквиуме Европейской ассоциации юристов, куда входит его бюро. Вот там ей и представится случай рассказать ему о себе. Наверное, прозрачнее попытки склонить ее к постели было трудно вообразить.
«А если я откажусь?» – сухо поинтересовалась она.
«Мы найдем для этого другое время!» – невозмутимо отвечал он.
«Тогда в другой раз, сейчас мне действительно некогда. С учетом того, что я буду отвлекаться, мне нужно настроить мой маленький слабый оркестр, чтобы он мог звучать без моего участия…»
«Это разумно» – с кислой миной поддержал он ее намерения, после чего провел Наташу по комнатам, где представил ее персоналу.
«Наталья Николаевна Ростовцева, наш новый, верный и надежный союзник! Прошу любить и жаловать!» – говорил он. Вышколенный персонал откликался самым вежливым образом, и лишь бесцеремонная Юлька не постеснялась смерить ее с головы до ног и обратно.
Так внезапно и с размахом Наташа вернулась к жизни. Ее возвращение и вправду оказалось увлекательным. Феноменко, надо признать, недаром числился в юридических элитах – дело свое он знал, а оно его боялось. С его чутьем и хваткой бесполезно было соперничать. Его виртуозным приемам пытались следовать, но только затем, чтобы испытать бессильную зависть. Он был многолик и умел предстать перед собеседником в том образе, в котором его желали видеть – качество, совершенно необходимое хорошему политику, актеру и юристу. Обмануть его было невозможно, удивить – нереально. К людям бесполезным он относился равнодушно и невежливо. То, чего Наташа достигала красотой и сердечностью, он, обладатель плоского невыразительного лица, добивался изворотливым умом и хирургической точностью манер. Его коротышка-нос сразу учуял, какой дуэт они могли бы составить.
Завлекая ее на липкую ленту соучастия, Феноменко умно и методично открывал перед ней простор своих интересов. Он стал возить ее на мероприятия презентабельного характера, приучая нужную публику видеть ее рядом с собой. Она не отказывалась – его соседство отвечало ее интересам. С волками жить – по-волчьи выть, решила она, не задумываясь на первых порах, что для того, чтобы стать волчицей, придется не только выть, но и жить с ним. Заботясь о ее развитии, он поручал своей прекрасной ученице запутанные дела, и от этого ей приходилось много времени проводить у него в бюро, каким, возможно, и был его дальний умысел. Он, не скупясь, делился с «Юстинианой» новыми клиентами, принимая на себя ответственность за результаты работы. Это было щедро и благородно. Стоит ли говорить, что Наташино благосостояние от его щедрот резко улучшилось, отчего она позволила себе через полгода обставить квартиру и купить «Туарег». Она так радовалась своей роскошной, лакированной словно рояль игрушке, что когда Феноменко поздравил ее с достойным ее красоты и положения приобретением, она в ответ порывисто и расчетливо поцеловала его в щеку. Феноменко растрогался и смутился, что уже само по себе было необычно.
Надо отдать ему должное – гусарские замашки, с помощью которых, как ей показалось вначале, он собирался ее домогаться, при ближайшем знакомстве не разрослись, а напротив, стушевались. Прошедшие полгода он вел себя терпеливо и сдержанно, выбрав в качестве защиты от самого себя роль мудрого, заботливого шефа. Что ж, в ее поцелуе он мог увидеть первую награду своему смиренному терпению.
С некоторых пор Наташа не обманывалась насчет способа предстоящей благодарности. Когда она однажды впервые об этом подумала, то испугалась. Но не того, куда завела ее неразумная благосклонность, а того равнодушия, с которым она встретила эту мысль. Словно все уже было решено, и осталось только выбрать время и место, чтобы переспать с ним всем назло. Могла ли она этого избежать? Могла, но… не хотела. И в этом была странность ее нового самоуничижительного состояния. То, что он был женат, ее нисколько не смущало. Неужели горе, поразившее ее душу, сделало ее бесчувственной и циничной?
26
В феврале две тысячи пятого он пригласил ее с собой в Париж, где располагалась штаб-квартира ассоциации. Приняв приглашение, она за неделю до отъезда начала принимать противозачаточные таблетки, и завывающим морозным утром отправилась с ним туда, чтобы расплатиться по счетам.
Они остановились в отеле «Бальзак», расположенном в весьма выгодном с точки зрения пошлых восторгов месте. Тут тебе и Елисейские поля, и Триумфальная арка. В другое время и при других обстоятельствах она, возможно, была бы в восторге. В холле, перед тем как зарегистрироваться, он предупредил извиняющимся тоном:
«Наталья Николаевна, у нас один номер, но комнаты смежные. Надеюсь, вы простите мне мою вольность…»
Она, естественно, простила.
Это было ее второе посещение второго по вечности города. Пасмурный и озябший, он вполне соответствовал ее предпродажному состоянию. Ни теплый прием коллег («Алекс, почему вы прятали от нас такое сокровище?»), ни шумное размалеванное варьете «Мулен руж», ни неоновая феерия молодящихся фасадов, ни жадные взгляды местных, похожих на Мишку узкоплечих жеребцов, ни лихорадочная доза «Шато Марго» 1999 года, ни старательные ухаживания самого Феноменко, чья чуткость росла по мере приближения ночи, не могли ослабить в ней напряженного ожидания грядущего позора. Когда в полночь они вернулись в отель, она чувствовала себя пьяной развратной девкой.
Поднялись в номер и разошлись по комнатам, не пожелав друг другу спокойной ночи. Чтобы избавить себя от пошлой процедуры раздевания она голой залезла под одеяло и лежала, подрагивая в ожидании его появления. Наконец разделяющая их дверь приоткрылась и оттуда показалась его голова:
«К вам можно, Наталья Николаевна?»
«Да…» – ответила она, чувствуя, как споткнулось сердце.
В халате до колен, тускло отсвечивая толстыми голыми икрами, он прошел на середину комнаты и остановился:
«Я пришел сказать вам спокойной ночи…»
«Только выключи, пожалуйста, свет…» – ответила она и закрыла глаза.
«Весь?» – спросил он.
«Весь…»
Под веками исчез красноватый сумрак, и она почувствовала, как кровать справа от нее прогнулась. Чужой запах мятной пасты коснулся ее губ. Она замерла, и тут властное головокружение восстало и заслонило все прочие чувства. Глаза ее под веками закатились и она, нащупывая остатками трезвости твердую почву, попыталась унять светло-зеленую пятнистую карусель.
«Наташенька!» – легла на ее тело тяжелая, незнакомая рука.
Он что-то бормотал, но смысл его слов не доходил до нее: все ее ощущения находились за пределами безвольного, бесчувственного тела, и потому когда он торопливо и поверхностно опустошил себя, она с вялым удивлением подумала: «Как, уже?»
Натянув на себя одеяло, она затихла. Немного погодя ягодицы пожаловались на сырость, но она лишь брезгливо поморщилась, ожидая, когда головокружение отпустит ее в ванную. Тем временем Феноменко нашел ее руку, неловко подтянул к себе и приложил к губам. Затем последовали сбивчивые слова про то, как много она для него значит, как давно он этого хотел и как он счастлив. Он никогда не встречал такого совершенства, и пусть она его простит, что он так мало для нее делал, но теперь он будет делать для нее все, что только возможно! И пусть она не думает – он вовсе не из тех, кто добившись женщины, охладевает к ней!
Она молчала, слушая головокружительную пустоту внутри себя, а он говорил и говорил, и вот уже рука его под одеялом гладила ее грудь, оттуда спустилась на дрогнувший живот, обожгла липкий, беззащитный пах и снова перебралась на грудь. Он подтянулся к ней, задержался на губах, но не найдя там ответного чувства, откинул одеяло и принялся покрывать ее тело до самых лодыжек долгими, выстраданными терпением поцелуями. Она никак не отвечала и лишь слегка подрагивала. Он заставил ее раздвинуть бедра и погрузился лицом в свою же сперму. Долго не отрывался, а оторвавшись, взгромоздился на нее тесно и основательно.
«Тяжело…» – уперлась она руками ему в грудь. Он безропотно перенес вес на локти и короткими пальцами ухватил ее снизу за плечи.
Было что-то воловье в его грузных размеренных движениях. В этот раз он трудился смачно и со вкусом, при каждом погружении двигая ее, безвольную, вперед, пока она почти не уперлась головой в спинку кровати. Тогда он просунул толстую руку под ее поясницу и опустил ниже (отчего на сырость теперь пожаловалась спина), а затем продолжил с той же основательностью. Пытаясь удержать себя на месте, она обхватила его спину. Руки ее неприятно заскользили по сырой шерсти, и она уронила их на кровать. Отступившее было опьянение снова вернулось к ней, и она, плохо соображая, вдруг тихо застонала, и уже не умолкала до тех пор, пока он, превратившись в скрюченного, пыхтящего кролика, короткими, спешными толчками не довел себя до исступления. И когда он оплывшей волосатой тушей затих на ней, к горлу ее из глубины неожиданно метнулся тугой комок. Она опрометью кинулась из-под него и ничего по дороге не задев, успела добежать до ванны, где ее вырвало темной горячей струей.
Никогда, никогда в жизни с ней не случалось ничего более омерзительного! Плохо соображая, она схватила душ и затрясла им над фиолетово-красным содержимым своего желудка, торопясь вернуть ванне непорочную белизну. Слезы застилали глаза, тело сотрясала крупная дрожь, рот наполнился сладковато-кислым вкусом тухлятины. Она ловила ртом хлесткие струи и с отвращением сплевывала их в ванну.
«Наташенька, что с тобой?» – послышался из-за двери его испуганный голос.
Она хотела ответить, но вместо этого новая порция рвоты обагрила дно ванны. Кашляя, давясь и отплевываясь, она трясла душем, с отвращением глядя, как бордовое пятно бледнеет и нехотя исчезает в недрах канализации. Он стучал и просил открыть. Ощутив внезапное облегчение, она на дрожащих ногах подошла к двери и слабым голосом попросила: «Принеси халат, пожалуйста…»
Он сбегал за халатом, она приоткрыла дверь, приняла его и сказала: «Все нормально, я скоро выйду…»
Тут она обнаружила, что его подсохшее семя стягивает кожу ее ягодиц и спины и даже испятнало пол. Торопливо пустив горячую воду, она встала под душ. Согревшись, намылилась и принялась оттирать от чужой испарины грудь, живот и с особым ожесточением промежность. Закончив, она намотала на голову тюрбан, запахнулась в халат и вышла. Он ждал ее под дверью.
«Бедная моя, что с тобой?!» – с тревогой спросил он, глядя на ее белое лицо.
Она слабо улыбнулась:
«В следующий раз не давай мне так много пить…»
Он захлопотал, подвел ее к полосатому, похожему на черно-золотую зебру дивану, усадил, укрыл одеялом, подоткнул концы, не забывая нежно и быстро целовать. Она не противилась. «Может, горячего чаю?» – спросил он участливо. «Можно…» – подумав, согласилась она. Он позвонил, и им принесли чай.
«Наташенька, солнышко, как ты меня напугала! – сел он рядом с ней. – Неужели это я виноват?!»
«Успокойся… Просто я никогда так много не пила…» – откинув голову, закрыла она глаза.
«Прости, – заторопился он. – В следующий раз я буду делать ЭТО очень нежно – ты у меня, оказывается, настоящая недотрога!»
«Господи, во что я ввязалась! – ощутила она нарастающее отчаяние. – Ведь он же теперь не отстанет! Ну, конечно, будет следующий раз, а потом еще, и еще, и это самодовольное животное будет лизать, сопеть, потеть и гордиться собой! Господи, какая же я дура!»
Она почувствовала, как к горлу ее снова подкатывается комок. Отбросив одеяло, она устремилась в ванную. На этот раз, однако, обошлось.
Он все же заставил ее выпить чай и уложил, подшучивая, что начал ее обучение не с того: следовало вначале научить ее пить. Нежно поцеловав и пожелав спокойной ночи, он потушил свет и вышел. Она осталась одна и долго еще лежала, не вытирая слез, которые, скапливаясь в уголках, тихо скатывались по нежным бархатным скулам на подушку…
27
Проснулась она, как просыпаются после тяжелой, но успешной операции, с тревожным удивлением прислушиваясь к тому месту в груди, откуда, наконец, ушла боль. «Что сделано, то сделано» – вот лейтмотив, которым она за утро расправилась с остатками совести. Однако как новый любовник ни увивался, утром она ему не далась.
«Вечером! – твердо сказала она. – Давай дождемся вечера!»
Изобразив шутливое разочарование, он подчинился. Она ушла в ванную, где глядя на себя в зеркало, обнаружила на плечах синяки от его пальцев.
«Посмотри, что ты наделал…» – выйдя из ванной, упрекнула она его, принуждая испытать вину.
Он расстроился и, обняв ее сзади, стал нежно целовать ей плечи и шею, пока она, почувствовав стремительно крепнущую силу его желания, не выскользнула из его объятий.
«Вечером, вечером!» – по-хозяйски осадила она его и вдруг разом осознала свою возникшую над ним власть.
Париж любит удачливых и состоятельных.
Позавтракав, они вышли из номера, и он тут же нацепил на себя публичную личину, похожую на парадный мундир с регалиями, одной из которых теперь была она. Во всяком случае, умной женщине, переспавшей по своей воле с нелюбимым мужчиной, непременно следует поддержать это самодовольное мужское заблуждение. За утро ее отношение к нему быстро и незаметно поменялось, и сидя рядом с ним на совещании в штаб-квартире Ассоциации, она не без гордости наблюдала за его тонким профессиональным лицедейством, прислушивалась к точным репликам его почти беглого английского, подмечала внимание и одобрение на лицах европейских соратников. Когда он ловил ее взгляд, его лицо озарялось непривычно радостной улыбкой. Им явно владело вдохновение, и этим вдохновением была она.
«Ну, и ладно! – улыбаясь в ответ, думала она. – Померла, так померла…»
Похожий на Вольтера француз, с лица которого стекали щеки, веки, лоб, нос, сидел напротив и смотрел на них с мудрой проницательной улыбкой.
Париж любит состоятельных и влюбленных.
Покончив с делами, они заторопились на волю, где он взял такси и повез ее на авеню Монтень.
«Наташенька, солнышко, хочу сделать тебе скромный подарок!» – так он объяснил их маршрут.
Остановились напротив роскошного здания, которое внутри оказалось не менее роскошным ювелирным магазином.
«Гарри Уинстон! Лучший из лучших! Выбирай!» – сделал он широкий купеческий жест в сторону богатых витрин.
Она попыталась убедить его не тратить понапрасну деньги, но он не стал ее слушать и сказал:
«Иди и выбирай, или я куплю что-нибудь сам, мы пойдем к этой чертовой Сене, и я выброшу в нее подарок у тебя на глазах!»
Ах, какой мужчина! Какой дивный мужчина! И, кажется, не на шутку влюблен! Ну, почему она его не любит?
«Хорошо, но только что-нибудь самое неприметное и заурядное…» – вздохнув, сдалась Наташа.
Самым неприметным и заурядным оказалось кольцо белого золота с бриллиантом за три тысячи долларов. При этом она с трудом уберегла его от еще больших трат.
«Такова твоя нынешняя цена. Вот теперь ты настоящая шлюха!» – подумала она, подставив палец и поцеловав растроганного дарителя.
Они вышли из магазина, и он, взяв ее под руку, предложил прогуляться. Они отправились по авеню, разглядывая витрины. На одной из них были выставлены женские пальто. Она предложила зайти. Магазинчик был пуст, и Наташа к удовольствию двух любезных продавщиц принялась перебирать и примерять эту оборонительно-наступательную часть женского наряда, равную по важности доспехам. Она выбрала черное, приталенное, с высоким воротником пальто и отстояла свое право заплатить за него. Вышли наружу, и она, забегая на пару часов вперед, представила, как пойдет в нем на ужин и улыбнулась. Он понял это по-своему и поцеловал ее у всех на виду.
Ужин состоялся в знаменитой La To u r d’Argent, места куда были заказаны заранее. Собралась компания прожженных, циничных, остроумных крючкотворов со всей Европы и потеснила свое постатейное существование едкими шутками, поучительными историями, острыми саблями мнений, мудрым разочарованием и неумеренными комплиментами в ее женский адрес, на что Феноменко всякий раз напоминал, что у нее имеется еще и адрес профессиональный, не менее достойный и лестный. Каждый из присутствующих почитал за удовольствие к ней обратиться, и она по мере своих английских сил отвечала, иногда прибегая к помощи любовника, если мысль была слишком уж заковыристой. Когда она брала бокал, Феноменко тихо напоминал ей об умеренности. Видя в его заботе корыстное беспокойство, она про себя отвечала ему: «Не волнуйся, будет тебе сладкое…» Впрочем, если бы она присмотрелась внимательно, то обнаружила бы в его глазах неподдельное самоотверженное участие, свойственное мужчинам в самую раннюю пору обладания женщиной, когда они подобны грозным и нежным орлам, раскинувшим крылья над своими подругами. Ко всему прочему следует добавить, что знаменитая утка в собственной крови ей не понравилась.
Париж любит влюбленных и ненасытных.
Они возвращались в отель на такси, и каждый из них думал о том, что их там ждет. И если мужское предвкушение не нуждается в представлении, то ее смирившееся вроде бы море чувств имело своим дном такие монолиты, которые, однажды вздохнув, могли легко его взбунтовать. А между тем все, что ей было нужно – это выбрать из двух императивов один: «Нельзя целоваться (и все такое прочее) без любви» или «Можно целоваться (и все такое прочее) без любви». Устранить, так сказать, внутреннюю коллизию между экзистенциальным опытом и химерами идеального. И тогда ее воля избавилась бы от разрушительной амбивалентности и подчинилась бы смиреной гармонии неизбежности. Проще говоря, следовало плюнуть на все и жить с новым любовником, пользуясь его расположением. А если он, к тому же, сможет подарить ей оргазм, то оно стоит того, чтобы нарушить самый нравственный императив!
Сбросив на ходу пальто и пиджак, он вместе с ней прошел в ее комнату, где лаская голодным взглядом, помог освободиться от ее нового пальто. Она не стала испытывать его терпение и не пошла в ванную.
«Пусть целует меня немытую… Может, его тоже стошнит…» – мелькнуло в ней мстительным сполохом.
Покружив по комнате, она потушила свет, встала перед ним живой черной тенью и велела себя раздеть. Сдерживая суетливое нетерпение, он освободил ее от платья и скинул мягкие оковы лифчика. Затем, прижав ее к себе спиной и целуя в плечи и шею, принялся твердыми ладонями тискать грудь, оглаживать живот и дерзко нарушать беззащитную границу колготок. Она стояла, опустив руки и не испытывая ни малейшего трепета. Неужели проститутки такие же безразличные? Он подхватил ее на руки и уложил на широкую, словно площадь кровать. Затем торопливо обнажился и присоединился к ней.
С каким-то отстраненным любопытством наблюдала она за голым мужчиной у себя в ногах, словно дело касалось не ее тела. Смотрела, скосив глаза, как с затяжным наслаждением стягивая с нее колготки, он истово и протяжно целовал обнажавшиеся бедра, как двигались волосатые рычаги его рук, как черной мишенью на бледном жирном теле мелькала волосатая грудь, как подрагивал у живота его вздернутый черный бивень. Смотрела, как он, раздвинув ее ноги, устраивался в завоеванном пространстве, а затем с легкими поцелуями подбирался к ее цитадели, чтобы предпринять имитацию штурма. Смотрела, как на фоне смешно отставленного зада шевелится его макушка, пока он чавкал, погрузив в нее лицо.
«И как ему только не противно!» – брезгливо скривилась она.
Он укусил ее, она дернулась и тихо ахнула. Возможно, он сделал это намеренно, а может, просто увлекся. Решив ускорить события, она потянула его к себе. Он нехотя оторвался от лакомства и, мазнув по пути скользким ртом по ее животу и груди, впился в ее губы.
«Господи, неужели я так ужасно пахну?» – покоробленная гадливым засосом, задохнулась она. Не выдержав, она освободилась, перевела дух и, быстро осушив запястьем губы, велела: «Иди ко мне!» Лишь оргазм интересовал ее сейчас. Он заворочался, пристраиваясь, и она помогла ему поймать цель. Его первичные половые признаки оказались весьма внушительными. Странно, что она не почувствовала этого прошлой ночью. Впрочем, ей, пьяной и страдающей, было тогда не до того. Оказалось, что он недостаточно разогрел ее равнодушие, и пока его глубиномер продирался ко дну, она несколько раз дергалась и останавливала его.
«Больно! Подожди! Ты такой большой!» – давилась она шепотом, не догадываясь, что необыкновенно его этим возбуждает. Кончилось тем, что он, едва достигнув дна, задергался, обмяк и, навалившись на нее всем телом, с досадой пробормотал:
«Да что же это такое, а…»
Придавленная им, она терпела, как терпела когда-то под Мишкой и как терпела бы под любым другим своим мужчиной, преждевременно сраженным избытком страсти. Распавшись, они некоторое время молчали, пока он не сказал:
«Пожалуй, надо чего-нибудь выпить. Хочешь?»
«Нет. А ты выпей…»
Он встал, запахнулся в халат и пошел на свою половину. Пока он ходил, она посетила ванную и подобрала разбросанную одежду. Он вернулся с бутылкой виски.
«Я передумала. Пожалуй, я тоже выпью» – сказала она.
Он налил и подал ей полстакана виски. Она, не отрываясь, выпила до дна и со стуком поставила стакан на столик. Затем сбросила халат, откинула одеяло на край кровати и легла, поманив его невянущей наготой. Он потушил свет, и они продолжили.
«Поцелуй меня!» – велела она, бесстыдно разбрасывая ноги.
Он заботливо расположил ее поперек кровати и опустился на колени. Погрузив в нее лицо и шаря по ее телу слепыми жадными руками, он довел ее до состояния глухого волнения, дал отползти от края, после чего припал к ней и заполнил до отказа. Не считая вчерашней полуобморочной пытки, это был ее первый полноценный контакт после почти трехгодичного воздержания. Запрокинув голову и закрыв глаза, она несколько минут прислушивалась к тому, как тугие мерные усилия распирают ей бедра, наполняя ровным теплом и обещанием чего-то судорожного и неведомого. Почувствовав, как ОН бьется головой в неизведанное дно ее хлюпающего озера, она обхватила любовника руками и ногами и заспешила ЕМУ навстречу, приговаривая: «Сильней, сильней!». В ответ он выпрямил руки, прогнулся и, отбросив политесы, принялся с размаху вгонять в нее свою непомерную сваю.
«Еще сильнее!» – просила она, ухватив его за руки выше локтей. Он начал потеть.
«Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!» – умоляла она, пытаясь удержать соскальзывающие пальцы. Он засопел и запыхтел, сопровождая свои старания сырым шлепаньем.
«Лешенька, миленький!» – задыхалась она, и по тому, как он вдруг сбился с ритма, поняла, что все кончено. Что ж, теперь его можно пожалеть. Только кто пожалеет ее?
Он подкатился и затих у нее на груди в ожидании материнской похвалы.
«Ты успела?» – спросил он.
«Да, два раза. Ты молодец…» – ответила она в воронку его затылка.
«Ты обещала рассказать о себе…» – напомнил он.
«Да, помню… За два с половиной года после смерти мужа ты у меня первый мужчина…»
«Бедная моя… Сочувствую… Не волнуйся, теперь воздержанию конец. Я измучаю тебя, обещаю!»
«А я тебя, но при одном условии…» – сказала она.
«Каком?»
«Я никогда не делала и не буду делать минет»
«Согласен! Не царское это дело!»
Ах, какой мужчина! Какой дивный мужчина! И, кажется, не на шутку влюблен! Ну, почему она его не любит?
Любовником он оказался ненасытным, но потливым и бесплодным. С какой стороны она к нему ни заходила, добиться оргазма не смогла. Новый опыт ее изрядно опечалил: уж если бесполезным оказалось орудие ТАКОГО калибра, на что же тогда можно было надеяться?
Возвращались, отмеченные капризным жребием судьбы: он с запавшими, тающими от нежности глазами, она – тихая и повзрослевшая. В Питере их ждали февраль, мороз и полная луна. Войдя к себе домой, она сказала встретившей ее кошке Катьке:
«А я себе, Катюша, мужика завела…»
28
За все время их пребывания в Париже Наташе никак не удавалось запустить внутреннее судебное разбирательство по факту своего падения. Можно было, конечно, не принюхиваться к запаху морального разложения, а делать вид, что пациент вполне здоров и неплохо себя чувствует, как это делала страна, не замечая поразившей ее чумы, но тут уж дело хозяйское. А потому, оказавшись, наконец, наедине с собой и стараясь не глядеть на их с Володей фотографию, она принялась бродить по квартире, более всего заботясь о непредвзятости.
Итак, что для нее Феноменко, и что ему она? Кто она, в конце концов – расчетливая шлюха или слабая одинокая женщина?
Начать с того, что она живая, и ей нужен мужчина, чтобы по мере необходимости оказываться с ним голой и вульгарной в постели. И пусть она при этом не достигает упоения – без ЭТОГО портится характер и вянет кожа. Два с половиной года – достойный срок для траура, также как полгода достаточно, чтобы приглядеться к новому производителю гормонов. Рано или поздно освободившееся рядом с ней место должен был кто-то занять. И если сердце, или что там у нее, выбрало его, значит, на то были причины. Ну, почему сразу – материальные? Правильнее сказать: в том числе материальные. И не нужно прокурорской прямотой чернить ее мотивы – позвольте добавить в них белила смягчающих обстоятельств.
Да, он человек состоятельный, но в первую очередь он – талантливый юрист, вызывающий у нее, помешанной на профессии, искреннее уважение и, может даже, тайное преклонение, в котором она стесняется себе признаться. Да, он вольно или невольно способствовал ее обогащению, а разве всякая доброта не нуждается в благодарности? В итоге: уважение, преклонение, благодарность – весьма основательные чувства, заслуживающие того, чтобы выразить их самым убедительным способом. Между прочим, желая ее, он был деликатен и предупредителен, и будь она неблагодарной недотрогой, между ними все оставалось бы по-прежнему.
Да, сейчас она его не любит. Но ведь даже Наташа Ростова, фонетическое родство с которой она привыкла распространять на все свои устои, умудрилась уместить за короткое время у себя в душе две одинаковые по силе любви, и это во времена дремучего домостроя! Почему же с ней не может случиться что-то подобное? Конечно, полюбить кого-то, как Володю она уже не сможет, но разве мертвому этого недостаточно, чтобы не преследовать ее по ночам? И потом, это же не рабство, от которого невозможно бежать!
Таковы были доводы рассудка. Но как же тогда быть с пустынею души?
Что-то случилось с ней за последние два с половиной года. Она определенно ожесточилась, отсюда и неразборчивость. Одно дело – спать с кем-то без любви и совсем другое – за деньги, как бы ни пыталась она приглушить шелест купюр болтовней об уважении, преклонении и благодарности. Между прочим, если бы она отдалась первому встречному, было бы гораздо понятней и простительнее. Связавшись же с шефом, она предала Володю. И не надо себя обманывать: то, что она называет резким набором высоты, есть на самом деле стремительное падение, которое и вывернуло ее внутренности.
Если даже допустить отсутствие у нее меркантильного интереса (что на самом деле не так, но – допустим), то придется признать, что она спуталась с женатым и нелюбимым – горбатая, шокирующая глупость! И что еще важнее: тайна того, как из однообразных фрикционных движений рождается нестерпимое безумие, грозит при его участии остаться по-прежнему нераскрытой. В итоге имеем продажные, бесплодные, бесчувственные отношения. И это она называет возвращением к жизни?! Loveless love – любовь без любви, вот как это называется! Шлюха ты, да и только!
Так отчитало ее в сердцах униженное сердце.
Их поездка дала повод о них говорить. Особенно старалась Юлька, с которой Наташа к тому времени сблизилась на почве затейливой женской дружбы. Вульгарная, бесцеремонная, но не лишенная привязанности, Юлька жадно интересовалась деталями поездки. Обнаруживая удивительное знание подробностей, она спрашивала, в каком отеле они останавливались, жила ли она с ним в общем номере или в отдельном, заходил ли он к ней пожелать спокойной ночи, водил ли в «Мулен Руж», поил ли дорогим вином, брал ли с собой на совещания, был ли с ней в магазинах, предлагал ли что-нибудь ей купить, и так далее. Наташа умеренно возмущенным образом отвергла унизительные подозрения в свой адрес.
«Ты не думай, я не ревную, наоборот – мне так даже лучше! Ты же понимаешь, каково мне, замужней…» – понизив голос, фамильярничала Юлька, давая понять, что она девушка сообразительная и независтливая.
Когда он при следующей их встрече в очередной раз подкатился и затих у нее на груди, Наташа, невинно спросила:
«А что, Юльку Штейниц ты тоже водил в ювелирный магазин?»
Он оторвал голову, пронзительно посмотрел на нее и процедил:
«Юлька – дура, и тебе в подметки не годится!»
Затем снова уложил голову ей на грудь и оттуда добавил:
«Если честно, то было дело. Но с тобой у меня все по-другому. Я бы хотел на тебе жениться. Ты не представляешь, какие дела мы могли бы с тобой ворочать!»
Однажды звонок жены застал его перед тем, как они собирались лечь. Отвернувшись, он заговорил с ней ласково, по-домашнему, а в конце, понизив голос, сказал:
«Малыш, не волнуйся, я скоро буду!»
Она равнодушно исполнила свои обязанности и постаралась его поскорее выпроводить, после чего перестала бывать у него на Московском, сухо отвечала по телефону и отказывалась от встреч. В конце концов, он не выдержал и примчался к ней, требуя объяснить, в чем дело.
«Ты воркуешь по телефону с женой, а потом, как ни в чем не бывало, ложишься со мной в постель! Может, ты считаешь меня своей шлюхой?» – отступив на шаг, встала она перед ним, скрестив на груди руки.
«Но, Наташенька, солнышко мое! – растерялся поначалу он, пытаясь, видимо, вспомнить, когда это было. – Что бы и кому бы я ни говорил, знай, что для меня есть только ты! Ты же знаешь, ты же видишь – я делаю для тебя все возможное!»
И это была правда. Сразу после Парижа он сделал ее своей правой рукой, делясь с ней самыми лакомыми кусками, как если бы это был их семейный бизнес.
Он насильно завладел ее рукой, поцеловал и добавил:
«И если хочешь знать – с женой я уже давно не сплю! И уж если на то пошло, то вот тебе мое слово – я женюсь на тебе, обязательно женюсь! Ведь я люблю тебя, Наташенька, неужели ты не видишь?» – извлек он, наконец, из рукава затертый мужской козырь.
Через неделю после обещания жениться он явился к ней смущенный и рассказал о попытке объясниться с женой и как при этом неожиданно возникли истерические осложнения с дочерью, которая находится в переходном возрасте. Он попросил любимую Наташу проявить понимание и набраться терпения. Она тогда промолчала, он же взамен открыл ей доступ к новым источникам доходов, продолжая оставаться внимательным и щедрым там, где дело касалось ее настроения. Например, когда в конце мая ей должно было исполниться тридцать два, он увез ее в Париж, где перед этим тайно забронировал тот самый их номер, наивно полагая вернуть ее к неловкому и трогательному, как он считал, началу их близости. Откуда ему было знать, что вместо этого ее окатили чувства, какие неизбежно возникли бы у всякой щепетильной женщины при виде сарая, в котором ее обесчестили.
Все же, какими странными были их отношения! При всех его вроде бы твердых намерениях вместе они посещали только деловые мероприятия, не имея возможности бывать там, где их появление вызвало бы кривотолки. Например, на теннисных кортах, где он мечтал покрасоваться перед ней скороспелым аристократизмом, или в театрах и тесных компаниях. Дважды или трижды в неделю он появлялся у нее, чтобы два-три раза за вечер прилипнуть к ней и обсудить между делом нюансы бизнеса. Возмещая питерские неудобства, он часто брал ее с собой в Москву, где они могли проводить вместе ночи и бывать там, где обычно принято бывать супругам. И, разумеется, за ней были наперед забронированы все его зарубежные поездки. И хотя их насыщенные тесным общением и постелью встречи в совокупности своей создавали впечатление благополучного супружества, со стороны это выглядело так, будто он брал Наташу напрокат у ее квартиры и, попользовавшись, возвращал обратно.
И все же не сексом единым жив человек. Причины того, что она так долго сносила свое двусмысленное положение, заключались в тех горизонтах, которые он перед ней открыл. Глубины и просторы профессии – вот что удерживало ее рядом с ним, помогая сносить его пустые обещания и вызовы ее терпению. Будучи, как всякая женщина в меру консервативной, она была способна, тем не менее, поменять в себе и вокруг себя многое, если оно, по ее разумению, того стоило. Таких возможностей, как возле него она бы не имела долго, если бы имела вообще. И не потому, что они приносили деньги – в конце концов, за это она сполна расплачивалась своим телом. Но дела его могучих клиентов предполагали таких же могучих соперников, победить которых было в высшей мере почетно и радостно. Спорные суммы на кону исчислялись таким количеством нолей, что проигрыш грозил обратить в ноль не только гонорар успеха, но и репутацию. Взвесив шансы, которые в таких делах всегда подобны женщине, тщательно скрывающей беременность, следовало либо убедительно отказаться, либо взяться и потерять право на ошибку. Поначалу ей приходилось пускать в ход все профессиональные и эмоциональные ресурсы, изводя себя порой до такой степени, что праздновать победу не было сил. Никогда бы она не решилась на подобные испытания, если бы рядом с ней не находился он с его феноменальным чутьем, опытом и самообладанием.
Когда им случалось разбирать какое-то горячее дело, и он становился похож на проницательного полководца, планирующего диспозицию победного сражения, она, восхищаясь его точностью, краткостью, решительностью и рокочущей компетенцией, испытывала вместе с тем фамильярную снисходительность, вспоминая его Эдипову привычку искать у нее на груди похвалы своему мужскому достоинству.
С ним она была свободна от некоторых действий щекотливого характера. Например, помимо извлечения из клиентов законной оплаты своего труда, часто похожего на извлечение звука из поломанного инструмента, она была избавлена от подкупа судейских – обычая столь же неприятного, сколь и привычного, в котором ей виделось унылое и безнадежное свидетельство общественного бессилия. В сравнении с ним даже циничный девиз Феноменко «клиент всегда прав, даже если он не прав, при условии, что он платит», мог бы считаться верхом благородства, способным занять место на его будущем дворянском гербе.
29
Следом за масштабами ей открылась глубина.
Он заставил ее подтянуть английский и увлек в международное право. Довольно скоро она овладела шаблонами делового письма и усвоила необходимый словарный запас, чтобы вести переписку и уверенно чувствовать себя на переговорах. Пять раз она выезжала с ним в Стокгольм, чтобы ассистировать шведским партнерам на заседании Арбитражного суда, где впервые познала неподкупную, уважительную силу европейских институтов. Несмотря на их внешнюю простоту и разумность, обращение с ними требовало высочайшей квалификации, и поскольку выливалось в состязание умов, а не кошельков, то и решения, принимаемые ими, можно было по праву считать истиной в последней инстанции. Именно из-за подобных открытий она великодушно прощала ему паралич воли и свое невнятное положение. Простила даже тот отвратительный случай, что произошел однажды в марте во время их короткого летучего визита в Стокгольм.
Из-за спешности им пришлось довольствоваться непритязательным, не соответствующим их статусу отелем, где демократичные, распущенные кровати гулким стуком спинки о стенку, как деревянным кулаком сообщали о совокуплении очередной парочки.
Он, как водится, получил свое и перебрался на соседнюю кровать. Посетив ванную и смыв следы его визита, она повозилась, повздыхала и уснула. Ей приснилось, что она в непривычно короткой, не скрывающей голых бедер сорочке находится среди одетых людей. Ей стало стыдно и захотелось убежать, но ноги не подчинились, и тогда она поспешила проснуться и открыть глаза. Тлеющая темнота номера отличалась от сумрачного пространства сна тем, что в ней жил голый, смутно белеющий призрак. Она испугалась и коротко ахнула.
«Это я, это я!» – забормотал призрак голосом Феноменко, и тут она проснулась окончательно.
Подол ее сорочки забрался ей на живот, а стоявший на коленях Феноменко оглаживал ее раздвинутые бедра. Как и когда он там оказался?! Рывком подтянув сорочку к подмышкам, он обнажил ее грудь и принялся месить короткими, твердыми пальцами.
«Леша, ты что, с ума сошел?! Что ты делаешь?!» – возмутилась она, отказываясь принимать сюрреализм происходящего.
«Иди ко мне, мое солнышко, иди скорей…» – навалившись на нее, пытался он целовать ее лицо.
Она растерялась, но вдруг мутная злоба затмила ей белый, если так можно выразиться ночью, свет. Вместо того чтобы уступить, она уперлась руками ему в грудь и принялась выворачиваться.
«Не хочу, не трогай меня, уйди, дурак!» – шипела она, пытаясь бороться, но он, утвердившись на ней неповоротливым бревном, по-жабьи раскинул жирные ляжки и подмял ее под себя, лишив возможности барахтаться. Тогда она впилась ногтями ему в спину. Глухо зарычав, он поймал и стиснул, словно клещами ее руки, рывком завел их ей за голову и придавил всем телом, как горой.
«Уйди, гад, уйди!..» – мотала она головой, спасаясь от его кислых торопливых поцелуев. Ему пришлось освободить руку, чтобы помочь своему уродливому, каменному снайперу поймать трепещущую цель. Она воспользовалась этим и, стиснув зубы, принялась свободной рукой таскать его за волосы, пока он, справившись, не вернул ее на место, после чего принялся продираться в ее глубины. К ее злобе прибавилась сухая боль. Она задергала ногами и запрокинула голову: «Пусти, пусти, гад, бо-ольно-о-о!..», но он грубо и безжалостно заполнил ее своим тугим безразмерным нетерпением и сначала медленно, а затем все быстрее задвигался на ней.
«Гад, гад, урод!» – сотрясаемая его напором, выталкивала она из себя в темноту.
Кровать набрала ход и застучала о стенку, как поезд на стыках. С ужасом обнаружив свое полное бессилие, страдая от боли и унижения, она заплакала.
«Гад, гад, урод, тварь!» – давилась она словами и слезами.
Деревянный поезд, разогнавшись и равномерно постукивая, бежал в ночи среди молчаливых неоновых бликов, и вскоре тугое чавканье громко и некрасиво оповестило мир о предательской неразборчивости ее арфы, готовой, как оказалось, распевать в любых руках. Умирая от стыда и отвращения, она залилась слезами, подвывая тоненько, по-детски.
Похожий на уродливую пыхтящую жабу, ее благообразный любовник обратился в бездушную маслобойку. Он сопел, пыхтел, потел, неутомимо и размашисто гоняя туда-сюда свой набухший масляный поршень. Его одержимое усердие передалось кровати, и та, скрипя коленями и раскачиваясь, словно в трансе, обнаружила в его занятии неожиданный смысл, который извращенный наблюдатель вполне мог понять, как эстетическое резюме некоего перформанса, где голый пациент сумасшедшего дома, для которого женское тело – всего-навсего эластичная муфта, превращает кровать в метроном, предлагая уловить в его гулком, бездушном монологе отзвук космических ритмов.
Она вдруг сдалась и ослабела. Зажатая между пирсом кровати и грузной баржей его тела, она колыхалась, словно попавшая в плен волна, отзываясь сырым шлепаньем и издавая тот безвольный, безродный звук, который получается, если к искусственному дыханию добавить мычащую жалобу. Неожиданно что-то мутное, уродливое и незаконное взорвалось у нее в паху и растеклось по телу с горячим стыдом и отвращением. Голова ее запрокинулась, глаза закатились, сознание помутилось, и первобытный утробный стон расправил горло. Ее мучитель перехватил и проглотил его, словно возбуждающую таблетку, после чего запрыгал на ней с еще большим остервенением.
Оглушенная взрывом, сраженная тупой покорностью, она различала густое некрасивое чавканье ее лона, куда она вопреки своей воле добавила зычный и сочный подголосок. Ей чудилось, что пот, которым обливался ее насильник, скапливается у нее в паху, и оттуда, щекоча промежность, стекает на постель. В сыром шлепанье ей слышались мокрые дьявольские аплодисменты, брызги от которых летели во все стороны. Ей казалось, что еще немного, и она сойдет с ума!
Ее закинутые за голову руки находились в его распоряжении, и он принялся ползать по ним пляшущим ртом, оставляя на нежной сливочной коже болезненный щекочущий след. Спустившись к ее подмышке, он широким влажным языком принялся лизать пряную складку, едва не доведя ее дрожащую руку до конвульсии.
«Ну, не на-а-адо!..» – дергая рукой, простонала она, не узнавая свой сдавленный жалобой голос.
Он отстал и еще сильнее навалился на нее.
«Тяжело…» – произнесла она тем же придушенным голосом.
Тогда он, не снимая с ее запястий наручники железных пальцев, напряг руки, сгорбился и освободил ее грудь, после чего, неловко изгибаясь, принялся гоняться за ней, стараясь совместить в прицеле жадного рта тяжелый ритм маслобойки и норовистые соски.
«Хватит, хватит, не могу больше, не могу, не хочу-у-у!» – вдруг простонала она и вновь принялась выворачиваться, чувствуя, как из-за боли в быстро и зверски покусанных сосках, из-за сдавленных запястий, из-за тупого головокружительного ритма и стесненного дыхания у нее вот-вот начнется бурная истерика, которая даст ей нечеловеческие силы и пустит под откос проклятый поезд.
Он не послушался, а напротив, обрушился на нее и, сдавленным уханьем заглушая ее прерывистые жалобные стенания, принялся размашисто насиловать, терзая ее разбухшим до предсмертных размеров зверем, с каждым погружением приближавшимся к разрушительному апофеозу. Неизвестно, что с ней случилось бы, если бы не чутье ее муфты сцепления, которая по одним только ей известным признакам подсказала о приближении конечной станции, смирив тем самым ее порыв.
И действительно: в движении локомотива наметилось суетливое беспокойство, и вместо того чтобы тормозить, он добавил жару. Сигналя о своем приближении частыми «а-а-а» пассажирки и собачьим дыханием машиниста, поезд влетел на станцию, сбросил ход и, потряхиваемый стрелками, пополз к перрону, где долго и жалобно освобождался от судорог, прежде чем затихнуть окончательно…
Ощутив слабину, она напряглась и, изловчившись, одним толчком рук и всего тела, скинула с себя гнусную жабу. Он неловко свалился на спину, не удержался на краю узкой кровати и сорвался туда, где его ждал глухой короткий стук. Она кинулась в ванную.
Закрывшись там, она с плачем принялась вымывать из себя его свинство. Дважды намылилась и смыла его гадкий пот, и потом еще долго стояла под душем, пытаясь успокоиться. Вернувшись в комнату, она бросилась на кровать, завернулась в одеяло и разрыдалась в подушку.
Он встал на колени у ее кровати – голый, липкий, волосатый – и принялся успокаивать:
«Наташенька, ну посмотри на меня! Ну, успокойся!»
Она резко повернула к нему лицо и выкрикнула:
«Сволочь! Грязное, мерзкое животное!» – после чего спрятала лицо в подушку.
Он смутился и попытался через одеяло погладить ее.
«Не трогай меня, грязная свинья!» – рыдала она.
Он обиделся и удалился в ванную. Вернувшись, забрался в свою кровать, и через несколько минут она услышала его сонное сопение.
Она еще долго лежала с открытыми глазами, горестным шмыганьем подытоживая унизительный урон и спотыкаясь о немигающие неоновые отсветы на потолке, которые подглядывали за ней подобно государственным интересам.
«Шлюха, подстилка, содержанка, так тебе и надо!» – изводила она себя, прислушиваясь к саднящему нытью остывающей дырки, которую ей прожгли между ног. Перед тем как провалиться в скорбный сон, доля неуместного любопытства, всегда присутствующая во всяком горе, вернула ее к тому незнакомому, мутному и уродливому, как лопнувший нарыв извержению, чья лава, словно гной растеклась по ней с горячим стыдом и отвращением.
«О, господи, неужели это и есть ваш хваленый оргазм? Тогда лучше избавьте меня от него…» – простонала она.
На ее счастье они уезжали в тот же день, иначе невозможно представить, как бы она провела с ним еще одну ночь. Все время, пока они добирались до Питера, она не глядела на него и молчала, отвечая только в крайних случаях и в сторону. Она даже не предъявила ему синяки на запястьях. В аэропорту она, не обращая внимания на его заплечные уговоры, взяла такси и уехала.
Целый месяц она не появлялась у него в бюро, сбрасывая звонки, которыми он ее изводил, и говоря ему через дверь, чтобы он убирался прочь. Немного потоптавшись, он так и делал, после чего подсылал к ней на работу Юльку. Та говорила Наташе, что ей лично все равно, что у них там случилось, но, между прочим, на шефа страшно смотреть и он даже начал пить, на что Наташа отвечала: «Да пусть он хоть сдохнет!»
Через месяц она подумала:
«А что, собственно, случилось? Девочка оказалась не в настроении? Девочке показалось, что она уже большая и важная? Хватит дурить – сама виновата! Надо было не выкобениваться, а расслабиться и получить удовольствие!»
И еще она спросила себя, откуда родом эта внезапная злоба, что помутила ее разум. Ответ здесь был слишком очевиден: он позволил себе оскорбительную бесцеремонность, которая поставила ее в один ряд с проститутками, тогда как она в порыве самобичевания если и относила себя к таковым, тем не менее, ревностно следила за переносным смыслом этого слова.
На следующий день она ответила на его звонок и, поводив на крючке еще две недели, приняла его. Переступив порог, он взглянул на нее, и в глазах его обнаружилось новое для нее собачье унижение. Он явился со своим чертовым «Шато Марго», цветами и небольшой черной коробочкой.
«Неужели кольцо?» – подумала она. Но нет, там оказалась роскошная бриллиантовая подвеска.
«Что это?» – разочарованно спросила она.
«Мои глубочайшие извинения…» – склонился он.
«И сколько они стоят?»
«Зачем тебе, Наташенька?»
«Хочу знать, сколько стоит меня изнасиловать!»
«Но Наташенька!..» – умоляюще склонился он, и далее последовали оправдания, которые скопились у него за полтора месяца. В тот вечер он был воздушно нежен и до смешного робок, опасаясь и избегая ее малейшего неудовольствия.
Уже потом, когда история эта приобрела все признаки досадного недоразумения, он мечтательно делился с ней в темноте:
«Знаешь, Наташка, когда в соседнем номере застучала в стенку кровать, я проснулся и страшно возбудился! Ничего не мог с собой поделать! А когда ты стала сопротивляться, вообще озверел! Никогда в жизни не испытывал такого кайфа! Ты вот обиделась, а между прочим тебе ведь тоже было хорошо, я знаю – ты никогда раньше ТАК не стонала!»
Из чего она сделала нерадостный вывод, что теперь он едва ли удержится от насилия, подвернись ему удобный случай. Однако куда неприятней было обнаружить, что с некоторых пор она и сама была не прочь (господи, прости и помилуй!) быть изнасилованной. Со священным ужасом внимая своему постыдному желанию, она, тем не менее, видела в его исполнении единственный способ вновь испытать то унизительное, резкое и болезненное, что вспыхнуло у нее тогда в паху и царапающим стеклом растеклось по телу.
«Что делать, – терзалась она, – видно, именно так приходит ко мне этот проклятый оргазм, и к нему, как к тесной обуви надо только привыкнуть…»
Несколько раз после их примирения она, стыдясь и превозмогая себя, соединяла соблазн с запретом, как сладкое с горьким, отчего он и вправду набрасывался на нее, а она манерно, громко и слишком старательно сопротивлялась. Только все напрасно – добиться оргазма даже в том изуродованном, оболганном виде, в котором он предстал ей в Швеции, уже не удавалось.
В остальное же время она предпочитала ублажать его, сидя на нем верхом. Изводя любовника методичным и расчетливым волнением бедер, она с усмешкой наблюдала за игрой его перекошенного лица.
«Какое глупое у него лицо, когда он занят по-настоящему серьезным делом!» – весело думала она.
Неудивительно, что после их воссоединения на нее пролился финансовый дождь…
Время шло, укрепляя ее профессиональный опыт, а заодно обостряя углы личной жизни и увеличивая перекосы душевного равновесия. По-прежнему одинокие выходные, словно гулкие двери, захлопывались за очередной бесплодной неделей, а праздники обостряли одиночество. Без него она встретила две тысячи шестой и две тысячи седьмой, пока не убедившись в его несостоятельности, не взбунтовалась и в октябре две тысячи седьмого не хлопнула дверью его кабинета.
За неделю до разрыва состоялась их обычная встреча, привычно наполненная его урчащим чавкающим упоением, о котором он еще не знал, что оно последнее, и не знала она, пока вдруг не очнулась и не удивилась: «Что этот чужой голый человек делает на мне?»
«Хватит, попользовался!» – таким был ее вердикт, хотя на вопрос, кто кем попользовался он, скорее всего, ответил бы по-своему.
«А разве я не стою потраченных на меня денег?» – взметнула бы она бровь, ответь он иначе.
30
Вот так они с Юркой Долгих и очутились в литерном поезде, что привечал тех, кто имел дерзость и удачу выскочить из зеленых, а то и вовсе товарных вагонов, где как и сто лет назад по-прежнему «плакали и пели». Заняв места согласно состоянию банковских счетов, они обрели беспрепятственное счастье ублажать отложенные прихоти и наблюдать через окно за лишенными державной опеки плацкартными людишками, которые, созрев до состояния молочно-восковой смелости и с долларовым эквивалентом вместо сердца, метались по перрону, напоминая растерянных, отпущенных на все четыре стороны рабов. «Пусть увезет нас розовый вагончик в подушках голубых…» Но куда? Этого тогда не знал сам начальник станции.
Трудно сказать, имели бы они то, что имеют, если бы не тот, теперь уже определенно исторического значения телефонный звонок семнадцатилетней давности. Последовавший за этим совместный бизнес не разрушил, как часто бывает, их отношения, а, напротив, скрепил до дефицитного состояния. Однажды сойдясь, их жизненные пути двигались с тех пор с дружеской параллельностью. Возможно, они виделись не так часто, как им хотелось, зато исправно звонили друг другу, продолжительностью и разнообразием разговоров не уступая женщинам.
Пожалуй, самой большой их удачей после девяностого года стала операция по выводу денег на зарубежные счета накануне дефолта. Юрка, работавший тогда в банке, оказался у истоков тревожных слухов о том, что банки катастрофически теряют ликвидность. Не задумываясь, они за месяц до событий вывели средства из страны, оставив здесь самую малость, как оставляют арьергард прикрывать отход основных сил. И верно: после известных событий два из трех банков, в которых они держали счета, рухнули в одночасье. Дефолт, словно шило грубо и цинично проткнул воздушный шар безмятежных упований, поделив игроков на безвинно пострадавших и потирающих руки.
Они посетили Швецию и, подрядив там финансовую компанию для работы на Лондонской бирже, в сентябре девяносто восьмого частью средств вошли в рынок. С этого момента и начались их настоящие финансовые приключения – захватывающие, страстные и плодотворные. Иначе и быть не могло с людьми, имеющими за плечами финэк и свободные средства. Разве своим метафизическим обаянием финансовый рынок может сравниться с пошлой коммерцией – уделом грубых волосатых типов? Между ними разница, как между африканским шаманом и одесским шарлатаном.
Их мозговые штурмы количеством выкуренных сигарет и выпитого кофе равнялись усилиям среднестатистического офиса и привели, в конце концов, к более-менее доходной модели поведения, положившей в основание их действий чутье и умеренность. Финансовый рынок с его неровным настроением, в основе которого лежат истеричные ожидания, любит людей расчетливых, терпеливых, способных мгновенным выпадом взять добычу и укрыть надежным образом. Словом, людей-пауков.
И вот теперь, судя по всему, настал классический момент выбирать между большой жадностью и великим страхом. Момент, которого на рынке ждут годами, и который приходит тихо и незаметно, также как и уходит, наслаждаясь растерянностью незадачливых игроков. Следовало либо принять сторону умеренности и благоразумия и решительно сокращать позиции, заведомо мирясь с упущенной выгодой, которую могли бы принести остатки роста, либо, забыв обо всем на свете, раствориться в мониторе, следуя за змеиной непредсказуемостью пятиминутного графика цены и держа палец на enter, как на спусковом крючке. Иначе говоря, либо выйти из рынка со словами «всякое даяние есть благодеяние» и предаться честно заработанным удовольствиям, либо день напролет ловить, как говорят в этой среде, пипсы, отыскивая в малейшем движении рынка подобие прежнего опыта и чувствуя себя после торгов в очередной раз обманутым. И это притом, что никакой пользы обществу в таких геморроидальных посиделках нет.
Так, в общем и целом, выглядят здесь позиции двух основных типов игроков, посвятивших фондовому рынку свою жизнь и полагающих, что он создан богом для того, чтобы наполнить чистый азарт казино общественно полезным содержанием, и что он, якобы, также отличается от рулетки, как любовь от похоти.
На самом деле рынок, как и все неодушевленное, холоден и бесстрастен, и волнительная суть его происходит от темперамента и одержимости игроков. У человека уравновешенного, например, она растворена в повседневных заботах или даже вовсе отсутствует. «Рынок не женщина, он не заслуживает волнения. Волнение – это непрофессионально. Оставим волнение шортилкам» – вот максимы, которым по мере сил следовал наш герой. И если нам приходится говорить здесь о рынке так подробно, то лишь затем, чтобы дать представление, какого сорта поприще выбрал Д.К.Максимов, чтобы обеспечивать себя законными средствами к существованию.
Отстраняясь от материальной стороны, следует заметить, что имея способность извлекать пользу из хаоса, он управлял своей судьбой, как своим инвестиционным портфелем. Избегая организации какого-либо дела, на что он, безусловно, был способен, но которое возложило бы на него обязательства в отношении третьих лиц, он, сам того не ведая, следовал стихийному эпикурейству, которым природа наделяет людей свободных и независимых. С этим он и жил последние десять лет, множа средства, далеко превосходящие его скромные потребности, меняя женщин и постепенно теряя вкус к российским реалиям. Возможно, он мог быть богаче, мог быть счастливее, любопытнее, полезнее, наконец, если бы предался чему-то одному…
– Юрка, черт! Как же давно мы не виделись! – обнимая, приветствовал он друга, который неожиданно позвонил, а потом явился к нему через два часа после его свидания с Наташей.
– Вера Васильевна, голубушка! – тут же налетел Юрка на хозяйку. – Как я рад вас видеть! Вы, как всегда, лучше всех!
– Ах, Юрочка! А ты как всегда любезен! – отвечала довольная хозяйка.
Юрка относился к тому счастливому типу людей, что при полном отсутствии слуха напевают, даже справляя нужду. И пусть в его лице не было складности, но симпатией к нему проникался всякий, с кем он пообщался хотя бы пару минут. Его гостеприимная улыбка напоминала широко распахнутую дверь в покои души. Был он добр, трудолюбив, покладист, любил жену, пятнадцатилетнего сына и десятилетнюю дочь и был предметом тещиной гордости.
Они прошли на кухню и огласили ее гулкими восклицаниями, разглядывая друг друга со скупой мужской нежностью, от которой, кажется, озарилась темно-вишневая кухонная мебель. Сумбурные слова их были размашисты и фамильярны, как крепкие похлопывания по плечу. Среди прочего Юрка поинтересовался, как поживает Ирина.
– Расстались они, Юрочка, расстались! – заторопилась Вера Васильевна, собирая на стол.
– Да вы что! – округлил Юрка глаза в ее сторону.
– Да, да! – подтвердила мать. – Уже две недели как! У него теперь другая!
Дмитрий, глядя на Юрку, с удовольствием улыбался – он соскучился по другу. Ему вдруг нестерпимо захотелось рассказать о НЕЙ и о том, что с ним творится последние три дня.
Вера Васильевна окинула взглядом крепкий стол вишневого дерева, убедилась, что ничего не забыла и ушла, оставив их созерцать замшевую шероховатость буженины, лоснящиеся лацканы голландского сыра, маслины, похожие на черное пламя цыганских очей, влажную желтизну масленки, розово-кораллово-радужные рыбьи слайды, хлеб, грубоватый и набухший, как щеки негра, ровные и сочные ломтики лимона, совершенные и очевидные, будто подсказка природы изобретателю колеса, жаркие краски жареных овощей и густую маслянистую ипостась тертой свеклы. Оказывается, порой даже холодильник способен согреть сердца.
Сервиз из дюжины предметов распоряжался здесь. Всё фарфоровое, синей глазури, тонкое, с золотыми ободками и хрупким нежным звуком на мягких белых салфетках. Дмитрий встал, принес и водрузил на стол сплющенный флакон Frapin.
– Да, Димыч, удивил ты меня! А я-то думал у вас дело к свадьбе идет! – не желал успокаиваться Юрка.
– Ладно, Юрка, хватит об этом. Как сказал не то Киссинджер, не то Сэлинджер, не то Боллинджер – есть вещи поважнее, чем мир. У тебя-то все нормально?
– А что у меня может быть? Семья здорова, машина на ходу, коньяк пока еще продают!
– Ну, вот за это и выпьем!
За это и выпили. И даже закусили, взбодрив безвольные листочки рыбы лимоном и присоединив к ним свеклу, овощи и хлеб. Хозяин закурил и откинулся на спинку стула.
– Что думаешь насчет рынка?
Завязалась солидная деловая беседа о том, как поладить с большой жадностью и великим страхом так, чтобы все остались довольны.
– А что твои аналитики говорят? – помимо всего прочего спросил Дмитрий.
– А что аналитики? Все перегрето, говорят. Так это и без них видно. Но ведь кто-то умело спускает пар и гонит выше! Как будто хотят всех на хаях накормить, а потом разом обвалить! Вопрос лишь времени. Хотя, раньше пендосов, думаю, падать не будем…
– Ты знаешь, – продолжил Дмитрий, – оглядываясь назад, так и хочется сказать, что лучшая стратегия – это ничего не делать. Купить и забыть. Я вот завидую простым акционерам, которые знать не знают о всяких там интернет-трейдингах, теханализах, гэпах и сквизах, а просто через несколько лет обнаруживают, что их акции при всех взлетах и падениях стоят в десять раз дороже! Выходит, лучшая стратегия – ничего не делать!
– Так-то оно так, только ведь рано или поздно падать все равно придется, и не меньше, чем на пятьдесят процентов в лучшем случае, и тогда все заработанное непосильным трудом, если заранее не продать, обратится в прах…
– Ну, не в прах, конечно…
– Извини, разница между двумя и одним лимоном как-никак существенная!
– Согласен. Надеюсь, если это и случится, то не завтра…
– Как знать! Завтра какой-нибудь чудак на самолете опять в небоскреб въедет – тут тебе сразу и крах, и прах!
– А вот тут я с тобой не соглашусь! Я одиннадцатого сентября как раз был в торговом зале. Как сейчас помню, дело было где-то около пяти вечера. Все тихо, спокойно, на экране «Райка» (РАО ЕЭС) еле шевелится, цена, кажется, три двадцать пять. И вдруг разом на три! Ты представляешь? Никто ничего понять не может – это что, сбой системы или война? Покупать? Продавать? Потом новости появились. Все в шоке, цена около трех! Вчера о такой мечтать не могли, а сегодня бери – не хочу! В общем, пока все суетились, цена к концу торгов – а заканчивали тогда, кажется, полшестого – на три шестнадцать отскочила! Утром все обвала ждали, и правда – открылись с гэпом вниз. А потом гэп по-быстрому закрыли, и три рубля за «Раю» мы уже никогда не видели. Вот тебе и чудак на самолете…
– Интересно, а где же я был в тот момент?.. – заведя глаза, спросил Юрка потолок и по кривым туманным дорожкам памяти пустился на поиски нужной страницы.
Удивительное это занятие – искать себя в прошлом. Увлекательное и бесплодное одновременно. Вопреки тому, что страницы памяти пронумерованы, найти там нужную практически невозможно, если она не осенена каким-либо примечательным событием. Спросите себя, что вы делали, к примеру, шестнадцатого июня две тысячи второго года. Наверное, был (была) на работе – возможно, ответите вы. А чем занимались? Тем же, чем и сегодня – стоял (стояла) за прилавком. А чем торговали? Вот этого не помню, ассортимент меняется быстро, могу только предположить. А лица покупателей того дня помните? Определенно нет. А о чем вы говорили в тот день? О чем думали? Что было на ужин? По телевизору? Ночью? И так далее. Страницы между яркими событиями слиплись, и лишь мечется на месте происшествия ваша тень, пытаясь опознать себя в раздавленной днями личности. И вдруг наполнится светом и окажется за праздничным столом рядом с любимым человеком или увидит себя поникшей, цепляющейся взглядом за спину уходящей любви. Вот он, например, прекрасно помнит, что с ним случилось шестнадцатого июня две тысячи второго года…
31
…В тот день утром он ехал на машине в сторону центра и в районе метро «Фрунзенская» заметил девушку, пританцовывающую в нетерпеливых попытках остановить авто. Он, не раздумывая, остановился, и не столько от того, что был на тот момент свободен во всех отношениях, а из-за возникшего вдруг опасения, что такую культурную и порядочную на вид девушку может подобрать какой-нибудь каналья и негодяй. Было очевидно, что его шикарная по тем временам БМВ 530, купленная им за полгода до того, произвела впечатление на девушку. Она недоверчиво приблизилась, нагнулась, через опущенное стекло быстро оценила его, решилась и назвала Петроградский район, что был далеко в стороне от его интересов. «Садитесь!» – пригласил он. Она впорхнула, гибкая, душистая, слегка возбужденная, и замечательным питерским говорком объявила: «Ах, как мне повезло! Никогда еще не ездила в такой роскошной машине!» «Наслаждайтесь!» – улыбнулся он. Помнится, когда поехали, он спросил, отчего она так беспечна и неосторожна, что готова сесть к кому угодно. Нет, нет, добавил он, речь идет не о нем, а о темных личностях с отвратительными наклонностями, которых, к сожалению, полно на дорогах в наше время. Она ответила, что, во-первых, торопится, а во-вторых, садится далеко не к каждому. Вот в нем она сразу разглядела порядочного человека. Он тогда еще хмыкнул и сказал, что внешность обманчива. На ней в то утро были джинсы и легкая трикотажная кофточка в темную полосочку на бежевом фоне. Она скромно вжалась в кресло и, сведя коленки, сидела так, лишь поворачивая к нему лицо, когда он ее о чем-то спрашивал или чтобы ответить ему.
Это была та самая Раечка Лехман, с которой он провел следующие два года, пока с великой грустью с ней не расстался. Черные глазищи, тонкий с едва заметной горбинкой нос и крупные пунцовые губы с губительным изяществом соединились у нее в неотразимый союз, родив ту утонченную восточную красоту, что мрачно пылает на полотнах Врубеля. В свои двадцать восемь она была врачом и в то утро опаздывала на сборище эскулапов в Первом Медицинском. По дороге он имел возможность убедиться в ее легком, слегка язвительном уме, правильной образной речи и гибких ненавязчивых суждениях. Когда они добрались, и она полезла за деньгами, он остановил ее и спросил, не желает ли она сегодня вечером с ним поужинать. Ничуть не жеманясь, она ответила, что сегодня занята, но завтра такое точно возможно. Поскольку трубки она на тот момент не имела, то оставила ему в знак расположения свой рабочий телефон. Он же, в свою очередь, записал и вручил ей номер своего мобильного.
На следующий день они поужинали в ресторане на Невском, после чего он проводил ее до дома на Московском, где она жила с родителями после развода. Почти каждый вечер в течение трех недель он заезжал за ней и ждал во дворе, когда она спустится, и они отправятся ужинать. Иногда во время ожидания в одном из окон ее квартиры шевелилась и слегка отходила в сторону белая занавеска. Когда они возвращались поздно, то смотрели на ее окна, и если свет, слабый соперник белой ночи, горел в них, она говорила: «Родители еще не спят…»
За это время они много узнали друг о друге и в отстраненном магнетическом общении находили, кажется, больше удовольствия, чем в скоропалительной телесной близости, которую не спешили испробовать. Ни в одной женщине он не находил раньше такого сочувственного, искреннего отклика своим мыслям, наблюдениям, убеждениям и предубеждениям, то есть, тому нагромождению личных истин, что скапливаясь и не имея движения в чью-либо сторону, тяготят и мешают, словно зубная боль.
Например, он говорил, что за последние пятнадцать лет у нас произошла подмена литературы прошлого макулатурой будущего. Что коммерция не оживила литературу, как кое-кто надеялся, а напротив, сделала из нее выгребную яму, над которой жужжат бесталанные мухи. Мало того, что нынешние тексты в большинстве своем похабны и неаппетитны, они к тому же напыщенны и безмозглы.
Да, соглашалась она, но что могло бы заставить нынешних писателей писать достойные вещи, а широкую публику их читать? Возможно, полное и решительное исчезновение электричества. Но поскольку такая возможность в обозримом будущем исключена, придется либо смириться, либо искать отрады в классике.
Нет, конечно, попадаются старательные и добросовестные, говорил он, которые пытаются следовать канонам, а не разрушать их варварским образом. Пишут они хорошо, грамотно, но слишком правильно, как пишет человек, раз и навсегда привязанный к привычным значениям слов. И от этого их мир плоский и бесцветный. Текстом должна править извлеченная из жизни сущность. Иначе это не литература, а деревенские посиделки под лозунгом «А вот еще был случай…»
И это тем более досадно, подхватывала она, что целью всякого искусства является когнитивное редактирование действительности.
Да, соглашался он, неотредактированная действительность невразумительна и неэстетична. Тем более, когда материал, взятый из жизни, возвращается ей в извращенном виде.
Про эстраду и говорить нечего, продолжал возмущаться он. Эти кошачьи голоса, эти силиконовые песни!
А самое печальное, подхватывала она, что для того, чтобы привлечь внимание к классике, ее облачают в шутовские шоу-наряды!
Есть все же тайна в отзвуках горного эха, от которого тает и светлеет душа. Ведь эхо – это отзыв параллельного мира…
Через три недели он привез ее в свою, свободную от родителей квартиру, и она просто и без ужимок легла с ним в постель, доставив ему наслаждение не столько бурное, сколько нежное. Тело ее, складное и гибкое, отличалось умеренной худобой, отчего обнаженная она напоминала подростка на пороге набухания. Природная бледность ее лица проступала даже тогда, когда питерская бледность сменялась у нее легким загаром. Черные, волнистые, разделенные на обе стороны и схваченные в узел волосы, как воплощение ее уравновешенной нервности, наполовину закрывали ушки (единственное розовое подтверждение ее не королевского происхождения), оставляя на обозрение совсем маленькие мочки, которые она из-за невозможности сдать в аренду крупным серьгам, уступила крошечным сережкам. Он любил подшучивать над их розовой ломкой миниатюрностью, играя с ними губами и покусывая. У нее были узкие бедра и маленькая грудь. Возможно, она стеснялась отсутствия у себя весомых признаков женственности, однако он находил, что ее прелести выглядят очень утонченно и трогательно, и убедительно пользовался ими, когда наступало время.
Не ревнуя ее к прошлому, он никогда не спрашивал, каков был ее муж и почему они разошлись, но про себя заметил, что дело, скорее всего, было не в постели, поскольку вела она себя там совершенно нормальным образом, если понимать под этим следы от вонзаемых в него с глухим стоном ногтей. Наверное, постель для нее оставалась единственным местом, где человеческое тело, будучи для всякого врача вместилищем скорбей и болезней, способно было приятно удивлять. Она никогда не преувеличивала свою страсть, обходясь без картинных стонов, каким следуют многие женщины, отпуская поводья и пришпоривая бока невостребованной стыдливости. Стоны, рвущиеся наружу, она умудрялась загонять вглубь.
Они встречались около двух лет, и рядом с ней он чувствовал себя словно утомленный путник, дорвавшийся до горячей ванны и чистой постели. Их союз больше тяготел к области душевной, чем телесной. Иными словами, друзьями они были больше, чем любовниками, если такое возможно представить. Она понимала его с полуслова и он, ловя ответное эхо своих мыслей и чувств, каждый раз испытывал тихую благодать. Все его наблюдения, представления, убеждения и предубеждения, выглядевшие мертвыми и ненужными, были ею востребованы, опознаны и признаны живыми, а сам он предстал миру, как непонятый интеллектуал и гуманист. При этом он даже не заметил, как она заразила его благополучие вирусами сомнения и недовольства.
По ее мнению страна, в которой он родился, вырос и жил есть не что иное, как общепризнанный в свободном мире заповедник беззакония и безнравственности, где правят толстомордые чиновники и развязные, нецензурные, с лающими голосами и повадками шакалов люди. Из них одни думают, что лишний миллион долларов обеспечит им свободу и безопасность, другие живут здесь, пока крутится их бизнес. Придет время, и, доведя страну до ручки, сбегут и те, и другие. Вместо благополучия страну осчастливили рекламой, и неон теперь – солнце нового Хама. Власть вопреки демократии строится по царскому велению, по своему хотению, оппозиция же страдает хроническим самолюбием и аллергией на всякую власть. Удручает неисправимое безразличие населения, не имеющего ни малейшего представления о зажиточной, уважительной жизни. Никого не волнует, как привить к бедности достоинство, а к богатству ответственность. Особенно ей противно видеть, как на глазах разлагается ее поколение, лишенное собственной истории и прямиком идущее в лакейское будущее.
Много чего еще внушала ему Раечка Лехман, прижавшись к нему белым девчоночьим телом, и длинной узкой ладошкой приглаживая его умеренную пухлость, которой была лишена сама. Разумеется, для него ее высказывания не были откровением, но имея обо всем общее и не особо кусачее представление, он смотрел на это просто, привычно, по-русски, не чувствуя, что живет на вулкане. Так продолжалось до тех пор, пока он не стал замечать в ней новые для себя рассеянность, задумчивость и даже невнимание. Где-то за месяц до их последней встречи она, находясь с ним в постели, неожиданно объявила, что уезжает в Израиль. Насовсем. Он всполошился, забросал ее вопросами и окатил обидой – почему она не сказала ему раньше? «А что бы это изменило? – спросила она. – Ведь ты все равно не женишься на мне. Ведь, не женишься? А если даже женишься, я все равно не смогу здесь больше жить, а ты со мной в Израиль не поедешь. Ведь, не поедешь, правда? Вот видишь!»
Но почему так вдруг? Почему не посоветовалась с ним раньше? Или он для нее ничего уже не значит?
Конечно, значит! Еще как значит! Он ей по-настоящему дорог, и вовсе не из-за денег! Но ведь он не поедет с ней в Израиль! Ведь, не поедет, правда? А зря. Они могли бы оттуда перебраться в Штаты или в любую другую страну!
«Раечка! – мялся он. – Но я не готов вот так сразу!»
«Вот видишь! – отвечала она. – А я готова…»
Она выждала, когда улягутся его беспомощные стенания и сказала:
«Знаешь, страна большая, и мне ее не вылечить. Ну, и ладно: хотите болеть – болейте на здоровье. Но я врач и моя область – медицина. А ты не представляешь, что творится в вашей (она сказала «в вашей», словно отряхивала прах со своих ног) медицине, ты просто не представляешь! Гиппократ в гробу переворачивается! Какая там клятва, какой гуманизм, какая этика! Террариум единомышленников, вот как это теперь называется! Опытные врачи работают на износ на нескольких работах, выматывая себя и тихо ненавидя пациентов и коллег. Молодежь неграмотна, лжива и корыстна. Я недавно спросила одного педиатра, которого знаю с института, зачем он им стал. Знаешь, что он мне ответил? «Любая мать за своего ребенка последнее отдаст!» Как тебе это нравится? А что творится в стационарах! Стало обычным делом, когда больные умирают от неправильного лечения, а врачи вырывают из истории болезни листы с ошибочным диагнозом и назначениями и заменяют их правильными. Кроме того, бессовестному врачу ничего не стоит подставить медсестер и свалить вину на них. Знаешь, до чего дошло? Медсестры тайком фотографируют историю болезни, чтобы предъявить, если их привлекут. И ты хочешь, чтобы я во всем этом участвовала? Нет уж, уволь! Ты скажешь: плевать, делай свое дело и не обращай ни на кого внимания! Если бы это была эпидемия чумы, я бы так и делала. Но здесь эпидемия другого сорта, и рано или поздно меня подставят или выживут! Оно мне надо?»
Раньше она редко рассказывала ему о том, чем занимается, обходясь научно-популярной версией своего ремесла, и сейчас, обычно сдержанная, она разволновалась до красных пятен на лице. Он попробовал ее успокоить, для чего ему пришлось крепко прижать ее к себе и опечатать рот поцелуем. Она ослабла, а освободившись через некоторое время, сказала:
«Не хочу больше об этом говорить. Все. Решено. А ты, чем меня слушать, лучше возьми еще раз, как ты умеешь. Кто знает, сколько нам осталось. Никогда и ни с кем мне не было так хорошо и спокойно! Я уеду, и буду там долго плакать по ночам, поверь мне. Но если я останусь здесь, я сойду с ума!»
На прощанье она сказала:
«Если захочешь приехать, дай мне знать, я все устрою…»
Сначала он хотел. Целый месяц хотел и говорил ей об этом по телефону каждый день. Затем желание стало худеть, пока не обратилось в тень, а потом и вовсе исчезло. Тем не менее, он еще долго продолжал ей звонить, уже как друг, радуясь, что она там устроилась, и грустно вспоминая их согласное и радостное житье. Через год она вышла замуж и уехала в Штаты…
32
– Ну, хоть убей, не могу вспомнить! – сообщил Юрка, шлепая себя ладонью по лбу.
– Вот за это и выпьем! – взялся Дмитрий за рюмку, которая догнала его размашисто запрокинутую голову и влила в нее содержимое. Не закусывая, закурил и тоном, от которого невозможно было не насторожиться, продолжил: – Послушай, что я тебе скажу…
Юрка невольно уставился на друга. Тот выдержал многозначительную паузу.
– Задумал я тут резиденцию поменять…
– В смысле?
– А взять и уехать отсюда к чертовой матери!
– Ну, ты даешь! А чего вдруг?
– Надоело!
– Ничего не понимаю! Может, случилось что? – Юрка взял сигарету и закурил, что делал крайне редко. Дмитрий, напротив, затушил свою.
– Как бы тебе объяснить… Ну, понимаешь – как-то все здесь пакостно становится. Зреет стойкое ощущение, что все здесь идет не так, а изменить невозможно. Остается только от этого сбежать…
– Может, ты и прав, да только кому мы там нужны?
– Это здесь мы никому не нужны, а там очень даже нужны! – ответил он, не переставая жевать. – Я навел справки. Пожалуйста – Испания, Италия: купи дом, заяви бабки и живи на здоровье! А с их визой можешь разъезжать по всей Европе!
– Что-то больно просто!
– А когда отдельно взятая гнида продает здесь украденный завод, порт, месторождение и прочие активы – как ты думаешь, к чему он готовится? Вот именно – к тому же самому! Только между нами есть существенная разница: наши деньги трудовые, а его – ворованные!
– Ну, не знаю, Димыч, не знаю. Не готов я сейчас такие вещи решать…
– А ты думай, думай! Я тебе так скажу: мы, сорокалетние – последний оплот целомудренной России. После нас она станет совсем другой страной, и нам в ней места не будет!
– Люблю, Димыч, когда ты красиво выражаешься!
– Красиво выражаться – плохо. Важно выражаться правильно, – снова взялся Дмитрий за сигарету. – Знаешь, что меня смущает последнее время?
– Ну…
– Вот, вроде, сорок лет – что за славный возраст! Из болезней только похмелье, небо чистое, взор ясный, положение, женщины и прочие радости! Только у меня такое чувство, что взрослая жизнь меня так и не коснулась…
– Это как?
– Быть взрослым – это значит создавать события и участвовать в них. А я пока ничего не создал и ни в чем не участвовал…
– Ну, это ты зря. Посмотри на наши достижения. Можно подумать, у нас все такие обеспеченные!
– Все это шкурное, мой друг. Любой нищий, построивший церковь, дорогу, мост выше нас будет…
– Ах, вот ты о чем! Ну, не знаю, не знаю, может, ты и прав…
– Кстати, с эмиграцией у меня пока полный облом! – спокойно сообщил Дмитрий.
– Это как?
– Девушку тут одну встретил…
– И что?
– Пока не добьюсь ее, об отъезде нечего и думать…
– Вот странно! Насколько я помню, твои бабы – уж извини, я столько их перевидал, что серьезно относиться к ним не могу – так вот, твои многочисленные бабы никогда не мешали тебе делать то, что ты хотел!
– Здесь, Юрка, особый случай…
– У тебя случай всегда один и тот же!
– Э, нет, брат, все не так… Я ей предложение сделал… Никому не делал, а ей сделал…
– Да! Ты! Что! – охнул Юрка, уставившись на друга круглыми глазами. – Ушам своим не верю! Да кто же она такая?
– Э, брат… Королева, вот кто… Три дня назад в парке встретил…
– И сразу предложение сделал? Ты, Димыч, часом, не того?
– Того, точно, того… – мечтательно улыбнулся он. – Только ты матери про предложение не говори…
– Да-а-а! Ну, ты даешь! А она что?
– Отказала, конечно! – продолжал улыбаться Дмитрий.
– И что теперь?
– Согласится, куда она денется… Иначе мне не жить!
– Нет, ну, точно, стареешь! – не унимался Юрка.
– Не говори, брат, не говори, старею. И это хорошо!
– Да ты не представляешь, как я за тебя рад! Ты уж постарайся! Пора, наконец, о наследниках подумать!
– Обязательно, Юрка, обязательно! Вот женюсь и увезу ее отсюда к чертовой матери вместе с движимым и недвижимым имуществом, чтобы даже духу нашего здесь не было!
Заглянула Вера Васильевна и обвела взглядом плоские лица тарелок с неаккуратно стертым гримом из соуса, горчицы и кетчупа, испачканную табачной перхотью пепельницу, наполовину пустой флакон с неспокойным желтоватым эллипсом внутри, обнажившиеся ладони десертных тарелок с остатками замшевой буженины, лацканов голландского сыра и тусклого рыбьего перламутра, пустые салатницы, помятую физиономию лимона и надорванный кусок хлеба рядом с засаленной бумажной салфеткой – изъеденный разговором стол, как побитая молью времени жизнь.
33
День он провел в ожидании ее звонка, не решаясь нарушить уговор: вчера она сказала, что позвонит сама. Маясь нетерпением, он так и сяк пристраивал себя к совершенному с его точки зрения уравнению со многими неизвестными, каким на сегодняшний день она ему представлялась. Что знал он о ней, кроме того, что она прекрасна? Почти ничего, за исключением глухой, смутной, исходящей из глубины сердечных недр уверенности в ее непогрешимости. Но как узнать, кем она была до него, чувствовала ли себя счастливой или несчастной и чего хотела теперь? Как узнать, какие секреты хранят тайные подвалы ее душевной канцелярии, какими трещинами чреваты неплотно пригнанные кирпичи ее биографии? Каков ресурс ее чувств и хватит ли их на него? Вот вопросы, ответы на которые он хотел знать, если мы вообще способны что-то знать о себе и о других.
Она позвонила около пяти вечера.
– Я освободилась и готова встретиться с вами через полчаса… Во дворе, возле моей машины…
– Бегу!
Счастливое возбуждение сделало облачный мир за окном ярким и возвышенным. Он бросился чистить зубы, затем перебрал гардероб, надел французскую, в синюю полоску рубашку, мягкий бежевый английский свитер, выпустив и расправив воротник рубашки так, чтобы не стеснял горла. Затем влез в темно-серые брюки и подтянул полнеющие бедра черным ремнем. «Толстею, надо что-то делать!» – подумал он, устремляясь в прихожую. Довершив там одевание, он за отсутствием матери поставил квартиру на сигнализацию и, игнорируя по привычке лифт, сорокалетним кубарем скатился по лестнице. Добежав до метро, он купил красную, с реквизиторскими шипами розу, проверив предварительно, пахнет ли она. Роза выглядела свежо, аппетитно и пахла конвейером – совсем как современная, красивая, глупая женщина. За пять минут до назначенного времени он был на месте и после этого ждал еще пятнадцать минут. Она неожиданно вынырнула из-за угла, увидела его, подобралась и легко зашагала к нему на высоких каблуках. Светло-коричневое в широких складках пальто и девичья ломкость лодыжек делали ее проход похожим на парение. Подойдя, она с улыбкой протянула ему руку в перчатке:
– Здравствуйте, Дима!
Он подхватил ее руку, наклонился и приложился губами к тонкой коже, ощутив на миг ее запах – гладкий, черный, настоянный на духах, после чего вручил целлофановую розу.
– Спасибо… – поблагодарила она и, открыв автомобиль, уложила ее, как в прошлый раз, на заднее сидение.
Она думала о нем. Думала со вчерашнего вечера и до того момента, когда шагнув из-за угла увидела, как он при виде ее встрепенулся, а затем, улыбаясь и переминаясь, ждал с розой в руке, пока она шла к нему, отводя взгляд и готовясь вновь ступить на тонкий лед случайного знакомства.
Уже знакомым маршрутом они двинулись в кофейную. Он достал сигарету и закурил.
– И давно вы курите? – по возможности безразлично спросила она, вспомнив почему-то прокуренные Мишкины поцелуи.
– Лет с восемнадцати… – смутился он.
– Бросать не пробовали?
– Не приходилось…
– И что, всем вашим… знакомым девушкам это нравилось? – разбавила она насмешку малой дозой неприязни.
– Ну, вообще-то, знакомых девушек у меня было не так и много, – осторожно начал он. – И я даже не знаю, нравилось им это или нет… Во всяком случае, никто не жаловался.
– Наверное, они вас очень любили, раз не жаловались. С женщинами такое случается! – невозмутимо расставила она ему ловушку.
– Вижу, Наташенька, вы хотите знать, были ли у меня романы и любил ли я кого-то до нашей встречи… – спокойно и немного грустно начал он. – Отвечу вам словами классика: «У меня было много женщин, одни меня любили, другие ненавидели, но та, которую любил я, не испытывала ко мне ничего…»
– Дима, меня не интересует число ваших мужских побед. Все, что я хотела – это знать, собираетесь ли вы когда-нибудь бросить курить! – как можно равнодушнее сказала она.
– Раз вы этого хотите, я обязательно брошу! Нет, не брошу – уже бросил! Вот, смотрите! – и, опережая ее протесты, он вытащил из кармана пачку сигарет и смял ее. Найдя глазами урну, он быстрым шагом достиг ее, выбросил смятый комок, вернулся обратно и взглянул на свою спутницу. Даже в сумерках Наташа разглядела в его глазах победный блеск. Разглядела, остановилась и воскликнула:
– Но от вас никто не требовал такого подвига! Представьте, что завтра мы расстанемся, а вы уже бросили курить!
– Если мы расстанемся, я снова начну курить, – ответил он. – Так что мое здоровье в ваших руках!
Умный, глупый, взрослый мальчишка! Да разве о его здоровье пеклась она? Разумеется, ее мужчина должен быть здоровым, иначе, зачем он ей! Но в этом случае она беспокоилась больше о собственных ощущениях. Нелюбимый, да еще курящий – согласитесь, это слишком для такой чистюли, как она! А в том, что целоваться ей с ним рано или поздно придется, она уже мало сомневалась.
Ей определенно понравился его жест – после двадцати лет курения вот так сразу рвануть на душе тельняшку, расцарапать ее до пугливого обмена веществ и кровью расписаться под скоропалительным обещанием! Она тут же спросила себя, на какие жертвы, в свою очередь, могла бы пойти ради него, и обнаружила, что жертвовать чем-либо пока не готова, Желая сгладить свое виноватое бездушие, она захотела было взять его под руку, но в последний момент передумала.
Добравшись до кофейни, они нашли вчерашний столик свободным и устроились за ним. Она вдруг почувствовала, что голодна, и не желая признаваться в этом, заказала к миндальному пирожному еще и буше. Для себя он, решив худеть, попросил только кофе.
– Итак, вчера вы собрались рассказать, почему до сих пор не были женаты! – откинувшись на спинку, напомнила она игривым тоном.
– Все очень просто: я считаю, что жениться следует только по любви, – став серьезным, ответил он.
– Так вы что, никого не любили?
– Нет, почему же, любил. В школе и потом еще… один раз. И вот сейчас второй. В смысле, третий!
– Оставим в покое третий и вернемся ко второму. Что случилось? Вас обманули? – теребила она его, добиваясь признания и зная, что потом это сделать будет труднее.
– Меня попросту не любили…
– И вы, конечно, не смирились и расстались!
– Именно так!
– Мне почему-то кажется, что вы не очень переживали!
– Наоборот. Очень.
– Ну, не знаю! Вы не похожи на человека, который способен сильно переживать! – улыбнулась она, с каким-то тайным удовольствием наблюдая, как на его лице возникает недоумение.
– Как вам сказать… Конечно, это был не Шекспир, и все же… – озадаченно глядел он на нее.
– И что же, с тех пор вы так никого и не любили?
– Представьте себе, нет!
– Но интрижки же у вас были и не одна!
– Почему вы так считаете?
– Ну, я же вижу по вашему обхождению, что вы мужчина опытный!
– Хм… Другими словами, вы сомневаетесь в том, что я способен на серьезные чувства!
– Нет, это я к тому, что выбор, как я понимаю, у вас был… – упрямо добивалась она ясности.
– Был, но я разборчив. Разве это плохо?
– Нет, нормально. Я тоже разборчива.
– Вот видите! Тогда позвольте мне выразиться по этому поводу коротко и многозначительно: когда мне кто-то хвастается, что был в Англии, я отвечаю, что не был там, зато хорошо говорю по-английски.
– Это вы к чему?
– К тому, что хоть я и не был женат, но имел достаточно возможностей узнать, что это такое.
– Тонко, ничего не скажешь! И что же – вы так и не собираетесь побывать в Англии?
– Вы прекрасно знаете – теперь это зависит только от вас.
Она отвела глаза.
– Заметьте, Наташенька – я никому еще… нет, вру!.. конечно, вру… я это сделал первый раз именно пятнадцать лет назад…
– Что именно?
– Предложение… Я сделал предложение пятнадцать лет назад. Вы вторая женщина в моей жизни, которой я сделал предложение.
– Вы не представляете, как обидно быть второй! – с нескрываемой усмешкой глядела она на него.
Он прищурился, и лицо его неуловимо подобралось.
– Вы знаете, Наташа, честно говоря, я не понимаю двух вещей… Можно спросить?
– Конечно!
– Я не понимаю двух простых вещей: как вам можно изменять и почему вы до сих пор не замужем!
Улыбка сошла с ее лица.
– А вы, оказывается, злой! – покраснела она.
– Неправда! Я как котенок – послушный, игривый и добрый! – парировал он.
Помолчав, она произнесла устало и беспомощно:
– Извините меня, Дима, если я что-то не то спросила…
– Ну, что вы, Наташенька, что вы! – захлопотал он. – Это вы извините меня, ради бога!
Он подался вперед и, опершись локтями на столик, направил руки в ее сторону, словно желая взять ее руки в свои.
– Вот, смотрите, нам уже несут! Вы, наверное, проголодались! Надо было, все-таки, идти в ресторан!
Смазливая официантка, с любопытством поглядывая на них, сгрузила на столик заказ и, опустив поднос, стояла, глядя на Дмитрия, словно желая спросить: «Что-то еще?»
– Спасибо, – вместо него сухо сказала Наташа. Девушка удалилась.
– Вы правы, Дима, я так торопилась к вам, что не успела пообедать! – улыбнулась она, искупая приятной для него выдумкой свою бесцеремонность.
Глаза его округлились, он смутился и покраснел.
– Но Наташенька, но вы же… но я же… но как же так… нет, вы не представляете, как мне неудобно! Но ведь мы могли бы…
– Не беспокойтесь, Дима! Сейчас я перебью аппетит, а дома поужинаю! Мне не привыкать!
– Бедная вы моя! – исказилось его лицо гримасой страдания. – Все, все, молчу! Ешьте!
Она быстро управилась с пирожными, ей не хватило кофе, и он встал и сходил за ним. Отпив до половины, она отодвинула чашку, приложила к губам салфетку и посмотрела на него:
– Так вот, по поводу ваших вопросов. Первый вопрос вам лучше задать моему бывшему мужу, но от себя скажу: да, он мне изменял, хотя и уверял, что любит меня. Но как, скажите, можно любить и изменять одновременно! Нонсенс! Зато я его не любила – это точно! Возможно, он это чувствовал, потому и изменял. На ваш вопрос, почему я не замужем, я вам отвечу так: я тоже, как и вы очень любила одного человека, но он погиб несколько лет назад за месяц до нашей свадьбы. С тех пор для меня существует только работа.
Все это она сказала спокойно и отчетливо, глядя ему прямо в глаза и отмечая, как они наполняются влажным сочувствием. Он долго не мог ничего сказать, но, наконец, произнес:
– Это ужасно, Наташенька, это ужасно! Бедная вы моя! Как бы я хотел вам хоть чем-нибудь помочь!
Она вдруг тряхнула головой:
– Знаете, Дима, мы с вами так просто говорим о любви и прочих серьезных вещах, как будто сто лет знакомы, а ведь на самом деле я ничего о вас не знаю! Расскажите мне о себе то, что сами захотите!
И он принялся излагать благостную версию того, кто он и что он, откуда взялся, где был, что видел, чем занят, когда ничем не занят и что думает, когда не хочется думать, что любит и чего сторонится. О том, как недавно оказался на Петроградской стороне, где жил в детстве. Как прошел мимо своей школы на углу Большой Пушкарской и Олега Кошевого и направился в сторону их бывшего дома мимо полуразрушенной бани, где когда-то вместе с отцом зачищал микрофлору, и где теперь голые тени прежних дней призрачными тазами прикрываются от дождей. Как потом пришел во двор и обнаружил, что многое здесь изменилось и что теперь весь двор, где раньше было чисто и пусто, заставлен машинами. И он бродил между машин, поглядывая на окна их бывшей квартиры на четвертом этаже, а из-под ног с треском взлетали голуби. И как вдруг из-за облака вышло солнце, кому-то улыбнулось широко и щербато, на кого-то взглянуло косо, а на кого-то совсем не взглянуло. Она слушала, отразив лицом его грусть и ей было удивительно хорошо. Внезапно она очнулась и, погасив улыбку, сказала:
– Вы, Дима, очень интересно рассказываете, но мне уже пора…
Вдыхая сырой прохладный воздух и наступая на апельсиновую кожу тротуара, они степенно добрались до ее машины. Там она сказала:
– Спасибо за приятный вечер! Поеду заниматься делами…
– Это вам спасибо, Наташенька! Когда мы снова увидимся?
– Я вам позвоню…
Она подала ему руку в перчатке, и он теперь уже в темноте приложился губами к тонкой коже, ощутив на миг тот же запах – гладкий, черный, сладкий, а после стоял и смотрел, как она осторожно выезжала со двора, а затем быстро исчезла, увозя на черной спине пылающий призыв соблюдать дистанцию…
Дома к ней вышла кошка Катька, присела, окутав себя хвостом, и стала смотреть, как она снимает пальто и сапожки.
– А я себе, Катюша, мужика нового завела… – приветствовала ее, как два с половиной года назад Наташа.
Катька встала, задрала хвост и, подойдя к ней, прошлась гладким боком по ее ноге.
34
Сегодня пятый день его новой жизни. Снова утро. Как его пережить, чтобы дождаться дня, и как пережить день, чтобы дождаться вечера? Какое тревожно-радостное, ни на что не похожее и, по сути, гибельное чувство владеет им! Ничего подобного за последние пятнадцать лет! Зачем оно? Зачем это ощущение восторга и слез в уголках глаз? Как все было просто с его прежними подружками и как серьезно сейчас! Это похоже на то, как если бы он карабкался по отвесной скале, зная, что выход только один – карабкаться вверх, до вершины. Иначе он сорвется и разобьется. «Не смотри вниз!» – кричат ему снизу люди. «Смотри вверх!» – шелестят крыльями ангелы. Такое вот странное крылатое чувство…
Она позвонила в половине шестого, когда он слонялся по квартире, пытаясь найти место, где радиация нетерпения была бы наименьшей. Позвонила и назначила встречу на том же месте. «И давайте обойдемся сегодня без цветов!» завершила она разговор.
– Вот что я хочу вам предложить, – сказала она после обычной церемонии губоприкладства. – Неделе конец, и я хочу, наконец, как следует поесть, а потому приглашаю вас в один уютный ресторанчик у меня на Васильевском! Что скажете?
– Согласен! – ответил он. – Но при одном условии – платить буду я.
– А иначе не поедете?
– Поеду, но есть не буду!
– Вы к тому же еще и вредный! – улыбнулась она. – Тогда вот еще что: обратно добираться вам придется самому. Не страшно?
– Страшно, но ничего не поделаешь! – поддержал он игру.
Поехали, и разговор их естественным образом обратился к автомобилям. Удивляясь той ловкости, с которой она управлялась со своим мустангом, он похвалил ее, деликатно указав на некоторую дерзость в манере вождения.
– Я всегда так езжу! – своенравно откликнулась она.
– Вы знаете, я заметил, что все женщины за рулем делятся на тех, которые в точности соблюдают правила и раздражают этим мужчин (их подавляющее число) и тех, которые водят, как вы и тоже раздражают мужчин!
Она спросила, много ли ему приходится ездить, и он ответил, что по городу старается, куда возможно, добираться пешком, а вот с началом дачного сезона приходится часто ездить под Зеленогорск, где у него участок с домом.
– Что вы говорите! – живо откликнулась она. – Надо же! У меня тоже был дом под Зеленогорском, но я его продала…
– Если я вам, Наташенька, до лета не надоем, то обязательно приглашу вас посетить мое гнездо… – галантно пообещал он.
«Дворянское гнездо…» – мелькнуло у нее.
– Вот в этом доме я после пятого курса впервые в жизни напился! – сообщил он смущенно, указывая на невыразительный фасад в конце Гороховой. О том, что после этого он очутился в Лелиной кровати он, естественно, умолчал. Полезное открытие совершил он во время своего вчерашнего повествования: оказывается, лишая подлинные истории их развязок, как слова их окончаний, можно на свое усмотрение сочинять диетические композиции на любой вкус.
По Большому проспекту они добрались до Гаванской, свернули на нее и остановились.
– Приехали, – сказала она, заглушив мотор. – «Золотая Панда» называется. Мы сюда с подругами часто ходим. Роскоши особой нет, но уютно и всегда есть свободные места. К тому же здесь хорошо готовят рыбу.
Так все и оказалось. Для них нашлись тихие места в углу за загородкой, где они и обживались, пока готовился салат из овощей, суп с угрем и лосось гриль. Он выбрал красное вино «Алексис Лишин Бордо».
– Хочу есть! – плотоядно произнесла она, безо всякого жеманства отламывая кусочки хлеба и отправляя их в рот.
Когда им принесли салат, она, не дав ему произнести прочувствованный тост, наскоро чокнулась и принялась за еду. Ела она культурно, изящно и быстро. Настоящая деловая женщина, не привыкшая коллекционировать удовольствия. Он с умилением наблюдал за ней краем глаза.
– Честно говоря, я не люблю готовить! – сообщила она, отставляя пустую тарелку из-под супа.
– А я обожаю! – похвастался он.
– Что вы говорите! – удивилась она, внимательно его разглядывая. – И где же вы этому научились?
– Жизнь научила. Я довольно долго жил отдельно от родителей, вот и сподобился…
– А, ну да! – быстро взглянув на него, понимающе кивнула она и продолжила:
– А вот я без родителей живу уже семнадцать лет. Я ведь девушка уральская!
– Да что вы говорите?! – воскликнул он. – И откуда же, если не секрет?
– Не секрет. Первоуральск.
– Подумать только! Ведь меня на летние каникулы каждый год отправляли в Кузнецк! Ведь это же совсем рядом! Вот это совпадение! Ах, какое это было время, какое чудесное время! – затуманился его взгляд. – Я там впервые начал играть в футбол…
Не сообщать же ей, что он там, к тому же, потерял невинность!
– Да что вы говорите! Вы еще и футболист? – шутливо округлила она глаза.
– Вратарь.
– Вратарь? Вы? – недоверчиво смотрела она.
– Да, а что тут такого? Я был неплохим вратарем!
Им принесли кофе, и она выпила его мелкими глотками, в то время, как он продолжал потягивать вино. Она сидела обмякшая, с благодушной улыбкой на лице, трогательно домашняя и обманчиво доступная. Он, не скрываясь, любовался ею. Она перехватила его взгляд, смутилась и приняла умеренно официальный вид. Он, улыбаясь, продолжал смотреть на нее, не спуская глаз.
– Какие у вас планы на завтра? – вдруг спросила она.
– Буду весь день ждать вашего звонка! – склонился он.
– У меня есть два билета в «Приют комедианта» – я иногда хожу туда с подругой. Но если вы не против, мы могли бы сходить вместе… Хороший театр, хорошая постановка…
– Наташенька, да я… я с вами… да куда угодно, главное, что с вами! – не находил он от счастья слов, и тут же предложил: – Давайте сделаем так: я приеду за вами, а после театра отвезу вас домой.
– Давайте так и сделаем, – сразу согласилась она и тут же добавила: – Ну, что же, кажется, нам пора!
Он расплатился, и они вышли на улицу.
– Я могу довезти вас до метро! – предложила она.
– Не стоит. Лучше скажите, где вы живете.
– На двенадцатой линии, – чуть задержалась она с ответом.
– В начале, в конце?
– У Невы…
– Вот и прекрасно! Вы высадите меня на девятой линии, а сами свернете к набережной, а оттуда по набережной к себе!
– А вы?
– А я прогуляюсь. Мало бываю на воздухе.
– Дима, мне так неудобно!
– Все, Наташенька, все! Делайте, как я сказал!
Она остановилась перед 9-й линией, развернулась к нему вполоборота и подала руку, на этот раз без перчатки. Он взял ее в свою и потянулся к ней губами – она ее не отдернула. Он едва-едва коснулся нежной кожи, задержал поцелуй на пару секунд дольше нужного и, почувствовав, как рука ее напряглась, словно готовясь вырваться из сонета его губ, нехотя выпустил ее, после чего пожелал хозяйке быть осторожнее и покинул машину.
Тихая улыбка блуждала по его лицу весь вечер, став совершенно глупой и счастливой, когда она в десять позвонила и сказала:
– Звоню, Дима, чтобы узнать, как вы добрались…
На следующий день в шесть вечера он был по адресу, который она ему назвала. Позвонив ей, он вышел из машины и стал ждать, подняв воротник. Увидев, как она выходит из-под арки, он устремился к ней. Ее наряд – узкие джинсы, мягкая черная куртка со стоячим меховым воротником – больше подходил для поездки за город, чем для похода в театр. Поцеловав ей руку, он довел ее до машины и усадил. Сев за руль, он указал на заднее сиденье, где находился большой букет белых роз.
– Я заметил, Наташенька, что вы равнодушны к цветам и все равно не мог не купить. Не забудьте забрать их после театра!
Приехав за полчаса до начала, они прогулялись по Садовой и без десяти семь вошли в театр. Он помог ей снять куртку, под которой обнаружился светлосерый (к глазам?) свитер с широким воротником, позволявшим видеть нежную ямочку у самого подножия горла. Тонкая, плавная, прямая она пошла рядом с ним, с любопытством поглядывая вокруг и играя живым каштановым блеском собранных в узел волос. Ему вдруг показалось, что сейчас она оставит его в зале и двинется на сцену, где ей самое место.
В тот вечер давали «Кто боится Вирджинии Вульф». Они устроились в шестом ряду, откуда он мог различать потертую условность реквизита и напряженное притворство актеров. Сцену раздирали мрачные буржуазные страсти, и он косился украдкой на ее сосредоточенное лицо, замечая на нем, как на поверхности чистой прозрачной воды игру и столкновения течений. Она сидела то чинно сложив руки на коленях, то скрестив их на груди, и он думал, настанет ли день, когда он сможет взять ее руки в свои и гладить их. В конце концов, действие захватило его и, выходя на антракт, он сказал:
– Послушайте, Наташенька, я никогда не думал, что может быть так интересно!
– Вы что, совсем не ходите в театр? – недоверчиво спросила она.
– Стыдно признаться, но последний раз я был в театре уже не помню когда. Обычно мне хватает театра, который у меня в голове…
Они спустились вниз, и он, оставив ее у дамского кабинета и отойдя в сторону, принялся разглядывать одухотворенных молодых людей, одетых так просто, словно они явились сюда прямо с кухни. Зачем пришли? Чего ищут? Что хотят понять? И разве для этого нужно ходить в театр? Ведь настоящий театр – это наша жизнь, и самое главное ее действие происходит с нами сейчас!
Она вышла и, улыбаясь, направилась к нему. Слышалось в ее шествии нечто плавное, пурпурное, королевское, как в первых шестнадцати тактах второй части Патетической сонаты, за которыми следовала тема его вопросительной тревоги – да не грезит ли он, и к нему ли направляется эта царственная красавица?
Когда, наконец, пьеса завершилась символической темнотой, раздались заслуженные аплодисменты. Ритмичная музыка подхватила их и возвысила до оваций. Актеры вышли на поклон – публика встретила их бурным энтузиазмом. На втором выходе им вручили цветы. Самые нетерпеливые в зале заторопились в гардероб, заражая своим примером остальных. Оставшиеся удвоили усилия и вызвали исполнителей на третий выход. На лицах актеров читалась неуверенность – хватит ли публике сил на четвертый круг? Но как только они удалились, аплодисменты так же быстро стихли, как и возникли. Ему вдруг стало жаль несбывшихся актерских надежд на бешеный успех, и он ощутил неловкость.
Они спустились в вестибюль и заняли место в очереди. Тесный вестибюль наполнялся людьми, и их, в конце концов, почти прижали друг к другу, да так что он, противясь напору, вынужден был заботиться о мало-мальски целомудренной дистанции между ними. Смущенный непривычной близостью, он предложил ей выбраться из толпы и подождать у стены. Она в ответ повернула к нему лицо, и родники ее зрачков с затаившимся на светло-сером дне оком иссиня-черной бездны оказались в нестерпимой близости. Он не выдержал и отвел глаза…
– Интересные люди, эти актеры! Разрывают себе сердце, а потом покидают театр, как ни в чем не бывало! – говорил он, пока ехали к ней на Васильевский. – Пьеса хороша, ничего не скажешь! Вроде бы бытовой сюр, но смысл здесь переносный, и его надо прикладывать к жизни других галактик…
Когда приехали, он помог ей выбраться, взял цветы и понес за ней. Вошли под арку, дошли до ее подъезда и остановились.
– Извините, Дима, к себе не приглашаю – там у меня беспорядок, – развеяла она его надежды на приглашение. – Спасибо за вечер, все было очень хорошо! Завтра я, к сожалению, занята, но вы звоните, не пропадайте! Договорились?
– Конечно, Наташенька, буду звонить!
А что ему еще остается? Он приложился к ее руке, и дверь парадной закрылась за ней.
35
«К себе не приглашаю – там у меня беспорядок» – сказала она, не желая торопить то неловкое и неспелое, что зреет до поры до времени на ветвях случайного знакомства, соблазняя своей доступностью людей похотливых и неразборчивых. Потому и решила она остудить воскресной паузой возникшее в ней при вялом попустительстве сердца живое теплое любопытство, так похожее на розовое воспаление, именуемое зарей.
– Почему вы мне сегодня не позвонили? – спросила она поздно вечером, после долгих колебаний позвонив ему сама.
– Не хотел беспокоить…
«Какой вы, однако, пугливый!» – хотела сказать она, но удержалась, опасаясь, как бы он не понял ее слишком вольно.
Только дело тут, видите ли, было совсем в другом, а именно: он, вдруг, взревновал. Все утро находясь в приподнятом настроении, он нахлестывал ленивое время мыслями о возлюбленной, и когда мать вдруг завела о ней разговор, с удовольствием поддержал его. Поддержал только затем, чтобы иметь ее имя на языке. Вслушиваясь в музыку падежей, оркеструя его предлогами и союзами и модулируя придыхательными интонациями, он ласкал им слух. Убегал от него в начале фразы, чтобы вернуться к нему в конце. Заменял его пресным местоимением и, попробовав на вкус, выплевывал, чтобы вновь обратиться к его трехсложному совершенству.
Мать по своей привычке дотошно искала в их отношениях прошлые, нынешние и будущие подводные камни, а так как камней на трех горизонтах времени гораздо больше, чем на одном, то и разговор продолжался с перерывами два часа, чему он был только рад. Однако именно в ходе разговора, а потом и независимо от него, в нем сначала затеплился, а затем чадящим пламенем разгорелся костер больной, неутолимой ревности. Возможно, в какой-то момент он неосторожно спросил себя, что у нее за дела в его отсутствие и чем она может сейчас заниматься. Возможно, услужливое воображение родом из «Мадам Бовари» шепнуло ему некое имя, которое он не разобрал, но которое определенно было мужского рода. Можно представить, какой едкости кислоту пролил он по неосторожности на полированную поверхность своего сердца!
Он с болезненным ожесточением подбрасывал в костер ревности дрова своего богатого опыта. Дело дошло до мучительных сцен, где он оказался соглядатаем ее сношений с другими мужчинами. Господи, боже мой, ему ли не знать, как это делается!
Он видел, как ее лишали девственности. Как ее первый мужчина (возможно, опытный сокурсник, с которым она, скрывая свою невинность, оказалась в постели после хмельной пирушки) долго и размашисто браконьерничал в ее заповедных угодьях, заставляя мотать головой, давиться криком, дергаться и скрюченными пальцами цепляться за что придется. Как сползал с нее с окровавленным пахом, приятно изумленный нежданным жертвоприношением, а она лежала, потрясенная, глотая слезы унижения и восторга. Как заткнув свежую рану заранее припасенной тряпицей, стыдливо жалась к нему и гладила его окровавленный клинок, шепча смущенные и признательные слова.
Наблюдал, как она, полюбив новое для себя занятие, предавалась страстному удовольствию, не стыдясь ни дня, ни ночи, ни голого самца, ни стен, ни мебели, ни собственной наготы. Как заставляла целовать себя в укромные места, возбуждаясь до гостеприимного елея. Как (о ужас!) сама играла на мужской флейте, извлекая из нее жгучую и сочную мелодию любви! Представлял, в каких позах она перебывала, позволяя мужчинам терзать свою органолу и отзываясь утробными звуками упоения. Как потом укладывала голову мужчине на грудь и, обхватив его тонкой рукой, признавалась в любви…
Он метался по квартире, играл желваками и скрипел зубами – настолько ощущения его были ясны и невыносимы! Ничего подобного не переживал он за последние пятнадцать лет! Господи, какой кошмар – он полюбил опытную, развратную самку! Да разве возможно после всего, что он подглядел, смотреть на нее иначе, чем на испоганенную женскую особь? Разве можно относиться к ней с трепетом, вознося ее над прочими его любовницами? Да на ней клейма негде ставить! Она же насквозь пропитана пóтом и спермой своих самцов! Нет, нет! Полюбить ее – значит, полюбить ее историю, а ТАКУЮ историю полюбить невозможно! Уж коли ему приспичило, следует добиться ее, а потом оставить за собой право решать, как быть дальше. Да, именно так и следует поступить! Он ей не раб, и пусть она прибережет свои королевские замашки для простаков!
Именно на помраченное его состояние она и угодила, когда позвонила ему поздно вечером.
– Почему вы мне сегодня не позвонили? – капризно спросила она.
– Не хотел беспокоить… – ответил он почти угрюмо.
– Но мы же с вами, кажется, договорились… – уловив холодок, тут же сменила она тон на снисходительно-любезный, каким объясняются с официантом.
– Да, конечно, помню. И все же я не хотел вас беспокоить, – тускло и упрямо отвечал он.
– Я вас чем-то обидела? – почувствовав сопротивление, спросила она.
– Нет, ну что вы, конечно нет! Просто я… как вам сказать… сегодня был у друзей и немного устал… – неловко выкручивался он.
– Что ж, тогда не буду мешать. Отдыхайте… – и трубка на другом конце света повесилась. Он не расстроился и даже испытал злорадное удовлетворение. С тем и отошел ко сну.
Наутро он устыдился своей угрюмости, которая ни с какой стороны не укладывалась в его планы, и едва дождавшись полдня, позвонил ей.
– Наташенька, извините меня, ради бога! Мы с вами вчера вечером так неловко расстались!
– Ну, что вы! Бывает. Дело житейское… – бодро ответила она.
– Приснилось мне, что в ссоре мы… – грустно продолжал он.
– Не успели познакомиться и уже в ссоре? С какой стати?
– Я не знаю… Вернее, я знаю, и если вы разрешите вас сегодня увидеть, я все объясню!
– Так, так! Значит, вы опять от меня что-то скрываете!
– Если и скрываю, то только приятное! Назначьте мне, и я все объясню!
– Хорошо, я позвоню вечером.
Вечером они встретились возле ее авто и пошли пить кофе. Она намеренно выбрала малую программу, словно давая понять, что возвращает их отношения к самому началу.
– Ну, рассказывайте, что у вас там за очередная тайна! – снисходительно велела она, когда они двинулись в путь.
– Тайна моя совершенно глупая и мальчишеская! – начал он, волнуясь.
– Хорошо, хорошо, не томите!
– Вчера на меня что-то нашло, и я весь день жестоко ревновал вас к вашим прежним мужчинам. Вот такая глупость, не правда ли?
Она остановилась, посмотрела ему в глаза и рассмеялась нервным смехом, вставляя в него:
– Что, что, что?! Ревновали? К моим прошлым мужчинам? И поэтому не хотели со мной говорить? Вот это действительно смешно! Нет, вы только подумайте – он меня ревновал!
– Да, да, не смейтесь! Вы не поверите – это было ужасно! Такие страдания приключились со мной впервые в жизни! Я сам не понимал, что со мной происходит, вернее, я понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать!
– Вы, Дима, странный человек, – сказала она, когда они снова тронулись в путь. – Ну, как можно ревновать к тому, чего уже нет? Ведь я же не ревную вас к вашим женщинам! А ведь у вас их было больше чем две, не так ли? – продолжала она язвительно.
Он промолчал.
– В следующий раз, когда вы захотите меня ревновать, посоветуйтесь сначала со мной. Хорошо?
– Хорошо… – кивнул он.
– Пометьте это себе на тот случай, если снова захотите испортить мне настроение! Хорошо?
– Хорошо… – снова кивнул он.
– Я вас прощаю, – внушительно и важно произнесла она.
Ничего серьезного в тот вечер больше не случилось. Они много говорили, поочередно вспоминая самые невинные истории, в которых не было ее мужчин и его женщин, и где буянило солнце, молодел сосновый лес, возбуждались невидимые птицы, кудрявился травяной покров, струили дурман потайные железы цветов и теряли счет годам кукушки. Где на речных берегах их ждал горячий песок, прохладная радость упругой влажной кожи, бурные, рождавшие жалость судороги серебристого рыбьего отчаяния, бормотание смолистого лешего, странные пугающие желания, уха со звездами, гитара, языческий танец огня, смешные и грустные песни. Где озаренные растущей вверх рыжей бородой костра сидели они под звездным небом, ощущая спиной темноту и прислушиваясь к писку комариных бормашин. Благословенные дни, когда можно было безнаказанно смеяться над несовершенством мира, не заботясь о том, что когда-нибудь мир обнаружит твое собственное несовершенство, превратив кожу и душу в пергамент оскорбительных надписей! Незабвенные часы, опаляемые солнцем, остужаемые водой, обласканные песком, и унесенные розой ветров вместе с пылью и запахом полыни на все четыре стороны!
В числе прочего они поведали друг другу истории их первой любви, вспоминая об этом безобидном теперь событии, как о кори или прививке от оспы. Она увлеклась и порой перебивала его, вспоминая что-то забавное, что пришло ей на память от его случайных слов. Он молниеносно отдавал ей инициативу, а она все более охотно следовала за его сюжетами и мыслями, с удовольствием сопровождая их непринужденной улыбкой и негромким смехом. Дело дошло до блеска в глазах, до помолодевших лиц, до повышенной сердечной радиации. Он увидел ее, наконец, лучистой и беспечной и пропал окончательно. Она же, глядя на его гладкие чистые руки, сравнивала их с руками предыдущего любовника, у которого черный мох выбивался из-под белых манжет и по коротким толстым пальцам доползал до ногтей. Они выпили по две чашки кофе, съели по два пирожных и довольные друг другом, вернулись к ее машине.
– Надеюсь, вы не курите тайком от меня! – улыбнулась она, протягивая ему на прощание руку.
– Ну, что вы, Наташенька! Я был бы последний слабак, если бы позволил такое!
– Надеюсь, надеюсь! До свидания, Дима, я вам позвоню, – снисходительно распрощалась она.
Именно с этого их вечера берет начало та волнующая и розовая пора неуклонного сближения и нежной надежды, что вспоминается любовниками позже с особым чувством.
36
В это время кроме всего прочего произошли еще два события.
Через три недели после их знакомства у нее состоялся разговор с Феноменко.
– Вижу, ты меня упорно избегаешь, – сказал он, заманив в ее кабинет и усадив в кресло.
– То есть, как?! Мы же видимся практически каждые полчаса! – слукавила она, прекрасно понимая, что он имеет в виду.
– Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду! – сложив перед собой мохнатые руки, пристально глядел он на нее.
Она ощутила тягостное волнение и, помолчав, ответила:
– Да, понимаю.
– И что?
– А ничего! – ринулась она в атаку. – Ничего! Хватит с меня! Я долго входила в твое положение, и мне надоело ждать!
– И что дальше? – вздернув брови, направил он на нее немигающий, округлившийся взгляд.
– А то, что я познакомилась с приличным мужчиной!
– Что, что, что?! – ошарашено уставился он на нее. Она же, сказав главное слово, внезапно успокоилась. Определенно растерявшись, он продолжил: – То-то я смотрю, с чего это у нас Наташа такая смелая стала! И ты что – уже успела с ним переспать?
– А хоть бы и так! Я у тебя разрешения спрашивать не обязана!
Феноменко набычился, подался к ней, утопил голову в плечах и произнес шипящим змеиным посвистом:
– Ты хоть представляешь, что из этого следует?
– Представляю! Из этого следует, что я должна убираться отсюда ко всем чертям!
– Это само собой! А вот то, что ни один серьезный клиент к тебе после этого не пойдет, ты еще не представляешь! А уж я позабочусь!
«Вот и вся твоя любовь!» – подумала она, а вслух сказала: – Ничего другого я от тебя и не ожидала!
Он молча смотрел на нее, как уже совсем скоро будут смотреть на выбившегося из под контроля робота.
– Все? Могу идти? – встала Наташа.
– Стой! – опомнился он. – Подожди!
Она снова села, теперь уже совершенно спокойная. Он поднялся, вышел из-за стола и, сунув руки в карманы, принялся расхаживать по кабинету. Затем остановился напротив и спросил с жалобным удивлением:
– Наташка, как ты могла, а?
Ей вдруг стало жаль его. Чертова жалость, неистребимая и неуместная!
– Лешенька, дорогой! – рванулся к нему ее голос. – Ну, посуди сам! Мне тридцать четыре, а у меня ни мужа, ни семьи! Ну, на кой черт мне деньги, если на них не купить простого бабьего счастья, а? Ну, скажи – на кой черт они мне нужны? Мне муж нужен, дети нужны, а не деньги! Ты талантливый, ты замечательный, ты так много для меня сделал! Поверь, мне ужасно жаль, но мне надо решать семейный вопрос! Прошу тебя, пойми меня и прости!
– Я разведусь, Наташка, честное слово, разведусь! – жалобно перекосилось его лицо.
– Не разведешься, Лешенька, не разведешься! Да и поздно уже, поздно, дорогой! Я уже слишком далеко зашла! Я не могу обижать хорошего и серьезного человека!
– Аньке вот-вот восемнадцать, и я буду свободен, я разведусь, Наташка, слово даю! Ну, как я без тебя… – твердил он.
– Поздно, Лешенька, поздно, я все равно не вернусь! – твердила она в ответ. Он отвернулся и, ссутулившись, стал смотреть в окно.
– Ты прости за то, что я тебе здесь наговорил… Оставайся и работай… – повернулся он к ней, наконец.
– Нет, Леша, нет, так нельзя, я уйду…
Он вернулся на место и спросил оттуда бесцветным голосом:
– Кто он?
– Богатый, серьезный человек, на три года моложе тебя…
– Счастливчик… – криво усмехнулся он. – Ты не боишься, что он тебя бросит?
– Я уже всего боюсь… – беспомощно улыбнулась она.
Он смотрел на нее, словно желая что-то сказать и не решаясь, и вдруг спросил:
– Ты его любишь?
– Не знаю, Леша, не знаю… – честно призналась она. – Ты же знаешь – я в первую очередь юрист, а потом женщина!
– Да уж… – скривился он.
– Ладно, все. Не будем больше об этом. Скажи лучше, кому сдавать дела…
Он отвел взгляд, махнул рукой и сказал:
– Да работай, чего там…
– Но я так не могу…
– Я сказал – работай! – вдруг возвысил он голос, сверкнув глазами.
Она встала и тихо вышла. Неужели так все просто? Неужели она свободна?
В тот вечер они ужинали в «Золотой панде», и она была необычайно мила и общительна.
– Послушайте, Дима, вы кто у нас по зодиаку? – тормошила она его.
– Овен! – отвечал он, не сводя с нее глаз и кутаясь в ее настроение, как в теплое мягкое одеяло.
– А я Близнец!
– Знаю, уже посмотрел!
– Так вы верите гороскопам?
– Нет, Наташенька, я считаю это шарлатанством!
– А вот мои гороскопы всегда сбывались, поэтому я их боюсь и не читаю!
– И совершенно правильно делаете, что не читаете! А предрассудков боится тот, кто в них верит. Знаете, в наше время махровым цветом расцвел жанр фэнтэзи. Это нечто среднее между галлюцинациями и бредом. Темный мир, светлый мир – какая чушь! Так вот, астрономия относится к астрологии, как классическая литература к фэнтэзи, как наука к бреду или как Уголовный кодекс к Ветхому завету!
– Ой, вы меня успокоили! Вообще, Дима, я заметила, что вы действуете на меня успокаивающе! – искрились весельем ее глаза. А как же иначе? Ведь она сегодня объявила его своим любовником, и появись они вместе, на них так теперь и будут смотреть. Правда, он об этом ничего еще не знает.
Приблизительно в те же дни ему позвонила Ирина, обещавшая больше не звонить. Как видно, ее хватило на месяц.
– Максимов, мне нужно с тобой встретиться! – капризно объявила она.
– Что-то случилось? – осторожно спросил он.
– Случилось! – с вызовом ответила она.
– Хорошо. Где, когда?
– Где хочешь и когда хочешь! Это в первую очередь тебя касается!
– Тогда завтра. У метро «Московские ворота», в час дня.
– А почему не «Парк Победы?»
– Нет, у «Московских ворот»! – отрезал он.
Назавтра он ждал ее в условленном месте, ломая голову, зачем ей понадобился. Она опоздала всего на десять минут. Видимо, дело действительно важное.
– Пойдем, прогуляемся! – сказал он, коснувшись губами ее щеки.
Выглядела она неплохо – исчезли легкие тени под голубыми кукольными глазами, на щеках играл румянец. Видно, спать она стала дольше и крепче, чем в одной постели с ним.
– Хорошо выглядишь! – похвалил он ее. – Я же говорил, что без меня тебе будет лучше!
– Нет, Максимов, без тебя мне плохо! – резко ответила она.
– Что случилось, Ириша? – смутился он.
Она остановилась, порылась в сумочке, достала платок, промокнула им кончики глаз и беспомощно пробормотала:
– Дима, я беременна…
– Вот это здóрово! Поздравляю! – искренне обрадовался он. – Я же говорил, что у тебя все будет хорошо!
– Ты не понял… Я беременна от тебя…
– Как… от меня? Когда? – вытянулось его лицо.
– Ну, тогда… помнишь… месяц назад, когда я прощаться приходила… Веры Васильевны еще дома не было… – отводила она глаза.
Он молчал, пытаясь уместить новость в голове.
– Зачем, Ира? – наконец спросил он.
– Потому что я люблю тебя, и мне без тебя плохо! – некрасиво скривилось ее лицо.
– То есть, ты решила удержать меня таким способом? – с тяжелым недоумением произнес он и резко спросил: – И почему я должен верить, что это мой ребенок?
– У меня справка от гинеколога есть, вот, смотри! – суетливо полезла она в сумочку. – Вот, смотри, срок – около четырех недель! Видишь? Все совпадает!
Вскинув на него голубые преданные глаза, она совала ему бумажку, а он отталкивал ее руку, чувствуя, что готов ее ударить и зная, что никогда этого не сделает.
– Зачем, зачем, ну, зачем? Ты можешь мне сказать – зачем ты это сделала? – почти кричал он в ее широко раскрытые глаза.
Она заплакала. Проходившие мимо люди оборачивались на них.
– Ну, все, все, успокойся! – взял он ее за плечи. – Успокойся, мы что-нибудь придумаем!
– Что придумаем? – осветилось надеждой ее обворожительное кукольное личико со слипшимися ресницами.
– Мы сделаем аборт у самого лучшего врача! Ведь еще не поздно?
– Дима! Ведь это твой ребенок! – раскрылись до крайней степени ее глаза. – Что ты такое говоришь! Ведь ты всегда хотел детей!
– Я? Неправда! Я никогда тебе такого не говорил, и мне не нужен этот ребенок!
– Дима… – сморщилось и намокло ее личико, – что ты такое говоришь… Ведь я думала, что ты обрадуешься…
Черт, черт, черт! Ну, как ей объяснить, что он не любит ее и что ему не нужны ни она, ни ее будущий ребенок, даже если это его ребенок?! Ну, почему он должен быть таким жестоким?!
– Ириша, Ириша, послушай меня… – торопливо и умоляюще заговорил он. – Я дам тебе денег, сколько скажешь, только сделай аборт, я тебя прошу! Пойми, я не смогу быть с тобой, не смогу! Ты, конечно, можешь оставить ребенка, и я, конечно, буду вам помогать, но зачем тебе это? Все пройдет, и ты встретишь другого человека, лучше, чем я – надежного, достойного, ведь ты настоящая красавица и умница! Зачем тебе ребенок? Он будет тебе только мешать! Ну, Ириша, милая моя, ну, послушай меня! – заглядывая в гаснущее лицо, встряхивал он ее за плечи.
Она повела плечами, освободилась от его рук, затем осушила платком слезы и сказала чужим голосом:
– Ты подлец, Максимов, и мне не нужны твои деньги, и сам ты мне больше не нужен. Ты трус и ничтожество и мне жалко тех лет, которые я провела с тобой. Я уйду, но знай, что ты еще пожалеешь об этом…
Она повернулась и ушла, стараясь держаться прямо, а он остался и глядел ей вслед, пока она не затерялась среди прохожих…
Вечером Наташа, пристально глядя нас него, сказала:
– Вы, Дима, сегодня какой-то озабоченный. Я бы даже сказала, невеселый!
– А, пустяки! – отмахнулся он. – Это оттого, что рынок дурит!
– Кстати, давно хотела вас спросить про этот ваш рынок. Что это такое и как на нем зарабатывают?
И он с напускным усердием принялся расписывать то невидимое глобальное чудовище, которое, являя людям лишь свой пульс, героиновыми пальцами зависимости держит мир за горло, бывая иногда щедрым, но чаще коварным и беспощадным.
– Теперь все на нервах, потому что ждут большой коррекции, – закончил он.
Она слушала его внимательно, а в конце пожелала ему быть осторожней и не нервничать.
– На войне, как на войне, – пожал он плечами, – а в финансовой войне мира не бывает.
Что же касается Ирины, то поразмыслив, он пришел к выводу, что по большому счету его устраивает любой исход. И даже если она захочет родить, он к тому времени уже успеет жениться на Наташе и найдет нужные слова (а тут он честен перед ней), чтобы объяснить ей появление внебрачного ребенка. Тем более, что к тому времени он уже побеспокоится о зачатии их собственного. Он рассказал обо всем матери и, снабдив ее инструкциями и деньгами, отправил на переговоры. О чем уж они говорили, неизвестно, но вернувшись, мать плакала и даже назвала его бездушной сволочью. Еще неделю она заходила к нему со всех сторон, пытаясь пробить брешь в его сердце и запустить туда ангелов чести, совести и долга, но все напрасно. Он твердил:
– Скажи ей, что если она захочет родить, я обеспечу ее и ребенка.
Вскоре Вера Васильевна объявила ему с темным лицом:
– Радуйся, изверг, Ирочка сделала аборт!
И он, посчитав, что с прежней жизнью покончено, вздохнул с облегчением.
37
В их сближении не было той навязчивой озабоченности, с какой устремляются навстречу друг другу современные особи противоположного пола, одержимые намерением проникнуть с черного хода в храм Венеры, разграбить его и, поделив добычу, договориться о новом налете. Горожанин до мозга костей, он был чужд манере городского хвата, требующей поместить женщину в кильватер своего эгоизма, где ее от волн и качки непременно бы затошнило. Она, со своей стороны, не торопилась заказывать обстоятельные острые блюда, пытаясь тонким чутьем проникнуть в его кулинарные способности. Повествуя ему мягким, хорошо поставленным голосом о милых, отвлеченных от ее особы пустяках, она словно изучала меню их возможного любовного пиршества. Неспешно отступая под его обходительным натиском, она находила его все более занятным и симпатичным и все охотнее следовала за его сюжетами и мыслями. Ее уступки его крепнущему вниманию не выражались числом расстегнутых пуговиц на блузке души, а касались времени, которое она ему уделяла.
Подходила к концу шестая неделя их знакомства. За это время они узнали друг о друге все, что полагается знать романтичной парочке, желающей поддать жару своим чинным отношениям. Иными словами, пора было переходить к острым ощущениям, однако его почтительность по-прежнему превосходила его нетерпение, не позволяя ему выходить за рамки дозволенного, пока она сама того не пожелает.
В субботу первого декабря они отправились в филармонию. Приехали на сорок минут раньше и, подняв воротники, полчаса гуляли по Невскому. К вечеру похолодало до минус шести, и он, покидая машину, украсил босую голову купленной в Стокгольме клетчатой английской кепкой, где на подкладке из шотландки под вензелями и гербом было помечено: «Made in Britain». Он испытывал к этой фасонистой старинной модели слабость еще с тех пор, когда в восемьдесят пятом купил у фарцовщика за десять рублей что-то подобное и потертое. В ней он представлялся себе заправским англичанином. Рядом с ним, прикрыв голову беретом и плавно покачивая бедрами под черным приталенным пальто, медленно шла она. Было безветренно, и стыдливо потупившиеся фонари, воздень они глаза к небу, не увидели бы там ничего, кроме оранжевой бездны.
В высоком, отполированном звуками зале аншлаг. В красных королевских креслах юбки, футболки, свитера, джинсы, записное музыкальное население и умудренные дети: сидят, ждут откровения и нечаянной фальши. Перед ними сцена, на ней рояль – черное хранилище лаковых звуков, куда возможно попасть, только введя сложную комбинацию нот. В лучах света, как в лучах славы появляется исполнитель – бывший наш человек, предпочитающий жить за пределами. Его авансируют аплодисментами. Тени великих занимают места в глубине сцены, и концерт начинается.
В тот вечер в числе прочего исполнялись прелюдии Рахманинова. Он не был силен в нумерации, но мог сказать – вот это он слышал, это тоже, а эту вещь знают все.
Вздыхают где-то колокола – тихо, строго, величаво, отдаваясь эхом в высоком чистом небе. Покоем и покорностью пропитан мир. Удел известен, порывы неуместны. Не нам решать, не нам решать, не нам решать… Но вот пробежала промеж ними дрожь несогласия, задела за живое, раскачала, возмутила, и пошли они гудеть, наступая и окружая, утверждая и возвещая. Или это мы приблизились к чему-то важному и сокровенному? Кажется, вот-вот откроется тайна, но колокола, обуздав порыв и раздумав откровенничать, стихают. Тает укрощенный смирением звук. Тает, тает, тает, пока его не подхватывают благодарные, прочувствованные аплодисменты…
– Супер! – растроганно восклицает он с увлажненным взором.
– Прелюдия номер два… – роняет она.
После короткой паузы следуют бурные, ликующие, срывающиеся пассажи. Крепкие, гибкие пальцы обрушиваются на клавиши, и звуки сыплются из распахнутого рояля словно цветные искры. Они подхватывают и возносят земную душу к неземному счастью, к обретению последнего смысла, к великой и вечной радости. В какой-то момент они, словно опомнившись, пытаются обуздать себя, обрести рассудительность, но счастье так велико, что сметает рассудок и отдает предпочтение безрассудству. Вот вам, вот вам, вот вам, благоразумные!!! В ответ музыкальный народ приходит в неистовство.
Аплодируя, она поймала себя на том, что слушает рассеяно: сегодня она, наконец, пригласит его к себе, а там как получится…
К десяти часам все кончено, истекли два часа душевного времени. Публика, настроенная пианистом на единый лад, покидает святилище, разнося по городу атомы сердечной гармонии.
Назад ехали минут пятнадцать, и весь путь он был оживлен и разговорчив. Она, напротив, молчала. Когда приехали, и он, проводив ее до подъезда, приготовился раскланяться, она опередила его и предложила:
– Не хотите подняться ко мне?
От неожиданности он смутился.
– Неудобно, Наташенька, поздно уже…
– Вы что, куда-то торопитесь?
– Мне кроме вас торопиться не к кому!
– Тогда пойдемте! – повернулась она и приложила к двери секретную кнопку.
Они покинули компанию осенних фонарей под ясным черным небом, вошли в гулкий подъезд и притихли перед лицом красноречивых обстоятельств. Попав на пятый этаж, они проникли в ее квартиру и замуровали себя металлической дверью. Он помог ей снять пальто и снял куртку.
– Это моя кошка Катька, – сказала она, махнув рукой в сторону кошки, что возникла перед ними, щуря сонные глаза. – Вот вам тапочки.
– Ах, какая чудная кошечка! – присев перед кошкой, откликнулся он, пряча смущение за радушным тоном. Должен ли он снять пиджак? Не услышав приглашения, он остался в нем.
Под ее громкие деловые реплики они пошли осматривать квартиру, которая оказалась весьма недурна. Она так подробно расписывала расположение и набор удобств своей жилплощади, как будто он явился по объявлению, чтобы снять ее. Миновав среди прочих одну из комнат, она махнула в ее сторону рукой и сказала:
– Здесь у меня спальная. Извините, не показываю – там бардак!
Он с замиранием вообразил мятую постель и брошенное на нее нижнее белье, пахнущее ее телом, и даже вообразил полное флаконов, спреев и тюбиков трюмо с зеркалом, как у матери. В гостиной он заметил на стене большую фотографию, на которой ее обнимал красивый мужчина. Касаясь головами, оба беззаботно и радостно смеялись. Он испытал ощутимый укол ревности и, вежливо улыбаясь, похвалил:
– Замечательная квартира, просто замечательная!
Потом они устроились на кухне, и она принялась собирать на стол. Он сидел, комкая руки и не зная, о чем говорить: небывалая робость одолела его. Заметив телевизор, он спросил, можно ли его включить – там сейчас должны быть новости.
– Вот вам лентяйка, ищите! – сухо сказала она и положила перед ним пульт.
Он включил телевизор и добавил звук. Иначе, казалось ему, она услышит набат его сердца. Кроме того, нехитрая правда, что струилась с экрана, могла дать повод для остроумных реплик. Мужское молчание и говорливость – две крайности, и обе подозрительные.
Она двигалась по кухне, открывала дверцы, выдвигала ящики и звенела посудой, незаметно поглядывая на него. Оставаясь в джинсах и застегнутой кофте, не позволявшей пуговицам, кроме верхней никаких вольностей, она тем самым как бы давала понять, что хоть и уступила еще на вершок, но обоюдная сдержанность по-прежнему их рулевой. Намек, конечно, прозрачный, но излишний – он со своей стороны не смел и мысли допустить о чем-то большем, чем стесненное чаепитие. Она вежливо поинтересовалась, какой чай и с чем он желает, тем же тоном поведала о своих вкусах и, закончив накрывать на стол, уселась напротив:
– Прошу, угощайтесь!
Они принялись за чай, и он спросил, что она делает завтра и не желает ли побывать у него в гостях. Он познакомил бы ее с матерью, которая этого очень хочет, и приготовил бы для нее что-нибудь вкусное.
– Не знаю, посмотрим. В принципе, завтра я свободна…
Он рылся в голове, отыскивая там веселую историю, которой мог бы прогнать стеснение. «Это я уже рассказывал, это неприлично, это пошло, это гадость, это не для женских ушей…». Его красноречие сменилось косноязычием, она же со своей стороны не делала ничего, чтобы облегчить его участь. Разговор не клеился, и, растянув неловкость на час, они отправились в прихожую прощаться, так и не решившись назвать вещи своими именами. Он надел куртку и стоял спиной к двери, глядя на хозяйку.
– Спасибо за содержательный вечер… – начала она не без иронии, и тут он вдруг сделал шаг и приблизился к ней лицом с ясным и дерзким намерением.
Она застыла и закрыла глаза.
– Наташа… – выдохнул он и коснулся ее губ.
Уклоняться она не стала. Новые губы – новые паруса, новое плаванье…
38
Он не набросился на нее, что было бы вполне естественно для спущенного с цепи кобеля, а осторожно взял ее за плечи и чуткими мягкими губами принялся изучать ее лицо. Он прикасался к ее коже ровно настолько, чтобы прикосновение было ощутимым и, задержав его, так же тихо отступал, унося с собой нежный жар дыхания. Затем возвращался к ее губам и начинал любовную молитву с новой строки. То, что он делал, можно было назвать пароксизмом обожания, воспалением страсти, инъекцией любовной инфекции. Она стояла, опустив руки, закрыв глаза и едва дыша. Он отстранился от нее. Она, следуя ритму его поцелуев и обнаружив вдруг, что этот ритм нарушен, открыла глаза. Он с восторгом смотрел на нее.
– Наташенька! – тихо проговорил он. – Ты не представляешь, как я тебя люблю!
Она снова закрыла глаза. Кошка Катька подошла к ним и уселась, глядя на них немигающим взглядом. В кухне бормотал телевизор. Он снова оторвался от нее и почти шепотом спросил:
– Можно я останусь?
– Можно… – так же тихо ответила она, освободилась и отступила, позволяя ему раздеться.
– Можно я сниму пиджак? – спросил он с мальчишеской робостью.
– Можно! – разрешила она, едва сдерживая улыбку.
Он подошел к ней и взял за руку, не сводя с нее глаз:
– Наташенька…
– Да…
– Я никогда не позволю себе того, чего ты не хочешь… Скажи мне, что я должен делать…
– Иди в ванную, там есть халат…
Халат достался ей от Феноменко.
Он заторопился в ванную, а она прошла в спальную, разобрала постель и приготовила роскошную золотисто-шоколадную комбинацию. Выйдя из спальной, она увидела его, стоящего вопросительным знаком с одеждой в руках, и смутилась: халат на нем подтянулся, расправился и казался вполне довольным. Ей словно вдруг открылось существование тайной воли вещей, с которой они, меняя начинку, правят нашей жизнью.
– Брось сюда, – отводя взгляд, указала она ему на кресло.
Он с готовностью положил туда одежду и застыл с тем же вопросительным видом.
– Иди, ложись, я скоро вернусь, – указала она на дверь спальной и отправилась в ванную.
В спальной он в самом деле обнаружил трюмо, полное флаконов, спреев и тюбиков. Сев на кровать и резко напрягая тело, он попробовал унять приступ мелкой дрожи. Его состояние сейчас ничем не отличалось от лихорадочной пытки его первого опыта, что случился двадцать лет назад. Даже с Мишель все было проще, не говоря уже про дальнейшие его истории, когда он обходительно и быстро прибирал женщин к своим ласковым рукам и делал с ними, что хотел.
То, на пороге чего он находился, не укладывалось у него в голове. Ему готовилось сказочное угощение, а он, напротив, был не прочь поголодать. Ведь через какие-то двадцать минут их отношения изменятся навсегда. Нет, нет, он не будет любить ее меньше, наоборот, он будет любить ее еще крепче, потому что именно после ЭТОГО он станет ее законным мужчиной. И все же… И все же исчезнет восхитительный ореол ее отстраненной недоступности и его спазматического обожания. Исчезнет то, что никогда с ним больше не повторится, потому что она его последняя земная любовь.
Она вошла – в мягком до пола халате, с распущенными волосами и розоватым по воле светильника лицом. Увидев, что он не в кровати, она сказал:
– Ну, что же ты, ложись! – и потушила свет.
В какое тонкое белье облачила она свое чудное тело! Какого бережного обращения требовала паутина окаймлявших его снизу кружев! Как послушно сдался благородный шелк, скользнув шуршащими складками через воздетые к небу руки, теряя искры, холодея и подрагивая! Шелковый шелест капитуляции перед беззащитной шелковой наготой.
Каких усилий ему, теряющему рассудок, стоило неторопливое путешествие ладоней и губ по атласу ее тела, начиная с лодыжек и кончая заветным пунктом назначения, путь к которому лежал через ее губы, грудь, живот и прочие не менее важные объезды, полустанки и станции. Прогулка распалила его восклицательный знак до такой степени, что когда этот самый конечный пункт оказался в умопомрачительной доступности, он почувствовал, как тугая смерть, выражаясь поэтически, намеревается сразить его в самый неподходящий момент. Он заторопился в гости, но едва добрался до порога прихожей, как зелье, что так долго варилось на медленном огне, вдруг вскипело и сбежало, затопив собой весь мир…
– Господи, какой позор! – с жалкой улыбкой простонал он ей в плечо.
Она ощутила ягодицами неприятную сырость и с досадой подумала: «Да что же это такое? Я вам что – слабительное?»
– Давай встанем, нужно поменять простыню…
– Извини, – пробормотал он.
Они набросили в темноте халаты, после чего она включила светильник. Он ушел в ванную, а она принялась исправлять его неловкость. По простыне уже расползлось мокрое пятно, размеры которого, между прочим, ее приятно удивили. Кажется, невозможно было красноречивее выразить его производительные возможности и размер застоявшейся страсти.
«И это всё чуть не оказалось во мне!» – с веселым ужасом представила она. Расправив перед собой на вытянутых руках его любовное послание, поглядывая на дверь и испытывая тайное и стыдное любопытство, она торопливо поднесла пятно к светильнику и, подставляя так и сяк, ловила его остатками перламутровую игру света. Завершив исследование, она скомкала простыню и кинула ее под кровать.
Он вернулся и, по-прежнему виновато улыбаясь, наблюдал, как она заправляет чистую простыню.
– Ложись, – деловито велела она.
– А ты? – спросил он, видя, что она не собирается ложиться.
– И я! – откликнулась она. – Ложись, ложись, я сейчас приду…
Она сходила в другую комнату, вернулась с запечатанной бутылкой коньяка и двумя бокалами, и они, забравшись в кровать, сели и накрылись по пояс одеялом. Теперь, когда запреты пали, он сказал:
– Наташенька, у тебя изумительное тело!
– Спасибо, я знаю…
Он молча пил коньяк, отправив длинный состав со словами в самое ближайшее будущее, куда он вместе с ангелами, привлеченными истомленным в восьмилетнем заточении ароматом, вот-вот прилетит победителем на крыльях любви. Он слышит шорох их одежд, он чувствует их помощь и благословение. Ни одной женщине еще не удавалось устоять против его протяжных и сладких пыток! Он поставил пустой бокал на столик и стал ждать, когда она сделает то же самое.
Кажется, она зря переживала: судя по поцелуям, дело свое он знал. Уже в прихожей она оценила их пугающее волнение, постель же это только подтвердила. И очень жаль, что он не пропел свою песню до конца. Впрочем, с ее дефектом будущие ощущения имеют лишь сравнительно-познавательный характер. Она допила коньяк, поставила пустой бокал на столик и обернулась к нему. Их взгляды встретились, и по его глазам она догадалась, что он готов петь дальше. Выключив свет, она повернулась к нему и тут же оказалась в его объятиях.
На первый взгляд он не предпринимал ничего сверхъестественного. Но прикасаясь и прижимаясь к ней, он необъяснимым образом возбуждал в ней теплые быстрые токи, ласковые толчки, внезапную дрожь, что вместе сливались в напряженную симфонию ощущений. Он придавал своим ласкам такую же обстоятельность, полноту и неожиданность, какие отличают настоящую поэзию от простых междометий. Вот он припал к тому месту, куда любил забираться и Мишка, и Феноменко. И опять все по-другому. Ее согнутые в коленях ноги подрагивали, то распадаясь, то сжимаясь. Хотелось выгнуться и застонать. Господи, только не надо ее после этого целовать! Пусть он останется там и продолжает наполнять ее трепещущим светом и теплом! И он остался там и наполнял ее светом и теплом до тех пор, пока она, уступая незнакомому, подрагивающему желанию, впервые в жизни не потянула к себе ласкающего ее мужчину, как если бы, ухватив за края, натягивала на себя мягкое, теплое одеяло. И тогда он взял ее за руку и повел за собой.
Они зашли по колено в прозрачную воду, и там она стояла под жарким солнцем, пока он, зачерпывая полные пригоршни прохлады, опрокидывал их на ее кожу, готовя к глубине. Потом они забрались по пояс и долго шли, пока не погрузились по грудь, и она почувствовала первые признаки легкости. Он остановился и, припав к ее груди, смыл ее запах со своих губ.
«Какой молодец! – подумала она. – Как он все верно делает!»
Он потянул ее дальше, и она испугалась: «Боюсь!..»
«Не бойся, ведь я с тобой!» – обдал он ее темным пылающим взором. И она поверила ему и пошла с ним дальше. Когда вода дошла до горла, он взял ее за бедра и скомандовал:
«Теперь плыви!»
«Боюсь!» – пискнула она, но он уже толкал ее на глубину, и она, не чуя под ногами дна, забилась и… поплыла!
«Я плыву, я плыву!» – извиваясь и разбрасывая руки и ноги, тоненько повизгивала она, а он плыл рядом и снисходительно улыбался.
«Боже, она плывет! Сама плывет!» – низким грудным голосом прорычал дьявол у нее в груди.
Она испугалась, и тут же ей в рот попала вода. Она попыталась выплюнуть воду, но набежавшая волна толкнула ее в лицо, и она захлебнулась ею. У нее перехватило дыхание, она закатила глаза и, кажется, на миг потеряла сознание. Он был рядом, и она, ничего не соображая, обхватила его, раздирая ему ногтями спину. Он же, вместо того чтобы подобно дельфину вынести ее на берег, вдруг сложил руки над головой и отпустил себя вместе с ней в пучину, прямо к центру земли. И там она, сотрясаемая судорогами асфиксии, вдруг услышала рядом с собой тонкий жалобный крик, словно у того, кто кричал отнимали жизнь. Но кто же это так тонко и жалобно кричит? Неужели он? Неужели ему так больно? Но почему же больно? Ведь это так сладко и бурно, так страшно и чудесно, что стискивает горло и перехватывает дыхание! Как смешно он кричит! Взрослый мужчина не должен так кричать! Пожалуйста, не кричи! Пожалуйста, уйди от меня, это невыносимо! Нет, подожди, не уходи! Нет, уйди, я больше не могу, не могу, не могу!.. Нет, останься, не уходи… не уходи, мой голубчик, не уходи… печальна жизнь мне без тебя… не уходи, прошу тебя, не у-хо-ди-и-и…
«Боже мой, неужели это кричала я?»
– Наташенька, родная, почему ты плачешь? – услышала она. – Я сделал что-то не так?
39
Пошлость, как и разврат, приходит вместе с пародистами.
Скажут про него: «Он слаб, он смешон, он нетипичен, он надуман». Скажут так и будут неправы, ибо он выше их и недоступен их костлявым локтям и грязным языкам.
Есть полотеры и есть полосёры.
Первые по мере сил превращают липкую тягучую субстанцию быта в тонкий защитный слой, позволяющий легче переносить наши трения с жизненным путем. Вторые, чья индоссированная интерпретация экзистенциальной тоски солидарно коррелирует с инверсией их имманентной агрессивности и чья психофизика ощущений детерминирована угнетенными комплексами бессознательного, только и ждут, чтобы влезть в грубых «гадах» на деликатную поверхность и устроить там грязные танцы с окурками. Этакие прищуренные оборотни нон-эскапизма, ехидные вампиры чужого креатива, скрывающие свой творческий срам фиговым листком контент-анализа. Гештальт у них покорежен, горизонт ожидания искривлен, наблюдается ускоренная ретардация страдательных органов, а строфоида их когнитивного континуума перекошена логарифмом психолингвистического раздражителя, отчего траектория их патологии атрибутивно шизофренична. В соответствии с публичностью их сервитута они аннигилируют генеративные свойства метаязыка и дискредитируют катарсис, подменяя их глумливым кодированием и декларацией скотских нравов. Самонаблюдение у них исключено из рациона, поскольку грозит обнаружить их убогую ущербность, которую они гоготообразно и ржущеподобно скрывают. Одержимые зубоскальством, они подобны тем, кто боится спать без ночника. Их упражнения хороши для мышц лица, но не для ума. Можно себе представить, какой завистливой ненавистью окружили бы они его чувство, реши он им открыться! Да кто они такие, чтобы быть судьями всем и вся?
Приблизительно так имел право думать он, лелея ее притихшую головку у себя на груди, погрузившись в близкий и чудный аромат ее волос и внимая раскатам своего возвышенного чувства.
Она же, потрясенная свершившимся, прислушивалась к остывающему эху того невыносимо сладкого безумия, что так нежданно-негаданно пережила. И в самом деле – может ли быть что-либо прекраснее тех огневых цветов, которые он ей подарил? Тех, что озарив мир, разгладили искаженное лицо печали и возвысили звук одинокой струны! Несомненно, это было ОНО, то самое, долгожданное и опустошительное, потому что сразу за ЭТИМ – только страшная и великая смерть! Боже мой, и ЭТОГО она была лишена все прошедшие годы! Кажется, она кричала и плакала. Господи, что он о ней подумает!
Она шевельнула ногой и тут же ощутила побочные последствия их союза. Оставив его, она повернулась на спину и потянулась за полотенцем. Приводя себя в порядок, она чувствовала, как он в неоновой темноте следует за ней взглядом. Пора было что-то сказать, и он сказал:
– Я люблю тебя, Наташенька, очень люблю!
Она промолчала, и он, нащупав под одеялом ее руку, продолжил:
– Ты у меня самая лучшая, самая чудная, самая страстная!
«Да, да, самая страстная…» – блаженно улыбнулась она.
– Я не спросил тебя, предохраняешься ли ты, потому что теперь ты моя жена, и мне все равно…
– Все хорошо, не волнуйся! – успокоила она его, а про себя подумала: «Нет уж! Теперь ни о какой беременности и слышать не хочу! Позвольте сначала насладиться запретным плодом!»
– Ты ничего не хочешь? – спросила она, больше всего желая сейчас остаться наедине с волшебным восторгом, что сиял в ней чудным, слегка утомленным августовским светом. – Может, еще коньяк? Может, чай, кофе? Я могу разогреть ужин…
– Я хочу только тебя!
– Подожди, я схожу в ванную. Вот, возьми пока полотенце…
Она набросила халат и покинула спальную. В ванной она взглянула на себя в зеркало и обнаружила в широко раскрытых глазах своего отражения искры нерастаявшего изумления. Господи, это, наконец-то, случилось, и теперь она знает, что такое оргазм! Теперь она по-настоящему полноценная женщина – прекрасная, состоятельная и независимая! Она больше не холодная рыба, она жаркая, сумасшедшая и желанная! Как долго она этого ждала и как внезапно это случилось! Она закрыла ладонями пылающее лицо, затем отняла их и взглянула на свое отражение с гордым вызовом: «Настоящая, теперь настоящая!»
Он, лежа на спине, глядел в темноту и улыбался – блаженный, счастливый, растерянный. Если бы тишина могла петь, она бы пела сейчас скрипучим голосом Джо Кокера “You are so beautiful” или плагиатским тенорком Эрика Кармена “All by myself”, или почтительным хором Бич Бойз “God only Knows”, или со стриженной самоотверженностью Шины О’Коннор “Nothing comperes to you”, или со стонущей изысканностью Азнавура «She», или что-то еще. Да мало ли гимнов у темноты!
Она вернулась и включила свет.
– Димочка, я проголодалась! Давай что-нибудь съедим! Хочешь?
Она впервые назвала его Димочка. Нежный мускул дрогнул у него внутри.
– Конечно, Наташенька!
– Тогда пойдем на кухню!
Он сел на кровати и, сильно изогнувшись, попытался дотянуться до халата. Перед ней мелькнула его широкая пухлая спина, поперек которой протянулись яркие свежие царапины.
– Ах ты, господи! – кинулась она к нему. – Что это у тебя? Неужели царапины? Неужели это я? Тебе больно?
– Нет, Наташенька, нет, моя дорогая! Мне даже приятно! – улыбнулся он и, пользуясь близостью, обхватил ее бедра и прижался головой к животу, торопясь обнаружить и втянуть ее запах, но ощущая вместо него терпкий сладковатый аромат нежно-голубого ворса.
– Нет, погоди! Их надо обязательно чем-нибудь обработать! – склонившись, растерянно разглядывала она протяжные следы своего безумия с ало поблескивающими бусинками на рваных краях.
«Да что же это такое со мной было, если я даже не помню, что творила!..» – вдруг испугалась она того разрушительного свойства, которое в ней открылось.
– Пойдем скорее на кухню! У меня там календула есть! – волновалась она, доставляя ему своей заботой невыразимое удовольствие.
Пришли на кухню, она приготовила пузырек и вату и скомандовала:
– Поворачивайся!
Он, извернувшись, высвободил руки из рукавов, спустил халат на бедра и послушно подставил спину. Она приложила ватку к коже – он не издал ни звука, только повел спиной.
– Очень больно? – участливо спросила она.
– Ерунда! – мужественно отвечал он.
Она осторожно обрабатывала довольно глубокие царапины. Пальцы ее, утопая в его чистой ровной коже, не встречали молчаливого отпора мышц, отчего спина его на ощупь выглядела полноватой и без малейших признаков брутальности. Тогда как ЭТО у него получается?
– Извини меня, я больше так не буду! – закончив процедуру, состроила она виноватую гримаску.
Он потянулся к ней за поцелуем, она же в ответ быстро ткнулась в его губы, тут же отошла и захлопотала.
– Что бы ты хотел съесть? – спросила она.
«Тебя!» – подумал он, любуясь ее новым домашним видом. Подумать только – их халаты наброшены на голое тело, и стоит только протянуть руку…
– Какой-нибудь бутерброд, если можно! – ответил он, усмиряя жаркую волну крови.
Она порхала, расставляя на столе мясо, хлеб, масло, сыр, маслины, нарезанные огурцы и листья салата, не забывая при этом унять ворчание чайника и заварить чай. Он предложил помочь, но она усадила его, сказав с напускной строгостью:
– Сиди и не мешай!
Наконец все было готово.
– Прости, что так мало. Не запаслась. Не рассчитывала! – улыбнулась она с волнующим намеком, заставив его вновь изумиться чудесной внезапности их близости.
Он набросился на еду и съел три бутерброда, запивая их маленькими глотками чая. Она, поставив локти на стол и держа бутерброд обеими руками, с озорным удовольствием откусывала от него маленькие кусочки и красиво ела, поглядывая на любовника. Ниспадающие голубые рукава обнажали ее тонкие нежные запястья.
– Спасибо, Наташенька! – закончив, поблагодарил он.
– Посиди в гостиной, пока я уберу, – велела она.
Он встал, прошел в гостиную и сел там на диван напротив фотографии покойного жениха, прислушиваясь к неутихающему сердечному мятежу. Прежде было иначе: добившись своего, он успокаивался и благодушно ждал, когда неторопливое желание наполнит его сморщенные кожаные мехи. В этот раз его желание явно и неутомимо обгоняло его мысли.
Она появилась в гостиной и поинтересовалась:
– Ты, кажется, хотел послушать Рахманинова…
– Да, да, если можно! – с энтузиазмом откликнулся он.
Она нашла среди россыпи дисков нужный и вставила его в музыкальный центр, что располагался под фотографией. Затем подошла и села рядом с ним.
– Это называется Прелюдия D flat major… – не глядя на него, объявила она.
Вытянув руку с пультом и запустив запись, она бросила пульт рядом с собой и сложила руки на коленях. Он накрыл ее руку своей – она не пошевелилась. Так они и сидели, пока возбужденная лавина звуков славила долгожданное событие. Со стены напротив смотрел на них с ободряющей (с одобряющей?) улыбкой ее покойный жених.
Музыка кончилась, и она, не дожидаясь, когда он решится нарушить границу прямо здесь, на диване, резко встала.
– Поздно уже. Пойдем спать, – объявила она. И добавила с коварной наивностью: – Или, может, хочешь, чтобы я постелила тебе на диване?
Он с укором взглянул на нее и ответил мягко, но убедительно:
– Если можно, Наташенька, я хотел бы спать с тобой.
– Хорошо, – покраснела она. – Иди, я сейчас приду!
Он ушел, и она отправилась в ванную, чтобы дать ему возможность раздеться и лечь, а не обнажаться друг у друга на виду, к чему она еще не привыкла. В зеркале отразилось фарфоровое сияние глаз ее двойника.
«Все! Теперь ты больше не резиновая кукла!» – обратилась она к отражению, гордым жестом поправляя волосы.
Пройдя в темноте на свое место, она сбросила халат, скользнула под одеяло и вытянулась на своей половине. Он осторожно подобрался и припал к ее губам. Последовали уже знакомые и такие приятные ощущения. Он не торопился и колдовал то почтительно и трепетно, то властно и требовательно, превратив ее тело в дрожащее продолжение помутившегося разума. Он укладывал ее на бок, на спину, на живот и, манипулируя своим чутким инструментом, оглаживал и придерживал, помогал бедрами, позволял цепляться за него и опираться всем телом. Она даже не заметила, как оказалась на нем и закачалась на шлепающих волнах, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад. Он долго подсаживал ее на вершину удовольствия, пока она бурно и несдержанно не возвестила, что достигла ее. Очутившись с ней наверху, он бережно повел ее по гребню, оберегая, ликующую, от неосторожно резких движений, способных помешать ее нечленораздельным восторгам. Их проявления настолько противоречили ее законопослушному облику, что он отнес их на счет ее долгого воздержания. Наконец она с протяжным воем свалилась лицом вниз, завалив его копной густых волос. Тут уж и сам он, стиснув дрожащую всадницу, сорвался и покатился с ней к душистому, мшистому подножию…
Потом он уложил ее, безвольную, на спину и принялся успокаивать, собирая губами драгоценный нектар ее испарины. Отвернув голову, она, кажется, задремала, и он осторожно потянул на нее одеяло. Она очнулась и пробормотала заплетающимся голосом:
– Нет, нет, мне еще в ванную…
Затем медленно встала, натянула халат и ушла, пошатываясь. Когда он, в свою очередь, вернулся из ванной, она уже лежала, зарывшись в одеяло и приготовив для него другое.
– Вот тебе второе одеяло, я уже почти сплю… Спокойной ночи, Димочка… – пробормотала она сонным голосом и почти тут же заснула. К тому моменту было около трех часов ночи.
Он долго не мог уснуть, прислушиваясь к ее сну. Она спала, отвернувшись и забрав с собой неслышное дыхание.
«Сколько в ней неподдельной чувственности! – думал он. – Ни малейшей игры, полное отсутствие фальши, все естественно и живо… Она действительно само совершенство… К тому же страстная необыкновенно… Интересно, она всех так царапает или только меня? Это просто чудо, что она обратила на меня внимание… Ведь кругом столько крутых кобелей… Да, придется за нее побороться… Кстати, это второе одеяло и этот халат… Сдается мне, кто-то у нее до меня был, и она принимала его здесь… Ах, Наташа, Наташа! Никогда не узнать мне твоих тайн! Впрочем, и свои я не все открою…»
40
Она проснулась около девяти, разом все вспомнила, и комната осветилась тихим торжеством. Он спал, отвернувшись. Она легла на тот же бок, что и он, и смотрела на его неподвижную, укрытую одеялом спину, на светлый стриженый затылок с короткими мягкими волосами, на аккуратное розовое ухо, не заметившее ее пробуждения. Королевич, разбудивший спящую красавицу. Это его вкрадчивые ласки сотворили чудо. Боже мой, боже мой: ее сон длился целых двенадцать лет! Подумать только – ее лучшие годы потрачены впустую!
Она вспомнила корявые ласки Феноменко, который если и ласкал ее, то лишь затем, чтобы разогреть свою паяльную лампу. Вспомнила его натужное механическое усердие, с которым он взбивал липкую лаву, что вырывалась вдруг из него наружу вместе с его учащенным собачьим дыханием и пóтом. Вспомнила, и ее передернуло от омерзения. Недалеко от него ушел и Мишка. И даже Володя, ее любимый Володя, при котором она не стеснялась разгуливать нагишом, не имел терпения ее ласкать! Это они, ее мужчины, внушили ей мысль, что ее удел – доставлять им удовольствие. И вдруг нашелся тот, кто считает иначе! И вот он здесь, рядом с ней и в ее полном распоряжении! Неслышно выбравшись из кровати, она укрылась в ванной и предалась неуемному ликованию.
Какой, однако, уверенный и гордый у этой зеркальной куклы взгляд! Как распрямилась ее спина и расправились плечи! И чему она беспрестанно улыбается? И откуда у нее под глазами эти тени неподдельной любовной усталости? Уверенная, гордая и, можно даже сказать, вызывающе счастливая! И вместе с тем особая томность, какой не было в ней еще вчера, смягчила ее черты. С замиранием раздула она уголек той вчерашней сладкой боли, что взрываясь в ее нежной раковине, накрывала ее волнами гибельного восторга. Уголек вспыхнул, и тело откликнулось легкой летучей судорогой.
«Не потому у меня получилось, что смог он, а потому он смог, что во мне ЭТО есть!» – подумала она. Неблагодарная, по существу, мысль. Ничего удивительного, если иметь в виду, что любовь не замечает недостатков, а нелюбовь – достоинств.
…Когда он проснулся, то обнаружил вместо нее аккуратно сложенное одеяло. День уже окрасил занавески голубой акварелью, разбавив тишину спальной расчетливой неплотностью окна.
«Я – в ее кровати! Немыслимо!» – тут же вернулся он к самому главному.
Он сел и оглядел спальную. Кроме широкой, густого серого цвета кровати здесь было перламутровое трюмо с маленьким стульчиком на гнутых ножках, два приземистых витиеватой работы кресла, украшенные вертикальным чередованием зеленых и золотых полос, стройный, высотой ему по пояс комод, два ночных столика, недовольные тем, что их тусклые полированные лица скрыты журналами и прочей случайной ерундой. Часы на одном из столиков показывали десять утра. Он встал, закутался в халат и осторожно вышел в гостиную. Там он поменял халат на брюки и рубашку и двинулся на запах кофе. Она сидела за столом, отодвинув от себя пустую чашку.
– С добрым утром! – с порога смущенно приветствовал он, не торопясь подкреплять приветствие крепким поцелуем раньше, чем определит градус ее настроения.
– А вот и Дима! А ты, оказывается, большая соня! – пропела она, вставая с улыбкой ему навстречу.
И он устремился к ней с самыми широкими и радостными намерениями. Похитить ее губы, задушить в объятиях, встать на колени, прижаться лицом к ее животу и не вставать весь день – вот то скромное и недостойное ее королевской милости служение, на которое он был готов. Она же согнутыми в локтях руками обозначила дистанцию и смотрела на него со сдержанной улыбкой. Он взял ее за локти, и они поцеловались – бегло и невыразительно. Отодвинув лицо, она посмотрела на него с легкой иронией:
– Ты, никак, собрался уходить?
– Нет. Если, конечно, не прогонишь! – улыбнулся он в ответ.
– Тогда почему ты одет?
– Потому что это не мой халат. И одеяло тоже не мое, – вежливо улыбаясь, ответил он.
Он рисковал. Единственная ночь, проведенная с ней, была весьма зыбким основанием для такой наглости. Ее улыбка погасла, она отошла от него и принялась переносить из холодильника на стол остатки ночного пиршества.
– Садись. Тебе черный или со сливками? – спросила она.
– Черный, пожалуйста.
Она налила ему кофе, пододвинула тарелки и села напротив.
– Да, – вдруг ласково заговорила она, – это не твой халат. Но мы сегодня же купим тебе другой. И другое одеяло. Договорились?
– Договорились. Извини, что я об этом заговорил, но я не хочу тебя ни с кем делить, – отозвался он спокойно и твердо.
– Ешь, – сказала она, – доедай все. Извини, что мало – холодильник у меня, как всегда, почти пустой.
– Мы заедем в магазин, купим продукты, и я приготовлю обед. Хочешь?
– Хочу! – вдруг обрадовалась она, представив, что это могло бы выглядеть, как полноценная репетиция семейных отношений. Только зачем ждать обеда? Разве это воскресное утро, эта кухня, запах кофе, их домашний вид – разве это не означает, что репетиция уже идет полным ходом? В ее намерения вовсе не входит заполнять им время от времени свое вакантное лоно. Она выбрала его, чтобы приручить и сделать своим мужем и отцом своих детей. Ну и что, что она его не любит? Ведь если любовь есть повод для брака, то и брак может стать поводом для любви. И если она даст шанс себе и ему, очень возможно, что она его полюбит. Конечно, жене, не обремененной любовью, легче добиваться от мужа желаемого. Она же в будущем не хочет от него ничего, кроме одного – верности…
Оставив его завтракать, она отправилась по квартире, подбирая по пути все, что плохо лежит и пристраивая к месту. Минут пятнадцать она хозяйничала, наслаждаясь новым, самодовольным чувством и понимая теперь свою мать, которая в ТАКОЕ утро была главной в доме, и отец, попадаясь ей на пути, с особой нежностью целовал ее, а она в ответ с томной грацией льнула к нему.
Очутившись в спальной, она окинула взглядом мятую наготу постели и вновь вернулась мыслями к ночному безумию. Как это было чудесно! Какие ощущения, какое потрясение! Но что им мешает повторить это прямо сейчас? Да, светло, но ему, наверное, только это и нужно. Лично ей нечего стыдиться, она – само совершенство. В конце концов, она всегда может закрыть глаза. Только вот как намекнуть ему на свое желание? Нет, не желание – помрачение! Но ведь это так естественно в их положении – не вылезать из кровати! Кажется, он и сам должен это понимать. Зачем ждать привычной скуки брака, если есть восторг добрачной страсти?
Сдерживая волнение, она пошла за ним. Он сидел за опустошенным столом и смотрел телевизор. Она подошла к столу, взяла пульт, выключила телевизор и возмущенно воскликнула:
– Тебе не стыдно?!
– Что такое, Наташенька? – округлились его глаза.
– Я жду тебя в спальной, а ты тут телевизор смотришь! – покраснела она.
Он шагнул к ней и подхватил на руки…
41
И опять все вышло хорошо. Он уложил ее, раздел и при свете дня долго и нежно колдовал над ней, неторопливо захватывая губами в плен всё новые пяди ее королевства. Время от времени он подбирался к ее уху и шептал неслыханные, головокружительные слова. Вскоре она уже вся горела и неотвратимо неслась к порогу исступления. Что будет за порогом, она уже знала – головокружительная карусель стонов, рыдающая гибель рассудка, сладкий восторг безумия и беспорядочные конвульсии души и тела.
Ей даже не пришлось менять позу. Опрокинутая на спину, она умирала трижды и трижды оживала, хватая ртом воздух и снова проваливаясь в черную судорожную дыру. Он осторожно вел ее по самому краю, потому что уже понял, что по каким-то причинам она почти не знакома с техникой вождения, отчего возможен занос. И когда она, слабо упершись руками в его грудь, жалобно и сдавленно простонала: «Не могу больше, не могу, не надо, уйди!..» он отпустил ее, лег рядом и принялся успокаивать, гладя ее безвольную руку:
– Тш-ш-ш, тш-ш-ш… моя хорошая, моя славная, моя любимая девочка…
Она покрылась испариной, волосы у нее на лбу слиплись, рука подрагивала. Минут пять она лежала, закрыв глаза и не двигаясь, а затем пробормотала:
– Иди ко мне…
– Нет, лучше ты ко мне! – ответил он и раскрыл объятия.
Она снова нарушила свои гордые правила и, уложив голову ему на плечо, отпустила руку на короткую прогулку по его груди и животу, строго следя за тем, чтобы не выйти за рамки приличий. Как ни был он хорош, но он не Володя, а всего лишь талантливый самец, и ласки ниже пояса ему, как и предыдущему любовнику, не положены. Тело его, в отличие от плотного, бугристого Феноменко, отзывалось приятной полнотой и было совершенно сухим, да к тому же без ужасной обезьяньей растительности. И самое главное, оно не пахло потом. И тут вдруг неприличное любопытство одолело ее: интересно, как выглядит у него то необычное, что заставляет ее буквально бесноваться? До сих пор она избегала опускать взгляд в то место, что облюбовала у него мужская сила, где, гордясь собой, нелепо прилепилась к гладкому складному фасаду этакой уморительной финтифлюшкой; то место, которое он пока благоразумно прикрывал. Помнится, тот же Феноменко любил выставлять ей на обозрение свой жеребячий отвес, которым явно гордился. Она же всегда торопилась отвести взгляд от безразмерного, уродливого, отдающего сморщенной чернотой корня, каждый раз с брезгливым изумлением спрашивая себя, как ЭТО в ней помещается.
Безусловно, у нового любовника ТАМ было нечто совсем другое – деликатное и разумное, и вот теперь ей до смерти захотелось на ЭТО взглянуть. Она сказала: «Подожди, я поправлю одеяло!», после чего села, совершенно не заботясь, что вместе с голой спиной выставляет на его обозрение нескромную часть расплющенных ягодиц, деликатно разделенных тенистым ущельем, на дне которого находится вожделенное убежище испорченных мужчин. Он тут же возложил свою неутоленную руку на лакомые места и принялся обхаживать их, потискивая нежно и призывно.
Да, ему доводилось практиковать иной способ проникновения. Следует, однако, сказать, что он находил его унизительным для порядочной женщины и никогда на нем не настаивал, если его партнерша не просила об этом сама. Совершить с ней подобное он не смог бы даже под страхом смерти. Напротив – пожелай она вдруг испытать вместе с ним то тугое кощунственное наслаждение, что таилось в бело-розовых складках ее ягодиц, он безмерно огорчился бы и воспротивился. Также как всему прочему, что выходило за рамки ее королевского сана, грозя обнаружить в ней разнузданную кухарку.
Что касается ее, то ко всем иным способам кроме, так сказать, божеского, она всегда относилась с непоколебимой и тошнотворной брезгливостью. И узнай она, о чем пусть даже презирая себя, думал ее новый избранник, она выгнала бы его в тот же миг, отгородившись от него пушечным выстрелом. И это правильно, ибо, чем дальше мужчина и женщина забираются в лавку дьявола, тем больше отворачиваются от них ангелы. Зачем, скажите, ей извращения, если то жалкое и обрубленное, словно бульдожий хвост удовольствие, которое она испытывала до сих пор, она получала проверенным библейским способом? Правда, когда в это дело вмешалась любовь, то оказалось, что возвышенные чувства способны, как ни странно, опускать нас до смущенных поступков. Так было с Володей, когда она чуть было не нарушила свой обет-минет.
Принимая ласки, которыми ее нелюбимые мужчины распаляли свое желание, сама она никогда не ласкала ни Мишку, ни Феноменко. С Володей все было по-другому. Жадно и неутомимо атакуя его поцелуями, она вела себя порой сродни матери, что одержимая ненасытным материнским чувством, зацеловывает голого ребенка. Но чаще ее материнство на полпути уступало место влюбленной женщине, и тогда она, преодолевая стыд, дотягивала пунктир поцелуев до впадины его живота, мечтая совершить оттуда бросок к вожделенному алтарю и исполнить там обряд – такой же унизительный, как и возвышенный. Не уступая по значению потере девственности, он стал бы для нее высшим доказательством ее любви, сделав его семя частью своего рациона. Однако Володя, в отличие от нее, так не думал и никогда не позволял ей опускаться ниже положенного, подхватывая и подтягивая ее в последний момент к себе на грудь. Жалея о его щепетильности, она неохотно уступала, успевая бросить взгляд на то, что уже лелеяла грудью. Они никогда, даже в кромешной темноте, не обсуждали ее поползновения. Это была их молчаливая игра, в которой всегда побеждал он. И когда однажды она попыталась захватить его врасплох, он, резко подтянув ее к своему лицу, произнес чужим, строгим голосом: «Мне ЭТО не нужно!», после чего она с мучительным сожалением оставила попытки включить его лучшую часть в сферу своего помадного интереса.
Разумеется, в этом смысле ее новый любовник находился в одном ряду с Мишкой и Феноменко, а стало быть об ЭТОМ не могло быть и речи, как бы он того не заслуживал. Ни через месяц, ни через год – никогда!
Она откинула и принялась расправлять сбитые покровы, сама тем временем жадно косясь на его чудесный проказник-челнок. Он, как и положено пронырливому челноку, оказался гладким, аккуратным, симпатичного размера и достоинства. Запутавшись в темно-русой кудрявой роще, слегка раскрасневшись и лежа на боку, ОН вдруг вздрогнул, напрягся и на ее глазах двинулся против часовой стрелки на двенадцать часов. Любовник спохватился, прикрылся неловкой ладонью, и она, удовлетворив любопытство, сказала:
– Покажи спину…
Он повернулся на живот. Она склонилась, чтобы осмотреть вчерашние царапины, и взгляд ее скользнул ниже – туда, где за границей загара бугрились его полные белые ягодицы.
– Тебе обязательно надо похудеть, – сказала она, укладываясь обратно.
– Ты права, завтра же начну бегать! – ответил он и, прикрыв полноту одеялом, как бы между прочим спросил:
– У тебя после жениха кто-нибудь был?
Она оторвала голову и быстро взглянула она на него:
– Почему ты спрашиваешь? Тебе что-то во мне не понравилось?
– Что ты, что ты! – заторопился он. – Более чувственной и безукоризненной женщины я не встречал! Ты само совершенство, правда!
Она отделилась и легла на спину.
– Кстати, ты знаешь, что у тебя на теле всего три родинки? Три маленькие, сладкие, бархатные родинки! – заискивающе сообщил он.
– Какие еще родинки? – помолчав, удивилась она.
– Разве тебе никто не говорил?
– Нет, никто… И где они?
Он заставил ее повернуться к нему спиной.
– Здесь, здесь и здесь! – дотронулся он до поясницы, до ягодицы и до плеча.
– Когда это ты успел разглядеть?
– Сегодня утром…
Она помолчала, словно собираясь с духом, а затем нехотя призналась:
– Да. Был один… дядечка… Но я не хочу о нем больше вспоминать!
И снова откинулась на спину. Он взял ее руку и приложил к губам:
– Ну и не будем больше об этом. Никогда!
– Ну, вот! Теперь ты знаешь обо мне все, что положено знать жениху! – насмешливо сказала она. – Неплохо бы и невесте знать о своем женихе! Давай, признавайся, сколько их у тебя было! Только без родинок на ягодицах, пожалуйста…
Так уклончиво и несерьезно вернулась она через полтора месяца к его предложению руки, сердца и состояния. Что ж, ему скрывать нечего. Почти нечего. И пользуясь уже проверенным методом отсечения, он принялся набрасывать историю своих любовных похождений, сочинив весьма причудливую и выгодную для себя композицию.
Всего их у него было шесть. Не так уж и много по нынешним меркам. При этом он скромно опустил еще девятерых, что не оставили заметный след на его пути, и чьи имена и лица были обречены на забвение с самого начала.
– Что было, то было, – подвел он мораль под свою басню. – И было так только потому, что я не знал тебя. Если бы я знал, что ты есть, то задушил бы твоего мужа и отбил бы тебя у твоего жениха!
– Ну, это вряд ли! – подала она голос.
Он подтянулся, поцеловал ее и, сунув руку под одеяло, дал ей волю. Она попросила:
– Давай отложим до вечера! Иначе я буду никакая, а нам еще по магазинам ходить! Хорошо? Ты не обидишься?
Он убрал руку и смущенно сказал:
– Наташенька, я не успел… Можно я сделаю так, что ты ничего не почувствуешь, иначе я до вечера не доживу!
Она покраснела, тихо рассмеялась и сказала:
– Противный мальчишка! Ладно, так уж и быть…
И он, уложив ее на бок, быстро добился желаемого. Она и в самом деле почти ничего не почувствовала. Однако какие полезные приемы он знает!
После этого он сомлевшим голубем пристроился у нее под боком, и около часа дня они встали. Перед тем как показаться ему на глаза она долго приводила себя в порядок…
42
День получился замечательный.
Они поехали в Гостиный двор и купили там, все что нужно и к этому еще два больших пакета хозяйственных вещей, до которых у нее раньше не доходили руки, а также те, что ей просто приглянулись. Он оказался большим знатоком семейных ценностей, будь это полуторная белорусская кровать или унитазы фирмы Gustavsberg, английский мягкий фарфор прозрачного сливочного тона или блендер фирмы Braun, универсальный перфоратор или итальянский боди-комбинезон. Они выбрали ему велюровый халат пятьдесят второго размера, серый, в темную полоску, с рукавом кимоно. Не забыли про одеяло: купили легкое, полуторное. После заехали в универсам, где он набрал полную тележку продуктов.
Вернулись домой, и он, повязав фартук, принялся готовить обед. Она, как когда-то Мишель, с интересом за ним наблюдала, только вот губы в отличие от француженки не подставляла. Он открыл вино и пока готовил, развлекал ее веселыми историями из своей жизни, на что имел теперь полное право. В числе прочих вспомнил курьезный случай, что произошел с ним в девяносто четвертом в Хельсинборге, где он со своими шведскими партнерами рыскал по складам подержанных товаров. А было так:
Днем они славно потрудились, и на вечер был назначен дружеский ужин, местом для которого выбрали паром, соединяющий Швецию с Данией. Преимущество плавучего ужина заключалось в том, что цены на пароме были освобождены от налогов, а потому ужин со скидкой был в почете у обоих берегов.
Миновав весьма условную, почти потешную пограничную службу и попав на паром, они вчетвером обосновались в питейно-закусочном отделении и сразу же приступили. Поскольку процесс потребления спиртного в нейтральных водах хоть и дешевле, но скоротечнее, чем на берегу, то и пьют его там больше и быстрее. Через сорок минут паром пристал к датской земле, они вышли на палубу, и сильно повеселевшие шведы указали на старинный замок справа от пристани, утверждая, что это и есть тот самый замок, в котором жил и страдал Гамлет. Он им не поверил, поскольку всегда представлял себе Эльсинор, как нечто тяжелокаменное, угрюмое и гнетущее, расположенное среди грозовых, мрачных, скальных пород, а эта безобидная, глянцевая, несколько вычурная достопримечательность могла в лучшем случае быть приютом спящей красавицы, а в худшем – служить декорацией сказкам Андерсена. Словом, замок, на который указывали шведы, ни размером, ни заплесневелым пряничным видом не тянул на арену клокочущих страстей. Его спутники настаивали на своем и в доказательство предложили спуститься на берег и посетить замок. Не зная, как объяснить сынам свободной Европы, что тогда он со своей шведской визой нелегально проникнет на датскую территорию, и обнаружься этот факт, его никто никуда больше не пустит, и в первую очередь свои, он нашел предлог и дипломатично отказался.
Подкрепив свежим морским воздухом прокуренные легкие, компания вернулась в зал, где уже вовсю гремело раскатистое веселье. Плавучий кабак дрожал от разнузданного интернационального хора, объединившего всех посетителей без разбора. Мужчины колотили в невидимые барабаны и выдували немыслимые гласные, женщины хулиганили и лезли целоваться. Наверное, так и происходили древние пиршества викингов. Он с друзьями присоединился к разгулу и даже оказался в объятиях одной сильно загрунтованной дамочки. Захваченные гипнозом коллективной попойки, они не заметили, как вернулись в Швецию, где паром подхватил свежую партию бузотеров, после чего вернулся в Данию. Там они опять вышли на палубу, и шведы вновь предложили посетить датское королевство.
По-прежнему считая, что замок липовый, он в этот раз сослался на поздний для экскурсий час, с чем шведы, взглянув на нетрезвые часы, нехотя согласились. Пока курили, он дал волю изрядно захмелевшему воображению, которое розовый благоухающий вечер и теплый сизый ветер перенесли вдруг через бездну дней и опустили посреди квадратной площади рядом с неспокойным молодым человеком. «Ну, так что, быть или не быть?» – спросил его Дмитрий, и чудной человек, удивленно на него взглянув, ответил: «Что за вопрос! Конечно, быть! Ведь жизнь так молода и прекрасна!»
Вернувшись в Швецию, они сошли на берег и там продолжили веселье.
Пикантность же прогулки, как он потом сообразил, заключалась в том, что если он и не ступал на землю датского королевства, это не помешало ему дважды незаконно пересечь его водную границу, за что, будь это в России, его непременно бы посадили. Но и это не все. Приехав домой, он разобрался с географией, и оказалось, что город в Дании, к которому они дважды причаливали, называется Хельсингёр, или в упрощенной русской транскрипции Эльсинор, а это означало, что он действительно был рядом с замком Гамлета!..
– Почему бы нам однажды не побывать там вдвоем? – заключил он.
Тут ей позвонила Светка Садовникова, и она ушла с трубкой в самую дальнюю и необитаемую комнату, оставив его наедине с кошкой.
– Давай-ка я тебе кое-что дам, пока хозяйка не видит! – сказал он кошке и подал ей мелко нарезанную буженину, чем навсегда покорил кошачье сердце.
Через десять минут он постучал в дверь дальней комнаты и сообщил, что все готово. Она вышла и сказала:
– Светка Садовникова, подруга моя, тебе привет передает. Очень хочет познакомиться!
На золотом крыльце к тому времени сидели: суп из шпината с чесноком и вареным яйцом, салат из помидоров и огурцов с мелко нарезанной антоновкой, натертым корнем сельдерея, заправленный лимоном и карри и посыпанный укропом и кинзой. Отдельно остывали жареные свекла, морковь и лук. Мелкий отварной картофель с каплями пота на сухих блестящих боках ждал очереди в кастрюле. На маленьком огне, на купленной сегодня массивной сковородке доходили отбивные из куриного филе, залитые тонким слоем взбитого яйца. Среди этого изобилия затерялись любимая им буженина, семга, сыр, так подходящий случайному движению рассеянной сытой руки, и зерновой хлеб самой последней свежести. Соус чесночный, к сожалению, покупной. Будет время, он обязательно сделает сам.
– Тебя еще ждут твои любимые миндальные пирожные, – скромно сообщил он, выслушав поток восхищенных слов. Она не удержалась и поцеловала его в щеку, а затем побежала переодеваться.
Через пятнадцать минут она возникла в легком вечернем платье. Играя плиссированными сиреневыми складками от талии до колен и бледнея по мере того, как подбиралось к бюсту, оно держалось на тоненьких бретельках, цепляясь ими за самые кончики прямых ровных плеч и оставляя достаточно места, чтобы оценить красоту груди. У него перехватило дыхание.
– Ты сногсшибательная! Ты умопомрачительная! – восхитился он, пожирая ее глазами. – Наташенька, у меня нет слов!
Было семь часов, когда они уселись за стол. Он встал и поднял бокал за истинный день рождения их семейных отношений, пообещав, что не забудет его никогда и не даст забыть ей. Что это будет их главный и святой семейный праздник, потому что все остальное обязательно будет прекрасно, но будет следствием.
– Знаешь, что я хочу? Я хочу прожить с тобой до конца жизни где-нибудь на краю света, пока не уйду и не оставлю вместо себя фотографию на стене твоей комнаты и обязательно еще славного мальчонку и такую же прекрасную, как ты, девочку… Что скажешь?
– Надеюсь, ты хочешь это сделать в законном браке? – рассмеялась она, скрывая смехом смущение.
– Хоть завтра! Мое предложение круглосуточное и бессрочное! – сказал он и залпом опустошил бокал.
Она отпила немного и отставила бокал в сторону. Еще с того мрачного февральского дня в Париже помнила она, к чему приводит легкое отношение к сухому вину. Они же к этому времени выпили почти полторы бутылки, но пока все было хорошо. Впрочем, с ним она уже ничего не боялась. Она даже представила, как нежно и трогательно он будет за ней ухаживать, случись с ней опустошительная неприятность.
В десять они допили кофе, и он, не дав ей вымыть посуду, сделал это сам. Она переоделась в другое платье, легкое и доступное, которое не жалко было мять, и они пошли в гостиную.
– Не хочешь послушать Шопена? – спросила она, не зная, чем отвлечь от себя его жадный взгляд.
– Обожаю Шопена! – объявил он.
Она вставила диск, села на диван и позволила ему себя обнять. Прижимая ее к себе одной рукой, он другой подносил к губам ее ладонь и, покалывая легкой щетиной, нежно и протяжно целовал. Они слушали до одиннадцати, пока он не положил руку на ее колено и не двинулся выше. Тогда она освободилась от его объятий, села и сказала:
– Не здесь, Димочка. Давай лучше ляжем.
Возможно, в случайных местах и позах есть своя прелесть, но этого не любил Володя, который смотрел на них со стены. Они легли в кровать, и он сделал так, чтобы она умирала медленно, с удовольствием и не более двух раз. В эту ночь они спали под одним одеялом и от этого проснулись одновременно, а проснувшись, не сговариваясь, потянулись друг к другу…
После завтрака они расстались – она поехала на Петроградскую, он к себе домой. Договорились, что вечером он будет у нее. В течение дня он под разными предлогами звонил ей пять раз, а вечером, поцеловав ее, прошел с ней на середину гостиной и достал из кармана красную бархатную коробочку.
– Наташенька, дорогая моя! Я официально и с замиранием делаю тебе предложение стать моей женой и клянусь, что сделаю все, чтобы ты была счастлива!
Он открыл коробочку, и она увидела золотое кольцо, украшенное одиноким, гордым бриллиантом. Шутки в сторону, и она очень серьезно сказала:
– Хорошо, я согласна. Но при одном условии…
– Каком?
– Я буду носить его год, и если все будет хорошо, мы назначим день свадьбы.
– Согласен! Позволь мне его тебе надеть!
Подставив палец, она испытала малоторжественное любопытство, угадал ли он с размером. Он и тут угадал – кольцо скользнуло и уселось на пальце по-домашнему.
– Значит, мы теперь жених и невеста? – возбужденно блестя глазами, спросил он.
– Выходит, так! – улыбнулась она.
Все ее мужчины начинали с кольца.
Часть II. «Любовь»
1
То были золотые дни его счастья, и в них она – лучезарный бриллиант его очарованной души. Как полная луна взошла она над туманным ландшафтом его одиночества, и он, завороженный серебряной мишурой ее лучей, поспешил за ней, не глядя под ноги и не спуская с нее глаз.
Его словно снабдили крыльями и освободили от пудовых гирь. В распахнувшемся поле зрения, во всех его видениях и предвидениях, среди неслышимых, неосязаемых и непознаваемых субстанций – везде один ее парящий над миром свет. С ним были повсюду ее сияние, ее изнеможение и тихий смех мерцающей темноты, а нежный аромат ее духов теперь мешался с его одеколоном. Всё, что было до нее, оказалось лишь предчувствием их встречи. Это ее руку не хотел он отпускать много лет назад. Это для нее хотел он петь, читать стихи и рисовать. И теперь ему открывались, наконец, двери, дверцы и дверки непогрешимой истины по имени любовь. Он жил, не желая замечать никого вокруг, потому что мир уже был не мир, а механический спектакль, где играли куклы, из которых живые – только он и она. Все, что было с ним раньше, померкло и растаяло.
С ней ли, без нее ли, он не уставал восхищаться ею, пока восхищение его не превращалось в испуганную мысль – не спит ли он, и на самом ли деле эта красавица отдалась ему, сорокалетнему мужчине, ростом выше среднего, слегка грузноватому, лысоватому и картавому. Ему казалось, что он всегда, еще до начала их знакомства знал, какой гибельной властью обладает ее тело. В ней жила та редчайшая порода, что не позволяла ей ни толстеть, ни худеть и счастливым сочетанием пропорций и объемов вызывала у соперниц злую, неутолимую зависть. При ходьбе она без всяких усилий с ее стороны укладывала следы в ниточку, тогда как большинство женщин оставляют после себя две параллельные кривые и, разговаривая по мобильному, отставляют локоть. Она же свой локоток прижимала, как и занятую сумочкой руку, отчего шла навстречу судьбе, как по подиуму.
«Что за божественное у нее тело!» – восхищался он, любуясь подтянутой, удлиненной соразмерностью ее фигуры. Он с замиранием наблюдал, как вывернув в локтях тонкие руки, она скидывала у него на виду лифчик, а затем запускала пальчики в кружевные слипы, чтобы освободить себя от их тугого зазнайства. Недовольно сморщившись, они покидали теплое насиженное место, заставляя ее при этом поклониться их мягкой уступчивости. Незнакомая с кормлением грудь ее округлялась, слегка провисая и целясь набухшими наконечниками в окатыши коленок. Те, в свою очередь, храбро кидались сквозь раздвинутые кружева им навстречу, испуганно прячась при сближении и вновь проступая при расставании. Избавившись от трусиков, она выпрямлялась, грудь ее призывно тяжелела и вместе с чуть выпуклым животом и гладким точеным веретеном бедер устремлялась на встречу с его волшебными руками и чародеем-челноком.
“You are so beautiful to me…” – пел Джо Кокер.
Лаская штрих-код ее губ и распаляя оркестр ее трепетных инструментов во главе с бархатной виолончелью, он дирижировал симфонией ее ахов и вздохов, сдавленных стонов, сухих рыданий, предсмертных криков и посмертных глиссандо, а после, лежа рядом с ней и слушая, как тают раскаты финальных аккордов, вспоминал время, когда жил на Петроградской, где во Владимирском соборе звонили в колокола. Помнится, он застывал и завороженно прислушивался к их повелительному всепроникающему гулу, не в силах разгадать их требовательный призыв и значение, тайну которых невразумительные объяснения родителей лишь усугубляли. Теперь тот же повелительный гул и требовательный призыв слышал он внутри себя, любуясь густыми, незнакомыми с краской каштановыми волосами, слаженными чертами удлиненного лица с чуть бледной, тонкой и чистой кожей, упрямством скул – обителью непростого характера, черной гвардией ресниц, охраняющих два суверенных государства-близнеца, прямым задорным носиком над пухлыми губами, безукоризненно гладким подбородком – резным резюме ее зрелой, ухоженной красы. Чистые, звонкие колокола того возвышенного храма красоты, которым она была и где ему позволено было служить.
В его чувстве к ней и вправду было что-то религиозное. В очередной раз сраженный ударной волной любви, он лежал рядом с ней, испытывая почтительное удивление перед таинственным назначением их добровольного потрясения. Почему даже имитация сотворения человеческой жизни сопровождается обоюдной очистительной бурей ее лже-творцов? Зачем эта сладкая смерть, если бесплодная половая жизнь не нарушает равновесие Вселенной? Ведь в этом случае все должно быть устроено гораздо проще и рациональнее!
Через неделю после их первой близости Наташа побывала у него дома. Вера Васильевна, взглянув на нее, поджала губы и всю их встречу оставалась крайне немногословной, покинув их при первой же возможности. Оставшись с сыном наедине, она каркнула о будущей невестке с прозорливостью вороны:
– Хлебнешь ты с ней горя, сынок…
Сынок он у нее был только в тех случаях, когда слова ее тянули на пророчество.
– Как же так! Ведь еще недавно ты мечтала, чтобы я на ней женился! – возразил он.
– Мало ли о чем я когда-то мечтала! – отвечала Вера Васильевна с норовом.
– Тогда что не так?
– Гордячка она. Не для тебя. Будешь у нее всю жизнь на побегушках…
– Ну, так я не прочь ей послужить! – обиженный приговором, бросил он с вызовом. Будь это сто лет назад, не видать бы ему родительского благословения.
У них наладилось подобие семейной жизни. Теперь он почти все вечера проводил у нее и оставался до утра, за исключением тех случаев, когда его мнительная мать ни за что не желала ночевать одна. Они ужинали с сухим вином, орошая им те забавные экзотические деликатесы, которые он привозил с собой. Например, суп по-нормандски, салат «Парадиз», заяц под чесночным соусом с картофелем «Дофинэ», с молоком и сыром. Или фрикасе из курицы, суп по-версальски, улитки по-бургундски, чечевица по-эльзасски и шпигованные баклажаны по-гасконски. А то и мидии с кориандром и фламбэ из фуа-гра со свежими ягодами. И пусть на вкус все эти блюда часто оказывались пресными и менее звучными, чем их названия, но они возбуждали в ней шаловливое любопытство, которое он всячески поощрял. Он никогда не спрашивал, любит ли она его, потому что то улыбчивое и ровное внимание, которое она ему дарила, его вполне устраивало. А если женщина, к тому же, ложится с тобой в постель, то требовать от нее каких-то иных доказательств любви может лишь свихнувшийся эгоист.
Просыпаясь, он на цыпочках торопился на кухню, чтобы приготовить кофе, собрать на стол и дождаться, когда она, трогательно сонная, опустошит сливной бачок, отразится в зеркале, скинет халат и короткую сорочку, затем сверкая и подрагивая белоснежными следами бикини, влезет в душевую кабину и, облив себя блестящей водой, огладит грудь, живот, подмышки, пах. После этого взъерошенным полотенцем разотрет упругую кожу, натянет тугие полупрозрачные слипы и набросит халат. Щеткой расчешет потрескивающие волосы, соберет их на затылке в узел и назначит им в надзиратели серебряную заколку. После этого выйдет, розовая и обворожительная, поцелует его в щеку и сядет пить кофе. Коротко расскажет, где она собирается сегодня быть и попросит не тратить его драгоценное время на поиски сомнительных деликатесов. Пусть он лучше сам приготовит что-нибудь простое и легкое. И не стоит звонить ей раньше одиннадцати. Как быстро, однако, бежит время – через неделю Новый год! Кстати, не пригласить ли им на новогоднюю ночь всех ее подруг с их мужьями? Между прочим, хороший повод со всеми разом познакомиться. У нее замечательные подруги, просто замечательные, она им многим обязана! Сегодня с утра ей нужно на Петроградскую, и потом она будет в разъездах, иначе попросила бы довести ее до Кузнецовской и забрать оттуда вечером. Что он собирается делать днем? Как обычно? Ну, хорошо, значит, вечером увидимся. Спасибо, Димочка, за завтрак: ты у меня такой заботливый и внимательный! Ты готов? Что ж, вперед!
Иногда он натыкался на стену ее плохого настроения, и тогда ему казалось, что близость не делает их ближе. Как ни грустно было сознавать, но телесные утехи для нее пока значили больше, чем его любовь. Выходило, что все их отношения тянет на себе его мощный передний привод, а она – лишь прекрасная западня для потерявшего нюх ловеласа.
Он, как и обещал, занялся бегом и вскоре похудел на четыре кило, за что удостоился ее похвалы. Она разрешила себя сфотографировать, придирчиво отобрала из всех фотографий две, какими он и украсил бумажник и свой рабочий стол.
2
На следующий день после того, как дала себя обручить, она, испросив у него передышку и оставшись одна, сняла Володину фотографию, протерла, поцеловала и спрятала в дальний угол. Весь вечер она ходила задумчивая, поглядывала на кольцо, то улыбалась, то хмурилась – это играл молодыми сполохами ее новый внутренний свет.
Отныне оргазм приходил к ней с уверенной и безотказной яркостью, но чтобы извлечь его глубоко залегающее упоительное безумие, ее любовнику приходилось хорошо потрудиться. Дело свое он делал так старательно и основательно, что эмоции били из нее фонтаном. Ему удавалось не просто открывать кран ее страсти, из которого до него сочилась лишь худенькая ржавая струйка, но и умело им манипулировать, отчего их путешествия через грозовой перевал к восхитительному бессилию стали для нее желанными и неутомительными.
Как знатная пациентка дорожит талантом своего придворного лекаря, так она дорожила его уникальной способностью, попутно убеждая себя, что вовсе не обязана платить за это любовью. На самом же деле она попросту боялась влюбиться раньше времени. Измена мужа, гибель жениха и несуразное бездушное сожительство последних лет отвратили ее от формальной логики простодушных девичьих грез, как хронически неверный прогноз погоды обращает в разочарование веру в ее предсказателей. Да разве мало женщин, по разным причинам оказавшихся в зависимости у мужчины, живут с ним с улыбкой, но без любви!
Иногда серые облака меланхолии набегали на ясный и прозрачный небосвод ее осторожного воодушевления, и тогда все достоинства нового любовника вдруг разом меркли, как меркнет экран телевизора в отсутствии резервного питания, каким для нее могла быть любовь. Другими словами, в обновленной версии ее жизненной программы продолжали копошиться своенравные вирусы прошлого, способные обесточить их отношения. И все же, если не брать во внимание эти редкие душевные сбои, ровная и смешливая радость не покидала ее.
И вот уже выпал снег и почти миновал декабрь, а с ним и их медовый месяц, однако, судя по всему, запасы меда в его сердце нисколько не убавились: с какой стороны на него не посмотри, не нарадуешься. Постельное остервенение первых дней уступило место вдумчивой и кипучей страсти. Новое качество удобно устроилось среди краеугольных камней ее личности, разгладив последний напряженный мускул ее лица и по праву украсив его выражением королевского всезнайства.
Она объявила своим подругам о помолвке, чем взбаламутила доброе море их отношений. Все хотели видеть жениха, и она решила собрать их на Новый год у себя.
Однажды она ему сказала:
– Светка, подруга моя, рвется с тобой познакомиться. Ты уж, пожалуйста, будь с ней поласковее…
Пришла Светка, шумная, добродушная, с большими любопытными глазами и крупным ртом, от которого при улыбке разбегались всезнающие морщинки. Ровно и твердо, без той женственной пружинистой томности, которой, как чужому языку она никак не хотела учиться, Светка прошла на кухню, просверлила жениха ревнивым взглядом, но, кажется, ничего плохого внутри не обнаружила. Кроме того, она нашла, что невеста похорошела и стала как бы мягче. Эти две новости она распространила среди подруг, подогрев ими ожидания встречи.
Утром тридцатого декабря, не имея терпения ждать, он преподнес ей купленное накануне колье стоимостью пятнадцать тысяч долларов. Не то чтобы не придумал ничего лучше, а скорее вследствие безотчетного стремления вернуться в начало парижской страницы и вписать ее туда задним числом.
Резная змейка из белого золота удерживала четыре последовательные бриллиантовые вставки, за которые в свою очередь цеплялся тонкий каплевидный ободок, усеянный шестнадцатью сверкающими тем же сухим, колючим блеском розочками, а внутри ободка покачивался крупный аметист – звонкий язык его сердечного набата, сиреневое хранилище его упований. Что ни говорите, а мужской подарок – это либо аванс, либо благодарность женщине за захватывающие дух удовольствия. Приняв загадочный вид и пряча подарок за спиной, он торжественно объявил:
– Наташенька, дорогая, хочу преподнести тебе скромный подарок, который тебя не стоит, ибо ты у меня бесценна! Делаю это не потому что ты позволяешь себя касаться, а потому что ты есть и терпишь меня рядом с собой! Я тебя люблю! – закончил он, вручая колье.
Она сдержанно обхватила любопытными бледно-розовыми ноготками черную продолговатость футляра и, осторожно откинув крышку, впустила туда свет. Некоторое время она, не отрываясь, смотрела на обильное бриллиантовое сияние, а затем растроганно поцеловала жениха в предусмотрительно подставленные губы.
– Подожди, я сейчас! – вернула она ему футляр и убежала в комнату, где хранились ее наряды. Вернувшись в черном вечернем платье, она извлекла из красного бархатного лежбища его весомое признание в любви, встала перед зеркалом и приложила к груди. Он помог ей с застежкой и, склонившись, коснулся губами шейки. Она полюбовалась на свое отражение, порывисто обернулась, обняла его за шею и прочувствованно поцеловала. В ее порыве ему почудилось что-то болезненно похожее на благодарность Мишель. Она снова ушла и вернулась с мягким ярким пакетом.
– Я не знала, что тебе подарить и вот купила это… – протянула она ему пакет.
– Конечно, мой подарок гораздо скромнее твоего…
Он даже не стал смотреть, а прижал ее вместе с пакетом к себе:
– Наташенька, мне не нужны никакие подарки, мне нужна только ты!
– Ты все-таки посмотри, – потребовала она, освобождаясь от объятий.
В пакете оказались две дорогие рубашки и два галстука. Он тут же вспомнил, как присматривался к ним в Гостином дворе, где они побывали на следующий день после их первой ночи.
Вечером в спальной, перед тем как нырнуть к нему под одеяло, она меняла платья и, стоя перед зеркалом, прикладывала к ним украшение, приговаривая:
– Прелесть, просто прелесть!
Он наблюдал за ней из постели, словно присутствуя при колдовстве молодой ведьмы, что прикладывая к своему и без того прекрасному телу магические кристаллы, обретает их чистоту, сияние и гибельный соблазн. Каждое платье делало ее иной, оставляя все такой же пленительной. Листая себя, как увлекательную книгу, она меняла свой облик, характер, историю и от этого только здесь и сейчас познал он великую силу и мудрость моды. Глаза его сияли умилением, с лица не сходила глупая счастливая улыбка. Закончив примерку, она скинула сорочку, скользнула к нему и, прижавшись, сказала:
– А ты, Димочка, и в самом деле не иначе, как коварный соблазнитель! Сначала окольцевал, а теперь вот ошейник одел! Так ты меня скоро на золотую цепь посадишь!
– Я бы, может, и хотел, только вряд ли это возможно, – с оттенком шутливой грусти ответил он, – ведь ты меня не любишь!
– Как не люблю? А это что? – притворно возмутилась она и припала к его губам, стараясь целовать как можно натуральнее.
Он ответил на ее поцелуй, но она продержалась недолго, и он, неслышно вздохнув, занялся ее телом. Как всегда он был нежен и убедителен, пока не исчерпал ее и себя до дна, и не погрузился вместе с ней в сон.
3
Он попросил ее быть в Новый год в памятном ему сиреневом платье, и поначалу она не возражала, но затем что-то своенравное и вредное заставило ее выбрать то самое роковое, черное, что было на ней во времена «Дворянского гнезда» и которое она, ни разу после смерти жениха не надев, до сих пор хранила в шкафу.
Она извлекла его из маргинальных глубин платяного пространства, куда время незаметно смещает наши вкусы, превращая их в старомодный подслеповатый гербарий. Достала, поднесла к свету, оценила, даже понюхала. В нем не было жизни, не было желания, и от него исходил пресный душноватый запах: обвисшая, помятая память ее давнего душевного оргазма. Она хотела тут же вернуть его назад, но передумала и занялась им – отпарила, освежила, вернула в сегодняшний день. Надев, нашла, что она за это время немного поправилась, однако платью это пошло лишь на пользу. По-прежнему эффектное, оно благодарно прильнуло к телу и ожило на нем. Решено – она не послушает жениха и наденет именно его.
Вечером тридцать первого он вместе с ней выходил встречать гостей, с напряженной улыбкой располагаясь позади нее. Радостные возгласы и поцелуи перехватывала она, ему же после ее слов: «Знакомьтесь – это Дима!» доставались быстрые испытующие взгляды, тактичные улыбки и осторожные рукопожатия. Позже всех пришел Яша Белецкий с женой и, приветливо поздоровавшись, укрыл в глазах напряженный интерес.
Решительно освобождаясь от мужей и отправляя их в гостиную, женщины скапливались на кухне, соединяя удовольствие от встречи с праздничным возбуждением. Что может быть живописнее, звонче, воинственнее, осведомленнее, категоричнее, циничнее, озабоченнее, теснее и солидарнее, чем женская компания на пороге застолья? Вернисаж залитых лаком волос, знойное собрание обнаженных рук, плеч, шеек, грудей, как нежный перформанс женских форм; красочный калейдоскоп драпированных силуэтов и стилей, нечаянный конфликт несовпадающих вкусов; парфюмированный пир отдушек, призванных стерилизовать волнение желез. Уже изрядно искушенные и еще такие аппетитные мамочки-самочки! Торопясь и перебивая, проверяют, все ли на месте, и не пора ли вмешаться и привести в чувство своеволие, отбившееся от их разумения. Рыщут в поисках горячего сюжета, щупая мимоходом все, что попадается под руку – а вдруг чуткая ладонь интереса обнаружит там признаки зарождающейся температуры? Таковы женщины – истинные менеджеры мужского мира.
Испустив сбивчивые восклицания в адрес чужой принаряженной внешности, они подхватывали горячую тему дня.
– Мне кажется, очень достойный мужчина! – на правах дважды знакомой анонсировала Светка тему жениха.
– Ой, что вы, девочки, ну, просто классный! – поддержала ее Мария.
– Заметный дядечка! – одобрительно высказалась Ира.
– Согласна. Держится интеллигентно… – задумчиво заметила Дина.
– Это вы про кого? – спохватилась Юлька, жена Яши – редкая гостья в этом доме.
– Про Наташиного жениха, – откликнулась Светка.
– А! Ну, да! Конечно! Мне понравился! – поспешила присоединиться Юлька.
– Ну, давай, рассказывай! Как он, не стар для тебя? – обратилась к Наташе Светка, нажимая на «стар».
– А что рассказывать? Думаю, все то же, что и у вас, – уклонилась она от подробностей.
– А с этим делом как? – бесстыдничала Светка.
– У тебя, подруга, одно на уме! – покраснела Наташа.
– Так это же в нашем женском деле самое главное! – хохотнула Светка, обводя глазами подруг. Те понимающе улыбались.
– Успокойтесь! Все у него нормально! – не выдержала Наташа и добавила: – Между прочим, я от ЭТОГО даже похудела…
– Ну вот! А говоришь, все как у нас! А мы, между прочим, от ЭТОГО давно уже не худеем! – удовлетворенно заметила Светка.
Ах, если бы они ведали ее подноготную, если бы знали, как скучно ей переживать свой триумф в тишине, как утомительно гордиться собой в одиночестве!
– Вообще я вам так скажу: у него практически нет недостатков. Кроме одного…
– Какого? – не выдержала Ирка.
– Он слегка картавит. Чуть-чуть.
– Француз, что ли? – весело опередила всех Светка.
– Нет, скорее, англичанин…
– Странно. А я прошлый раз ничего не заметила, – подумав, сообщила Светка.
– Это потому, что он умеет обходиться без буквы «р», представляешь! – поторопилась сообщить Наташа и вдруг почувствовала, что заехала не туда.
Скорее, следовало воспевать его достоинства – феноменальную чуткость, заискивающую заботу, болезненное обожание, королевскую щедрость, его удивительную оргастическую способность, наконец! Или с негаснущим удивлением поведать о его многозначительном открытии – о трех родинках, которым только он из всех ее мужчин и придал значение и которые с тех пор соединял пунктирами поцелуев в щекочущее коричневое созвездие…
– А по-моему, если мужчина может делать такие подарки, – ткнула Светка в кольцо на Наташиной руке, – ему разрешается быть даже глухонемым!
– А чего свадьбу так далеко отложили? – влезла Ирка.
– Это я так решила. Лично он – хоть завтра, – призналась она.
– А зачем так долго ждать? – уставилась на нее Мария.
– Так надо, – отрезала Наташа. – Надеюсь, никто не собирается рассказывать моему жениху в дальнем углу о моем темном прошлом?
Тем временем расположившиеся в гостиной мужчины по-свойски, на что они здесь уже давно имели право, распорядились напитками и принялись вспоминать, на чем остановились прошлый раз. Его сразу же приняли в игру: откровенные и громкие реплики подразумевали его своим, а очередной рассказчик поглядывал на него с той же доброжелательностью, как и на всех прочих. Он отвечал улыбкой и где нужно кивал. Был он здесь старше всех, и намного, а потому свою выходную арию намеревался исполнить басом и в нужный момент.
Пришли женщины и принялись сервировать стол. Он извинился и пошел на кухню, чтобы завершить кулинарные хлопоты, которым предавался со вчерашнего дня. Встречаясь на ходу глазами с ее подругами, он предупредительно улыбался и говорил им что-нибудь приятное. Было около десяти, когда решили садиться за стол.
Наташа переоделась и вышла – высокая, гибкая, безупречная. Совершенный образец зрелой женской красоты, творение безумно влюбленного скульптора. Узкие прямые плечики – изящный постамент для стройной шейки и прекрасной головки. Тонкая запруда ключиц для двух глубоких желобков, разделенных обмелевшей ямочкой. На нежной авансцене груди – бриллиантовый перст, нескромно указующий в узкое ущелье между двумя полушариями. Облегающее платье до колен – черный пресс-секретарь тела, предпочитающий прозрачные намеки откровению наготы. И, наконец, ноги, обтянутые чулками телесного цвета и стройным сужением опровергающие все законы физики о неспособности восклицательного знака сохранять равновесие.
Парадный выход хозяйки вызвал несдержанный восторг мужчин и панику среди подруг – колье оказалось для них сюрпризом. Может, несчастная красавица и заслуживает утешения, только вот счастливая красавица – это невыносимо!
По заведенному здесь порядку поднялся Яша и как родного поблагодарил уходящий год за пищу и кров, за друзей и врагов, за радость и крепость уз, за дары и благодеяния, за снисхождение и терпение, за благоволение и попустительство, за незабываемые часы и счастливые мгновения, за посильные испытания и неуемную щедрость, за негромкие откровения и поучительные разочарования, за дерзость, просветление и незыблемые моральные устои. В качестве примера сослался на благотворные перемены в жизни хозяйки. Гости поддержали тезисы одобрительными восклицаниями и, со значением глядя на Наташу и ее жениха, выпили. Жующие подруги не отрывали от нее глаз, закатывали глаза и покачивали головами. И было непонятно, к чему относится их восхищение – к колье или закускам.
А между тем весь вчерашний и сегодняшний день он провел на кухне, в очередной раз удивив ее тихим упорством и основательностью. «Какой он, все-таки, молодец!» – разрасталось до изумления ее наблюдательное любопытство, следующее за его скрытым расчетом, с каким он соединял разноголосые продукты в певучие остроумные ансамбли. Он все готовил сам, поручив ей роль поваренка. Среди прочего он составил несколько салатов. Отказавшись от грузной услужливости фасоли, кукурузы, горошка, картофеля, ограничивая аппетиты сыра и яиц, он подсластил рыбу и мясо тропической лестью авокадо, ананаса, манго и прочего, что произрастает нынче на прилавках супермаркетов, добавляя нашим северным ощущениям изумрудно-бирюзово-золотистый вкус.
Были здесь и всем знакомые салаты: греческий, с кальмарами, мясной, овощной, а в угоду жирному вкусу возвышались тортоподобная «мимоза» и бордовая гора жадно любимой женщинами селедки под шубой. Он заправил их самодельным майонезом, чем придал им новый, ошарашивающий вкус. Специальными гостями выступали здесь завернутые в бекон и поджаренные вместе с ним бананы и рыбные котлеты по-французски. К этому был приготовлен соус карри с овощами.
Его одолели вопросами. Он отвечал:
– Нет, здесь нет картофеля. И яблочного уксуса нет – там обычный лимон. Куриное филе, орех, изюм, немного яблока. Филе лосося с черносливом. Да, немного сыра с яйцом, но главное – домашний майонез. Та же курица с авокадо и манго. О, это настоящий мужской салат – стебель сельдерея, яблоко, грецкий орех. Это жареные кольцами баклажаны, заправленные жареными морковью и луком. Да, конечно, вкусно. В «мимозе» к треске добавлен тунец. Да, да все дело в майонезе: он должен быть домашним. Полейте, полейте соусом, не жалейте!
Утолив первый голод, гости обнаружили нетерпение, и в действии наметился антракт. Тогда он взял слово и, дождавшись, когда зашикавшие жены уймут невнимательных мужей, сказал:
– Позвольте, наконец, представиться – Максимов, Дмитрий Константинович, не эсквайр. А потому прошу называть меня отныне и, я надеюсь, навсегда просто Дима и обращаться на «ты».
– Не знаю как мужчины, а мы только через брудершафт! Правда, девочки? – скороговоркой перебила Ирка Коршунова.
– Согласен, если позволят ваши уважаемые мужья! – продолжал он. – Так вот, я – местный, мне сорок лет, когда-то закончил финэк – заведение не менее почтенное, чем юрфак – и с тех пор работаю сам на себя. Болею за «Зенит», интересуюсь музыкой и литературой и не интересуюсь политикой. Я восхищен вашей необыкновенно дружной компанией и надеюсь, что мне тоже найдется в ней место. Обещаю быть вам таким же верным и преданным другом, как Наташа. Хочу выпить за ваше здоровье, за здоровье ваших детей и близких, за ваши прошлые успехи и будущие достижения!
На кухне, куда женщины вскоре удалились, Светка закурила и ткнула пальцами с зажатой между ними сигаретой в колье:
– Это что у нас?
– Колье. Вчера только подарил! – виновато ответила Наташа.
– Ну, и что, опять скажешь, что не знаешь, сколько стоит? – прищурилась Светка.
– Не знаю! – искренне отвечала она. – Думаю, тысячи три…
– Нет, не три! – обиженно вскинулась Юлька.
– А сколько? – удивилась Наташа.
– А я сейчас скажу… – приблизила Юлька лицо к колье и впилась в него глазами. – Это стоит… это стоит… так, так, так… это стоит… Это стоит… под двадцать тысяч! – наконец объявила она.
– Ско-о-олько? – изумилась Наташа.
– Под двадцать тысяч долларов. Поверь мне, я знаю, о чем говорю!
– Он что, с ума сошел?! – растерянно выдохнула Наташа.
– Значит, сошел, – не без иронии ответила Юлька. – Пользуйся, пока можно!
Наступило короткое молчание, нарушаемое нервным посвистом, с которым Ирка и Светка освобождались от дыма.
– А я, например, рада! – наперекор кому-то сообщила Мария.
– А мы что, не рады? – опомнилась Светка.
– Да! – поддакнула Дина.
– Действительно! – подтвердила Ирка.
Наташе стало вдруг ужасно неудобно.
– Девчонки, вы уж извините, я действительно не знала!
– Наташка, а ты-то тут причем? – пожала плечами Светка. – Правильно Юлька говорит – пользуйся, пока дают!
– Что значит – пользуйся? – обиделась она. – Я вам что – проститутка?
– Наташка, глупая! – шагнув к ней, обняла ее Светка. – Какая же ты прости господи? Ты у нас завидная невеста! Смотри, какая красавица! И богатая! Да мы еще посмотрим, отдавать тебя ему или нет! Нам мезальянс не нужен! Правильно, девки?
Девки одобрительно и вразнобой откликнулись, после чего разговор свернул в менее горячую плоскость.
Тем временем в гостиной узкоплечий, худощавый, бледнолицый Яша общался с женихом.
– А чем ты занимаешься, если не секрет? – для начала спросил он.
– Не секрет. Торгую на фондовом рынке.
– И как? Успешно? Говорят, рискованное занятие.
– Да, рискованное, но научиться можно. Главное, знать меру. Мы с другом торгуем уже десять лет, и пока успешно. А ты, как и Наташа, юрист?
– Да, адвокат. Это несколько другое занятие, чем у нее.
– Ты знаешь, предлагаю ей уехать из страны, а она ни в какую! – неожиданно для себя открылся он Яше.
– Что ж, я ее понимаю, – не удивился Яша. – Юриспруденции, как язык: лучше говорить на родном. Там у нее такой возможности не будет. Честно говоря, я и сам давно бы отсюда уехал, тем более, как ты понимаешь, мне есть куда уезжать. Но пока терплю по той же причине, что и Наташа. В общем, будет очень хорошо, если тебе удастся ее отсюда увезти. Конечно, нам всем ее будет сильно не хватать… – мужественно улыбнулся Яша.
В гостиную, продолжая громкий лестничный разговор, ввалились остальные мужья и принесли на себе запах табачного дыма. Он отправился на кухню и там обратился к женщинам:
– Простите, что вмешиваюсь, но через пятнадцать минут Новый год! Если хотите, можем встретить его на кухне!
– Да, да! – спохватилась Наташа. – Ты иди, Димочка, а мы за тобой!
Он ушел, и женское собрание завершилось тем же, с чего началось – темой жениха. Снабдив невесту дружным и лестным мнением о ее женихе, две тысячи седьмой год через десять минут благополучно скончался, успев подарить им самую важную встречу их жизни, которую они, не замечая коварных теней на лице дарителя, так серьезно и благодарно приняли.
4
Можно ли вообразить что-либо более капризное и своенравное, чем та гремучая смесь условного с безусловным, каким является всякий человек? Наглотавшись пыли наследственных дорог, что оседает в нем звериной мудростью, и позволяя скрытым страхам пугать свой сон сполохами грядущего, живет он под игом всемирного тяготения, скупясь на тяготение душевное, избавляясь от настоящего и страшась будущего.
Что может быть безусловнее страха смерти, впитавшего в себя соки всех прочих инстинктов и грозным окриком оберегающего мечтательное условное от опасности разрушения? И есть ли в нашей жизни что-либо более условное, чем родной язык, которому мы, договорившись меж собой, предъявляем на опознание наши чувства – суть призрачного мира?
Но вот кто-то неосторожно обронил слово «любовь», и тут же встает за ним нечто могучее, неподвластное и упоительное, силой воздействия на нас превосходящее даже инстинкт самосохранения. И подчиняясь ему, скажем мы со священным трепетом: никому не дано осветить эту темную бездну, в чьей глубине заключен самый сокровенный замысел космического разума. А если учесть, что безусловное также условно, как безусловно условное, то о том, что творится на сердце лишь поэт нам сумеет сказать…
Первая ночь января, превращенная сердечным уговором христиан в своевольную зарубку на божьем пути, катилась по планете, вздымая меридианы и заставляя треть землян ослаблять защитные и отпускать на волю пищеварительные и половые рефлексы.
Пожалуй, ни одно имя той ночью не упоминалось в их компании так часто, как ее, и любовное слюнотечение начиналось у него уже со второго слога. Каждый, улучив момент, считал своим долгом снабдить его напутствием и дать дружеский наказ.
Первой к нему подошла Ирка Коршунова.
– Так что насчет брудершафта? – спросила она с хмельной игривостью.
– Если позволит ваш муж! – улыбнулся он.
– Муж, ты позволишь? – обратилась Ирка к сдержанному, симпатичному молодому мужчине в очках, втянутому Светкиным мужем в бесконечный разговор.
– Да, конечно, только не увлекайся! – откликнулся тот, с улыбкой взглянув на Дмитрия, словно извиняясь за прихоть жены. Чувствуя обращенное на него со всех сторон веселое любопытство, он церемонно исполнил обряд, ощутив мокрыми губами вкус Иркиного смущения.
– Ну, все! Теперь мы на «ты»! – воскликнула довольная Ирка и тут же учинила ему допрос. Он отвечал благодушно и уклончиво, отшучиваясь чаще, чем надо и потакая ее бесцеремонному любопытству только потому, что оно направлялось дружеской по отношению к хозяйке колеей.
– Ага, вижу, тебя уже допрашивают! – весело вмешалась мимоходом Наташа и, выйдя на середину гостиной, хлопнула несколько раз в ладоши, как это делает воспитательница в детском саду. – Так! Все! Прекращаем прения и приступаем к танцам! Первый танец дамы танцуют со своими кавалерами, а потом меняемся! Итого шесть танцев подряд! Все слышали? – объявила она.
– Слушаемся, товарищ командир! – пробасил со своего места Светкин муж.
– Димочка, займись, пожалуйста, музыкой! – велела она ему.
Он извлек заранее приготовленный диск «Би Джиз», выбрал там “How deep is your love” и направился к ней.
– Выходит, я имею право только на один танец? – пошутил он, становясь перед ней.
– Глупый! Ты имеешь право на все! – сцепив кисти рук у него за шеей, тихо сказала она. Он запустил музыку и завладел ее талией. При его росте сто восемьдесят она со своими подкаблученными ста семьюдесятью была почти вровень с ним.
– Между прочим, мы с тобой танцуем первый раз, – сказал он.
– Да, верно…
– А между прочим, с этого обычно начинают! – улыбаясь, заметил он, заглядывая ей в глаза.
– Это ты виноват… Сразу потащил меня в постель… – с напускной строгостью живо ответила она и отвела взгляд.
– Неправда, Наташенька, я даже боялся к тебе прикоснуться!
– Так уж и боялся…
– Я и сейчас боюсь. Ты такая бесподобная и… чужая!
– Димочка, ну что ты такое говоришь! – с вежливым упреком взглянула она на него. – Да, кстати! – вдруг разомкнув руки, отстранилась она. – Я буду тебя сейчас ругать!
– Что случилось, Наташенька? – испугался он.
– Ты что делаешь? Ты почему так легкомысленно соришь деньгами? – глядела она на него со строгим возмущением.
– Что такое? – недоумевал он.
– Ну, это колье! Оно, оказывается, стоит бешеных денег!
– О, господи! А я-то думал… – ослабел он. – Успокойся, не таких уж и бешеных…
– Да?! А вот Юлька сказала – под двадцать тысяч! Это правда?
– Ну, скажем так: порядок она угадала… Пятнадцать.
– А разве это мало? Ты что у нас, миллионер?
– Ну, можно и так сказать…
Они стояли, держа друг друга за локти и забыв о танце. Она готовилась отчитать его на будущее, но его последние слова вызвали в ней краткое замешательство.
– И все равно это безобразие! – спохватилась она, возвращаясь к танцу.
– Наташенька, у меня рука не поднимается дарить тебе безделушки! – виновато оправдывался он.
– А у меня в следующий раз рука не поднимется брать! Ну, скажи, с какой стати ты должен мне дарить такие дорогие вещи?
– Я подумал, что однажды ты передашь их нашей дочери, – спокойно и просто ответил он, глядя ей в глаза. – Считай это семейными инвестициями.
Она отвела взгляд и примолкла: его состоятельность произвела на нее впечатление. Принимая в расчет его машину, квартиру, дом под Зеленогорском, щедрость и особую осанку, которую придает людям солидный банковский счет, она и раньше считала его достаточно богатым. Оказалось, что он богаче, чем она считала.
Танец закончился, они церемонно распались, и она направилась к Светкиному мужу. Это означало, что жених танцует со Светкой. Остальные пары произвели оживленную рокировку, и после того, как Джо Дассен запел о том, что с ним было бы, если бы его подруги не было на свете, он пригласил Светку.
– Ну, и как вам нравится наша компания? – спросила та, возложив полновесные руки ему на плечи.
– У вас бесподобная компания! Вот я, например, кроме Юрки Долгих, моего друга, не видел однокурсников лет десять! – ответил он, обжигая руки об ее талию.
– Это все Наташа. Это она у нас – душа компании. Если бы не она…
Светка неожиданно замолчала и молчала до тех пор, пока Джо Дассен окончательно не погряз в сослагательном наклонении. Вдруг она оживилась и повлекла его к столу.
– А теперь на брудершафт!
Их братание вызвало у танцующих завистливое оживление.
– Я тоже хочу! – воскликнула Юлька.
– А иди сюда! – загребла рукой воздух Светка. – Сегодня танцуют все!
Юлька бросила кавалера и устремилась к столу. Без сомнения, в ней удачно соединились привлекательность, азарт и порыв. Будучи моложе подруг своего мужа, соблазнительностью она могла бы соперничать с Наташей, но исключительно в узком диапазоне низкочастотной телесной вибрации: ультразвук сомнамбулического притяжения хозяйки был ей недоступен.
Вот тут все и случилось. Целуясь с Юлькой, он против воли и при ее попустительстве задержался на ее губах дольше положенного. Гости встретили их затяжное панибратство ревнивыми окриками. Отдав щедрую дань обычаю, они обернулись к публике. Он сразу же отыскал взглядом невесту. Находясь в руках Светкиного мужа, она смотрела на него с напряженной улыбкой. Юлька ухватила его за руку и потянула в круг танцующих. Он подчинился.
– Весело здесь, правда? – возложив голые руки ему на плечи, полыхала румянцем Юлька.
– Да, здорово! – отвечал он, стараясь расположиться так, чтобы видеть невесту.
После Юльки он танцевал с Марией. Прилежная и восторженная, низенькая, полненькая, круглолицая и гладковолосая, она осыпала его похвалами. Его последний танец был с Диной Захаревич.
– Я так поняла, что вы любите литературу? – обратилась она к нему на «вы». – И что вы читаете?
В ней было много общего с Раечкой Лехман. Те же черные глазищи, та же природная питерская бледность и отсутствие полноты, но тоньше губы и остренький без Раечкиной горбинки носик. Шире бедра и весомее грудь, но совершенно те же волнистые, разделенные пополам волосы. Маленькие ушки с круглыми мочками украшали крупные серьги. Была в ней академическая строгая сдержанность, и от этого он не стал ее поправлять.
– Вы знаете, Диночка, я последнее время не читаю… Некогда, – ответил он, пытаясь поймать невестин взгляд. Почему же она так демонстративно его избегает? Неужели ревнует? Неужели, наконец, эта чудесная, долгожданная ревность?!
У нее, однако, на этот счет было свое мнение. Она снисходительно отнеслась к Иркиному кокетству и уж тем более не приняла в расчет малограциозное Светкино кумовство. Но вот с Юлькой он явно перестарался. Он перешел границы приличия, за которыми игра теряет условность и превращается в язык скрытого влечения. Да, зачинщицей была смазливая Юлька, но он даже не пытался освободиться и целовал ее с тем же пылом, как целовал ее, свою невесту. В момент их поцелуя она, как и все, смотрела на них, глаза ее раскрывались, и она, страдая, мысленно говорила: «Хватит, Дима, хватит! Довольно!», но он почему-то ее не слышал. Кое-как закончив последний танец, она ушла на кухню, где к ней присоединились Светка, Ирка и Дина. Судя по их сумбурным отстраненным репликам, никто из них не придал ни малейшего значения произошедшему.
– Наташенька, подавать горячее? – перехватив ее на полпути в гостиную, спросил он, заглядывая ей в глаза.
– Как хочешь, – отвечала она, не глядя на него.
Он обратился к гостям и нашел желающих среди мужчин, которым и досталось по куску тушеного лосося. Затем убрали посуду и подали чай. После этого просидели еще полтора часа, время от времени просыпаясь для танцев. Он искал повод оказаться возле нее, но как только ему это удавалось, она от него уходила. Он пробовал пригласить ее на танец, но она странно на него взглянула и процедила:
– Пригласи лучше Юльку…
«Ревнует! – радостно дрогнуло его сердце. – Точно, ревнует!»
Затем долго прощались. Столпились в прихожей, и он, пожимая на прощание руки мужчинам и целуя ручки дамам, говорил:
– Весной к нам под Зеленогорск! Места всем хватит!
На прощание Наташа поцеловала всех, даже Юльку – к этому времени она уже разглядела пользу в ее медвежьей услуге. К тому же она немного успокоилась и, чувствуя себя хозяйкой положения, решила перед окончательным приговором выслушать его объяснения.
Когда за гостями закрылась дверь, она, ни слова не говоря, прошла в спальную и расположилась напротив трюмо. Пальцами, потерявшими цепкость, она освободилась от колье и без всякого почтения кинула его к спреям и флакончикам. Некрасиво звякнув, испуганные камни сбились в кучу. Слегка покачиваясь, она скинула платье, набросила халат, ушла в ванную и закрылась там.
Он тем временем устранял последствия веселого вечера, следы которого проглядывали повсюду – нерасправившаяся поверхность дивана, сдвинутые в доверительном диалоге стулья, сбитый порядок чашек с блюдцами, скомканные салфетки и чайные ложечки с прилизанными остатками торта, ваза с фруктами, мандарины и обрывки их оранжевой одежды. Он переложил в контейнеры внушительные остатки еды, собрал и вымыл посуду, прибрал на кухне и выпил чаю. Пока он этим занимался, она неточными движениями приготовила себя ко сну, с сердцем извлекла комплект постельного белья, одеяло, подушку, вынесла их в гостиную и бросила на диван. Вернувшись в спальную, она выключила свет и залезла под одеяло.
Покончив с чаем, он вернулся в гостиную и увидел там красноречивый ворох белья. Подойдя к спальной, он осторожно открыл дверь в темноту и остановился на пороге:
– Наташа, что не так?
– Все хорошо. Все так, как ты хотел. Можешь быть доволен – ты очаровал всех моих подруг, особенно Юльку. Она сказала, что ты классно целуешься, – сообщила темнота заплетающимся голосом.
– А что я должен был делать, если она ко мне прилипла?
– Ну, наверное, пойти с ней в мой кабинет и трахнуть ее там на моем столе, чтобы отлипла! – издевательски пропела темнота.
– Наташа, ты соображаешь, что говоришь?! – ужаснулся он.
– Прекрасно соображаю! А вот ты, кажется, не соображаешь, что делаешь! – прозвенело в темноте.
– Но ведь это всего-навсего дурацкий обычай, и ты знаешь, что я люблю только тебя! – воскликнул он.
– Уже не уверена.
– Наташа, ну, зачем ты так? Просто скажи, что ты меня ревнуешь! – пустил он в ход свой заветный аргумент, надеясь обуздать ее жалким подобием логики.
Готово. Возбужденная муха совершила неосторожный пируэт и попала в паутину, слишком поздно поняв, во что она влипла.
– Я? Тебя? Ревную? – раздался из темноты издевательски вкрадчивый голос. – Вот уж не-е-ет! Вот уж нет! Тут ты сильно ошибаешься! К твоему сведению: чтобы ревновать, надо любить! Так вот, чтобы ты знал: я тебя не ревную – мне просто противно, что ты оказался такой же, как и все мужики! Теперь я, по-крайней мере, знаю, как легко ты можешь мне изменить, но со мной этот фокус больше не пройдет! Я все могу понять и простить, но только не измену!
– Наташенька, что ты такое говоришь?! Но ведь это же не так! – с порога отчаяния взмолился он. – Какая же это измена?! Это глупость, недоразумение, инфаркт здравого смысла! Ведь на самом деле я только и делаю, что доказываю тебе, как я тебя люблю!
– Можешь забрать свои доказательства хоть сейчас, если ты об этом. Тоже мне – люблю, люблю! – ерничала темнота.
Он открыл было рот, собираясь опровергнуть чудовищную несправедливость обвинений, но вдруг осекся. Ни одна женщина еще не унижала его так виртуозно и безнаказанно.
«Да что же это такое, а? – растерянно подумал он. – Она хочет, чтобы я ушел? Хорошо, я уйду!»
Отчаяние его вдруг разом улеглось. Глядя в душноватую темноту, он скривил губы и произнес:
– Я, кажется, понимаю, зачем тебе этот спектакль: ты меня не любишь и хочешь, чтобы я ушел. Одного не пойму: почему не сказать об этом прямо? Зачем устраивать глупый фарс?
– Ах, значит, это фарс, и я все придумала?
– Да, ты все придумала!
– Интересно! И зачем мне это?
– Я же сказал – ты меня не любишь и хочешь, чтобы я ушел.
– Да если бы я этого хотела, тебя давно бы здесь не было! – отчеканила темнота.
Он напрягся: в ее сумбурном наступлении образовалась уязвимая брешь. Вольно или невольно она дала понять, что не собирается его выгонять. Если он желает обуздать ее пьяный дебош, завершить безобразную сцену, закрыть глаза на оскорбительное обхождение и вернуться к началу (хотя, как вначале уже не будет – слишком много сказано ненужного), следует вклиниться в эту брешь вопросом: «Тогда чего же ты хочешь?» и, наблюдая, как она будет выкручиваться, направлять короткими репликами ее раж в нужное русло. Рано или поздно она успокоится и, возможно даже (мало возможно), попросит прощения. Да, все так. Но этот ее тон, эти ее слова… Обнимать и целовать ее после того, что он услышал? Она что, в самом деле возомнила себя королевой, а его считает своим рабом? Разочарование, какое испытывает обманутый взрослыми ребенок, вдруг затмило все прочие чувства, и он вместо того, чтобы задать удобный вопрос, негромко и напряженно спросил:
– Почему ты кричишь? Тебе нравится быть вульгарной?
– Ах, вот как! Я еще и вульгарная! – возмутилась темнота.
– Да, ты ведешь себя безобразно. Я этого от тебя не ожидал…
– А я от тебя! – эхом отразилось от темноты.
– Выходит, ты такая же недалекая, как и все женщины, которых я знал…
– Ах, вот как?! – взвизгнула она, рывком усаживаясь на кровати. – Ну так иди, ищи себе далекую!
– Вот и иду! Счастливо оставаться! – внушительно произнес он, поворачиваясь, чтобы уйти.
– И больше сюда не возвращайся! – выкрикнула темнота.
Он ушел, оставив дверь спальной открытой. С полминуты она оставалась неподвижной, затем вскочила, зажгла ночник, бросилась к трюмо, где в предположении подобного исхода ожидало своей участи колье, чтобы сверкающим снарядом отправиться ему в спину. Кинув его в подарочный пакет, она с остервенением содрала с пальца обручальное кольцо, отправила его туда же и выскочила из спальной. Он находился уже в прихожей и надевал куртку. Дрожа от ярости, она бросила пакет к его ногам:
– Забери это!
Он, ни слова не говоря, повернулся спиной к ней и пакету, открыл дверь и вышел. Она подхватила пакет, метнулась к двери, рванула ее, выкинула пакет на лестничную площадку и захлопнула дверь. Он, стоя у лифта, некоторое время смотрел на оскорбленный темно-синий домик с запавшими боками и золотым тиснением на спине, затем поднял его и шагнул в лифт. Она же, добежав до кровати, кинулась на нее лицом вниз и разрыдалась.
5
– Ну что, выставили? – с язвительным добродушием встретила его Вера Васильевна.
– Сам ушел, – вымучено улыбнулся он. – С Новым годом, мать!
– И тебя! – ответила она и поцеловала его. – Ну, пойдем, что ли, выпьем!
Они расположились на кухне, и он, достав коньяк, наполнил рюмки до краев.
– С Новым годом, – устало пожелал он.
– С Новым годом! – отозвалась мать, чинно опрокинула в себя коньяк, слегка скривилась, вернула рюмку на стол и, пристально глядя на него, сказала:
– Не переживай, все будет хорошо.
– А я и не переживаю! Все и так хорошо! – откликнулся он, подхватывая лимон. – Ладно, иди, а я тут еще посижу…
– Ну, давай, спокойной ночи! – правильно поняла она.
Оставшись один, он взял пачку материнских сигарет, повертел, незабытым движением достал сигарету и закурил. На лице его проступило удовольствие, как от крепких объятий старого, давно разлученного с ним друга.
…Пока он, отказываясь верить в случившееся, спускался на лифте, садился в машину, выезжал со двора, сворачивал на набережную и ехал по ней до Дворцового моста; пока его кипящий возмущением разум подыскивал слова, чтобы оценить революционный переворот их отношений – все эти долгие пятнадцать минут ее образ был подобен истукану, на шею которого пигмеи накинули петлю и тянут, чтобы сбросить с постамента, но не могут превзойти силу инерции.
Он взлетел на мост, достиг апогея молчаливого возмущения и покатил вниз. Тут к усилиям толпы добавилась услужливая тяга наклонной плоскости, истукан дрогнул, накренился, уперся в последний отчаянно шаткий рубеж, миновал зыбкое равновесие и, медленно завалившись, рухнул к подножию обожания, сотрясая гулким грохотом барабанные перепонки души.
«Вздорная! Капризная! Недалекая! Неблагодарная! Распущенная! Вульгарная! Расчетливая! Дрянь!» – дал он, наконец, волю чувствам, сметая паутиновую нежность с ее образа и удерживая перед глазами последнее, что от нее осталось: некрасивое, перекошенное незнакомой яростью лицо.
Вчера днем было тепло, плюс пять, и шел дождь. К вечеру дождь идти устал, и температура без его сырой поддержки опустилась до ноля. Он плыл по Невскому, как по ночной оранжевой реке, не замечая царившего на ее берегах оживления – так был он занят обидой и унижением. Да и что ему Невский, где подсветкой цитируя самих себя, красуются титулованные особняки! Что ему эти комбинации смещений и пластика перестроений городской кубатуры, не признающей гладкой поверхности, как галантность солдатской прямоты; эти сандрики, фронтончики, наличники и прочее надпанельное кокетство, униженное прагматизмом водосточных труб; эти рубцы подоконников, нарывы балконов, обрывы крыш – что они ему, когда внутри него агонизирует вселенная по имени любовь! Что ему эти неспящие беззаботные молодые лица, находящие удовольствие в глупых словах и беспечной возне, когда его мир полон скрежета и разочарования! Лететь по тонко раскатанному тесту асфальта, вдоль дырявых каменных ширм, мимо неглиже занавесок и пеньюаров штор, под неподвижно-оранжевым душем фонарей, гневным дыханием расправляя сдавленное горло до тех пор, пока не перестанут кипеть огненные вывески, пока не потухнут злые глаза сырой ночи, пока не поникнут оскверненные языки священного пламени, покуда не утихнет вой ущемленного эго, а после остановиться и оцепенеть подобно уличному фонарю, в жизни которого нет страсти, а есть одна лишь инструкция. Чопорные лакеи мглы, они любят рассматривать себя в рябом зеркале черных луж, забавляясь игрой нерастворимой искры. Их трассирующие ряды непоколебимы, словно накрепко пришитые неоновые пуговицы на мундире ночи.
Сжимая зубы и играя желваками, он пронесся по Фонтанке, свернул на Московский и мимо новогоднего люда, который корявыми следами уже начал заполнять чистый лист тротуаров, с ночной курьерской скоростью добрался до дома. И теперь, собрав мысли и чувства за кухонным столом, он пустил их по горячим следам окаянного события в расчете найти весомые оправдания своему поспешному бегству.
Да, он согласен, что увлекся пухлыми Юлькиными губами. Но не похоть двигала им, а безотчетная попытка уязвить бездушную публичность невесты, ответить дерзостью на ее витринную деловитость. Весь вечер он токовал ей о своей любви. Он хотел не так уж и много: лишний взгляд, лишнее слово, лишнее касание – красноречивые подтверждения его особого положения. А что в ответ? Вежливое обращение и подсобная роль кухарки?! Вздорная сумасбродка! Даже хуже, чем замужняя Людмила, которая, выпив лишнего, принималась искать на нем темные пятна и выводить их неуклюжими словами!
Да что в ней, в конце концов, такого королевского, ради чего можно встать на колени и все снести? Бурные несдержанные оргазмы? Но это, скорее, недостаток, чем достоинство! По-настоящему возбуждают мучительное удивление, невинный восторг, судорожная борьба страсти и стыдливости. Распущенность – удел проституток. Он правильно сделал, что ушел. Он переживет их разрыв. Стильных и красивых девушек с каждым годом все больше, и он еще может позволить себе любую, даже юную и пугливую.
«И все же, чем я хуже ее покойного жениха?» – думал он, засыпая.
…Рыдая, она исколошматила кулачками подушку и залила ее слезами. Успокоившись, она некоторое время всхлипывала, да так и заснула. Пребывая незадолго до пробуждения в тягучей смутной дреме, она уже знала, что у нее болит голова. Так оно и оказалось. Проснувшись, она со слабым стоном повернулась на спину, чувствуя, как головная боль поворачивается вместе с ней.
– О господи… – пробормотала она, закидывая руку на глаза.
Некоторое время она лежала, не шевелясь, затем тихо встала и растрепанная, с опухшими глазами побрела на кухню. Там она, отсвечивая рассеянной бледностью и медленно двигаясь среди наведенного им порядка, поставила чайник, после чего отправилась в ванную, где предъявила себя зеркалу. Язвительный неоновый свет упал на ее лицо, и она, ужаснувшись, отпрянула. После дУша ей стало легче, и способность соображать, не причиняя голове боль, вернулась к ней.
«Да, хорошо погуляли… Ну, и что дальше?» – глядя в окно, вяло подумала она, но подумала хоть и риторически, но правильно, ибо за окном бледным лотосом распускался первый день ее оставшейся жизни, которую она накануне так опрометчиво осложнила. И пусть она по-прежнему находила повод к войне основательным, была она, скорее, озадачена, чем довольна.
Перебирая звонкие подробности скандальной, плотно насыщенной ее воинственным пьяным пылом мизансцены, она не могла не признать, что переиграла. Честно говоря, она вовсе не рассчитывала на такой шумный исход, иначе бы не выложила на диван постельное белье. Она лишь хотела объявить ему строгий выговор с выдворением за пределы спальной. Но что такого ужасного она при этом сказала, отчего он буквально сбежал? Он, ее жених, чей собачий, преданный взгляд следовал за ней весь вечер? И насколько то ужасное, что она сказала ужасно, чтобы заставить его уйти безвозвратно? Она вновь и вновь ощупывала свои реплики, в которых уже зияли внушительные дыры беспамятства, и не находила в них ничего предосудительного. Все было сказано откровенно и по существу, как и полагается невесте, застукавшей жениха за неприглядным приставанием к своей подружке. Ну, и на кой черт ей жених, который пристает к ее подруге?
Прослонявшись с полчаса, она ушла в спальную и прилегла. Мысли ее снова вернулись к случившемуся. Она думала о том, как странно и внезапно поменялось ее положение, в основательность которого она уже начинала верить. Все было странным и ненормальным в их отношениях – и сама встреча, и скоропалительный пожар его обожания, и ее сопротивление ему, и ее капитуляция, и неожиданное открытие ее женской способности, и их обручение. И вот теперь всего этого нет, а есть зыбкое, одинокое состояние, которое хочет только одного – чтобы ее оставили в покое.
Она не заметила, как уснула. Проснулась она около четырех часов вечера, и почти сразу зазвонил домашний телефон. Нет, только не ОН – мириться с ним сейчас было бы несвоевременно и утомительно.
– Алло… – взяла она трубку.
– Привет! – услышала она бодрый голос Светки. – Ну, как вы там?
– Нормально… – почувствовав предательское разочарование, ответила она.
– А мы хотели пригласить вас к себе!
– Нет, спасибо, ничего не получится…
– А что такое? Заболел кто-нибудь?
– Вот именно, заболел, – выразилась она достаточно язвительно, чтобы Светка насторожилась.
– Что там у тебя опять случилось?
Она помолчала, не зная, как сообщить новость, которая, без сомнения, тут же гремучей змеей пойдет гулять по проводам.
– Выгнала, – с вызовом сообщила она.
– Кого выгнала?
– Ну, не кошку же! Жениха, конечно!
– Как, выгнала?! За что?!
– За то самое…
Светка помолчала и сердито спросила:
– Ты это… вообще… ты можешь мне толком объяснить без этих твоих штучек?
– Ах, Светка, да что тут объяснять! – вдруг прорвало ее. – Что тут объяснять, если он как был кобелем, так и остался!
– Что значит – кобелем? Когда он успел?
– Да при вас же и успел!
– Как это – при нас? – взвился недоумением Светкин голос.
– Ну, господи! Когда целовался на брудершафт с тобой и с Юлькой! – раздраженно ответила Наташа, почувствовав вдруг, как глупо и неубедительно это звучит. Так оно и вышло. Светка замолчала, а затем с испугом спросила:
– Наташка, ты что – дура?
– Ладно, это мое дело! Ты все равно ничего не поймешь! – злилась она, жалея, что открылась.
– Ну, ты даешь, подруга, ну, ты дае-ешь!.. – сокрушенно вымолвила Светка.
– Ладно, все! Не хочу больше об этом говорить! – и она отключилась.
Ну, как им, темным, объяснить, что чувствует молния, когда верный гром, избавившись от нее, вальяжно катится по небу, лаская спины туч и проникая в их укромные места!
Судя по тому, что в следующие полчаса один за другим раздались несколько звонков, новость облетела подруг. Она не брала трубку, и звонки повторились на мобильный. За весь вечер она никому не ответила.
6
Спал он плохо, а проснувшись, испытал вялое любопытство: «Интересно, как быстро она заведет себе нового мужика…», после чего отправился бродить по квартире, подыскивая себе тихое место в новом растерянном мире и привыкая к непривычно бесцельному состоянию. Проходя мимо своего стола, он поймал глазами ее цветную, веселую, теперь уже издевательскую улыбку, которая, выйдя за рамки фотографии, заслонила собой весь свет. Он шагнул к ней, рванул ящик стола, опрокинул и сгреб ее туда. Вспомнил про бумажник, дошел до прихожей, достал его из куртки, мрачно и мстительно извлек фото, хотел тут же его разорвать, но в последний момент удержался и кинул ЕЕ лицом вниз в тот же ящик.
За завтраком мать сочувственно на него поглядывала, пыталась невинными вопросами выудить трепещущие подробности, но он скупо и односложно отбивался, так что узнать, кто от кого ушел и надолго ли ей не удалось.
Оказалось, что у него теперь масса свободного времени, можно снова курить и не бегать. Правда, книга не читалась, телевизор не смотрелся, Интернет раздражал, музыка пролетала мимо ушей, и все прочее валилось из рук. Перепробовав домашние средства забвения, он напросился в гости к Юрке и в пять часов вечера отправился к нему на Алтайскую.
Их стратегические планы, в согласии с которыми они держали деньги в одних и тех же банках, работали с теми же брокерами, следовали единым схемам и расчетам, словом, во всем поступали солидарно, совпадали даже в топографии. И когда он приобрел квартиру на Московском, Юрка выбрал сравнительно тихую улицу у него под боком, а загородный дом построил в тех же местах, где и он. И только в семейном устройстве их планы разошлись – здесь Юрка тихо и незаметно обошел его на шестнадцать лет, что и открылось ему по-новому вместе с входной дверью, за которой его улыбками встречало все Юркино семейство. Он вошел в просторную прихожую, поставил в сторонку большой пакет с виски и сладостями и приготовился к объятиям.
– Здорóво, бродяга! – приветствовал его друг, крепко обнимая. – С Новым годом, дорогой! А чего один? Где невеста?
Обняв друга, он потянулся к его жене.
– Ну, наконец-то! Живем в двух шагах, а видимся раз в год! – обняла его, сверкнув игривой искрой зеленовато-карих глаз, Татьяна, Юркина жена – женщина своенравная и вполне еще соблазнительная.
Разумеется, Юрка с Татьяной уже знали о его жизнеутверждающих планах, и когда выпили за фондовый рынок-кормилец, то тут же захотели выпить за гостя, его невесту и их будущее счастье. Он ждал этого, и ждал с каким-то болезненным нетерпением, так что когда наступила его очередь он, криво усмехнувшись, сказал:
– Спасибо, конечно, но пить не за что – мы расстались!
– Как?! – грянул дуэт, который ранее в программе не значился, но был исполнен с редкой слаженностью. Последовавшие затем беспорядочные вопросы свелись к двум сиамским близнецам недоуменного жанра: «Как это случилось и кто виноват?»
– Она считает, что я. Я считаю, что она…
Ну, как им, счастливым, объяснить, что молния, у которой он был на побегушках, не оценила его прыти, не воздала должное его страсти, с которой он, не жалея голоса, катился от горизонта до горизонта, восхваляя и прославляя на все небо ее ослепительные достоинства!
Хозяева восприняли новость каждый по-своему.
– Я, конечно, ее не видел и ничего не могу про нее сказать… – озадаченно начал Юрка.
– Ой, да что там на нее смотреть! – своенравно перебила его Татьяна. – Если она такого парня, как Димка, не оценила, то с ней все ясно! Не переживай, Димочка: все, что ни делается – к лучшему!
– А я и не переживаю! – с натужной беспечностью ответил он.
Когда Татьяна удалилась на кухню, Юрка налил очередную порцию виски и участливо сказал:
– Ну, давай, рассказывай, что там у вас случилось! Ты же говорил, что лучше ее на свете нет, и все такое!
– Знаешь, у меня такое впечатление, что ей никто не нужен, хоть ты расшибись! – вдруг прорвало гостя.
– В смысле, мужик не нужен?
– Нет, мужик-то как раз нужен, еще как нужен…
Он неожиданно вспомнил их последнее барахтанье, ее прикушенную ровными зубками нижнюю губу, распахнутые слепые глаза, страдальческую гримаску и с неловкостью почувствовал, как вскинул голову его часовой.
– Тогда что не так? – продолжал пытать его Юрка.
– Не знаю, не могу понять. Вроде все у нее, как у всех баб, и даже лучше, а счастья своего не понимает. А, впрочем, мне теперь плевать! Я теперь в кэше…
– Ты погоди плевать, ты конкретно скажи, что случилось!
– Да случилось-то все по-глупому: не понравилось ей, видите ли, что я с ее подругой на брудершафт дольше, чем надо целовался! Нет, ты представляешь, а?
– Да иди ты! Нет, что, правда?! И больше ничего?!
– Ничего…
Юрка откинулся на спинку и стал похож на эскулапа, знающего, как одним махом вылечить чуму. Подавшись к другу, он уперся в него взглядом:
– Димыч, ты что, не понимаешь?
– Ну…
– Ну, это же элементарно! Ревнует она тебя, и больше ничего!
– Вот и я так думал! Но она мне доходчиво объяснила, что для того чтобы ревновать, надо любить, а она меня не любит…
– Не любит, говоришь? Ишь, чего захотел! – неожиданно полыхнул взглядом Юрка. – А я тебе так скажу: у меня хоть и не было столько баб, как у тебя, но про любовь я кое-что знаю! Я за моей Танькой столько побегал, пока не добился! Ты, между прочим, со своей уже спишь, а я с Танькой только после свадьбы! Ты понял разницу?
– Понял, понял…
– Так вот за то, чтобы ты все понял, и чтобы у вас все было хорошо! – строго взглянул на него Юрка.
В течение всего разговора, пока его друг, словно хирург, штопал его сердечную рану, он испытывал болезненное наслаждение как от самой операции, так и от тайного сопротивления ей. Позволяя наложить очередной шов, он незаметно от Юрки тут же освобождался от него, возвращая себе ноющую боль. Под конец он сказал:
– Ты знаешь, нет худа без добра: теперь я свободен и могу, наконец, подумать об эмиграции.
– Ну и дурак! – заключил Юрка.
…Она бы поняла, если бы он позвонил, но он не звонил, и она занервничала. Не потому что дорожила им, а потому что он должен был позвонить. Не может верный пес вот так внезапно утратить верность, иначе его верность притворная и ничтожная. Разумеется, она говорила бы отрывисто и сухо. Разумеется, отклонила бы его извинения и не разрешила бы приехать, но надежду бы оставила.
Она провела первый день нового года в затворницах, и в одиннадцать легла, оставив дверь в спальную открытой. Кошка Катька, воспользовавшись поблажкой, пришла и неслышно устроилась у нее в ногах. Ее хозяйка никак не могла заснуть, вздыхала и ворочалась, сменой ног вздымая ее лежбище, а вскоре принялась беззвучно плакать. Катька, осторожно ступая, пробралась в расположение ее рук и предложила свое участливое мурлыканье. Хозяйка уложила ее себе на живот и, деликатно шмыгая, принялась рассеянными движениями извлекать из пушистой глубины кошачье электричество. Иногда рука ее задумывалась, нервно теребила чуткую антенну Катькиных ушей, и вдруг, спохватившись, принималась торопливо сметать с мурлыканья сухие искры. Хозяйке было плохо, грустила и Катька. Ей было жаль, что исчез этот славный добрый человек, тайком от хозяйки угощавший ее бужениной. Откуда ей было знать, что плакала хозяйка вовсе не из-за него, а от жалости к себе.
На следующий день, предварительно с ней сговорившись, явились Светка и Дина. И если она согласилась на встречу, то лишь затем, что рассчитывала подпереть свое смятение сочувственным мнением подруг.
– Ну, рассказывай, что у вас случилось! – требовательно начала Светка, как только они уселись за кухонным столом.
– Ну как что? Человек провинился, я его отчитала, ему не понравилось, и он ушел, – со спокойной улыбкой ответила она.
– Человек провинился в том, что целовался со мной на брудершафт? Выходит, это я виновата? – поджала губы Светка.
– Нет, Светочка, ты ни в чем не виновата. Ни ты, ни Ирка с Юлькой. Виноват только он! – заверила подругу Наташа.
Светка с Диной переглянулись.
– Надеюсь, ты понимаешь, что это несерьезно? – с надеждой спросила Светка.
– Кому как! – пожав плечами, отвечала Наташа.
– То есть, ты хочешь сказать, что поцелуй на брудершафт серьезное основание, чтобы выгнать солидного жениха? – обострила несуразность наказания Дина.
– Именно так! – воскликнула Наташа, начиная раздражаться оттого, что скрывая главную соучастницу, она вынуждена делать из мухи слона, заведомо ставя себя в глупое положение. Получалось, что она и подруги имели в виду разные по тяжести деяния, но одно и то же наказание. Очевидно было и то, что с каким бы художественным жаром она не описывала эти несколько лишних секунд, превращавших невинный ритуал в молчаливый сговор, им не дано было уловить их горбатое значение, как огрубевшим пальцам трещину на лаковой поверхности.
Подруги снова переглянулись.
– Ну, хорошо, и что теперь? – спросила Светка.
– Он не звонит, я тоже не собираюсь. Да к тому же мне теперь все равно!
– Что значит – все равно?
– А то и значит, что очередной кобель мне не нужен! Хватит с меня Мишки!
– Но там, кажется, была другая история… – осторожно напомнила Дина.
– По существу та же! – отрезала Наташа.
– Послушай, подруга, если бы я обижалась на мужа за то, что он пялится на молоденьких девок, я должна была выгнать его через год после свадьбы! – насмешливо проговорила Светка.
– А чего это вы его защищаете?! – возмутилась она. – Я думала, вы меня поймете, а вы!..
– А потому и защищаем, что мы не слепые и кое-что видим, – внушительно заговорила Светка. – Правильно Машка сказала: он с тебя весь вечер глаз не сводил, а ты его за дверь! Очнись, подруга! – пощелкала она пальцами перед Наташиным лицом: – Ты не права!
– Наташенька, может, ты его просто ревнуешь и не хочешь себе в этом признаться? – с надеждой спросила Дина.
– Знаешь что! – с раздражением воскликнула Наташа. – Чтобы ревновать, надо любить, а я его не люблю! Надеюсь, хоть это вам понятно?
Светка поглядела на кошку Катьку, которая в этот момент запрыгнула на соседний стул, и иронически сказала:
– Да, Катька, ну и хозяйка у тебя! Просто отпад!
– В общем, вижу, вы меня не понимаете! – подвела итог Наташа и поджала губы.
– Не понимаем! – обрезала Светка. – А впрочем, для меня главное, что я здесь ни при чем. А дальше делай, как знаешь!
Молча допили чай и встали, чтобы уйти. В прихожей Наташа примирительно сказала:
– Девчонки, оказывается, я его совершенно не знала! Думала, приличный мужчина, а он обычный кобель!
– Слушай, Наташка, говорю тебе в последний раз: все мужики, а мужья особенно – кобели. И наше бабское дело – постараться удержать их на цепи. Каждая старается по-своему. Не хочешь стараться – не обижайся! – не скрывая раздражение, отчеканила Светка.
В пять часов вечера, так и не дождавшись его звонка, она заказала билет на самолет до Екатеринбурга, решив уехать на каникулы к родителям. После чего позвонила Марии и договорилась, что та присмотрит за кошкой. Когда на следующий день Мария пришла за ключами и между делом попыталась замолвить за бедного жениха слово, то в ответ услышала:
– Даже не говори мне о нем!
А как еще прикажете отзываться на имя того, о котором вслед за оскорбленным сердцем третий день твердит взбудораженный рассудок: «Да как он смеет не звонить?!»
7
Второй день разлуки (разрыва?) начался для него унылыми мыслями о поиске того места, где можно забыть обо всем на свете и куда надо прорываться через утомительные формальности, дорожные тяготы, непонятливость окружающих, сквозь непривычные запахи, слова и звуки, в компании чужих лиц и облаков. И все для того, чтобы добравшись туда, освободить натруженные поклажей руки, скинуть мятую одежду, бросить усталое тело в ближайшее кресло, налить полный стакан виски, выпить и сразу начать думать о ней. Он хотел бы не думать о ней, но не может. Он желал бы ее забыть, но она сильнее его. «Вздорная. Капризная. Недалекая. Неблагодарная. Распущенная. Вульгарная. Расчетливая…» Он ее ненавидит и умоляет оставить его в покое.
Стокгольм? Париж? Бали? Антарктида? Нет, улица Пляжевая в Ушково, за Зеленогорском.
Он позвонил Михалычу, человеку из местных, которого нанял присматривать за домом, и предупредил, что сегодня приедет. Собирался обстоятельно, не торопясь, приглядываясь к вещам, прицениваясь к их компанейским возможностям, отыскивая среди них занятные, способные увлечь и обмануть, как женщина или алкоголь.
Кинул в сумку сборник американского детектива – тут тебе и Рекс Стаут, и Рэймонд Чандлер, и Эд Макбейн; кинул «Женщину французского лейтенанта» – возможно, теперь он что-нибудь в ней поймет; кинул «Долгое падение» Ника Хорнби – может, теперь удастся дочитать. Поводил глазами по полкам и вдруг приметил зажатого в угол Блока: а не взять ли что-нибудь из раннего – туманного, меланхоличного и загадочного? Взял первый том.
Выбрал диски – трио Оскара Питерсона (бедный, неподражаемый Питерсон скончался за неделю до Нового года – какое нелепое совпадение!) с сумасшедшей версией «Сядь в поезд А», взял «Джаз модерн квартет», где они вместе со «Свингл сингерс» страдают благочестием на Вандомской площади и хрустально вальсируют на коньках в центральном парке Нью-Йорка. Не забыл Эррола Гарнера, Майлса Девиса с Херби Хэнкоком и Диззи Гиллеспи с «Дубль сис де Пари». Между прочим, прихватил недавно купленные по ее совету записи фортепьянных пьес Дебюсси. Кроме того, извлек наугад около десятка видеофильмов, к этому присоединил ноутбук, обнял мать, да и был таков.
Купив по дороге продукты, три бутылки «Chivas Rigal» для себя и две бутылки водки для Михалыча, он в три часа дня прибыл на место, где не был уже более трех месяцев. Михалыч, пенсионер и вдовец, встретил его с отцовской приветливостью, пожалел, что хозяин приехал без Ирины, которую он считал его женой, посетовал на нежилой дух в доме и зеленеющую при полном попустительстве зимы территорию, сообщил местные новости, поблагодарил за вовремя переведенные ему на карточку деньги, рассовал по карманам бушлата водку и оставил одного. Он окинул взглядом мерзлую синеву неба и подумал: «Интересно, что она сейчас делает?»
Зима словно спохватилась. Устав от хронического безволия, она в новом году решила быть строгой и, как бывает в таких случаях, начала с крайностей: заморозив землю, забыла про снег. Стеклянная трава с выпученными от холода глазами покрылась серебряной дрожью, и догорающий на самом краю голубого неба небесный камин не в силах был ее согреть. Он втянул морозный воздух со свежими следами заблудившегося духа сгоревших дров, прислушался к одинокой собаке, солирующей на виду у летаргической тишины, подметил на земле возле забора смиренные тени угасающего дня, поднял глаза на высокие сизые ели с красноватыми, в отблесках сонного солнца верхушками, и остро ощутив самопринудительное одиночество, отправился туда, где его ждал земной камин.
Шаг за шагом он обошел все двести пятьдесят квадратных метров полезной двухэтажной площади, делая это с единственной целью – выманить внимание наружу, чтобы не слышать, как оно скулит перед ампутированным органом обожания. Система отопления – устаревшая, скупая на тепло, работала в экономном режиме, и во всех комнатах было достаточно прохладно. Зайдя в спальную, он остановился у кровати, которую они с Ириной за три года расшатали до страстного стона. Бесстыдная наперсница их скрюченных забав, она своим звучным соучастием придавала им возбуждающую публичность. У него было категорическое намерение поменять мебель, чтобы не оскорблять невесту бесстыжим отзвуком былых страстей. Помнится, мечтая об их загородном житье, он представлял, как возбужденные водой и солнцем они придут сюда после жаркого дня и лягут, обнаженные, не заботясь об одеяле, и как прижмутся друг к другу горячей кожей. Представлял их пробуждение в струях утренней прохлады под пение невидимого за зелеными кулисами птичьего хора, и как он подберется к ней и прижмется грудью, животом и ногами к ее спине и ногам, повторив своим телом контуры ее тела и уткнувшись лицом в ее волосы.
«Ну-у!.. – сонным голосом, в котором не будет протеста, произнесет она. – Ну, Дима! Ну, не приставай, противный мальчишка!..»
Он торопливо отвел от кровати взгляд и вышел. Спустившись вниз, он разобрал продукты, а затем, прикладываясь к стакану и прислушиваясь к телевизору, не спеша приготовил обед и также не спеша пообедал.
«Интересно, чем она сейчас питается. Наверное, своими дурацкими полуфабрикатами…» – подумал он, ковыряя вилкой жареную форель.
Было около шести, когда он устроился с сигаретой у камина, глядя на огонь – такой же ручной и послушный, как его недавнее чувство к ней. Как долго еще до полуночи, когда можно будет попытаться заснуть! А завтра новый день, который надо пережить, а за ним еще день, и еще, и еще… Не жизнь, а сплошная мука! Но позволь, ведь тебя никто не гнал, ты сам ушел! Ты мог постелить себе на диване, а утром, проспавшись, она, возможно, сама бы ужаснулась, тому, что и как сказала. И потом – разве ты не знал, что она тебя не любит? Ты прекрасно это знал и терпел! Ты говорил себе, что твоя безответная любовь важна, прежде всего, тебе самому – ты обманывал себя. Ты сам себе казался кем-то вроде рыцаря, которому героическими усилиями предстоит завоевать любовь дамы твоего сердца – твоему усердию оказалось не по зубам ее насмешливое равнодушие. Ты привык, что последние пятнадцать лет любили тебя, и не любил сам. И вот теперь тебе отмщение. Теперь ты, наконец, знаешь, что чувствовали нелюбимые тобой женщины! В конце концов, если не желаешь терпеть эту пытку дальше, можешь позвонить ей и попросить прощение. Но если не собираешься впредь ее любить, тогда откуда эта ноющая боль утраты, эти конвульсии обескровленного счастья, эта тоскливая судорога ожидания? Они так безнадежны, что впору идти скитаться по свету!
Затушив сигарету, он взял «Женщину французского лейтенанта», открыл наугад и попытался сосредоточиться. Его внимания хватило на одну страницу. Захлопнув книгу, он бросил ее на столик. Встал, перебрал диски и с большим сомнением остановился на Дебюсси. Вернувшись в кресло, налил виски (виски-диски) и включил музыку, положив на колени оглавление.
Странные, ни на что не похожие созвучия наполнили гостиную. Прелюдии. Каждая, как обрамленный радугой бриллиант. У каждой имя собственное – неповторимое и колоритное. Оказалось, что музыка живет во всем: и в парусах, и в лунном свете, и в тумане, и в шагах на снегу, и в ветре на равнине, и в дельфийских танцовщицах, и в арабесках, и в затонувшем соборе, и в девушке с волосами цвета льна! Надо ее только услышать и извлечь!
«Как же я не знал этого раньше?! А она… Как можно быть капризной, недалекой, вульгарной, расчетливой, любя такую музыку?!»
Сосредоточенно глядя на догоревшие до жарких черно-красных внутренностей поленья, он докурил сигарету и присоединил ее к пылающим останкам. Затем потянулся и извлек томик Блока. Когда-то в одиннадцатом классе он по совету учителя литературы начал его читать, но, видно, не с того места и не в том возрасте. Отстраненная многозначительность ранних стихов отпугнула его не только от Блока, но и от лирики в целом. Кажется, настало время примерить на себя одежды влюбленного пилигрима. И он принялся читать жадно и внимательно, словно боясь пропустить ответ.
Ну, вот, пожалуйста, у поэта те же проблемы:
Ты ли меня на закатах ждала? Терем зажгла? Ворота отперла?Не уверен, между прочим, поэт, в персоналиях любви! Значит, не одному ему не повезло! И все же поэт покладист и миролюбив:
Забудем дольний шум. Явись ко мне без гнева, Закатная, Таинственная Дева, И завтра и вчера огнем соединиИ что же? Так и жить ему теперь в тревожном ожидании ее перевоплощений, чтобы снова бежать от нее? Или смириться и приговаривать:
Лежит заклятье между нами, Но, в постоянстве недвижим, Скрываю родственное пламя Под бедным обликом своимА вот это точно про него сегодняшнего:
Робко, темно и глубоко Плакали струны мои…А вот и выход из тупика! Вот и дельный, циничный совет:
Я приду – и не заплачу, Вспоминая, не сгорю, Встречу песней наудачу Новой осени зарю…Именно так, именно так! Искать новой осени зарю – вот что следует делать! Ах, Блок, ах, провидец! И про осень он знал! Обо всем уже, выходит, знал поэт на двадцать первом году жизни! Знал и сообщил самым нетленным образом ему, Дмитрию Максимову, в грустную минуту его жизни. До чего же значительными и убедительными становятся стихи, эти пазлы чужой души, когда находят место в твоей душе!
Все так, только есть тут некоторое расхождение, относящееся к предмету словоподношения. Поэт, сдается, ждал непорочную деву. А кого дождался он? А вот кого – зрелую заласканную самку! Да, верно, сам он тоже не первой свежести, но будем откровенны: между его и ее употреблением – чувствительная разница. Сотни раз умирала она под чужими мужчинами, и сотни раз оскверняли они ее храм, беснуясь и сатанея перед его алтарем. А это значит, что ему досталась изрядно потертая реликвия любовного культа, чья священная благость, в отличие от культа религиозного, находится не в прямой, а в обратной зависимости к возрасту. Другое дело он – творец и повелитель ее животной страсти. Сходя на нее с языческих небес, он чист и невинен. Иначе и быть не может: он послан, чтобы пахать, но не похоти ради, а созидания для. Он – продолжение божьего перста, а она всего лишь порченая женщина, на которую пал его выбор. В этом и заключена чувствительная для них разница, а потому самое разумное сейчас – это, пользуясь случаем, завести нечто молодое и непорочное, чтобы хозяйничать в свое удовольствие на нетронутых угодьях, как и положено эсквайру духа. Назвавшись эсквайром, он внезапно вспомнил то, что помнят все: «О доблестях, о подвигах, о славе…», и дальше про фотографию. Вспомнил и испытал удовлетворение от совпадения своих импульсов с поступком автора. Ах, этот тонкий яд причастия к великому!
Вечер он завершил в решительном настроении, и перед тем как заснуть под деспотическое веселье голубоглазого вампира предупредил: «В любом случае, звонить первым я не собираюсь…»
…Вечером того же дня она добралась до квартиры, что находилась на седьмом этаже элитной многоэтажки, где ее родители жили уже пять лет.
Отделенный от частного сектора карантином площади и широкой, словно крепостной ров дорогой, дом бастионом возвышался над низенькими черными лачугами. После поцелуев последовал законный вопрос матери, поддержанный молчаливым взглядом отца:
– Почему одна? А где же жених?
– Занят жених. Какие-то срочные дела в Швеции. Я потому и приехала, что не хотела оставаться одна. Или вы не рады? – беспечно отвечала она.
Поскольку ничего существенного о нем она до сих пор не сообщала, от нее потребовали живейших подробностей.
– Ну, как вам сказать… Представительный, привлекательный. Серьезный, занятой. Богатый, да, богатый. Дом за городом. Хорошо ко мне относится. Щедрый. Да, очень щедрый. Живет с матерью в четырехкомнатной квартире. Ни разу не был женат. Не знаю, почему. Застенчивый? Вот уж нет! Застенчивые богатыми не бывают! Ах, в этом смысле! Нет, и в этом смысле все в порядке! Да, живем пока у меня. Потом не знаю. Кстати, он бесподобно готовит! Да, да, я просто поражена! Мне практически не приходится готовить самой! Нет, не разрешает! И посуду сам моет! Конечно, вручную! Что? Да, надо купить. Мне одной она была ни к чему, а теперь придется купить. Нет, квартиру убираю я, а он помогает. Ну, что еще… Любит музыку, читает. Да, подругам понравился. Даже очень. Нет, фото нет. Как-то не сообразила! Ну, в общем, все нормально. Конечно, приедем. Скорее всего, летом.
Рассказывая о нем, она поневоле оживила его образ, который благодарно приблизился и встал напротив, глядя на нее ласковым преданным взором. То же смутное беспокойство, как и в тот раз, когда она решила не ходить в парк, возникло в ней. Оно стремительно разрослось и вдруг вспыхнуло, осветив корявые черты ее несдержанности. Ощущение роковой ошибки тошным комом застряло в горле. Что на нее нашло и что она творит?! Вместо того чтобы искать примирения, она бежит от него за тысячу километров! Какая легкомысленная трусость, какое ужасное затмение на пороге новой жизни! Вот уже три дня судьба смеется над ней беззвучным смехом! Ей стоило большого труда удержаться и не убежать с телефоном в дальнюю комнату.
Перед сном она подошла к окну и долго смотрела на россыпь желтоватых фонарей внизу. Те из них, что поближе, делали свое дело отчетливо и ровно, молчаливо покалывая глаз радужными иглами. Прочие, отступая на запад, слабели, теряли ореол, пока не превращались в маячки, которым хватало сил лишь на то, чтобы не заблудиться во мгле. Глядя туда, где черное небо соединялось с заснеженной землей, она думала: он где-то там, в этой неприятной, съежившейся от холода темноте, потерянный и жалкий в своей обиде. Когда же он думает мириться? Неужели ему невдомек, что еще немного, и ее гордость превзойдет ее терпение?!
«В любом случае, звонить первой я не собираюсь!» – напомнила она ему.
8
Проснувшись, он некоторое время лежал на спине и разглядывал потолок. От вчерашней дерзости не осталось и следа. Вспомнив свое воинственное намерение обзавестись юной девой, он нехотя попробовал представить, где и как собирается ее искать, а найдя, о чем будет с ней говорить.
Собственно говоря, найти молодую, непорочную и жениться на ней – не вопрос. Вопрос в том, как быть с ней дальше. Ведь нынче в этом возрасте принято искать развлечений, а не детей в капусте. Удастся ли ему достаточно поглупеть, чтобы разделить с ней восторги ее румяной молодости? Не захлестнет ли его поток ее рыскающих материальных прихотей? Долго ли он сможет снисходительно любоваться несносными повадками создания, годящегося ему в дочери?
Ему ли не знать, как быстро приступы умиления сменяются привычкой и разочарованием! Избежать будущего охлаждения можно, если внутри поселяется нечто глубокое, нежное и трепетное, как бы оно не называлось. Оттого так и болезненно его негодование, что к ней он, как ни к кому другому прикован именно той самой звонкой мелодичной цепью, рвать которую ужасно и невыносимо больно. Или он думает, что сможет приковать себя этой цепью к кому угодно?
К тому же в наше время совершенно невозможно представить молодую, красивую, умную и непорочную девушку в свободном, как кислород виде: из-за ее редкоземельности она непременно либо связана, либо уже опорочена связью. Скажем прямо – при его возрасте и блеклой внешности шансы его весьма невелики. Заводить же нечто молодое и невзрачное только потому, что оно непорочное нет смысла. Конечно, она может оказаться трогательной и наивной, и у нее, как у многих некрасивых девушек, может оказаться чувствительная душа и близкие слезы, и он привяжется к ней, тем более, когда у них пойдут дети, но… Но ведь и в НЕЙ, когда она беззаботна и отзывчива, так много еще девчоночьего и сердцещипательного!
Вспомнить хотя бы, как она засыпает у него на плече, измученная и обмякшая, неслышно дыша приоткрытым ртом и подрагивая. Как он бережно укладывает ее голову на подушку, а она лепечет сквозь сон с закрытыми глазами: «Нет, нет, мне еще в ванную…»
Как она утром тихонько возится и вздыхает, потому что хочет в туалет и не желает вылезать из-под одеяла.
Или эти ее потрясенные, целомудренные глаза после того, как она приходит в себя от умопомрачения.
Или когда она примеряет перед зеркалом обновку и хмурится, подвергая сомнению непослушный силуэт, либо, наоборот, с умиротворением подставляет зеркалу поющие формы, поводя плечами, оглаживая бедра и слегка наклоняя голову.
Да, они поссорились, но она рядом с ним – стоит только протянуть руку и взять телефон. Вот только не было бы поздно…
Позавтракав, он соответствующим образом оделся и отправился на залив. Сиротливая зима припудрила инеем траву, кусты, деревья и подрумянила их красноватыми лучами солнца. Он дошел до залива и долго стоял на голом озябшем берегу, жмурясь от солнца и поглядывая сквозь дрожащие щелочки глаз на беспечную аномалию голубого и серого, которые, несмотря на крайнюю разницу характеров, не могут в отличие от людей существовать одно без другого.
«Позвоню через два дня. Может быть…» – подумал он, чувствуя, как успокаивается внутри него взбаламученное до белой пены море.
…На следующий день в гости к ней прибежала Катька. Обнимая и целуя подругу, Наташа приметила на ее лице очевидные признаки усталости: задорные яблочки скул сползли на щеки и превратились в подсохшие пышки. Легкие пока еще паучки времени свили тонкие паутинки под глазами. Резные контуры носика затянуло подкожным илом. Отчетливо запавшие носогубные складки заключили в себя, словно в скобки подвядшие губы, и во всем гладком и ровном когда-то стихотворении лица проступили лишние знаки препинания.
«Господи, какие мы с ней уже старые!» – ужаснулась она предательству времени.
Уединившись, они предались сбивчивому разговору. Катька любовно помянула своих хулиганов и лентяев, одному из которых было уже двенадцать, а другому девять, скептически отозвалась о небритом, волосатом, пропитанном пивом существе, что проживало рядом с ней на одной жилплощади и спросила:
– Ну, а твой-то как?
– Мой-то? Да вроде ничего… – в тон ей откликнулась Наташа.
Катька потребовала подробностей, и Наташа в иронических чертах описала невзрачного претендента на ее руку и его незадачливое материальное положение, намеренно сгустив краски на тот случай, если придется в следующий раз объяснять, почему они расстались.
– Эх, подруга! Все мужики – идиоты! – понимающе откликнулась Катька и простодушно поинтересовалась: – Только не пойму, зачем он тебе такой нужен? Неужели получше, да помоложе не могла кого-то найти?!
Вспомнили свой класс, и оказалось, что многие разъехались, а те, кто остался, живут, как могут, но есть среди них и зажиточные. Сама Катька торгует шмотками на рынке и вполне довольна. Мужу не изменяет. А муж ей?
Вроде бы нет: у них хоть и без огонька, но регулярно. А впрочем, кто его знает!
Когда расстались, Наташа подошла к окну с видом на запад, кинула взгляд в ЕГО сторону и язвительно усмехнулась: «Любишь, говоришь? Ну, ну!..»
Ближе к вечеру позвонила Мария.
– Не звонил? – был ее первый вопрос.
– Нет, – сухо отвечала Наташа.
– А ты?
– И не собираюсь! – гордо отозвалась она.
– Хочешь, я ему позвоню? – предложила Мария.
– Ты что, Машка, сдурела?! Не вздумай, убью! – возмущенно воскликнула она.
Вечером четвертого дня, лежа в постели, она немного поплакала. Но вовсе не из-за жениха, а из-за своей судьбы-нескладухи. Неужели ей придется начать все сначала? Нет, к Феноменко она точно не вернется. И вообще, в постель с другим ляжет не скоро.
«Если в течение двух дней не позвонит, то может смело меня забыть!» – теряя терпение, предупредила она его.
Так, дергая с двух сторон натянутую меж ними струну, рождая судорогу колебаний и прислушиваясь к неблагозвучному итогу их сложения, дожили они до пятого числа.
9
Последние два дня он прожил тихо и сосредоточенно, прислушиваясь к затухающему эху обиды, читая все подряд и обнаруживая в чужих фантазиях подобие своим чувствам и мыслям. Во всем искал он утешения, на все откликалось его раненое чувство. К концу пятого дня она уже не казалась ему ни вздорной, ни распущенной. Напротив, он жаждал ее резких высказываний и мечтал поскорее пережить с ней приступ телесной страсти. Недалекая? Вот уж нет! Расчетливая? В самом лучшем смысле этого слова! Неблагодарная? Скорее, гордая и независимая. Вульгарная? На самом деле он гораздо вульгарнее ее. Капризная? Помилуйте, да ведь это самое важное женское качество! И, наконец, он склонен считать, что она его все-таки любит, но что-то мешает ей в этом признаться.
«Непростительны ошибки лишь тех, кого мы больше не любим» – читает он, и слова эти окончательно обращают недостатки невесты в нечто воздушное и мечтательное, отдающее запахом ее духов.
Вечером пятого дня он смотрел по видео знаменитый «Дневник памяти». История, от которой пять дней назад он, скорее всего, отмахнулся бы, на этот раз сделала его своим самым трепетным участником. И когда в конце пожилые герои, обнявшись, решили умереть здесь и сейчас, к горлу его рванулись слезы, и он едва не заплакал:
«Что я делаю! Что! Я!! Делаю!!!»
В том месте, где еще недавно у него пылала обида, возникла тихая паника, и звук непоправимой беды послышался ему вдруг, словно треск подгнивших над пропастью мостков. Он схватил трубку и вызвал ее номер. Было около двадцати двух часов по местному времени.
…На пятый день ночью она проснулась в темной тишине и лежала, закрыв глаза, не имея ни малейшего понятия о времени. Различив зудящий монолог оскорбленной гордости, который уже начинал ее утомлять, она догадалась, что угодила на круглосуточное заседание некоего органа планирования, где пытались представить ее будущее без НЕГО. Она прислушалась. Выходило все очень тревожно, утомительно и как-то по-цыгански загадочно. Ночь определенно преувеличивает наши неприятности. Не перебивая и не вмешиваясь, она некоторое время следила за прениями, пока незаметно не заснула, и задернутая шторой луна уплыла встречать рассвет, так и не найдя даже малой щелочки для ночного объяснения.
Утром она предъявила себя зеркалу и, обнаружив под глазами акварельные тени, возмутилась:
«Да за что же мне эти напасти – мне, молодой, красивой, независимой? Как только я начинаю радоваться жизни, так тут же что-то случается! У нищей толстой Катьки с ее мужем-пьяницей счастья больше, чем у меня со всеми моими трезвыми мужиками и деньгами!»
За завтраком мать с провинциальной непосредственностью посетовала:
– Что-то твой жених тебе долго не звонит!
Едва сдержавшись, чтобы не нагрубить, накричать, убежать, броситься лицом на подушку, заткнуть уши и завыть, она ответила:
– Ну, почему же не звонит? Каждый день звонит! Вот вчера, когда я была на улице, звонил. Кстати, очень плохая связь – половины слов не разобрала!
Вечером, готовясь ко сну, накладывая на лицо крем и втирая его, она ощутила вдруг робкую, беспричинную радость. С ней она и легла в кровать, собираясь посмотреть оказавшийся под рукой журнал. Едва она его открыла, как на ночном столике ожил телефон. Один из вальсов Шопена – серебристый ручеек звуков, похожих на то, как бабочка, сидя на цветке, подрагивает расписной выкройкой крылышек и через несколько тактов вдруг срывается и взмывает вверх, причудливо меняя полет и легко трепеща невесомыми цветными лепестками на виду у солнца. От неожиданности она вздрогнула и застыла: в такое время ей мог звонить только ОН. Победное торжество осветило ее лицо. Извернувшись, она схватила трубку, намереваясь впустить в дом и с достоинством отчитать припозднившегося голубя мира.
«Дима» – доложил раскрасневшийся гонец. Глядя на розовощекое приглашение, она держала на ладони распевающий телефон и… не отвечала. Бабочка, следуя серебристой спирали звуков, увивалась вокруг нее. Цветок на тонкой ножке кивал головой, приглашая бабочку вернуться.
Запыхавшийся, полыхающий румянцем гонец с нетерпением ждал ответа.
«Это тебе, чтобы не задавался!» – мстительно подумала она, когда телефон умолк и погас.
«А если он больше не позвонит?» – спросил некто испуганный.
«Никуда он не денется!» – деловито объявила она. Теперь она сама имеет законное основание ему перезвонить и небрежно спросить: «Ты, кажется, звонил? Ну, и что ты хотел?» То есть, на вызов ответить вызовом.
Трубку на ночь она выключала, а потому решила подождать, на тот случай, если он повторно наберется храбрости. Он перезвонил через полчаса.
– Алло… – равнодушно ответила она.
– Наташенька, это я, здравствуй… – глухо заторопился он. – Я тебе звонил…
– Разве? А я уже и не ждала!
– Наташенька, прости меня, пожалуйста, мне без тебя очень плохо! – произнес он страдальчески.
– Если бы тебе было плохо, ты бы позвонил раньше! А так выходит, что до сего дня тебе было хорошо! – не удержалась она от язвительности.
– Нет, мне и раньше было плохо, и сейчас плохо, – с угрюмым упрямством подтвердил он.
Отсчитав до десяти (необходимая пауза, чтобы придать вес ее следующим словам), она сказала:
– Хорошо. Встретимся – поговорим.
– Можно, я сейчас все объясню? – заторопился он.
– Что ты объяснишь? – раздраженно спросила она.
– Почему я это сделал…
– Что именно?
– Ну, этот дурацкий брудершафт…
– Интересно! И почему? – на самом деле заинтересовалась она.
– Ты весь вечер не обращала на меня внимания, и я по глупости решил тебя… ну, как это сказать…
– Ну!
– Ну… вроде как… позлить тебя! Извини…
– Ну, позлил?
– Извини…
Вот он, пресловутый момент истины: итак, дорожит ли она им и нужен ли он ей? Ну? Ну?! Ну, что же ты?! Отвечай!
Помолчав, она сухо ответила:
– Хорошо, встретимся – поговорим.
– Наташенька, нет сил ждать! Можно я приеду сейчас? – заторопился он, уловив надежду на благополучный исход.
– Боюсь, ты уже опоздал, – равнодушно ответила она.
– Что значит – опоздал? – растерялся он.
– Я сейчас далеко и не одна, – ступила она на самый край, с замиранием чувствуя, как от ее темных, словно воды Чусовой намеков вибрирует натянутый эфир.
– Что значит – не одна? – замерев на пару секунд, спросил он хриплым голосом. – У тебя что… кто-то есть?
– Да, есть, – натягивая леску до периферийной крайности, сказала она. Ощущая жаркий, мстительный восторг, наслаждаясь предсмертным воплем телепортированной тишины, она не без сожаления призналась: – Отец и мать. Я в Первоуральске…
– Наташа, – помолчав, прохрипел он, – разве можно так шутить…
– Я не шучу, это ты у нас шутишь…
– Ты когда обратно? – успокаиваясь, спросил он.
– Пока точно не знаю.
– Ты мне разрешишь тебя встретить?
– Разрешу.
– Я могу тебе звонить?
– Можешь. Только не так поздно. У нас здесь почти час ночи.
– Извини, пожалуйста, извини! Ты на меня очень сердишься?
– Да, сержусь.
– Прости меня, а? Прости, пожалуйста, дурака! Ты даже не представляешь, как я тебя люблю! Наташенька, ну, скажи, что не сердишься, ну, скажи! Ну, пожалуйста!! – рвалось из трубки его страдание.
– Хорошо, хорошо, успокойся, не сержусь! – испугалась она истерических ноток в его голосе. Не хватало еще, чтобы он расплакался!
– Хочешь, я к тебе приеду? – воскликнул он.
– Нет! – решительно отказала она. – Я скоро сама приеду.
– Я ужасно люблю тебя и целую! – заключил он.
– Хорошо, хорошо, звони, не пропадай! – заключила она.
На этом исторический с точки зрения их истории разговор завершился.
10
Такова хронология и основные события их первой войны, развязанной ими без особой нужды и завершившейся, как и следовало ожидать, его капитуляцией.
Разумеется, не обошлось без нюансов. Их мерцающие вкрапления в мрачную картину ссоры, их клейкое значение для образования на ее поверхности нелепого, несуразного, противоестественного узора были весьма ощутимыми, будь то разорванный на тоскливые куски сон с безрадостными пробуждениями или сосредоточенное курение на виду сиятельного месяца, алмазной кромкой царапающего темное стекло ночного неба. Тут и сердитый керосиновый гул самолетов, недовольных непоседливостью граждан, и отвергнутая, лишенная внимания природа, и назойливая навязчивость чужой радости. А также прочие тонкости настроения, в мелкой совокупности своей составляющие скелет их ссоры, включая поникший копчик его собачьей преданности.
Сразу после разговора он выбежал во двор и пошел ходить по дорожкам, глубоко затягиваясь и дымным головокружением приветствуя наступившее облегчение. Он перебирал остывающие подробности разговора, возвращаясь к волнению первых слов, когда он вдруг почувствовал, насколько своевременным оказался его звонок и как близки были их отношения к летальному исходу. Вспомнил, как неожиданно легко она приняла его объяснения и как он воспрянул и тут же обмер, услыхав, что она сейчас далеко и не одна. Какой ужас ощутил и как впервые узнал, каким непослушным может быть сердце. Как в порыве раскаяния вымаливал прощение, находясь в одном шаге от слез.
Теперь, когда душа его после вывиха встала на место, когда боль утихла, но фантомы вывихнутого самочувствия еще остались, он ощутил вместо радости стыд за то чрезмерное и унизительное усердие, с каким искал ее расположения. Нет, не так следует вести себя с ней, если он не хочет превратиться в игрушку ее настроения, говорил он себе. Нужно возвысить свой покладистый голос, унять излишнюю искренность, расправить крылья иронии и резко понизить градус обожания. За эти дни он убедил себя, что его поцелуй с Юлькой – не более чем неловкий вызов невниманию невесты.
Сейчас, когда он убедил в этом и невесту, он мог, наконец, признаться себе, что грешная Юлька, сама того не ведая, приникла губами к серебряной трубе, которая последние двадцать лет исправно будила его часового. Услышав ее повелительный призыв, он безусловным образом подчинился, а когда спохватился, поцелуемер уже зашкаливал. Такова неудобная правда, и о ней будет знать только он один. Что ж, дождемся завтра. На то и дано нам завтра, чтобы исправить то, что сделано сегодня. Завтра он вернется домой, чтобы быть ближе к ней на шестьдесят километров, и будет ждать там ее возвращения. Да, и не забыть бросить с утра курить!
…Долгожданный звонок произвел на нее неожиданное действие: вместо того, чтобы смягчить, лишь усилил досаду. А все потому что ложь горьким запахом миндаля витала в его объяснении. Он, видите ли, решил ее позлить! Какая неловкая уловка, какая нехитрая хитрость! Так она ему и поверила! Пусть он рассказывает эти сказки другим! Да, верно, оргазм ей в новинку, но в поцелуях она, слава богу, разбирается, и потому по-прежнему считает, что он виноват. И если она не находит себе места, если злится, если готова разорвать его на части, то только потому, исключительно потому… потому… потому что, черт возьми, как ни стыдно это признать, как ни удивительно это обнаружить, как ни трудно это допустить, как ни странно это слышать, как ни глупо это звучит – потому, черт его побери, чтобы он провалился, чтобы он был здоров, чтобы он думал о ней день и ночь – потому что… он ей небезразличен, вот что!! Он – этот страшный человек, это бесчувственное чудовище, этот неисправимый кобель – он… он… он, который ни чуточки ее не любит!!
Она привычно повалилась на подушку и заплакала, но через минуту рывком повернулась на спину, детским жестом ладоней вытерла слезы, облегченно улыбнулась и, протянув руку, погасила светильник. За ночь она возродилась и утром предстала перед родителями веселой, любящей и внимательной. Она вернется через три дня – этого времени вполне достаточно, чтобы он подольше помучился.
…Под ироничными взглядами матери он протянул еще три дня, пока нерадивое время делало вид, что работает на него. Он звонил ей по три раза на дню, предаваясь иллюзии примирения и приписывая ее голосу стабильные признаки потепления.
– Чем ты сейчас занимаешься? – спрашивал он, жадно прицениваясь к тому, насколько охотно и подробно она отвечает. Она отвечала осторожно, без лишнего чувства, не вдаваясь в подробности, словом, прохладно, что было очевидно бы каждому, кроме него. К концу седьмого дня она, наконец, объявила, что прилетает на следующий день вечером и сообщила номер рейса.
Он приехал в аэропорт за час до прибытия и слонялся на втором этаже с букетом роз, рассматривая пассажиров из очереди на отправление. Приметные персонажи провинциальной России, упрощенным стилем своим, как фальшивым звуком выбивающиеся из сыгранного оркестра мегамоды, попадались ему на глаза.
«В столице можно встретить хорошо одетых людей, в провинции попадаются люди с характером» – вспомнил он Стендаля, вглядываясь в пергамент лиц с чертами твердого, крупного тиснения. Ни одна девица из тех, что здесь присутствовали, с НЕЙ и близко не могла сравниться.
Объявили ее самолет, и он заторопился вниз. В зале прибытия он расположился на изрядном расстоянии от того мраморного окошка, из которого ему, как из пункта потерянных вещей, должны были ее вернуть. Энергичный сердечный монолог пробился к нему из груди. Он нервно расхаживал за чужими спинами, заглядывая в облицованную нетерпением пещеру, откуда она должна была возникнуть. Встречающие потянулись к телефонам. Он тоже захотел, было, позвонить и сказать, что он здесь, но передумал.
Минут через двадцать из проема в стене суетливо выступили первые пассажиры из породы тех, что всегда спешат. Встречающие качнулись в их сторону. Он, волнуясь и вытягивая шею, стал пробираться вперед. Прибывших быстро разобрали, и образовалась пауза. Теперь он находился рядом с выходом и мог заметить ее появление издалека. Прошло еще несколько томительных минут, появилась новая партия, и он, наконец, увидел ее.
Она шла навстречу его судьбе, как по подиуму – укладывая в ниточку следы, прижимая локоток одной руки к перекинутой через плечо сумочке и без особого напряжения удерживая в другой руке большую сумку. Расстегнутое темно-синее пальто ее открывало плавную работу обтянутых джинсами стройных длинных ног и позволяло видеть ее любимый серый свитер с шалевым воротником. На голове маленькая вязаная шапочка, волосы рассыпаны по плечам. Она заметила его, улыбнулась и отвела глаза. Когда они сошлись, он тут же отнял у нее сумку, неловко вручил цветы и потянулся к ней губами. Она подставила щеку. Оказалось, что кроме сумки другого багажа у нее нет, и они налегке направились на выход. До самой машины они молчали. Когда поехали, он разговорился. Она сдержанно отвечала. Казалось, они заново знакомились. Он между прочим сообщил, что провел пять дней за городом и в одиночку выпил три литра виски.
– Зачем? – равнодушно спросила она.
– Скучал… – небрежно ответил он.
– Странный способ скучать, – покосилась она на него.
Он замолчал и прибавил звук приемника – там страдал Элтон Джон, не зная, как попросить у нее прощения. Сам он знал, но для этого ему надо было смотреть ей в глаза. Когда приехали, он достал из багажника сумку и большой пакет.
– Что это? – спросила она в лифте, указав на пакет.
– Продукты тебе на первое время…
Вошли в прихожую. Он поставил сумку и пакет и помог ей снять пальто. Из гостиной прибежала заспанная кошка. Наташа присела и потянулась, чтобы ее погладить.
– Катюша, милая, как ты тут без меня? – сердечным, заботливым тоном, которого ему так не хватало, обратилась она к ней. Затем встала и направилась в ванную. Он, переминаясь, остался стоять в прихожей. Она появилась, с удивлением на него взглянула и спросила:
– Ты что, куда-то спешишь?
– Нет…
– Тогда почему не раздеваешься?
– А что, можно? – спросил он.
– Ну, Дима! – взглянула она на него, как на безнадежно больного. – Иди мой руки и садись пить чай! Может, ты хочешь поесть?
– Нет, спасибо, а если ты хочешь – я что-нибудь приготовлю! – оживился он.
– Кстати, я купил твои любимые пирожные!
– Тогда будем пить чай.
Когда уселись, он положил руки на стол и, умоляюще глядя на нее, попросил:
– Наташенька, прости меня, ради бога! Я даже оправдываться не хочу. Скажу только, что мне без тебя…
Он замолк, подыскивая слова повесомее. Она молча ждала.
– …В общем, без тебя мне не жить! – закончил он, улыбаясь мучительно и растерянно. Она пронзительно взглянула ему в глаза, а затем скользнула по столу руками навстречу его рукам, и они встретились посередине, как раз возле блюда с запеченными в лунный свет миндальными пирожными.
– Противный мальчишка! – сказала она, сдерживая чувства и наблюдая, как неоновая влага застилает его глаза.
– Я люблю тебя, Наташенька! – торопливо пробормотал он. Затем вдруг отпустил ее руки и вскочил, словно вспомнив о чем-то: – Подожди!
Сбегав в прихожую, он вернулся, сел на место и положил на середину стола кольцо. Она рассмеялась, помедлила и королевским жестом протянула ему руку. Он привстал, поцеловал ее гордый пальчик, надел на него кольцо, и прижался к нему щекой. Затем вскочил, обошел стол и склонился над ней. Она подставила губы, и они нежной печатью скрепили реставрацию отношений.
11
Отправив его в ванную, она прошла в спальную, и пока он отсутствовал, приоткрыла окно, разбавила морозным воздухом густой синтетический дух недельной выдержки и замела следы поспешного отъезда. Разобрала постель, приготовила полотенца и, приложив холодные ладони к щекам, еще раз посмотрела на кровать, чувствуя, как родившийся в паху жар растекается по телу и туманит голову.
– Ложись, я сейчас, – встретила она его на полпути к ванной, коснувшись на ходу рукой.
Страдая от тугой дрожи, он прошел в спальную, разделся и лег, ежась на остывшем ложе и пытаясь согреть холодные пальцы, подсунув их под голые ягодицы. Внутри него протяжно и беспорядочно настраивался оркестр, и его изнывающей на пульте живота дирижерской палочке не терпелось приступить к исполнению патетической симфонии в обновленной редакции. Он смотрел, как прекрасная муза закрывает окно, задергивает штору, сбрасывает халат, откидывает одеяло, и чувствовал, как от творческого восторга темнеет в глазах. Она скользнула к нему и прильнула влажным бугорком.
– Бр-р! Холодно как! – подрагивая, пожаловалась она.
Страшась, что неистовый ураган вот-вот вырвется наружу, он набросился на нее, растерявшуюся, и словно дорвавшийся до теста пекарь принялся судорожно мять ее тело. Высокий оркестр умолк и вместо него запела-закипела безрассудная животная струна. Его хватило на короткий бурный штурм, в конце которого он впервые за то время, что был с ней, застонал. Небывалые доселе конвульсии сотрясали его, выталкивая наружу утробные, болезненные звуки. Смущенная неожиданным темпераментом жениха, она прижимала его к себе и успокаивающе гладила по спине, ощущая, как судорожные подергивания его бедер отдаются у нее в животе. Тяжкий напор его тела неприятно напомнил ей ужасную сцену, что случилась у нее с Феноменко. Все вышло также грубо и беспардонно, с той лишь разницей, что делалось с ее согласия. Привалившись щекой к ее голове, он ослаб и затих.
«Вот это да! – думала она. – Оказывается, он тоже может быть грубым! Интересно, мог бы он меня изнасиловать, если бы я ему отказала?»
Наконец он тяжело опрокинулся с нее, да так и остался лежать рядом.
– Ой-ой-ой! – сжав ноги, тут же спохватилась она и, дотянувшись до полотенца, сунула его под одеяло. Некоторое время она молча возилась, напрягая шею и отрывая от подушки голову и, наконец, произнесла со смешливой иронией:
– Господи, да у меня там целое море!
– Наташенька, я страшно соскучился, – уткнувшись головой в ее плечо, слабым голосом пояснил он.
– Противный мальчишка! Я, между прочим, тоже соскучилась! – капризно отвечала она. Стоит ли говорить, что он соскучился по ней, а она по оргазму.
– Потерпи, пожалуйста… Совсем немного… – виновато бормотал он ей в плечо.
– Что же мне еще остается! – дразнила она его напускным разочарованием. – Ладно, не переживай. Расскажи лучше, как ты тут без меня жил…
И он, нащупав ее руку и тщательно подбирая слова, сообщил ей про то, какие муки одиночества претерпел. Про голый озябший берег и беспечную аномалию голубого и серого, которые, несмотря на крайнюю разницу характеров, не могут существовать одно без другого. Про иней на деревьях, подрумяненных красноватыми лучами солнца, и про обманутые недавним теплом почки на ветвях. Про свой разорванный на тоскливые куски сон и безрадостные пробуждения, про сосредоточенное курение на виду сиятельного месяца, алмазной кромкой царапающего темное стекло ночного неба…
– Знаешь, не дай бог, когда тебя обижает любимый человек! – закончил он свой любовный отчет.
– Ах, вот как! – решительно облокотилась она на подушку. Он осторожно сделал то же самое. – А как же ты сам? Говорил, что любишь, а оказывается, я у тебя и вульгарная, и нечуткая, и такая же недалекая, как все твои женщины! И ты пожелал мне счастливо оставаться, и гордо хлопнул дверью, хотя я тебя и не выгоняла…
Он не знал, куда девать красное лицо. То чугунное и пыхтящее, что неделю назад подобно паровозу влекло за собой голубой вагон его благородного негодования, сегодня превратилось в нечто вздорное и эфемерное.
– Но я не собираюсь увлекаться взаимными упреками, а хочу сказать по существу… – продолжала она. – Вот ты все твердишь, что я тебя не люблю. А я и не спорю. Знаешь почему? Потому что я знаю, что такое любовь! Нельзя любить на пятьдесят или на семьдесят процентов! В этом деле одно из двух – либо любишь, либо нет! Середины нет! Вернее, она есть, и может быть я где-то там сейчас и нахожусь, но это не любовь, понимаешь? Не бывает любви второго сорта, любовь бывает только высшего сорта! Да, мои нынешние чувства к тебе не тянут на любовь, на настоящую любовь, на ту, от которой сходишь с ума! Но разве я в этом виновата? Или ты хочешь, чтобы я притворялась и говорила тебе, что люблю и тем самым обманывала тебя? Хочешь? А я не хочу!
Она смотрела на него в упор и видела, как на его гаснущее лицо ложится тень разочарования. Ей стало жаль его.
– Не обижайся, пожалуйста! На самом деле я очень ценю твое отношение ко мне. Честно говоря, я его даже не заслуживаю. Ты такой хороший, милый, нежный, умный, внимательный, порядочный, основательный и я не знаю, что еще! Ты в самом деле лучше всех, кого я знаю, иначе бы ты не был сейчас со мной! Конечно, ты можешь спросить, почему я с тобой сплю, если не люблю. Ну, или не совсем люблю. Но ты же знаешь – такое бывает сплошь и рядом! Просто женщины редко об этом говорят открыто, а я вот говорю, потому что не хочу тебя обманывать. Скажу откровенно – мне тоже все эти дни было несладко! Значит, ты мне не безразличен, ведь так? Может, на пятьдесят, может, на шестьдесят процентов… И все же это не та любовь, от которой бросает то в жар, то в холод, понимаешь! Это только подступы к ней. Ты должен меня понять, ведь ты тоже любил! Ну, ведь так?
– Да, так мне казалось… Но я не знал тогда, что можно любить так, как люблю сейчас…
– Вот видишь! Значит, такое может случиться и со мной! Димочка, мне важно, чтобы ты знал, что я хочу тебя полюбить, очень хочу! Только дай мне время, не торопи! Поверь, все идет как надо, и когда я тебя полюблю, ты узнаешь это первым! Но в любом случае ты можешь быть уверен, что даже если это будет пятьдесят процентов – я никогда тебе не изменю. Иди ко мне!
Он послушно потянулся к ней и пристроил голову у нее на плече.
«Знаешь, чего я все время боюсь? Я боюсь, что ты, не успев полюбить меня, полюбишь другого!» – чуть было не сказал он, но сдержался.
– Ты правильно сделала, что сказала, – заговорил он мужественно. – Мне все равно, любишь ты меня или нет, потому что главное для меня, что я сам люблю тебя, и поверь – сделаю все, чтобы ты меня полюбила!
– Сделай, Димочка, сделай, пожалуйста! Я так этого хочу! – нервно гладила она его и, оторвав голову от подушки, быстро поцеловала в губы: – Давай больше не ссориться, хорошо?
– Нет, иногда немножко нужно, потому что мириться так сладко! – улыбнулся он.
Как только не обманывают друг друга и о чем только не мечтают наивные мужчины и женщины в преддверии оргазма!
Он поцеловал ее грудь и двинулся ниже. Она закрыла глаза.
И снова по жаркому небу поплыли золотые рыбы, а разноцветные птицы на дне лазурного моря запели с коралловых ветвей. Трижды загоралось и гасло солнце, трижды рушился и восставал мир, трижды она тонула и выплывала, пока, наконец, влажная, горячая и обессиленная не растянулась рядом с ним на золотом берегу.
Немного погодя, вложив себя в мягкий угол его тела, она думала там:
«Как ужасно, что я узнала настоящую любовь до него! Не узнай я ее тогда – сейчас бы считала, что люблю его, что не могу без него, что он единственный и неповторимый, первый и последний… Так и обманывала бы его и себя…»
Все же как это странно и несправедливо: мужчина, подаривший ей высшую радость жизни, должен питаться сухим кормом жалости! Художник, расписавший неоновыми фресками небосвод ее жизни, должен перебиваться милостыней скупого чувства! Только вот чем она может его отблагодарить? Особыми ласками? Нет, это невозможно без любви! К тому же он может вообразить себе то, чего нет на самом деле, и каково будет его разочарование, случись ему обнаружить ее притворство! Конечно, она допускает, что может быть, когда-нибудь в очень отдаленном, уверенном, благополучном будущем, находясь в ненормальном (а в нормальном это невозможно) состоянии, она решится сыграть на его флейте и извлечь из нее жгучую и сочную мелодию любви. Однако сегодня это не более чем робкие пугливые предположения, стыдливые, так сказать, заметки на полях целомудрия.
Прикрывая ее собой, он грудью, животом и ногами прижимался к ее спине и ногам, уткнувшись лицом в ее затылок и воруя его запах, где живой, пряный дурман вспотевшей кожи перебивал слабый аромат духов. Все, что он возомнил себе – его ершистые планы возвысить свой покладистый голос, унять излишнюю искренность, расправить крылья иронии и резко понизить градус обожания; его щетинистые намерения любить ее сдержанно, невозмутимо и философски, его молодецкий петушиный кураж – все прахом, все к черту, лишь увидел он ее, лишь прикоснулся к ней! Как это весело и страшно, как упоительно и безнадежно! Он любит и нелюбим, он погиб и он счастлив! Удивительное дело – при всей его способности внушать любовь другим он оказался совершенно беспомощен перед собственной любовью!
Так он думал, бережно оглаживая ее неподражаемое тело. Он любил, взобравшись на гладкую возвышенность той удивительно содержательной части ее тела, которую бездушные медики зовут почему-то тазом, замереть там перед заманчивым и трудным выбором – отправиться ли к покатым, податливым, припудренным жеманной бледностью ягодицам, либо осторожно, чтобы не поскользнуться, перебраться на талию и оттуда спуститься на пружинистую лужайку живота; либо кинуться с отвесного обрыва и угодить в мягкую расщелину, что сужаясь, ведет в скрытый мелкими зарослями набухший чудесной влагой грот. Либо, съехав с ее плавных чресл, пройти по внешней бархатной стороне бедра, дотянуться до окатыша коленки, затем повернуть вспять и, соскользнув на полпути, застать врасплох его внутреннюю сторону, что глаже стекла, нежней запястья и поэтичней первого свидания. Просунуть ладонь туда, где кожа сохранила глянцевую девичью упругость, и где само присутствие его грубой руки кажется неуместным и оскорбительным. Забраться и бродить по изнеженному сахарному предместью, чьи млечные пути ведут все в тот же мерцающий грот. Подобраться к его створкам, похитить проступивший наружу драгоценный елей и, стыдясь, тайком донести его до жадного языка, добавляя в него для вкуса запах ее волос и подмышек…
И все же, если эти чудные сокровища принадлежат ему, и если она назвалась его невестой – для чего ему нужна ее любовь, ее преданный взгляд и нескрываемое обожание? Зачем ему, чтобы она, думая о нем, ощущала восторг и слезы в уголках глаз? Откуда это желание поселить в ней тревожно-радостное, ни на что не похожее и, по сути, гибельное чувство? Да потому что ее любовь к нему – единственная гарантия, что она всегда будет с ним, а, значит, он будет жить!
Он раздвинул носом ее густые волосы и поцеловал в шейку. Затем со значением скользнул губами по плечу и спустился на спину. Она, чтобы охладить его пыл, к которому была пока не готова, выбралась из его объятий и повернулась к нему лицом.
«Расскажи мне что-нибудь еще…» – хотела сказать она, но его необычайно серьезный взгляд остановил ее.
– Что? – спросила она.
– Никому тебя не отдам! – попытался улыбнуться он.
– Глупый! – рассмеялась она и спрятала лицо у него на груди. – Ты, кажется, начал рассказывать, как жил без меня…
– Ну, как… Как и положено: удалился от мира и пил… Да, кстати, забыл тебе рассказать… – оживился он и принялся вспоминать, как находясь в прострации, неожиданно нашел утешение в Дебюсси, как открыл для себя странные, ни на что не похожие сочетания удивленных случайным соседством звуков, которые плыли по гостиной, струясь, дрожа, замирая, трепеща, скользя, дерзя, тая и воскресая. Оказалось, что музыка живет во всем: в парусах, в лунном свете, в тумане, в шагах на снегу, в ветре на равнине, в дельфийских танцовщицах, в арабесках, в затонувшем соборе, в девушке с волосами цвета льна. Надо только ее услышать и извлечь.
Она слушала, затаившись, но вдруг отстранилась, дотянулась до его губ, быстро поцеловала и снова спряталась.
– Ты знаешь, – воодушевился он, – перед отъездом я собирал вещи и совершенно случайно наткнулся глазами на Блока. Дай, думаю, возьму. И так удивительно оказалось, что он совпал с Дебюсси! Ну, не мистика ли? Я уже тогда понял, что все у нас будет хорошо!
– Но пить не перестал! – раздался ее смешок.
– Не перестал… – сознался он. – Представляешь, он, оказывается, знал о нас с тобой еще сто лет назад! Все знал! Наперед! Знал и сообщил самым убедительным и нетленным образом!
– Что знал?
– Все! Даже то, что мы встретимся осенью!
– Ну уж… Тогда обязательно надо почитать… – млея, пробормотала она.
– Я сам тебе почитаю! – заторопился он, словно боясь, что читая самостоятельно, она запачкается гуталином его неприглядных размышлений тех ужасных дней. Как объяснить ей, что всех строчек поэта, переплавленных в тигле его души, хватило лишь на четыре строки!
– А что с нами будет – тоже знал? – также расслабленно пробормотала она.
– Знал, – подумав, ответил он. – Про меня точно знал!
– И что? – заинтересовалась она.
И он торжественным глухим голосом продекламировал отлитое в бронзе его сердца четверостишие:
Твоих страстей повержен силой, Под игом слаб. Порой – слуга; порою – милый; И вечно – рабОна подтянулась к нему, припала к его губам и задержалась там.
– Сделай это, Димочка, нежно, как ты умеешь! – попросила она, поворачиваясь к нему спиной.
12
«Не люблю, но, возможно, полюблю» – сказала она, и ему теперь волей-неволей следовало вести себя так, чтобы каждую минуту добиваться даже не расположения ее, нет, а чего-то подкожного, задушевного, засердечного, отчасти, может быть, даже заумного, запредельного. Здесь все зыбко, все вопросительно и относительно. Помимо синдрома благих намерений здесь нелишне иметь в виду, что порой своенравная выходка полезней для дела, чем учтивость и чуткость. Блужданиям среди пугливых, неверных, любовных кущ чужд расчет, тут требуется полет и вдохновение. Попробуй-ка выйти на сцену, сыграть героя-любовника и не быть освистанным, если до этого ты играл только альфонса и жалкого раба, да к тому же не знаешь текста! Отныне, высказав суждение, обнаружив пристрастие, совершив действие, допустив оплошность, словом, приоткрыв или подтвердив свое качество, он вынужден будет беспокоиться о его, так сказать, душевной калорийности. Глядя на ее приветливое лицо, он невольно будет думать – а что чувствует внутри нее та, другая, которая пристраивает его в этот момент к какому-то только ей известному аршину?
«Я сделаю все, чтобы ты меня полюбила!» – сказал он, мешая решимость с патетикой, которая, как известно, наряду с мужской спермой есть самая ненадежная из скрепляющих смесей. Интересно, как он собирается заставить полюбить себя и что он еще может добавить к тому, что она о нем уже знает – ласково улыбаясь ему, думала она наутро, сидя напротив и глядя, с какой жадностью он поедает один за другим бутерброды с ветчиной и сыром, подгоняя их большой чашкой кофе. Бледное мятое лицо, пунцовые кончики ушей, набухшие веки, узкий жующий рот и холеные цепкие пальцы.
– Что? – смутился он, поймав ее изучающий взгляд.
– Бедный Димочка! Я, нахалка этакая, совсем тебя замучила!
– Ничего, мне это только на пользу – надо худеть! – прикрыл он смущение иронией.
Интересно, думала она, как долго он сможет терпеть ее непылкое внимание (пылкое невнимание?) и не поспешит ли принять за любовь ее случайную нежность? Конечно, через пару месяцев можно приступить к осторожным намекам – мол, халва, халва. Он, разумеется, воспрянет, но станет ли ей от этого слаще? Ведь первый же ее приступ раздражительности рассеет чары притворства и насмерть отравит его робкие иллюзии. Так не лучше ли оставаться честной и чуткой?
И еще одна, пожалуй, главная опасность. Не она ли, объясняя причины Мишкиной измены, признавалась, что он изменил ей в отместку за то, что она его не любила? А сколько продержится он, если ее любовь закапризничает? Ведь рано или поздно ему надоест быть нелюбимым! А если она сама, не дай бог, встретит второго Володю? Боже ты мой, ну к чему самоедство? Почему не жить так, как живут все? Ну, какая теперь, скажите на милость, между ее подругами и их мужьями любовь? Привычка, не более! Сквозь облезлую позолоту брака там давно проглядывает серая грунтовка моногамного быта, где мужья думают, как переспать с другой бабой, а жены – как их от этого удержать. Видела она, как их хваленые мужья пялились на нее в тот несчастный вечер! А может, плюнуть на все и назначить свадьбу, а сразу после брака подумать о ребенке?
Вслед за кольцом на место вернулось колье.
– Прошу тебя, чтобы не случилось – не разбрасывайся им! – напутствовал он ее с укоризной.
По громкой дружеской связи она сообщила о своем благополучном возвращении в семейное гнездо, на что Светка, хмыкнув, отозвалась:
– Кто бы сомневался: милые бранятся – только тешатся! Давайте-ка к нам в гости на старый Новый год!
Они съездили в магазин и запаслись продуктами. Не допуская ее до плиты, он приготовил обед, и они долго сидели, попивая вино и растягивая во все стороны резиновое пространство своих жизней, плотно населенных тенями ее мужчин и его женщин. Главное здесь – не сгустить повествование черным отблеском случайных подробностей до выпуклого состояния. Иначе как избавиться от невеселой прозрачности ее веселой истории о том, как однажды в Париже она до головокружения, до неустойчивого положения распробовала «Шато Марго» 1999 года. Ему же лишь оставалось вообразить, что может ждать в Париже красивую женщину после того, как она в компании солидного мужчины пьет дорогое вино и уж тем более напивается. Или, например, что оставалось думать ей после его рассказа о том, как однажды в том же городе он ужинал в многолюдной деловой компании, и как ему навязали некую красотку, которую он был вынужден весь вечер развлекать, а после ужина проводить до дома где-то в окрестностях Люксембургского сада. Словом, призраки прошлого в тот вечер густо витали в воздухе, набрасывая время от времени невольную тень на их лица. Такой вот неоново-пятнистый аншлаг в бродячем театре теней.
Когда пришло время ложиться, она объявила, что сегодня он спит на диване.
– Нет, нет, даже не спорь! – отбивалась она от его недоумения. – Ты должен отдохнуть! Если мы ляжем вместе, сам знаешь, чем это кончится!
– Но, Наташенька! – упрашивал он. – Я отвернусь и буду тихий и послушный, как зайчик! Клянусь тебе!
– Знаем мы вашего зайчика! – хохотала она. – Утром, утром! Все утром!
Спал он, как убитый, а поздним утром поспешил в спальную. Осторожно проникнув под одеяло, он подобрался к ней и прижался грудью, животом и ногами к ее спине и ногам, повторив своим телом контуры ее тела.
– Ну-у!.. – сонным голосом, в котором не было протеста, произнесла она. – Ну, Дима! Ну, не приставай, противный мальчишка!
– Так что вы там говорили про детей? Кого желаете – мальчика, девочку?
А ведь верно – счастье так близко: стоит только протянуть руку…
13
В гости к его другу она надела скромное дорогое платье, купленное в Стокгольме в один из последних наездов – белый горошек размером с десятикопеечную монету на темно-синем поле, которому так к лицу бежевый цвет легкого жакета. Сама того не ведая, она повторила одну из возбудительных комбинаций Мишель. Взбудораженный многозначительной перекличкой эпох, он вывел свою королеву во двор и усадил в машину. Над пасмурным миром, затаив дыхание, мечтательно кружились влюбленные снежинки…
Пропустив невесту вперед, он из-за ее спины наблюдал за лицами своих друзей. Юркины глаза заметно округлились, Татьянины, напротив, сузились.
– Знакомьтесь: Наташа, моя невеста! – объявил он.
Хозяева поздоровались, и Юрка захлопотал вокруг гостьи. Татьяна вежливо и молча улыбалась.
– Пойдемте, я покажу вам квартиру, – наконец очнулась хозяйка, желая первой в этом доме снять пенки с Наташиного смущения. Мужчины двинулись в гостиную.
– Ну, ты даешь, Димыч! Такую красавицу отхватил! Да, теперь я тебя понимаю! Супер, просто супер! – волновался Юрка.
Вернулись женщины, всем видом доказывая, что первое общение их не сблизило. Хозяйка усадила Наташу и удалилась на кухню, а Юрка, с жарким интересом подавшись к гостье, завел комплиментарный разговор.
Из всех событий вечера, ничем особым не отмеченного, следует выделить три эпизода. Во-первых, когда Юрка и Наташа остались в гостиной одни, и Юрка, к тому времени совершенно освоившись и перейдя на «ты», стал вдруг серьезным и сказал:
– Знаешь, лучше парня, чем Димка тебе не найти. Он умный, верный и надежный. Поверь, я знаю: мы с ним через такие университеты прошли!
– Но мужская верность и верность женщине – совершенно разные вещи, согласись!
– До его знакомства с тобой согласился бы, но сегодня не соглашусь. Я помню, каким он был во время вашей ссоры. Таким потерянным я никогда его еще не видел.
– И все же боюсь, как бы мне не разделить судьбу его бывших подружек! – коварно пожаловалась она.
Юрка оживился:
– Скажу прямо – всем им далеко до тебя!
– Ты лучше скажи, почему он не женился раньше?
– Не знаю. Я его всегда спрашивал – когда женишься, а он отшучивался. Но с тобой у него все по-другому! Он мне так и сказал после вашего знакомства – в лепешку разобьюсь, но женюсь!
В это же время на кухне гость и хозяйка сошлись во втором эпизоде:
– Ну, что скажешь? – спросил он.
– Ну, что я скажу… – отвечала хозяйка, возводя на него подведенные очи. – Девушка она, безусловно, эффектная, культурная. Кстати, кто она у тебя?
– Юрист!
– Вот, вот, оно и видно, – поджала губы хозяйка. – Не знаю, может, я ошибаюсь, но уж больно она самостоятельная! У таких все просто: чуть что не по ней – скандал! Да ты и сам уже знаешь…
– Танюша, ты преувеличиваешь! Она совсем не такая!
– Ты хотел мое мнение – пожалуйста! Только скажу, что Ирина тебе подходила больше…
Немного погодя хозяйка и гостья сошлись на той же кухне в третьем эпизоде. Разговор их, начавшись Наташиным умилением по поводу трогательной подростковой нескладности хозяйкиной дочки Анечки, хоть и был поддержан, все же не поднимался выше прохладного градуса дежурной темы. Хозяйка в свою очередь бесцеремонно поинтересовалась, отчего гостья в ее возрасте не обзавелась детьми.
– А разве Дима вам не рассказывал? – пытаясь выиграть время, притворилась удивленной Наташа.
– Нет. Он вообще-то у нас скрытный, – зачем-то вывернула истину наизнанку хозяйка, и Наташе пришлось отделаться ссылкой на стечение обстоятельств, которые, как известно, всегда стекаются туда, куда нам нужно.
Поскользнувшись на детской теме, гостья съехала на превратности трудовой деятельности, но хозяйка, находящаяся на службе у одного из банков, не захотела потешить их солидарное пренебрежительное мнение о клиентах. Тогда гостья похвалила хозяйкин наряд, состоящий из двух цветных пятен – черной юбки и ядовито-зеленой блузки, но ее вежливо поблагодарили и даже не захотели узнать, где и почем она купила свое веселенькое платьице. Гостье ничего не оставалось, как одобрительно отозваться о просторной и богатой квартире (отделанной и обставленной, между нами говоря, в новомещанском тропическом вкусе) и о хозяйкином муже с его братским отношением к ее жениху.
– Да, они давно знакомы, – был сдержанный комментарий хозяйки.
«Такое впечатление, что она с ним спала и теперь злится!» – потеряв терпение, возмущенно подумала Наташа. Вскоре после этого она заторопилась домой, и около десяти они распрощались с безутешным Юркой и вежливой хозяйкой.
– У тебя с ней что-нибудь было? – мрачно спросила она его в машине.
– С кем? – испугался он.
– С Татьяной!
– Господи, Наташа, ну что ты такое говоришь?! Ну как ты могла такое подумать?!
– Ну, не знаю. Она весь вечер смотрела на меня, как на воровку…
– Ты считаешь, что я настолько испорчен, что могу познакомить тебя с бывшей любовницей?
– Да ладно, чего там, дело прошлое… – вяло злилась она.
– То есть, ты все-таки считаешь, что я настолько безнадежен, что мог переспать с женой лучшего друга?
– Ничего я не считаю! – устало отмахнулась она.
– Ну, Наташа, ну, милая, ну не надо делать из меня полового монстра! – взмолился он.
«Как не делать, если ты такой и есть!» – вспомнила она утреннюю репетицию зачатия – нежную, бурную, непорочную.
– Сначала я не понравилась твоей матери, а теперь и жене твоего лучшего друга… – с усталым разочарованием произнесла она.
– Тем хуже для них обеих! – неожиданно мрачно ответил он.
В оставшееся до сна время она бродила по своим задумчивым траекториям, пока не сошлась с ним перед телевизором на диване и не отдала ему молчаливую, рассеянную руку.
«Интересно, за что женщины его любят? – думала она, сидя рядом с ним. – Ведь он далеко не красавец и, к тому же, грузноват… И подруги от него в восторге, и эта сегодняшняя ревнивая кошка… И ведь даже не знают, какой он в постели. А если бы еще знали…»
Когда они легли, и он осторожно подобрался к ней, она сказала:
– Не обижайся, но я устала…
– Хорошо, хорошо, тогда я просто поглажу тебя, чтобы ты быстрее заснула. Когда ты была маленькая, тебя гладили перед сном?
– Да, гладили… Помню, я очень любила… Особенно, когда отец гладил…
– Где он тебя гладил?
– По спине, по голове, руки…
Получив ориентиры, он уложил ее набок и принялся колдовать, подражая отцовской нежности, как он ее понимал. Начав со спинки, он, разумеется, быстро забыл, что перед ним маленькая девочка, а он ее отец. Перепутал спинку с животиком, льняную головку с ягодицами, а ручки с ножками. Заставил ее вздрагивать и, наконец, подсунул ей свои истинные окрепшие намерения. При ее молчаливом попустительстве он в одиночку и неожиданно быстро взобрался на гору и, упруго толкаясь, сбежал оттуда прямо к подножию ее вялого соучастия.
Конечно, позволив себя гладить, она прекрасно знала, чем все кончится, и когда он обнаружил свое хотение, поступила так, как делала до него, когда была приучена к мысли, что ее удел – подставить себя мужчине, когда он того захочет. Дождавшись, когда он отделится, она встала, накинула халат и устремилась в ванную, чувствуя на ходу, как его липучий дар покидает ее и, холодея, стекает по глянцевой упругости млечных путей и вот-вот потянется за ней темнеющим следом, как раненая кровь. Она успела забежать в ванную, где, расставив ноги и морщась, подобрала ребром ладони шуструю жидкость, намереваясь тут же ее смыть. Вдруг стыдное и жадное любопытство, сродни тому, с каким она рассматривала его челнок, одолело ее. Она поднесла сопротивляющуюся ладонь к глазам и с брезгливым изумлением принялась разглядывать ту невзрачную беловатую субстанцию, которой ее до сих пор так усердно потчевали ее мужчины, и от которой она каждый раз спешила избавиться (Володя не в счет). Видом и липкостью она напоминала бесцветный шампунь, отчего рот тут же отозвался легким мыльным привкусом. Отвернувшись от зеркала и преодолевая отвращение, она сначала понюхала жидкость, а затем коснулась кончиком языка. Гримасничая сверх меры, она попыталась распробовать вкус, заранее обреченный называться отвратительным, и вдруг сплюнула, словно обнаружив там что-то тухлое:
– Тьфу, какая гадость!
Вернувшись, она забралась к нему в объятия и пригрелась, а затем, пользуясь темнотой, погрузилась с головой под одеяло. Там, затаившись, она некоторое время вдыхала душноватое тепло их испарений, пытаясь выделить из них запах его тела, но лишь прелый, со слабым рыбьим привкусом дух их мокрых натруженных желез дразнил ее обоняние. Опасаясь ненужного возбуждения, она отползла от него на безопасное расстояние и вскоре заснула.
Наутро она вспомнила вчерашнюю дегустацию и, испытав неожиданное возбуждение, сама заставила его заставить ее кричать. Отлежавшись, она скрылась в ванной, где собрала и уместила на ладони небольшую перламутровую лужицу. Подав лицо вперед, закрыв глаза, облизывая губы и причмокивая, она тщательно и без отвращения попробовала его угощение. Несмотря на внезапную симпатию, она нашла его безвкусным и слегка солоноватым. Губы стали липкими, а язык по особому гладким. Словом, ничего похожего на олимпийскую амброзию. «Тогда отчего так много дур, которым ЭТО нравится?» – подумала она, имея в виду в первую очередь свою лучшую подругу Светку. Надо обязательно заглянуть в Интернет и почитать, что там пишут по поводу вкуса спермы.
«Господи, знали бы подруги, чем я, Наташа Ростовцева, образцовая чистюля и фифочка, тут занимаюсь!» – с веселым ужасом подумала она, обследуя языком встревоженную полость рта, куда впустила его живучую агрессивную гадость.
Это безусловно важное открытие, совершенное с большим опозданием, возбудило в ней по очереди два противоположных чувства. Сначала разочаровало, потому что она ждала большего, а затем обрадовало – слава богу, без этого можно прекрасно обойтись! Достаточно того, что она теперь знает, что это такое, но извлекать и пачкаться – увольте! Не царское это дело!
В тот же день она тайком заглянула в Интернет.
«Как много на свете блеющих озабоченных дур, которым невдомек, что зализывая мочеиспускательные отверстия, они уподобляются животным! Вот если бы они зализывали раны своих самцов, тут бы я их поняла. Впрочем, что с них взять – это же тупые самки, живущие от случки до случки! Подумать только – тратить жизнь на обсуждение и смакование скотских привычек, украшая свои пошлые мыслишки цветочками и сердечками!» – брезгливо думала она. Нет, она вовсе не против, чтобы зализывали её, но сама она этого никогда делать не будет! Кстати, для того чтобы сперма была сладкой надо, оказывается, кормить своего самца фруктами и поить ананасовым соком…
Каникулы неожиданно закончились, и тут же обнаружилось, что если они забыли про мир, то мир про них не забыл.
Едва она появилась у Феноменко, как он объявил ей, что через две недели надо быть в Стокгольме. Она ответила, что согласна туда ехать, только если с ними поедет Юлька.
– Я не собираюсь оплачивать твою мнительность, – сухо ответил он.
– А я не желаю повторения той грязной истории!
– Хорошо, не хочешь ехать – не надо. Я возьму Юльку. Но тогда нам придется расстаться.
И рывком подтянув к себе папку, углубился в нее, давая понять, что разговор окончен. Она помолчала и сказала:
– Естественно, номера у нас будут отдельные!
– Разумеется! – блеснули его глаза.
Не имея намерения возбудить нездоровые ожидания читателя там, где потакать им было бы против всякой жизненной логики (ибо в жизни, конечно, все может быть, но не все можно допустить), забежим вперед и скажем, что все обошлось и ей удалось удержать его на привязи.
Пятнадцатого января раздался первый звонок, оповестивший фондовую общественность о начале большой игры на понижение, где самым важным игроком оказалась перевозбужденная заокеанская экономика. К этому времени они с Юркой уже вышли из рынка и, сменив бычью личину на медвежью, приветствовали теперь тот золотой для них пар, что вырывался из дырявого аэростата мирового хозяйства, взлетевшего на недопустимую высоту. Его озабоченность впервые проникла в Наташу, приобщив ее к тем привычным для него тревогам, которыми он зарабатывал на жизнь. Теперь, встречаясь вечером, она первым делом спрашивала:
– Ну, как твой рынок?
И он, улыбаясь, пытался описать неописуемое – того капризного, неверного, коварного альфонса, что проживая в фиктивном браке с бережливой и скуповатой дамой, именуемой мировой экономикой, пользуется ее состоянием, чтобы предаваться превратностям азартных игр.
– Смотри не разорись! – однажды озабоченно пожелала она.
– У меня в общей сложности около четырех миллионов долларов, не считая недвижимости. А кроме того, теперь у меня есть ты – мой самой дорогой, а, вернее, бесценный актив, и теперь я просто не имею права разориться! – впервые оценил он перед ней свое состояние.
Она поглядела на него, затем встала (дело было за вечерним чаем), обошла стол и приблизилась к нему:
– Будь осторожен, пожалуйста! – заботливо погладила она его по голове и, склонившись, поцеловала в мягкую макушку.
14
Рано утром в понедельник он повез ее в аэропорт. Слабый мороз прояснил воздух, облака, низким потолком нависшие над городом, плелись в фиолетовую мглу, отливаясь тревожным коралловым блеском.
В какое щекотливое положение она себя поставила, решив познакомить жениха со своим бывшим любовником! Конечно, она могла попросить Феноменко держаться в стороне или пройти на посадку раньше, но какой-то черт у нее внутри, возбужденный и не совсем здоровый, внушил ей болезненное желание видеть их рядом. Иными словами, следуя удивительной логике женской геометрии, она решила свести углы треугольника в одной точке.
Утром она была с ним по-особому ласкова: встала рано, и пока он спал, приготовила завтрак, а когда он появился, вышла из-за стола и нежно поцеловала, чем вселила в него смущение. Хлопотала вокруг него, пока он завтракал, а когда он, не в силах далее молчать, спросил: «Наташенька, радость моя, что с тобой?», ответила:
– Знаешь, все может быть… Дальняя дорога, самолеты…
– Надо было мне лететь с тобой! Жалею, что послушался тебя! – заключил он с сердцем.
Помнится, когда он ей это впервые предложил, она тут же представила, как они будут жить втроем в одной гостинице, мирно беседовать за одним столиком в ресторане, втроем гулять по городу. Представила, с каким видом Феноменко будет желать им спокойной ночи и доброго утра, отпускать двусмысленные замечания и каким смешным и жалким в своем неведении окажется ее доверчивый интеллигентный жених. Да если еще Феноменко решит одним махом ей отомстить и даст понять жениху, что между ним и его невестой кое-что было! Какое оскорбление, какой удар по его честному чувству! Нет, нет, это невозможно, это хуже самого пошлого водевиля!
Впрочем, вот изысканный способ отомстить этому насильнику за то унижение, которое он ей причинил: поместить его в соседний номер и заняться с женихом громкой любовью – со стуком, стонами и воплями, чтобы это грязное животное за стеной слышало, мучилось и зверело! Будь она пресыщенной стервой, она бы так и сделала. Ах, какая бы это была упоительная месть! Жаль только, что это невозможно…
В аэропорту, поглядывая по сторонам, их уже ждал Феноменко. Они подошли к нему, и она, чувствуя, как подтянулись нервы, познакомила их. Жених доброжелательно поздоровался и с интересом посмотрел на ее шефа, о котором она пару раз нехотя упоминала. Что ж, весьма представительный тип с лицом единоначальника. Феноменко, в свою очередь, впился в него цепким и острым взглядом барышника. Какой пикантный момент, какая звенящая ситуация! Она смотрела на своих любовников, которых буквально свела нос к носу, и сравнивала. Разумеется, ее жених победил. Не уступая в сложении и будучи выше, мягкостью черт он отличался от Феноменко, как восковая свеча от бронзового канделябра.
– Ну что, будем прощаться? – не желая давать мужчинам время для общения, заторопилась она и отвела жениха в сторону. – До свиданья, Димочка! Не скучай тут без меня и веди себя прилично! – поцеловав, поправила она ему на шее шарфик. – И не разгуливай без шапки, пожалуйста!
Вытягивая шею, он смотрел им вслед. Они удалялись: оба в длинных, кашемировых пальто – у нее темно-синее, у него черное. Она – с сумочкой через плечо, он – с шоколадным фасонистым портфелем, способным оставаться подтянутым и элегантным, сколько бы бумаг не проглотил.
В самолете Феноменко заказал коньяк и, выпив, сказал:
– Ну, и что ты в нем нашла? Ну, скажи – чем он лучше меня?
– Не начинай, Леша, прошу тебя! – раздраженно ответила она.
– Хорошо, не буду. Скажи только – если у тебя с ним ничего не получится, ты вернешься ко мне?
– У меня с ним все получится! – с расстановкой сказала она и отвернулась к иллюминатору, где под крылом сияли ослепительные упругие кочки, по которым, наверное, так беззаботно и радостно прыгать после смерти.
Каждый раз, бывая в Стокгольме, она будто подставляла душу теплому, удивительно благодушному и доброжелательному ветру. Она ощущала себя в богатой и волшебной стране щедрых улыбок и почтительного внимания, предупредительного равенства и ненавязчивого достоинства. Здесь варварская, языческая часть ее русской натуры корчилась и агонизировала, словно оборотень под горячими разрушительными лучами солнца. Без сомнения, ее выдающиеся качества нашли бы здесь благодатную почву для всеобщего и восторженного поклонения. Не задумываясь о том, что существует несколько способов переехать сюда жить (и первый из них – выйти замуж за достойного шведа), она возвращалась на родину, и благодушный, доброжелательный ветер постепенно покидал закоулки ее души, как воздух Швеции покидает наши легкие, меняясь на отечественный…
Оказалось, что кроме работы им не о чем говорить. Они пробыли там три дня, и все это время Феноменко был упреждающе вежлив, покладист и внимателен. Они ужинали в компании местных коллег, где она блистала, сама того не желая, после чего возвращались в отель. Он желал ей спокойной ночи, и она, запершись в номере, поглядывала на ручку двери: не придет ли та, не дай бог, в движение. Утром он встречал ее с мешками под глазами.
Когда летели обратно, он сказал:
– Наташка, какой я был дурак! Никогда себе не прощу!
Относились ли его слова к какому-то засохшему эпизоду или ко всему гербарию их отношений, он не уточнил. Вручая ее счастливому жениху, он довольно двусмысленно сказал:
– Наша(!) Наташа – редкая умница! Передаю вам ее в целости и сохранности!
После чего протянул жениху свою визитку и добавил:
– Будет время – звоните. Может, как-нибудь посидим втроем. Рад был знакомству!
И глупый жених, сунув приглашение в карман, с благодарностью пожал ему руку.
– Как все прошло? – поинтересовался он, когда они поехали.
– Как всегда хорошо! – ответила Наташа. Несмотря на побочные обстоятельства, она была довольна: сохранив заработанные грешным телом позиции, она находилась теперь на верном пути к семейной жизни.
Последовали энергичные, плодотворные дни, приправленные клубничной сладостью его нежностей. Ей ни о чем не приходилось думать и заботиться, кроме работы и личной гигиены. Под долгожданным, солнечным вниманием любящего мужчины она медленно, но верно избавлялась от прежнего беспризорного одиночества, похожего на обрубленный хвост черного злого кобеля. Их памятный разговор о детях, словно новые, туго заведенные часы запустил новый распорядок жизни. Он следил, чтобы она правильно и вовремя питалась, приучая ее к овсянке, черному хлебу, овощам, курице и натуральным сокам. Кофе отныне она пила только с молоком. «Я готовлю тебя к здоровой беременности!» – говорил он, заставляя ее питаться так, как считал нужным.
– Опять эта овсянка! – хныкала она по утрам.
– С клюквой и сахаром! – добавлял он.
– И этот дурацкий кофе с молоком!
– Не спорь, иначе заставлю пить какао с пенкой! – шутливо хмурил он брови.
Он, оказывается, мог быть строгим, и тогда взгляд его наливался горячей укоризной, с какой родители смотрят на несносных любимых детей. Касалось это только ее здоровья, на остальное он взирал со снисходительной улыбкой, скрывая незаурядным гардеробом чувств наготу своего беззащитного обожания.
На самом деле ей нравились его невкусные хлопоты, и капризность ее была напускной. Войдя во вкус, она с долгожданным удовольствием принимала его заботу: оказывается, это так радостно, когда тобой помыкает любящий мужчина! Если ей случалось быть на Петроградской, он приезжал и, несмотря на показные протесты, отвозил ее домой обедать, заботливостью и обходительностью приводя в восторг весь женский коллектив во главе с Ириной Львовной. Если обед заставал ее на Московском, он вез ее к себе. С его матерью она мудро и неожиданно легко сошлась, когда оказавшись у него во второй раз, подошла к ней и, глядя на нее солнечным взором, проникновенно сказала:
– Спасибо вам, Вера Васильевна, за нашего Димочку! Вы не представляете, какой он чудный и удивительный мальчик!
Вера Васильевна недоверчиво на нее посмотрела, а Наташа добавила:
– Можно, я вас поцелую?
– Ну, поцелуй! – смутилась Вера Васильевна.
Наташа обняла ее и от души поцеловала.
– Ты хоть его любишь? – грубовато спросила довольная Вера Васильевна.
– Конечно, люблю! – рассмеялась она, чувствуя, что слово ее отозвалось в ней, как имя бога всуе.
Однажды в конце февраля она решила надеть юбку, которую давно не надевала, и обнаружила, что та не желает сходиться у нее на талии. Она встала на весы и возмутилась:
– Какой ужас! От твоих забот я поправилась на целых два килограмма!
– Я это уже заметил по твоей груди и должен сказать, что тебе ужасно идет! – с улыбкой отвечал он.
– Противный мальчишка! – воскликнула она. – Ты специально меня раскармливаешь, потому что тебе нравятся полненькие!
– Мне нравишься только ты. А твои килограммы – всего лишь результат нормального питания. Успокойся, дальше этого твой вес не пойдет!
Так оно и оказалось, а через некоторое время она даже похудела на полкило.
В жизни устроено так, что на смену упоению приходит насыщение. Ведь даже буря не может длиться долго, и рано или поздно ей требует передышки. Она заметила, что их желания перестали совпадать по времени. Точнее, он хотел ее всегда, а она его – гораздо реже. В таких случаях она, не желая ему отказывать, ложилась набок и просила:
– Погладь меня…
Ближе к восьмому марта он предложил:
– Давай купим тебе новую машину!
– С какой стати? – искренне удивилась она.
– Разве ты не хочешь новую машину? Такую, как у меня!
– Такая, как у тебя у нас уже есть. Зачем нам вторая?
– Я хочу сделать тебе подарок, сделать приятное, в конце концов!
– У меня есть машина, которая меня устраивает. Тем более, что я почти ей не пользуюсь – ведь ты у меня стал вроде водителя! Нет, Димочка, спасибо, конечно, но бросать деньги на ветер я тебе не разрешаю! И, кстати, давай обойдемся в этот день без дорогих украшений – мне их и так девать некуда! Купи мне лучше три розочки с открыточкой, и напиши, что любишь, целуешь и все такое!
А чтобы придать своим увещеваниям неотразимую убедительность, добавила:
– Давай беречь деньги для наших детей, хорошо?
Про детей она отныне упоминала всякий раз, когда нужно было укротить его нежное упрямство. Можно даже сказать – злоупотребляла этим.
– Хорошо! – привлек он ее к себе.
С некоторых пор ему такое дозволялось.
15
Мало-помалу их отношения обретали основательность.
Полагая, что их семейное будущее лишь вопрос времени, он постепенно освобождался от сиюминутной чувственной жадности, безболезненно отправляя ее в завтрашний день. Смиряя возбуждение, он, наконец, научился гладить ее по-отцовски, и она засыпала в его объятиях, слабея и затихая на полуслове и оставляя его наедине с умилением. Нетерпеливое ожидание совокуплений он заменил жадным вниманием к ее миру и памяти.
– Расскажи мне что-нибудь о себе! – просил он, усаживаясь с ней на диван и зарываясь лицом в ее волосы.
Она не отказывалась, охотно вспоминала детство, школу, девичество – время, когда она еще не знала о похотливых мальчишках, примерявших где-то свой крепнущий зуд к ее будущим прелестям – и очень нехотя и скупо делилась тем, что было потом. Память, как известно, имеет свои минные поля.
– В десятом классе двое мальчишек подрались из-за меня…
– Всего двое?!
– Зато самые сильные!
Он заставил показать ему альбомы с фотографиями. С трепетным умилением смотрел он на голорукую, голенастую Наташу. Сложенная из ласкательно-уменьшительных слов, тонкая, нежная, скуластая, с худыми незрелыми ногами и узловатыми коленками, она пытливо смотрела на него из беспечного прошлого. Он так и не смог взглянуть на ее бывшего мужа – этого паршивого развратного кобеля, который нанес ее королевскому величеству оскорбление и получил по заслугам. Зато фото ее покойного жениха имелись в красноречивом количестве. Что ж, судя по всему, это был славный, добрый, достойный человек. Среди прочих она подсунула ему себя в компании маски, где она в ресторане, за сервированным в ожидании веселого путешествия столом.
– Сколько тебе здесь? – спросил он, любуясь ею. Ах, как он хотел бы разгладить эти ее нынешние грустные морщинки у рта и вернуть ее лицу тот безмятежный, счастливый взгляд!
– Двадцать пять, кажется…
Оказывается, у них уже отросла своя история – живая и трепетная, как жилка на ее руке – незаметно обретающая все признаки семейного предания.
– Ты помнишь, как Юлька при первой встрече уронила перчатку?
– Еще бы! Я тогда смог рассмотреть тебя вблизи – ты была совершенно неотразима и неприступна!
– Так вот, это она приметила тебя – не я! Она сказала: «Смотри, Наташка, какой классный кобель!» Извини, конечно! И перчатку она уронила нарочно – чтобы познакомить нас! Я ее еще отругала: ведь у меня до этого было железное правило – не улице не знакомиться! И потом, ты мне тогда совершенно не понравился – ну, нисколечко!
– А я когда тебя заметил, то прямо остолбенел и сразу решил, что познакомлюсь с тобой, во что бы то ни стало!
И так далее, и тому подобное, как говорят про влюбленных, оставляя их собирать нектар с цветов судьбы, который они потом откладывают медом в улей сердца.
А вот и нынешняя мера ее влюбленности: случись с ним, не дай бог, что-то ужасное – станет ли она убиваться по нему, как по Володе? Нет, к сожалению, нет. Пока нет. Но он лучший из тех, кого она сегодня знает. Господи, не дай ей встретить второго Володю – совесть с двух сторон замучит ее!
На восьмое марта он принес ей корзину роз с вложенной туда открыткой. Она тут же взяла открытку и прочитала:
«Моя милая Наташа!
Любовь – это то единственное, чем человек, принужденный к сожительству с жизнью, может ответить на вызов Хаоса. Все остальное – деньги, власть, успех – лишь жалкие химеры, которыми люди неспособные к любви, прикрывают свою ущербность. Несчастные глупцы, потому что они умрут, так и не узнав, для чего их пригласили в этот мир. Я же, если и умру, то только от любви к тебе…
Твой не от мира сего Д.М.»
Изобразив удовлетворение, она поцеловала его и украсила открыткой, словно его распахнутым сердцем гостиную, где та простояла неделю, а потом была спрятана в один из ящиков ее рабочего стола.
День его рождения, 30 марта, пришелся на воскресенье, и они тихо отметили его в квартире на Московском в компании матери, Юрки и Татьяны, которая на этот раз была более словоохотлива. Видя, что Вера Васильевна и Наташа неплохо спелись, она вышла из оппозиции и примкнула к их союзу, завершив тем самым построение бермудского треугольника прямого влияния, в котором жениху предстояло впредь блуждать.
По вечерам они, если было время, усаживались на диван перед телевизором. Она укладывала усталую голову ему на плечо или пристраивалась к нему другим образом, а он, следуя за нервным подергиванием экрана, комментировал происходящее.
– Россияне выбирают очередного Сизифа, – говорил он накануне выборов. – А ты за кого?
– Мне все равно… – отвечала она с закрытыми глазами.
– Знаешь, – помолчав, сказал он, – я вывел закон городской воды…
– Да? Интересно! – бормотала она.
– …Путь на небеса лежит через канализацию. По-моему, он очень хорошо подходит ко всем, кто рвется наверх.
– Вот именно! Они там, наверху, как дети, ей-богу – только бегают и толкаются! – откликнулась она.
Исподволь приобщая ее к своему желанию эмигрировать, он интересовался:
– Тебе не кажется, что безобразия в этой стране зашли слишком далеко?
– А что мы с тобой можем поделать? – отвечала она.
– Я тебе уже говорил – уехать отсюда в теплые страны…
– Димочка, я тебе уже отвечала на этот вопрос… – хмурилась она у него на плече.
Когда, выбираясь с ним в театр или филармонию, она натягивала скромные джинсики и напускала на них сверху неброский свитерок, он спрашивал ее:
– Почему ты так просто одеваешься?
– Потому что нынче так принято! – невозмутимо отвечала она и добавляла: – И потом, я не хочу, чтобы на меня пялились…
Однако в оперу, куда они до конца мая ходили дважды, она надевала вечернее платье.
– Ты не боишься, что меня украдут? – пугала она его, оглядывая себя в зеркале.
– Я всегда этого боюсь… – серьезно отвечал он, давно поняв, что для того, чтобы ею обладать, он должен быть не просто хорошим, а лучшим. И видит бог, он старался. Старался, не зная, как его рвение отзывается в ее улыбчивой, в меру насмешливой душе.
Так они замкнуто и без особых происшествий дожили до конца апреля, когда после неподвижной, невнятной облачности, которая то наползала широким сухим одеялом, то расползалась на куски молочного цвета, образуя узлы облаков с голубыми, похожими на вздутые вены ходами между ними, стали особенно заметны пропитанные цветным ярким солнцем фасады домов.
16
Это случилось 29-го апреля. Она пришла домой раньше обычного – молчаливая и заметно раздраженная. Видя, что она не в духе, он предложил ей чай, поскольку до ужина было еще далеко. Она села, затем встала и принялась ходить по кухне.
– Наташенька, что случилось? – осторожно спросил он.
– Ты представляешь, этот урод обозвал меня тупой сукой! Нет, ты представляешь, а?! Какой-то тупой урод, тупой недоделанный урод – меня! Меня!! – вдруг прорвало ее.
– Иди ко мне и расскажи, что случилось! – мирным облаком подплыл он к ней, намереваясь успокоить.
– Не хочу! – сверкнув глазами, оттолкнула она его приготовленные для объятий руки и возобновила бессмысленное кружение по кухне.
Он сел за стол и принялся пить чай, поглядывая в окно.
– Тебе что, безразлично, что меня оскорбили? – зло и отрывисто спросила она.
– Нет, не безразлично.
– Тогда сделай что-нибудь!
– Что именно?
– Ну, хотя бы пожалей меня! – превозмогая раздражение, потребовала она, и он про себя закончил ее недосказанную мысль: «…раз ничего больше не можешь!»
Он встал, подошел, обнял ее, и она спряталась у него на груди, как, наверное, пряталась в детстве у отца. Он поцеловал ее в голову и сказал:
– Успокойся, моя хорошая, успокойся, я никому не позволю тебя обижать! Пойдем, посидим на диване!
Они пошли в гостиную, сели на диван, и она рассказала, как по пути домой случайно подрезала невзрачную иномарку, и как та поравнялась с ней у светофора, как опустилось тонированное стекло, и щербатый лысый урод с мордой душегуба проорал с пассажирского места, мешая феню с матом: «Ты че творишь, тупая сука?! Тебе че, башку оторвать?!»
Честно говоря, она испугалась – с ней еще ни разу так не говорили. На всякий случай она отстала, а затем свернула с маршрута, остановилась и стояла минут десять, а затем поехала кружным путем.
– Такая мерзкая рожа, ты не представляешь! – закончила она.
– Ты запомнила номер? – выслушав ее, спросил он.
– Да какой там номер, Димочка! Я от страха чуть не описалась!
– В следующий раз запоминай номер, – сказал он спокойно и внушительно.
– И что дальше?
– А дальше мое дело, – мрачно ответил он.
– И что бы ты сделал, если бы я запомнила номер?
– Что бы ты сказала, то и сделал. Сказала бы убить – убил бы.
– Что – вот так бы взял и убил?
– Ну, думаю, пришлось бы повозиться. Судя по всему, это были урки. Но все равно – подорвали бы их вместе с машиной, и вся дуэль.
– Как – подорвали? Кто?
– Кто надо.
– Так ты что – заказал бы их?!
– А как иначе, Наташа? – отстранившись и глядя ей в глаза, с новым для нее безжалостным выражением воскликнул он. – Или ты считаешь, что я должен был бы вызвать их на дуэль? Ты что, забыла, где мы живем и с кем имеем дело?
Она изумленно посмотрела на него, а потом тихо спросила:
– Что, действительно бы убил?
– За тебя – кого угодно! – ответил он неслыханно дерзким голосом, и не было в нем ни капельки бравады. – Только не думай, что раз нет номера, то я такой храбрый. Пожалуйста, проверь. В следующий раз запомни номер и скажи мне…
Она освободилась от его рук и смотрела на него, будто видела впервые. Он смутился и сказал:
– Ну, хорошо, для начала взорвали бы пустую машину. Для острастки…
Она, не мигая, глядела на него.
– Ты не смотри, что я с виду тихий и ласковый, – занервничал он. – Когда мы с Юркой в девяностых торговали аппаратурой, на нас часто наезжали, и мы вместе с нашей крышей и стрелки забивали, и в разборках участвовали, и стреляли в нас один раз. Так что нужные связи и телефоны остались…
– Господи, никогда бы не подумала! – выдохнула она, наконец. – Но ты же говорил, что никогда не дрался!
– Так и есть. Но «Макарова» в руках держать приходилось. А как же ты думаешь деньги достаются…
– Ах ты, мой рыцарь! – вдруг расцвела и прислонилась она к нему. – Не надо, Димочка, никого убивать, черт с ними, пусть живут!
– Ах, Наташенька! – горячо, с облегчением заговорил он. – Ты же видишь, я не всегда могу быть рядом с тобой, так что будь осторожна, прошу тебя! Ты даже не представляешь, на что способны эти люди – какие там люди – звери, которых с каждым днем становится здесь все больше! Как ты думаешь, кто уймет, обуздает, приструнит этих ублюдков? Никто! Ты считаешь, это у меня вроде каприза – уехать из страны. А мне за тебя страшно! Я не хочу, чтобы ты и наши дети жили здесь! Не хо-чу! К сожалению, ты ничего не замечаешь, кроме своих имущественных споров, а ведь на нас давно уже весь мир показывает пальцем: компьютеризованный феодализм! В России хорошо только тем, кто лишен культуры, тем, кому невдомек, что кроме секса есть знания, практика, духовный опыт!
– Димочка, Димочка, успокойся, пожалуйста, успокойся! – погладила она его по голове. – Спасибо, конечно, что волнуешься за меня…
– И за наших детей!
– …И за наших детей, – согласилась она.
«А ведь он сегодня произвел на меня впечатление! – думала она, лежа в тот вечер у него в объятиях. – Как мало еще, оказывается, я о нем знаю! Господи, побольше бы таких открытий!»
…Поверив обещанному на праздники теплу, они впервые отправились обживать его загородные владения. Ее не покидало девчоночье любопытство. Сидя рядом с ним в машине она говорила:
– Ты ведь знаешь – у меня был дом под Зеленогорском, но я его продала пять лет назад. Интересно, похож ли твой дом на тот…
Ей и вправду было интересно: каким замысловатым зигзагом возвращается она в те места, которые, как она считала, покинула навсегда!
– А у тебя есть второй этаж? А балкон на юг? А оттуда виден залив? А сосны на участке есть? А сколько? – волновалась она.
Приехав, он открыл ворота и запустил ее на участок. Приглядевшись, она отметила непритязательную солидность строения. Больше похожий на крепость, дом был родом из ранней эпохи освоения оставшихся без присмотра пространств, когда строили быстро и без всякой заботы об изяществе. Уловив скептическую тень на ее лице, он сказал:
– Знаешь, я купил его не для того, чтобы здесь жить, а чтобы вложиться в недвижимость. И даже в таком виде цена на него только растет, и растет хорошо. Но если захочешь, мы все здесь переделаем или купим дом в другом месте. В Испании, например…
– Хорошо, Димочка, хорошо! Пойдем, посмотрим, что внутри…
Внутри все оказалось очень даже неплохо. Ей понравились гостиная и кухня. Жил в них неприхотливый стильный уют охотничьего домика, добродушный и гостеприимный.
– Это и есть моя берлога, – ткнул он в сторону камина. – Здесь я и спасался от тоски…
– Что ж, теперь я понимаю, почему ты позвонил только на пятый день! – улыбнулась она. – Мне бы здесь тоже понравилось спасаться!
В ответ он привлек ее к себе и поцеловал.
– Ну, хорошо, показывай дальше! – освободилась она.
А дальше была спальная комната. Он толкнул дверь, она вошла и ахнула: спальная была обставлена и выглядела так же, как у нее! Та же широкая, густого серого цвета кровать, перламутровое трюмо с маленьким стульчиком на гнутых ножках, два приземистых витиеватой работы кресла, украшенных вертикальным чередованием зеленых и золотых полос, стройный комод высотой ей по пояс, два ночных столика, недовольные тем, что их тусклые полированные лица скрыты журналами, и часы на одном из них. Правдоподобие добавляли занавески, которые день окрасил уверенной голубой акварелью и то же бежевое с бахромой покрывало на кровати.
– Димочка, когда же ты успел? – не скрывая растерянности, только и смогла спросить она.
– Я подумал, что тебе это понравится… – скромно ответил он.
– Мне нравится! Мне ужасно нравится! – опомнившись, бросилась она ему на шею. – Ах ты, господи! А я уже было собралась менять в спальной мебель!
– Ну вот, значит я поторопился… – огорчился он.
– Нет, нет, ты все сделал правильно! Это же теперь НАША спальная!
«Да что тут такого? – вмешался вдруг в ее восторг вредный голос. – Деньги есть, время есть! Подумаешь, сюрприз!»
«Прочь! Прочь!» – затопала она ногами.
– Димочка, ты не перестаешь меня удивлять! – не сдержалась она.
– Это хорошо или плохо?
– Конечно, хорошо! – пошла она к окну, чтобы взглянуть на вид, что скрывался за занавеской. – А что мы будем делать, если вдруг придется поставить тебя в угол? – возвращаясь к нему и обнимая его за шею, лукаво спросила она.
– В моем кабинете есть диван…
– Вот и прекрасно! А пока иди ко мне… – шепнула она и припала к его губам.
…Вдали возник и вырос густой ровный бас вертолета.
– Си бемоль… – пробормотала она с его груди.
– Что – си бемоль? – не понял он.
– Что-то там летит и тянет за собой си бемоль… На полтона выше, чем у камертона…
17
Она и в самом деле задумала поменять обстановку спальной, неожиданная телепортация которой в загородный дом жениха лишь усугубила ее намерение.
Желание это возникло у нее неделю назад. Она проснулась и лежала, глядя на его стриженый затылок, в чьей редкой стерне прятались сладкие остатки одеколона, на одеяло, опекавшее поджатые ноги и через отставленный зад восходящее на вздернутое плечо. Она никогда не видела его спящим на спине, с раскинутыми по-богатырски руками, открытым ртом и неспокойным лицом, как спал Володя. Напротив, ее нынешний жених спал к ней спиной, тихо и неслышно, словно опасаясь разбудить лихие мысли – ее ли, свои ли. Вот тут она и спохватилась:
«Боже мой! Ведь он спит на той же кровати и на том же месте, что и Феноменко, и даже не подозревает о тех пятнах на матраце, которые тот после себя оставил!»
Какой ужас! И почему она не подумала об этом раньше? Неужели она ничем не отличается от шлюхи, которая принимает своих клиентов в одной и той же постели?! Нет, нет, мебель надо срочно поменять, как перед этим халат и одеяло: ведь она – неудобная свидетельница ее грязной сделки с покладистой совестью!
И вдруг вся ее взрослая жизнь слилась в ее голове в плотное месиво постельных сцен – от законных, утомительных совокуплений в браке, через жаркие, самозабвенные слияния с Володей, до плановых, равнодушных случек с Феноменко. Укоризненное месиво набухло и лопнуло, обдав ее брызгами смятения:
«Господи, да как он может меня любить?! Ведь на мне, как на похотливой сучке клейма негде ставить! И я еще выкобениваюсь – не люблю, но, может, полюблю! Дура, неисправимая дура!..»
Стыд был так велик, что ей вдруг захотелось спрятаться у него на груди и тихо лежать, прикасаясь губами к его распаренной сном коже и утопая в виноватой признательности. Подчиняясь внезапному порыву, она разбудила его и горячо прильнула, желая неудобной до сих пор нежностью затопить пересохшее, каменистое русло своего невнимания. И кто знает, в чем бы она ему призналась, если бы он правильно понял ее ласку. Нет, конечно, не в любви, нет! Скорее всего, она бы без всякого видимого повода, против всяких правил, ни с того, ни с сего, неожиданно для него и для себя сказала бы:
«Ах, Димочка, какой ты у меня хороший! Ты не представляешь, как мне хорошо с тобой, и как хорошо, что ты меня любишь!»
И эта ее похвала, оказавшаяся у нее на языке раньше других слов и мыслей, выглядела бы как сигнал трубача перед объявлением глашатаем важной новости. Но чуткость на сей раз изменила ему, и он, приняв ее порыв за внезапное желание, кинулся навстречу ее воображаемому вожделению, жадной услужливостью утверждая истинность ложного пути.
– Давай просто полежим… – противилась она, чувствуя, как его крепнущие, нетерпеливые руки спешат лишить ее благости. Он, однако, не оценил ее платонических устремлений и в следующие полчаса утопил ее, сдавшуюся, в море жалобных криков и бурных стенаний.
«Ну, и как я теперь поеду на работу…» – думала она, не в силах пошевелиться, когда он ушел готовить завтрак. И еще она с некоторым разочарованием и как всегда несправедливо подумала: «Неужели ему от меня только ЭТО и нужно?»
Желание поменять обстановку спальной так овладело ей, что она в тот же день забежала в мебельный салон и запустила процесс разглядывания. Не найдя ничего подходящего и не имея времени на долгие поиски, она решила:
«Вот пусть он этим и займется, раз уж я проговорилась!»
Он быстро разобрался в деревянном море стилей, подобрал образцы, и вместе они выбрали то, что нужно. Солидарный вкус не изменил им. Они единодушно отвергли колченогий поджарый модерн, что сушит чувства; пенистый изнеженный альков, в чьей неге любят нынче утопать татуированные сатиры и их дремучие нимфы; грузный новомещанский гарнитур плоского вишневого цвета в неугомонных сельских завитушках; самодовольный буржуазный ампир, где навязчивый блеск позолоты затмевает слабые проблески сдержанности. Они выбрали гладкий светлый дуб, разлинованный шоколадными вставками и собранный в строгий воздушный ансамбль. Ему пришлось проявить настойчивость, когда ей показалось, что кровать может прекрасно обойтись без задней спинки, которую она как-то давно задела бедром, отчего долго ходила с синяком.
– Спинка должна быть! – внушительно отвечал он.
– Зачем? – недоумевала она.
Оказалось, что поскольку она предпочитает умирать на спине, спинка ему совершенно необходима, чтобы упираться в нее ногами. Она покраснела и сказала, как говорила всегда, когда ей приходилось уступать:
– Противный мальчишка!
Через неделю им привезли и расставили новую мебель. В спальной запахло лаком. Окна украсились бежевыми занавесками и лиловыми шторами. На пол постелили мягкую ворсистую лужайку из лиловой травы с песочной дорожкой по краю. Он настоял на роскошном, достойном ее неотразимой красоты итальянском трельяже. Вкрадчивый и велеречивый, с чутким, льстивым лицом иноземец приготовился ласкать ее отражение. Ящики – восемь узких и два больших, выдвигаясь, угощали обоняние десятью оттенками лакового духа. Плоская грудь достаточного размера умещала на себе, помимо прочего, вазу с цветами и светильник. Пухлое бежевое сидение на четырех узловатых ножках пряталось между инкрустированными тумбами ног, готовясь отдать себя двум упругим половинкам, чьей напористой непоседливостью он так часто наслаждался, подставляя им свои чресла, как кресло.
Кроме того, он купил в салоне на Петроградской стороне картину, подписанную именем, ничего ни ему, ни ей не говорящим, и повесил над кроватью. На картине жаркое, лазурное, бездонное в обе стороны пространство, соединившее океан и небосвод, испускало ослепительное голубое сияние, растопив в нем упрямые запятые парусов.
Когда они разбирали кровать, она ткнула в темные пятна на золотистой коже матраца и с заранее заготовленным упреком воскликнула:
– Посмотри, что ты наделал!
Он покраснел и обязался их отмыть, но она снисходительно отмахнулась:
– Ладно уж, я сама!
В дальней комнате, куда в ожидании покупателя снесли старую мебель она, вооружившись средством для чистки ковров, свела с гостеприимного матраца их триединые следы, чувствуя себя так, словно отмывает свою треугольную совесть. До чего же их оказалось много и как глубоко они въелись!
Через неделю на старую мебель нашелся покупатель, и она, как неудобная компаньонка, навсегда исчезла из Наташиной жизни…
18
Дело близилось к концу мая, когда вместе с первой грозой должен был прогреметь день ее тридцатипятилетия, как до этого он, озираясь среди сырого пасмурного февральского тепла и тоскуя по несбывшимся метелям, заглянул к Дине Захаревич, а после, сетуя на истерически снежный конец марта, побывал в гостях у Марии. Они были там и там, вели себя скромно, если не сказать незаметно. Танцуя с другими, искали глазами друг друга, покончив с танцем, спешили сесть рядом. На въедливый Светкин интерес она откликалась уклончиво и скупо, и по ее ответам выходило, что все у них как у всех – не хуже и не лучше. При этом она намеренно оставляла щелочку недоговоренности, сквозь которую пробивался слабый свет недовольства. Таким фальшивым образом рассчитывала она набросить маскировочную сетку на их истинные отношения, счастливые излишки которых суеверно и тщательно пыталась подоткнуть и скрыть от других. Впрочем, все ее старания оказывались напрасными при виде его влюбленного взгляда и той тихой покорности, с которой она откликалась на его самоотверженные ухаживания.
К началу лета его позиции выглядели вполне ободряюще. Ему так хотелось верить, что два их сердца сблизились до соприкосновения, и что диффузия его разбухшего от нежности сердечного вещества в ее сторону идет полным ходом.
В выходные они повадились за город. В эти наполненные двухэтажной праздной ленью дни она с удовольствием предавалась плотской и душевной неге, в которой ей не было отказа, как, впрочем, и во всем остальном. Приезжали туда в пятницу вечером, и перед тем, как заснуть, она говорила: «Прошу тебя, не буди меня, пока я сама не проснусь!». Спала долго и счастливо, минуя стороной гейзеры горячих снов и подвальные сквозняки беспокойства. Проснувшись, нежилась в струях утренней прохлады под пение невидимого за зелеными кулисами птичьего хора, и если он был рядом, а не на кухне, вручала свое тело в его многоопытные руки.
А как еще могла она сгладить ту вину, которую, не в силах дотянуться до любви, с некоторых пор испытывала? Перехватывая порой его напряженный взгляд, выдававший ежеминутное ожидание ее приговора, она взяла за правило отмечать всякую его заботу о себе, даже самую малую, касанием руки или легким поцелуем, словно засчитывая ему очки в молчаливой борьбе за ее сердце…
Отдохнув после бурного предисловия к наступающему дню, он уходил готовить завтрак, а она вставала и бродила по дому в халате, не торопясь приводить себя в порядок. Привлеченная запахом кофе, она заглядывала на кухню. Подкравшись к столу, она воровато лишала французскую булку ее хрустящей конечности и, отщипывая золотистые кусочки, отправляла их в рот, наблюдая, как он колдует над завтраком. Он поглядывал на нее, улыбался, и любовное пламя оживляло его невыразительное лицо. Внезапный порыв признательности толкал ее к нему, и она, перестав жевать, целовала его в щеку. Но предательская мысль тут же спешила разрушить тихую, едва окрепшую радость: «Вот также могло быть у нас с Володей…» Настроение ее портилось, и она уходила в ванную.
Эти внезапные проблески другого, невидимого, несбывшегося мира пугали ее нереальным ощущением, будто их с Володей прошлое вдруг чудесным образом воскресло и продолжается в этом чужом доме. Самозваные фантомы выглядели особенно убедительно, когда она оказывалась одна, как это случилось одиннадцатого мая на широком солярии второго этажа, откуда она, сидя в шезлонге, подставляла голодному солнцу выбеленное за зиму тело.
Радужная паутина дрожит на концах ресниц, золотыми сотами облицованы изнутри веки. Слух отделился от ослабевшего тела и парит над ним. Не нуждаясь в зримом толковании, поскрипывает, потрескивает, попискивает, покрикивает, позванивает тишина. Легкий смолистый шепот скользит поверх влажного, отдающего рыбьей немотой дыхания залива. Медовым жаром наливается кожа, густеющая дрема сковывает веки. В безвольно склонившейся набок голове истончаются звуки.
«Наташенька, лапушка, ты не сгоришь?» – неслышно приблизившись, озабочено склоняется над ней Володя и целует ее в плечо.
«Не беспокойся, мой родной, со мной все в порядке!» – отвечает она, закидывая руку и обвивая его шею…
– Ах!.. – вздрагивает она всем телом, приходя в себя и обнаруживая в голове гудящий солнечный колокол.
Неслышно приблизившись к ней на мягких подушечках чувств, над ней склоняется жених, целует ее в плечо и озабочено спрашивает:
– Наташенька, радость моя, ты не сгоришь?
Слезы наворачиваются ей на глаза, и она ровно и приветливо отвечает:
– Не беспокойся, Димочка, со мной все в порядке…
– Ты знаешь, справа от нас живет тупой озабоченный тип, – продолжил жених. – К сожалению, я не могу запретить ему подглядывать, так что ты уж, пожалуйста, не снимай лифчик…
– Я никогда не загораю без лифчика, – сухо ответила она.
И помолчав, спросила, прищурившись:
– Может, взорвать его вместе с машиной, чтобы не подглядывал?
– Взорвать можно, но боюсь, вместо него через некоторое время появится такой же, если не хуже! – нашелся он.
– Хорошо, я учту, – с той же сухостью отвечала она.
Ее внезапное отчуждение, которое он тут же приписал своему промаху, опечалило его, и он ретировался. Весь день он чутко следовал маятнику ее настроения. К вечеру ему показалось, что их жесты, улыбки, смех, в которых его доля была подавляющей, сгладили этот неприятный эпизод. Однако перед сном она, сославшись на усталость, ему не далась…
Заявив о себе решительным ранним теплом, месяц май к концу жизни сник, обессилел, заставил носить свитера и кутаться в куртки. Из-за его прохладного отношения к своим обязанностям они большую часть времени проводили в доме, засиживаясь за поздним ужином и телевизором и выходя перед сном на балкон, если позволяла погода. Два или три раза полночь оказывалась тихой и ясной, и он, усадив ее рядом с собой, водил по небу пальцем, листая небесный атлас, как поэму и обнаруживая в ней звездный масштаб своей любви.
– Как ничтожны людские устремления, если смотреть на них оттуда! – воодушевленно тыча в слабые звезды, говорил он и добавлял: – Но в радиусе миллиарда световых лет ты самая лучшая!
– А дальше? – смеялась она.
– Дальше не знаю, не бывал…
Они смотрели на небо, а мерцающие небесные герои, привычно притягиваясь и отталкиваясь, то есть, подчиняясь коллективному эгоизму, глядели мимо них, совсем как сфинкс посреди опаленных земных песков, что являет собой воплощение бесконечного равнодушия мира. Только поэт способен настаивать на том, что в лучистом мерцании брошенных на обманчиво-черное поле кристаллов заключено нечто деятельное и одухотворенное. Определенно, первые астрономы были поэтами. Это также верно, как и то, что звездное поле более всего годится для игры в «чет-нечет», а поэзия есть пранаука всех наук.
– Откуда ты столько знаешь? – удивлялась она.
– Книжки надо читать! – улыбался он, поглядывая на ее резной профиль, проступающий из самых первых строк белых ночей. Становясь серьезным, пояснял: – В детстве увлекался – да нет, какой там – бредил астрономией! Теперь уже все забыл…
Ей нравились их полуночные бдения, и она, освобождая голову от веса земных мыслей, в конце концов, укладывала ее ему на плечо. Однажды под звездами она спросила его:
– Ты когда узнал об измене этой твоей Мишель – быстро утешился?
Захваченный врасплох, он вытянул губы в трубочку, издал протяжный, родом из чужого алфавита звук и ответил:
– Не сразу, нет, не сразу… Сначала месяца три пил, а затем да, утешился…
Он ждал, что она скажет, но она молчала.
– А ты после мужа? – спросил он.
– Я два года на мужиков смотреть не могла, – ровно и просто отчиталась она.
– А потом?
– А потом был суп с котом…
19
Тридцатого мая днем она поехала в аэропорт встречать отца, велев жениху быть у нее часам к шести.
– Хочу вас, наконец, познакомить! – объявила она.
В шесть вечера он был у дверей ее квартиры.
Вместо того чтобы воспользоваться ключом, которым она его снабдила, он оживил соловьиную трель звонка и прислушался. После небольшой паузы раздалось потустороннее лязганье, и дверь открылась. На пороге возник видный мужчина в темных брюках и белой рубашке с отпущенным на свободу воротом. Был мужчина примерно одного с ним роста, но шире в плечах. Вопросительно посмотрев на гостя, он вдруг улыбнулся Наташиной улыбкой.
– Здравствуйте, Николай Михайлович, я – Дима! – заторопился жених.
– А-а, Дима, заходи! – пробасил мужчина, широко распахивая дверь и улыбку. – Заходи, заходи!
Он вошел, протянул руку и представился теперь уже обстоятельно:
– Максимов Дмитрий Константинович.
Его ладонь исчезла в широкой и крепкой ладони ее отца:
– Николай Михайлович. Ну, проходи, проходи! Наташа сейчас придет! Ну, куда пойдем – на кухню или в гостиную? – басил отец.
– По мне лучше на кухню! – выбрал он.
Они прошли на кухню и уселись друг напротив друга.
– Как добрались? – спросил жених, излучая лицом радость знакомства.
– Нормально добрался! – улыбнулся Николай Михайлович. – А вы как тут с Наташкой поживаете? Слышал, она замуж за тебя собралась?
– Собралась, вроде… – ответил он, не ожидая от их разговора такой скорой предметности.
– А что так неуверенно? – пытливо глядя на него, улыбнулся отец.
– Так ведь в жизни всякое бывает, сами знаете!
– Да уж… – согласился отец. – Ну что, может быть, чай?
– Давайте я! – вскочил он. – Я знаю, что и где тут лежит!
Он быстро и ловко приготовил чай, расставил все необходимое и пригласил:
– Вот, пожалуйста! Вам крепкий, слабый?
Николай Михайлович одобрительно на него посмотрел и пожелал крепкий.
– Наташа поразительно похожа на вас! – не выдержал Дмитрий.
– Да, все так говорят! – согласился отец.
– Знаете, у меня на этот счет своя теория, – оживился он. – Когда мужчины говорят о продолжении рода, они имеют в виду сыновей, в то время как через сыновей происходит продолжение женского, а вовсе не мужского рода. На самом деле мужская порода передается через дочерей и дальше через внуков!
– Ну что же, будем ждать внуков! – добродушно улыбнулся Николай Михайлович.
В этот момент хлопнула входная дверь. Дмитрий вскочил и поспешил в прихожую.
– А-а, ты уже здесь! – улыбнулась раскрасневшаяся Наташа, подставляя щеку. Оказалось, что отец захотел угостить их домашними пельменями, и она ездила на рынок за мясом. Пройдя на кухню и поставив пакет, она потянулась к отцу с поцелуем.
– Вижу, вы тут без меня уже познакомились! – ревниво заметила она.
– Да! Но если хочешь – познакомь нас еще раз! – улыбнулся отец.
Наташа, недолго думая, взяла жениха за руку и встала с ним перед отцом:
– Папочка, познакомься, это Дима Максимов, мой жених! – торжественно и серьезно объявила она.
– Очень приятно! – также серьезно отнесся папа к представлению и еще раз пожал женихову руку.
– Тогда уж позвольте и мне! – напрягся жених и, не выпуская руку невесты, продолжил с той же торжественностью:
– Николай Михайлович, я прошу у вас руки вашей дочери и обещаю сделать ее счастливой и обеспечить ей и нашим детям достойное существование!
– Не возражаю! – пробасил отец. – Ну, а теперь за пельмени!
Он повязал фартук, распределил роли, и все трое принялись за дело. Дмитрий с приятным удивлением посматривал на невесту, которая, блистая ангельской непосредственностью, никогда ранее за ней не числившейся, без умолку щебетала. Папочка, папуля, папулечка – мягким ворсом устилала она дорожку к отцу. Радостное выражение пристало к ее лицу, светло-серые глаза, сияющие даже в гневе, лучились чувствами чистейшей, невиннейшей пробы из тех времен, когда она девчонкой нежилась в родном гнезде под сенью могучих крыльев милого папочки. Оттолкнувшись от пельменей, как от пирса, она уплывала к незапамятным историям их провинциальной жизни, причем в отцовской памяти они часто не находились, и тогда дочь цепляла к ним цветные ниточки подробностей, и иногда ей удавалось вывести отцовские воспоминания из лабиринтов захламленной памяти. Своим праздничным настроением она заразила жениха, и он тоже смог вспомнить пару удачных случаев из ранней, невинной главы своей жизни. Ее отец – мудрый немногословный патриарх, был добродушно улыбчив и одобрительными замечаниями сопровождал те забавные беспечальные цитаты молодой памяти, которыми они его потчевали.
Так они сидели, водрузив руки на столе, а над столом, как во время спиритического сеанса, витали добрые духи семейного очага. Что бы кто бы нынче ни говорил, а счастливая семейная жизнь есть норма, требующая своего фитнеса. Всё прочее, нетвердое и гражданское – лишь ее невнятная копия.
Он вызвался и сделал салат, сервировал стол в гостиной и открыл вино, давая ему возможность надышаться перед смертью. Пришел Николай Михайлович, оглядел стол и сказал, что пельмени требуют водки. Водка нашлась, и пока укрытое горячей желтой пленкой жира угощение томилось на плите, они выпили за приезд и за знакомство.
– Вы обязательно должны к нам летом приехать, – наказал Николай Михайлович. – Мама вас ждет.
Выпили за маму. Наташа вспомнила бежевый ворс маминого халата, который она любила щупать и гладить, когда ей было три года.
– Что ты могла запомнить в таком возрасте! – удивился папа.
– Я много чего помню! Я помню, например, запах магнолии, когда мы были в Крыму!
– Да тебе же тогда было года четыре! – засомневался папа.
– До сих пор помню этот густой, тяжелый, влажный запах! – зажмурилась Наташа, так точно изобразив замершим на секунду лицом чудный, душный, сладковатый аромат детства, что мужчины поверили и выпили за аромат и за ее здоровье.
Наконец появилось главное блюдо. Наташа наполнила тарелки расплавленными, глянцевыми пельменями и залила их бульоном. Мужчины выпили, словно перекрестились.
– С горчицей! – посоветовал будущий тесть будущему зятю.
Далее последовали приятные ощущения, когда все рецепторы сигналят тебе о вкусе, который невозможно описать словами.
– Все дело в пропорциях говядины и свинины, – улыбался довольный Николай Михайлович. – Дома я добавляю еще конину…
Чтобы унять аппетит, им потребовалась пол-литровая бутылка водки.
– Ты отдыхай, – сказал Николай Михайлович дочери, – а мы пойдем на кухню, попьем кофейку, да поговорим, хорошо?
На кухне жених начал с пустяков – например, какой здесь выдался холодный май, и как хорошо себя чувствует Наташа за городом. Как отличился «Зенит» и наши хоккеисты, и как строго он следит за Наташиным питанием, отчего она поправилась на два килограмма. Сообщил, кто его отец и откуда родом.
– Ты смотри! – приятно удивился Николай Михайлович. – Наш парень, уральский! Значит, и ты наполовину уральский! А мама как?
Мама оказалась в порядке, да к тому же курящая.
– Вижу, сам ты не куришь! – заметил Николай Михайлович. – Бросил?
– Наташа заставила! – с удовольствием сообщил он.
– Молодец, Наташка! – одобрительно кивнул отец.
– Я вот о чем хотел с вами посоветоваться… – решился он.
– Ну! – отхлебнул кофе Николай Михайлович.
– Хочу Наташу увезти отсюда…
– Куда?
– Куда-нибудь в Европу…
– В свадебное путешествие, что ли?
– Нет, увезти насовсем, чтобы жить там!
Николай Михайлович с удивлением на него воззрился:
– Интересно, а чем тебе Россия не угодила?
– У страны ненадежный фундамент – того и гляди все рухнет, как в семнадцатом и придавит нас с Наташей. Ведь мы, как-никак, состоятельные…
Николай Михайлович, откинувшись на спинку стула, смотрел на него прямо-таки с клиническим интересом, будто открыл в его личности что-то темное, угловатое и неприличное.
– Интересно, интересно! Ну-ка, ну-ка, расскажи! Может, мы там у себя отстали от жизни и чего-то не знаем?
– Сам я, может, и прожил бы здесь, но я очень боюсь за Наташу и, если уж глядеть дальше, за наших детей… – сказал он, рассчитывая вызвать вибрацию отцовских струн.
– В каком смысле? – сделался внимательным Николай Михайлович.
– В прямом! Вы посмотрите, кто разгуливает нынче по улицам! Ее же без охраны нельзя выпускать из дому!
– Вот и приставь к ней охрану!
– А как же быть с ненадежным фундаментом?
– Какой фундамент? О чем ты говоришь? Пока стране нужны наши трубы, ничего никуда не рухнет!
– Но страна же по уши в дерьме!
– Может быть, и в дерьме, но это не повод для эмиграции. Вернее, это повод для слабаков, – спокойно заключил Николай Михайлович.
Жених в выразительном бессилии развел руками.
– Если все уедут – кто же будет страну из дерьма вытаскивать? – пошел в контрнаступление Николай Михайлович.
– Да ее оттуда при всем желании не вытащить!
– Ну, если все так будут думать, то не вытащить!
– Да что бы мы с вами не думали, последнее слово за руководством, а оно…
– Согласен, но я не обсуждаю руководство страны. Это, знаешь ли, бесполезное занятие.
Выражение лица Николая Михайловича стало удивительно похоже на выражение его дочери, когда та была чем-то недовольна.
– Знаешь, Дима, честно говоря, мне плевать, как они себя ведут и о чем думают, потому что нам там, у себя, нужно думать о людях и о заводе. Когда ты знаешь, что за тобой люди и что они тебе доверяют – невозможно их обмануть, накопить деньжат и сбежать! Мы там у себя и тонем вместе, и выплываем вместе. Мы ведь с матерью тоже состоятельные… И акции, между прочим, имеются… У нас в провинции все проще…
– Впору перебираться к вам жить! – улыбнулся он.
– А что, это мысль! Мы с матерью будем только рады! Ты не думай – у нас там жить очень даже можно! Вот вы здесь, например, что видите кроме работы, да телевизора?
– Нет, нет, Николай Михайлович, что вы! Наташа ни за что не согласится! Да и я…
– А вот мы ее сейчас и спросим! – воскликнул отец, завидев входящую дочь.
– О чем это вы здесь так громко спорите? – зашла и с любопытством спросила, встав за спиной жениха и положив руки ему на плечи, Наташа.
– А вот скажи нам – ты бы хотела вернуться в Первоуральск и жить там? – спросил ее отец.
– Нет! – не задумываясь, ответила Наташа.
– Почему?
– Ну… много всяких причин…
– А в Европу жить поехала бы?
– Ах, вот вы о чем! – догадалась она и взъерошила жениху остатки волос. – Нет, и в Европу не поеду!
– Вот видишь! – развел в свою очередь руками Николай Михайлович. – Нынешние господа юристы Россию покидать не желают! Не то что Керенские! А ты говоришь – все пропало!
– Ну ладно, поговорите, поговорите! – удовлетворив любопытство, разрешила Наташа и ушла.
Некоторое время после ее ухода они молчали, а затем жених сказал:
– Все в нашем государстве поставлено с ног на голову. Население у нас делится на пострадавших и еще не пострадавших. В Европе, например, миллион человек выходит на улицы и добивается своего. Здесь же никто никуда не выходит, и добиться ничего невозможно… Я боюсь не за себя, а за Наташу и наших будущих детей, которых здесь серая пьянь в погонах или безработная богатенькая сволота может переехать, когда они идут в школу!
– Ну, не знаю, – сдался Николай Михайлович, видимо, устав от бесполезного спора. – Конечно, дети – это святое. И тут я вам не советчик. Как решите, так и будет. А нам с матерью дай бог сил продержаться на своей делянке… – улыбнулся он и затем доверительно поведал будущему зятю, что устал и ждет не дождется отпуска, что сон его теперь раскололся надвое – тесный беззвучный склеп до четырех утра и потрескавшееся на куски потемневшее, полное прозрачных лиц и ватного движения зеркало – после пяти. Что хотел бы сохранить до старости пытливость и живость ума и что того и гляди изобретут таблетку, от которой станет густеть волос и голос…
Часов в десять, когда личное время Николая Михайловича стало склонять его ко сну, Наташа сказала жениху:
– Ты уж, Димочка, переночуй сегодня (завтра, послезавтра – тут же правильно понял он) дома… Сам понимаешь, нам с тобой при папе спать неудобно – мы пока не муж и жена!
– Да, да, конечно, ты права! – согласился он.
– Как тебе мой папа?
– Супер, просто супер! Я под сильным впечатлением! – искренне отозвался он.
Когда жених, горячо распрощавшись, ушел, отец спросил ее:
– Он что у тебя – еврей?
– С чего ты взял?
– Больно умный, недовольный и картавый!
– Ну, зачем ты так!
– Ну, хорошо, хорошо. Ты же знаешь, я не люблю евреев, но случись погромы – первый буду их прятать! Ты его любишь?
– Ну, конечно, люблю! – воскликнула Наташа, покраснела и отвернулась.
– Вот и ладно! – обнял ее отец. – Нет, нет, он у тебя нормальный парень, мне понравился. Толковый, обстоятельный и свое мнение имеет. И к тому же не бедный, а это тоже важно… Кстати, как у тебя дела с Феноменко? Не обижает? Дает заработать? Может, встретиться с ним нужно?
– Не надо, папуля, ни с кем встречаться! Все хорошо, и у нас с ним полное взаимопонимание!
– Ну, еще бы! Ведь деньги я ему аккуратно перевожу!
Вот уж воистину – чем дети самостоятельнее, тем меньше родители о них знают!
20
Как это обычно бывает: ты просыпаешься, не желая никому зла, и пропитанное утренним светом окно услужливо сообщает, что тебе тридцать пять. Не с милосердным вычитаемым «еще», а с насмешливым довеском «уже». Ты пытаешься держать удар и с благодарным поцелуем принимаешь подарок отца: роскошную видеокамеру, которую, как и фотоаппарат, не любишь, считая, что глуповатая техника недостаточно почтительна к твоему облику. Затем является женихи и в память о первом бутоне, с которым он ступил на путь вашего знакомства, и который с тех пор почитает, как символ твоей упругой прелести, преподносит корзину белых роз. К корзине прилагается назначенный на золотой сентябрь двухнедельный тур на Антибы. К его великому смущению, лучше он ничего не нашел.
Повод требует взобраться на сцену и предстать общественному взору в лакированном виде. Для этого следует отправиться в салон красоты, где наблюдать в зеркале, как тебя портят дурацкой напыщенной прической, которая может нравиться только всеядному жениху и доброму папочке, что они хором и подтвердят, оторвавшись от бутылки коньяка.
И все же что-то в ней, видимо, есть, судя по счастливому остолбенению жениха и гордому виду родителя, перед которыми она, как на генеральной репетиции предстала во всей сногсшибательной красе. С тем и отправились в заранее заказанный ресторан, где ей предстояло выслушать здравицы гостей в честь ее совершенной, бесподобной, невянущей красоты.
Были приглашены и явились все те, кто был у нее на Новый год, а также Ирина Львовна с помощницей. Приняли приглашение Серега Агафонов и Витя Коновалец, с которыми Наташа если уже и не водила тесных хороводов, то связи не теряла. Сами они, крепко ухватившись за перила звания и упираясь в ступеньку должности, вращались теперь в иных компаниях, готовясь к прыжку на перекладины совсем другого материала и качества. За четыре последних года они виделись с ней всего несколько раз, причем краткость встреч исходила от нее, и сейчас, появившись на входе, двинулись за реваншем, широко улыбаясь, раскинув руки и забыв про жен.
Отец ее, по их мнению, оказался именно таким, каким они его себе представляли: основательным, генеральской стати орлом-мужиком, достойным служить в органах. Безликий жених, напротив, впечатления не произвел: у него были внимательные глаза интеллигентного, неспособного на убийство человека. «Черт побери! – подумал, наверное, каждый из них. – Неужели она не могла найти кого-то получше?!»
Это уже потом, когда сидя по левую руку от нее, он четвертым по счету взял и бархатным баритоном пропел влюбленное слово о счастье быть незаслуженно приближенным этим чудом природы по имени Наташа, когда за переносным смыслом его слов обнаружилась сказочная принцесса – только тогда показалось им, что, может быть, она и не так неправа, выбрав пресс-секретарем своей души и тела этого по-штатски неброского, но по-соловьиному сладкозвучного певца ее прелестей. К тому же, как позже выяснилось, он был небеден.
Интерес старых друзей к ее суженому был предсказуем. А что тут может быть убедительнее медленного танца, когда запустив ровный неспешный разговор, можно вращаться вокруг деловитости, расторопности и порядочности ее жениха, уверяя, что несмотря на ласковый вид, мальчишка он боевой и надежный. Ничего удивительного, что после такого представления он оказался в центре их внимания и во время перекуров охотно отвечал на их осторожные вопросы. Правда, для этого ему пришлось закурить.
Утешить его страхи, дать понять, что юрфак своих в обиду не дает – в этом состоял ее наивный тайный умысел.
Единодушная и слаженная вначале, праздничная мелодия под влиянием возлияний постепенно расстроилась и расползлась на отдельные бессвязные пассажи. Все меньше подчиняясь партитуре торжественного повода, инструменты затевали свои партии, сбивались в дуэты, трио, либо солировали, поводя рассеянной улыбкой по сторонам. Иногда дирижеру-жениху удавалось усадить гостей за пюпитры тарелок и, преодолевая разноголосицу, вернуть их к главной теме вечера.
– Давайте, – говорил он, – выпьем за…
– Да, давайте выпьем! – охотно откликались размякшие гости.
«Вот так же будет и на моей свадьбе…» – наблюдая за покосившимся весельем, думала она. Впрочем, день рожденья и свадьба – два события разного запаха (как табачный дым и фимиам) и цвета (как печаль и любовь).
Расставались долго и тщательно.
Ирина Львовна сказала:
– Ах, Наташенька, ваш папа – просто восторг! И жених тоже! С такими мужчинами вы как за каменной стеной!
Светка сказала:
– Спасибо, подруга, все было хорошо! Твой отец просто класс – весь в тебя! Серега Агафонов и Витя Коновалец сказали:
– Слушай, Наталья, давно мы так не расслаблялись! Спасибо! Рады были тебя повидать – выглядишь, как всегда потрясающе! Звони, не пропадай!
Жених сказал:
– Наташенька, на улице прохладно, подожди, я принесу из машины жакет…
И все, все, все сказали:
– Спа-си-бо, На-та-ша!
Дома Наташа сказала:
– Слава богу, кажется, все прошло хорошо! Как вы думаете?
И жених подтвердил:
– Все было просто замечательно!
Знакомство ее отца с его матерью отложили на осень и, проводив родителя, жених и невеста воссоединились.
– Береги ее! – наказал ему будущий тесть при расставании, и он, став серьезным, ответил:
– Я только этим и занимаюсь!
На обратном пути из аэропорта он сказал ей:
– Слушай, я тут подумал – давай наймем тебе охранника!
– Чего, чего? – изумилась она.
– Охранника. Ведь я же не всегда могу быть рядом…
Она фыркнула и подняла его на смех:
– Тоже мне, нашел олигархшу!
Потом подумала и сказала:
– Днем мне бояться нечего, а ночью со мной ты. Ведь ты же меня защитишь, если что?
– Не сомневайся! – ответил он.
И снова мы торопимся успокоить читателя, сообщив, что в наши намерения не входит дразнить его внимание материализацией событий, которые хоть и возможно вообразить, но заигрывание с которыми отвлекает от материй по-настоящему основательных и роковых, ибо главные опасности для человека исходят от него самого и только потом от других…
После четырехдневного воздержания деревянная кровать приобретает свойства стального магнита, а объятия – крепость и гибкость лиан. Холодная погода этому только способствует.
«А ведь я соскучилась по нему!» – подумала она, отдыхая в его объятиях.
И прочный красивый корабль их сожительства, где он был капитаном, а она – штурманом, возобновил размеренное плаванье к берегам незакатного бриллиантового солнца, на которых раскинулась страна их свадебного уговора.
21
Продолжились их выходные вылазки за город, и сбылось то, о чем он мечтал здесь в январском одиночестве. В струях утренней прохлады, под пение невидимого за зелеными кулисами птичьего хора он подбирался к ней, дремлющей, обнимал и прижимался грудью, животом, ногами к ее спине и ногам и триедиными усилиями рук и часового будил ее желание.
«Ну-у! – сонным голосом, в котором не было протеста, бормотала она. – Ну, Дима! Ну, не приставай, противный мальчишка!»
В своем внимании к женщине (как, впрочем, и невнимании) мужчины поразительно схожи между собой, и не удивительно, что подобие и совпадение деталей их нынешнего загородного быта с тем, что она пережила с Мишкой, толкали ее на тропинки памяти – туда, где осталось ее дачное, горячее во всех отношениях лето девяносто четвертого. Где она рассталась с девичеством, где началась ее женская история, и где вместе с ее телом обнажилось вдруг ее земное плотское предназначение, скрытое до тех пор густой вуалью романтических недомолвок. Где она, совсем недавно невинная и незапятнанная, была отдана ненасытному улыбчивому мужчине, в одночасье ставшему центром ее вселенной, ее единственным и неразлучным, как ей тогда казалось, солнцем, обильно и неутомимо изливавшим на нее свои лучи. Прошло четырнадцать лет, и вот уже лучи четвертого солнца ласкают ее. Так, может, ее вселенная устроена таким образом, что не она вращается вокруг пылающих звезд, а звезды вокруг нее? И если так, то остановится ли когда-нибудь этот звездный хоровод?
«Все это уже было со мной… – думала она, когда запахнув на себе теплую кофту, бродила в бледных сумерках памяти. – И такой же закат, и те же почерневшие ели, и набухший сыростью воздух, и желтый свет в окнах, и влюбленный мужчина, изнывающий в ожидании постели… И женщиной я стала в такую же чужую для меня белую ночь…» – глядела она на тлеющие под голубоватой золой угли заката.
Она вспомнила полумрак брачной спальной и брошенное на кресло свадебное платье – белый саван ее невинности. Вспомнила болезненный серый отсвет на Мишкином лице, когда он радостно сообщил ей про кровь, которую она уже перед этим обнаружила в ванной. Она испытала возмущенную досаду, оттого что теперь это увидит кто-то третий – увидит, гадко ухмыльнется и представит ее, голую, придавленную, испуганную, и этой картиной будет тешить свое возбужденное воображение. «Простыню обязательно нужно взять с собой!» – пометила она себе и перехватила жадный Мишкин взгляд, упиравшийся в ее заповедный чернокудрый островок, законным собственником и созерцателем которого он отныне являлся. Ощутив, как вспыхнуло лицо, она быстро свела колени и прикрыла наготу одеялом. Господи, какому ничтожеству она досталась!
Разочарование – вот итог той ночи. Все вышло совсем не так, как ей представлялось. Она ждала торжественного, небывалого откровения, посвящения в таинственный мир запретного, а вместо этого кровь, боль, стыд, неловкость и бледная немощь за окном. Интересно, что было бы, если бы он не изменил? Родился бы ребенок, и они, предаваясь взрослым играм, жили бы дальше, как живут миллионы людей. Она никогда бы не узнала и не полюбила Володю, никогда не имела бы позорной связи с Феноменко и не сошлась бы с нынешним женихом. Как все странно и запутано! Кому и зачем нужно, чтобы ее судьба петляла между мужчинами, как змея между камней?
И вот опять тот же закат и те же почерневшие ели, набухший сыростью воздух, желтый свет в окнах и влюбленный мужчина, изнывающий в ожидании постели. Только теперь в ней нет, как когда-то, того сладкого страха, того обмирающего любопытства, той пунцовой борьбы стыда и бесстыдства. Да, есть взволнованный сбивчивый диалог ее кожи и его пальцев, есть оргазм, но и к нему, оказывается, можно привыкнуть. Но не дай бог, он завтра лишится потенции – что между ними останется? Ничего, кроме ненадежной жалости. И это ужасно! Видит бог, она тянется к нему изо всех сил, но чуда не происходит!
Июнь в тот год, словно в отместку за мягкую зиму выдался холоднее обычного, не позволив им ни разу искупаться в заливе. Где милосердный теплый дождь, после которого крепнет юная листва? Где слабеющие раскаты громовых шаров, с треском сыплющихся из вспоротой ослепительным клинком небесной материи и отворяющих путь парному наводнению? Вместо этого прохладная белая ночь. Предметы спальной погружены в сон, и в сумерках видно, как сутулятся их лакированные спины. Его рука на ее бледной груди и бледная «Баркарола», пощипывающая беззащитные струны его души. Словно опальные пальцы, вернувшись из ссылки, трогают полузабытые экспонаты памяти, чей призрачный, жемчужно-серый перезвон дрожит в ночной музейной тишине и полнится слезой то ли нежности, то ли грусти, то ли смирения, то ли прозрения…
Июль оказался ничем не лучше – то же невнятное тепло на неделе и пасмурные прохладные выходные. На ее милое недоумение, когда ей купаться и загорать, он неизменно отвечал:
– В сентябре, на Антибах.
В прохладе, однако, есть свой резон: сидя с ним по вечерам на балконе, она прижималась к нему, чего никогда бы не сделала, если бы стояла жара. Он же, если о чем-то и мечтал, то именно об этом – день и ночь не выпускать ее из объятий.
Пару раз ему все же удалось отвезти ее на залив – далеко, за Черную речку, мимо тенистых изумрудных холмов, туда, где свернув с дороги, попадаешь на неприметный диковатый проселок, пробирающийся сквозь редкий строй почтенных вежливых исполинов, напоминающих чопорное собрание лесных джентльменов. По нехоженому прожорливому мху, питающемуся сухими иголками, шишками, чешуйками желтой кожи, корявыми мелкими веточками и всем тем отжившим и омертвевшим, что стряхивают с себя, подобно человеку деревья, пробирались они навстречу проступающему сквозь зелень горизонту. Туда, где малахитовые богатыри, укрепив лианами корней ненадежный уступчивый берег, подставляли латунную грудь в колючей кольчуге тугим ударам балтийских ветров. Где краски скромны и дружелюбны – темная зелень, беж, серый, растушеванный голубой и залитая свинцовым серебром беспокойная палитра залива.
Спустившись по песчаному откосу, они оказывались среди вросших в выцветший песок искрящихся гранитных булыжников. Постелив покрывало и присоединившись к компании мускулистых, приталенных муравьев, они оказывались в самом центре солнечной микроволновки. Ослепительный татуировщик, склонившись над ними, трудился над их кожей, покалывая жгучими иглами. Время от времени любопытный прохладный ветерок, пахнущий Гольфстримом и китами, налетал и сдувал жар с его работы.
– Очень хорошо, что ты поправилась, – говорил он, оглаживая ее спину. – Косточки ушли, и теперь твое тело безукоризненно!
– Это что еще за косточки? – расплющив щеку о полотенце, бормотала она в полудреме, и косое солнце не находило изъяна на ее гладком теле.
– Когда мы встретились, ты была, как бы это сказать…
– Ну, ну, говори! – бубнила она.
– …Несколько худовата!
– Ага! – приподняла она возмущенное лицо. – Значит, ты врал, когда расхваливал мое тело? Вот все вы, мужчины, такие! Лишь бы добиться нас, а как добились – сразу худовата!
– Нет, мое солнышко, не врал! Просто ты стала еще совершеннее!
– Прошу тебя, не называй меня «солнышко»! – с неожиданным раздражением воскликнула она. Именно так, распуская слюни, обращался к ней Феноменко.
– Извини, – растерялся он.
Она отвернулась, и он встал и пошел к воде. Постояв у кромки, он двинулся в самую гущу прохладных бликов и, зайдя по грудь, погрузился в них с головой. Когда он вынырнул, она стояла у воды и смотрела на него.
– Иди ко мне! – поманил он ее.
Она пошла, втянув живот и тряся кистями согнутых в локтях и прижатых к телу рук, как делают женщины, когда входят в холодную воду.
– Хо-лад-на-а-а! – пропищала она.
Он ждал ее, и когда она, лаская грудь плеском волны, приблизилась, протянул к ней руки. Она вошла в его объятия, и он, подхватив ее, легко поднял, приблизил к себе и поцеловал:
– Русалочка моя ненаглядная!
– Уже лучше! – похвалила она, подрагивая от холода.
Стараясь, чтобы брызги не попали ей на лицо, он закачал ее, сияя нежными голодными глазами. Она смутилась, подумав, что он, как Мишка станет домогаться ее в воде. Однако он, уловив ее дрожь, пошел с ней к берегу, да так и вынес ее туда на руках. Поставив на покрывало, он взял полотенце и принялся растирать ее гусиную кожу, после чего укутал в халат и прижал к себе.
– Извини, Наташенька! – пробормотал он.
– За что? – простучала она зубами.
– Я, наверное, надоел тебе своими телячьими нежностями…
Она не выдержала его виноватого смирения и поцеловала холодными губами в мокрую щеку:
– Все нормально, Димочка, все нормально!
Видит бог, она тянется к нему изо всех сил, видит бог…
К середине августа жизнь их сложилась в невозмутимую череду будничного бдения и новопоместного воскресного безделья. Покидая рабочим утром их уютный нешумный улей, они возвращались туда вечером, и золотисто-лысоватый шмель кормил и обхаживал прекрасную уставшую пчелу, а она рассказывала, на каких полях и причудливых цветах ей довелось побывать, и каким порой горьким бывает вкус добытого нектара. Приносила с собой пыльцу новостей, утаивая от него те, которыми она, к сожалению, не могла с ним поделиться. Например, новость о том, что Феноменко завел себе новую любовницу.
Пятнадцатое августа, первую после их знакомства годовщину смерти ее жениха она захотела провести в одиночестве, о чем напряженно и решительно объявила утром:
– Прости, но я хотела бы сегодня побыть одна.
– Да, да, конечно, я понимаю, – послушно склонился он.
Вечером она поставила на стол Володину фотографию и зажгла свечу, предварительно купленную в церкви, где она бывала теперь в этот день каждый год, чтобы присоединив к жаркому костру усопших душ трепещущий светлячок ее памяти, пробормотать «Помяни, господи, душу невинно убиенного раба Твоего Владимира и прости ему все согрешения его…» из той длинной вдовьей молитвы, которую обычному юристу невозможно запомнить.
Налив в бокал вина, она посмотрела на фотографию, выпила и пробормотала: «Царство тебе Небесное, Володенька…» Затем взяла альбом, где были собраны их фотографии, и принялась перебирать их, добавляя в бокал рубиновое утешение и выпивая одним махом. Когда бутылка опустела наполовину, судорожная пружина горла расправилась и открыла путь слезам.
«Прости меня, Володенька, что должна выйти замуж за другого!» – бормотала она, и близкое пламя свечи подрагивало от ее слов, словно прощая и прощаясь. Выпив три четверти бутылки, она, подперев рукой лоб, долго и тихо плакала, а затем, спотыкаясь, ушла в спальную, где быстро уснула на животе, свернув набок голову со скривившимся, приоткрытым ртом. Свеча на столе вскоре догорела, погрузив фотографию в темноту и оставив после себя желтую застывшую лужицу…
Холодное лето 2008 года завершилось горячими футбольными восторгами – «Зенит» покорил Европу. Во время матча она снисходительно посматривала на его покрытое красными пятнами лицо и вдруг с умилением представила рядом с ним их маленького сына, такого же возбужденного, одержимого и похожего на… Интересно, на кого будет похож их сын?
Когда матч закончился, он подхватил ее и закружился с ней на месте, бессвязным ликованием приобщая ее к чужой спортивной доблести. Знакомая со вкусом победы со школьных времен она, обхватив его за шею и подтягивая тоненьким голоском «Ура-а-а!..», разделила с ним его ненормальную радость. Он беспорядочно целовал ее лицо, и она вдруг обнаружила, что в его расширенных зрачках отражается вовсе не она, его невеста, а эта самая пресловутая победа, у которой в этот момент ее губы, щеки, лоб, глаза…
А затем последовал кисло-сладкий сентябрь.
22
– Почему Антибы? – поинтересовалась она незадолго до отъезда.
– Сама увидишь, – скупо отвечал он, изображая лицом интригу.
– Ты там уже был? – утвердительно спросила она, прекрасно понимая, с кем он там мог быть и чем заниматься.
– Да, был, – ответил он и для убедительности добавил: – Скучал и ждал тебя!
Судя по ее кислому виду, его слова понимания у нее не нашли, поскольку явно попахивали историческим жульничеством, отчего ему срочно пришлось переквалифицировать их в ранг неудачной шутки. На самом деле он очень даже неплохо отдохнул там год назад с Ириной, но то была его прошлая мужская жизнь – далекая и бестолковая, вспоминать которую не было ни малейшей охоты. Под влиянием чемоданного настроения они нехотя обменялись географией их предыдущих туров, выбирая из впечатлений самые безобидные и благоразумно умалчивая о компаньонах и компаньонках, с которыми им довелось делить радости курортной жизни. И если ей, в сущности, не было нужды скрывать имена своего отставного мужа и покойного жениха, законной воле которых она в то время подчинялась, то ему в стеснительных целях пришлось изображать легкое недовольство, отпугивая им очень даже приятные избранные воспоминания о его заграничных похождениях.
Последнюю неделю перед отъездом она была занята подготовкой визита шефа с его новой фавориткой Лидией в Париж, куда та рвалась, как в светлое будущее. Сам Феноменко, заглядывая к ним, чтобы подчеркнуто живо поинтересоваться, как идут дела, бросал на начинающую законницу затяжные улыбчивые взгляды. Обнаженная двусмысленность ситуации нисколько не смущала Наташу: так член банды, выдержав приемные испытания и не задавая ни себе, ни другим лишних вопросов, занимает место в строю.
При расставании Феноменко, криво улыбаясь, сказал:
– Пожелайте нам, Наталья Николаевна, удачной и приятной поездки!
Глупая гусыня Лидия смотрела на своего хозяина и жмурилась в предвкушении предстоящего употребления.
– Господи, до чего же я устала! – пожаловалась Наташа, явившись вечером домой. Ее личное женское полнолуние пришлось на конец августа, и в выходные она, отселив жениха на диван, отсыпалась и отлеживалась.
В понедельник первого сентября они прибыли в аэропорт, где их, подрагивая горячими крыльями, уже ждал самолет. Едва расположившись в его чреве, он принялся обнажать свой замысел.
– Итак, как я уже говорил, четыре часа до Ниццы, а оттуда полчаса на такси. Но дело даже не в Антибе, а в том месте, где мы там будем жить…
Он полез в сумку, достал небольшую книгу и сунул ей в руки:
– Вот, смотри!
– Фитцджеральд, «Ночь нежна», – прочитала она. – И что дальше?
– Ты читала?
– Уже не помню.
– Не беда. Так вот! – с подъемом продолжил он: – Фокус в том, что мы будем жить на той самой вилле, где когда-то в начале двадцатых жил автор, а где-то рядом проживали герои этой книги. Представляешь? – победно глянул он на нее.
Повертев книгу в руках, она наугад раскрыла ее и побежала глазами по странице.
«Помните, как я вас ждала тогда в парке – всю себя держала в руках, как охапку цветов, готовая поднести эту охапку вам. По крайней мере, для меня самой это было так…» – прочитала она и, захлопнув книгу, вскинула глаза.
– Господи, и здесь тоже парк!
– Что такое, Наташенька? – с беспокойством спросил он.
Она молчала, улыбаясь.
– Помнишь, – наконец заговорила она, – я опоздала на вторую нашу встречу в парке…
– Еще бы не помнить! Я тогда сказал себе…
– Да, да, знаю! – остановила она его, тронув за руку. – Я о другом… Ты знаешь, почему я тогда опоздала?
– Клиент задержал…
– Нет, не клиент. Просто я вдруг подумала: как это несерьезно – случайное знакомство! Я что – дурочка с окраины, чтобы бежать на свидание с первым встречным? Да мало ли кем он может оказаться! Ну, и все такое… И решила не идти…
Он глядел на нее, не мигая.
– Да… А потом подумала: «Как же так! Ведь я обещала, он там ждет, мерзнет, наверное!» В общем, пожалела тебя и пошла… А могла не пойти, представляешь? Ты уж извини за то, что я тебе тогда наплела…
– Наташенька, я бы все равно тебя нашел. Ты была обречена… – проглотив признание, улыбнулся он.
Когда пролетали над горами, их пару раз основательно тряхнуло. Он взял ее руку и успокаивающе погладил. Время летело рядом с ними со скоростью девятьсот километров в час, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы удивительно быстро переместить их назад в лето. На выходе из аэропорта они взяли такси. Водитель – молодой, смуглый, смазливый – быстрыми точными движениями уложил их вещи и, не спуская с Наташи глаз, открыл перед ней дверцу и так стоял, слегка склонившись, пока она садилась.
– Мерси! – сказала она, и он аккуратно прикрыл дверцу.
Забравшись с другой стороны, жених назвал адрес и, упреждая кривые траектории платного извоза, велел ехать вдоль моря.
– Yes sir! – почтительно откликнулся водитель.
– Здесь кончается знаменитая Английская набережная и начинается дорога по имени «Морской берег», которая ведет до самого Антиба! – сообщил жених невесте, и водитель, поместив глаза в зеркало заднего вида, тут же спросил:
– Russes?
– Russian, russian! – ответил жених.
– Oh, russes! J’aime beaucoup les russes! (О, русские! Очень люблю русских!)
Все время, пока они ехали, ей казалось, что у водителя две пары глаз, из которых той парой, что в зеркале он смотрит на нее, а другой – на дорогу.
– Кстати, о русских… Мы здесь были раньше англичан, – не без гордости сообщил жених. – Тут кругом наши кладбища. Ты знаешь, совсем по-другому смотришь на чужие места, привязавшись к их истории, и я хочу, чтобы ты вошла в историю…
Он мог бы добавить, что его история, настоящая и будущая – это она, и все, что ему нужно – это быть рядом с ней. А поскольку он для нее, к сожалению, такой всепоглощающей историей не является, то вынужден заботиться о пище для ее праздного любопытства. Вместо этого он сказал:
– Посмотри, какая красота!
Слева от них бесшумно покачивались море и небо, миллионами взглядов заласканные до открыточного глянца, справа – многоголосый унисон железнодорожных путей. Вдоль шоссе топорщились пальмы в возрасте коротеньких, не доросших до опахал щеточек для пыли. Уплывали назад дома, накрытые чешуйчатыми, темно-красными, призматическими, скошенными с торцов крышами. Лоснящийся ухоженный быт, испорченный въедливой любовью к деталям – будь то нежно-фруктовый частный фасад или муниципальный тротуар. Кругом непривычный порядок, уютной мелочностью раздражающий (или умиляющий?) русский взор. Позади – дымящиеся далекой белой угрозой горы.
– Все морские побережья похожи друг на друга… – говорит она, и он понимает, как нелегко будет ее удивить.
Откинувшись на спинку сидения и привалившись к жениху плечом, она задумчиво глядела мимо него на море, отделенное от дороги толчеей сизоватых окатышей, образующих спуск – такой пологий и короткий, что она представила, как во время шторма черная пасть волны, проглотив его, набрасывается на шоссе, шипя и теряя там жемчужные зубы. Аккомпанирующая им за бетонным отбойником железная дорога выглядела в этом смысле куда надежнее. Полная ленивой силы, изрытая серебряными оспинами спина моря морщилась, волнуясь. Как это похоже на Испанию, где она была с Володей!
Вдали, на фоне расплавленного горизонта, к которому они стремились, возник и стал вспухать темный фурункул, соединенный с плоским берегом перемычкой, в которую, как копье, метило их шоссе.
– Что это? – спросила она, когда вершина нарыва увенчалась прямоугольным профилем.
– Мыс Антиб, – отвечал он. – Мы почти приехали.
– А что там, на самом верху?
– Кажется, что-то старинное и крепостное, точно не знаю. Если захочешь, мы туда поднимемся – здесь кругом сплошные достопримечательности.
Еще через десять минут они въехали в город и углубились в сумбурное пространство разноэтажных домов, похожих друг на друга белой одеждой и полным пренебрежением к ранжиру – в любой российской деревне прямоугольности и ровности больше, чем в живописной сбивчивости сползающей к морю белокаменной косынки. Чтобы исключить сомнения в благодатном благородстве местного климата, улицы городка были обильно уставлены косматыми пальмами.
Они быстро и ровно отсекли мыс от материка и по узким улицам скатились туда, куда летом стекаются отдыхающие, а зимой – темные струи дождей, причем, и те, и другие делают это с единственной, кажется, целью – взбаламутить прибрежные воды до пенистого помрачения. Там, на берегу моря они остановились перед четырехэтажным зданием, вышли и огляделись.
Широкий низкий вход в отель отделан мрамором цвета сухого морского песка. Как хлебосольное выражение лица нуждается в распростертых руках, так и мавзолейное радушие главного входа усилено с двух сторон серой бугристой кладкой одной с ним высоты. В полуарках левого крыла есть что-то промосковское, а в полуокнах правого живет изысканное гостеприимство пыточной. Решетки на них и на полуподвальных отверстиях под ними лишь усугубляют сходство. Выше, от белокаменной привратницкой до четырехэтажного неба – фасад, зернистой поверхностью похожий на расправленный свиток кукурузного початка молочно-восковой спелости с отверстиями для окон и с короткими, неуклюжими, похожими на выдвинутые ящики комода балконами. Все вместе это одновременно напоминает глазированный пряник, воздушно-розовый приют земной мечты и чемпиона мира среди отелей в легком весе. Одно слово – особняк!
Кстати, возвращаясь на грешную российскую почву, порадуемся за неутомимых отечественных филологов, которым, как и всем советским людям со всей очевидностью открылся, наконец, тот факт, что слова «особняк» и «ништяк» родом из одной баланды…
– Your wife is very beautiful, sir! – не удержался от непозволительной фамильярности водитель, пока муж копался в бумажнике.
– Я знаю, – сухо ответил тот, протягивая несколько купюр и поворачиваясь спиной к увесистой сдаче.
– Merci monsieur! – поблагодарил его в спину водитель.
– Посмотрим, появится ли завтра над входом русский флаг! – заметил господин, пропуская будущую госпожу вперед.
23
Через двадцать минут мистер Maksimoff и мисс Rostovtseva были препровождены в их номер Deluxe Sea View Room на третьем этаже. Мистер дал носильщику на чай, пересек комнату, распахнул балконную дверь и выпустил мисс на балкон. Она оглядела окрестности, зажмурилась и, слегка запрокинув голову, втянула носом воздух.
– М-м-м!.. – выдохнув и блаженно щурясь, пробормотала она. – Какой воздух! Как в детстве!
Затем повернулась к жениху и нежно его поцеловала:
– Чудная комната, чудный вид, спасибо тебе, Димочка! Наверное, опять потратил кучу денег? Мы же договорились – прежде, чем тратить, посоветуйся со мной! А я бы тебе сказала, что согласна на шалаш!
– Так вот я и купил шалаш! C видом на море… Только вот кровать без спинки! – отвечал он.
В тот вечер она не захотела никуда выходить, а он, не поддаваясь на уговоры, отказался купаться без нее. Заказав ужин в номер, они по очереди приняли душ и, облачившись в одинаковые белые халаты, расположились у открытого балкона, подставив залетному ветерку босые ноги. Солнце, утонув в облаках, скрылось на английский манер без своей прощальной розовой улыбки. Оставшиеся без лучистого присмотра морские воды и земную твердь незаметно заволокла осязаемая плотная тьма, с которой пытались бороться неоновые ожерелья фонарей, разбросанные тут и там. Внизу разнообразили ужином свой ленивый досуг собравшиеся на террасе постояльцы.
Он разлил по бокалам остатки вина и многозначительно взглянул на нее:
– Хочу выпить за первое сентября!
Она приготовилась услышать очередной меморандум, какими он взял привычку отмечать всякое мало-мальски заметное событие их жизни, сопровождая его словами: «Всегда буду помнить этот день (час, минуту)…», но он отошел от правила и объявил с тем же таинственным значением:
– Хочу выпить за первое сентября… две тысячи шестнадцатого года!
– Интересно, почему это? – вскинулась она с удивлением.
Он сделал паузу и провозгласил:
– Потому что ровно через восемь лет в этот день мы поведем нашу дочь в школу!
– Вот это да! – изумилась она. – Откуда ты знаешь, что у нас будет дочь и с чего ты взял, что это будет через восемь лет?
– К твоему сведению у нас будет еще и сын, – убежденно ответил он, – но первой будет девочка, потому что я хочу девочку, и ты родишь ее через девять месяцев после нашей свадьбы, то есть, ровно через год!
– Вот как! Оказывается, за меня уже все решили и рассчитали! – ревниво воскликнула она.
– А что тут решать, Наташенька? Тебе пора рожать, а уж я со своей стороны постараюсь тебя к этому подготовить!
– А если я не тороплюсь?
– Что значит – не тороплюсь?
– А то, что я тогда минимум на два года выпадаю из профессии, а у меня сейчас самый пик!
– Ты серьезно? – недоверчиво спросил он. – Нет, ты это серьезно?
– Ну, хорошо, хорошо, посмотрим! До декабря еще далеко! – улыбнулась она, смиряя вредность, которая исправно поднимала голову всякий раз, когда ее хозяйке пытались навязать чужую волю.
Они все же выпили: он решительно и до дна, словно настаивая на своем перед кем-то невидимым, кто принимал ставки, она – медленно и до половины, сглаживая его горячность мелкими уклончивыми глотками: «Посмотрим, посмотрим, посмотрим…»
В десять вечера по местному времени она, сославшись на недомогание, залезла в кровать:
– Господи, как это у меня всегда трудно протекает… Дай-ка мне твою книжку, попробую почитать…
И она стала читать, то облокачиваясь на подушку, то откидываясь на спину. Он, лежа рядом с ней и приглушив звук, смотрел в это время телевизор, косясь в ее сторону и пытаясь уловить на ее лице следы книжного влияния. В половине одиннадцатого согнутые в локтях руки ее вдруг обмякли и вместе с книжкой скользнули на живот. Он посмотрел на нее и обнаружил, что голова ее склонилась набок и щекой коснулась рассыпанных по подушке волос, глаза закрылись, и напряжение покидает черты лица. С минуту он, затаив дыхание, с умилением наблюдал за превращением строгой, своенравной красавицы в усталую беззащитную девчонку с безвольно приоткрытым ртом. Выключив телевизор и убедившись, что она спит, он осторожно извлек из ее ослабевших пальцев книгу, обошел кровать и потушил ночник. Затем сел в кресло и, досадливо хмурясь при взрывах неукротимого веселья заморских забулдыг, стал смотреть на бухту, похожую на гигантское черное копыто, подкованное гирляндами неоновых самоцветов.
Он не заметил, как заснул там же, в кресле. Словно занавес опустился на впечатления первого дня, и невидимый дирижер, вздернув милосердные брови, провел рукой перед его лицом и собрал в горсть гаснущие звуки. Ему снилось что-то усталое и неподатливое, когда она разбудила его среди ночи.
– Ты почему спишь в кресле? – тревожно спрашивала она.
Он открыл глаза, пытаясь сообразить, где он и что с ним.
– С тобой все в порядке? – склонилась она над ним.
– Да, да! Все в порядке! Сам не заметил, как заснул! – наконец откликнулся он. – А ты почему не спишь?
Оказывается, она встала, чтобы идти в туалет и, не обнаружив его рядом, удивилась, а когда зажгла светильник и нашла его в кресле – грузно осевшего, с завалившейся головой и открытым ртом, то решила, что ему плохо и просто, по-бабьи испугалась.
– Господи, как я испугалась! – прикладывала она руку к груди, не собираясь признаваться, что поначалу даже боялась до него дотронуться, как будто его тело для нее вдруг стало чужим, и только когда приблизила к нему лицо и различила дыхание, затормошила за плечо.
– Ну, чего ты испугалась? Подумаешь, заснул в кресле! Не хотел тебя будить: ты так сладко спала! – снисходительно утешал он, польщенный ее испугом.
Она сходила в ванную, вернулась, забралась в кровать и выключила свет.
– Как же ты будешь обходиться без спинки? – пробормотала она, подставляя ему себя, словно оборотную сторону золотой медали (орел, решка?) и разрешая к ней прижаться. Сама она пока не обнаруживала у себя даже слабых признаков желания и удивительно спокойно об этом думала. Сидеть и смотреть на море – вот как представлялся ей грядущий день.
Интересно, чего же она все-таки испугалась – обузы почудившегося ей приступа или самой возможности его потерять?
24
Наутро началось их знакомство с хваленым отелем и его услугами.
Они спустились на завтрак, собрали дань со «шведского стола» и устроились за столиком на двоих – там, куда трехэтажные сосны и одинокая пальма с краю террасы роняли согласную тень. На ней были темно-серые шорты и кремовая блузочка с узорами цвета нечищеного серебра, и ее струнный каштановый проход через всю террасу не остался незамеченным. Следуя за ней грузноватым, лысоватым лакеем в белой безрукавке и обвисших шортах и краем глаза помечая, как подсолнухи мужских голов сопровождают ее дефиле, он вдруг остро ощутил свое блеклое и незаслуженное присутствие рядом с ней. Когда они уселись, он не удержался и ревниво заметил:
– Ты произвела фурор!
– Я знаю, я уже привыкла, – равнодушно ответила она. – Мужчины в этом смысле все одинаковы…
– Даже я?
– А ты тем более! – улыбнулась она.
Через час они, наконец, отправились на пирс. Проведя свое сокровище через строй плотоядных взглядов, он любезно погудмонился с соседями, усадил невесту на сине-белый полосатый матрац и водрузил над ней зонт той же расцветки. Сам же, бросив полотенце на другой шезлонг, залез в воду и изобразил оттуда восторг. Она в ответ снисходительно улыбнулась.
«Надо купить такую же…» – подумала она про золотистую, съедобного оттенка шляпу на голове манерной соседки.
Лежаки здесь располагались парами и на достаточном расстоянии от соседних, что позволяло избегать бесцеремонного коммунального демократизма свободных пляжей. Трепливый ветерок подхватывал случайные, похожие на фальшивые монеты звуки и, предъявив их на опознание голубому прозрачному куполу, изымал из обращения. Обведя взглядом лазурное великолепие, Наташа провела ладонью по руке от кисти до плеча. Кожа отозвалась сухим шелестом. Пока еще тонкая и гладкая, она уже начала затекать предательским подкожным илом, чтобы со временем набухнуть и покрыться порами и морщинами, как у тех женщин, которых она видела по пути сюда. Да, она еще весьма и весьма привлекательна, и растерянные мужские лица это подтверждают. Можно сказать, красота ее созрела и висит на ветвях совершенства, как образцовый и назидательный плод. Однако совсем скоро плод перезреет, и начнется его распад, как распадается в воображении с трудом собранная прекрасная картина. А это значит, что надо спешить жить.
Жених вылез из воды и, оставляя на горячих серых камнях быстросохнущие следы, подошел и пристроился на плитах рядом с ее лежаком. Она села и вдруг насмешливо спросила, отведя лицо в черных очках:
– Скажи, как, по-твоему, я еще ничего?
Его брови поползли вверх.
– Наташенька, что ты такое говоришь?! – задохнулся он от негодования. – Ты не просто «ничего», ты лучше всех!
– Я так и знала, что ты это скажешь! – разочарованно улыбнулась она. – А если честно?
– Честно? Хорошо! Только не обижайся! – притворно нахмурился он. – Вот смотри: ты видишь этих девчушек?
– Да, и что?
– Премиленькие, не правда ли? Складные и гибкие, и пластика кошачья, и формы у них выдающиеся, и личики смазливые! Кажется, что еще мужчине нужно? А если приглядеться? Зад либо великоват, либо тощ, плечи покатые, либо опущены, бедра и талии заплыли, либо суховаты, голова растет не вверх, а вперед, рост либо мал, либо велик – словом, то недолет, то перелет. Тут и микробикини не помогут! Нет, конечно, для невзыскательного мужчины они очень даже хороши, но у меня своя мерка…
– Хм! Интересно! И какая?
– Лично я смотрю на женщину сбоку и мысленно провожу вертикальную линию через ее плечо и косточку на ступне. Так вот, линия должна поделить тело приблизительно поровну, а грудь и попа должны выступать на одинаковое расстояние. И это, заметь, не тогда, когда тебя попросят распрямиться, подобрать тут, выпятить там, а в естественном, так сказать, состоянии. Уверяю тебя, среди тех, кого мне довелось наблюдать, мало кто подходил к этой мерке. У тебя же врожденная осанка, пропорции и пластика художественной гимнастки. Я уже не говорю про твое божественное лицо…
– Дима, Дима! – смутилась она.
– …Короче говоря, эти девочки волнуют, пока молоды – ты будешь волновать всегда! – внушительно завершил он.
– Спасибо, Димочка! – покраснела она и потянулась, чтобы его поцеловать. – Ты, как всегда, любезен! Сознайся: ты это все придумал, чтобы меня утешить?
– Я ничего не придумал!
– Тогда красиво соврал…
– Если и соврал, то совсем немножко…
– Интересно, в чем?
– Твоя попа выдается несколько больше, чем грудь, но мне это безумно нравится!
– Нет, это ужасно! – снова покраснела она и подумала: «Ах, какой он хороший, славный, милый лжец!»
Он продолжал стоять коленями на каменной плите, не подавая виду, что она для этого не приспособлена. Невеста, лежа на спине, положила руку на его прохладное предплечье.
– Потерпи, – многозначительно сказала она, уловив в его глазах ненасытный огонек. – Завтра я буду здорова!
Теперь уже смутился он.
– Почему ты считаешь, что я только об этом и думаю?
– Но ведь я тоже об этом думаю! – ласково ответила она.
Привезя в прекрасном кофре своего тела годовую усталость, которую предстояло оставить здесь, она по прежнему опыту знала, как быстро в подобных местах оживают желания. Последовало стеснительное молчание, после чего он сказал:
– Посмотри, как много здесь яхт!
– Да, вижу…
– Люди на них плывут вдоль побережья, останавливаются там, где им нравится, сходят на берег, развлекаются и плывут дальше. Таков их образ жизни. Если хочешь, мы можем жить также – летом на яхте, а зимой на берегу, в нашем доме.
– Я подумаю! – преувеличено серьезно ответила она и улыбнулась.
Он поцеловал ее и снова полез в воду, а она осталась лежать в тени зонта.
25
Настоящая любовь, если под этим понимать то более или менее продолжительное откровение, что рано или поздно озаряет наш жизненный путь, наделяя его глубиной и масштабом, а искажающей привычный мир силой готово поспорить с пятым измерением, не нуждается в декорациях – ни в голубых, ни в нежно-розовых, ни в лунно-слюнных. Что касается его, то все, что ему было нужно – это видеть в ее глазах отсвет приятного удивления. Он оказался хорошим декоратором: окружил ее лазурным в солнечных бликах рассолом, что плескался в неглубокой тарелке мягкоигольчатой жуан-ле-пэновой бухты; опоясал грузными, красновато-голубоватыми холмами; разбросал по небу мелкие, склеенные между собой облака, похожие на перламутровую рыбью чешую со светящейся кромкой. Перед ужином в номере, стоя на балконе позади нее и держа ее за плечи, угостил волшебным зрелищем золотого заката. Если учесть, что там, где пылал закат, находились Канны, то он заставил солнце буквально кануть за оплывшую косу, в расплавленную даль, оставив море с померкшим усталым лицом, словно хозяйку, проводившую, наконец, гостей.
На ужин он заказал креветки, устрицы, овощной салат, заправленный зеленью, чесноком и оливковым маслом, и жареную дораду с молодым картофелем. Напоив и накормив невесту, он уложил ее в постель и включил телевизор. Она устроилась у него на груди и пыталась дремать.
– Роскошь, покой и нега, – вдруг произнес он.
– То есть? – пробормотала она.
– Картина Матисса называется «Роскошь, покой и нега». Писалась где-то в этих краях. Я это к тому, что у нас с тобой сейчас тоже роскошь, покой и нега. Разве не так?
– Так, – согласилась она.
Под балконом ворочалось и вздыхало море.
На следующий день после обеда он устроил для нее настоящий южный ливень с концом света, глухим громовым ворчанием и гневным сверканием поднебесных очей. И все бы ничего, но утром случилась вот какая история.
Он дождался ее пробуждения и, дрожа от нетерпения, пристроился к ней.
– Подожди, мне нужно сходить в ванную! – попыталась вырваться она.
– Не надо ванной… – необычайно убедительно пробормотал он.
Что-то на нее нашло: она впервые пренебрегла гигиеной и осталась в его жадных руках. Когда его усердие разогрело ее ступу, она уловила тонкий нечистый запах самой себя и брезгливо подумала: «Фу, какая гадость!
Неужели ему это нравится?» Судя по его сосредоточенному сопению, ему это нравилось. Она пыталась оставаться лояльной, но желание ее пропало, и она, уже не думая об удовольствии, мечтала лишь о том, чтобы пахучий сеанс связи завершился как можно быстрее.
«Это до чего же мы так дойдем!» – морщилась она, прислушиваясь к ликующим всхлипываниям своего потного, немытого, как безнадзорная девчонка лона и отчетливо различая исходящий от нее болезненно резвый запах. Едва дождавшись, когда он освободится от груза воздержания, она вырвалась и устремилась в ванную, где обнаружила у себя заметные следы крови. Вернувшись, она сухо велела:
– Иди, мойся!
Когда он появился, она лежала на своей половине, натянув на себя одеяло. Не глядя на него, она неприязненно спросила:
– Тебе что, нравится, когда я такая?
– Ты не представляешь, как это возбуждает… – мягко ответил он.
– А чистая я тебя уже не возбуждаю?
Он забормотал про ее первобытную, дикую, плодородную эссенцию, про ее истинный женский запах, который для него милее всяких духов и отдушек. В ответ она повернулась к нему своенравной спиной. Он тихо прошел к балкону и уселся в кресло.
«Конечно, я сама виновата, что согласилась так рано. Но и он тоже хорош: только об одном и думает! Нет, чтобы сказать: «Наташенька, милая, давай подождем еще пару дней, ведь ты мать наших будущих детей, тебя надо беречь!» Вместо этого ждет не дождется, когда дверцы распахнутся и его, наконец, пригласят войти!» – хмурилась она.
Жениха своего она относила к мужчинам деликатной породы и после полнолуния заплывала к нему в объятия только в новорожденном состоянии. И то, что он про эволюцию луны давно уже все знал, здесь не играло роли – фазы фазами, а жемчужный лунный свет должен быть перламутрово чист и таинственно прозрачен. Она открыла глаза и покосилась в сторону балкона: его слегка откинутая голова с задумчивым профилем выделялась в серо-голубом отблеске невидимого солнца.
«А в чем он, собственно, виноват? – вдруг подумала она. – Между прочим, на свете полно людей, которым нравится сыр с душком. Они едят его и закатывают глаза от удовольствия, тогда как меня тошнит от одного запаха! Так и здесь: то, что для меня пока гадость, для него – деликатес, и в этом наша разница. Ну, разве он виноват, что я его не люблю? В конце концов, это благодаря ему я познала оргазм! Так неужели я стану дуться из-за маленькой прихоти, даже если эта прихоть недостаточно ароматна? Только вот если он и дальше будет искать новые способы возбуждения, то неизвестно, какие открытия меня ждут впереди…»
– Иди ко мне… – позвала она, откидывая одеяло.
Он словно ждал ее слов и, сбрасывая на ходу халат, устремился туда, где на белой постели сияла кремовая сдоба ее тела.
– Противный мальчишка! – надув губки, сказала она, забираясь в его объятия.
– Только нежно, пожалуйста…
Через полчаса он признался, что обнаружив на себе ее кровь, представил, будто он у нее первый и испытал такой восторг, что невозможно передать словами!
– Нравится тебе или нет, но впредь я буду считать себя твоим первым мужчиной! – добавил он не то в шутку, не то всерьез, даже не предполагая, насколько его слова были в определенном смысле близки к истине.
Вот уж, воистину: только влюбленный мужчина не боится выглядеть смешным…
26
Они весело позавтракали на террасе за тем же столиком, что и вчера. И вот, наконец, она в купальнике цвета линялого апельсина погрузилась в выцветшие воды исторической бухты, чтобы выйти оттуда влажно-глянцевой богиней, с блаженной улыбкой поправляющей мраморными руками волосы.
Она знала, что на нее смотрят – через черные очки и скинув их, тайком и не скрываясь, упирая руки в бока и отводя локти назад: женщины выставляя грудь, мужчины – живот. Знала, что почти двадцать лет ее разглядывают, раздевают и пытаются мысленно делать с ней то, что диктует возбужденное воображение: мужчины опрокидывают на спину, женщины топчут ногами. И лишь единицы восхищаются искренне и почтительно, добавляя к бесполому эстетическому чувству легкую грусть. Знала это давно и прочно и не обращала внимания, заслоняясь от нездорового любопытства царственным равнодушием, так поразившим его в их первую встречу.
Он во исполнение своей мечты хотел взять ее в воде на руки, но она сказала:
– Не надо, Димочка. Ты же видишь, какая здесь публика. Это будет выглядеть провинциально…
Публика здесь и вправду собралась заметная, своеобразная и всех возрастов: от почтенных, пропеченных годами дам в съедобных шляпах, цветастых платьях и крикливых бусах, что прячась под зонтами кафе, рыскали глазами в поисках оплошностей и недостатков, до юных проказниц, порхавших по пирсу в одиночку и с бронзовыми кавалерами, предлагая оценить прикрытый шагреневыми треугольничками молочный шоколад их тела. Были здесь женщины детородного возраста: одни с крепкими, по-южному волнующими и пышными, другие с плоскими, по-английски угловатыми и нескладными формами. Были мужчины всех мастей: оплывшие и поджарые, малоподвижные и оживленные, жестикулирующие и немногословные, брюнеты, шатены, рыжие, бронзовые и краснокожие. Бóльшая их часть предавалась созерцанию, излучая при этом церемонное достоинство и чопорность. Публика срослась лицами, туловищами, загаром, и никого ей не хотелось выделять особо.
Накупавшись, она устраивалась в шезлонге, он же, опираясь на него спиной или облокотившись, усаживался рядом на плитах. На небе среди клочьев, перьев и хлопьев толпились в утомительных перестроениях, как новобранцы на плацу кучевые, слоистые, лысые, рваные, волокнистые, белокаменные бастионы легче пуха и воздуха, тише молчания и выше гор. Солнце, устав укрощать их земную ересь голубыми прорехами божьей истины, стушевалось, ретировалось, и стало ясно, что ясность никого больше не устраивает и что пришло время очиститься от пыльного благодушия. Едва они успели покинуть пляж, как небо заволокло черной мутью, и разразился настоящий южный ливень с концом света, глухим громовым ворчанием и гневным сверканием поднебесных очей. Зрелище захватило их и задержало на некоторое время возле балкона, двери которого пришлось закрыть.
Положение незаметного наблюдателя и беспристрастного летописца требует от нас подмечать и по возможности точно живописать не столько сами события, сколько их место на бугристом стволе экзотической связи наших героев, их, так сказать, плодородную, как у почки способность, их растительный или, напротив, разрушительный ресурс. Что любопытного в гладком однообразии железнодорожных путей? Гораздо интереснее их стыки – места, где один рельс вырастает из другого. Иными словами, из всех событий, в которые, как в насыщенный раствор погружены чувства наших героев, для нас важнее те, что обладают внутренней строительной силой. От них зависит, в какую сторону растет кристалл их отношений, будет ли он прочен и станут ли симметричны его грани.
Определенно что-то незаметное и питательное произошло между ними за эти несколько дней, позволив второй раз за день случиться небольшому, но важному событию, значением не уступающему утреннему, а именно: он сел в кресло и потянул ее за руку к себе. Поколебавшись, она уступила и опустилась к нему на колени. Он освободил ее от футболки и принялся ласкать ее бюст на виду у грозы. Впервые он позволил себе, а она согласилась делать это за пределами постели, что было явным нарушением ее строгого регламента. Электрическая страсть небес соединила их в новом, пусть и неудобном положением, и в непривычных, возбуждающих изгибах и складках язык их тела обнаружил свежие, необычные слова. Почувствовав, что вот-вот извергнет вместе с небом стремительную молнию, он хрипло предложил:
– Давай залезем под душ…
– Давай… – согласилась она.
Молча скинув на ходу остатки одежды, они вошли в сверкающую зеленым мрамором пещеру и впервые отразились обнаженные в одном зеркале – стройная красавица и крупный мужчина невзрачной наружности. Он поспешил отвести от зеркала глаза, настроил душ, они забрались в ванную, и она, повернувшись к нему вопросительным лицом, приготовилась следовать его воле.
– Вымыть тебя сейчас или потом? – прижав ее к себе, спросил он приглушенным голосом.
– И сейчас, и потом… – ответила она, испытывая давно забытое волнение: последний мужчина, с которым она занималась любовью под душем, был Мишка, и было это сто лет назад.
Он освободил пространство над ними от шипящих струй, истово и воздушно нанес на ее кожу гель, взбил пену и, проникаясь семейным значением сцены, принялся оглаживать ее драгоценный рельеф, призывно потискивая культовые места и утверждая стерильность с прозрачным и скользким намеком. Собственно, в напускном утаивании очевидных намерений и состоит замирающая суть совместной двуполой помывки.
Повернув ее к себе спиной и придерживая за живот, он особое внимание уделил бедрам. Время их санобработки далеко превзошло необходимое, а его вкрадчивые, проникновенные движения заставили ее обмякнуть. Наконец он смыл пену и принялся поцелуями и покусываниями проверять блестящую упругость ее кожи. Он даже встал перед ней на колени, и она в ответ возложила взволнованные руки на его потемневшую от воды макушку.
Теперь ему следовало вымыться самому. Он выдавил гель и нанес себе на живот.
– Дай мне! – сказала она, забирая у него флакон. – Повернись!
Он повернулся, и она, наполнив ладонь перламутровой слизью, так похожей на его семя, быстрыми движениями взбила и разнесла пену по его плечам и бокам, подтвердив скользкими руками то, о чем предупреждали руки сухие – он располнел, и это никуда не годится. Смыв пену, она снова вооружилась гелем и, заведя руки, натерла ему на ощупь грудь, живот, а затем, преодолев внутри себя уже невысокий к этому времени барьер, скользнула ниже пояса, возблагодарив небо за то, что жених не видит, как покраснело ее влажное лицо. Не желая признаваться себе, что давно хотела там побывать, она жадными тонкими пальцами принялась наводить порядок у него в паху, чувствуя, как затаилась его спина. Возможно, она задержалась там дольше, чем следует, потому что его маршальский жезл вдруг забился в ее руках, и она поняла, что перестаралась. Он, свернув голову, искал ее губы, и она, полыхая лицом, помогла ему освободиться от стонущих судорог. Случилось небывалое: заласканная им до последней косточки, она впервые ласкала его таким невинным способом!
Потом они, обнявшись и касаясь головами, стояли под душем.
– Иди! – наконец сказала она, пряча глаза. – Мне нужно заняться волосами…
И он, влюбленный банщик, выбрался из ванны, обмотался полотенцем, ушел, сел в кресло и стал с легчайшей улыбкой глядеть на колышущиеся струны дождя и слушать, как трескучие небесные шары, отскочив от гор, скатываются в море.
Возможно, кто-то скажет, что эротические ощущения наших героев – это совсем не то, чем следует забавлять читателя, когда трещит по швам мировая финансовая система, а блаженная Организация Объединенных Наций пытается объединить землян вокруг картофеля, языков и санитарии; когда отдельные страны переживают за лягушек, крокодилов и снегирей, пекутся о запущенном здоровье нации и возбуждают интерес к математике; когда новоизбранные президенты сходятся на меже, чтобы померяться вооруженными силами на виду у их будущего чернокожего коллеги и партнера; когда европейская цивилизация, дождавшись своего часа, вбивает албанский клин в балканский вопрос, а всемирная сеть дрожит от общественного резонанса; когда значение спортивных подвигов далеко превосходит значение подвигов нравственных, а практичный цинизм во всем мире побеждает бесхитростное любовное чувство, когда падают самолеты, сталкиваются поезда, переворачиваются автобусы, когда, когда, когда…
Любителям классических запятых мы скажем так: на самом деле, именно тогда, когда такое происходит, героям ничего не остается, как уединиться в маленькой, уютной лаборатории страсти, чтобы совершать там открытия во имя беззащитного эгоизма любви и обреченной человечности. И единственное, что здесь может их смутить, это вопрос: два открытия за полдня – не многовато ли?
Обедали и ужинали в номере. Гроза между этими двумя событиями закончилась, появилось солнце и единственно доступным ему способом – выпариванием, принялось осушать промокшую землю, торопясь управиться до конца рабочего дня. Перед закатом они решили нанести краткий визит ближайшим окрестностям. Влажность обострила запахи и вместе с духотой напомнила им другие приморские городки, где они до этого уже бывали с другими. Увиваясь вокруг нее толстой лианой, он перечислял, до каких развлечений они могут здесь дорваться: тут тебе и серфинг, и теннис, и водные лыжи, и рыбалка, и акваланг, и еще черт знает что!
– Не хочу, не хочу, не хочу… – отвергала она их одно за другим. – Ничего пока не хочу! Хочу купаться, загорать, есть и спать!
– Может, возьмем машину и съездим в Ниццу, в Канны?
– Не хочу! – отвечала она. – На что там смотреть – на такие же заборы и камни?
– А джаз слушать пойдешь? – осторожно спросил он.
– Джаз слушать пойду, – неожиданно покладисто согласилась она.
Они медленно шли вдоль распаренных, с окровавленными головами сосен и пальм за белыми каменными заборами, схожими друг с другом однообразной недоступностью. Когда дошли до порта, он сказал:
– Мы обязательно побываем здесь! Я хочу, чтобы ты попробовала местную уху – буйабес называется!
Проводив солнце на покой, они вернулись в отель. После ленивого бдения перед распахнутым в ночь балконом, они легли в кровать. Он включил телевизор, она взяла книгу и открыла на закладке.
«Откуда-то в Розмэри возникло предчувствие, что сегодняшнее купанье запомнится ей на всю жизнь, что, когда бы ни зашла речь о купанье в море, тотчас оживет перед ней этот день и час…»
Ее, как и в прошлый раз хватило на полчаса, но теперь она сама отложила книгу и подставила ему губы: «Спокойной ночи!», после чего выключила ночник и повернулась к нему спиной.
Закрыв глаза, она вернулась мыслями к их сегодняшнему опыту, которым они так неожиданно обменялись. Получалось, что если утром она стала невольной и невинной жертвой его дурного вкуса, то свое рукоблудие в ванной она не одобряла. Да, она сделала это, чтобы избежать того затяжного, бессильного стыда, который Мишка, повернув ее к себе спиной и вынудив упереться в скользкий край ванны, заставил однажды испытать. То был первый и последний раз, когда она позволила мужчине взять себя в этой унизительной собачьей позе. Но так ли уж нужно было делать то, что она сегодня сделала? Ведь она и раньше могла освобождать его таким способом, но выставлять свои навыки напоказ не спешила: кандидат в мужья ждет от будущей жены целомудрия, а не всезнайства. Разумеется, он не такой дурак, чтобы считать, что после трех мужчин она ничего об этом не знает. Знает и умеет, но только в браке или по любви. А может, он, как и Мишка, мечтает о минете и анале? Тогда его надо заранее разочаровать! Кстати сказать, Светке, судя по ее придушенному голосу и блестящим глазам, и то, и другое нравилось. Правда, с тех пор много воды утекло, и не факт, что Светка с мужем продолжают развратничать. Надо будет по приезду ненавязчиво поинтересоваться…
Пока она думала, он досматривал фильм, и когда по лбу экрана побежали морщины титров, выключил телевизор. Она вздохнула, и он в осиротевшем неоновом сумраке обнял ее.
– Не надо, – сказала она. – Давай сегодня отдохнем…
27
Утром они завтракали на террасе, и жених, глядя на нее неизлечимо нежным взором, был занят тем же, чем и вчера, а именно: разжигал ее блаженным видом свое обожание.
Откинувшись на спинку кресла и укрывшись за черными очками от назойливых солнечных бликов и неотвязных чужеземных глаз, она скользила рассеянным взглядом по цирковой пестроте мира: от цветочных гирлянд и сине-белых навесов до подернутого сизым маревом мыса, скрывающего собой Канны. Окружающие ее предметы, их размеры, цвета, назначение и взаимное расположение с каждым днем обретали все признаки крепнущего знакомства, и это доставляло ей спокойную, тихую радость.
Дружелюбный, не успевший сгуститься воздух, бирюзовая бухта ясного свежего вида, море, расплющенное голубой полусферой неба, обесцвеченная акварель горизонта, дальний рыжеватый берег, где у невесомого воздуха обнаруживался цвет и плотность, застывшие в праздных раздумьях яхты обнажились перед ней согласно аквамариновому прейскуранту.
– Чудесно, чудесно! – подставляла она лицо нежнейшим дуновениям оробевшего ветерка, за который тоже было уплачено.
Благостная глянцевая натура каким-то странным, окольным путем вернула ее в то время, где она упругая, свежая и гордая непривычным заграничным вниманием с детской беспечностью предавалась турецким удовольствиям, посматривая на Мишку если не с любовью, то с одобрением. Вспомнила, как они возвращались в номер, и Мишка, возбужденный водой, солнцем и новизной потребительской свободы, набрасывался на нее, едва за ними закрывалась дверь, а она, не ведая будущего, дарила ему себя с расточительной щедростью. Какая же она была дура и как противно теперь об этом вспоминать!
Мелькнули их с Володей испанские дни, когда растворившись в обожании и чувствуя себя его услужливым придатком, она с восторгом подчинялась его мягкой воле, испытывая покой, негу и неутихающую радость. И было это всего-то шесть лет назад! Боже, какая бездна угрюмых, мрачных событий отделила чистую, восторженную девчонку, какой она была с Володей, от нее нынешней – расчетливой, циничной и порочной!
Слава богу, ей не довелось быть на море с Феноменко, иначе воспоминания о его волосатой компании отравили бы весь нынешний отдых! Можно себе представить, что этот похотливый насильник вытворял бы в постели, зарядившись энергией, словно солнечный аккумулятор!
Но как же ей избавиться от этих глумливых напоминаний, что накатываются на нее, словно волны? Да, верно, заслониться от них можно только волноломом новой любви, но где она, черт возьми, застряла, эта новая любовь, и почему не спешит на выручку?
«Я его полюблю, обязательно полюблю!» – внимая голубиному воркованию жениха, твердила она с навязчивостью рефрена.
Жених пытался увлечь ее рассказом о музее Пикассо, и она, сосредоточив на нем взгляд, поначалу не придала значения мужчине и женщине за его спиной, которые размытыми цветными пятнами протиснулись на задний план ее поля зрения, ритуально и дружелюбно кому-то оттуда кивнули, устроились за соседним столиком и уставились на залив. Краем глаза приобщая их смутное, случайное присутствие к окружающему миру, она дежурным образом помечала оживлявшие их движения. Вот мужчина взял стакан с оранжевым соком, откинулся на спинку, задержал стакан у рта и подложил под локоть кисть свободной руки. Затем медленно поднес стакан к губам, отпил из него, качнулся к столу, вернул его на место, поставил локти на стол, изогнул торс, подпер подбородок, отставил затылок и что-то сказал своей спутнице. Та улыбнулась и быстро ответила. Мужчина снова откинулся на спинку стула, уронил руки на колени, развел плечи и застыл, устремив взгляд вдаль.
Подчиняясь неясному, внезапно возникшему беспокойству, Наташа навела фокус на незнакомца, и теперь уже размытым пятном стал жених. Микроскопическое изменение толщины хрусталика вдруг обратило время вспять, и прямо перед собой она увидела сидящего к ней боком… Володю! Нет, нет, конечно, это был другой человек! Разумеется, другой – чужой и незнакомый, но с той же манерой ставить локти и подпирать подбородок, изгибать торс, отставлять затылок на крепкой шее и поводить плечами! Откуда у чужого, незнакомого человека Володина плавность и точность движений? Откуда это пугающее сходство повадок и пропорций?!
Ее сердце обмерло, затем подпрыгнуло и забилось в цепких руках беспощадной паники: «Этого не может быть! Этого! Не может! Быть!..» Но тут мужчина повернул к ней чужое лицо, улыбнулся, и наваждение отступило. Наташа сглотнула комок, перевела дух и беспомощно оглянулась, после чего возблагодарила бога за очки, которые он посоветовал ей надеть. Не спуская глаз с необыкновенного мужчины, она схватила стакан с соком, сделала быстрый глоток и проговорила:
– Интересно, откуда они?
– Кто? – доверчиво спросил жених.
– Та пара, за тобой…
Жених свернул голову, покосился и сказал:
– Думаю, американцы…
До конца завтрака она ни к чему больше не притронулась и завороженно глядела мимо жениха на воплощенную память, боясь лишним словом или движением расстроить хрустальную мелодию узнавания. Жених о чем-то ее спрашивал, и она односложно и невпопад отвечала. Когда после завтрака незнакомец, пропустив девицу вперед себя, направился к выходу, она проводила его жадным вниманием, подтвердившим, что его статное сходство с покойным женихом было мало того что необыкновенным, но к тому же еще тотальным!
После завтрака чья-то невидимая воля сделала их соседями по лежакам. Мужчины в знак приветствия вскинули руки, после чего сошлись на нейтральной территории.
– Джеймс Джонсон, – сообщил брюнет, протягивая руку.
– Дайм Максимов, – пожал ее Дмитрий.
– Откуда вы? – спросил брюнет.
– Россия! – отвечал он.
– О, значит, я угадал!
И отвечая на вопросительный взгляд собеседника, пояснил:
– Мы с женой поспорили, откуда вы, и я, выходит, угадал!
– А вы откуда?
– Юнайтед Стэйтс оф Америка! – не без гордости сообщил Джеймс.
– О! Значит, я тоже угадал! – улыбнулся Дмитрий.
– Милая! – громко обратился американец к жене. – Я же говорил – они из России!
– Наташенька! – так же громко обратился Дмитрий к невесте. – Я же говорил – они американцы!
Женщины принужденно улыбаясь, сели в шезлонгах, ожидая, чего ждать от мужчин дальше.
– Пойдемте, я познакомлю вас с моей женой! – пригласил американец: его жена находилась к ним ближе, чем русская невеста. – Моя жена Джулия! – подойдя, представил он ее.
– Очень приятно! – склонился с улыбкой Дмитрий, и они втроем переместились к Наташе.
– Натали, моя жена! – представил ее Дмитрий.
Американец улыбнулся, а Наташа покраснела.
Оставив женщин наедине, мужчины отошли в сторону. В течение следующих пяти минут Дмитрий узнал, что их новому знакомому тридцать пять, а его жене двадцать девять и что они женаты уже пять лет и у них четырехлетний сын Джеймс младший. Что американец работает у своего отца, у которого в Штатах сеть дорогих магазинов одежды, что живут они в Нью-Йорке и что он не возражает против того, чтобы Джулия преподавала французский язык в школе.
– Теперь вы понимаете – приехать сюда была ее идея, – сообщил он снисходительно. – Что касается меня, то я с удовольствием бы поехал на Гавайи! Но поскольку я ее люблю… Слушайте, Дайм! – безо всякого перехода понесся он дальше. – Ваша жена чертовски красива! Чертовски! Ничего, что я так говорю? Мы поспорили – некоторые здесь говорят, что видели ее на обложке “Maxim”, а я говорю, что это невозможно и что она настоящая леди!
– Вы выиграли: она настоящая леди! – рассмеялся Дмитрий.
– Вот видите, чутье меня никогда не подводит! – обрадовался Джеймс, и порывисто добавил: – Слушайте, а почему бы нам не поужинать вместе? Что скажете?
– Я должен спросить у жены. Кажется, у нее были какие-то планы на сегодняшний вечер! – уклонился Дмитрий и посмотрел в сторону женщин. Те, стоя у одного из лежаков, оживленно беседовали. Он подошел к ним, попросил прощения и сообщил невесте, что их приглашают поужинать, но ему показалось, что у нее другие планы на сегодняшний вечер. Ну, так как?
– Ты правильно сделал, – ответила она. – Давай подумаем, а потом решим.
Лицо и голос ее скрывали напряжение, так несоответствующее расслабленному предполуденному часу.
– Так и есть! – объявил он, возвращаясь к Джеймсу. – Мы сегодня заняты! Может, перенесем на завтра?
– Окей! – согласился Джеймс. – Мы уезжаем через четыре дня, значит, время еще есть!
Потом они все вместе отправились купаться, после чего каждый из мужчин помог чужой жене выбраться на пирс. Когда невеста и американец оказались рядом, его окатила ржавая волна ревности: невозможно было не заметить их родового совпадения – будто две половинки банкноты в миллион долларов чудом воссоединились на этих серых случайных плитах.
«Вот кто ей нужен, не я!» – открылось ему вдруг.
Улыбчивый американец о чем-то спросил его невесту, и она пространно, с повизгивающим смехом ответила. Слава богу, солнце окончательно задохнулось в облаках, и это вынудило их покинуть пляж раньше времени.
– Бай! Увидимся завтра! – помахал им при расставании Джеймс, глядя при этом на Наташу.
Едва они вернулись в номер, как поджидавшая их там ссора вспыхнула, словно сухая ветошь.
– Чертов американец! – зло выдавил он.
– А кто же тебя заставлял знакомиться?
– Да разве это я? Он сам напросился и, думаю, сделал это ради тебя!
– Может, мне теперь в парандже ходить?
– Не поможет – за тобой и в парандже будут бегать! – тихо злился он.
– А мне он понравился – красивый, напористый, деловой! Настоящий американец! – дразнила она его.
– А мне понравилась его жена! – побагровел он от незнакомой злости.
– А что – очень милая и серьезная девушка! Если хочешь, мы попросим мужа, чтобы он уступил ее тебе! – насмешливо глядела она на него.
– И чтобы я уступил тебя ему? Ты этого хочешь? – с тихой яростью выдавил он.
Она пожала плечами:
– Мало ли чего я хочу!
– Может, ты жалеешь, что мы отказались от ужина? – процедил он.
– Может, и жалею! – отрезала она и подумала: «Боже, какой он некрасивый!»
Он некоторое время смотрел на нее, выпучив глаза, затем круто повернулся и скрылся в ванной. Минут двадцать он отсутствовал, а когда появился, то молча прошел к балкону и уселся в кресло. Она в свою очередь заняла ванную и пробыла там не менее получаса.
– Обедать пойдешь? – спросила она ровным голосом, шурша за его спиной зеленым с коричневыми цветами платьем на бретельках.
– Нет, – не оборачиваясь, бросил он.
Ни слова не говоря, она покинула номер, а когда вернулась, он все также сидел в кресле. Ни о чем его не спрашивая, она переоделась и отправилась на пляж. Там она улеглась в шезлонг, закинула руку на глаза, и мысли ее тут же обратились к американцу.
«Боже мой, боже мой, ну как такое возможно? Ведь телом он – вылитый Володя! Если бы не его лицо…»
С пугающей точностью копируя Володины движения, американец беззвучно мельтешил у нее перед закрытыми глазами. «Нет, нет, я не психопатка, чтобы добровольно совать голову в газовую камеру воспоминаний!» – отгоняла она его. Но светло-зеленый американец в бугристых плавках застрял на вогнутом экране век и никак не желал его покидать.
Жених появился через полчаса и занял место рядом с ней.
– Извини, – сказал он, – сам не понимаю, что на меня нашло…
– А я понимаю, – сухо ответила она. – Не надо давать волю воображению!
Последовал очень худой мир. Американцы на пляже так и не появились. Чтобы не портить аппетит тишиной номера, они впервые спустились в ресторан, где кое-как поужинали. После ужина он проводил ее до номера и спросил:
– Ты не против, если я вернусь в бар?
– Да ради бога! – безразлично откликнулась она, переоделась в халат, улеглась на кровать и взяла книгу. Несмотря на закладку, книга открылась в другом месте. Она взглянула, и в глаза ей бросилось:
«Откуда-то в Розмэри возникло предчувствие, что сегодняшнее купанье запомнится ей на всю жизнь…»
Итак, вчерашнее предупреждение сбылось, и если про всю жизнь говорить было преждевременно, то сегодняшний день оказался заполненным им до отказа. Почти в это же время начался дождь и уже не прекращался всю ночь.
В баре он познакомился с седовласым англичанином, который, как и он, оставил жену в номере, чтобы подлечить мужское самолюбие. Хотя, какое может быть самолюбие у седовласых женатых мужчин? А такое же, как и у всех – либо больное, либо ущемленное.
Дмитрий вливал в себя виски и ругал Россию на чем свет стоит, а когда англичанин с ним соглашался, чувствовал, как ежится его национальная гордость. За окнами шел дождь, в углу играл рояль, дым сигар сгустил воздух, а виски притупил зрение – словом, обстановка была самая что ни на есть салонная. Пианист заиграл “Te a for Two”, и он пожалел, что с ним нет невесты: именно эту мелодию мечтал он показать ей в этих стенах.
«Что за черт, что случилось? – растерянно думал он. – По чьей злой прихоти нарушился ход вещей, еще утром такой послушный и внятный?»
В поисках ответа он весь вечер пополнял стакан эликсиром печали. А что ему оставалось? Ведь сегодня он вдруг так ясно и безнадежно понял, что всегда будет не тем, кто ей нужен…
28
Вернулся он, когда она уже спала. В халате уселся в кресло, где и проспал под шум дождя до утра. Обнаружив его там, она ни о чем не стала его спрашивать, только удивленно на него посмотрела. Они молча спустились на завтрак, где встретили радостного американца и его учтивую жену. Наташа необыкновенно оживилась, на лице же жениха поселилась кислая гримаса.
Мучения его возобновились с новой силой, когда они сошлись на пляже. Наташа, забыв о приличиях, буквально липла к американцу. Тот в свою очередь сыпал репликами, а она в ответ громко и неприятно хохотала. Американец обнаглел до такой степени, что без разрешения увлекал ее в воду, оставляя жениху в залог свою жену.
«В морду ему дать, что ли?» – тоскливо думал жених. Американская жена вежливо улыбалась.
После одного из купаний, где голубки барахтались бок о бок, невеста, пряча шальные глаза, сообщила ему:
– Джеймс предлагает взять катер и прокатиться по бухте! Что скажешь?
– Я – пас, – ответил, словно пролаял он, и невеста, не сказав ни слова, пошла с американцем на другую сторону пирса, где швартовались катера. Он остался с Джулией.
– Не волнуйтесь, он никогда не позволит себе ничего лишнего… – улыбнулась она снисходительно. Он злобно посмотрел на нее: «Ну, и дура, прости господи!»
– Я прошу прощения, у меня здесь кое-какие дела! – извинился он и ушел.
Вернувшись в номер, он отвернул кресло от балкона и просидел в нем до ее прихода, крепясь изо всех сил, чтобы не смотреть на бухту, где он все равно не разглядел бы их порочных занятий, приди им в голову ими заняться.
Она явилась через два часа и объявила с натужной беспечностью:
– Зря ты не поехал – было очень интересно!
Он злобно взглянул на нее и сказал, ломая губы:
– Наташа, что случилось? Когда я вчера предлагал тебе то же самое, ты отказалась. Когда сегодня тебе это предлагает чужой сомнительный человек – ты соглашаешься! Как тебя понимать?
– Вчера у меня не было настроения, а сегодня есть! – бегали ее глаза.
– Какие еще сюрпризы приготовило мне твое настроение? – криво усмехнулся он.
– Ты же знаешь – вечером ужинаем с американцами!
– Нет уж, уволь!
– Тогда я пойду одна! – упрямо мотнула она головой.
– Как знаешь… – ответил он и ушел обедать.
Кое-как проглотив кусок мяса, он вернулся в номер и, как всегда, уселся в кресло. Через некоторое время пришла она и, не слова ни говоря, улеглась на кровать. В полном молчании они провели бесконечные двадцать минут, и она спросила:
– На пляж пойдешь?
– Нет, – отрывисто ответил он, не поворачивая головы.
– Ну, как хочешь… – обронила она с легкой угрозой.
Пошуршав за его спиной одеждой, она переоделась, взяла пляжную сумку и ушла, хлопнув дверью. Посидев еще немного, он встал, взял деньги, документы и отправился, куда глаза глядят. Точнее, так он предполагал вначале, но пройдя метров четыреста в сторону Канн, свернул на пляж, взял лежак и провел три часа в обществе песчаных людей, изводя голову дурными мыслями. Когда на помрачневшем пляже вместе с ним остались только те, кому некуда было спешить, он оделся и отправился бродить по городу. Бессмысленное кружение по веселым вечерним улицам, где для него не было места, его утомило, и он вспомнил про один известный ему по прошлому году ресторанчик, в котором квартет негров исполнял вещи Сиднея Бише. Добравшись туда, он нашел всех четверых в полном здравии, словно расстался с ними только вчера. Устроившись в углу, он заказал пол-литровую бутылку “Red label”, п а ч к у “ Gitanes” и принялся топить тоску в заморском пойле и дыму. Довольно скоро к нему подсела легкомысленно одетая девушка невнятного возраста. Он налил ей виски, выпил с ней и попросил:
– Посиди со мной, я заплачУ.
И она, назвавшись Жюли, просидела с ним весь вечер, слушая его жалобы и жалея его на плохом английском.
– Эх, Жулька, собачонка ты приблудная! – втолковывал он ей по-русски. – Ни хрена ты не понимаешь в русской любви!
Когда квартет заиграл «Маленький цветок», он облокотился рукой о стол и, призывая себя и ее к молчанию, поднял вверх указательный палец. Когда пьеса закончилась, он потянулся к бутылке, налил ей и себе и выпил за упокой души прекрасного растения. Погиб еще один аттракцион, посвященный его невесте.
Когда он собрался уходить, Жюли позвала его с собой. В ответ он вручил ей сто евро, нежно с ней распрощался и побрел в отель на виду у фонарей, которые по очереди заглядывали в его безжизненное лицо, а затем глумливо щурились в спину. Добравшись до отеля, он объявил администратору, что собирается уезжать и попросил помочь с билетом на завтра хоть на Москву, хоть в Питер, добавив к своей просьбе двадцать евро. Тот заверил, что постарается, а результат своих стараний объявит утром. Он поднялся в пустой номер, ополоснул лицо и, оставив гореть один светильник, устроился в кресле.
Около часа ночи в дверь постучали, и он пошел открывать. За дверью американец придерживал за талию глупо улыбающуюся невесту.
– А вот и мой верный Димочка! – объявила косноязычная невеста, качнулась и, выставив руки, упала жениху на грудь.
– Sorry! – улыбался американец.
– Fack you, козел! – рявкнул жених и захлопнул дверь перед его носом. Затем довел невесту до кровати и усадил.
– Димочка, ты не представляешь, какая я пьяная! – бубнила она, норовя свалиться набок.
– Хорошо, хорошо, раздевайся и ложись!
– Раздень меня, я не могу…
Закинув ее безвольные руки себе на плечи и удерживая тряпичное тело, он осторожно стаскивал с нее непрочное (непорочное?) платье, а она, закрыв глаза, обдавала его пьяным, настоянным на виски дыханием. Сняв платье, он уложил ее на кровать, освободил от лифчика и трусов, прикрыл ее обездвиженную наготу одеялом и, выключив свет, уселся в кресло.
– Как жалко, что тебя не было с нами! – бормотала она в темноте, и далее, без всякого перехода: – Димочка, ты у меня такой глупый, такой глупый, ох, какой ты глупый, ты даже не знаешь, какой ты глупый… Иди ко мне, дурачок!
– Спи, завтра разберемся! – отвечал он.
– Ты меня больше не любишь, да, не любишь? – плаксивым голосом, бормотала она. – Ах, какой ты глупый, какой ты глупый…
Бормотание ее становилось все бессвязнее, пока не смолкло совсем.
Эту ночь, как и предыдущую он провел в кресле. Засыпая, он увидел ее, выходящую из блестящей воды, как из краски. Она улыбалась и махала ему сверкающей рукой.
Утром, когда она еще спала, он спустился вниз, где выяснилось, что администратор не подвел. А если бы даже подвел, он все равно уехал бы в Ниццу. И хотя в запасе у него теперь были еще несколько часов, он решил не откладывать, тут же собрать чемодан и съехать.
– Что ты делаешь? – проснувшись и усаживаясь на кровати, уставилась она на него некрасиво помятым лицом.
– Уезжаю, как видишь.
– Куда?
– Домой.
– А я?
– А ты остаешься. Ведь тебе здесь нравится.
– Ты соображаешь, что ты делаешь? – попыталась она быть строгой.
– А ты?
– А что, собственно, случилось? – с наигранным удивлением спросила она.
Он захлопнул чемодан, с треском застегнул молнию и сел на край кровати.
– Ты знаешь, я вдруг понял, что я не тот, кто тебе нужен и никогда им не стану. Может, кого-то такое положение устраивает – меня нет. Я тебя ни в чем не виню – ты действительно заслуживаешь лучшего. Так что устраивай свои дела, а я свои раны как-нибудь залижу. За номер уплачено. Кроме того, я оплатил непредвиденные расходы. Можешь отдыхать и ни о чем не беспокоиться. Там, на столике обратный билет и тысяча евро – этого должно хватить. Будь осторожна – здесь полно проходимцев. Особенно среди американцев. Пока!
Он встал и, подхватив чемодан, направился к выходу, готовый к тому, что в спину ему полетит что-то вроде «Ну, и черт с тобой!» или, на худой конец, «Вернись!», но номер проводил его молчанием. У входа его уже ждало такси. Он забился в угол и окаменел.
«Вот и все, – думал он, – вот и все…»
Таким он оставался до вечера следующего дня, когда она позвонила и сообщила:
– Привет, это я. Звоню сказать, что я вернулась.
– Зачем? – машинально спросил он.
– Чтобы ты чего-нибудь не подумал…
И, согласившись с его молчанием, добавила:
– Кстати, я дочитала твою книгу…
29
Ее восторженное помешательство продолжилось на пляже, где они после завтрака неожиданно сошлись с утренними знакомыми. Она увидела американца в купальных трусах, и сходство его с покойным женихом стало особенно разительным.
Незабвенную Володину осанку подтвердили развитые плечи, выпуклая грудь и овальный, слегка выступающий живот, всегда напоминавший ей небольшой античный щит. Та же смуглая кожа, те же ровные мускулистые руки. Володины ноги с точеными шарнирами колен поигрывали связками мышц, его икры выпирали с налитой подтянутой силой. Теми же чуткими буграми перекатывалась широкая спина. Даже растительность была той же умеренности. И все это венчало красивое чужое лицо.
Она была смущена, поражена, побеждена и следовала за американцем с навязчивой покорностью. Тело, которое ее глаза и ладони запомнили на всю жизнь, находилось на расстоянии вытянутой руки, и его можно было нечаянно коснуться. Благоразумие видело тут только один выход – бежать, но она предпочла быть неблагоразумной и осталась. Кажется, американец и сам не ожидал такого к себе внимания. Он иронично щурился, много шутил, а она, не понимая и половины его сленга, встречала его шутки громким, нервным хихиканьем, совершенно не думая, как это выглядит со стороны. Он посмеивался над своей женой, которая из любви к Фитцджеральду затащила его в эти края, потешался над ее придыхательным почтением к французской культуре, над европейской курортной теснотой и мелкобуржуазностью.
Находил местное общество скучным и язвительным, а Европу старомодной и однообразной. Она же, пропуская мимо ушей его плохо прожеванный английский, поддакивала и с замирающим, безрассудным восторгом пожирала глазами его тело.
Ее жених хоть и был на вершок выше, но выглядел рохлей с оплывающим с пока еще крепкого костяка телом и растерянным лицом. Ей вдруг стал безразличен его удивленный насупленный взгляд, его молчаливое порицание и прочие нудные приличия. Одно занимало ее теперь – чудесный случай воскресил былые радости, и она, захваченная врасплох, не знала, как ими распорядиться.
За ночь ее желания осмелели, налились плотской силой и хотели лишь одного – скорого и тесного свидания с заморским чудом. Стоит ли говорить, каким неуместным и даже оскорбительным представлялось ей теперь соседство с чужим хмурым мужчиной – этим досадным препятствием ее соединению с ожившей мечтой!
Утром она увидела американца за завтраком, и помешательство ее перешло все мыслимые границы. На пляже она, ошалевшая и поглупевшая, не замечала никого, кроме Джеймса, позволяя ему при купании как бы невзначай и весьма выразительно задерживать руку на подводных частях ее тела. Он предложил прокатиться на катере, упомянув, что его жена страдает морской болезнью, и когда жених отказался их сопровождать, она была только рада.
Некто приветливый в джинсах, сине-белой безрукавке, в нахлобученной на лохматую голову морской фуражке и черных очках встретил их. Американец спрыгнул в катер первым и помог ей спуститься. Она, глядя под ноги, осторожно и медленно ступала, представляя, что вцепилась в Володину руку. Они уселись рядом позади белой плоской головы над молчаливой спиной, и катер рванулся с места не хуже автомобиля. Ей впервые довелось рассекать пусть и прибрежный, но все же морской простор, да еще таким способом, и она с любопытством наблюдала, как быстро отступает берег, как съеживаются до игрушечных кубиков дома, сливаясь в сплошную цветную ленту у подножия ржаво-зеленых гор. Ветер трепал ее волосы, обдавал водяной пылью, и когда катер вставал поперек волны, под днищем хлопали и толкались морские ухабы. Ее спутник пытался что-то объяснять, но было шумно, и ей приходилось подставлять ухо, куда он, навалившись на нее голым плечом, кричал своим твердым американским ртом. Она кивала головой, косилась на его смуглые ноги, ощущала его теплое прикосновение и млела.
Описав большой полукруг, они остановились довольно далеко от берега, где коварное дыхание пучины было особенно ощутимым, и закачались на волнах. Стало тихо, и он принялся объяснять, где Канны, где Ницца, где Монако и где они. Она слушала, стараясь не глядеть на него, чтобы чужим лицом не навредить воспаленному воображению. Волны шлепали катер по щекам.
Ветер, чье вольное происхождение здесь стало очевидным, толкал их обратно к берегу. Американец примолк, затем склонился к ее уху и сказал:
– Natalie…
– Yes… – выдохнула она.
– You are so beautiful… – пробормотал он, и чуть подавшись вперед, ткнулся губами в ее волосы.
Она резко повернула голову и увидела перед собой чужое лицо.
– Джеймс! – с негодованием воскликнула она.
– Yes, yes, sorry! – неохотно отшатнулся он.
– Скажите ему, что мы возвращаемся! – приходя в себя, велела она, и через десять минут молчания они были у пирса. Вся поездка заняла чуть более получаса. Молча сошли на берег, и он сказал почти то же, что ее жених:
– Извините меня, Натали, сам не знаю, что на меня нашло!
– Я вас прощаю, – улыбнулась она.
Он расцвел и воскликнул:
– Значит, вы не откажетесь сегодня поужинать с нами?
– Не откажусь!
Они вернулись к шезлонгам, где их ждала его улыбчивая жена. Наташа спросила, где ее муж, и американская жена ответила:
– Он сказал, что у него дела.
– Вы вернетесь сюда после обеда? – спросил ее американец, и она ответила, что обязательно будет.
Потом был злой, молчаливый жених и их утомительное соседство. Едва дождавшись подходящего времени, она устремилась на пляж. Американец с женой был уже там и с неприличным пылом возобновил свои ухаживания. Собственно говоря, она не строила иллюзий по поводу его намерений: скрываемые притворным благодушием, они выпирали из него также бесстыдно, как бугрилось под тугими трусами его мужского достоинство. Пусть так, думала она, замирая от вида Володиных ягодиц, но у нее тут своя сладкая и нежная партия, которую она вытягивала с наслаждением, не в силах противиться музыкальному сопровождению памяти.
«Хочу ли я его? – спрашивала она себя, лежа в шезлонге, и тут же отвечала: – Да! Только надо будет закрыть глаза…»
К ужину она надела черное вечернее платье, закрутила в растрепанный узел волосы, подвела глаза и, произведя по пути фурор, спустилась вниз. У американца при виде ее поглупело лицо.
Вечер был теплый, и потому устроились на террасе. На вопрос, где мистер муж, она ответила, что у него сегодня деловая встреча, но, может быть, он еще успеет. В ожидании, когда их обслужат, американец не сводил с нее глаз и нес всякую чепуху. Между прочим, он настоял, чтобы перед едой она выпила виски.
– Это так по-американски! – уговаривал он, и его жена ему вторила.
Наташа каплю за каплей выпила полстакана, подхлестнув и без того возбужденное воображение. Воображение, словно оскорбленная лошадь, взбрыкнуло и понеслось. Наташа отпустила поводья, не забывая пришпоривать его порциями красного вина. Довольно скоро она опьянела. Края лиц и предметов подтаяли, и, пытаясь уцепиться за них взглядом, она распрямляла спину, встряхивала головой и, бессмысленно улыбаясь, таращила глаза. Американец, почуяв неладное, сидел с озабоченным видом.
– Натали, вы в порядке? – спрашивал он, подавшись к ней.
– Все окей! – отмахивалась Наташа.
Американская жена, поставив локти на стол и возложив на них подбородок, глядела на нее с язвительной улыбкой.
– Не хотите спуститься к морю? Там прохладнее! – предложил американец.
– Х-х-очу! – мотнула Наташа головой.
– Я провожу ее, – склонившись к жене, тихо сказал американец.
– Sure! – ответила жена по-американски, не переставая улыбаться на эсперанто.
Джеймс подхватил Наташу за талию, и они на виду вечернего сообщества (кое-кто даже зааплодировал) дошли, пошатываясь, до конца террасы и, цепляясь за белые перила, спустились на пирс. Джеймс провел ее под полотняное укрытие на тонких столбах и остановился в паре метрах от воды.
– Дышите! Дышите вот так! – набирая полную грудь и медленно выдыхая, показывал он, удерживая ее за талию. Она, паясничая, попробовала вдохнуть, но не удержалась от смеха и повисла на нем. Неожиданно он обнял ее и крепко прижал к себе. Она подняла к нему удивленное лицо, и он, подкрепив рукой ее безвольный затылок, впился в нее поцелуем. Она уронила руки и замерла, но вдруг неловким движением вскинула их к груди, втиснула с нетвердой настойчивостью между ним и собой, уперлась ладонями ему в грудь, собрала силы, оттолкнула его и выкрикнула:
– Ты не Володя! Господи, ты не Во-ло-дя-а-а!
После чего залилась пьяными слезами. Американец засуетился, вытащил платок и принялся осушать ее щеки, бормоча при этом:
– Бог мой, извините меня, Натали, мне так неловко! Не плачьте, прошу вас, не плачьте!
Она потихоньку успокоилась и, повернувшись, нетвердой походкой двинулась по пирсу, сама, кажется, не зная куда. Он поймал ее под руку и направил на нужный путь. Она послушно последовала за ним.
– Все окей? – спрашивал он, наклоняясь к ней.
– Окей… – отвечала Наташа глухим голосом, пряча от фонарей бледное горестное лицо.
Вернулись за стол.
– Кофе? – спросил Джеймс.
– Да… – согласилась она.
Пока подавали кофе, она сидела молча и прямо, равнодушно глядя перед собой. Выпив кофе, отвернула голову и принялась смотреть в сторону моря, откуда на нее с недовольным ворчанием накатывалась темнота.
– Что-нибудь еще? – спросил Джеймс.
– Виски, – сказала она глухим, трезвым голосом.
– Вы уверены? – с сомнением спросил он.
– Да, виски, пожалуйста!
Он поставил перед ней стакан, налил немного и посмотрел на нее.
– Еще! – сказала она.
Он налил до половины. Она, взяла стакан, подержала перед собой и медленно выпила. За ней наблюдали. Раздались одобрительные возгласы.
– Все! – выдохнула она и грохнула пустым стаканом об стол. Затем приложила к губам салфетку и добавила: – Финита ля комедия! Я пошла…
– Я вас провожу! – вскочил Джеймс.
Дальнейшее она помнит плохо…
Разбудило ее чье-то беспокойное присутствие. Она открыла глаза и тут же увидела жениха, одетого по-дорожному. Он сидел на корточках перед открытым чемоданом, задумавшись. Морщась и держась рукой за затылок, она с трудом села. Легкое одеяло соскользнуло с нее, обнажив голую грудь. Подхватив одеяло, она прикрылась и, уже догадываясь, что происходит, спросила:
– Что ты делаешь?
– Уезжаю, как видишь, – ответил он, даже не посмотрев в ее сторону.
– Куда?
– Домой.
– А я?
– А ты остаешься. Ведь тебе здесь нравится.
– Ты соображаешь, что ты делаешь? – попыталась она быть строгой.
– А ты?
– А что, собственно, случилось? – с наигранным удивлением спросила она.
Он захлопнул чемодан, подвел молнией трескучую черту под сборами и сел на край кровати.
– Ты знаешь, – спокойно и почти доверительно поведал он, – я вдруг понял, что я не тот, кто тебе нужен и никогда им не стану. Может, кого-то такое положение устраивает – меня нет. Я тебя ни в чем не виню – ты действительно достойна лучшего. Так что устраивай свои дела, как тебе нравится, а я свои раны как-нибудь залижу. За номер уплачено. Кроме того, я оплатил непредвиденные расходы. Можешь отдыхать и ни о чем не беспокоиться. Там, на столике обратный билет и тысяча евро – этого должно хватить. Будь осторожна – здесь полно проходимцев. Особенно среди американцев. Пока!
И, не оборачиваясь, вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Некоторое время она сидела, стиснув зубы, подтянув колени и уткнувшись в них лбом, а затем тяжело встала и побрела в ванную, где погрузившись в теплую воду, восстановила пьяную мультипликацию вчерашнего вечера.
…Яркий свет заливает террасу. Все столики заняты. Ровный сдержанный шум настраивающегося, как оркестр застолья. Джеймс подставляет ей стул, она садится. Ей слегка тревожно: зачем она сюда пришла и чего хочет? Что за раздвоение личности она себе навязала? Но вот она выпивает виски, в груди ее разгорается радостный жар, и две личности сливаются в одну. Разноцветные искры живут в стаканах, на бокалах и в глазах американца. Он галантен и учтив, его жена любезна и нелюбопытна. «Все будет хорошо!» – думает она. Надо только чуть-чуть сместить фокус за пределы его лица, чтобы вместо него осталось говорящее белое пятно, и ловить повороты его безрукавного торса, игру плеч, полет мускулистых рук, приплюснутые пальцы на бокале.
«Чин-чин, Натали!»
«Чин-чин, Володя!»
Потом она перестала поспевать за его речью, потом мир закачался, и американец предложил спуститься к морю. Там было довольно темно, и вдруг крепкие Володины руки прижали ее к Володиной груди, и чужие, жесткие, жадные губы накинулись на нее. Она не сразу поняла, что это дьявол в образе Володи завладел ею, а когда поняла, то призвала на помощь бога. И бог дал ей силы, и она избавилась от дьявола!
После кофе ей стало лучше, и она решила красиво уйти – выпила полстакана виски. На этом лента ее памяти и без того изрядно стертая обрывается по причине выхода из строя всех видов записывающих устройств. Зато она хорошо помнит то, что случилось утром. Да, жених ее поступил так, как и должен был поступить оскорбленный интеллигентный мужчина.
Распустив волосы, она села в ЕГО кресло. Интересно, что он такого любопытного из него видел, что сидел в нем часами? Уставившись в голубую тающую щель, она рассеянно наблюдала, как с одной стороны в нее вплывали, а в другую уплывали воздушные белые птицы. Скоро одна такая взлетит и унесет его подальше от ее глупости…
В дверь осторожно постучали.
«Кто там еще?» – вяло удивилась она и направилась к двери. За дверью, отступив на шаг, стоял Джеймс.
– Morning, Натали! – заторопился он. – Я пришел извиниться за вчерашний вечер!
– Входите, Джеймс! – помедлив, отступила она, затягивая потуже пояс халата, под которым кроме сорочки ничего не было.
– А ваш муж?
– Он в Ницце…
Американец осторожно переступил порог, и они прошли на середину номера.
– Well, Натали, я пришел извиниться за вчерашний вечер… – начал он.
– Вам не за что извиняться, Джеймс! Это моя вина! – сухо перебила она, скрестив руки и отвернув лицо.
– Натали… – вдруг сделав к ней шаг, осторожно сжал он ее выступающие локти. – Я никогда, никогда не встречал такой красивой женщины, как вы…
Это было так дерзко, неожиданно и просто, так близко, реально и доступно, что у нее перехватило дыхание и ослабли ноги: вот оно, то преступное и вожделенное, о чем она мечтала последние два дня! Надо только закрыть глаза, повернуть к американцу лицо и податься вперед, и Володины руки подхватят ее, уложат на кровать, распустят узел халата, торопливо распахнут полы, задерут сорочку, и долгое, сладкое, с американским акцентом соло Володиной флейты, подхваченное звучным и сочным аккомпанементом ее арфы, соединит оргазм душевный с оргазмом физическим! Джеймс был совсем рядом, и его мятное дыхание достигало ее пылающей щеки. Некий возбужденный вектор силы, подталкивающий ее к мятой кровати, исходил от его рук. Противясь из последних сил, она взглянула на него, ожидая увидеть нежный, восторженный Володин взгляд, но вместо этого натолкнулась на черные похотливые угольки чужих глаз. Никогда ее Володя ТАК на нее не смотрел!
– Натали! – умоляюще произнес американец и облизнул губы.
И тут Наташа опомнилась. Рывком освободив руки, она отступила на шаг и отчеканила:
– Вы что себе позволяете, мистер Джонсон?! Я обязательно пожалуюсь мужу! Будьте добры немедленно покинуть мой номер!
Он не испугался, не поджал хвост, а словно перестав притворяться, распустил лицо в нахальной улыбке и презрительно сказал:
– Вы напрасно так волнуетесь, Натали! Вам это не идет, потому что никакая вы не леди, а самая обычная шлюха! И только мое положение не позволяет трахнуть вас прямо здесь и прямо сейчас! А вашего мужа я не боюсь: вы, русские, здесь никто!
– Что?!. – задохнулась она. – Ах ты, козел вонючий, ах ты ублюдок позорный! А ну, пошел вон отсюда! Вон, урод заморский!
Разумеется, сказано это было по-русски, и все, что он понял, это то, что она, кинувшись к телефону, собирается звонить администратору.
– Ухожу, ухожу! – поднял он руки. – Однако разрешите, дорогая мадам, оставить вам мою визитку на тот случай, если вам станет скучно с вашим мужем…
Он сунул руку в карман, и оттуда на пол порхнул белый квадратик. Не спеша повернувшись, он тем же манером удалился.
– Ах, ты, сво-олочь! – кинулась она за ним и, подхватив визитку, вышвырнула ее за дверь, после чего, задыхаясь, подбежала к кровати и, рухнув на нее, зашлась в безудержных рыданиях…
30
Что проку колотить подушку и причитать с врожденным чувством ритма «Дура, дура, безмозглая дура!», пытаясь докричаться до собственной глупости, так прочно привязавшейся к ней! Куда полезнее биться головой о стену, чтобы заглушить этим боль разочарования и жуткий стыд. Но если и это не поможет, тогда следует бежать в рецепцию и заказывать обратный билет.
Предупредительный администратор отнесся к ее просьбе со всем служебным и мужским вниманием. Правда, не упустил возможности покрасоваться в ее умоляющих глазах этаким всемогущим распорядителем судеб, растянув ответ об отсутствии билетов на сегодня (о чем он прекрасно знал) на два часа. За это время она, не находя места ни в номере, ни снаружи, извелась. Все же чемодан в расчете на лучшее собрала, и он валялся посреди номера с откинутой, как брюшная полость крышкой, выставив на обозрение разноцветные потроха.
Через два часа лукавый служитель с сожалением объявил, что на сегодня билетов нет.
– Тогда на завтра, пожалуйста! – попросила она, портя нескрываемым разочарованием обворожительную улыбку.
– Вы хотите лететь до Москвы или до Петербурга?
– Причем тут Москва?
– Ваш муж так спешил, что готов быть лететь в Москву, если не будет билетов на Петербург, – невозмутимо наябедничал служитель.
– Только в Петербург! – покраснев, сухо велела она, и положила на стойку пятьдесят евро (слишком жирно, слишком!). С почтительным видом подтянув к себе бумажку, тот сказал:
– Не беспокойтесь, мадам, я все устрою!
Она вернулась в номер и кинулась на кровать.
«Вот и все… – глядя в потолок, затачивала она, как карандаш тупую мысль, – вот и все…»
Это означало, что жених никогда и ни за что ее не простит и правильно сделает. Впору пойти на пляж и утопиться у всех на глазах! Жаль только, что аплодисментов она не услышит…
А между тем, если попытаться разобрать сочиненную ею глупость по членам и предложениям, то весь разбор сведется к поиску ответа на риторический вопрос: «Как с ней такое могло случиться, и на что она рассчитывала?»
Стоит ли говорить, что ответ на первую половину вопроса зависел от снисходительности эскулапа, пожелай она к нему обратиться. Например, тот, что гуманнее объяснил бы, назвав ее деточкой, что так безотчетно тянутся друг к другу два совершенства: красота, мол, не имеет национальности. Другой (истинный друг Гиппократа) незамедлительно отправил бы ее на основательное обследование в психиатрическую клинику – ведь прекрасная оболочка еще не есть пожизненный абонемент в святилище здравого смысла! Да и что о ней должен думать эскулап, зная, что окажись объект ее влечения приличным человеком, она, забыв живого жениха, отдалась бы ему только потому, что сочетание его мышц и костей напоминало ей давно покойного человека! Это ли не сумасшествие? Да таких, как она к койкам надо привязывать!
Вторая часть вопроса хотя и связана с первой, однако кое-какие самостоятельные соображения допускала. Например, если, скажем, она рассчитывала увлечь американца и привязать к себе (что, кстати говоря, делается совсем другими способами), то вовсе не факт, что, привязавшись, он захотел бы видеть ее своей женой. И тогда вместо размеренной семейной жизни ее ждала бы суматошная беспорядочная связь с чужим человеком, у которого на теле Володи живет голова профессора Доуэля.
Предположим, что она убедила бы его в том, что имя «Джеймс» переводится на русский, как «Володя» и довела бы до американского алтаря. Но и тогда жить вместе долго и счастливо у них не получилось бы: крепкими бывают только неравноценные браки – например, красавицы с чудовищем. А любовь красавца к красивой однолетке, окропленная летучим курортным горючим, внезапно вспыхнув, так же быстро угаснет. Уж если она в лучшие свои годы, в конце не таких уж концов, надоела Мишке…
Разумеется, она даже думать не хотела, как жила бы дальше, если бы оказалась для него только развлечением, и он, пружинисто попрыгав на ней, отскочил бы от нее на другой конец света, как мяч от стены.
Тогда почему при такой оглушительной прозрачности раскладов она, здраво и безжалостно мыслящий юрист, сорвалась с женихова поводка, словно озабоченная течкой сучка? Даже той малой дозы заключенного в вопросе недоумения было достаточно, чтобы усомниться в ее психическом здоровье!
Но куда ужасней всех умозрительных исходов была обжигающая, бесцеремонная, уродливая правда, гласящая, что будь американец силен в притворстве, она, не раздумывая, легла бы с ним в постель и, утолив первый восторг, припала затем к его лже-алтарю, чем навеки осквернила бы святую Володину щепетильность и покрыла себя несмываемым позором! Кажется, что может быть страшнее? А вот что: случись с ней такая неожиданность, и она стала бы другой – одержимой и бесстыдной, и тогда срам, позор и скверна стали бы ее моралью. Так и жила бы, гальванизируя любовь грехом и превратив самообман в руководство к действию. А когда очнулась (а она обязательно бы очнулась), вот тогда бы ее ждал кромешный ад!
Разрушительная вибрация реальных и сослагательных последствий сотрясла ее разум, отчего весь ужас ее безмозглой глупости, равной той, с какой ребенок сует пальцы в розетку, обнаружил себя. Мятный запах чужого дыхания и липкое, живое ощущение перепачканного спермой рта вдруг родили стремительный спазм, и он, волной пройдя по горлу, вытолкнул из нее вместе с языком сплющенный, ободранный звук. Не будь ее желудок в тот момент пуст, все его содержимое оказалось бы на полу. Прижав подушку к распяленному рту, она зашлась в истерике…
Долго ли, коротко ли, но опорожненная слезами, она, наконец, выбралась на обед, к которому вдруг почувствовала непреодолимое влечение. Забившись в угол главного зала, она заказала курицу, к которой ее приучил жених и торопилась с ней управиться, когда к ней вдруг подсела девица лет двадцати пяти, в которой она тут же признала соотечественницу. Девицу выдавали глаза – молодые русские глаза последней модели, которые, имея возможность избавиться от нерадивой всеядности своих родителей и украсить себя честью, достоинством и приветливостью, покопались в скудном российском сундуке, да и выбрали апломб и развязность.
– Привет! – бесцеремонно заявила о себе девица.
– Привет, – продолжая жевать, откликнулась Наташа.
– Видела, как ты вчера концерт давала… Молодец, так им и надо! – подавшись вперед и понизив голос, одобрительно улыбалась девица.
– В смысле? – нахмурилась Наташа.
– Ты здесь тоже с папиком?
– То есть?
– Бедные мы с тобой, бедные! – запричитала девица. – Приличные мужики достаются мымрам, а нам, красавицам, одни козлы!
– Слушай, подруга, дай пожрать спокойно! – бросив вилку и нож и откинувшись на спинку, громко сказала Наташа.
– Извини, извини! – прогнулась девица и ретировалась.
«Господи, да что они – сговорились? Неужели же я похожа на шлюху?» – всхлипнула она про себя, и, не доев, торопливо удалилась, не поднимая глаз. Этот подонок утром так и назвал ее – bitch. Слово чужое, безжалостное и жгучее, как след от плантаторского хлыста. Наше «шлюха» куда сердечнее и снисходительнее. Чтоб ты сдох, осквернитель святыни!
На местном пляже, где на нее теперь смотрели бы, как на брошенную bitch, делать было нечего, и она отправилась искать пляж публичный. Отыскав, она подстелила полотенце и провела там за черными очками около трех часов, морщась от липких мужских взглядов. Вернувшись в отель, она первым делом направилась к стойке, где служитель, устремив на нее покровительственный взгляд, сообщил благую весть:
– Ah! Oui! Bon! C’est fait, Madame! It’s ok with your ticket!
Испытав облегчение, она несколько успокоилась, задала времени обратный отсчет и тут же позвонила Яше Белецкому с просьбой встретить ее, что он с удовольствием и обязался сделать. Затем раненой лисой забилась в нору номера, бросилась спиной на кровать и, глядя сухими блестящими глазами в потолок, продолжила зализывать ноющее недоумение. Так она дотянула до заказанного ею в номер ужина. Обойдясь с ним более чем милосердно и лишь слегка его изранив, она села в кресло жениха (бывшего жениха?) и, рассеянно глядя на опрокинутые в бухту огни, принялась искать, чем заняться. На глаза ей попалась его книга. Она сходила за ней и, вернувшись в кресло, принялась читать с самого начала. В отличие от предыдущих попыток ей удалось сосредоточиться и, разогнавшись на интродукции, она въехала в назидательную суть истории.
Когда в финале любящий Дик пожертвовал своим будущим ради нового счастья жены, она вместо того чтобы восхититься его благородством, с досадой подумала: «Господи, какой дурак!»
«И все же ОН должен был за меня побороться! Ну, почему он уехал?» – думала она, засыпая под утро.
Во сне ей явился Володя, грустно и укоризненно смотрел на нее, пытался что-то сказать.
«Я не шлюха, Володенька, я не шлюха!» – беззвучно кричала она, напрасно пытаясь дотянуться до него.
Утром она рассматривала в зеркале припухшие веки и явственно проступившие под глазами тени, косилась на ЕГО халат и думала, что у нее сейчас, наверное, такой же одинокий и покинутый вид. Около одиннадцати она собрала вещи и подошла к балкону. Ночью и утром был дождь, но теперь свежее, претендующее на абсолютизм солнце снова воцарилось на небе, правда, под надзором бдительного парламента из нахмуренных облаков.
Внизу у стойки, куда она подошла рассчитаться, служащий вручил ей незапечатанный конверт, чья розовая батистовая невинность была оскорблена небрежной черной надписью: “To: Natalie”.
Повертев его, она открыл путь содержимому и вытряхнула на стойку белый картонный квадратик – визитку Джеймса. Взяв ее тонкими пальчиками обеих рук за край, она медленно и с наслаждением показала невозмутимому vis-avis, что происходит с наглецом, если тянуть его за уши в противоположные стороны. Показала раз, другой, затем сложила клочки обратно в конверт, написала под своим именем: “To: Jonson” и с обворожительной улыбкой протянула прилизанному посреднику:
– Пожалуйста, вручите мистеру Джонсону!
В такси она забилась в угол, и ни разу не взглянув по сторонам, прибыла в Ниццу. В аэропорту она позвонила Яше и уточнила время прибытия, а затем устроившись в зале ожидания, рассеянно наблюдала за сосредоточенным трением двух разнонаправленных потоков одинаково озабоченных людей, что исходящим от них гулом и шарканьем заглушали голоса взлетающих самолетов. В самолете она обменяла ангельскую улыбку и место в проходе на место у иллюминатора и, забившись туда, прикрылась черными очками.
Чем дальше удалялось от нее чужое лазурное счастье, тем очевидней становился тот жестокий урон, который в очередной раз понесла ее личная жизнь. Откинувшись на спинку, закрыв глаза и погрузившись в мрачные раздумья, она пыталась представить, что говорить и как вести себя с женихом, объясняться с которым так или иначе придется.
Поначалу у нее было твердое и честное желание заехать к нему прямо из аэропорта. Ей рисовалась картина явления блудной невесты, не рассчитывающей на снисхождение и всего лишь желающей вымолить если не прощение, то хотя бы надежду на него. В лучшем случае увести жениха к себе и доказать, что она по-прежнему ему верна.
Через некоторое время ей показалось, что будет достаточно, если она приедет домой, позвонит ему и попросит выслушать, не перебивая. Она расскажет ему о наваждении, противиться которому было выше ее сил, упрекнет, что он уехал, не дав ей объясниться, а между тем ее возвращение есть лучшее доказательство ее верности. Она вернулась бы и вчера, если бы были билеты.
Однако черновики ее объяснений становились чем дальше, тем короче, пока от них не осталось лишь сухое уведомление о приезде. К концу пути она, устав от оправданий, и вовсе развернула артиллерию в его сторону и произвела залп:
«А что я, собственно, такого сделала? Изменила? Нет! Тогда за что меня судить – за веселое времяпровождение? Так я для того туда и ехала! Ведь я не пряталась по чужим номерам, звала тебя с собой на катер, на пляж, на ужин! И если ты от всего отказался – это не моя вина! А то, что ты меня фактически бросил – ну, что ж, тем хуже для тебя!»
В аэропорту ее встретил Яша и удивился:
– А где Дмитрий?
– У него срочные дела… – лаконично сообщила она.
Вечером в одиннадцати часов она все же позвонила ему. Разговор, однако, вышел совсем не тот, на какой она рассчитывала. Оставляя в стороне неизбежные подпорки уточнений, пояснений и восклицаний, его можно свести к следующему:
– Привет, это я. Звоню сказать, что я вернулась, – сообщила она, не особо заботясь, в какую интонацию облечь слова. Важнее был его ответный тон. Но он невыразительно поинтересовался:
– Зачем?
Полет одинокого слова оказался слишком коротким и быстрым, чтобы разобрать, какой оно породы.
– Чтобы ты чего-нибудь не подумал…
Он молчал, и она добавила:
– Кстати, я дочитала твою книгу…
– Можешь оставить ее себе, – равнодушно отозвался он.
– Что ты хочешь этим сказать? – напряглась она, прекрасно понимая, что он хочет сказать и боясь услышать это от него.
– Я тебе уже сказал – я не тот, кто тебе нужен и никогда им не стану, – угрюмо произнес он.
– А меня ты спросить не хочешь? – задетая тем, что кто-то решает ее дела без нее, не сдержалась она.
– К чему слова, если есть глаза…
– И что они такого ужасного увидели, твои глаза?
– Лучше бы им этого не видеть…
– Да что я такого сделала, в конце концов? – вспылила она, раздраженная его колкими, как раны стриженой травы словами.
– Ничего особенного, кроме того, что увлеклась первым встречным и забыла про меня…
– Да, я виновата, но могу все объяснить!
Он, однако, в подробности вникать не захотел и вяло сказал:
– Ты ни в чем не виновата. Виноват я, что не сумел тебя удержать…
– Может, ты думаешь, что я тебе изменила?
– Может, и думаю, но это уже не имеет никакого значения…
– Почему ты бросил меня там одну?
– Я тебя не бросал, это ты меня бросила… – устало отбивался он.
– Но ты же сам говорил: «Никому тебя не отдам!» Почему же уехал, вместо того, чтобы бороться за меня? – пустила она в ход свой главный упрек.
Он помолчал, а затем сухо спросил:
– Интересно, как ты себе это представляешь?
– Это ты должен представлять, если я тебе нужна!
– Знаешь, есть хорошая пословица: насильно мил не будешь. Весь этот год я, как дурак надеялся доказать обратное, но лишь убедился, что с пословицами воевать – все равно, что плевать против ветра! – впервые за весь разговор скривился в усмешке его голос.
– Значит, ты от меня отказываешься? – с болезненным замиранием подталкивала она его к краю.
– Это ты от меня отказалась…
– Значит, между нами все кончено?
– Значит, кончено.
– Значит, все?
– Значит, все.
Еще несколько секунд она пыталась обнаружить хоть какую-то щель, чтобы проскользнуть в его пространство и остаться там, но не обнаружила и, не придумав ничего лучше, бросила трубку.
Ну что ж, этого следовало ожидать. Одно смущало: как он решился оторвать ее от себя так резко и безжалостно, словно отслуживший бинт от зажившей раны? Ведь бинту так больно!
«Вот и все, вот я и снова одна…» – всхлипнула она, чувствуя себя растерянной качалкой, приведенной в последнее движение энергичным бегством жениха.
31
В пику расхожему мнению о любви, как о некоем божьем даре стоит указать на ее подручный аспект и инструментальное назначение, на ее обманчивую обезболивающую функцию и иллюзорную наркотическую сущность. Она словно запрещенный препарат, с помощью которого легкомысленное существо противоположного пола (оставим однополые связи Страшному суду), чьи деяния в этот момент неподсудны никакому праву, проникает нам под кожу, имея единственной целью отравить и разрушить наш организм. И это – божий дар?
Не правы ли те мужчины, что смотрят на женщину, как на относительно устойчивую башню, будь она из дикого камня, кирпича, слоновой кости или хрусталя, которую надо повалить, не заботясь о тех повреждениях, что могут возникнуть при ее падении? Или, что еще практичнее, иметь дело со шлюхами, коих тоже можно представить башнями, но только Пизанскими. И стоит ли усложнять геометрию любви излишними построениями, если она так или иначе сводится к вертикальному положению, которое женщина по мере возможности пытается сохранить, и горизонтальному, в которое мужчина стремится ее привести!
Таковы были те вялые выводы, с помощью которых он пытался перелицевать стертые до крови участки души. Однако в отличие от прошлого потрясения он не укрылся в загородной берлоге, а, напротив, иногда выходил на улицу и бродил среди людей. Он даже обзавелся грустной усмешкой, считая ее порождением мудрости. Правда, мудрость его, если принюхаться, заметно отдавала виски. Безнадежные дни цвета мрачного отчаяния сменялись полосатыми ночами из бессвязных нагромождений того, с чем ему не доведется встретиться и чему не суждено сбыться.
Он хотел возбудить в себе ненависть к ней и преуспел, возненавидев американского соперника. Как и в прошлый раз, он пытался возвыситься над ней и, кривя губы, спрашивал себя: «Ради чего страдать? Ради смазливого личика и складной фигурки? Да с какой стати? Ведь они не более чем привлекательные приложения к ее лону – главному предмету мужского вожделения! Да разве она одна такая?! Ирина в этом смысле мало чем ей уступала, а ласками и вовсе превосходила эту скупердяйку, которая экономила даже на поцелуях! Шлюха, вздорная ученая шлюха!»
Однако процесс унижения, как неисправный двигатель почти сразу же глох. Призрачное лицо невесты догоняло его одинокий, застрявший среди бескрайней тоски автомобиль и заглядывало через стекло. Стараясь не глядеть на нее, он спешил заправиться спасительным горючим и возобновить похожее на бегство движение вспять – туда, где он никого не любил и был любим другими. Только ведь любовь, как загар – ее невозможно смыть за один день даже бутылкой виски.
Он никого не хотел видеть и не желал ни с кем говорить, и никакой набор культурных ценностей не мог возвысить его в этот раз до высот светлой грусти, откуда так хорошо просматривается прощение. Он пил и курил, курил и пил, изгоняя из себя прилипчивый образ коварной невесты и пугая мать запущенным молчаливым видом. В этом глухом, слепом, бесчувственном состоянии он прожил две недели, всячески противясь соблазну позвонить ей и попытаться склеить разбитую чашку, осколки которой она ему с небольшим опозданием предъявила. Склеить для того чтобы если и не пить из нее, то хотя бы угрюмым созерцанием смягчить боль утраты. И он бы так и поступил, если бы желал ее тела, а не сердца. Но ему не заставить ее себя полюбить! Ей нужен другой, и она бессознательно будет искать его всегда, пожелай она даже выйти замуж за него. Так он думал, и такой вынес приговор, который, хватаясь за телефон, каждый раз зачитывал себе, подкрепляя его мысленной иллюстрацией ее с американцем достоинств. В глазах у него темнело, рука опускалась, и он, стиснув зубы, отступал, ужасаясь тому безнадежному положению, в котором очутился…
А между тем она продолжала носить его кольцо, преследуя в числе прочих практические соображения: во-первых, не дать Феноменко повод возобновить свои приставания, ибо его связь с Лидией есть не более чем вызов ей. Во-вторых, отпугивать любителей познакомиться и, в-третьих, во избежание лишних вопросов со стороны знакомых и подруг. Да, поссорились, но не расстались – вот о чем красноречиво сияло молчаливое, одинокое кольцо. Разумеется, она могла бы поменять его на Володино. Но напуганная своей безотчетной и разрушительной верностью покойному, она теперь старалась избегать всяких намеков на него, а носить в таком случае его кольцо – все равно, что наркоману носить с собой в кармане дозу и шприц.
На следующий день она захватила врасплох удивленную Светку и попросила зайти, пообещав объясниться при встрече. Светка явилась, и она, как на духу выложила ей курортную историю их общей знакомой по имени Наташа Ростовцева, на которую смотрела теперь со стороны вместе со Светкой с жалостью и изумлением. Светка непривычно серьезно выслушала ее, обняла, и, гладя по голове, сказала с необычайным сочувствием:
– Бедная ты моя, бедная! За что же тебе такое наказание!
– Светка, мне страшно! Я думала, что ОН меня отпустил, а ОН не отпускает! – бормотала Наташа у нее на плече.
– Но ты же не изменила жениху!
– Нет, но могла! Ты понимаешь – могла, и это ужасно! Ведь я совершенно потеряла голову! – воскликнула она, всколыхнув тошнотворную, свежую память о своем позоре, не желая, между прочим, замечать, что измена, кончаясь на плахе, начинается в голове. Верна, но не безгрешна, ибо прелюбодействовала с американцем в мыслях своих – следовало ей сказать.
Светка оторвала ее от себя и, глядя ей в глаза, истово посоветовала:
– Тебе обязательно надо съездить к НЕМУ на могилу и помолиться в местной церкви!
Наташа неожиданно воодушевилась:
– Да, да, ты права, завтра же поеду!
Разговор не мог не коснуться жениха, и Светка его пожалела – мол, каково ему теперь. Наташа никак не откликнулась.
– Конечно, он обижен! – подобрала губы Светка. – Мой на его месте меня бы просто убил!
Наташа молчала, и Светка сказала:
– Выходит, ты его все-таки не любила…
Наташа не отвечала, устремив взгляд куда-то вдаль – туда, где сейчас предположительно мог находиться ее бывший рыцарь.
– Ты понимаешь, он не ругался, не кричал, сказал только, что это он виноват, что не сумел меня удержать… – пробормотала, наконец, она.
– Ну, вот видишь! – оживилась Светка. – Настоящий хомо сапиенс!
– …И почему-то вбил себе в голову, что он не тот человек, который мне нужен, и должен отойти в сторону, чтобы не мешать…
– Вот ничего себе! Как это понимать?
– Как хочешь, так и понимай!
– Может, он просто захотел свалить под шумок? Может, ты ему надоела? – простодушно предположила Светка.
– Нет, Светка, не надоела… – скривилось Наташино лицо, и она заплакала. – Господи, какая я дура! – бормотала она сквозь всхлипывания, наблюдая, как мимо ее мысленного взора с реактивной скоростью мелькают избранные эпизоды их безмятежного сожительства.
– Ну, так бери телефон и звони – так, мол, и так, приезжай, мне плохо без тебя и все такое!
– Да?! А завтра встречу человека похожего на Володю, и опять все к черту? – бубнила Наташа сквозь слезы.
– Ну, не знаю! – развела руками Светка. – Тогда поезжай на могилу, а там видно будет…
Взяв с подруги слово, что та никому ничего не расскажет, Наташа после ее ухода позвонила в Подпорожье и предупредила, что завтра приедет.
32
Нетерпеливым утром она, знакомая с дальней дорогой лишь понаслышке, прыгнула в машину и понеслась через северную золотую осень в Подпорожье искать средство от владимиромании. С небольшими остановками она за четыре часа добралась до города, где не была уже четыре года. Подкатив к дому его родителей, она вошла в сонный, пропахший обедом подъезд, поднялась на второй этаж и позвонила в обшитую пожелтевшей вагонкой дверь. Ей тут же открыла мать Володи, и две женщины, обнявшись, зашлись в слезах. Вышел его отец и принялся их успокаивать. Последовали суматошные полчаса, в течение которых мать, выкладывая новости, порывалась накормить ее.
– Нет, нет! Сначала съезжу на кладбище, а потом посидим! – отказывалась Наташа, полагая, что на встречу с покойным надо являться пыльной, усталой и голодной.
Мать предложила ее сопровождать, но Наташа попросила дать ей побыть с Володей одной, пообещав поехать туда завтра всем вместе. Мать как могла, объяснила ей приметы Володиной могилы.
– Зачем? Ведь я и так помню! – отвечала Наташа.
– Ты долго у нас не была, дочка… – мягко обронила мать.
И верно: смущенная тем, с каким усердием неутомимая смерть осваивает выделенную ей территорию, Наташа нашла дорогую могилу в самом эпицентре смертельного землетрясения, накрывшего с тех пор добрый гектар поверхности. Она со стиснутым горлом проникла за оградку и, не замечая ничего, кроме его эмалевой фотографии, подошла, опустилась на колени, коснулась ее и тут же ослепла от слез:
– Здравствуй, Володенька, здравствуй, мой хороший…
Оплакав встречу, она села на скамейку и машинально отметила образцовый порядок, в котором содержалась могила. Тихое пасмурное небо нависло над кладбищем, усугубляя ее и без того слезливое настроение. Немного посидев, она поправила платок, сосредоточилась и приготовилась к общению, всей душой желая верить, что если духи существуют, то они не толпятся над спиритическими столиками, не гоняются по свету за родственниками, не надоедают чужим людям, а в ожидании, когда их навестят, мирно парят над сосудом, который им пришлось покинуть.
Сначала неуверенно, а затем с набирающим силу жаром она принялась рассказывать чистому внимательному воздуху, поверженному по буро-зеленым углам лету и обращенной к серому небу темной мраморной плите о том, что натворила за время разлуки.
– Прости, что связалась с плохим человеком… – повинилась она и попыталась в свое оправдание привести некоторые доводы, которые в голове у нее притворялись убедительными, а покинув ее, тут же обнаруживали свое сомнительное нутро. Далее поблагодарила за сон, которым он оторвал ее от этого человека и спросила, того ли мужчину, с которым она познакомилась в парке, он ей послал, и если да, то как понимать историю, приключившуюся с ней не без его, Володи, участия. Описав, как могла свое смятение, она перешла к самой важной части визита.
С умершими можно разговаривать, зарываясь лицом в их одежду, трогая их вещи или глядя на их фотографии; получив знамение их оккультного интереса или просто прогуливаясь с ними в парке под шорох серафимовых крыльев. Можно сказать, что само обращение к мертвым есть признание существования мира более могущественного, чем наш. Признавала ли она этот мир? Скорее нет, чем да, и если обращалась иногда к небесам, то лишь следуя, как и большинство смертных, запасливой предусмотрительности, именуемой суеверием. И если она решилась просить Володю оставить ее в покое, то только потому, что другого средства вылечиться не видела.
А между тем старинный дельный рецепт гласит, что поврежденный неистовой любовью лобный участок мозга замечательно лечится новой неистовой любовью. Но надо быть циничным и неотпетым атеистом, чтобы не думать при жизни о загробном пристанище, следовать старинным дельным рецептам, не рассчитывать на помощь мертвых и, некрасиво разлагаясь в соответствии с законами химии, подтверждать свою скучную правоту усмешкой голого черепа.
Обычное дело просить бога, богородицу, апостолов или святых, но попробуйте со всей серьезностью обратиться к душе дорогого вам человека без того, чтобы у вас по телу не побежали мурашки! Было вовсе не жарко, но она, сотрясаемая волнением, уже вспотела.
– Володенька, хороший мой, прошу тебя, отпусти меня, дай мне жить дальше, ведь он любит меня не меньше, чем ты… – уставившись глазами на могилу, умоляюще забормотала она, краснея и чувствуя себя скорее глупо, чем истово. Она что, всерьез верит, что он здесь и слышит ее? Она – современная, деловая, успешная, расчетливая и, если надо, циничная женщина, краса и гордость узкой питерской юридической общественности?
– Зачем ты послал мне сон, зачем разрешил любить? – бормотала она, ощущая, как с висков на щеки тронулись капли пота.
– Все равно как тебя я никого уже не полюблю… – торопилась она, ежась взмокшей спиной.
– Отпусти меня, Володенька, отпусти, если любишь… – не громче ветра прошептала она и, сорвав с головы платок, принялась им обмахиваться…
Там же, на кладбище она зашла в небольшую, не выше высоких сосен малолюдную церковь, где поставила свечку за упокой Володиной души.
Застыв возле кануна, она печально смотрела, как одиноко и тихо тает ее свеча, когда вдруг заметила батюшку, плечистым сутулым вороном направлявшегося к алтарю. Подхваченная неожиданным порывом, она устремилась к нему наперерез и предстала перед ним во всей своей грешной страдающей красе.
– Могу я спросить вас, батюшка? – обратилась она ангельским голосом.
– Спрашивай, дочь моя, – клубясь седеющей бородой, прогудел тот.
– У меня шесть лет назад погиб жених, которого я очень любила. Из-за этого я теперь не могу полюбить другого человека, который любит меня. Мне кажется, что мой покойный жених не хочет меня к нему отпускать. Что мне делать, батюшка?
– Не возводи напраслину на мертвых, дочь моя, – сверкая круглыми очками, загудел поп, – они уже предстали перед судом божьим и души их теперь пребывают в царствии небесном. Жених твой не может тебе мешать – ты сама себе мешаешь. Любовь человеческая – дело богоугодное, а сохнуть по усопшему – грех. Послушайся сердца и полюби…
– Тогда благословите меня, батюшка, на любовь! – воодушевленная, жарко произнесла она.
– Во имя отца, сына и святого духа… Аминь! – перекрестив, сунул ей руку поп.
– Спасибо, батюшка! – неловко припала она к пухлой руке.
Вечером к ним с трехлетним малышом на руках прибежала Вера. Отливаясь молочной материнской полнотой, она воскликнула, обнимая Наташу:
– А ты все такая же красавица!
Часов в восемь позвонила Мария и захотела знать, почему, придя кормить кошку, она обнаружила в квартире следы пребывания ее хозяйки. Наташа почти весело пояснила, что она немножко поссорилась с женихом, но что это дело временное и что завтра она будет дома.
Ночь она провела в их с Володей кровати и, засыпая, долго ворочалась и вздыхала. К счастью, призрак, всю ночь просидевший у ее изголовья, за все время ни разу ее не коснулся.
Наутро в первой половине дня они все вместе посетили могилу, и перед уходом она, глядя на Володину фотографию, произнесла про себя:
«Прощай, Володенька, и прости – больше я к тебе не приду: мне нужно жить дальше…»
Распрощавшись с его родителями теперь уже, кажется, навсегда, она тронулась в обратный путь – через изумрудные карельские холмы, сквозь густо-зеленую в желтых мазках природу, похожую на черноволосую матрону с первыми признаками седины. Весь путь воодушевление не покидало ее.
«Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо!» – твердила она, собираясь позвонить жениху, что называется, с порога. Он услышит в ее голосе искреннюю искупительную дрожь и все поймет. Он обязательно все поймет и простит, мерещилось ей. Ах, каким прекрасным, каким бурным будет их воссоединение, думалось ей. «Прости меня, Димочка!» – скажет она. «Прости меня, Наташенька!» – ответит он, и очистительная, светлая влага покаяния прольется из их глаз.
В город вернулись отдохнувшие ветра. Они с воодушевлением носились по улицам, толкались на площадях и скверах, дружески трепали высокие липы и тополя, проверяли чердаки и крыши, громко хлопали дверьми, находя перемены, взвывали «Вау!» Когда она добралась, наконец, до дома и взялась за телефон, вся ее решимость внезапно испарилась. Что нового скажет она, кроме того, что уже сказала? Что нового скажет он, кроме того, что уже сказал? Наутро она и вовсе подумала:
«Если бы все было так просто – побывала на могиле и вылечилась!»
Батюшка прав – все дело в ней самой, и ей решать, кого любить, а кого нет. А любить она, к счастью ли, к сожалению ли, может только мужчин определенного типа, и жених ее ни с какой стороны под этот тип не подходит. Вернее, его любви, нежности и заботы недостаточно, чтобы занять место в ее сердце. Ее вредному, разборчивому сердцу нужны не только дары, но еще отмычка в виде внешнего образа. И получается, что все ее попытки полюбить жениха – не что иное, как насилие над собой, а значит, жених прав, когда твердит, что он не тот, кто ей нужен.
Выходит, чтобы оплодотворить тезис счастливой практикой, чтобы любить и быть любимой ей не хватает самой малости – второго Володи! Предположим, она отнесется к этому серьезно и предпримет хорошо оплаченные поиски человека, похожего на него (даже странно, как она не подумала об этом раньше!). Но даже если она поднимет на ноги все брачные конторы мира и найдет его физическую копию, это будет человек заданной потребительской ценности – этакий польщенный ее поклонением идол, о ноги которого она, закрыв глаза, станет тереться, как кошка. Только вот чем он будет ее кормить?
Можно предположить, что при самом удачном стечении обстоятельств и с помощью изнемогающего воображения она какое-то время будет счастлива, но потом неизбежные несовпадения эрзаца с эталоном заставят ее морщить нос, а там недалеко и до разочарования, как это случилось с ней несколько дней назад. Невообразимые перипетии, которые ждут ее на этом пути, могли бы стать сюжетом дамского романа, где, как известно, все возможно и все хорошо кончается, но не маяком для ее тридцатипятилетней бездетной яхты. Уж если она не сподобилась сделать этого раньше, то теперь, когда ей нужно торопиться, и вовсе поздно. Не практичнее ли иметь рядом с собой того, кто любит ее так же, как Володя и в этом смысле является его двойником? Такого, как ее жених, например? Безусловно, после Володи он – лучший.
Почему-то она была уверена, что вернуть его не составит труда, что он ее по-прежнему любит, и что стоит ей как следует покаяться, он обязательно вернется. Наташе казалось, что теперь, разоблачив свою ахиллесову пяту, ей будет легко избегать коварных приемов, способных оторвать ее от земли. Тогда что мешает ей позвонить первой? Не спеша искать его великодушия, она говорила себе:
«Да, я виновата. Но он тоже виноват – нельзя быть безвольной игрушкой обстоятельств и отказываться от любимой женщины из-за сомнительного прекраснодушия. Тоже мне, князь Мышкин нашелся!»
Иными словами, ее загробная психотерапия ничего не добавила к недостающей массе темной материи ее любви, а лишь еще более искривила то порочное пространство, в котором она находилась и вырваться из которого так желала. В таком состоянии она появилась в понедельник на работе и зажила давно забытой беспризорной жизнью.
А между тем со всех сторон возбуждался интерес к ее новому положению. Сначала Ирина Львовна простодушно удивилась, почему Дмитрий Константинович давно у них не появляется. Под молчаливыми взглядами Марии и Дины, знакомыми с делом в общих чертах, ей пришлось сослаться на его занятость. Затем Юлька с Московского проспекта, которую Наташа в качестве доброго гения их знакомства еще весной представила жениху, раскусила ее, заметив, что подруга снова села за руль «Туарега».
– А где жених? Почему перестал заезжать за тобой? – невинно спросила она.
Наташины объяснения были всего лишь правдоподобны, а ушлую Юльку не проведешь, и вот уже Феноменко, зазвав ее в кабинет, поинтересовался:
– Что у тебя с женихом? Неужели расстались?
– Не расстались, а поссорились! Чувствуешь разницу? – раздраженно отозвалась она.
– Извини, мне жаль, что у тебя опять проблемы… – покладисто отступил он. Ее раздражение сказало ему больше, чем слова.
– У меня нет проблем! – сказала она с расстановкой. – А тебе, я вижу, поездка в Париж очень понравилась!
Появившись в бюро, она тут же заметила изменения в поведении Лидии: из Парижа та привезла прогрессирующее нахальство и потрескивающее самодовольное излучение, которое теперь словно накипь покрывало ее ауру.
– Ты же знаешь – в Париже мне хорошо только с тобой, – сухо ответил он.
33
Через две недели первая боль утихла и наступила фаза ортодоксального замешательства – это когда светлые чувства, опамятовшись, торопятся освободить душевное пространство от залежей критического мусора, чтобы воздвигнуть на их месте памятник неистовой вере, раздирающей пасть сомнениям. Три соломинки – ее незамедлительное возвращение, смиренный, пропитанный виной, как вишневым сиропом тон и невозвращенное кольцо теперь воодушевляли его, подталкивая к поиску аварийного выхода из тупика добровольного отречения. Без сомнения, их нынешняя размолвка была куда отчаянней январской, и если в прошлый раз, исчерпав негодование, он с легким сердцем взял курс на примирение, то в этот раз все было слишком серьезно. Он восстанавливал ход окаянных событий, сопоставлял ее слова, интонации, прислушивался к ее молчанию и находил на всем явные следы растерянности и недоговоренности.
«У нас нет доказательств ее вины» – говорил адвокат и взывал к снисхождению.
«Какая нам разница, по какой причине она увлеклась другим!» – пожимал плечами прокурор и требовал ее высылки за пределы памяти.
Между тем он был доволен, как себя вел и какую позицию занял: уходя, не хлопнул дверью, а оставил ее слегка приоткрытой. От нее теперь зависит, захочет ли она проскользнуть в эту щель, если он снова ей понадобится.
Что же касается ее, то после двух недель взаимного молчания она уже не была так уверена в том, что вернуть его не составит труда, стоит ей лишь как следует покаяться. Больше того, возникли первые признаки беспокойства – разлад зашел слишком далеко. У всякой ссоры есть пора, когда благородное возмущение сторон сбраживает подгнившие плоды взаимного недовольства, чтобы насладиться затем молодым, пьянящим вином примирения и отметить им обновление чувств. Но если в процесс вовремя не вмешаться, вино скиснет, а с ним и отношения. Весь вопрос в том, кто из двух виноделов должен об этом позаботиться первым.
Если он и вправду считает себя не тем, кто ей нужен, то это ей надлежит убеждать его в обратном. С другой стороны, если влюбленный в нее мужчина не ищет с ней встреч, значит, он прекрасно может без нее обойтись. Тогда зачем он ей нужен?
Так по истечении двух недель после разрыва представляли они себе ситуацию и не желая прояснять чужие намерения, заняли, подобно неприятелям, позиции и затаились. К этому времени воздух вокруг них сгустился до такой степени беременности, что казалось, вот-вот родит трель телефонного звонка. Во всяком случае, в его снах он уже звучал.
Еще через неделю он решился на красивый и отчаянный жест: придя в обеденное время к подъезду офиса, стал ждать ее, чтобы объясниться глаза в глаза. Он не знал, здесь ли она – то есть, целиком положился на судьбу, придыхательное отношение к которой в такие моменты обостряется с особой силой. Но судьба, как известно, не любит игру в поддавки, и вместо невесты из подъезда появился прилично одетый человек с портфелем, в котором он сразу узнал ее шефа. Тот в свою очередь, скользнув по нему равнодушным взглядом и уже сделав пару шагов в сторону Кузнецовской, где, как и Наташа прятал свое авто, вдруг замер и обернулся. Несколько секунд оба оставались неподвижными, а затем шеф двинулся к нему, на ходу раздвигая улыбку. Последовали взаимные приветствия, давшие Феноменко повод заботливо заметить, что его собеседник заметно похудел, на что жених откликнулся в том смысле, что это как раз то, к чему он стремится.
– Что вы тут делаете? – дал, наконец, волю любопытству Феноменко.
– Да вот решил встретить Наташу! – беспечно отвечал жених.
– А у нас ее нет! – с легким удивлением посмотрел на него Феноменко. – Вы с ней что, не договаривались?
– Нет, – смутился жених, – решил сделать сюрприз!
Будучи прекрасно осведомлен своей лазутчицей Юлькой о затянувшейся ссоре, Феноменко гениальным чутьем своим мгновенно оценил ситуацию, взял жениха под локоть и сказал:
– Не желаете прогуляться?
И, не дожидаясь ответа, увлек податливого жениха с его поста.
– Раз уж я вас встретил, то давайте поговорим как мужчина с мужчиной… – заговорил он.
– О чем? – осторожно удивился жених.
– О Наташе…
– Интересно… – пробормотал жених.
– Возможно, вы не знаете, но я познакомился с Наташей в трудное для нее время и поддержал ее. Неудобно говорить, но я очень много для нее сделал…
Жених молчал. Феноменко продолжил:
– Не знаю, рассказывала она вам или нет, но до того, как встретить вас, она три года была со мной…
«Вот оно что! Да как же я раньше не догадался!» – озарила его тошная догадка и недостающим штрихом завершила картину ее прошлой жизни.
– Нам было хорошо вместе, и теперь, все взвесив, мы решили возобновить отношения. В ближайшее время я развожусь, и мы сразу же поженимся…
Про женитьбу Феноменко сказал убедительно и со вкусом.
– Я понимаю, вам неприятно это слышать… – сочувственно произнес он, останавливаясь и заглядывая молчаливому жениху в лицо.
– Ну, почему же! Я всегда желал Наташе только добра! – очнулся жених, вскинув на него потемневший взгляд. Затем, сглотнув ком и криво улыбнувшись, продолжил: – Я вас, конечно, поздравляю, только имейте в виду, что вы тоже не тот, кто ей нужен…
И круто развернувшись, скорым шагом покинул ее нового старого любовника, даже не задав себе вопрос: почему она бросила шефа, если им вместе было так хорошо?
Придя домой, он расчетливо и быстро напился. Проспав четыре часа, он, покачиваясь, вышел на кухню и полез за бутылкой. Вера Васильевна, за три недели так и не добившаяся от него вразумительного объяснения, поняла лишь одно: если одну беду помножить на другую, то получится беда в квадрате.
– Ты можешь объяснить, что происходит? – взмолилась она, торопясь, пока сын был еще способен вязать слова.
– Все в порядке, мать, – неожиданно трезво и угрюмо ответил он, – теперь все в порядке. Теперь заживем…
А через два дня из Кузнецка пришло сообщение, что умерла бабушка, мать его отца.
…С поспешной бесшумностью из Питера в Москву, а там с Казанского в измотанном, издерганном вагоне, в компании с мрачным недоумением, не отрываясь от окна, с густым стократным стаккато через города и веси, для того только, кажется, и созданные, чтобы запущенным видом бодрить пассажирскую неприкаянность – в места, где был когда-то молод и счастлив.
Последний раз он с отцом приезжал туда одиннадцать лет назад на похороны деда. Теперь вот едет один, чтобы закрыть последнюю страницу кузнецкой саги. После смерти деда не бывал там ни разу, старушке звонил редко. В нечастых письмах своих деликатнейшая бабушка не забывала упоминать про Галку: вчера встретились на улице, интересовалась здоровьем, передавала привет, выглядит хорошо, Санька пьет, дочка учится, мать ее, Катя, слава богу, здорова, и так далее. Провинциальная душа бабули новостями этими словно розовым стеклышком заслоняла его вину от совести. Только поздно теперь виниться – от вины, как от вина за двадцать лет разлуки остается одна философия. Вот и ему воздано, и ему теперь отказано от двора его черной королевой, как он отказывал другим, и рана его посвежее будет.
Он прибыл вечером накануне похорон и сразу навестил ближайших соседей. Это они сообщили ему скоропостижную весть. Выяснив подробности, он вернулся, растопил печь и тихо провел время в опустевшем доме, до трех часов ночи выталкивая из памяти былые видения, уснувшие голоса.
Наутро последовали горестные хлопоты. Собралась вся улица. К нему подходили, здоровались, соболезновали. Санька обнял его, прижал к тельняшке и утер красные опухшие глаза. Были еще трое из их компании – растолстевшие мужики с суровыми лицами и такими же женами за спиной. От компании жен, словно елочка отделилась Галка, подошла к нему и уткнулась в его кожаную грудь. Он взял ее за плечи, она подняла к нему лицо с покрасневшим носиком и поцеловала в щеку. В незабываемых, неунывающих когда-то глазах ее дрожали слезы.
Встречаясь с теми, кого давно не видел, убеждаешься, что время есть и оно против нас.
В полутемном морге спала в красной лодке бабушка – чужая, нездешняя, уже готовая плыть к мужу, чтобы затонуть рядом с ним. Он едва сдержал слезы, подошел и застыл перед ней, почти со страхом вглядываясь в малознакомые бескровные черты. На лице ее, руках и белом покрывале зеленела неоновая плесень мертвецкой.
Поехали в церковь, оттуда на кладбище, а там, топча виновато поникшую траву, к деду. Тот уже потеснился, и рядом с ним золотился свежий кубометр набухшего песка. Было тихо и ясно, и бабушка перед тем, как погрузиться в вечную тьму, навсегда прощалась с божьим светом и теми голубыми миллиметрами ртутного столба, что предстояло поменять на полтора метра сырого тяжелого песка. Когда он склонился к ней, в глаза ему бросился малюсенький кусочек грима, который тщетой земных ухищрений прилепился к крылышку носа. И тут он не выдержал, всхлипнул и непослушными пальцами полез за платком.
Пока хоронили – устали. На поминки вернулись грустные и негромкие, но постепенно отошли, разговорились, а Санька, быстро опьянев, даже попробовал запеть «Прощайте, скалистые горы». На него зашикали, и он отступил. Тетя Катя смотрела на зятя молча и грустно. Так же, впрочем, как и на внука покойной. Он столкнулся с ней взглядом и отвел глаза, но там, куда отвел, встретил такой же – все женщины смотрели на него молча и грустно.
Ближе к концу поминок все оживились, заулыбались, развели далекие от повестки дня разговоры. Галка сидела почти напротив него, и он впервые за весь день смог ее как следует рассмотреть.
Если считать, что разрушение женского лица начинается с глаз, а мужского – с печени, то оно, безусловно, ее коснулось. Отчетливые тенистые впадины образовались там, куда он любил когда-то прикладываться губами, ощущая, как трепещут под ними пугливые стрекозы ресниц. Лицо ее, не знавшее, к счастью, того ухода, которым конкуренция большого города заставляет женскую кожу задыхаться под боевым гримом, по-прежнему цвело, хранимое пружинистой триадой – солнцем, воздухом и водой. Правда, кожа была уже не так тонка, но на вид еще упруга, хотя складки у носа и рта, ранее появлявшиеся только в сопровождении улыбки, обосновались там на постоянное место жительства, да чуть морщинился лоб. Свои по-прежнему густые русые волосы она зачесывала назад и схватывала на затылке заколкой. Так же делала и ОНА, но у Галки выходило проще, будничнее. Она пополнела, но не настолько, чтобы потерять стройность. И, конечно, всё тем же невольным вызовом выпирала из-под кофты грудь. Никакого сомнения – она намеренно заняла место напротив, чтобы видеть его. Взор ее расчетливо скользил по его окружению, задерживался на секунду на его лице и уплывал дальше. Когда им случалось сталкиваться взглядами, глаза ее вспыхивали осторожной улыбкой.
Было около восьми, когда решили расходиться. В прихожей все по очереди долго с ним прощались, говорили, какой он молодец, что приехал, и как бабушка его любила, просили не забывать их и приезжать чаще, после чего неловким поворотом подставляли ему спину и удалялись.
– Ты надолго? – улучив момент, спросила Галка.
– Как получится, – отвечал он.
– Мы поможем тебе убрать. Только мужиков домой сведем…
34
Оставшись один, он принялся убирать со стола. Минут через двадцать на крыльцо взобрались легкие шаги. «Можно?» – ржавым голосом спросила сама себя уличная дверь и сама же себе ответила: «Можно…» Входная дверь распахнулась, и появилась Галка.
– Вот и я! – объявила она, глядя на него тревожно и радостно. – Дверь я закрыла на засов.
– А как же остальные?
– Сами управимся! – улыбнулась она, и он склонился над ней, освобождая от мягкой, фасонистой по местным меркам куртки.
Она поправила волосы, одернула серый свитер, который ей так шел, и они не без смущения принялись наводить порядок. Порхая по дому, она сообщила, что дочка Анжелка учится в пединституте в Пензе, как когда-то Тамара, что мать еще хоть куда, что у нее самой неплохая работа на швейной фабрике и что Санька тоже при делах, и хотя попивает, денег им вполне хватает. Он сопровождал ее рассказ безликими восклицаниями, украдкой наблюдая за проворными движениями, за изгибами и поворотами ее тела, обтянутого свитером и черной юбкой, и удовлетворенно замечая, как сквозь новый зрелый облик вовсю заиграли ее прежние черты. Когда закончили, он предложил ей чай. Она отказалась и сказала:
– Давай лучше посидим.
Он включил телевизор, и они уселись на диване напротив. Она поежилась, как от холода и попросила:
– Расскажи о себе. Я слышала, ты не женат? Почему?
Он собрал мысли и стал рассказывать какую-то путаную возвышенную историю надежд и разочарований, которую обязательно отыщет в себе всякий, не решаясь признаться в проигрыше. Она слушала, подперев грудь скрещенными руками, закинув ногу на ногу и глядя перед собой.
– Знаешь, о чем я жалею? – вдруг прервала она его, повернув к нему лицо. – Что не затащила тебя прошлый раз в постель. Очень жалею. Был бы у меня теперь от тебя ребеночек. Только очень зла я на тебя тогда была, очень. А как ты думаешь? Тоже мне – явился, не запылился! Столько лет ни слуху, ни духу! Очень злая была, очень… А теперь уже нет…
– Ты извини, меня, Галка… – покаянным голосом тихо произнес он, впервые, пожалуй, прикоснувшись к тому высокому оскорбленному чувству, каким, не в силах мстить, становится отвергнутая женская любовь. Он разомкнул ее руки, взял ту, что ближе и, склонившись, приложил к губам:
– Прости, Галчонок, прости…
Она другой рукой принялась гладить его голову – как когда-то.
– Куда же делись твои волосы, Димочка? – тихо и грустно говорила она. – Никак, на чужих подушках растерял?
– Выходит, так… – ответил он, не поднимая головы и не выпуская ее руку.
Мягкая рука пахла земляничным мылом.
– Какой ты большой стал… – сказала она, оглаживая его широкую спину. И неожиданно добавила: – Поцелуй меня!
Он поднял голову и вопросительно посмотрел на нее:
– Как – поцеловать? А… как же Санька?
– Спит твой Санька. Напился и спит.
– Но я не могу, это нехорошо…
– Что нехорошо? Пить?
– Ты понимаешь, о чем я…
– Понимаю. А никто и не узнает. А я… а что я? Я как была твоя, так и осталась!
Она ясно и просто смотрела на него через двадцать лет разлуки с твердой решимостью заполучить его тело, великодушно не замечая его случайных попутчиц, что отщипывали от ее заколдованного счастья сияющие кусочки, превращавшиеся, в конце концов, в их руках в кусочки тыквы.
Ну, а он? А что он? Он брошен, он отвергнут без надежды, что его снова призовут, он тоже нуждается в утешении. Теперь в ЕЕ доме хозяйничает другой, и как всякий победитель, спешит переименовать священные для него места – прихожую имени первого поцелуя, спальную первой добрачной ночи, диван вдохновений, кухню имени полезной и здоровой пищи, гостиную торжественного обручения. Победитель будет носить его халат и накрываться его одеялом. Какая незатейливая пошлость – спать со своим шефом! Шлюха, неразборчивая, бесчувственная шлюха…
– Но если мы начнем целоваться, то… я не смогу удержаться, а у меня… у нас… нет резинки… – заслонился он последним доводом.
– Теперь можно, я уже старая, – спокойно и просто сказала она. – Целуй. Не забыл еще, как я тебя учила?
Он нерешительно и осторожно подался вперед и коснулся ее горячих сухих губ, намереваясь нежной игрой обратить ее желание вспять, но тут всё переменилось, и она, обхватив руками его затылок, впилась в его рот жадным беспорядочным поцелуем, как он в нее первый раз. Не отрывая губ, она стала опрокидываться навзничь, увлекая его за собой. Зараженный ее жадностью, он навалился на нее и, ощущая под губами сухую горячую кожу, принялся покрывать ее лицо поцелуями подобно тому, как она наносила бы на него мягкой пуховкой пудру. Она просунула руки у него под животом, нащупала ремень и попыталась расстегнуть. Он отпрянул и сам задергал ремень, а за ним брюки. Она тем временем, лежа на спине, изогнулась, задрала юбку и, извиваясь и выворачивая ноги, принялась сдирать с себя колготки. Расправившись с одеждой, он помог ей и очутился на коленях между ее распавшихся ног.
Она лежала, отвернув бледное в красных пятнах лицо, закрыв глаза, закинув за голову руки и без стеснения подставив электрическому свету сдобную молочную наготу. Тогда он медленно склонился и заскользил губами от колена вниз по нежнейшему подрагивающему млечному пути, пока не добрался до ее животворящего источника и не припал к нему. Она замерла, и до него донесся тихий удивленный стон, а затем послышались звуки срывающегося царапанья, отдающего в ее оазис упругими усилиями живота. Постепенно сильнейшее волнение охватило ее бедра, ей стоило большого труда удержать их на месте. Сжав ладонями его голову, она судорожно отдергивала то, откуда небывалое возбуждение расходилось по телу, и тут же подставляла снова, мешая сдавленный стон с невнятным лепетом. Наконец она не выдержала и потянула его к себе, и он, задержав дыхание, погрузился в нее теперь уже не как начинающий водолаз, а как обнаженный искатель жемчуга. Погрузился и поплыл, омываемый теплыми скользкими струями. Он нашел на дне перламутровой раковины и извлек одну за другой две жемчужины и, аккуратно удерживая их крепкими руками, разглядывал со всех сторон, любуясь и наслаждаясь их игрой. Затем нашел еще одну, самую крупную, и она вдруг набухла и, вспыхнув миллионом огней, ослепила его…
Они лежали, обнявшись, укрытые по пояс одеялом, и он целовал ее голову у себя на груди.
– Тебя дома, наверное, ждут…
– Санька будет спать до утра, а мать и так все знает, – пробормотала она. – Подожди, Димочка, не гони меня, я сама скоро уйду…
– Галчонок мой хороший, я тебя не гоню, я просто беспокоюсь за тебя!
– Не надо за меня беспокоиться, я сама за себя побеспокоюсь…
И, помолчав, добавила:
– Я этого момента, можно сказать, двадцать лет ждала…
И снова помолчав, пробормотала:
– Как хорошо…
Что ж, он согласился бы, если бы не отчетливо проступившее пятно на совести от свершившейся кражи – как теперь он будет смотреть Саньке в глаза?
Время проникало в дом и, ступая на цыпочках, неслышно обходило их стороной, не забывая дотрагиваться до маленького круглого будильника на комоде. Он повернул голову и посмотрел:
– Галчонок, уже пол одиннадцатого…
– Да что уж теперь… Теперь уж все равно увидят… – с притворной покорностью отмахнулась она.
– И… что же будет? – напрягся он.
– Что будет, что будет… Стыд и позор будет на всю деревню! Да не волнуйся ты так! Скажу, что сначала помогла убрать, потом вещи разбирали, потом ты меня чаем поил, сладким тортом угощал (в этом месте она прыснула), про Петербург свой рассказывал, про заграницы всякие… У нас так – если бы я ночью от тебя ушла, значит, переспала. А если до двенадцати – это нормально. Так что время у нас еще есть. А про Саньку не беспокойся – будет спать до утра. А утром будет прощенье просить и спрашивать, что вчера было. Вот такой у тебя друг…
Он прикоснулся губами к ее волосам и задержался там.
– Хочу тебя… – сказал он, чувствуя новый прилив сил.
– Подожди, я сейчас…
Она выбралась из-под одеяла и скрылась за дверью. Немного погодя он услышал приглушенный плеск воды. Вернувшись, она вышла, нагая, на середину комнаты и повернулась к нему.
– Ну, как тебе старушка? – спросила она без малейшего стеснения.
Аппетитная статуэтка стояла перед ним, сверкая легкой здоровой полнотой и устремив к нему жертвенно-языческие бедра, живот, грудь. Забросив руки на затылок, она вытащила заколку и тряхнула головой – волосы сухим электричеством рассыпались по плечам и груди. Она опустила руки, отвела назад плечи и, вздернув грудь, глядела на него с девчоночьей дерзостью, словно бросая вызов своим бывшим и будущим соперницам.
– Ты хочешь, чтобы я ослеп? – откинул он одеяло.
Она скользнула к нему и прильнула:
– Любимый мой Димочка!
Так ласкаются в небе облака, так тает в горячем воздухе солнечный крем, так изгибаются во влажной истоме радостные радуги…
Он лежал на спине, и она прижималась и обнимала его так тесно, так крепко, словно не желала возвращать миру.
– У тебя кто-нибудь есть? – вдруг спросила она его в плечо.
– Уже нет… Только ты… – поцеловал он ее в русый пробор.
– А у меня всегда был только ты…
Последовало молчание, в конце которого он ощутил влагу на своем плече.
– Не плачь, – попросил он, целуя ее душистые волосы и гладя налитую сладким соком спину, до которой ему, пятнадцатилетнему, когда-то мучительно хотелось дотронуться.
– Это я от счастья… – пробормотала она, шмыгая носиком.
Пришло время расставаться, и он проводил ее до калитки. Укрывшись от любопытного фонаря в тени пожелтевшей старой яблони, они припали друг к другу, и она никак не хотела отпускать его губы.
Вернувшись, он долго не мог заснуть. Вспоминал былые дни, проведенные здесь среди друзей, одного из которых только что предал, их взрослеющие забавы, свое мужание в постели первой возлюбленной и легкомысленное обещание на ней жениться. С радостным удивлением, приправленным легким испугом подумал о ее искреннем негаснущем чувстве, которое он ни с какой стороны не заслужил. Вернулся к ее свежим неистовым полногрудым ласкам, так непохожим на скупой регламент его бывшей невесты, не требующий покрывать его тело жадными поцелуями. Тут же подумал о том, как ему не повезло: он полюбил расчетливую стерву в обличье ангела. И вдруг ясно и с крепнущей радостью осознал, что вот только что резко и безжалостно оторвал ЕЕ от себя, как, отслуживший бинт от засохшей раны, и ему ни капли не больно! Он больше не раб, он свободен, черт побери! Слышишь ты, лживая черная королева – он свободен!
И еще он решил сегодня же уехать, пока Галка совсем не сошла с ума и не разрушила свою семейную жизнь…
Вопреки ожиданиям она отнеслась к его сообщению спокойно и только спросила:
– Мы еще увидимся… в этой жизни?
– Конечно! – убежденно ответил он, стараясь не замечать ее грустной улыбки. – Ты выберешь время, приедешь в Питер и поживешь у меня, а там посмотрим…
Снабдив ее номером своего телефона и велев звонить в любое время дня и ночи, он вечерним поездом отбыл в Москву.
35
Чем дальше заходило дело, тем неуютней она себя чувствовала, медленно и верно погружаясь в растерянное ватное одиночество. Ее словно лишили привычной удобной опоры – мягкой, обтекаемой и услужливой. Днем она топила скользкие камни обиды приливами деловой активности, но вечером в пустой квартире дневная суета отступала, обнажая дно ее неприкаянности и заставляя негодовать по поводу того, что невозможно разом проглотить преподнесенную ей судьбой гадкую пилюлю, отчего приходится делить ее на мелкие части.
– Ну как? – каждый вечер интересовалась Светка.
– Ничего… – отвечала она.
– Ну, надо же! – огорчалась подруга.
«Неужели он, в самом деле, бросил меня? А как бы на его месте поступила я? Конечно, простила бы! Тем более что я ни в чем не виновата…» – думала она, печально наблюдая, как безрадостные волны дней все дальше уносят от нее обломки надежды.
Не забыла она и про своего заплечного оракула и в один из вечеров обратилась к нему с тем же вопросительным замиранием, с каким другие в минуты смятения отправляются к гадалке. В этот раз многоликая маска отбросила покладистую услужливость и взирала на нее с тем издевательским назиданием, с каким торжествующий хозяин смотрит на беглую рабыню. В чертах ее проступило нечто неоновое, безжизненное, зловещее. Это было так неожиданно и нечестно, что она отбросила фотографию, словно жгучую медузу.
Девятого октября очередная, похожая на укоризненный вздох волна – одна из тех, что расходились от увесистого булыжника ее глупости, взметнула ее одинокое суденышко. Утром, почти перед самым уходом в ее квартире раздался звонок телефона, и бодрый голос прожевал ей на ухо:
– Хай, Натали, это Джеймс!
– Кто, кто? – едва не выронила она трубку от изумления.
– Джонсон. Джеймс. Рад вас слышать! Я сейчас в Москве, и как видите, сразу же звоню вам! – самодовольно сообщила трубка.
– Как вы нашли меня? – спросила она первое, что пришло ей в голову.
– О, это было нетрудно…
– И что вам нужно? – передумав бросать трубку, спросила она.
– Во-первых, я хочу извиниться за свое поведение…
– А во-вторых?
– Я хотел бы с вами встретиться. Если нужно, я могу приехать в Санкт-Петербург…
– Для чего? – терпела Наташа.
– Well, вы же, оказывается, не замужем… Ну, мы могли бы с вами приятно провести время, вспомнить Антиб…
– Где вы сейчас? – спросила Наташа, следуя внезапно возникшему плану.
– В Москве, в гостинице Мариотт на Тверской…
– Скажите номер вашего мобильного, я перезвоню через полчаса…
Американец с энтузиазмом продиктовал, и она разъединилась, после чего сразу же позвонила Сереге Агафонову. После краткого дружеского вступления она перешла к делу.
– Посоветоваться хочу! Вот, послушай! – начала Наташа и дальше кругло и складно изложила историю о том, как недавно на Лазурном берегу они с женихом познакомились с одним американцем, и как тот, воспользовавшись отсутствием уехавшего на один день по делам жениха, пытался ее домогаться. Она, естественно, дала ему отпор и отстояла свою честь, но вот буквально пять минут назад этот наглый тип позвонил ей из Москвы на городской телефон, номера которого она ему, разумеется, не давала, и предложил встретиться. Имя, фамилия, номер мобильного и место настоящего пребывания американца к возмутительной истории прилагались.
– Мы еще что-то можем, или они нас уже завоевали? – спросила она в заключение.
– Уже завоевали, но кое-что мы еще можем… – отвечал Серега. – Подожди, мне надо посоветоваться…
Через двадцать минут он позвонил.
– Значит так: вопрос решаемый. Есть человек, который сможет переговорить с этим уродом и убедить его, что он не прав. Но человек просит за это тысячу баксов. Извини, Наташенька, по-другому никак не получается – Москва! Если бы он был в Питере…
– Не вопрос, заплачУ!
– Тогда так: будем считать, что ты написала мне заявление о сексуальных домогательствах этого пса во Франции и их продолжении в России. Так?
– Так…
– Жди. Я отзвонюсь в течение дня…
Она уехала на работу и весь день провела в нервном ожидании, и если испытывала к американцу что-то похожее на ненависть, то вовсе не за то, что он, как она считала поначалу, осквернил оригинал, а за то, что принудил ее погрузиться в мутные глубины самой себя.
Она вновь переживала хронологию недавних событий, и молчаливые, ничуть не потускневшие картины добровольного помешательства услужливо вставали перед ней. При этом в одном ряду с окаянным сюрреализмом находились полотна, написанные ею задним числом, то есть, вымышленные. Эти ее наполненные мерзкими подробностями фантазии – вызывающе откровенные, бесстыдно привлекательные и порочно ненасытные, питались все еще тлеющим в ней огоньком воспаленного, болезненного влечения. Что поделаешь – в каждом из нас тлеет свой огонек, и не дай бог подуть на него кислородом попустительства: в разгоревшемся огне сгорит самый трезвый разум! Вот тогда и появляются раскинутые полы халата, смятая сорочка, подернутое похотью лицо и колючие жадные губы. Там прильнувшая к чужому мужчине и обжигаемая безумным пламенем женщина с сухим шелестом листает слепой ладонью страницы любимого тела, там выводит фальшивую мелодию любви лже-флейта, сочится мирром лже-алтарь и торжествует гибельный позор.
И пусть жгучий стыд заливает щеки, а голова причитает: «Боже мой, боже мой, ведь это просто ужас, что я могла натворить!», но где-то в мрачных самоубийственных глубинах теплится тайное преступное сожаление, что этого не случилось, и она не зажила другой жизнью – той, что питаясь призраком любви, несовместима с порядочностью и целомудрием. Да какой там «теплится»! Сегодня, отвергнутая женихом, она уже почти жалеет, что не пошла до конца! Ах, какое острое наслаждение испытала бы она, прелюбодействуя с подобием любимого человека! Какое утонченное оккультное извращение пережила бы, изменяя покойному возлюбленному с его же телом! Шлюха, говорите? Пусть шлюха! Но разве не так следует хранить память о любимом человеке? Нет? А как?
Однако довольно. Разбавим кислород попустительства азотом ровного дыхания. Да, верно: случись ей встретить американца несколько лет назад, она, не задумываясь ни о ближних, ни о дальних последствиях, отдалась бы ему, нисколько не заботясь, какими глазами он на нее смотрит. И сделала бы это с ясным умом и благодарной памятью, а не в том помраченном состоянии, в каком была совсем недавно. Потому что когда тебе всего тридцать – это не более чем дерзкий каприз. Но сегодня ей тридцать пять, и она не может себе его позволить: ей нужны семья, муж и дети. Вот когда у нее все это будет, тогда она и решит, как быть дальше. А пока Володя должен быть похоронен, американец изгнан, а жених возвращен на место!
И все же, раз уж ее бросили, не поторопилась ли она с Серегиной помощью? Впрочем, теперь у нее есть номер американского телефона, и когда его хозяина приведут в чувство, она станет хозяйкой положения. И если вернуть жениха не удастся, она сведет этого глупого американца с ума и разрушит жизнь ему и себе!
Серега позвонил вечером.
– Значит, так. Разговор состоялся. Человек объяснил этому дяде Сэму, что есть заявление, по которому его в России могут привлечь. Тот сначала пошел в отказ – мол, ничего не знаю, звонил, чтобы узнать про здоровье и все такое. Тогда человек объяснил этому псу, что если он будет упорствовать, у него могут здесь возникнуть проблемы с бизнесом и пребыванием на территории России. Этот пендос долго возмущался, но в конце сказал, что он андестенд. Ну, в общем, где-то так… Так что дай знать, если возникнет рецидив. И про деньги не забудь, хорошо?
– Не волнуйся, Сереженька, не забуду! Спасибо тебе, дорогой!
– Не за что. Не забудь пригласить на свадьбу, и жениху привет передавай! Он у тебя неплохой мальчишка…
36
К середине октября жених в ее глазах уже выглядел этаким растворившимся в необратимой обиде, недосягаемым для ее покаяния существом, узурпировавшим право на великодушие и благородство. Иными словами, личностью, совершенно неподходящей для дальнейшего сожительства, но имеющей, все же, право на coup de grace, то есть, право быть добитым из милосердия. И она решила добить его в годовщину их первой встречи – пятнадцатого октября. От него осталась кое-какая одежда, тысяча евро и обручальное кольцо – оборванные сиротливые якоря, дающие повод поинтересоваться, как с ними быть дальше. Дождавшись десяти вечера и досадуя на неуместное волнение, она оживила его номер.
– Это я, – сказала она.
– Я понял, – угрюмо ответил он.
– Может, поговорим, наконец? – покладисто изменила она своим воинственным намерениям.
– О чем?
– Разве нам уже не о чем говорить?
– Теперь уже не о чем… – довольно резко ответил он.
– Хорошо, – едва сдерживаясь, чтобы не бросить трубку, сказала она, – тогда последний вопрос: у меня остались твои вещи, тысяча евро и кольцо. Хочу знать, что мне с ними делать…
– Вещи отдай нищим, кольцо выбрось в Неву, а деньги считай моим свадебным подарком, – не задумываясь, продиктовал он, словно хорошо продуманное завещание. – Еще вопросы есть?
– Так, с вещами и кольцом понятно. Непонятно со свадебным подарком. Что это значит? – холодно поинтересовалась она.
– Это значит, что ты выходишь замуж! – язвительно ответил он. – Ты же, вроде, замуж собралась! Или забыла уже?
– Что? – растерялась она. – Замуж? За кого?!
– Как за кого? За твоего незабвенного любовника, за Феноменко! – нервно хохотнул он.
– Что-о-о?! – взметнулся ее голос. – Кто тебе это сказал?!
– Он сам и сказал!
– Что он сказал?!
– Что вы помирились и в ближайшее время поженитесь… Слушай, успокойся – я не собираюсь вам мешать!
– Когда… когда он это сказал?! – прокричала она, задыхаясь.
– Да уже… две с половиной недели назад! Слушай, что ты так разволновалась? Я же не против! И даже поздравляю и желаю всяческого счастья! Странно, да? Я должен тебя ненавидеть, а вместо этого желаю счастья… Ладно, все, прощай…
И телефон презрительно замолчал.
Давно она не испытывала такого, в прямом смысле, потрясения: руки ее тряслись, губы тоже, трясущееся сердце рвалось наружу, трясущейся груди не хватало воздуха. Она кинулась на кухню, схватила стакан, налила, расплескав, воду и, стуча о край зубами, припала к нему. Выпив воду до дна, она грохнула стаканом о стол и заметалась по квартире, плохо соображая, что делает. Наконец размах ее метаний сузился до ширины дивана, на который она скинула халат.
– Подлец, подлец, какой подлец! – бормотала она, лихорадочно натягивая джинсы, свитер и забирая наверх волосы. Накинув куртку, схватила сумочку и выскочила из квартиры. Во дворе торопливо забралась в машину и устремилась на улицу.
– Так тебе и надо, шлюха подзаборная! – бормотала она. – Так и надо! Это тебе за твою неразборчивость!
Боже, боже! Уже две недели он проклинает ее, на чем свет стоит, а она тем временем никак не может найти подходящий повод ему позвонить!
«Будь ты проклят, урод волосатый!» – захлебывалась она в адрес Феноменко, пролетая на желтый.
Он все знает! Теперь он все знает! Боже мой, что он теперь о ней думает?! Она подлетела к его дому, бросилась к подъезду и, не желая обнаруживать свое присутствие по домофону, дождалась, когда дверь откроется. Ворвавшись в подъезд и проклиная нерасторопный лифт, она оказалась, наконец, у дверей его квартиры. Позвонила. Он, не спрашивая, открыл и застыл на пороге.
– Выслушай меня! – потребовала она и шагнула к нему, преграждая двери путь к отступлению. Он помедлил и впустил ее. Она вошла. В прихожей ее молчаливо и враждебно встретила его мать.
– Вера Васильевна, нам с Димой нужно поговорить! – также требовательно обратилась к ней Наташа.
Вера Васильевна затравленно посмотрела на сына и молча удалилась.
– Слушаю тебя, – глухо сказал он, отводя глаза.
Она сразу заметила, что он сильно осунулся и побледнел. Ей захотелось кинуться ему на шею и прокричать: «Дурак, дурак! Какой же ты дурак!» Сдержав себя, она твердо сказала:
– Можешь думать обо мне все, что угодно, но хочу, чтобы ты знал: я скорее сдохну, чем выйду замуж за Феноменко!
Возможно, она рассчитывала, что ее заявления будет достаточно, чтобы тут же вернуть его себе, но он взглянул на нее потухшим взглядом, пожал плечами и сказал безжизненным голосом:
– А мне-то что…
– А то, что он все выдумал! Он обманул тебя, понимаешь?! – горячилась она, не понимая, почему до него не доходит ее раскрасневшийся призыв.
– Меня это уже не касается… – совсем тускло откликнулся он и отвел глаза.
– Как это – не касается?! Что значит – не касается?! Значит, я для тебя уже ничего не значу?! Значит, так?! – звенел ее голос.
Зрелая мука шевельнула желваки на его похудевшем лице, и он, по-прежнему не глядя на нее, выдавил:
– К сожалению, значишь… Только я уже говорил, что я не тот, кто тебе нужен…
– Прекрати твердить эту чушь! Слышишь, прекрати! – взметнулся едва ли не до визга ее голос. – Позволь мне самой решать, кто мне нужен, а кто нет!
Мне, а не тебе! Ты видишь – я приехала к тебе сама, потому что ты мне нужен, и если я тебе тоже нужна – ты поедешь со мной!
Она стояла перед ним, сжав кулачки – прямая, непреклонная, с пылающим лицом, огромными потемневшими глазами, гневная и беспощадно прекрасная. Он смутился.
– Наташа… – наконец назвал он ее по имени, – ты не представляешь, как мне было плохо, и если снова…
– Если я тебе нужна – ты поедешь со мной! – перебив его и глядя на него в упор, с затаенной угрозой отчеканила она. Несколько секунд он смотрел на нее, а затем, словно заразившись ее волей, неожиданно твердо сказал:
– Хорошо, я поеду с тобой!
Он предложил ей снять куртку и подождать в гостиной, пока он переоденется.
– Нет, – нетерпеливо ответила она, – я подожду здесь…
Он быстро собрался и предстал перед ней, избегая ее взгляда.
– Поцелуй меня, – велела она, потянувшись к нему.
– Я небрит, – угрюмо проговорил он.
– Ничего! – заторопилась она, и он коснулся ее холодными вялыми губами.
Скрашивая дорогу односложными замечаниями, они добрались до ее дома. Он был скован и немногословен, и она усадила его за чай. Как и в тот памятный вечер их первой близости они расположились на кухне друг против друга, и он смог, наконец, разглядеть ее как следует.
«Опять питается как попало! – подумал он, жалея тонкую кожу скул и впалые тени щек. – Натуральная супермодель!»
– Ты опять похудела… – обронил он.
– Ты тоже…
– Ну, я-то понятно почему… – через силу усмехнулся он.
– И я по той же причине… – серьезно смотрела она на него.
Помолчали.
– Послушай, – сказала она, – я хочу тебе все объяснить…
– Наташа, не надо… Ей-богу, лучше мне ничего не знать…
– Нет, ты должен знать, иначе эта заноза будет только нарывать! – заупрямилась она, украшая волнением обострившиеся черты. Что ни говорите, а умеренная худоба для женского лица все равно, что сурдина для звука – делает то и другое тонким и трепетным. Он отвел глаза – всё его прежнее мучительное обожание вспыхнуло, будто его и не тушили усердные расчеты пожарных во главе с американцем и ее шефом. Стиснув зубы, он едва не застонал.
– Да, Феноменко мой бывший любовник! – храбро начала она. – Прости, что не сказала раньше и что познакомила вас… Да, я продолжаю у него работать, но понимаешь…
Она запнулась, не зная, как объяснить ему, незнакомому с традициями и нынешними нравами этого тесного мирка, каким образом красивой женщине приходится расплачиваться за право взобраться на деловой Олимп.
– В общем, так получилось. После смерти жениха мне нужна была опора, и тут подвернулся он. Не скрою – он был хорошей опорой, и я была ему благодарна, но никогда не любила, никогда…
«Вот и я ей тоже подвернулся и однажды буду ей не нужен, и она так же скажет про меня другому: но я его никогда не любила…» – грустно усмехнулся он про себя.
– К тому же ты видишь, каким он оказался подлецом… Прости, я не знала, что он так поступил. Я представляю, что ты обо мне думал…
Она замолчала и вопросительно посмотрела на него, словно спрашивая, достаточно ли ему того, что он узнал. Он не стал ее мучить и примирительно заметил:
– Наташа, у меня до тебя тоже были любовницы. Так что теперь? Мы же взрослые люди и все понимаем!
– Хорошо, – сказала она, – теперь этот американец…
«Он тоже оказался подлецом?» – чуть было не спросил он.
– Здесь все сложнее и… проще, – осторожно начала она. – Может, тебе это покажется глупостью, ерундой, женской дурью, но дело вот в чем: этот американец своим сложением, телом своим оказался копией Володи, моего покойного жениха…
Она замолчала и уставилась на него, проверяя эффект сказанного. Не обнаружив ни малейшего эффекта, она неуверенно продолжила:
– Ты понимаешь, меня словно заколдовали – я глядела на его тело и видела перед собой Володю! Понимаешь?
Он не понимал. Она беспомощно оглянулась, страдая от того, что под рукой нет тех нужных слов, которые где-то обязательно существуют.
– Ну, как тебе объяснить?! – страдальчески морщилась она, жестикулируя невпопад. – Ну, представь, что он вдруг воскрес и явился ко мне под чужим лицом! Нет, ну, глупо, конечно, так говорить, но я действительно не знаю, как еще сказать! В общем, я ходила за ним, как привязанная и ничего не могла с собой поделать! Прямо наваждение какое-то! – изнемогала она.
Ему пора уже было что-то сказать, и он, продолжая держать оборону, с грустной, отстраненной от ее страданий улыбкой сказал:
– Когда я увидел тебя веселую, счастливую рядом с этим американцем, я вдруг понял…
– Ничего ты не понял, трус несчастный! Ни-че-го! И вместо того, чтобы мне помочь, отказался от меня! – выкрикнула она.
Лицо ее сморщила некрасивая гримаса, а на глазах выступили слезы. Тут с ним что-то случилось, и он, забыв о данном самому себе слове хранить обожженное чувство в прохладном месте, не выдержал, вскочил и, огибая стол, устремился к ней. Она порывисто выпрямилась ему навстречу и похудевшими руками, словно лианами обвила его.
– Димочка, мне страшно! Ты не представляешь, как мне страшно! Я до сих пор не понимаю, что со мной было! Ведь я вела себя как ненормальная, была как игрушка в чьих-то руках! Только ты не думай – я тебе не изменяла! – всхлипывала она, припав к нему мокрой щекой. – Я ведь после возвращения ездила к Володе на могилу и просила, чтобы он меня отпустил! Я сказала ему, что ты хороший и любишь меня так же, как он! – горячо отчитывалась она.
– Еще больше, еще больше! – гладил он ее по голове, с трудом удерживая на цепи слезы. Обхватив ладонями ее мокрое лицо, он принялся покрывать его поцелуями. – Прости, прости меня! Я люблю тебя, люблю, конечно, люблю… – бормотал он, холодея от ужаса, что так легко и несправедливо мог ее потерять.
Тут бы, кажется, ей самое время сказать: «Я тоже тебя люблю!», но она лепетала:
– Я все время думала о тебе… Мне было так одиноко… Я смотрела на других мужчин и думала: «Господи, какие они все уроды!». Я ужасно злилась на тебя, что ты не звонишь… Если бы я знала раньше…
Он не дал ей договорить и, поймав на лету ее губы, завладел ее дыханием. Вино примирения небывалой крепости и вкуса ударило им в головы, и он, не отнимая губ, подхватил ее и устремился в спальную. Все вышло, как у нее с Володей в первый раз: он сорвал с нее и с себя одежду и с набравшей силу, почти звериной страстью взял ее, и она, не успев испытать телесных судорог, тем не менее, оказалась наверху блаженства…
37
Когда он улегся рядом с ней опустошенной половинкой того сиамского, сросшегося животами и грудью пульсирующего существа, что не просуществовало и минуты, она, скрестив ноги, тихо и смущенно сказала:
– Принеси полотенце – мне страшно даже пошевелиться…
И он отправился в ванную, где встретившись в зеркале со своим счастливым отражением, не пожелал призвать его к сдержанности. Вернувшись, он присел на кровать и тихо спросил:
– Можно, я сам?
– Что – сам? – не поняла она.
– Ну, это… – не выпуская полотенце из рук, указал он им ТУДА.
Она поняла, откинула одеяло и, смущаясь и краснея, позволила ему сделать то, чего не позволяла до этого никому: убрать, так сказать, за собой.
«А, собственно, что тут такого? – думала она, оправдывая его не по-мужски трепетную, почти женственную выходку, в которой он воплощал свое обожание. – Просто другим подобное и голову не приходило! Получили свое – и в сторону!»
Новым здесь было то, что в этот список угодил и Володя.
Обдавая теплым дыханием ее бедра, он колдовал нежно и почтительно, целуя их и нашептывая слова, приводить которые здесь – все равно, что устраивать выставку фарфоровой посуды в загородке для слонов. Она не торопила его и млела, подрагивая. Когда он улегся рядом, она сказала:
– Спасибо, Димочка! Дай, я тебя поцелую!
Выразительно вздохнув, она уложила голову ему на грудь и затихла там, предвидя трудное, дотошное, пристрастное объяснение с обильными, сбивчивыми, торопливыми, умоляющими, искупительными словами, в сравнении с какими их слова на кухне выглядели не более чем «кошкой», заброшенной на высокую стену размолвки, перебраться через которую им еще только предстояло. Желая перед этим смягчить себя любовным изнеможением, она решила поторопить события и, выждав немного, запустила руку ему в пах. Он, припав к ней долгим, подрагивающим поцелуем, восстал раньше времени, и вскоре она забилась в припадке сладкосудорожного кузена эпилепсии…
– Ты похудел… – утомленно заметила она, оглаживая его под одеялом.
– Есть немного… – сдержанно согласился он.
– Ты на меня очень сердишься?
– Я сержусь только на самого себя…
– Прости меня, Димочка, дуру ненормальную! – уткнулась она ему в плечо.
– Это ты меня прости, что ничего не понял…
Она облокотилась и, глядя на него, возбужденно произнесла:
– Я вот только одного не пойму: почему это не случилось со мной раньше, когда мне было плохо, а случилось тогда, когда было хорошо? Мне же с тобой и вправду было хорошо! Ты даже представить себе не можешь, насколько хорошо! Как никогда и ни с кем! Даже с Володей! – боролась она с искушением поведать ему об оргазме. – Может, он мне за это и мстит? Или я действительно дура ненормальная?
Он вернул ее себе на грудь и сказал:
– Успокойся, ты абсолютно нормальная. Хотел бы я, чтобы меня так любили…
– Подожди! – вдруг вскочила она и, накинув на ходу халат, оставила его одного, чтобы через минуту возникнуть с бутылкой коньяка и бокалами, похожими на миниатюрные, без северных полюсов глобусы на хрустальных ножках.
– Сегодня же годовщина нашей встречи!
– Да, я помню…
Он тоже набросил халат, и они расположились на кровати вольным образом. Откупоривая бутылку, он заметил, что таким же «Наполеоном» она подкрепляла его силы почти год назад после его первого холостого выстрела. Затопив коньяком южные полюса бокалов, он, отдавая ей первое слово, вопросительно посмотрел на нее.
– Давай выпьем за нас! Чтобы у нас дальше все было хорошо! – незатейливо предложила она.
– За любовь! – добавил он.
Бокалы встретились, радостно и звонко вскрикнули и тонкими гаснущими голосами долго цеплялись друг за друга, не желая расставаться.
– Я сейчас скажу тебе такое, чего не знает даже Светка! – осушив бокал, надвинулась она на него мерцающим взглядом. – Ты знаешь, накануне нашей встречи мне приснился удивительный сон… Ну, просто удивительный! Будто я кого-то люблю… Ужасно люблю! Люблю, а лица не вижу! И я сокрушаюсь во сне: «Что же это такое? Как же я живу без любви? Ведь я так хочу любить!» Я проснулась с такой радостью на сердце! Это было как предчувствие! И буквально через три дня встретила тебя… Нет, я, конечно, встречала за эти дни и других мужчин, но выбрала, почему-то, тебя… Как тебе это нравится?
Вместо ответа он взял ее свободную руку и, зараженный сиянием ее глаз, прижался к ней долгим прочувствованным поцелуем.
– Может это, конечно, несерьезно, но я тогда была в полной уверенности, что этот сон и тебя мне послал Володя, – продолжала она. – Честно говоря, ты мне сначала не понравился – я ждала совершенно другого…
«Да, да, вот именно, другого…» – огорчился он, внимая ее простодушному лепету.
– А выходит, это ты… – закончила она задумчиво, а затем добавила с искренним недоумением. – Тем более непонятно, почему ОН нам мешает!
– Может, я что-то делал не так… – подсказал он, желая поддержать метафизические подпорки своего положения.
– Нет, Димочка! Ты-то как раз все делал правильно! – вздохнула она.
Он добавил коньяк ей и себе и сказал:
– Я знаю только одно – так как люблю я, никто и никогда тебя любить не будет – ни американец, ни Феноменко, ни кто-либо другой… А потому тебе выбирать – либо крепких мускулистых парней, либо того, кто готов за тебя умереть…
– Я выбрала, Димочка, уже выбрала… Ровно год назад…
– Конечно, по сравнению с американцем – точнее, с Владимиром – я выгляжу бледно, но уж точно не хуже твоего шефа…
Она сидела с пунцовым лицом, глядя в бокал. Внезапно она одним махом опрокинула в себя коньяк, встала, потушила свет и, вернувшись, позвала:
– Иди ко мне…
Уложив его голову себе на грудь, она попросила:
– Расскажи, как ты без меня жил…
– А разве я жил? – усмехнулся он.
– Бедный ты мой! Ну, прости, прости меня, дуру сумасшедшую! – порывисто припала она к его голове, ощутив сухой запах мягких волос.
Он помолчал, а затем обронил:
– Пил, курил, молчал…
– Представляю, что ты обо мне думал!
– А что я должен был думать, когда ты уехала с ним на катере, когда вернулась и с ненавистью смотрела на меня, как на досадную муху, когда пришла с ним пьяная неизвестно откуда, когда ночевала без меня?
– Димочка, Димочка, ничего не было, ничего! Честное слово, ничего!
– …И все же ты права – я должен был бороться за тебя. Должен был что-то делать – что-то экстраординарное, нечеловеческое… Но тогда, глядя на твое счастливое лицо, я с ужасом думал: «Вот кто ей нужен, не я!» И потом, эти твои чужие, безумные глаза! К тебе невозможно было подступиться!
– Димочка, прости меня, прости! – неловко изогнув шею, покрыла она поцелуями его лицо. – Ничего не было, ничего! Клянусь тебе! Да, он приставал, даже лез целоваться, но бог меня удержал!
– Ну вот, – спокойно сказал он, – я как чувствовал…
– На меня нашло какое-то помрачение, но, слава богу, я вовремя опомнилась! – торопилась она и вдруг осеклась: боже мой, ведь все, что она тут лепечет – ложь, ложь и еще раз ложь! Как это – сама ничего не поняла? Как это – ничего не было? Это что за помрачение такое? Какой такой бог ее удержал? Так уж и опомнилась? Полно, бэби! О женихе ты тогда думала меньше всего! Не думаешь о нем и сейчас, а думаешь лишь о нарушенном ходе брачных часов, которые необходимо подвести и запустить любым способом!
На деле все было гораздо проще и похабнее, и стоило американцу повести себя по-другому, и ничего того, что есть сейчас, не было бы. Не было бы ни примирения, ни готового для тебя на всё жениха, ни его самоотверженных глаз, ни мягкого уютного тепла постели, ни твоего победного удовлетворения, ни тебя самой. А были бы упоительное помешательство и гипнотическое безволие, истерическое русское обожание и снисходительное заморское обхождение, перепачканный спермой рот и ненасытное к тому принуждение, парад извращений и беспрекословное послушание, пронырливая фальшивая флейта и ее трусливое бегство. Было бы злое отрезвление, рыдающее одиночество, сердечное пепелище и позор, позор, позор… Так что, my darling, благодарить надо не бога, а оплошавшего американца!
Правда была так жестока и очевидна, что протестуя против нее, она судорожно прижала к груди его голову и вдруг с замиранием подумала, что есть единственный способ загладить свою вину перед ним здесь и сейчас. Она освободилась, заставила его лечь на спину и напряженно шепнула:
– Закрой глаза, не смотри…
Откинув одеяло на край кровати, она развела по сторонам его руки, затем легла на него и, вручив его губам многозначительный аванс, медленно заскользила по его телу вниз, отмечая путь мелкими легкими поцелуями. Но вместо того, чтобы попасть ТУДА кратчайшим путем, она в смятении принялась кружить по его груди, захватывая плечи и бока и не торопясь обнаружить вектор своих намерений. И все же ей пришлось это сделать и, покинув ребристую арматуру грудной клетки, она отпустила пересохшие губы на его замерший живот. Таким же замысловатым путем она спустилась до его впалой середины, но дальше спуститься не смогла. Протяжно поцеловав его в аккуратное ампутированное воспоминание о пуповине, она вернулась к его губам, после чего сползла с него и откинулась на спину.
«Не могу!» – разочарованно призналась она себе, прислушиваясь к негаснущему отпечатку того горячего, нетерпеливого существа, что уже почти упиралось ей в подбородок. Да, что бы она ни думала, а виноватой щепетильностью любовь не заменить!
Он оказался решительнее и словно в упрек ей повторил ее путь в тех же траекториях, достигнув пушистой мишени и заставив ее изгибаться и царапать простыню вместо себя. Когда скользнув нежным миражом сквозь щель окна, ее горячая испарина облагородила мир, она решила загладить свою вину по-другому и сказала:
– Димочка, я бесконечно виновата перед тобой и готова выйти за тебя замуж хоть завтра, если ты, конечно, не передумал…
К ее удивлению, он не проявил того восторга, на который она рассчитывала, а взяв ее руку в свою, ответил после некоторого молчания:
– Ты ведь знаешь – это то, о чем я давно мечтаю… Но сейчас, мне кажется, будет лучше в первую очередь для тебя, если мы подождем еще… ну, скажем, полгода… Ты понимаешь, что я имею в виду?
– Нет!
– Завтра мы поженимся, а послезавтра ты встретишь похожего на НЕГО не только фигурой, но и лицом, и тогда последствия будут куда ужаснее, чем если бы ты была свободной…
Услышав его отказ, она, как ни странно, испытала облегчение. О том, что инфекция владимиромании не изведена до сих пор, ей только что поведал неудачный опыт самоуничижения.
– Значит, ты от меня отказываешься… – на всякий случай упрекнула она его.
– Наташенька, обещаю – если ты снова себя заколдуешь, я буду рядом с тобой до тех пор, пока ты не прогонишь меня окончательно!
– Хорошо, пусть будет так! – с напускной неохотой согласилась она и первая его поцеловала. О том, что американец ее нашел и об операции по его нейтрализации она ему, разумеется, не сообщила.
На самых задворках разговора, перед сном, он упомянул о поездке в Кузнецк, намекнув на свое безжизненное состояние и дважды похоронное настроение, чем добился нового приступа ее жалости и вины.
И ни слова о том, что он ей изменил – вот уж тут он не виноват!
38
Ни одна женщина не способна чувствовать себя виноватой более двух дней, если любящий ее мужчина настаивает на том, что в случившихся с ними неприятностях виноват исключительно он. Именно так вел себя после их примирения восстановленный в правах жених, не в силах выносить ее до пугливости покорный, покаянный вид.
Материальную меру своей вины она ощутила наутро, когда решила поближе присмотреться к тому, чему не уделила должного внимание вечером, шаря по его телу и не находя тех излишеств, в которых ее рука утопала всего полтора месяца назад.
– Ну-ка, дай-ка я на тебя посмотрю… – с медицинским пристрастием потребовала она и, встав голая на колени, откинула с него одеяло так неожиданно, что он едва успел прикрыть руками свои избранные места.
«Глупый мальчишка – до сих пор стесняется!» – мелькнуло умиление, но тут же испарилось при виде его обнищавшей плоти. Несколько секунд она разглядывала его непривычную поджарость и, словно не веря, даже провела ладонью по наметившимся ребрам, а затем, охнув, навалилась на него грудью и простонала, заглядывая ему в глаза:
– Димочка, бедный, до чего же я тебя довела!
– Во-первых, не ты, а я сам! А во-вторых, я давно хотел похудеть, хотя, возможно, немного перестарался! – весело отвечал он, отправляя выспавшиеся руки в путешествие по ее телу.
– Бедный ты мой, бедный, связался со старой калошей с тараканами в голове! Ну, скажи, зачем я тебе такая заколдованная? – глядели на него подернутые серой печалью глаза.
– Все настоящие королевы заколдованы. Представляешь, какое сказочное сокровище мне достанется, когда я тебя расколдую!
Он перевернул ее на спину и поменялся с ней местами, глядя на нее расплавленными нежностью зрачками. Впервые она разглядела в их черной глубине пульсирующий свет, питающий неугасимым восхищением дымчатую желтизну короны и сероватый аквамарин радужной периферии.
– Я иногда думаю… – продолжала она истязать себя сладкой болью, – ведь ты с твоими деньгами вполне мог найти себе свежую, молоденькую, без всяких историй и комплексов…
– Молчи, глупая, молчи! – припал он к ее губам, не скрывая своего беззащитного обожания…
За завтраком она сурово сказала:
– Этот мерзавец Феноменко – теперь я просто обязана от него уйти…
– Вовсе не обязана! – ответил он, прекрасно понимая, что она ждет его разрешения продолжать работать с бывшим любовником. – Делай вид, что ничего не знаешь, а про себя посмеивайся, как он, такой умный, обманул самого себя…
Благодарное облегчение проступило на ее лице, и она, не скрывая радости, воскликнула:
– Спасибо, Димочка, ты не представляешь, как для меня важен твой совет!
Она привезла его в Парк Победы. Там они, перед тем как расстаться, укрылись зонтом и, помечая памятные места трогательными разноцветными бантиками милых воспоминаний, прошли тем же путем, каким шли год назад. Они шли по парку, как по музею, где случайные когда-то подробности приобрели, благодаря знакомству с ними, нетленность шедевров и жили теперь собственной жизнью. Ах, как много неожиданного и разного случилось за это время, а между тем узел их судеб затягивается все туже!
Он довел ее до подъезда, поцеловал и горячо пробормотал:
– Я люблю тебя, Наташенька! Люблю еще сильнее, чем раньше…
Да, конечно, она это знает, и молчаливое откровение его худобы для нее красноречивей его глуховатого, дрогнувшего голоса.
– Спасибо тебе, Димочка! Ты не представляешь, как я рада, что мы снова вместе! Можно сказать, я сверхрада! Мне тебя ужасно не хватало, ужасно… Теперь я это вижу, знаю… – отвечала она.
И все же странно, что не он, безумно влюбленный в нее мужчина, а она, чье вредное сердце медлит с взаимностью, спасла их отношения.
«Ты хоть понимаешь, что мы не расстались лишь чудом?» – хотела упрекнуть она его благородное бездействие, но пощадила свет его глаз.
Придя в бюро, она сразу же направилась к кабинету верховного правителя и без стука, с размахом туда вошла. Феноменко, откинувшись в кресле и скрестив на груди руки, снисходительно внимал блеющему вздору Лидии. Под их удивленными взглядами Наташа прошла к столу и уселась напротив фаворитки, поддельным влюбленным видом своим напоминавшей фальшивую купюру.
– Лидия Константиновна, мне нужно срочно переговорить с Алексеем Николаевичем, – сухо обратилась она к изумленной ее наглостью дублерше, которая тут же вскинула капризный взгляд на любовника, словно желая сказать: «Ну да, я знаю, что она твоя бывшая любовница, но минет-то тебе теперь делаю я!»
– Лидия Константиновна, позвольте нам переговорить с Натальей Николаевной! Я вас позову! – услышала она вежливую просьбу своего содержателя. Обнаружив ужимки оскорбленной кокетки, фаворитка выскочила из кабинета.
– Слушаю тебя, – сложил на столе волосатые руки Феноменко.
– Ты, оказывается, способен на подлость, – стараясь оставаться спокойной, сказала она.
– Ты о чем?
– О том, что ты наплел моему жениху!
– Ну, почему же! Все, что я ему сказал – чистейшая правда: я действительно готов развестись и жениться на тебе, – невозмутимо отвечал Феноменко.
– Но я-то с тобой ни о чем не договаривалась! – прошипела она, перекосив лицо презрением.
– Так давай договоримся! – улыбнулся Феноменко.
– Ты подлец, – взяла она себя в руки.
– Я знаю. Иначе бы я не имел всего этого, – обвел он рукой кабинет.
– Но меня ты никогда не будешь иметь! – встала она, поворачиваясь, чтобы уйти.
– Никогда не говори никогда! – с веселой угрозой произнес он ей в спину.
– А то что, выгонишь? – обернулась она, адресовав ему презрительную улыбку.
– Не дождешься!
– К твоему сведению – благодаря твоей подлости я помирилась с женихом!
– Ну, вот видишь – и тут я тебе помог! – мерзко улыбнулся Феноменко.
Она повернулась и пошла прочь.
– Наташа! – неожиданно просительно окликнул он ее.
Она остановилась и обернулась. Феноменко поднялся и направился к ней.
– Послушай, он не тот мужчина, который тебе нужен, – начал он внушительно, словно открывал ей необыкновенную тайну. – Ты посмотри на себя: ты холодная, бессердечная, деловая женщина с блестящим европейским будущим. Ты погубишь этого влюбленного чудака. Даже если ты выйдешь за него замуж, через год он тебе надоест! Тебе нужен другой – такой, как я, который защитит тебя от самой себя. Поверь, я знаю, что говорю! – встав напротив, приложил он к груди растопыренную ладонь.
Она взглянула на черного короткопалого паука у него на сердце и не удержалась от запоздалого отвращения:
«И этими ужасными руками он меня касался!!»
– Может, я и деловая, но не холодная и не бессердечная – тут ты отстал от жизни, – преодолевая отвращение, сказала она. – А он… Он самый лучший мужчина на свете, и между вами есть существенная разница: его я люблю, а тебя нет!
И вернув ему мерзкую улыбку, она вышла из кабинета – возлюбленная ученица прожженного негодяя…
Вечером она рассказала жениху, что не стала прятаться за молчанием, а сразу же прошла к Феноменко, обозвала его подлецом и презрительно с ним обошлась. Она утверждала, что готова была к уходу, но этот мерзавец остановил ее и просил остаться. Теперь она не знает, как ей быть и ждет его, жениха, решения. При этом она не стала цитировать свою заключительную победоносную фразу, сказанную ею в тактических целях, но отозвавшуюся в ней неожиданно сладостным замиранием, словно первая примерка свадебного платья.
– Конечно, оставайся! – сказал он. – Только будь осторожна: боюсь, он так просто не угомонится…
Далее последовали замечательные дни мятежного послевкусия, наполненные трогательной взаимной уступчивостью и предупредительностью. Годовщина их встречи, словно услужливый локомотив, вытягивала за собой из тоннеля прошлого пестрые веселенькие вагончики милых и трогательных пустяков.
Вот уж год, как они первый раз пили кофе на углу Благодатной и Московского, а перед этим она опоздала на свидание.
– Ты ужасно замерз, и у тебя были холодные руки!
Он со своей стороны вспомнил, как сознался в картавости.
– А мне твое произношение сразу понравилось! И еще мне сразу понравился твой голос – такой бархатный, волнующий. Да, да, волнующий! Теперь уже я могу это сказать…
– Сейчас ровно год, четыре часа и пять минут, как я первый раз сделал тебе предложение… – сказал он, взглянув на часы.
– А я тогда подумала, что мужчина напротив меня не в своем уме. Ты уж извини…
– И еще сегодня год, как ты дала мне номер твоего телефона…
– И первый раз весь вечер думала о тебе…
– А сегодня ровно год, как ты заставила меня бросить курить!
– И узнала про твою француженку…
Первое посещение ресторана, первый поход в театр, первая ревность – первый, первая, первое, первые… – и ни слова о той огромной яме, в которую почти два месяца назад угодил на полном ходу их деликатный экипаж, едва не рассыпавшись при этом на куски. Это было похоже на то, как если бы на свежую рану спешили нанести толстый слой просроченной мази, продолжая веровать в ее былую целебную силу. Словно сладкой истеричной пастой торопились замазать трещину, отделившую медовую часть их обручальной дистанции от нынешней горечи отрезвления…
39
Их воссоединение приветствовали друзья и подруги. Его мать, поплакав вместе с ней, вновь открыла ей свое сердце.
– Не знаю, что между вами случилось, но прошу тебя, не обижай Диму… – обратилась она к Наташе, почти как к иконе. – Никогда не видела его в таком ужасном состоянии, никогда… Не иначе ты его околдовала…
– Слава богу, наконец-то! – с радостным облегчением воскликнула Ирина Львовна, подставляя ему для поцелуя руку.
И вот уже, кажется, срослись разорванные сухожилия их сожительства, восстановилось питание онемевших тканей доверия, рассосались гематомы возмущения, ровно и сильно забился пульс влечения. Похоже, они вновь обрели друг друга, и жизнь их постепенно приняла довоенный вид. Но чем дальше уходил от них окаянный сентябрь, тем сильнее проступал внутри каждого из них едкий пот беспокойства, отравляя обоняние души назойливым запахом.
Пережив, как и в январе, очистительную эйфорию первых дней воссоединения, он, согласно тому же сценарию, угодил в лапы жестокого смятения: сбылись его худшие опасения – она, не успев его полюбить, увлеклась другим. И пусть она сделала это под влиянием каких-то там возвышенных сил – ему от этого не легче: страх его, до этого беспредметный и бесформенный, обрел фигуру и лицо. Отныне все лица мужского пола разделились на похожих и непохожих на ее покойного жениха, причем, похожие где-то тщательно скрывались, чтобы подло возникнуть в самый неподходящий момент.
Да, она смущена и, кажется, переживает. По-новому внимательна и предупредительна. Но так ведут себя изменив и пытаясь загладить вину, либо находясь в смятении по поводу будущей верности. Потому и вынужден он был назначить ей испытательный срок. Поздно становиться грубоватым ироничным властелином. Куда разумнее освободить ее и готовиться к худшему.
Конечно, он разгадал ее отчаянное намерение опуститься до положения наложницы, когда она, разгоряченная виной и коньяком, захотела доказать ему силу своего раскаяния. Остановилась на самом пороге, и когда он уже приготовился отпрянуть и отчитать ее за низкопробный порыв, передумала. При желании он мог бы подстегнуть ее смелость, чтобы унизительной непристойной лаской, как грубой веревкой привязать ее к своему потному кочевому седлу. Но тогда он способствовал бы ее отречению от королевского звания и превращению в очередную Ирину, которых у него и без того было предостаточно…
В один из последовавших дней он, пробуя себя в роли обездоленного влюбленного, попытался проникнуть за кулисы ее помешательства, для чего извлек из сундука памяти единственно подходящий для этого реквизит, а именно: изрядно помятый образ Мишель, и как мог, вообразил тоскливое нытье покинутого сердца. Далее попытался представить их внезапную встречу. Он рисовал ее и звуком, и краской, и утренним воздухом, однако воображение его дальше неприятного удивления и вялого любопытства заходить отказывалось. Возможно, он не стал бы даже с ней говорить. Самое большее, к чему он мог бы себя принудить – это выпить с изменщицей по чашке кофе со слабым привкусом былого и уже смешного отчаяния и вдогонку истаявшей грусти поцеловать ей на прощанье руку. Доведя мысленный опыт до такого простого, будничного исхода, он приготовился было адресовать невесте молчаливое укоризненное недоумение, как вдруг ему представилось невообразимое – будто кто-то невидимый, насмешливый и всесильный собирается в эту секунду отнять ЕЕ у него навсегда. И в ту же секунду воющая, рыдающая, душераздирающая тоска обрушилась на него и озарила высоким откровением – если он после этого выживет, то пойдет искать подобие своей любви в толпе равнодушных людей, а найдя, захочет быть рядом…
Улучив вечером момент, он подошел к ней, обнял и погрузил лицо в ее волосы.
– Что? – спросила она.
– Я сегодня вдруг представил, что делал бы, если бы… потерял любимого человека…
– И что? – подняла она на него глаза.
– Если бы я после этого выжил, то искал бы похожего на него, а найдя, захотел бы быть рядом…
Благодарное удовлетворение проступило на ее лице, и она необычайно серьезно сказала:
– Как хорошо, что ты меня, наконец, понял…
– Мне от этого не легче! – вымучено улыбнулся он. Как ей объяснить, что теперь он каждый вечер заглядывает в ее глаза, как моряк на горизонт – не появилась ли там тень новой беды!
В постели он продолжил:
– Последнее время я много думал о том, что случилось…
Она молчала, и он сказал:
– Конечно, если ты не хочешь об этом говорить…
– Нет, почему же, об этом надо говорить, – сухо отозвалась она.
Он помялся и продолжил:
– Знаешь, со мной в свое время произошла похожая история… После измены француженки я через три месяца встретил здесь необыкновенно похожую на нее девушку, необыкновенно! Можешь себе представить, что со мной было! Естественно, я с ней познакомился, ну, и все такое… Ты понимаешь…
Она молчала.
– В общем, я сделал из нее вторую Мишель, и мы прожили с ней три года…
– И? – подала она, наконец, голос.
– Я разочаровался, мы расстались, и я выздоровел… – закончил он.
– Забавно! – насмешливо откликнулась она. – То есть, ты советуешь мне найти похожего на Володю человека, прожить с ним три года, разочароваться и выздороветь? То есть, хочешь сплавить меня на перевоспитание?
– Наташа! – укоризненно отозвался он.
– Знаешь что, не трави душу, и так тошно! – неожиданно зло воскликнула она. После чего отвернулась и затихла. Примолк и он.
«Он прав: я до сих пор больна Володей… Это ужасно, но это так, – тем временем думала она. – Да, моя память – мой враг. Только поздно ее лечить таким варварским способом…»
Да, после краткого упоительного экстаза воссоединения жених сник, стал сдержан и пуглив, смущен и неспокоен. Как ни пытается он напускным весельем спрятать свой грустный страх, ему не скрыть ту мучительную неохоту, с какой он каждый день отпускает ее от себя. Он ей не доверяет, он ее боится. Вот и срок испытательный в четыре карантина назначил. Что ж, она не в обиде – сама виновата.
А между тем, после примирения он стал ей определенно ближе. Она жалела его, жалела охотно и обильно, испытывая от жалости тайное удовольствие, подкрепленное гордостью за его нерушимую любовь и верность. И было, между прочим, в ее жалости что-то новое, смущенное, материнское. Что касается его похудания, то если отвлечься от способа, каким оно было достигнуто, следовало признать его крайне полезным и своевременным. Его обновленная внешность обрела волнующую привлекательность, он казался ей стройнее, моложе, интереснее, мужественнее, наконец. И еще она подумала: «Может, следовало настоять, выйти за него замуж, родить ребенка, и вся моя дурь прошла бы сама собой?»
– Ну, не сердись, – повернулась она к нему. – Лучше расскажи, почему ты разочаровался…
И он с облегчением объяснил ей, что в противоположность бытующему мнению, будто сходство внешнее предполагает сходство внутреннее, здесь действует некий закон, согласно которому два человека, внешне похожие друг на друга, как майские жуки, содержанием отличаются, как два разных экзаменационных билета.
– Чем больше сходство, тем сильнее различия. Разочарование неизбежно, – вещал он.
– Я и сама это поняла… – обронила она и пожаловалась: – Знаешь, с некоторых пор я чувствую себя так, будто у меня внутри бомба замедленного действия…
– Так и есть. Но никто, кроме тебя, не сможет ее обезвредить. Если ты, конечно, хочешь ее обезвредить… – грустно заметил он.
– Хочу, Димочка, хочу! Ты не представляешь, как хочу! Только прошу – не бросай меня, помоги мне!
В ответ он стиснул ее так, что у нее перехватило дыхание.
– Возьми меня скорее в жены и давай родим ребенка! Вот увидишь – все пройдет само собой! – горячо бормотала она ему в плечо.
И он бы, наверное, согласился, если бы несогласная память не подсунула ему предостережением раннюю осень в купальнике цвета линялого апельсина и свое беспомощное недоумение, наблюдающее за счастливым бегством невесты к другому…
– Поверь, я делаю это ради тебя самой, – глухо ответил он.
– Но если я не вылечилась за шесть лет, как я смогу вылечиться за полгода? – воскликнула она.
– Тогда рядом с тобой не было меня…
– Лучше скажи, что ты меня больше не любишь! – обиженно вырвалась она из его объятий и укрылась на своей половине.
Что ж, весьма полезный и нужный разговор для тех, кто, собираясь в дальний путь, оценивает свой и чужой груз, чтобы решить, надрываться ли каждому в одиночку или считать его общим, а значит, брать с собой не две палатки, а одну.
40
Были у них и радости: ведь даже приговоренные к смерти имеют право на рассказы о загробной жизни.
– Что у вас со свадьбой? – спросила Светка довольную Наташу в середине ноября.
– Отложили до апреля! – беспечно отмахнулась та.
– Вот, ничего себе! А что так? – удивилась подруга.
– Решила назначить себе новый испытательный срок! – лучезарно отвечала Наташа.
– Ты уверена, что сделала правильно?
– Абсолютно! – лучилась Наташа. И вспомнив то, о чем давно хотела спросить, небрежно поинтересовалась: – Ты мне лучше вот что скажи – ты своего по-прежнему целуешь? Ну, сама знаешь, куда…
– Ну, бывает… А ты? Что, нет? Серьезно?! Неужели еще не пробовала?! Что, вообще никогда?!! Ну, Наташка, ну, ты даешь!! – оживилась Светка. – Нет, ну что ты – конечно, надо попробовать! Только имей в виду – это не всегда вкусно…
И дальше последовали липкие подробности и скользкие советы. Наташа слушала, ахала и переживала незнакомое возбуждение.
– Ну, ты, Наташка, даешь! – заключила подруга. – Все уже давно попробовали, одна ты у нас монашка!
Монашка, не монашка, но через неделю она, задернув шторы, потушив свет и заранее морщась, по собственной воле угостила его своим рокфором. Было так: получив после кровавой паузы долгожданное разрешение, он по привычке скользнул к своей любимой мишени, будто голодный пес к сахарной косточке, и она сразу почувствовала, как он насторожился. Совсем, как тот же пес, что обнюхав подаяние, останавливается перед несвежим запахом. Это было так красноречиво и забавно, что она улыбнулась в темноте, не забыв покраснеть. Он, ни слова не говоря, вернулся к ее губам, а оттуда к груди. Многозначительно и протяжно поцеловав их, он вновь спустился к бедрам и, растягивая удовольствие, долго кружил вокруг лакомства, раздувая ноздри и лаская кожу невесомыми, согретыми жаром дыхания поцелуями.
«Извращенец…» – на удивление снисходительно подумала она и почувствовала, что вопреки брезгливости возбуждается. И когда он, наконец, отправил свой челнок в плаванье, она, поначалу алчно и гадливо принюхиваясь к растревоженному духу плодородия, постепенно увлеклась и с жаром отдалась приготовлению любовного напитка, стесняясь того неспешного тягучего причмокивания, с которым он его смаковал. Ее жалобные стоны в союзе с призывным благоуханием молодой самки до крайности его возбудили, и он, отбросив нежности, широкими, крепкими движениями принялся взбивать содержимое ее лона. Впервые за все время их отношений он вспотел. Вспотела и она, и, распавшись, они лежали рядом, обессиленные и мокрые, вдыхая ее терпкий, бесстыжий запах.
– Димочка, это было что-то необыкновенное… – пробормотала она, укладывая голову ему на плечо и не торопясь идти в ванную…
В середине ноября они пригласили к себе Юрку с Татьяной. Принимая в расчет наихудший ход событий, она запретила ему дарить ей до свадьбы что-либо дороже цветов, отчего вся ее квартира была уставлена букетами, а воздух пропитан приторно-горьковатым запахом осени. Особенно она любила астры. Когда женщины удалились на кухню, Юрка захотел знать дату свадьбы. Услышав про апрель, он удивился и потребовал объяснений.
– Наташа попросила перенести, Что-то у нее там дома не в порядке… – неубедительно отвечал Дмитрий.
– А у вас у самих-то все в порядке? – усомнился Юрка.
– Абсолютно! – твердо и убежденно подтвердил Дмитрий.
Вернулись женщины, и Наташа, глядя на жениха, оживленно сказала:
– А мы с Димочкой в понедельник в филармонию идем! Он вам еще не говорил?
– Почему в понедельник? Почему так неудобно? Что-то особенное? – удивилась Татьяна.
– Да, особенное! Правда, Димочка?
– Да, да! – смутился он. – Исключительное и особенное: Нино Катамадзе и оркестр «Новая классика»!
– Никогда не слышала! – подозрительно глядя на хозяев, удивилась Татьяна, ожидавшая услышать имена более звонкие и привычные ее чопорному уху.
Ах, какой дразнящий, волнующий, понятный только им двоим намек скрывало ее сообщение! Из филармонии в кровать – именно такой исторической последовательностью решили они отметить годовщину их первой ночи, чем и будоражили друг друга на глазах непонятливых гостей. И пусть впереди две ночи репетиций, это будет особая ночь, без страхов и упреков и, возможно, с сюрпризами.
Так все и случилось: он приехал с букетом белых роз и, церемонно склонившись, поцеловал ей руку.
– Прошу вас, сударыня…
Она оступилась и не очень ловко, словно беременная, забралась в машину, и ему вдруг представилось, с какой особой осторожностью и умилением он станет подсаживать ее, когда все так и будет на самом деле.
Они повторили прогулку по Невскому, и он, как и год назад украсил босую голову купленной в Стокгольме клетчатой английской кепкой. Она, как и прошлый раз медленно шла рядом с ним в черном приталенном пальто, прикрыв голову беретом и плавно покачивая бедрами. Только в этот раз не он взял ее под руку, а она его. Все те же потупившиеся фонари приветствовали их проход.
Та же яркая торжественная анфилада, тот же высокий, светлый, отполированный звуками зал. Они уселись в красные королевские кресла и ждали начала, переглядываясь и улыбаясь. Это было именно то, что им хотелось – оказаться в магической реторте прошлого, разогреваемой умеренным ровным гулом в мелких трещинах покашливания; окунуться в нетронутый временем раствор матовых теней и красок; вдыхать чопорный пресноватый воздух, который здесь даже не воздух, а чуткий соисполнитель; наблюдать за сдержанным бурлением человеческого вещества, готового вступить в реакцию с благородной музыкальной субстанцией.
Он взял ее руку и сказал:
– В тот вечер я мечтал держать тебя за руку…
– А почему не взял?
– Ну, что ты! Я никогда так не робел, как с тобой!
– А мне тогда понравилось, как ты слушал…
Воспроизводя атмосферу памятного события, они заведомо не придавали значения тому, что услышат, однако сложный, выразительный строй джазовых хитросплетений увлек даже ее.
– Замечательно, мне понравилось! – расслабленно выразилась она после бурных оваций, в которых с удовольствием приняла участие.
И вот они уже в машине и в отличие от прошлого года знают, что с ними случится дальше. Однако она, рассеяно глядя в окно, знает, как и прошлый раз то, чего не знает еще он.
Дело в том, что с недавних пор она решила действовать. Не желая ждать, когда ее одолеет очередной приступ владимиромании, она сама пошла на приступ. Сегодня – великий день. Сегодня она окончательно покончит с целомудрием – совершит обряд, который в отличие от проституток всегда считала наивысшим доказательством любви, равным по значению потере девственности. Она выстрелит себе в голову из его нежного пистолета, и одноствольная жертва ее будет двусмысленной: с одной стороны она одарит своего жениха небывалой лаской, а с другой – водрузит на Володин образ монолит неимоверной тяжести, из-под которого ему, как из-под измены уже не выбраться. То есть, фигурально выражаясь, одним липким выстрелом убьет двух зайцев: авансирует будущую любовь и закажет прежнюю.
После церемонии чаепития она привела его в гостиную, усадила на диван и заставила целоваться, неловко изгибаясь. Следуя Светкиным наставлениям, она не допустила его до себя в предыдущую ночь, под разными предлогами заставляла пить апельсиновый сок, и теперь, скрывшись под джинсами и свитером, разжигала его аппетит, оставив его недоумению лишь прекрасную головку с горячими губами, шейку и запястья.
Почувствовав крепнущее нетерпение его объятий, она отправила его в ванную, приготовила постель, дождалась его возвращения и удалилась в неоновую прохладу кафеля за порцией дрожи, чувствуя себя как в свою первую брачную ночь. Стараясь не смотреть в глаза зеркалу, она облачилась в прошлогоднюю шоколадно-золотистую шелковую комбинацию. Между прочим, сегодня год, как она познала оргазм…
Подрагивая от волнения, она явилась в спальную с бутылкой коньяка и бокалами, и, забравшись под одеяло, прильнула к нему ледяными ногами.
– Давай, скорее выпьем! – простучала она зубами.
Он кинулся ее обхаживать, налил коньяк, и она, поймав губами край бокала, разом выпила всю порцию, после чего прижалась к жениху, чувствуя, как жаркий огонь разбегается по телу.
– Что с тобой, моя хорошая? Ты у меня случайно не заболела? – забеспокоился он.
– Нет, нет, все в порядке! Немного переволновалась! – отвечала она, подсовывая ему свои холодные ноги. И это была чистая и благородная, как коньячный спирт, правда.
Он тоже избавился от бокала, улегся и крепко прижал ее к себе, после чего попытался освободить от комбинации.
– Подожди, – сказала она, – хочу еще выпить…
Выпили еще. Через некоторое время телу вернули тепло. Пора было приступать.
– Выключи свет, – попросила она.
Он встал, исполнил ее просьбу и вернулся к ней. От того, что она предусмотрительно задернула шторы, в спальной в первое мгновение стало темно, как в задвинутом ящике комода, где даже белое становится черным. Постепенно едкий неон уличных фонарей нарушил герметичность их стильного комода и призрачным пóтом проступил через поры штор.
– Я хочу тебя поцеловать, – собравшись с духом, произнесла она и по короткому доверчивому отклику его тела почувствовала, как он, не догадываясь об истинной сути ее желания, потянулся к ней губами.
– Нет, ты не понял: я хочу поцеловать тебя ТУДА… – возблагодарив соучастницу-темноту, уточнила она рукой предмет своего вожделения.
– Наташенька, зачем тебе это? – спросил он, преодолев замешательство.
– Просто я так хочу! – занервничала она, радуясь, что он не видит, как полыхает ее лицо.
– А я не хочу, чтобы ты это делала.
– Почему? – растерялась она.
– Потому что люблю тебя.
– Вот и хорошо! Я и хочу это сделать, чтобы ты знал, как я тебе благодарна!
– Только поэтому?
– А разве этого мало?
– Мало, моя хорошая, мало…
Спасая свой план, она заторопилась:
– Димочка, ты просто не представляешь, что для меня это значит! Ведь мне даже говорить об этом стыдно, а не то что делать! Ведь я никого и никогда туда не целовала, понимаешь? Никого и никогда – даже Володю! Понимаешь?
– Тогда и начинать не стоит! – весело объявил он и порывисто стиснул ее в объятиях, выжав из нее легкий стон.
– Но почему ты не хочешь? Ведь ты же меня целуешь! – растерянно спросила она, не зная, как быть дальше.
– Потому что ты королева, а я раб!
– А если серьезно?
– Куда уж серьезней! – прижимал он ее к себе.
Она обмякла и затихла.
– Глупая! Глупая моя девочка! Какая глупая! – закачал он ее на груди, как ребенка и очень серьезно добавил: – У меня была целая армия кухарок и только одна королева… Неужели ты думаешь, что ради сомнительного удовольствия я позволю тебе стать кухаркой?
Она откинулась на спину и потянула его за собой:
– Иди ко мне и делай со мной все, что хочешь… Никакая я не королева, а обычная глупая баба…
– Неправда… – припал он губами к ее глазам. – Неправда… – шептал он ее ресницам. – Ты королева… Моя королева… И всегда ей будешь…
Он обошелся с ней чрезвычайно нежно, но достаточно убедительно, чтобы она лишний раз уяснила, кто у них в постели главный. Понимая, что следует как-то оправдать свое отвергнутое предложение, она пробормотала из его объятий:
– Димочка, я, правда, никогда этого не делала… Просто мне очень захотелось ответить на твою любовь чем-то особенным…
Он долго и прочувствованно целовал в темноте ее послушное лицо, а потом сказал:
– На любовь лучше всего ответить любовью…
– Я отвечу, Димочка, обязательно отвечу! – зарылась она виноватым лицом в мягкое основание его шеи.
– Только давай сразу договоримся: пока мы вместе, я не дам тебе сделать то, что ты хотела и сам не сделаю ничего сверх того, что мы уже делаем, – внушительно произнес он.
– Лучше так: пока ты сам этого не захочешь… – попыталась она изменить условия контракта.
– Не захочу… – сердито буркнул он и добавил: – Может, тебе со мной недостаточно хорошо?
– Димочка, ты даже не представляешь, как хорошо! – с легким сердцем призналась она, в очередной раз борясь с соблазном поведать ему про оргазм…
Ничего не скажешь – хороший урок он ей преподал! Спутал все карты. Честно говоря, она была уязвлена – отказаться от того, чего от нее не могли добиться Мишка и Феноменко и чего никогда не добьются миллиарды мужчин! Он даже не представляет размер ее жертвы – а размером она с целый мир!
Стыдно ли ей? Стыдно было вначале и совсем недолго, потому что несостоявшийся обряд был частью святого замысла, а не порочной склонностью, которую, можно подумать, она до сих пор скрывала и вот теперь решила обнародовать.
Расстроена ли она? Вовсе нет! Ее отвергнутое намерение все же принесло свои плоды. Она смело заявила о своих помыслах ему, себе и Володе, и каждый ощутил щетинистую угрозу ее нешуточной решимости: нет сомнения – если бы жених согласился, она бы ее подтвердила! Можно считать, что выстрел, пусть и холостой, так или иначе прозвучал, она не унизила себя в его глазах, и ее целомудрие осталось при ней.
«Она чиста и благонравна!» – возликовал он после ее смущенного растерянного признания. Он и раньше не мог представить ее за таким занятием, и теперь его неистовая вера вознаградилась небывалым облегчением. Эта чудесная новость, никогда не стоявшая в очереди благих вестей, где первой, потеснив остальных, нервничала весть о том, что она его любит, неожиданно и необыкновенно воодушевила его.
Зная женщин достаточно, он давно подметил ту их особенность, что в любовных делах их благопристойность кратковременна. Рано или поздно все его подружки отправлялись пастись на упитанные лужайки его груди и живота и, пощипывая мягкую кучерявую растительность, прокладывали, в конце концов, тропинку к подбрюшью, где и завершали свое превращение в кухарок, что бы они о себе после этого ни думали.
В свое время, когда он с одной из своих одалисок впервые познал это острое удовольствие, он несколько дней, глядя на яркие женские рты, пухлые бантики губ и их капризную игру, испытывал насмешливое восхищение от их убедительной невинности, и пока они лепетали, вещали, лгали, представлял, чем они, облизываясь, занимаются по ночам. Он не был брезглив, скорее, не мог взять в толк, зачем женщине к унижению, так сказать, естественному добавлять еще и добровольное. Вот почему его так расстроила ее недавняя попытка примерить платье простолюдинки. И если оно ей тогда не подошло, это вовсе не означало, что она не попытается примерить его еще раз. Но он никогда не позволит ей этого сделать, никогда! Жертва слишком велика, чтобы ее принять!
– Между прочим, из всех моих подруг я единственная, кто этого еще не делал… – пробормотала она, засыпая в его объятиях.
– Значит, пора менять подруг… – пожелал он ей вместо спокойной ночи.
41
В начале декабря Феноменко вызвал ее и сказал:
– Хочу, чтобы ты поехала со мной в Париж.
– Это исключено! – не задумываясь, отвечала она. – У тебя теперь для этого есть Лидия.
– Наташа, мне нужна твоя квалификация, твой профессионализм, и ничего больше! – терпеливо и покладисто пояснил он.
– Леша, я не поеду, извини, – отвечала она. – Возьми Юльку. Все документы я подготовлю…
– Наташа, в этот раз никто не справится, кроме тебя! – побежали по его голосу трещины раздражения.
– Леша, я не поеду! – упрямо повторила она.
– Тогда зачем ты мне нужна? – грубо воскликнул он.
– Хорошо, я уйду! – встала она и повернулась, чтобы уйти насовсем.
– Хорошо, готовь документы! – догнал ее на полпути его раздраженный голос.
В тот же вечер за ужином она рассказала ему о предложении Феноменко и ее решительном отказе. Помрачнев, он слушал, играя желваками.
– Если бы он стал настаивать, я бы ушла, честное слово, ушла! – говорила она, спокойно и открыто глядя на него.
Он молчал, прятал глаза, и она, покинув место напротив, села рядом с ним, взяла его руку и попросила:
– Ну, посмотри на меня!
Он нехотя повернул к ней обледенелое лицо.
– Димочка, я все понимаю! Понимаю, как тебе тяжело, но прошу – потерпи еще немного! Поверь, я там не из-за денег – из-за профессии!
Он растопил ту часть лица, где губы и, скривив их, сказал:
– День, когда ты уйдешь от него, я попрошу объявить праздничным…
Уколовшись о ледяные иглы его глаз, она вдруг ощутила всю унизительность его положения, о которой раньше не задумывалась.
– Хорошо, давай сделаем так! – вдруг решилась она. – Я работаю там до свадьбы. Сразу после свадьбы я ухожу!
И лукаво улыбнулась:
– Хотя нет, не после свадьбы – после медового месяца! Ведь у нас будет медовый месяц? А где? – затормошила она его.
И тут уж тропическое ванильное солнце затопило мрачный питерский край. Смягченный коралловыми мечтами, он неосторожно сказал:
– Знаешь, честно говоря, я уже боюсь всех этих курортов…
– Прошу тебя, не напоминай… – скривилось, как от зубной боли ее лицо. Она встала и ушла. Он нашел ее в дальней комнате у окна, подошел и обнял:
– Прости меня…
– Это ты меня прости! – порывисто обернулась она и укрылась в его сочувственных объятиях.
В середине декабря Наташу, чего давно с ней не случалось, одолел сильный грипп, и она впервые за время их знакомства оказалась в беспомощном положении. Поскольку хворь эта, как и все прочие, есть лишь регулярное ожесточение той невидимой космической битвы, которую организм, постепенно сдавая позиции, ведет на протяжении всего отпущенного ему срока, то задача терпеливого и беспомощного наблюдателя, каким является наша рефлектирующая часть, заключается в том, чтобы не мешать ему и по возможности облегчать его участь. А потому жених окружил ее материальным полем нежнейшего сострадания.
Два дня он боролся с температурой, которая нехотя отступала на полтора шага и, окрепнув, возвращалась к тридцати девяти с половиной, заставляя Наташу скидывать одеяло и в жарком ознобе разбрасывать руки и ноги. Он поил ее клюквенным морсом, водружал мокрую салфетку на лоб и обтирал тело. Обжигая губы об ее кожу, он приговаривал нежно и тихо, почти как Мишка: «Бедная моя девочка, ей так плохо…», чем вызывал у нее молчаливое беспомощное раздражение.
Дождавшись, когда патентованные порошки погружали ее в дрему, он на цыпочках уходил на кухню, где сидя за столом с кошкой Катькой на коленях, прислушивался, когда в тишине раздастся ее слабый зов. Радуясь втайне, что ухаживая за ней, может проводить рядом с ней весь день напролет, он мечтал лишь об одном – успеть поставить ее на ноги до того, как свалится сам.
В один из приступов головокружительного жара, когда ее ладья плыла под черным небом среди красных и фиолетовых цветов, она, разлепив ресницы, увидела склоненное к ней жалостливое, страдающее лицо жениха.
«Какой у него смешной вид… – удивилась она. – Володя никогда так не смотрел… Володя был мужественный… Ах, какие у нас с ним могли быть красивые, сильные, веселые дети!»
Потом была ужасная ночь, когда она, помешивая в голове горячечное бредовое месиво, пыталась найти смысл в том бессвязном, распадающемся совокуплении прошлого и будущего, за которое она желала зацепиться, на которое хотела опереться. В бреду она скидывала с себя сухое горячее одеяло, и тогда он просыпался, вставал, поил ее морсом и обтирал мокрой салфеткой. К вечеру наступившего дня она вдруг сильно вспотела, и жар ушел. Радуясь, он переодел ее и, сидя на краю кровати, держал за руку. Она лежала, ослабевшая, со слипшимися на лбу волосами, как после забега на длинную дистанцию и устало улыбалась.
Ночь прошла спокойно, а утром она пошла на поправку. Днем он выбрался в магазин и среди прочего купил ей пижаму – блекло-лиловую, цветом похожую на одно из ее платьев. Она не стала спорить, надела ее, с пристрастием рассмотрела себя в зеркале, хмыкнула и только после этого легла. В тот же вечер к слабеющему гриппу присоединилась женская немощь.
Еще три дня она провела в постели. Он, радуясь ее милым выздоравливающим капризам, укреплял ее куриным супом, рисом, овощами, фруктами и натуральными соками. На восьмой день она встала, и он, почувствовав, что заболевает, под невинным предлогом отпросился домой и там свалился в горячую, с головокружительными испарениями яму.
Через час после его сообщения она ворвалась в его квартиру и, раздеваясь на ходу, устремилась мимо опешившей Веры Васильевны к дивану, на котором он страдал.
– Ты меня обманул, противный мальчишка! – дрожал негодованием ее голос.
– Прости, я не хотел быть обузой, ведь тебе надо работать…
– Ты глупый, вредный, противный мальчишка! Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Какая обуза? Ведь я без пяти минут твоя жена! – возмущалась она, усаживаясь рядом и касаясь губами его лба: – У тебя температура…
– Я знаю… – подтвердил он, глядя на нее расплавленными жаром зрачками, в черной глубине которых пульсировал свет, питая дымчатую желтизну короны и сероватый аквамарин радужной периферии неугасимым обожанием.
Она переселилась к нему и стала готовить ему куриные котлеты, которыми и кормила его, прибегая с работы. Грипп обошелся с ним довольно милостиво, лишь в первые два дня оглушив температурой под сорок. Она с радостью возвращала ему заботу, находя в ней новое и тайное для себя удовольствие.
Вечерами, накормив его и обсудив новости, она оставляла его дремать в гостиной и уходила на кухню, где в компании с Верой Васильевной предавалась женским разговорам – странным и завораживающим, как фантастические танцы. Два голоса за дверью – серебристый и глуховато-медный то сходились в жеманном поклоне, пробуя паркет балансом галантного реверанса, то закрутив строптивый пируэт, разбегались, энергично кружась по грубоватому крестьянскому подворью. Они шли друг на друга грудью, а столкнувшись, единым фронтом грозили кому-то третьему. Победив, ликовали и тут же принимались жалеть о чем-то. То звенели с площади, то спускались в пещеру, то двигались плавно и красиво, то рывками и паузами. И было трудно угадать кто из них сейчас кавалер, а кто дама. Он вслушивался сквозь дрему в неразборчивую двухголосую партию и пытался понять, чем строптивая невеста покорила его мать. Наверное, той же болезненно искренней прямолинейностью натуры, которой страдала сама Вера Васильевна…
Вернувшись через неделю к ней на Васильевский, они решили собрать у себя на Новый год всех тех, кто был здесь год назад, с Юркой и Татьяной в придачу.
– Если ты опять тайком собираешься мне что-нибудь подарить, то вот моя просьба – давай купим вечернее платье! – опередила она его намерения.
И было куплено английское шелковое платье-футляр по колено длиной, серый беж с перламутром: с потайным корсетом, с отделанной кружевами талией, со щедрым передним вырезом и овальным задним до середины спины, с широкими крылышками-лямками на плечах, чем-то напоминавшими передник переодетой шоколадницей королевы. Когда она надела его, он, конечно, охнул, но не от ее привычного совершенства, а от того, что светский английский стандарт подтвердил этот факт до миллиметра. На сдачу он купил посудомоечную машину и лично установил ее в оставшееся до Нового года время.
Что современной женщине нужно для счастья, кроме чулок, белья, одежды, обуви, запахов, косметики, сумочки с ключами от квартиры и машины, полного холодильника, ненавязчивых подруг и любимой работы? Безусловно, мужчина, в чью ласковую заботу, вернувшись вечером домой, она может погрузиться, как в мягкое удобное кресло. А если, к тому же, это кресло богато, умеет готовить, убирать, мыть посуду, развлекать и доставлять бурные телесные наслаждения, то надо быть полной идиоткой, чтобы не дорожить им, даже если не можешь пока кинуться ему на шею и, не пряча сумасшедший взгляд, прошептать: «Я люблю тебя, Димочка!»
– Все забываю тебя спросить – как твой рынок поживает? – спросила она его накануне Нового года.
– Хорошо поживает. Так хорошо, что через полгода можно подумать о яхте и вилле в Испании… Ты помнишь, что я говорил тебе на юге?
– Я помню, Димочка, всё помню… – стала она серьезной.
– И что?
– Не знаю, пока не знаю…
– А я так думаю, что раз ты уходишь от Феноменко, почему бы тебе не попробовать открыть собственное дело в Европе? Деньги не проблема!
– Ты думаешь это так просто… – усмехнулась она. – Там люди с европейским образованием ждут годами, а я приехала – неизвестно кто, неизвестно откуда – и сразу в мэтры?
– Хорошо, можно попробовать через мои связи устроить тебя в какой-нибудь кабинет. Будешь там специалистом по России…
– Не знаю, Димочка, не знаю… Не готова я еще… – с виноватой улыбкой призналась она.
Днем тридцать первого, когда на кухне полным ходом шло превращение растительных и биологических форм в причудливые съедобные сочетания – занятие, которое человек придумал, чтобы хоть чем-то отличаться от животных, употребляющих то же самое в натуральном виде, ему неожиданно позвонила Галка.
– Здравствуй, Димочка, – сказала она, – это я…
– А-а! Привет, привет! – искусно справился он с удивлением и медленно направился в другую от невесты сторону.
– Извини, что беспокою, ты, наверное, занят… – виновато сказала Галка.
– Ну, что ты, что ты! Я рад! – воскликнул он, удалившись на достаточное расстояние.
– Я на минутку, чтобы поздравить тебя с Новым годом и пожелать всяких радостей…
– Спасибо, я тебя тоже поздравляю и желаю в новом году всего наилучшего! – лучезарным голосом, чтобы слышала невеста, воскликнул он. – У тебя все в порядке?
– Да, да, все хорошо! Я так рада слышать твой голос…
– Я тоже! Ты звони, не пропадай, хорошо?
– Хорошо… Ты тоже звони…
– Обязательно! Передай от меня своим привет и поздравления!
– Передам… Целую тебя. Пока…
– Я тоже! Пока!
– Кто это? – спросила невеста, когда он присоединился к ней.
– Один знакомый по институту. Сто лет не звонил! Я даже удивился… – небрежно ответил он и покраснел.
Она поглядела на него и ничего не сказала.
«Не удивлюсь, если звонила какая-нибудь его бывшая баба…» – на удивление мирно подумала она.
– Ты меня любишь? – неожиданно спросила она, чего никогда, никогда не спрашивала.
– Хм! – воззрился он на нее. – А если скажу, что не люблю – ты поверишь?
– Теперь уже нет! – совершенно искренне рассмеялась она.
42
Он задумал грандиозный, купеческого размаха стол, но она решительно сократила ассортимент наполовину, сказав:
– Не хочу, чтобы ты целый день горбился у плиты, ты у меня еще слабенький. Ничего, обойдутся! В конце концов, они к нам не жрать идут, а веселиться!
Вечером грянул разноцветный, как салют прием в блестках дежавю. Он, как и год назад выходил вместе с ней в прихожую встречать гостей, со сдержанной улыбкой располагаясь чуть позади нее. Только радостные возгласы и поцелуи они теперь делили пополам.
– Ах, как я рада вас видеть! – что-то в этом роде сказали по очереди Светка, Ирка Коршунова, Дина Захаревич, Мария и соблазнительная Юлька.
И было, чему радоваться. Все, кроме Светки, не видели жениха с конца мая и нашли, что он зримо и основательно изменился в лучшую сторону. Он был по-прежнему радушен и лучист, но сдержанная, мужественная грусть притаилась в глазах и на губах, да завораживало нервной игрой похудевшее лицо.
– Наташка! – не сдержалась Ирка на кухне. – Какой он у тебя стал интере-е-есный! Нет, в последний раз он был совсем другой, проще! Что с ним случилось?
Остальные подруги охотно согласились и обратились к ее новому платью.
– Сколько, сколько?! – страдальчески сморщилось Иркино лицо.
– Пятьдесят тысяч… – смутилась Наташа.
– Нормально! – неприязненно дернулась Иркина голова.
– Опять ты, Наташка, наших мужиков с ума сведешь! – благодушно прогудела Светка. – Мой после тебя каждый раз только и бубнит: «Наташа, да Наташа…»
– Ну, хотите, я наряжусь в джинсы и свитер? – виновато спросила Наташа.
– Да толку-то… – обронила Светка, любуясь подругой.
– Я в этот раз даже прическу не стала делать! – оправдывалась Наташа.
– Да успокойся ты, глупая! – обняла ее Светка. – Ты лучше скажи – со свадьбой все по-прежнему?
– А как же! Свадьба в апреле! Готовьтесь! – воодушевленно отвечала Наташа.
– Нам бы тебя замуж отдать, тогда и вздохнем, наконец! – громыхнула Светка.
Ждали Юрку с женой, и наконец, они явились. Юрка с порога громко и зычно распахнул ворота своей души и быстро очаровал Наташиных подруг, а после крепких рукопожатий, подкрепленных прямым, честным взглядом, сошелся с их мужьями. Через пять минут после знакомства он, посулив женщинам брудершафт, уже завладел мужским разговором, в то время как купечески величавая Татьяна уплыла на кухню, где сразу понравилась Светке.
Через десять минут взялись за проводы старого года. Оправляя подолы, одергивая полы, ослабляя галстуки и покашливая, гости послушно ждали, когда новый хозяин этого дома произнесет приветственное слово. Он медленно, внушительно встал и сказал:
– Друзья мои! Вы не представляете, как нам с Наташей приятно видеть вас снова у себя в гостях! Если считать, что каждый год благородное вино вашей дружбы крепчает на градус, то сегодня крепость его подступает к крепости портвейна… да, да, не шучу, портвейна, но не того, что три семерки, а настоящего, который выдерживается десятилетиями и стоит дороже коньяков!
Я, примкнувший к вам год назад, с удовольствием вдыхаю вместе с вами аромат этого чудесного напитка и радуюсь, когда мне достается хотя бы глоток. В благодарность за вашу дружбу я хотел бы кое в чем вам признаться…
Дело в том, что уходящий год был самым лучшим, самым счастливым годом моей жизни. Я вдруг открыл вокруг себя прекрасный мир с высокими голубыми небесами, изумрудными полями и лазурными просторами морей, золотыми закатами и бриллиантовыми украшениями ночи. С нежным пением птиц в прозрачной тишине, с чистым пьянящим воздухом и пряным ароматом роз, с томительными цветными снами и радостными пробуждениями. У этого мира редкий и волшебный вкус дикого меда. И если он иногда горчит, так ведь горечь – обратная сторона сладости. Самое удивительное, что этот мир существовал всегда, но узнал я о нем только теперь…
Он помолчал и обвел глазами притихших в приятном недоумении гостей.
– Вы спросите, в чем причина моей близорукости, и я отвечу: причина на удивление проста – я и не подозревал, что у этого прекрасного мира есть имя…
Кое-кто уже догадался, к чему, а вернее, к кому он клонит и, выдержав эффектную паузу, он закончил:
– Так вот, у него оказалось имя, и имя ему… Наташа!
Пару секунд было тихо, а затем тишину сменил одобрительный ропот. Гости явно не ожидали от жениха такого откровения. Только почему же нет? Он дома, а значит, может говорить все, что пожелает. А он желает говорить и думать только о НЕЙ. Всегда. Везде. Даже рядом с ней. Даже во сне.
Между прочим, в отличие от изломанных, исковерканных, неремонтируемых героев постмодернистского зазеркалья, которым, если уж говорить откровенно, в наше цельное и насмешливое время нет места в этой жизни – так вот, в отличие от таких героев ему нет нужды казаться кем-то другим, чем он есть на самом деле. Он бесхитростен, честен и неделим. Его вдохновение – расчетливое, прицельное и цельнометаллическое – питается одним намерением: удалить из рациона вдовствующей королевы мертвую воду воспоминаний и заменить ее живой водой любви, после чего вырвать ее из лап дикого северного дракона и увезти в безопасное место. До остального ему нет дела. На остальное ему плевать. Пропади все остальное пропадом!
Покрасневшая Наташа сидела рядом с ним, опустив глаза, и он, преодолевая оживление, закончил:
– А потому, друзья мои, я предлагаю выпить за те чудесные незабываемые мгновения, которые каждый из вас, я уверен, пережил в уходящем году!
Все без исключения принялись аплодировать. Он со вкусом раскланялся.
– Горько! – зычно провозгласил Юрка, и все дружно и радостно рассмеялись.
Он сел, повернул к Наташе возбужденное лицо, и она легко коснулась его губ.
– Спасибо, Димочка… – не пряча признательных глаз, шепнула она.
Он поймал ласковый Яшин взгляд и восторженный взгляд Марии. Остальные тоже поглядывали на него с одобрением.
Собственно говоря, застолья такого рода, как и все прочие коллективные психические расстройства похожи друг на друга, особенно после третьей рюмки. Когда последовал перерыв, и женщины собрались на кухне, первой не выдержала Юлька:
– Наташенька! – воскликнула она. – Я чуть не прослезилась! Такие слова, такие слова!
– А я чуть не описалась! – не менее растроганно призналась Ирка.
И все остальные выразились приблизительно в том же духе. Улучив момент, Светка склонилась к ней, понимающе улыбнулась и, понизив голос, сказала:
– Ну, подруга, вижу, ты его крепко поцеловала! Ну, как, самой-то понравилось?
Наташа вспыхнула и в тон ей ответила:
– Такая гадость! Не понимаю, как тебе это нравится!
– А разве я сказала, что мне нравится? – тонко улыбалась Светка. – Это им нравится, а мы с тобой здесь, как говорится, сбоку-припеку!
Дальше и до полуночи наблюдалось праздничное броуновское шатание, где каждый из гостей был, как вольная молекула, путешествующая по квартире под действием хаотической симпатии. Молекулы притягивались, распадались и снова соединялись, образуя летучее вещество настроения, и музыка этому способствовала самым влиятельным образом. Жених не отпускал от себя невесту, она в свою очередь охотно с этим мирилась, и они, не размыкая объятий, соединили пять танцев в один.
– Пусть делают, что хотят, – махнула она рукой на свое общественное положение. – В конце концов, на столе все есть. Захотят – попросят…
Забыв о гостях, они топтались на месте, бормоча друг другу на ухо милые возбуждающие глупости.
– Спасибо тебе за красивые слова… – взглянула она на него. – Девчонки в шоке… Про них такого никогда не говорили, и уже, наверное, не скажут…
– Кто знает, кто знает… – откликнулся он.
Она примолкла. Определенно что-то важное и значительное случилось с ней за этот год. Его упорная, исполненная незаметного, невесомого обожания забота не прошла бесследно, не истаяла в ее словах благодарности, а превратилась в волшебное вещество, что осело у нее на сердце блестящим никелированным слоем. Сладкое тягучее предчувствие проступило из сердечной глубины. Она попробовала представить, как случится это нежное, робкое и великое событие, как от ее будущего порыва натянется и лопнет последняя струна, связывающая ее с Володей, и она услышит жалобный звук, ощутит свободу и шагнет к НЕМУ…
– Давай выпьем за нас! – шепнула она ему в полночь. – Пусть сбудется все, что мы задумали…
Через час вернулись к танцам, и он, исполняя роль доброго хозяина, церемонно и обходительно танцевал с ее подругами, успевая отвечать на похвалы, хвалить и украдкой следить за ней. Она пошла по рукам. Подвыпившие мужья (кроме Яши, разумеется) забывали про дистанцию, норовили прижаться к нее, липли к ее уху. Она пыталась незаметно их унять, отстранялась, отводила взгляд, улыбалась сдержанно и напряженно, испытывая давнее, из Володиных времен ощущение, что за какую-то неизвестную ей провинность отбывает наказание в чужих объятиях. Когда она сталкивалась с ним взглядом, ее улыбка на краткий миг становилась растерянной и виноватой. Он в ответ ободряюще улыбался.
Светка, танцуя с ним, с фамильярной иронией похвалила его и Наташу за благоразумие. Еще бы ей не быть фамильярной: переживая вместе с хозяйкой пасмурный лиризм их размолвок, она была здесь, пожалуй, самой осведомленной ее наперсницей. Подругой она была грубоватой, но верной, как истина в последней инстанции. Кстати, в конце вечера он обменялся с ней номерами телефонов на тот случай, если… В общем, на всякий пожарный случай. Она отнеслась к его просьбе с пониманием.
– Звони, если что, – сказала она, ухмыляясь. – Будем вместе приводить подругу в чувство…
И он подумал, что душа его невесты, как ботанический сад, где рядом с розами растут колючки кактусов, Юлькины пальмы, Иркины рододендроны, Динины сикоморы, душистая бругмансия ее оргазма и прочие джунгли, сквозь которые ему порой не продраться.
Потом женщины удалились на кухню и оставили мужчин одних. Когда они вернулись, то увидели в центре компании хозяина, потчующего гостей следующими истинами:
– Да, я не интересуюсь политикой, но ее преступные деяния мне небезразличны!
– У нашего поколения был метод и были идеи. У нынешнего поколения есть только «Вау!»
– Наша избирательная система исключает смену власти выборным путем. Стало быть, впереди очередная революция, потому что в России настоящие перемены достигаются только через революции, причем всегда неудачно.
– Какая оппозиция, какие правозащитники?! Есть только люди, которые с ехидным видом выполняют чей-то заказ!
– Революция, как секс – одни хотят в этом участвовать, другие хотят при этом присутствовать.
– В нашей стране слишком много внутренних органов, но нет главного – сердца. Это от того, что здесь привыкли иметь дело с расстояниями, а не с людьми.
– Сети закона у нас дырявые, а правовая система построена только до того этажа, откуда не видно, как воруют и убивают.
– Если бы мне сказали, что через пять-семь лет здесь будет по-людски, я бы, возможно, подождал. Но не будет, кто бы и что бы ни говорил. Ни через пять, ни через десять. Никогда! А потому проще уехать туда, где уже давно живут по-людски…
Видя, что не все с ним согласны, он передернул затвор и выпалил:
– И все же это сравнительно хорошие новости. Но вот вам, как говорят французы, жирный бемоль: в нынешнем столетии в физическую эволюцию человека вмешается технический прогресс, человек станет не от мира сего, и вся нынешняя культура сохранится лишь в резервациях…
Муж Ирки Коршуновой, насмешливый очкастый программист поправил:
– Уверяю тебя, что это случится гораздо раньше, чем ты себе представляешь…
К пяти часам утра хозяева добрались, наконец, до кровати, и там она, засыпая, пробормотала:
– Димочка, ты сегодня был в ударе…
Ее опустошенное английское платье откинулось в кресле. Туда же вместе с чулками слетелись усталые шелковые птицы из породы нательных.
43
Ленивая нега новогоднего утра заставила их вспомнить конфуз годичной давности.
«Могли бы, как сейчас, наслаждаться покоем. Вместо этого устроили черт знает что…» – думала она, подставляя себя его задумчивым поглаживаниям.
– Ты помнишь – ровно год назад… – нарушил он молчание.
– Ах, Димочка, а я как раз об этом думаю! Надо же было быть такими дураками! – перебила она его, искренне удивляясь разрушительному извержению их ранней пассионарности.
– Не скажи – мы очень удачно поссорились! – живо откликнулся он. – Я тогда впервые понял, что не смогу без тебя жить! А давай-ка сделаем то, чего не сделали год назад! – поманил ее любопытство.
– Что именно? – простодушно поинтересовалась она.
– Уедем за город и обновим лыжи! А вечером у камина я почитаю тебе Блока! Ну, и вообще… Хочешь?
– Хочу! Только завтра…
Днем он позвонил Михалычу, попросил протопить камин и разбудить сонное отопление. На следующий день, обеспечив Катьку трехдневным запасом еды, они отправились за город.
В этот раз залив замерз, и оказавшись на снежном озябшем берегу, они щурились от солнца и поглядывали сквозь дрожащие щелочки глаз на тесное соседство голубого и белого, что невзирая на крайнюю разницу характеров, не могут в отличие от людей существовать одно без другого. И были смиренные, как монахини тени гаснущего дня, высокие поседевшие ели с красноватыми в отблесках сонного солнца сизыми лицами, морозный воздух с остывающим духом отпылавших дров, одинокая собака, солирующая на виду у летаргической тишины, а на самом краю голубого фаянсового неба догорал небесный камин. Потом был трепещущий полумрак камина земного, и старомодная столетняя Прекрасная Дама явилась на зов его исполненного спиритической таинственности баритона, а сиятельный месяц царапал алмазной кромкой черно-синее стекло гостиной. Все было, как и год назад, но теперь оживлялось волшебным присутствием его невесты.
Между прочим, его реанимационные способности разбудили в ней давно уснувший интерес. Дело в том, что в свое время она всерьез пыталась понять, почему мужчины сходят с ума от женщин вообще и от ее лица, фигуры, капризов и глупостей в частности. Это было нужно, чтобы знать, где начинаются и кончаются женские чары, где расположена и насколько крепка та дверца в мужском сердце, за которой, однажды туда проникнув, следует укрыться. Может, это слезы, может, улыбки, может, жеманная уклончивость или же, наоборот, бунтарская прямота. Тело, говорите? Фу, какая пошлость!
Имея смутное и брезгливое представление о лесбийских играх, не страдая кокетством и признавая за собой всего лишь удачную складность, она, помнится, не могла взять в толк, почему Мишку возбуждают ее колени, которые всего лишь колени, ноги, которые не больше, чем ноги, грудь, бедра и то прочее, от чего сходил с ума он и никогда не возбуждалась она, ибо спирт не может себя опьянить, как и не может воспламениться от самой себя спичка. Возможно, в ее неразумении была виновата ее послушная, нетребовательная псевдолюбовь. Возможно, дал себя знать унылый плен совокуплений, чьи бесчувственные затяжные окончания облегчением своим напоминали условно-досрочное освобождение. Так или иначе, но свыкнувшись с прилагательной ролью в их сексуальных мистериях, она перестала интересоваться подноготной мужниной страсти и уж тем более ее подогревать. Чем это закончилось, хорошо известно, притом, что все, что его возбуждало, осталось при ней в том же безукоризненно рабочем состоянии.
Что нашел в ней Феноменко (а он, точно, нашел), ей было ровным счетом наплевать и тогда, и теперь. Гораздо интереснее знать, от чего сходит с ума ее нынешний мужчина. Она с улыбкой вспомнила, как почти с научной дотошностью пыталась оценить глубину его чувства и обнаружить на причале его сердца что-то вроде швартовой тумбы, на которую, изловчившись, следовало набросить канат привязанности.
Странно, но ее любовь к Володе нисколько не прояснила имя и должность управителя мужских предпочтений, также как не дала ответ, за что она сама любила его. Так, как любила она – жадно, до истерики и плохо при этом соображая, рассудочные изыскания были невозможны. Если бы ее тогда спросили, отчего она сходила по нему с ума, она ответила бы: от всего. От крепких розовых ногтей и одинокого прыщика на твердом подбородке, от запаха волос и сладкого пота подмышек, от озабоченного думами лба и добродушной рассудительности.
Так может, и с женихом происходит что-то похожее, и его помешательство подобно огню переплавляет ее отдельные черты в жаркий пылающий слиток, и она, теряя индивидуальность, растворяется во всеобщем сиянии? Если так, то до тех пор, пока она не воспылает сама, следует терпеливо сносить его восхищение и поддерживать термоядерную реакцию его страсти, следя за тем, чтобы солнце его иллюзий не провалилось в черную дыру разочарования.
– Скажи, за что ты меня любишь? – вдруг спросила она.
– За все! – не удивившись, повернулся он к ней вполоборота. – За все! За то, как ты на меня смотришь, за то, как сердишься и радуешься, за твой певучий голос, за слабость и за храбрость, за твою верность Владимиру, за каждую клеточку, за каждый твой вздох и улыбку, за…
– Хватит, хватит! – прервала она его, потянулась к нему через подлокотник кресла, неудобно обняла и уткнулась ему в плечо. Он почувствовал, как туманится старомодной нежностью его взор – совсем также, как туманились взоры влюбленных мужчин в серебряном, а до этого в бронзовом, и еще раньше – в каменном веке.
– Что ты думаешь о лесбиянках? – в тот же вечер спросила она его.
– Я думаю, что это гораздо симпатичнее, чем мужеложство, – улыбнулся он и пошутил: – Ты хочешь попробовать?
– Боже упаси! – воскликнула она.
И покраснев от того, что он может истолковать ее профилактический интерес, как намек на скрытое содомское желание, велела:
– Тогда уж признавайся, что ты думаешь о мужеложстве…
– То же самое, что и господь бог про Содом и Гоморру!
– Ну, и слава богу! – с выразительным облегчением воскликнула она, и он ободряюще улыбнулся.
Питаясь признательными взглядами, нежными объятиями, сладкими поцелуями, подкрепленными жареной курицей и тушеной форелью, орошаемыми красным сухим вином – ну, скажем, “Arome de Pavie” 2003 года, они провели на природе три дня и с неохотой вернулись в город. Она осталась довольна: даже при поглощении душещипательной видеопищи, к которой он, как всякий влюбленный мужчина был склонен, ей ни капли не было скучно рядом с ним.
На каникулах они побывали в гостях у Светки и Юрки. Вели себя там, как молодожены, которые уже успели узнать друг о друге много приятного, удивительного и нежного, отчего обращались теперь друг с другом, как с хрупким драгоценным сосудом. Она заботливо следила, чтобы его тарелка не пустовала, при всяком удобном случае хвалила его, публично шептала ему на ухо что-то тайное и стеснительное и, вообще, обходилась с ним мягко и горделиво – как молодая жена, которой одной только и ведомы те удовольствия и сладости, которыми потчует ее муж.
Он по привычке вступил с мужчинами в спор, и она, поглядывая на него, поймала себя на том, что невольно любуется его живой увлекательной мимикой и точными звонкими формулировками, пусть даже спорными. Возможно, в тот раз он никого ни в чем не убедил, но, сам того не зная, заставил ее испытать благостное удовлетворение: вот он, ее нынешний мужчина – надежный, крепкий, любящий и независимый!
Спор как всегда в его присутствии вышел из-за положения в стране, которое он упорно считал гиблым и безнадежным, и она в какой-то момент подумала, что при таком его настроении рано или поздно придется решаться на что-то кардинальное и хирургическое. Она не забыла его планы по поводу земноводной жизни и пару раз торопливо, на ходу примерила на себя возможный ее уклад.
«Почему бы и нет… – думала она, беря в расчет предстоящую беременность и декретный отпуск, – а дальше посмотрим…»
44
Они побывали в театре на Владимирском, где давали «Король. Дама. Валет». Он сам предложил ей этот спектакль – Набоков, как-никак. С известных пор он, оказываясь с ней на публике, доверял не теории вероятности, при всей своей учености не знакомой с законом подлости, а собственным глазам. Как ретивый охранник, прикладывающий приметы террориста к подозрительному окружению, он торопливо и внимательно всматривался в лица мужчин, отыскивая в них проклятое сходство, что наконечником сломанной стрелы застряло у него отныне в самом сердце. Никак не обнаруживая при ней своих вещих тревог, он тайком косился на нее в поисках следов ищущего внимания. Но нет: она вела себя безукоризненно, смотрела на публику рассеянно и безмятежно.
Между тем, остерегаясь покойника, он обнаружил довольно выпуклую неприятность со стороны живых, а именно: слишком многие, если не все, заворожено пялились на его невесту, притом что к столу духовной пищи она выходила, слегка припудрив носик и в одежде предельной скромности.
Разумеется, в этом не было для него ничего нового – он замечал это и раньше, но как-то вскользь и без должного значения. Да и позиция его до Антиба не казалась ему такой уязвимой – незнакомый с вирусом владимиромании, был он тогда всего лишь нелюбим. И вот теперь его и без того, как он считал, шаткому положению приходилось считаться с раздражительным напором чужих сканирующих взглядов. Ему казалось, что все, кому ни лень рассматривают ее. Особенно невыносимы были сопатые, щеголеватые, крепко надушенные личности, непонятно для чего посещающие храмы искусства. Назойливые взгляды их, как навозные мухи пристально и беззастенчиво, нагло и похотливо ползали по ее неприкосновенному облику.
Вслед за неприятным открытием мысль, которая должна была посетить его давным-давно, пришла ему в голову: что он станет делать, если кто-то вольно или невольно оскорбит ее при нем намеком или грубой репликой?
«Конечно, драться!» – решил он и добавил к занятию бегом ежедневный бой с тенью будущего оскорбителя. Ни разу в жизни он ни с кем не дрался, о драке имел представление самое что ни есть киношное, и по утрам, спрятавшись от невесты в дальней комнате, смешно и неловко расправлялся с чужой тенью, выбрасывая руки, дрыгая ногами, неуклюже ворочая корпусом, сосредоточено сопя, тяжело глядя исподлобья и всякий раз становясь победителем…
Судя по всему, ее недозревшее чувство достигло все же той степени чуткости, что позволяла ощущать его скрытое беспокойство.
– Бери меня скорее в жены – я так хочу ребенка! – дразнила она его.
Она и вправду мечтала о ребенке. В своих жадных мечтах она иногда заходила так далеко, что готова была, скрепя сердце, объявить ему, что, наконец, любит его и желает завтра же выйти за него замуж. Кажется, что проще сказать «Я люблю тебя, Димочка!» и тем самым стронуть с места лавину таких приятных и долгожданных событий! Только вот сможет ли она повторять это сто раз на дню, как было у нее с Володей…
В середине февраля она ему сказала:
– Между прочим, после восьмого марта уже можно подавать заявление. Что изменится от того, если это случится на неделю раньше?
– Пусть будет как ты хочешь… откликнулся он покладисто.
– Я хочу замуж завтра. Но ведь ты не хочешь…
– Ты же знаешь, что я мечтаю об этом с момента нашей встречи!
– Тогда ты просто вредный, противный мальчишка с коварными мечтами! Признайся лучше, что ты тянешь со свадьбой, потому что боишься потерять свою мужскую свободу! – капризно говорила она, иезуитской смесью невинности и коварства подтачивая его необъяснимое упорство. А что прикажете ей думать? Чем иначе объяснить его нерешительность? Разве стоит принимать всерьез его красивые разговоры о ее благе? Неужели он не понимает, что ее благо – это семья?
– Наташенька, ну что ты такое говоришь! Ну, как у тебя только язык поворачивается! – наливался он тропической смесью негодования, обожания и умиления. – Ты же знаешь – кроме тебя мне никто не нужен!
– Это ты сейчас так говоришь, но вот погоди, я постарею, подурнею, ты станешь заглядываться на молоденьких, и будешь заниматься со мной не любовью, а сексом! Или еще хуже – исполнять супружеский долг! – терзала она себя мучительной выдумкой, сама в нее не веря.
– Глупая моя! Какая ты у меня глупая! – стискивал он ее в объятиях до нежного хруста, до остановки дыхания, но переубедить ее этим не мог.
Думала ли она о том, что ждет их через десять лет? Считала ли она их отношения романтичнее, скажем, Светкиных с ее мужем? Долго ли ее жених сможет пылать рядом с ее безответным чувством и что добавит к этому сроку ее любовь к нему? Законные вопросы без внятных ответов.
– Скажи, Светка, существует любовь после брака?
– Ты же сама была замужем, знаешь…
– Я Мишку не любила…
– Это ты сейчас так говоришь…
– Нет, теперь я знаю точно, потому что у меня был Володя. Не могу представить, чтобы моя любовь к нему прошла, будь он жив…
– Это все теория, моя дорогая.
– А ты? Ты могла бы изменить своему мужу?
– А зачем?
– Ты не боишься, что встретишь другого мужчину и влюбишься?
– А зачем?
– А если муж встретит другую?
– Вот тогда и посмотрим!
Собственно говоря, их совместная жизнь, пусть и без той четырехугольной чернильной отметки, которой государство благословляет граждан на размножение, внешне вполне соответствовала семейной. Те же неохотные пробуждения с желанием подремать еще пять минут, та же технология утренней сборки на виду друг у друга, когда человеческая заготовка, доведенная теплым сном до пластического состояния, перемещается с одного производственного участка квартиры на другой, обретая форму и твердея на ходу, пока не окажется в прихожей, готовая воссоединиться с такими же, как она деталями человеческого мира.
Легкая спешка за завтраком, торопливые сообщения, помечающие на карте дня места их предполагаемого пребывания, голубиный поцелуй при расставании, велюровый тон телефонного общения. В отсутствии детей их внимание и забота доставались им самим, и они, ловко лавируя среди привычных и необременительных обстоятельств, переезжали с квартиры на квартиру, как из одного замка в другой. Забирая с Петроградской стороны, он вез ее обедать на Васильевский. Когда она находилась в офисе на Московском проспекте, он привозил ее к себе, где его мать деликатно хлопотала вокруг них. Порой она и сама прибегала туда в обед или вечером и, поцеловав Веру Васильевну, хозяйничала, как у себя дома. Обе женщины все крепче цеплялись друг за друга хоботками взаимной симпатии.
У нее появилось ощущение второго дома. Там и сям возникли островки ее трогательной экспансии: на полочках ванной комнаты появились шампуни, гели, лосьоны в изысканных завлекательных флаконах, смывки, лаки для ногтей, фен, гребень. В холодильнике – тюбики с животворными мазями, коробочки с патентованными кремами, рассчитанные как на ее дневное здесь пребывание, так и на ночное. В шкафу его комнаты затаились две ночные рубашки, несколько трусиков, пара колготок, полотенца, салфетки, тампоны, два свитера. Там же на плечиках висели вельветовые брючки и толстая рыжая кофта полярного назначения. Работая с бумагами, она устраивалась за его столом, поглядывая на свою фотографию, на которой была теперь обречена вечно ему улыбаться осторожной недоверчивой улыбкой первых дней их знакомства.
Когда она по-женски болела, то, случалось, разгуливала по дому в длинном, льняном сарафане и морщилась, когда держась за поясницу, осторожно усаживалась рядом с ним на диван. Свободный покрой платья вместе с характерными предосторожностями волновали его воображение уже совсем скорой ее беременностью.
Возвращаясь домой в плохом настроении, она говорила:
– Извини, Димочка, у меня паршивое настроение, но ты здесь ни при чем…
Он со своей стороны уже знал, что не стоит интересоваться причиной, а следует подождать, пока она расскажет сама. Как правило, причины корнями уходили в ее работу, а из рассказов о ее работе ему доставались лишь избранные сочинения. Она не любила распространяться на эту тему.
45
Она предупредила Феноменко, что в апреле уйдет от него, и он отнесся к ее сообщению на удивление спокойно. Запамятовав скандальное прошлое, их отношения ровно катились по рельсам параллельных интересов. Он избавился от надоевшей ему Лидии и взял свежую наложницу, а потому пожелал, чтобы Наташа подготовила ее перед уходом насколько возможно.
Зима в этом году была хороша – слабоморозная, со снегом, и в выходные они выезжали за город, где по вечерам ворковали у камелька, понемногу обретавшего все признаки семейного очага. Тонко чувствуя ее настроение, он умел вовремя замолчать с тем, чтобы в нужный момент оживиться. Ее статус окольцованной, но все еще свободной жар-птицы заставлял охотника быть предельно осторожным. И совершенно напрасно, потому что про себя она уже решила, что непременно выйдет за него замуж, даже если дорогу ей вздумает перебежать майский жук Володиной породы. Оба относились к своему сожительству, как к короткому, мощному трамплину, призванному крутым ускорением катапультировать их на седьмое небо семейного счастья. В таком убеждении они прожили январь и февраль, и всё различие между ними, как и прежде, заключалось лишь в том, что тот высший восторг, какой возникает при акте любви, у него длился до следующего акта, у нее же растворялся в деловитой суете.
Вечером первого марта ей вдруг неистово, невыносимо, нестерпимо захотелось замуж. Он готовил ужин, и она, бесцельно слоняясь по кухне и рассеянно касаясь всего, что попадало под руку, собиралась с духом, чтобы дать, если можно так выразиться, решительный бой его нерешительности.
– Долго еще? – спросила она, заглядывая зачем-то в чайник.
– Уже скоро, потерпи. Хочешь, я сделаю тебе бутерброд? – откликнулся он, взглянув на настенные часы.
– Нет, я хочу знать – долго еще ты собираешься шантажировать меня миной замедленного действия?
– О чем ты, Наташенька? – удивленно развернулся он к ней, оторвавшись от доски, на которой резал лук.
– Когда мы, наконец, пойдем подавать заявление?
– Но мы же договорились – сразу после праздника! – укоризненно напомнил он.
– Не хочу после праздника! Хочу завтра! Хватит заботиться о моем благе! Мое благо – это ты! – стояла она перед ним с упрямым лицом. Он смутился и неожиданно легко сдался:
– Хорошо, завтра, так завтра! В конце концов, я и сам этого хочу…
– Вот и замечательно! – кинулась она к нему на шею, и он едва успел развести испачканные луковыми слезами руки.
– Димочка, я так устала ждать, ты не представляешь! – пожаловалась она, прижимаясь горячей бархатной щекой к его сухой покалывающей щетине. И затем жарко прошептала ему на ухо: – Не нужен мне никто, кроме тебя!
Их приподнятому настроению не хватило вечера, и пришлось занять у ночи два часа. В перерывах между тремя триумфами, из которых последний был особенно бурным и упоительным, они горячо и прочувствованно шептались.
– Ах, как тебе не повезло с невестой: ты не увидишь меня в белом свадебном платье! – огорчалась она.
– Наташенька, ты же знаешь – фата не гарантирует семейное счастье…
– Знаю, Димочка, ох, как знаю! И уже знаю, какую сделаю себе прическу!
– У тебя есть пожелания насчет свадебного подарка невесте от жениха? Только не стесняйся!
– Если уж без этого никак нельзя…
– Никак…
– Тогда что-нибудь скромное…
– Я знаю, что подарить. На всю жизнь тебе и нашей дочери…
– Так я и знала – опять бриллианты…
– Да, они, вечные ценности…
И поцелуи, поцелуи, поцелуи… Это ли не любовь? Ему казалось, что то, в чем она не решается признаться вслух, молчаливо и неутомимо твердит ее драгоценное податливое тело…
– Что ты думаешь о венчании? – осторожно спросил он.
– Знаешь, Димочка, если бы ты спросил меня об этом десять лет назад, я бы, может, и клюнула. Но не теперь, нет, не теперь. И потом, я считаю, что венчание у нас здесь, в сердце. Ты меня любишь, и это для меня важнее всех обрядов…
Ну, как тут не поцеловать ее дивную, разумную головку!
И последнее, самое важное:
– В заявлении надо указать, кто какую фамилию хочет носить… – просветила она его.
– И?..
– Я понимаю, что должна взять твою, но мне так жалко расставаться с моей…
– смиренно склонила она голову ему на грудь.
– Тогда будешь Ростовцева-Максимова!
– А что! Звучит! – обрадовалась она.
Вот тут и последовал тот самый третий триумф – бурный и упоительный…
Чтобы избежать очереди и приблизить долгожданное событие, решили регистрироваться в ЗАГСе – здесь же, на Васильевском. Правда, на следующий день там после воскресных торжеств наводили порядок, отчего они попали туда только во вторник, зато он заранее смог оплатить госпошлину.
Была оттепель, и снег на улицах тихо таял, как их сердца. Они добрались до места и, прижавшись друг к другу калачами рук теснее обычного, направились к заветному зданию. Их записали на четвертое апреля, и начался отсчет суматошных дней. Был составлен список пронумерованных забот, которые, как косточки торжественного события должны были постепенно обрасти плотью пометок, исправлений и дополнений. Новость мгновенно облетела подруг, и вечерами она с особым удовольствием перемывала с ними эти самые косточки, извлекая из коллективного опыта все новые и новые заботы и пополняя ими список, отчего торжественная конструкция будущего праздника тяжелела на глазах.
В первую очередь обсуждались ее платье, белье, чулки, туфли – то есть то, что будущий муж с особым волнением будет снимать с нее в брачную ночь. Затем прическа, макияж, маникюр, их кольца, ее украшения, галстук жениха, музыкальная окантовка регистрации, цвет и полоска женихова пиджака, меню и все то, что собранное воедино и оживленное коллективным сердечным волнением покончит с ее затянувшимся состоянием блуждающей звезды и выведет вместе с ее спутником на семейную орбиту.
– Только тринити! – важно наставляла Юлька. – Сейчас все приличные люди носят тринити!
– Есть чудный фасон! – восклицала Ирка по поводу платья. – Очень миленькое платьице! Я тебе сброшу ссылку!
– Нет, нет, не вздумай! – решительно возражала Светка. – Ни до каких колен! Ты что, с ума сошла? Только до пола! И скромный лиловый цвет. Ну, или бежевый. И голые руки и плечи. Ну, и что, что похоже на свадебное? Ты же, в конце концов, замуж выходишь, а не на вечеринку идешь!
– Наташенька, послушай меня – не забирай в кичку, а подними от висков, забери на затылке и спусти крупными прядями на плечи! Ну, и там, несколько жемчужных заколочек в форме цветочков разбросай… – проникновенно советовала Дина.
– Ой, Наташенька, ты что ни наденешь, все тебе будет к лицу! – привычно восхищалась Мария.
Розовые, голубые, парчовые, шелковые, платиновые, бриллиантовые подробности сладкой музыкой волновали ее душу. Вечерами она спешила поделиться ими с женихом.
– Вот, послушай, что мне сегодня сказала Светка (Ирка, Юлька, Дина, Мария, Ирина Львовна)!
Он внимательно слушал, улыбался, вставлял где надо слово, что нужно принимал к сведению. Его обращенное к ней лицо, которое в другое время от привычного для него избытка нежности казалось ей простоватым и даже, прости господи, глуповатым, в минуты умственных трудов преображалось. Глаза его слегка прищуривались, как у первоклассного шахматиста, который, пожевывая губы, ждет, когда глубины мозга выбросят на поверхность единственно правильный ход, чтобы встретить его чуть заметной иронией тех же губ. Это и было его истинное лицо – умное, зрелое, проницательное, убедительное и благонадежное. В такой момент взор ее, как сказал бы поэт, туманился нежностью и умилением: подумать только – это и есть ее суженый! Тот самый возникший неизвестно откуда мужчина, с которым она намерена провести не такой уж и маленький остаток жизни! А если бы она его не встретила?
Десятого марта ему неожиданно позвонила Галка. Она хотела лишь узнать, как он поживает. Он ответил, что у него все хорошо, извинился и с запозданием поздравил ее с прошедшим праздником. Он, видите ли, помнил и хотел ей позвонить, но не смог. Она отмахнулась и спросила, будет ли он в городе в день своего рождения – она хотела бы его поздравить. Да, конечно – он никуда не собирается уезжать и будет рад ее звонку, сообщил он, чувствуя легкое раздражение от ее частого и неуместного после двадцати лет разлуки внимания. В следующий раз он обязательно объявит ей, что собирается жениться. Хорошо еще, что в этот момент рядом с ним не оказалось невесты.
Через три дня поехали за платьем. В свадебном салоне Наташа недолго примеривалась и почти сразу вышла к нему в длинном, серебристо-голубовато-лиловом атласном одеянии. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы согласиться с ее вкусом. Платье тонким образом соединяло в себе целомудрие и соблазн. Исполненное не без тайного влияния эллинов, оно ровными гладкими складками струилось от пояса в пол, волнистым занавесом укрывая сцену, на которой им в первую брачную ночь надлежит разыграть мистерию, посвященную Гименею. Бюст живописно, туго и современно морщинился, и голубая брошь розочкой уселась на то место, где под испещренными мелкими складками бюстгальтером сходились теснящиеся полушария груди. Лямочки, вырастая от подмышек, истончались на матовых гладких голых плечах, которые в союзе с такими же гладкими тонкими руками и овалом груди приглашали возбужденных мужчин вообразить все остальное. Ожившая скульптура богини, да и только! Она прошлась, добавив к перечисленному отливающиеся благородным блеском слепки ее бедер.
«Боже мой, настоящее сокровище! Она сама не знает себе цены! И что же – я награжден ею или наказан? Если награжден, то за что? А если наказан, то за что?» – думал он, улыбаясь восхищенно и растерянно.
Он сразу же заметил, чего не хватает в наряде: следовало купить браслет, серьги и колье сверкающей бриллиантовой породы и заменить эту безвкусную голубую брошь.
Вечером она снова надела платье и разглядывала себя, то распуская волосы, то забирая вверх, меняя сережки и прикладывая колье. Он добился разрешения сфотографировать ее на свой мобильный телефон, и она в нетерпеливом полуобороте прислонилась к стене, заведя согнутую руку за спину и расслабив другую. Одно ее колено разгладило голубоватую складку, и скрученные волосы закрыли дальнее плечо. «Я сейчас не готова, я всего лишь заготовка!» – говорило ее недовольное принуждением лицо.
Фотографией этой он украсил свой телефон и компьютер.
Через два дня они купили кольца и тем самым миновали веху особого значения на том осыпанном сахарной пудрой пути, что венчался хрустальным храмом их брачных уз. По его настоянию кольца были выбраны самые дорогие – гладкие, золотые, трехцветные.
В течение следующей недели он приобрел серьги, браслет и колье, в которых бриллиантов было больше, чем белого золота. Кроме этого была куплена выпуклая брошь, сияющая, с какой стороны ни взгляни, алмазами и голубыми топазами. Он с легким сердцем заплатил за украшения сто пятьдесят тысяч долларов и собирался украсить ими невесту в день свадьбы.
Надо сказать, март вышел на редкость приподнятым и взволнованным. Каждый день приближал заветную дату и усиливал нетерпение, отчего невеста становилась все ближе и ласковее, так что, казалось, вот-вот грянет ее признание, и сбудутся его легкие и сладкие, как воздушная кукуруза мечты!
Призрак дежавю не витал над ней: она воспринимала предсвадебные хлопоты, как первородные, а вовсе не как повторные. Все обновки примерялись, и эти примерки отдавались в ней приятным замирающим волнением. Уже было куплено и ждало своего часа все то, что слетит с нее, когда они останутся вдвоем. И пусть в этом не будет тайны, но будет скрытое значение: брачная ночь станет ее последней стерильной ночью – на следующий день она перестанет принимать таблетки и будет возрождаться для новой, третьей жизни. Уже были куплены трехнедельные путевки в Эйлат, и по ее расчетам выходило, что зачатие произойдет именно там. И в том, что это случится в пределах Святой земли, она видела особый знак судьбы.
За неделю до его дня рождения она придумала, как избавить его от остатков страха. Возможно, методы ее напоминали аврал на строительстве важного объекта, который непременно нужно сдать в срок, но других в ее распоряжении пока не было. Вернувшись вечером с работы и стараясь выглядеть как можно естественней, она чуть ли не с порога оживленно объявила:
– Ты представляешь, я сегодня встретила похожего на Володю человека и даже не встрепенулась – ну, вот нисколечко! Ты представляешь?
Он внимательно посмотрел на нее, и она поспешила его обнять, чтобы спрятать лицо за его плечом. Он не стал ее спрашивать, как и где это случилось, и прочие подробности, а просто сказал:
– Вот и хорошо, вот и прекрасно! – и гладил ее по спине.
Конечно, чтобы по-настоящему вылечить его, ей следовало признаться ему в любви, и она признается, обязательно признается! Пусть даже не вполне искренне и авансом, но она скажет, что любит его. Скажет в их счастливую брачную ночь, в томной изможденной тишине, после того, как истерзает себя исступленными стонами их первого супружеского акта. И если покривит душой, то совсем чуть-чуть, потому что знает – она на верном пути!
С виноватым недоумением взирала она из марта на свое сентябрьское помрачение, не зная еще, что любое событие, являясь плодом предыдущих деяний, само порождает новые события, и таким образом не кончается никогда, заставляя нас влачить за собой бесконечные причинно-следственные цепи…
46
Перед тем как стремительно и ожесточенно ввергнуть свои матримониальные планы в кому, они успели отметить его очередной день рождения.
Тридцатого марта, за пять дней до свадьбы они пригласили к себе на Московский Юрку и Татьяну и, наскоро поздравив хозяина, чье сорокадвухлетие палеонтологического интереса не представляло, устроили смотр предсвадебной готовности. Само событие виделось им таким ясным и неотвратимым, и было так близко, что, казалось, продень руку сквозь тонкую кисею сегодняшнего дня, и можно потрогать кружевную пену его одежд.
Обсудив общую, бесполую, так сказать, часть грядущей церемонии, будущая хозяйка увела жену будущего свидетеля на кухню, где и задала корм ее ахающему любопытству, меньше всего желая возбудить зависть. Но жена будущего свидетеля цепко и настойчиво выуживала из нее детали, позволяя себе самой решать, насколько они пикантны и уместны. Она, например, очень хотела знать, что молодые собираются предпринять, чтобы сделать брачную ночь незабываемой.
– А что тут особенного можно предпринять? – простодушно удивилась Наташа. – У нас с Димой и без того все хорошо…
– Ну, не скажи! – щурилась гостья. – Ведь есть вещи, которые уместны только в браке!
– Например?
– Ну, много чего… Ну, например, поцеловать его… Ну, ты понимаешь, куда! Свадебный подарок, так сказать… – отвечала Татьяна, раздувая ноздри.
Приятным здесь было то, что гостья не допускала мысли (или делала вид), что Наташа и ее жених могли заниматься этим раньше.
– Ну, не знаю… – расчетливо помялась Наташа. – Надо подумать… Но мне все-таки кажется, что в брачную ночь это не слишком романтично…
Странное представление Татьяны о браке, как о лицензии на порок покоробило Наташу. Татьяна же, ни с того, ни с сего заговорила о своей сексуальной эволюции, больше похожей на медленное разложение выброшенной на берег медузы, чем на благовонное тление драгоценного женского целомудрия. Гостью развезло на подробности, и хозяйка неожиданно услышала такое, отчего ей порой хотелось заткнуть уши. Жена будущего свидетеля, не краснея, делилась опытом, которого у Светки не было и в помине! Среди скользких и потных предметов экспозиции попадались крайне унизительные. Например, эпизод, когда пронырливый весельчак будущего свидетеля, побывав в содомской пещере своей жены… Ох, нет, увольте от подробностей, иначе ее стошнит! Борясь с отвращением, Наташа не выдержала и воскликнула:
– Фу, какая гадость! Не понимаю, как ты можешь этим заниматься!
– Молча! – отвечала Татьяна. – Ты что думаешь, я сразу до этого дошла? Ничего подобного, любимый муж приучил! Все они такие – сначала тихие и почтительные, а потом как с цепи срываются!
И переждав хозяйкину гримасу, добавила:
– Кстати, Дима у нас в этом деле большой знаток!
– Откуда ты знаешь? – болезненно воскликнула Наташа.
– Муж говорил. Ведь это Дима его всему научил… А разве он тебе еще не показывал? – сверкнули невинным коварством желто-зеленые кошачьи глаза.
Сдерживая брезгливое негодование, Наташа кое-как дотянула до конца приема, а когда они остались одни, улеглась на диван и отвернулась. Ему пришлось приложить усилия, чтобы разговорить ее.
– Наташенька, радость моя, что случилось? – присев с краю и не решаясь ее трогать, спрашивал он.
Она долго не отзывалась, а когда повернулась к нему, то сказала:
– Твоя Татьяна сегодня рассказала о себе такие ужасные вещи, что я не знаю даже, что и думать…
– Что за вещи? – заволновался он.
– Это касается их дел в постели… Ужасные, развратные вещи! Даже вспоминать не хочу! Но самое ужасное, что она сказала, будто это ты занимался образованием ее мужа, учил его всей этой гадости… Значит, вся эта гадость ждет и меня?
– Наташенька! – задохнулся он, вытаращив глаза, в которых испуга было больше, чем негодования. – Она что, сдурела?! Никого и никогда я не учил никаким гадостям, вот тебе крест святой! О, господи, этого еще не хватало!
Он передохнул и продолжил:
– Юрка, конечно, хороший парень, но большой любитель порнухи – он сам кого хочешь научит! Ну и дура, эта Танька!
– Тогда не понимаю, зачем ей это было нужно, – нахмурилась она. – Если бы я не знала, то снова подумала бы, что ты с ней спал…
– Наташенька, Христом богом клянусь – не спал я с ней! – возопил жених, рухнув перед диваном на колени.
– Значит со зла. Значит, ревнует тебя жена твоего лучшего друга и не хочет, чтобы ты мне достался! Если так, то она сильно просчиталась: никто теперь тебя у меня не отнимет!
И подтянувшись к его возбужденному растерянному лицу, поцеловала:
– Все хорошо, успокойся…
47
Наутро он проводил ее на работу, договорившись заехать туда вечером, чтобы отправиться к ней на Васильевский, а через час ему позвонила Галка, и третий акт неоновой оперы, такой же нелепый, как и надрывный начался.
– Здравствуй, Димочка, с днем рождения тебя! – услышал он и откликнулся с натужной бодростью:
– А-а, Галчонок! Спасибо! Как ты там?
– Ничего… – замялась Галка и вдруг сообщила: – А я сейчас в Питере, на Московском вокзале… Не хочешь встретиться?
– Как – в Питере? А что ты тут делаешь? – не удержался он от пугливого недоумения.
– Проездом… Вечером домой.
– И Санька с тобой?
– Нет, я одна…
– Как – одна? Почему одна?
– Так получилось…
– Ну, ты подумай, какая смелая! – соображал он, как ему быть. – Да, Галчонок, конечно, я приеду! Жди меня в большом зале возле памятника Петру Первому. Найдешь?
– Найду…
Он добрался до вокзала за полчаса. Сквозь сырой серый день, через привокзальную суету и маяту залов ожидания, через историю и модерн, через четыре революции и их окаянные последствия он проник в большой зал, похожий на гулкую прихожую дебаркадеров. Здесь, у подножия и на виду бронзовой строгости главного зачинщика бывшего и будущего российского абсурда зашарил он глазами по сторонам и, услышав за спиной: «Дима!», обернулся. Метрах в пяти от него, слившись с толпой ожидающих, стояла смущенная Галка. Дорожная сумка черной собакой прилегла у ее ног, а обтянувшая живот мягкая коричневая куртка приглашала к разговору об аистах и капусте. Он подошел и поцеловал ее в щеку.
– Вот это да! – бодро заговорил он. – Вы с Санькой, никак, рожать собрались!
Видно было, что она готовилась к встрече: подведенные глаза, тронутые помадой губы, пудра, бессильная против разгоревшихся щек и веснушек. Черты лица ее, нежные и беззащитные, как это бывает у некоторых женщин в положении, слегка оплавились под жаром беременности, взгляд был напряжен и улыбчив.
– Так получилось! – смутилась она, и глаза ее беспомощно забегали: – Пойдем где-нибудь присядем!
– Я хотел показать тебе город, потом мы где-нибудь пообедаем – там ты мне все и расскажешь!
– Нет, пойдем сначала присядем! – отмахнулась она.
Он подхватил ее сумку, они поднялись по ступенькам и попали в неуютный, обжитой сквозняками зал. Сели.
– Поздравляю! – покровительственно начал он. – Санька, небось, рад? Кого ждете – мальчика, девочку?
Она помялась и, отведя глаза в сторону, тихо сказала:
– Димочка, Санька здесь ни при чем… Это твой ребенок…
Улыбка медленно сошла с его лица, словно потерявший голос оратор с трибуны.
– Как… мой? – выдохнул он.
– Ну, ты помнишь прошлый год, осенью…
– Но ты же сказала, что ничего не будет… – пробормотал он.
– Я и сама так думала – ведь с Санькой у меня уже ничего не было…
– А почему ты не сделала… – растерянно начал он, но она вдруг выпрямила спину, расправила плечи, лицо ее приняло независимое выражение, и она спокойно и снисходительно перебила его:
– Успокойся. Мне от тебя ничего не нужно. Я просто приехала повидать тебя перед родами.
– Но Галка, это же глупость! Господи, какая глупость! – пришел он, наконец, в себя.
– Нет, Димочка, ребенок – это не глупость! Тем более, твой ребенок… – смотрела она на его скомканное, испуганное лицо.
– Ах, Галка, Галка! Что ты наделала! – не имея сил сердиться, проговорил он с тихим отчаянием.
– Димочка, успокойся! Я сейчас уйду, и ты про меня никогда больше не услышишь! – взяла она его руку. – Просто мне так захотелось увидеть тебя еще раз!
– Ты не понимаешь, – глухо сказал он, отнимая руку, – я как раз собрался жениться…
– Вот и хорошо, вот и хорошо! – оживилась она. – Конечно, женись! Обязательно женись! Тебе давно пора жениться! Ведь я всегда знала, что мы с тобой никогда не сможем быть вместе!
Он посмотрел на нее, ничего не сказал и отвел глаза.
– Ну, все, я пойду… – встала она.
– Куда ты? Сядь, – тускло осадил он ее.
Она послушно села.
– Санька знает?
– Он думает, что это его ребенок.
– Как так?
– Ах, Димочка! Ты что, не знаешь, как это делается? – усмехнулась она.
– Нет! Как-то не приходилось быть в положении рогоносца! – скривился он.
– Значит, тебе повезло… – убрала она неуместную улыбку.
Он посмотрел на нее и спросил:
– Уже известно, кто будет?
– Девочка! – улыбнулась она, виноватая и благостная, как золотая осень.
– Девочка… – эхом отозвался он. – Тетя Катя знает?
– Естественно…
– И что?
– А ничего! Она у меня понятливая!
– Вы, я вижу, там все понятливые… Почему мне раньше не сказала?
– Это мой ребенок! Тебе не обязательно было знать!
– А почему меня не предупредила, что собираешься приехать?
– Боялась, что ты не захочешь меня видеть…
– Да уж… – произнес он и примолк.
Маленькая круглая новость, со всей очевидностью проступавшая сквозь Галкину куртку, была на самом деле размерами с Гулливера и никак не желала укладываться у него голове, несмотря на все старания его вопросов-лилипутов. Доведя молчание до тягостного, он не нашел ничего лучше, чем задать вопрос, уместный полгода назад, а теперь выглядевший под стать его беспомощной растерянности:
– Слушай, а ты не боишься рожать в таком возрасте?
– Какие наши годы, Димочка! – с беспечной улыбкой тряхнула она головой.
Он взглянул на нее и вдруг испытал уважительное удивление перед ее спокойным мужеством, рядом с которым его растерянность выглядела безнадежно лилового женского рода. Поняв, что пора определиться, он спросил:
– Ты когда обратно?
– Сегодня в двадцать три пятьдесят пять.
– Тогда поехали, – решительно поднялся он.
– Куда?
– Ко мне домой. Посмотришь, как я живу. С матерью познакомлю. Побудешь у меня, а вечером я тебя провожу.
– Димочка, может, не стоит? Я и тут, на вокзале отсижусь…
– Галка, я хоть парень и городской, но не скотина! Ты что, всерьез думаешь, что я могу бросить ВАС на вокзале одних? Поехали!
И подчиняясь не до конца еще дошедшей до него правде своего интересного положения, он повел ее, неожиданную и опасную обузу, к машине. Она легко и ровно семенила рядом, поскольку срок был еще недостаточным, чтобы превратить ее походку в утиную. Когда уселись, она сказала:
– Какая у тебя красивая машина!
Сказала это, скорее, для того, чтобы нарушить его сосредоточенное молчание.
– Ерунда! – почти угрюмо откликнулся он, не глядя на нее.
– Димочка, прости меня, пожалуйста! – взмолилась она. – Ведь я же не знала, что ты собрался жениться! Конечно, мне не надо было приезжать, но мне так хотелось тебя увидеть – кто их знает, эти роды! Давай вернемся, и я подожду на вокзале от греха подальше!
– Сиди! – повернулся он к ней. – Сиди, Галка, не дергайся…
Женщины отличаются одеждой, но не взглядом. И сейчас, глядя в ее глаза, он видел Ирину, которая также отчаянно смотрела на него, ожидая его решения.
– Ты ни в чем не виновата… – смягчился его голос, и он, взяв ее руку, для убедительности поцеловал. Подумать только – у нее под курткой его дочь!
– Как она, не беспокоит? – спросил он, коснувшись ее живота.
– Не-ет, она у меня девушка смирная! – облегченно улыбнулась Галка.
– Хочешь, я покажу тебе город? Или сразу ко мне?
– Лучше к тебе! – окрасила она виной улыбку. – Я немного устала с этими переездами…
Оказалось, что она приехала в восемь утра и ждала до одиннадцати, чтобы ему позвонить. Ночью она плохо спала – вагон качало, было душно, она никак не могла пристроиться. Утром выпила чай с ужасным привкусом хлорки и не смогла ничего съесть.
– Совсем старая стала… – пошутила она. По ее лицу бродила тень смущенной улыбки.
Они мягко и бесшумно пробирались через узкое горлышко когда-то широкого Лиговского проспекта, и умозрительные последствия их неосторожной близости толкались у него в голове, пытаясь выстроиться в стройный ряд. Но даже в нестройном виде их неровных очертаний было достаточно, чтобы угадать набухшую перспективу и грозовой задний план неминуемой развязки. Получалось, что даже если ему удастся скрыть от невесты факт измены, рано или поздно правда вместе с ребенком вылезет наружу, и он, Д.К. Максимов, окажется в ее глазах малодушным лжецом. И это притом, что он, по большому счету, не виноват: не надо было ей на юге тешить свою память таким извращенным образом, не надо было путаться с шефом-подлецом, да к тому же еще знакомить их! Его упрек налился вдруг тяжкой плотью того мрачного безутешного отчаяния, которое овладело им после разговора с ее бывшим любовником, и накрыл невесту густой тенью раздражения, отчего его вина смешалась с ее виной и общее наказание поделилось поровну. От такой арифметики его угрызения совести ослабли, и он почти благодушно спросил:
– Ну, как вы там?
Галка быстро на него взглянула и умиротворенно ответила:
– Нам с нашим папочкой хорошо!
Когда приехали, он помог ей выбраться и повел к подъезду. Добрались до квартиры и остановились перед дверью. Он достал ключи.
– Мне страшно, Димочка! Что мы скажем твоей маме? – заволновалась заметно побледневшая Галка.
– Не трусь, Галчонок! – успокоил он ее. – Все будет нормально!
Они вошли, и он помог ей раздеться. На компанейские звуки в прихожую вышла Вера Васильевна.
– Знакомься, мать – Галочка Синицкая, из Кузнецка! – солидно представил он гостью под ее привычной девичьей фамилией. – Моя старая добрая знакомая. Можно сказать, росли вместе. Живет на той же улице, где жили дед с бабушкой. Бабушка ее очень любила и всегда приветы от нее передавала. Может, ты даже помнишь – я рассказывал тебе о ней! Галя у нас побудет до вечера…
Галка одернула темно-вишневую кофточку, и та, натянувшись на животе, обнаружила крупные поры домашней вязки.
– Очень приятно! – приветливо потянулась к гостье Вера Васильевна. – Помню, в свое время он нам с отцом все уши вашим Кузнецком прожужжал! Жалко бабушку – святая была женщина…
Гостья протянула ей стеснительную руку. Прошли в гостиную.
– Корми гостью, мать! – сказал он.
Оказалось, что Вера Васильевна как раз собралась в магазин, чтобы пополнить запасы, уничтоженные вчерашним приемом.
– Сходи тогда ты! – попросила она сына.
– Без вопросов! Покажи пока Галке, как мы живем, а ты, Галчонок, будь, как дома! И сними кофту – ты уже не на вокзале… – напутствовал он женщин, после чего оделся и ушел.
48
Иногда наблюдая за тем, как фигуры, причастные к одной игре, сходятся в одном месте, чтобы разыграть судьбоносный гамбит, трудно отделаться от мысли, что являются они туда не по своей воле, а по чужой милости, чье существование и обитель невозможно установить по причине ее метафизической природы. Согласимся – мысль такая же избитая и скучная, как стыки железной дороги или Млечный путь. Но вот что любопытно – в большинстве случаев ловушек судьбы можно избежать, если следовать простому правилу: не стоит стремиться туда, куда нас не зовут, так как это и есть проявление той самой чужой воли, которая то ли существует, то ли нет. Не разумней ли противится неясным сомнамбулическим позывам вместо того, чтобы уступать им, ибо там, куда мы являемся без приглашения, нас обязательно ждет приключение, и ладно еще, если приятное!
Судьба созидает, чтобы разрушать. Не то забавляется, скучая, не то, завидуя, казнит. Вот и здесь: едва Вера Васильевна приступила к обсуждению интересного положения гостьи (о чем же еще говорить с беременной женщиной!), успев выяснить срок беременности и пол ребенка, как раздался нетерпеливый звонок в дверь.
– Интересно, кто там? Диме вроде еще рано… – поинтересовалась неизвестно у кого Вера Васильевна и пошла открывать. В квартиру влетела раскрасневшаяся Наташа.
– Освободилась раньше времени и сразу к вам! – радостно сообщила она, прикладываясь к Вере Васильевне. – А у нас что, гости? – тут же заметила она лишнюю одежду и чужую сумку.
– Да, Наташенька, наша знакомая из Кузнецка навестила нас! – охотно сообщила Вера Васильевна. – Проходи, знакомься!
И Наташа прошла в гостиную, где навстречу ей с дивана поднялась миловидная, моложавая, украшенная беременностью женщина. Несмотря на ее явно провинциальный вид – темно-синее декретное платьем поверх тонкого серого свитера и по-домашнему собранные на затылке гладкие русые волосы – от нее веяло той повелительной вкрадчивой женственностью, силы которой, судя по полному отсутствию в ее лице заносчивости, она не знала. Была она смущена, но не испугана.
– Знакомься, Галочка: это Наташенька – Димина невеста! – обратилась к ней, забежав сбоку, Вера Васильевна.
Женщины протянули друг другу руки. От Наташи не укрылось, каким болезненным любопытством вспыхнуло лицо гостьи.
– Очень приятно! – отозвалась Наташа и тут же спросила: – А где у нас Дима?
– В магазин пошел, скоро будет! – поторопилась доложить Вера Васильевна.
Женщины расселись, и Наташа спросила гостью:
– Так вы из того самого Кузнецка?
– Да, из того самого, – смущенно ответила Галка и прокашлялась.
– К нам по делам или так? – поинтересовалась Наташа, вглядываясь в напряженное лицо собеседницы.
– Проездом, до вечера, – отвечала пунцовая Галка.
– Галочка живет на той же улице, где жили родители Диминого папы! – услужливо заполнила Вера Васильевна возникшую паузу.
– А! Значит, вы виделись с ним, когда он ездил туда на похороны бабушки! – предположила Наташа.
– Да, – кивнула головой Галка.
– Это было?..
– В начале октября, – сказала Галка и отвела глаза.
– Да, да! – подтвердила Наташа, внимательно глядя на нее. Заметное смущение и непривычная сдержанность гостьи непонятно почему тревожили ее.
– Я вижу, вы в положении…
– Да, уже не спрятать, – со смущенной улыбкой отвечала Галка.
– Завидую вам. А у меня все еще впереди. Какой срок?
Галка замялась, и Вера Васильевна поторопилась подсказать:
– Полгода!
– Вот как? – насторожилась Наташа. – Вы, конечно, замужем?
– Конечно! – подтвердила Галка.
– Почему же разъезжаете в таком положении одна? Тяжело, наверное?
– Нисколько! – улыбнулась Галка.
– Ну, не знаю! Я бы ни за что без мужа не поехала! – своенравно сказала Наташа.
– А я вот поехала… – спокойно и серьезно глядя на нее, отвечала Галка.
Вера Васильевна встала.
– Девочки, я вас оставлю – пойду на кухню, а вы уж тут без меня…
И ушла.
– Вы Диму давно знаете? – продолжала интересоваться Наташа.
– Двадцать восемь лет, – не задумываясь, ответила Галка.
– Ого! Наверное, уже бывали здесь?
– Нет, первый раз.
– Как же добрались? Как дорогу нашли?
– Меня Дима встретил на вокзале.
– Вот как? Странно, а мне он ничего не сказал!
– Он и сам не знал. Я ему только сегодня утром позвонила.
– У вас есть номер его телефона?
– Ну да, он мне сам его дал!
Гостья, кажется, успокоилась и отвечала теперь с безмятежной улыбкой.
– У вас это первый ребенок? – не отставала Наташа.
– Дочке двадцать лет…
– А зачем же вам второй? Вам ведь уже, наверное, за сорок?
– Сорок три…
– Тем более в таком возрасте… – не стеснялась Наташа, чувствуя, как ее раздражает скрытое вежливое сопротивление этой неизвестно откуда взявшейся беременной особы, сидевшей ровно и прямо со сложенными на коленях руками в сиянии непогрешимой всемирной правоты. Она не заискивала перед хозяйкой и не искала расположения, вопросы отскакивали от нее, не в силах прояснить ее неожиданное появление, ни степень знакомства с женихом. Внезапная глухая неприязнь подсказывала Наташе, что женщина, сидящая напротив, знает явно больше, чем говорит. Задав еще пару незначительных вопросов, Наташа извинилась, прошла на кухню и там спросила Веру Васильевну:
– Вера Васильевна, а кто она, собственно, такая?
– Как кто? Димина знакомая по Кузнецку, если я правильно понимаю.
– То есть, вы ее не знаете?
– По правде говоря, впервые вижу! По-моему, очень приятная женщина…
И в этот момент хлопнула входная дверь – пришел хозяин. Задержавшись в прихожей ровно столько, сколько нужно, чтобы скинуть куртку, ботинки и сунуть ноги в тапочки, он с пакетами в руках появился в дверях кухни. Лицо его при виде Наташи поменялось с улыбчивого на глупое, и он произнес весьма характерную фразу:
– Наташенька, а ты почему дома?
То же самое хотел знать Мишка, когда она застала его с любовницей.
– Освободилась раньше времени, – бесцветным голосом отвечала Наташа.
– Вот и хорошо! Ты уже познакомилась с Галей? – забегали его глаза.
– Да, – поджала губы невеста.
– Вот и хорошо, вот и славно! Тогда сейчас все вместе будем обедать! – засуетился он.
Ни слова не говоря, она прошла мимо него и направилась в прихожую.
– Ты куда? – кинулся он вслед.
– Отвези меня домой, – сухо сказала она, не глядя на него.
– Но, Наташенька! – слабо запротестовал он.
Она молча открыла дверь и вышла на лестничную площадку. Он быстро оделся и заглянул на кухню:
– Мать, поухаживай за Галей, я вечером вернусь! – и выскочил вслед за невестой.
Он нашел ее, молчаливую, у машины, открыл дверцу и подождал, пока она сядет.
– Кто эта женщина? – повернула она к нему строгое бледное лицо.
– Эта? Галка Синицкая из Кузнецка, моя, можно сказать, подруга юности! – заторопился он, краснея.
– И что она у тебя делает, твоя подруга юности?
– Ну, как что… Она здесь проездом… Позвонила утром и предложила встретиться на вокзале. Ну, я поехал – отказать неудобно, все-таки мы знакомы столько лет! А когда увидел, что она в положении – решил привезти ее к нам: не бросать же ее на вокзале! Разве я не прав?
– Ты ничего не хочешь мне рассказать? – глядя на него в упор, спросила она с прокурорской прямотой.
– А что я должен рассказать? – попытался удивиться он, чувствуя как кровь отливается от лица.
– Может, я дура, но начало ее беременности совпадает по времени с твоей поездкой на похороны, – подчиняясь проклятому женскому наитию, отчеканила она. – По-моему, в этом и есть причина ее приезда. Скажи мне, что я не права…
Пронзительно и не мигая глядя ему в глаза, она ожидала ответа, чувствуя себя на краю пропасти, откуда он мог ее оттащить, либо толкнуть вниз.
– Наташенька… – начал он неуверенно и замолчал. Насмешливая, безжалостная даль вдруг открылась ему, и он понял, что если сейчас скажет правду, то разрушит их мармеладное настоящее, а если соврет, то погубит их безмятежное будущее.
– Ну, я жду… – дрогнул ее голос.
И он решился.
– Да, это мой ребенок, но ты сама знаешь, в каком состоянии я тогда был – я думал, что между нами все кончено… – зачастил он, боясь, что его прервут.
– Все! Достаточно! – вскинула она руку, словно воздвигая преграду между его новостью и собой. Несколько секунд она сидела неподвижно, затем сонным движением стянула с пальца кольцо и уронила его себе под ноги.
– Верни мне ключи от квартиры… – тихо сказала она, отставив в его сторону руку.
Похолодевшими руками он вытащил, отцепил от связки и протянул ей растерянно звякнувшие ключи. Она, не глядя, схватила их и толчком открыла дверцу.
– Наташа! – попытался он остановить ее за руку.
Обернувшись к нему, она тихо выдавила, едва шевельнув белыми губами:
– Ненавижу! – и, вырвав руку, выскочила из машины, впечатав в кузов испуганную дверь.
Он тоже выскочил и устремился было за ней, но вдруг остановился, глядя ей вслед. Неестественно прямо, торопливо и едва не спотыкаясь, уходила она от него, пока не скрылась за углом…
49
Он вернулся домой с бледным застывшим лицом, и мать спросила его, где Наташа. Он ответил, что ушла, совсем ушла.
– Как, совсем? А как же свадьба? – испугалась Вера Васильевна.
Он ничего не ответил и прошел в гостиную, где на диване терпеливо ждала Галка. Помедлив, он сел рядом с ней.
– Но почему совсем? – не отставала следовавшая за ним мать.
– Потому что Галя ждет моего ребенка, а ее мать когда-то целовалась с моим отцом… – невыразительно ответил он.
– Господи, что ты такое говоришь? – всплеснула руками Вера Васильевна.
– Что случилось, Димочка? – тихо и тревожно спросила Галка.
– Все нормально, Галка, все нормально… – успокоил он ее.
– Так что же теперь будет? – донимала его Вера Васильевна.
– Успокойся мать и корми Галю, – велел он и отправился в ванную мыть руки.
Потом он молча сидел с ними за столом, пока они обедали – сам он ни к чему не притронулся. Потом женщины перешли на диван, и Галка рассказывала его матери о своих исторических отношениях с ее сыном, и Вера Васильевна плакала, жалела и обнимала будущую мать ее внучки, которую она, скорее всего, никогда не увидит. Он удалился в свою комнату и, сидя там перед компьютером, был спокоен тем последним спокойствием, которое словно арьергард сдерживает натиск передовых сил отчаяния в борьбе за сердце сраженного неожиданностью человека.
– Димочка, прости меня! – приходила к нему виноватая Галка, и он, улыбаясь непослушными губами, неизменно отвечал:
– Все нормально, Галчонок, все нормально…
В пять часов он повел ее гулять. Они пришли в парк и ходили там среди голых деревьев, стесняющихся своих некрасивых корявых тел и с завистью взирающих на энтузиазм озимой травы. Галка делилась подробностями провинциального житья, он же, глядя под ноги, слушал невнимательно, думал о своем, и в мыслях продолжал удерживать невесту за руку, горячо и убедительно излагая доводы в свою пользу и стараясь при этом щадить ее самолюбие. Вернувшись домой, они сели ужинать, и снова он обошелся одним чаем. Галка не выдержала и отодвинула тарелку:
– Если ты чего-нибудь не съешь, МЫ тоже не будем есть!
Ему пришлось подчиниться.
В семь часов он позвонил невесте. После третьего гудка его послали к черту, и он даже ощутил то остервенение, с каким это было сделано. Бедная кнопка сброса – ей, кажется, попортили лицо…
Так дотянули до половины одиннадцатого и стали собираться на вокзал. Вера Васильевна всплакнула и напоследок перекрестила гостью, что редко себе позволяла по причине махрового проектно-конструкторского образа мысли.
– Береги себя, Галочка! – поцеловала она гостью, а стоявшему рядом сыну сказала: – Вот какая жена тебе, дураку, нужна!
Ехали молча, и блики фонарей, словно бледные неоновые мысли скользили по их застывшим лицам. Он думал о том, какому ужасному и несправедливому наказанию подвергся на пороге счастья, удивляясь в то же время стечению терпеливых обстоятельств, через двадцать лет соединивших их с Галкой в доме бабушки, чьи следы пребывания на земле еще не успели остыть, чтобы вопреки всяким ожиданиям дать жизнь ее правнучке.
Оставалось пятнадцать минут до посадки, когда они приехали и устроились в том же зале ожидания, где он утром узнал о ребенке.
– Твоя невеста очень красивая, – осторожно нарушила молчание Галка, – но я не понимаю, почему она так поступила – ведь ты же не виноват! Как ты можешь отвечать за то, что случилось до нее?
И он, не в силах молчать, рассказал ей все, как было. Стало немного легче.
– Бедный Димочка! – пожалела она его. – Не грусти, она вернется! Вот увидишь – обязательно вернется!
Когда прощались у вагона, он сказал:
– У меня к тебе одна просьба…
– Да, Димочка, конечно, говори…
– Назови нашу дочку как мою бабушку – Варварой… Назовешь?
– Конечно, Димочка, конечно, мой хороший!
– Ни о чем не волнуйся и готовься рожать. И знай, вы с дочкой ни в чем не будете нуждаться. Я перепишу дом на тетю Катю, но это мелочи! Я потом тебе объясню, что нужно будет сделать…
– Димочка, ничего не надо, не беспокойся!
– Галина! – прикрикнул он, не имея терпения. – Сделаешь так, как я скажу! Я, наверное, скоро уеду из страны и хочу, чтобы вы без меня ни в чем тут не нуждались! Понятно?
– Понятно, Димочка, понятно!
Перед отправлением они поцеловались, и она шепнула:
– Мы с Варенькой тебя очень любим!
Он стоял и смотрел в спину уходящего поезда – такую же одинокую, усталую и обреченную на бессонную ночь, как и он сам. Оседал на землю осиротевший запах гари, торопилась схлынуть река провожающих, обнажая сухое дно перрона. Уплывали во тьму красные тревожные фонари – живые светлячки в бездушном неоновом море. Да, сегодня у него был не лучший день: сегодня его без стука посетили две любимые женщины и обе его покинули…
50
Очутившись дома в предистеричном состоянии, она кинулась в дальнюю комнату, откуда извлекла фотографию покойного жениха. С той же страстью, с какой люди незаслуженно обиженные торопятся восстановить справедливость, она вернула фотографию на стену, а на палец – его обручальное кольцо. Затем с цепкой злостью разорвала на мелкие кусочки тот самый список пронумерованных предсвадебных забот, которые, как умозрительные косточки постепенно обросли плотью ее пометок, исправлений и дополнений, превратившись к этому времени в ДНК энергичного мускулистого мероприятия. Схватив телефон, она набрала Светку. Светка ответила, и она, как можно спокойнее сказала:
– Светуля, у меня несчастье…
– Что такое? – испугалась Светка.
– Представляешь, мне опять изменили…
Лицо ее скривилось, и она всхлипнула.
– Кто? Что? Когда? – всполошилась Светка.
– Ясно кто… – пробормотала она. – Ты можешь заехать ко мне вечером? Мне очень плохо!
И тут рыдания переполнили, наконец, затопленное горем сердце, и она заголосила, заикаясь и разрывая слова на неравные части:
– Представляешь, он мне изменил, и у него скоро будет ребе-е-о-нок!..
Испуганная Светка захлопотала на другом конце несчастья, обмахивая ее кухонным полотенцем бабьего сочувствия. Наташа не слушала ее и лишь повторяла:
– Приезжай, Светуля, прошу тебя, мне так плохо, так плохо, ты не представляешь, как плохо!
И лишь после того, как Светка пять раз повторила, что обязательно приедет, только пока не знает во сколько, она, судорожно всхлипывая, проговорила:
– Спасибо, Светуля, спасибо, дорогая, ты не представляешь, как мне плохо…
Потом она, утопив лицо в ладонях, сидела, не шевелясь, за кухонным столом: в строгом темно-сером деловом костюме с белой взбитой на груди блузкой, словно готовая бежать, нарядная и несчастная, туда, куда понесет ее отчаяние. Потом, не зная, куда себя деть, бродила по квартире, пока взгляд ее не упал на его халат. На секунду она застыла, а затем лицо ее исказила мстительная гримаса. Она устремилась к кладовке, где в одном из углов отыскала старое израненное покрывало. Расстелив его на полу гостиной, она лихорадочно принялась сносить на него вещи жениха, которые имели несчастье состоять с ним в услужливых отношениях.
Кроме халата туда попали его новые лакированные туфли и новый свадебный костюм, старые и новые рубашки, галстуки, нижнее белье, свитер, пуловер, домашние брюки, джинсы, бритвенный прибор и зубная щетка. Она вытащила из стиральной машины его трусы и майку и, держа двумя пальцами, отнесла их и бросила туда же. Находившиеся с ним в сожительстве вещи, прятались от нее, и она азартно рыскала по квартире, громко злорадствуя, когда находила и извлекала их из укромных мест. К опальной компании присоединились его любимый кухонный передник, стопка бумаги с его рабочими пометками, музыкальные диски и его любимая толстая кружка, украшенная фотографиями «Би Джиз». Последней, трепеща страницами, как крыльями, туда слетела достопамятная книжка «Ночь нежна».
Она сделала узел, стянув концы так крепко, насколько хватило сил, словно опасаясь, что ночью он развяжется, и вещи разбегутся по квартире. Узел она отволокла в самый дальний угол самой дальней комнаты. Оставалось вынести все это на помойку. Кроме того, она сдернула с кровати простыню, пододеяльник, наволочки и сунула в стиральную машину вместе с несвежими полотенцами. Вымыв руки, она достала бутылку вина, уселась напротив Володиной фотографии, наполнила фужер и, глядя на тень от тени своего счастья, простонала:
– Это не он, Володенька, не он!
Когда в половине восьмого Светка явилась к ней, то нашла хозяйку в безнадежно-косноязычном состоянии. Открыв гостье дверь, Наташа с приветственным мычанием упала ей на грудь. Подхватив подругу, Светка дотащила ее до кухни, усадила за стол и попыталась добиться мало-мальски внятного объяснения. По-прежнему все в том же деловом костюме, Наташа сидела нетвердо, поддерживая равновесие разъезжающимися по гладкому столу локтями. Поводя глазами, она отыскивала гостью и бормотала:
– Всё, Светуля, всё…
– Ну, что всё-то, что – всё? – раздраженно вопрошала Светка, пытаясь удержаться в поле ее зрения.
– Всё, Светуля, всё…
Отчаявшись добиться вразумительных объяснений, Светка раздела и уложила совершенно пьяную подругу в постель, после чего ушла.
Ночью Наташа проснулась, вспомнила, где она и что с ней и, придавленная набравшим вес отчаянием, залилась слезами. Она плакала с перерывами до семи утра, затем уснула и проснулась около одиннадцати в совершенно ужасном душевном и физическом состоянии. Оказалось, что ей трижды звонила Светка и один раз жених. Добравшись до ванны, она, как и тогда, на юге, около часа боролась в воде за живучесть, пока не почувствовала себя сносно. Выбравшись из ванны, она позвонила на работу и предупредила, что сегодня не приедет, после чего позвонила Светке.
– Ты хоть помнишь, что я у тебя вчера была? – спросила ее недовольная Светка.
– Что была – помню, о чем говорили – не помню.
Договорились встретиться вечером.
– Только будь добра, не напивайся до моего прихода! – напутствовала ее Светка.
Днем Светке неожиданно позвонил жених и спросил, могли бы они встретиться. Светка сухо сообщила, что она в курсе его шалостей и не представляет, чем в такой ситуации может быть ему полезной. Жених болезненно отнесся к порицанию и сказал, что не все так просто и что ей более чем кому-либо известно, что у каждой правды две стороны. Условились встретиться завтра.
Вечером Светка была у Наташи и в отличие от вчерашнего нашла ее мрачной, злой и решительной. Прокурорская правда подруги была проста, упряма и красноречиво подтверждена шестимесячным пузом деревенской шалавы (прямой уликой) и его чистосердечным признанием (царицей доказательств). Слова вылетали из нее, как негодующие гвозди. Решив поберечь запал до встречи с женихом, Светка спросила:
– Что собираешься делать дальше?
Наташа пожала плечами:
– Да все, что угодно! Я теперь девушка свободная! Найду кого-нибудь!
– Советовала бы не торопиться и остыть…
– Неужели ты думаешь, что такое можно простить?
– Сначала остынь, а потом решай…
На следующий день у метро «Гостиный Двор» Светка встретилась с женихом. Был он расстроен и растерян, но улыбался и пытался шутить. Особого уюта ввиду неопределенного исхода переговоров искать не стали, а зашли в «Мокко клуб», тут же, под боком.
– Ну, и как ты дошел до жизни такой? – съязвила Светка, которой жених всегда нравился.
– Довели! – вымученно пошутил он, и выложил свою, свободную от ненужных подробностей правду.
С отрепетированной осторожностью рассказал он о лазурном инциденте, и одобрительные кивания собеседницы, словно галочки отмечали совпадение его версии с версией его невесты. Поведал о роковой встрече с влюбленным в его невесту шефом и его изощренной подлости, более подходящей отрицательным персонажам «Тысячи и одной ночи». Как мог, обрисовал свое отчаянное беспризорное положение с его логическим итогом – изменой. А что он должен был думать и как себя вести, будучи отвергнутым и не имея надежды на воссоединение? Да, он согласен: как бы ни возвеличивал он в ту пору свою мрачную обиду до лицензии на грех – он изменил невесте (бывшей невесте, как он тогда считал). Испытав двойной удар по своей любви и верности, он поступил тогда слишком по-человечески, и теперь понимает, что поторопился.
Разумеется, все остальное рыцарь Максимов утаил – и то, что Феноменко был ее любовником, а стало быть, источником ее благополучия. Утаил, что его невеста не постеснялась их познакомить, не говоря уже о том, что продолжает у него работать. Утаил то, что не утаил бы, добиваясь своего оправдания, Мишка или тот же Феноменко и миллионы мужчин, которых злоба и больное самолюбие принуждают к публичному унижению бросивших их подруг. Когда он закончил, Светка сказала:
– Скажем так – открывшиеся обстоятельства значительно смягчают твою вину. Я все поняла и попытаюсь на нее повлиять.
Жених со своей правдой оказался ей глубоко симпатичен. В конце встречи грустный жених сказал:
– Что ж, формально она имеет право на реванш. Но даже если она мне изменит, я от нее не отступлюсь!
– В том состоянии, в котором она сейчас пребывает, от нее всего можно ожидать! Позавчера, например, она напилась так, что не стояла на ногах, и мне пришлось ее укладывать…
Мучительная судорога пробежала по лицу жениха.
– Я пытаюсь до нее дозвониться, но она не отвечает…
При расставании Светка сказала:
– Советую тебе набраться терпения…
Вечером она объявила Наташе:
– Я сегодня встречалась с твоим женихом!
Та с изумлением на нее посмотрела и ответила с вызовом:
– У меня нет больше жениха!
– Ну, и зря! – откинулась Светка на спинку стула. – После того, что я узнала, я полностью на его стороне.
– И что же ты такого узнала? – раздраженно воскликнула Наташа.
– Все. В том числе про твоего шефа.
– И что же ты узнала про моего шефа? – враждебно уставилась на нее Наташа.
– Что он давно и безнадежно в тебя влюблен и ради этого обманул твоего жениха!
– Это ОН тебе так сказал?
– Да, он.
– Ах, какие мы благородные! А он не сказал тебе, что я до него два с половиной года спала с этим человеком? – зло выкрикнула Наташа.
– О, господи! – посмотрела на нее Светка с испугом. – Нет, ты что, серьезно? Да ты тогда просто дура!
Завязалась бурная дружеская перебранка.
Наташа кричала:
– Да какое твое дело, с кем я сплю?!
Светка кричала:
– Да спи ты хоть с чертом, только не впутывай в свои дела приличных людей! Наташа, вскочив:
– Приличные люди не изменяют женщине, которой клянутся в любви! Светка, вскочив:
– А приличные женщины, собираясь замуж, держатся подальше от бывших любовников!
– А он!.. – кричала Наташа.
– А ты!.. – кричала Светка.
– Да я!.. – изнемогала Наташа.
– Вот именно!.. – издевательски смеялась Светка.
– Да пошли вы все! – взвизгнула Наташа.
– Ну, и черт с тобой! – громыхнула Светка.
При расставании Светка миролюбиво сказала:
– Ты дура, Наташка! Ты заварила всю эту кашу, а теперь вешаешь на мужика всех собак! На твоем месте я бы ему спасибо сказала за то, что он после всех твоих фокусов от тебя не отказался!
– Ладно! Все! Хватит! Не нужны мне твои советы! Тоже мне, защитница нашлась!
– Тогда не проси меня больше, чтобы я тебя жалела!
– И не попрошу!
– Вот и хорошо!
– Вот и прекрасно!
Хлопает входная дверь.
Занавес.
51
Итак, плохое предчувствие, что пряталось в глубине белого облака благих намерений, словно шило в мешке, не обмануло их: сбылось безымянное пророчество, и карнавальный мираж брачных уз вспыхнул и рассеялся, осыпав их пеплом горестного недоумения. И нет на свете ничего более опустошительного и безутешного, чем несостоявшаяся свадьба, когда две разлученные половинки, корчась от боли, мечутся в поисках анестезии.
Что касается ликвидации обязательств перед третьими лицами, каковая в таких случаях поручается кому-либо из родственников, желательно дальних и разбитных, то кроме него заниматься ими было некому. При ближайшем рассмотрении оказалось, что обряд погребения почившего торжества был на удивление прост: всего-то и следовало оповестить ошарашенных гостей, свести счеты с рестораном и отказать турагентству. Незатейливость последствий его смутила: свадебное здание, потребовавшее таких трудов и усердия, на самом деле держалось на трех прозаических китах посторонней, далекой от любви породы! Прочая мишура обвалилось сама собой – мягко, бесшумно и незаметно.
Что касается гостей, то своих, куда кроме матери попали Юрка с женой, он ошарашил за два дня до свадьбы. Особое удовольствие его сообщение доставило Татьяне, воскликнувшей:
– Вот и хорошо! Я всегда знала, что она тебе не пара!
Мать его к этому времени уже четыре дня ходила с перекошенным, как от зубной боли лицом.
Ликвидировав обязательства, он по совету Светки погрузился в изводящее неспешностью ожидание, извлекая из холодильника памяти сравнительно свежие, еще не увядшие подробности их сожительства и будоража ими свое виноватое смятение. Да, виноватое, ибо поменяв торопливое первоначальное мнение, он возложил всю вину за случившееся на свое проклятое самолюбие. Ну, почему он не решился позвонить ей и узнать, правда ли то, что сказал Феноменко? Три раза на дню он долгими гудкам испытывал терпение ее трубки, но, видно, попав в черный список отъявленных негодяев, получал от ворот поворот, усугубляя ее презрительным обхождением свои страдания…
Несмотря на Светкино заступничество, вина жениха (бывшего жениха) казалась Наташе абсолютной и не подлежащей искуплению. Боже мой, каким несчастным и обиженным он прикидывался! Как искренне она его жалела, как обильно казнилась! До чего же противно ей теперь вспоминать ее погоню за ним, ее горячие слезы и дрожащий голос! Сколько сладких глупостей наговорила она после их примирения, сколько крепнущей нежности позволила себе! Напрасно говорят – сердцу не прикажешь: сердцу-то как раз можно приказать. Нельзя приказать тому, чего нет, а она своему почти приказала. И что же? А то, что она снова оказалась доверчивой дурочкой, и ее в очередной раз надули по всем статьям! Разве такое можно простить? Да воздастся каждому по его деяниям! На измену она ответит изменой и ею, как ножом отсечет его от себя! Ну, почему она не изменила ему в сентябре? Измени она ему тогда, и всего этого кошмара не было бы! Ну, ничего! Для начала она отомстит ему с Феноменко, а затем, гордая и независимая, предложит себя американцу, и с ним гальванизирует свою былую любовь и возвысит самообман до смысла жизни!
Третьего апреля она явилась в офис на Московском, где о ее фиаско еще не знали. Дождавшись, когда Феноменко освободится, она без стука вошла в кабинет и, ни слова не говоря, уселась подмышкой у буквы «Т» – любимой буквы начальников, летчиков и бандитов, в которую были составлены два гладких стола красного дерева.
– Наташа, в чем дело? – недовольно спросил он.
– Ты, кажется, хотел на мне жениться… – сказала она.
– И что?
– Тогда приходи завтра свататься. Часам к семи…
Изменить непременно в день свадьбы – таков был план ее жестокой мести.
– Но ведь у тебя завтра, если не ошибаюсь, свадьба… – осторожно, чтобы не наткнуться на подвох, смотрел он на нее.
– Не будет свадьбы.
– Что случилось? – насторожился Феноменко.
– Ты был прав: он не тот человек, который мне нужен.
– Ах, вот как! – откинулся он в глубину кресла, разглядывая ее с ироническим интересом.
– Ну, так придешь? – нетерпеливо спросила она.
– Даже не знаю… У меня завтра важная встреча…
– Или завтра, или никогда! – сказала она, вставая. На случай его отказа у нее был Яша. Вот кто ей не откажет! Не дождавшись ответа, она направилась к выходу.
– Хорошо, я приду! – услышала она. – Там и поговорим…
Не оборачиваясь, она покинула кабинет, а за ним и офис.
Наутро она проснулась и долго лежала, закрыв глаза, пока из уголков их не выкатилось по слезинке. Тогда она спохватилась и легким касанием тонких вывернутых кистей с отстраненными мизинцами осушила слезы, после чего решительно встала и занялась утренним туалетом. Чтобы не оставаться одной, следовало быть сегодня на людях. А вечером ей предстоит безжалостный обряд отречения, разряд помрачения, наряд облегчения, снаряд обличения, обет отлучения, оплот излечения, секрет обречения, обид отсечение…
День выдался пасмурный, тихий и безветренный – под стать ее настроению. Надев свитер, джинсы и короткое черное пальто с высоким воротником, она поехала в центр и там прошла по Невскому от Адмиралтейства до площади Восстания, заходя в богатые лавочки и рассеянно разглядывая и трогая ненужные ей вещи. На улице взгляд ее бродил поверх людского моря или скользил по витринам, а мысли вращались вокруг отмененной свадьбы и ее убогого вечернего суррогата – собачьей, так сказать, свадьбы.
К трем часам дня голод пополам с тошнотой встал у нее поперек горла, и она отправилась к себе на Васильевский, где запаслась продуктами, в том числе двумя бутылками красного вина. Пировать с Феноменко она не собиралась, также как и растягивать сомнительное удовольствие: никаких нежностей, засосов, обнаженки, раскидистых поз – только равнодушное протокольное соучастие. Она впустит его в себя, чтобы его семенем, как динамитом сокрушить те воздушные замки, что возвела себе на беду, после чего приступит к новому строительству, и это будет ее новая жизнь – холодная и расчетливая.
Пока она добывала продукты, голод сменился легким нытьем желудка и, вернувшись домой, она с трудом проглотила несколько ложек куриного супа, который приготовила два дня назад, забыв посолить. Отодвинув тарелку, она сидела с отсутствующим взглядом, перед которым теснились видения предстоящей случки. Вот она тушит свет и забирается под одеяло, и Феноменко тут же накидывается на нее, нетерпеливо мнет ее тело, сопит, наваливается и… Она тряхнула головой – видения исчезли.
«Какой кошмар! – ужаснулась было она, но тут же отступила: – Да пусть делает, что хочет… Чем хуже, тем лучше…»
Поначалу она даже хотела обставить спектакль в символическом вкусе, то есть, явиться в спальную в свадебном платье и дать себя раздеть. Почему-то она думала, что флюиды мести, которые будет излучать в это время антенна ее тела, обязательно ЕГО достигнут. Но потом решила, что любимой ИМ золотисто-шоколадной комбинации будет достаточно. Палача же она встретит, как есть: в джинсах и сером свитере с широким воротом. И нужно будет побольше выпить. А завтра она позвонит этой самоуверенной правозащитнице Светке и между делом сообщит, что переспала с другим мужчиной. Можно не сомневаться, что новость достигнет нужных ушей и если не убьет, то сильно покалечит!
Близился назначенный час, и смутное волнение, чьи размеры еще утром не превышали белой точки на черном листе ненависти, набирало силу. В отличие от лавы плотского возбуждения, единственный родитель которой есть вулкан страсти, волнение ее происходило от противостояния злой одержимости и какого-то непонятного ей порицательного категорического чувства – так сходятся в душе два континента, сминая края и рождая горы сомнений. Вот эти горы и следовало залить вином до самых вершин, чтобы самопринудительная природа предстоящего насилия не стала ей совершенно очевидной.
Она извлекла из узла халат жениха, отряхнула и повесила в ванной: пусть остатки ЕГО ауры корчатся в оскорбительном брутальном поле соперника!
52
В семь часов с назойливой точностью позвонил бывший владелец халата, а через пятнадцать минут явился Феноменко.
– Извини, Наташенька! – потянулся он к ней с порога губами и розами. – Еле вырвался!
Она молча приняла цветы и подставила щеку.
– Сто лет у тебя не бывал! Очень рад, что ты про меня вспомнила! – говорил он, снимая широкое длинное пальто, пиджак и вставляя ноги в тапочки жениха. – Куда идти? – подхватил он пакет, озираясь.
Она повела его на кухню. Там он извлек из пакета и водрузил на стол бутылку «Шато Марго», после чего огляделся:
– А у тебя тут все по-старому!
– Да, почти, – отозвалась она, выставляя на стол тонкие певучие бокалы, хрустальную полусферу с фруктами, вазочку с ворохом конфет в ярких скрипучих одеждах, крошечные тарелочки для случайных отходов, пару десертных ножей и розовые салфетки. Подтолкнув ему штопор, сказала: – Открывай!
Он ослабил галстук, открыл вино и наполнил бокалы. Сели.
– За тебя! – поднял он бокал, и хрустальный колокол в ее руке отозвался тем же звоном, как если бы звонарем был отлученный от ее церкви жених. Она крупными глотками выпила вино до дна и отставила бокал. Феноменко же пил, не торопясь, и выпил лишь до половины.
– Ну, что у тебя, рассказывай! – велел он деловито.
Неприязненно взглянув на него, она сказала:
– Ты украл у меня жениха…
Он ничуть не удивился и живо откликнулся:
– А он украл тебя у меня!
– …И поэтому должен на мне жениться! – заключила она, и по ее лицу невозможно было понять, шутит она или нет.
– Ты думаешь? – с сомнением произнес он, потянулся за бокалом и прикрылся им.
– Если ты, конечно, честный человек… – сказала она, глядя, как он целится в нее ножкой бокала.
Он медленно допил вино, приложил к губам салфетку и, прищурившись, ответил со сдержанным вызовом:
– Я честный человек…
– Тогда наливай! – с дурашливой бесшабашностью велела она.
– Ты куда-то спешишь? – с иронией спросил он, наполняя бокалы.
«Да. В кровать…» – подумала она, а ему сказала: – Нет! С чего ты взял?
– Разве «Шато Марго» так пьют…
– Ну, хорошо, с возвращением! – протянула она ему навстречу бокал.
Что-то изменилось в его обращении. Куда-то делся нетерпеливый напор, не полыхали, как бывало, желтым масляным светом глаза, а в движениях появилась ленивая медлительность. В нем не чувствовался плотский голод, и здоровая похоть не оживляла его лицо лихорадочной предупредительностью. С плебейской непочтительностью опустошив бокал, она примирительно сказала:
– Ну ладно, я пошутила. Я не собираюсь за тебя замуж. И вообще я не собираюсь замуж. Я рада видеть тебя у себя – в конце концов, мы же друзья! Ведь друзья?
– Друзья, друзья! – усмехнулся он.
Они выпили, и завязался вполне дружеский, лишенный флиртующих изворотов разговор, когда собеседники увлечены самим его предметом, а не той скрытой, возбуждающей, межполовой вибрацией, которой слова служат источником и маской. Он поведал, что собирается податься в политику, и ему обязательно потребуются толковые помощники.
– И помощницы! – подсказала она.
– И помощницы! – кивнул он и важно сообщил: – Возможно, мне придется переехать в Москву…
– И бросить все здесь? – с напускной наивностью испугалась она.
– Нет, конечно! – снисходительно отозвался он и многозначительно добавил:
– Я как раз ищу человека, на которого мог бы оставить бюро…
Тут слышался и виделся нешуточный намек. Ей давалось понять, что все зависит от ее лояльности и услужливости. Интересно, был ли минет включен в цену вопроса?
– За это надо выпить! – воскликнула она, и он охотно поддержал.
Слово за слово, и мило беседуя, они опустошили почти две бутылки. Она неожиданно для себя увлеклась, и несколько раз суть предстоящего события ускользала от ее умащенного вином сознания, и тогда ей казалось, что улыбчивый мужчина напротив всего лишь старый добрый друг, явившийся проведать ее, тяжелобольную, и поддержать. Что вот он посидит еще немного, распрощается и уйдет, пожелав ей скорейшего выздоровления. Так продолжалось около двух часов, пока он не сказал:
– Ну что, может, продолжим разговор в постели?
И тут же винные иллюзии рассеялись, и стало ясно, что пора переходить к тому, для чего она его, собственно говоря, позвала, а он любезно явился.
– Халат в ванной, – сказала она.
Пока он играл с водой и со своим самодовольным «Я», которое в зеркале выглядело как “R”, она, поддерживая себя слабеющими инъекциями мести, разобрала постель, приоткрыла окно, задернула шторы, приготовила полотенца, свое белье, поправила там, отряхнула здесь, то есть, проделала то же, что и всегда. Привычным обрядом этим она, как унизительным багром отталкивала приблудную лодку бывшего жениха от своей яхты.
«Вот тебе, вот тебе!» – хлестала она предстоящим самоуничижением по его неверным щекам. Прихватив комбинацию, она покинула спальную и в гостиной столкнулась с халатом жениха, над которым вместо головы изменника торчала довольная голова палача. Было очевидно, что халат на нем с чужого плеча – не то ворованный, не то позаимствованный.
– Иди, ложись, я сейчас приду, – торопливо бросила она на ходу.
В ванной она надела комбинацию, набросила халат, откинула за плечи волосы и посмотрела на себя в зеркало.
«Надеюсь, ты хорошо подумала…» – сказало отражение, перед тем как исчезнуть.
По дороге в спальную ее пробрала нервная дрожь.
«Господи, что я делаю!» – задохнулась она от внезапной тоски, но подоспевшая гордость вытолкнула тоску за порог и подхлестнула ослабевшую волю очередной порцией ненависти. Зайдя в спальную, она потушила свет, скинула халат и, отгородившись от голого палача возбуждающим своей беззащитностью шелком, улеглась на холодный операционный стол, приготовившись к отречению, облегчению, обличению, излечению, помрачению, обречению, отсечению. Он тут же подкатился к ней, безвольно лежащей на спине с опавшими руками и закрытыми глазами, и навис черной волосатой тушей.
– Наташка, я страшно соскучился… – сообщил он, прижимаясь к ее бедру безразмерным подрагивающим нетерпением.
«Вот и хорошо…» – вяло подумала она, посчитав что он, не в силах сдерживаться, тут же вторгнется в ее пределы и скорыми короткими толчками узаконит ее измену. Пусть она не готова, пусть ей будет больно, и она от боли прикусит губу – только бы поскорее с этим покончить! Когда же месть свершится и наполнит ее злым торжеством, она поразит его неподдельными оргазмами, чем вполне возможно откроет новую главу их отношений.
«Господи, ну, скорей же, скорее… Чего ждешь…» – заторопилась она, чувствуя, как стремительно тает айсберг ее решимости. Он, однако, решил растянуть удовольствие и предался своим обычным протокольно-однообразным ласкам.
Она почувствовала его губы на своих губах, и они оказались жесткими, сухими и колючими. Она не выдержала и отвернула лицо. Его отвергнутые губы в компании с коротким носом обследовали ее щеку и висок, принюхались к волосам и, выпустив язык, мокрым щупальцем залезли в ухо, отчего голова ее невольно дернулась. Затем сползли на шею, оттуда на плечо и, замерев перед сомкнутой подмышкой, попытались забраться в пряные складки. Щекотливый маневр заставил ее отвести плечо и крепче прижать руку к телу. Ощутив ее неприязнь, он недовольно отступил. Его тяжелая волосатая лапа задрала комбинацию и, словно проверяя, все ли на месте забралась под ягодицы, затопталась по животу, потерлась о пушистый бугорок, влезла между сжатых ног. Твердая фаланга большого пальца бесцеремонно и больно протиснулась через створки крепостных ворот внутрь, огляделась там и выбралась, сухая, наружу.
Обнюхав и ощупав ее, он встал на колени и захотел стянуть с нее комбинацию, но она, не желая обнажаться больше, чем следовало, молча воспротивилась и рук не развела. Тогда он задрал испуганный шелк ей под мышки и завладел ее грудью. Шелковые складки наползали и мешали ему, и он, раздраженный, грубо, с незнакомым пекарским рвением месил короткими жесткими пальцами беззащитную податливую сдобу. Она вдруг вспомнила унизительно памятный случай в Швеции: то же жадное сопение, та же его бесцеремонная хватка и комбинация под мышками, превратившаяся под конец в тугой, режущий обруч. Разница лишь в том, что сегодня она сама этого захотела.
«Больно!» – обронила она в темноту.
Он убрал руки и принялся играть с ее сосками, посасывая, покусывая и втягивая в рот. Она терпела, отвернув лицо, закрыв глаза, стиснув зубы и наполняясь нарастающим протестом.
Насытившись, он двинулся вниз и, прихватывая губами ее холодную бесчувственную кожу, спустился к ступням, где устроился на коленях у подножия ее сведенных негостеприимных ног. Она воспользовалась паузой и, слегка прогнувшись, торопливо задернула комбинацией, как занавесом грудь и живот, оставив ему авансцену с охваченной смятением ворсистой мстительницей.
Преодолевая возбуждающую неохоту ее ног, он раздвинул их, словно тугие ножки циркуля и втиснулся между ними плечами и головой, выгнув похожую на толстый матрац спину и оттопырив голый белый зад. Просунув руки у нее под ногами возле ягодиц, он захватил в плен ее бедра и пустился бродить по ним твердыми узкими губами. Сужая круги, он добрался до сомкнутых лепестков ее розового бутона, разворошил их и запустил туда жало. Обычно он долго и со вкусом извлекал из ее орхидеи нектар, адресуя добытые ощущения в первую очередь себе, а не ей. Вот и сейчас он, урча от удовольствия, неприятно и больно копался в лакомстве, то поедая его колючим ртом, то роясь в нем шершавым трепещущим щупальцем. «Вот тебе, вот тебе!» – вздрагивая и ежась, жалобно хлестала она жениха, сжимая кулаки, страдая и едва сдерживаясь, чтобы не отпихнуть богохульствующую голову палача от чужого алтаря.
И тут чаша порицательного категорического чувства переполнилась и содержимым своим далеко превзошла мстительные поползновения, отчего все шмелинно-паучьи повадки и фантазии Феноменко вдруг выступили перед Наташей в невыносимо гадливом свете.
В один краткий и необычайно плотный миг ей безжалостно и ясно представилось, как еще немного и он, распаленный ее сопротивлением, накинется на нее, придавит и, преодолевая протест молчаливых рук, заведет их ей за голову, сделав ее беспомощной, так что если даже она опомнится и захочет скинуть с себя его бремя, то не сможет это сделать. Как туго и беспощадно будет проталкивать в нее свой огромный черствый напильник, заставляя ее корчиться от боли. Как тычась ей в лицо, шею и плечи мокрым, пропитанным ее запахом до самых щек ртом, доведет мерными распирающими толчками ее хрупкую амфору до влажного состояния и с потливым сопящим усердием станет извлекать из нее ужасные чавкающие звуки, поразительно похожие на те, с которыми она, пробираясь в юности по первоуральской распутице, вытаскивала из грязи сапоги. Как упиваясь бесстыдными смачными всхлипами, будет дирижировать ими, и ей придется извиваться и корчиться, чтобы расстроить эту гнусную музыку похоти. Как скользкое пятно слизи расползется, словно проказа по ее лобку. И так до тех пор, пока что-то мутное, незаконное и уродливое не взорвется у нее в паху и не растечется по телу с горячим стыдом и отвращением. И тогда она с мучительным стоном сдастся и ослабеет, а он, пьянея и теряя рассудок от всевластия, отбросит политесы и станет по-скотски ее насиловать, вгоняя в расплющенное униженное тело свой толстый неотесанный кол и сдавленным уханьем заглушая ее прерывистые жалобные стенания. И выйдет так, что к одному унижению она добровольно добавит новое, еще более оскорбительное.
В смятении она задохнулась, и уже в одном шаге от отчаяния отвратительные подробности их прежних соитий ожили в ней и дорисовали картину ее безрассудного отречения, облегчения, обличения, помрачения, обречения, отсечения. Картину, на которой его разбухший до предсмертных размеров зверь, с каждым погружением приближающийся к разрушительному апофеозу, слепым бесноватым тараном пытается пробить стену ее безвольного соучастия и, наконец, со скулящим утробным облегчением изрыгает в нее липкую скверну, от которой она уже никогда, никогда, никогда не отмоется!
От этих видений ее перепуганное лоно содрогнулось, и разрушительные последствия ее безрассудной выходки вдруг открылись ей во всей неприглядной наготе: вот-вот случится то, что невозможно будет исправить, и о чем она будет бесконечно жалеть всю оставшуюся жизнь! Ей стало страшно, мерзко и тошно. Паника охватила ее, и она громко и отчетливо произнесла:
– Меня сейчас вырвет!
Он отпрянул, и она, воспользовавшись свободой, быстро подтянула согнутые в коленях ноги к животу и, став вольной птицей, выпорхнула из кровати. Подхватив халат и накидывая его на ходу, она устремилась прочь, словно страшась, что голый птицелов будет ее преследовать. Он не пошел за ней, а разочарованно лег животом вниз на то место, где только что была она, вытянулся и уткнулся мокрым ртом в ее подушку. Что-то подсказывало ему, что он сплоховал, и нежная добыча ускользнула, оставив его здесь голого, волосатого, с набухшими чреслами тешить воображение, поводя бедрами и вдавливая свое каменное вожделение в шуршащую простыню.
Подушка тонко и насмешливо отдавала ее духами.
53
Ее долго не было, и он отправился узнать, что с ней. Зайдя на кухню, он нашел ее сидящей за столом в джинсах и свитере.
– Наташа, что случилось? – недоуменно спросил он.
– Извини, я не могу сегодня. Давай отложим, – исподлобья глядя на него, ответила она. Он подошел и сел напротив.
– Тебе что, плохо? – спросил он, изобразив лицом вежливое участие, а вовсе не то озабоченное сострадание, какое проявил когда-то в Париже.
– Мне очень плохо, – ответила она, отводя взгляд.
– И как же мне теперь быть? – вкрадчиво спросил он.
– В смысле? – вернула она взгляд обратно.
– Я страшно возбужден. Может, ты что-нибудь, все-таки сделаешь? – красноречиво смотрел он на нее.
– Что ты имеешь в виду? – покраснела она, прекрасно понимая, что он имеет в виду.
– Ну, ты ведь уже, наверное, делаешь минет! – издевательски усмехнулся он.
– Можно прямо здесь, я не возражаю…
– Пошел вон! – залилась она краской стыда и гнева по самые плечи.
– Неужели еще не научилась? – насмехался он с мерзкой улыбкой.
– Я сказала – пошел вон! – сжала она кулаки.
– Ну, ну, полегче! – неожиданно обозлился он. – Я же прекрасно понимаю, зачем ты меня позвала! Что, больно, когда бросают? А каково было мне, когда ты ушла? Ведь я уже собирался расходиться, а ты променяла меня на какого-то тюфяка! И ты думаешь, что после этого меня можно вот так просто вернуть? Черта с два! Ты мне больше не нужна, и я здесь только затем, чтобы трахнуть тебя, как последнюю потаскуху! Я могу трахнуть тебя прямо здесь, на столе! Ведь ты же любишь, когда тебя насилуют!
– Только попробуй! – процедила она, не спуская с него глаз и шаря рукой по столу, чтобы вооружить ее. Рука нащупала и схватила тупой короткий нож с круглым концом, призванный на стол, чтобы культурно резать яблоки. Он со снисходительной усмешкой посмотрел на нож, на нее, затем с шумом встал и ушел в гостиную. Через несколько минут он вышел оттуда и направился в прихожую. Еще через минуту он появился на пороге кухни в пальто и сказал:
– В общем, как была ты фригидная бессердечная сучка, так и осталась! Жалею, что не догнал тебя и не трахнул прямо на полу!
После чего повернулся и ушел, крепко хлопнув дверью. Пальцы ее, сжимавшие нож, разжались, и он с коротким стуком выпал из них на стол.
«Ах ты, грязный урод, ах ты, грязное животное!» – задохнулась она ему вслед и с запоздалым ужасом осознала, что призрак насилия был совсем рядом. Бросившись в прихожую, она закрылась на все замки, после чего кинулась уничтожать следы его пребывания.
Сначала она залезла в ванну и, сотрясаемая крупной дрожью, принялась с ожесточением смывать мочалкой его мерзкие прикосновения, отдирать от промежности его грязный вонючий рот и отплевываться от его кислых колючих поцелуев, приговаривая: «Грязная скотина, ах ты, грязная скотина! Тварь, подлая мерзкая тварь!»
Покончив с санобработкой, она устремилась на кухню, где большими ножницами искромсала и швырнула в мусорное ведро розы, после чего вымыла в трех водах обесчещенный им бокал, борясь с желанием отправить его вслед за розами. Она собралась кинуть туда же салфетки, которыми он вытирал свой поганый рот, и уже почти донесла их брезгливыми пальчиками до открытой пластмассовой пасти, как вдруг острое, живое, не ставшее еще памятью отвратительное ощущение его лизоблюдства обожгло ее пах, отчего вино внутри нее возмутилось и кинулось на выход. Она едва успела добежать до ванной, как парижская неприятность повторилась, и широкая ядовитая струя, словно насмешливая отрыжка дьявола, вырвалась из нее и осквернила целомудренную белизну ванны.
– Гад, гад, проклятый гад, чтоб ты сдох! – давилась она стонами, кашлем и слезами, согнувшись над ванной и неистовым душем, словно святой водой смывая следы дьявольской одержимости.
Немного выждав, вино вышло на бис, и она, проводив его искореженным хриплым кашлем, ослабела и, цепляясь руками за край ванны, опустилась на пол. Там она затихла, постанывая и прислушиваясь к себе, пока не убедилась в отсутствии новых позывов. Тогда она поднялась, умылась и взглянула в зеркало на свое осунувшееся, белее, чем у привидения лицо с черно-платиновыми пылающими зрачками. Она приложила холодные ладони к щекам, и вдруг вопреки слабости и мерзости бурный прилив радости от мысли, что она вовремя спохватилась и не пустила его в себя, расправил ей спину и плечи, и она, молитвенно сложив руки и возведя глаза к потолку, воскликнула:
– Боженька, миленький, спасибо тебе, что уберег от позора!
На неокрепших ногах она прошла в спальную и содрала с кровати измятую простыню, наволочки, пододеяльник, на которых пусть и мимолетно отпечатались его поры, за которые цеплялись его волосы и где затаились чешуйки его кожи и перхоти. Брезгливо скомкав оскверненное белье, она сунула его вместе с халатом в стиральную машину, где уже ждал своей очереди жених, и включила ее. Стиральная машина вздохнула и принялась смешивать в туго набитом желудке эфирную суть двух любовников, добросовестно соединяя бессердечную сучку с любимой обожаемой королевой. Утолив свежую месть, она осталась наедине с прежней и, бросившись на кровать, дала, наконец, волю слезам.
Боже мой, невероятно: она опомнилась не потому, что ей стало противно, а потому что пожалела ЕГО! Она должна его ненавидеть, а вместо этого пожалела! Но почему она так хотела ему изменить? Ведь она никогда не стремилась изменить изменившему Мишке, не стремилась даже в мыслях! Почему же она так хотела унизить жениха и почему не смогла (поцелуи не в счет)? Господи, неужели она его любит? А где же жалобный звук лопнувшей струны, где божественное озарение? Нет, нет, это всего лишь жалость, проклятая нестерпимая жалость, которая мешает ей в самые решительные моменты жизни!
Она выплакалась, и ощутила необычайное облегчение, словно с ее плеч слетел огромный походный рюкзак, и теперь она может сойти с тропы изматывающего маршрута и бродить по берегу тихой реки. С тем и заснула.
Воскресенье она провела в тихом, отрешенном одиночестве, прислушиваясь к затихающим раскатам грома у себя в душе. Словно ставя крест на непокорности, кладя конец ригидности, отказывая смятению во власти над собой и приветствуя житейскую мудрость, она ко всем своим авансам добавила еще один – решила с этого дня покончить с таблетками. Одно ее смущало: за весь день жених ни разу ей не позвонил…
В понедельник она появилась у Феноменко, чтобы забрать вещи и распрощаться. Все были крайне огорчены, а Юлька едва не плакала.
– Как же так! – говорила она. – Как же я теперь буду здесь без тебя!
– А знаешь что! – обняла ее Наташа. – Давай сделаем так: я сейчас посмотрю, как у меня пойдут дела, и если пойдут – ты сможешь перейти ко мне. Если захочешь, конечно…
– Наташенька, солнышко, да я с удовольствием! – едва не заплакала Юлька, обнимая ее.
Как ни отвратителен был ей Феноменко, она зашла к нему, чтобы предупредить:
– Я ухожу. Совсем.
– Вот тебе раз! – удивился он, оторвавшись от бумаг. – А я думал после нашего разговора ты останешься!
– Для чего?
– Чтобы командовать здесь, когда я уйду! Ты что, забыла?
– А как же фригидная бессердечная сучка?
– Так мне на этом месте такая и нужна! – вполне серьезно смотрел он на нее.
– Вот и ищи себе такую!
– Ты что, обиделась? – продолжал недоумевать он.
– Хуже – я выздоровела. Ты мне снова помог… – сказала она, вставая. – Прощай, Феноменко, прощай, мой герой…
– Зря я тебя на столе не трахнул! – кричал он ей в спину. – Сейчас бы была у меня, как шелковая!
На что она, не оборачиваясь, вскинула правый кулак с изящно оттопыренным пальцем презрения…
И в понедельник жених не позвонил. Не то чтобы она собралась мириться – скорее, его звонки были ей важны, как подтверждения его преданности.
«Ну, и не надо! – в сердцах вскинулась она. – В конце концов, это ты мне изменил, а не я тебе! Найду себе другого – богатого и глупого, а когда ты захочешь вернуться – заставлю тебя ползать в ногах, а потом прогоню!»
54
Вечером, в день несостоявшейся свадьбы он приехал к ее дому и ждал в машине. Она была у себя – об этом говорил свет ее окон. Он позвонил ей на трубку – она не ответила. Он продолжал сидеть, наблюдая за аркой, из которой она вполне могла показаться – кто знает, куда и зачем она может пойти в этот сиротливый день. Он решил – если до восьми она не уйдет, он поднимется к ее квартире, позвонит в дверь, станет на колени и будет умолять ее через дверь простить его, и не встанет с колен до тех пор, пока она не откроет и не увидит, как он страдает.
Впереди неожиданно припарковался угловатый, как сундук «Мерседес». Постоял, пылая красными раскосыми глазами на плоском черном затылке, словно соображая, стоит ли оставаться – и вот глаза его слегка померкли, а затем и вовсе лишились жизни. Джип освободили от кого-то грузного: слегка качнувшись, он подобрал левый бок, хотя сам груз еще не был виден. Но вот от машины отделился и шагнул в сторону арки плотный мужчина с короткими черными волосами, в длинном темном пальто, с цветами в одной и с плоским, оттянутым книзу пакетом в другой руке. Его бульдожий профиль проследовал перед глазами жениха и, прикрывшись широкой спиной, скрылся под аркой.
«Господи, неужели она не понимает, что творит?!» – изумился он, даже не пытаясь подобрать упавшее на заплеванный тротуар сердце.
Ему не пришлось напрягать память (где-то я его уже видел) и шелестеть опавшими листками календаря (когда же это было), ни предаваться расхожей мудрости (что вы хотите – мир тесен): мимо него во всей своей вальяжной очевидности проследовал Феноменко собственной персоной. Нетрудно было догадаться, что он здесь делает и кому предназначены его дары.
Чего угодно ожидал отвергнутый жених, но только не этого. Нет, мысль его не заработала с лихорадочной быстротой, сердце не взломало грудную клетку, дикое рычание не сотрясло окрестности, и он не кинулся за соперником, чтобы в битве за самку перегрызть ему глотку. Все было слишком очевидно: пригласить в такой день к себе домой бывшего любовника с целью более чем прозрачной может только бездушная остервенелая дрянь! А за таких битвы не устраивают…
Он сидел, забившись в кресло, бессильно наблюдая, как короткий жирный червяк по имени «конец», дырявит кору головного мозга, чтобы проникнуть в серую мякоть и забраться в самую ее глубину. Смертельно раненный, он все же выдержал еще полчаса, лелея сумасшедшую надежду, что Феноменко оказался здесь своим обычным подлым образом и что он сейчас вылетит из подворотни, как пробка из каменной бутылки. Но нет, прошло полчаса – пробка прочно застряла в ее уютном гнездышке.
Бледный и несчастный, он сорвался с места и устремился прочь от этой неблагодарной женщины с темной душой, ровным пульсом и полным бюстгальтером денег, а добравшись до дома, припал к бутылке. А чем еще прикажете обезболить кровоточащее сердце, израненное до потери сознания видениями ее непотребного разврата? Ведь тело его сейчас здесь, а душа там, возле ее кровати, знакомой ему вплоть до легкого поскрипывания – подсматривает и страдает от невыносимой боли! Да, это месть, самая настоящая месть – изощренная, безжалостная и убийственная! И он узнал о ней из первых рук, потому что снова на свою печаль явился туда, куда его не звали!
После прижиганий первой боли он по странному совпадению занялся уничтожением следов ее былого присутствия. То же ненужное покрывало, та же лихорадка, тот же азарт и злорадство, та же мстительная телепатическая страсть, тот же крепко стянутый узел. Формально они квиты, но жить с такой арифметикой вместе уже не смогут, подумал он, пряча узел с глаз долой. После чего удалил из телефона и компьютера ее фотографию.
На следующий день он стал готовиться к отъезду. Он так и сказал матери:
– Пора, мать, отсюда уезжать…
– Куда? – не поняла Вера Васильевна.
– В Испанию или в Италию, – угрюмо поделился он.
– Зачем? – еще больше удивилась мать.
– Жить. Здесь мне делать больше нечего…
И в двух словах рассказал о своих планах.
– Устроюсь и вызову тебя, – заключил он, оставив без внимания растерянные материнские вопросы.
Он связался со своими шведами, и они рекомендовали ему по адвокату в Испании и в Италии. Тому и другому он поставил задачу, и уже через два дня имел полное представление о том, что следует делать. Подтвердилось, что гостеприимство обоих полуостровов в случае приобретения у них недвижимости обещает быть радушным и благожелательным. Правда, в Испании ему будут рады всего полгода, зато в Италии круглый год. Кроме того, они пожелают заглянуть в его карманы. Да ради бога! Он с удовольствием вывернет их, подтвердив наличие необходимых средств для достойного их исторического гонора проживания, а именно: проценты по его вкладам в европейских банках приносят ему теперь не менее ста тысяч долларов в год. Обоим адвокатам он велел подыскать виллу на побережье, а сам принялся сводить счеты с родиной. Предупредив съемщиков о скором съезде, он выставил квартиры, кроме той, что на Московском проспекте, на продажу. Та же участь была уготована и дому под Зеленогорском. Он расстанется с ним без всякого сожаления.
Через неделю после того, как мир стал черно-белым, он собрался в Кузнецк, чтобы распорядиться наследством и обеспечить материальное благополучие ныне утробной дочери и ее матери. Позвонив Галке, он предупредил о своем приезде.
Покачиваясь в кряхтящем вагоне, он смотрел сквозь прочно приставшую к окнам пыль дальних дорог на круглосуточное слайд-шоу того весеннего, пришибленного солнцем худосочного пространства, что зовется средней полосой. Сочетание неимоверных возможностей с удручающей бедностью особенно ранит в эту пору, когда голые ветви деревьев и клочки сухой прошлогодней травы бессильны скрыть вопиющую национальную неухоженность, возрастом равную вечности.
Надо было подтягивать английский, и он взял с собой «Лолиту» в английском и русском одеянии. Он честно пытался читать, но неспящие мысли отвлекали его, и тогда он откладывал книгу и смотрел в окно, по которому ползала ожившая муха, пока мысли, в каком бы направлении они не двигались, не упирались в тупик ЕЕ бездушия, где вскипев негодованием, замирали до следующего приступа.
Мужчина рядом с женщиной и женщина рядом с мужчиной есть та цена, которую каждый из них себе назначает, думал он. В конце концов, на всякую красивую женщину найдется еще более красивая. Вот, например, он: нормальный сорокалетний мужик, с психикой пусть чуткой и сентиментальной, но все же здоровой и не стремящейся к извращениям, с развитыми эмпатическими способностями, с миром глубоких переживаний, с интеллигентным набором чувств и действий – неужели он не найдет себе достойную и уравновешенную спутницу, которой не будет нужды никому угождать, кроме него? Он может заставить Галку развестись и женится на ней или найдет какую-нибудь другую обремененную бальзаковским возрастом, детьми и одиночеством женщину и сделает ее счастливой. Зачем ему иго взбалмошной красавицы, стянувшей свою жизнь дурацкими привычками и принципами, как обручами? Не она ли ему говорила: «Я многое могу простить, но не измену!» Но ведь другие прощают! И еще она ему рассказывала: «Я всегда была с мальчишками привередлива. В школе за мной ухаживал один мальчик, мне он тоже нравился. Но однажды он при мне стал стричь ногти прямо на пол. Больше я с ним не встречалась…» Вот оно, уготованное ему будущее: ждать, когда взорвется очередная мина, которыми нашпиговано ее капризное существо!
В раздражении он бросил на столик книгу, и «Лолита» всем своим высокохудожественным содержанием шлепнулась прямо на не успевшую унести сонные ноги муху. В смущении он тут же подхватил бумажный снаряд, который, как оказалось, стал для мухи смертельным, и то что было для него источником метафизических вибраций, стало для мухи могильной плитой. Муха прилипла к обложке, и он салфеткой удалил ее, но след она на литературе все же оставила.
Вижу язвительные усмешки, слышу желчные голоса критиков, спешащих представить на месте мухи автора. Вижу, слышу и ничего не предпринимаю, потому что не имею никакого отношения ни к Набокову, ни к настоящей истории, ни, тем более, к мухе, а лишь к удивительному и случайному совпадению всего упомянутого.
Убаюкиваемый колыбельным покачиванием, он щурился под слабосильным за облачной кисеей солнцем, когда ему позвонила Светка.
– Не хочешь встретиться? – спросила она.
– Светочка, я сейчас еду в поезде, но как только вернусь, обязательно позвоню! – как можно вежливей откликнулся он.
Ну, разумеется, он ей не позвонит! Что нового она может ему сказать, когда он и без нее уже слишком много знает! Даже если за ее звонком стоит бывшая невеста, которая, утолив жажду мести, ищет, как его вернуть, он ни под каким видом к ней не вернется. Да, он сказал, что она имеет право на реванш, но то было с его стороны, как он теперь видит, глупое и несдержанное прекраснодушие. Все, точка, забудьте о нем всей вашей развеселой компанией – он едет к своей дочери!
К его удивлению, на вокзале его встречали друзья во главе с Санькой. Они обнимали его и гулко хлопали по спине и по плечам. Радость их была неподдельной, а он не мог скрыть смущения: неужели Галке в самом деле удалось утаить правду? Его довезли до бабушкиного дома, где он бросил вещи, после чего они гурьбой отправились к Саньке, где уже был накрыт стол. Там их ждала Галка и тетя Катя. Обе обняли его и деликатно поцеловали.
Давно он так не пил! А чем еще, кроме водки мог вооружить он свою совесть, чтобы бесстрашно смотреть в глаза обманутого друга? Они сидели рядом, а напротив невозмутимая тетя Катя с размякшей Галкой смотрели на них с легкой улыбкой. Посреди веселья он встал и предложил выпить за будущую мамочку, и все с энтузиазмом выпили, после чего Санька наклонился к нему и, понизив голос, сказал удивительную, феерическую фразу:
– Тут у нас кое-кто говорит, что это твой ребенок, но таким я сразу даю по рогам!
Не будь настоящий отец до красноты пьян, он обязательно выдал бы себя густой багровой краской. Но он только пристукнул кулаком по столу и пробасил:
– Правильно, Санек!
На следующий день, дав ему выспаться, к нему пришла Галка. Принесла с собой обед и свежие новости, мимоходом упомянув, что муж на работе. Пообедав, они, как и полгода назад устроились на диване. Сначала сидели, обнявшись, и он по праву будущего отца бережно целовал ее лицо и гладил налитый тугой тяжестью живот, а затем, опустившись на пол и встав на колени, приложил к нему смущенное ухо.
– Ну? – немного погодя спросила Галка.
– Нет, не слышу… – сообщил он, отрываясь от шершавого шерстяного платья.
– Подожди, – сказала Галка, и слегка привстав, вдруг бесстыдно вскинула под грудь широкий подол, обнажив круглый, размерами в половину луны живот. – Вот теперь слушай…
Бережно пристроив к нему ухо и затаив дыхание, он вслушивался в непрерывный, нескончаемый, однообразный зов, с которым во все времена обращается к нам не то кровь, не то Вселенная. Так ничего и не различив, он в смущении принялся целовать тугой, сияющий полнолунным светом глобус, пока не спустился в его южные широты и ниже – туда, где под прозрачными колготками затаились, словно снег белые трусы ее южного полюса. Почувствовав, что против воли возбуждается, он вернулся на диван, обнял будущую мать своего ребенка, поцеловал ее в лоб и сказал:
– Какие же вы, женщины, храбрые!
В ответ она вдруг припала к нему с долгим поцелуем, а когда оторвалась, сдавленно предложила:
– Давай ляжем…
– Нет, нет, что ты! – испугался он.
– Что, невеста? – посмотрела она на него.
– Нет, нет, с ней все кончено!
– Тогда что?
– Просто мне ужасно стыдно перед Санькой! Ведь он и правда считает, что это его ребенок. Ты не представляешь, как мне стыдно!
– Да что уж теперь-то… – улыбнулась она, и рука ее легла прямо на его предательски набухшую ширинку.
– Нет, Галчонок, нет, не надо, я не могу, честно, ты уж извини… – подхватив ее руку и поднеся к губам, виновато забормотал он, крепясь изо всех сил и отгоняя навязчивое видение оседлавшего его, колышущегося, натужного живота, с выпученным, словно глаз пупком, делающим его дочь свидетельницей и соучастницей родительского соития.
– Но я же вижу, что ты хочешь! Ну, прошу тебя, давай ляжем! Я так соскучилась! Ведь ты уедешь, и я никогда тебя больше не увижу, никогда! – умоляюще заглядывала она в его глаза.
Он обнял ее и прижал к груди.
– Ну что ты такое говоришь? Как это – не увидишь? Обязательно увидишь, и не раз! Разве я смогу не видеть вас, зная, что вы у меня есть? Вот погоди, устроюсь в Испании, и вы ко мне приедете. Сначала в гости, а там посмотрим… – говорил он, гладя ее по спине и целуя в голову.
Она обхватила его до дрожи в руках и пробормотала:
– Не хочу, чтобы ты уезжал!
Он вручил ей на первое время десять тысяч евро. Она под разными предлогами отказывалась, пока он, потеряв терпение, не пригрозил сообщить Саньке, кто отец ребенка. Угроза была пустяшная, но она улыбнулась и взяла деньги. Помимо этого он велел ей открыть счет в Сбербанке, куда собирался перевести два миллиона рублей.
– Вот уж нет! – сказала она. – Ты хочешь, чтобы все узнали и спросили, за что мне такие деньги? И что я отвечу? Любовник подарил? Даже не думай, а то я вообще ничего не возьму!
На следующий день по его просьбе к нему пришла тетя Катя. Он встал перед ней на колени и попросил прощения.
– Ну, что ты, Димочка, что ты! – спокойно отвечала она. – Галка сама так захотела. Она рада, и я тоже. Не вышло у нас с твоим отцом, так, может, у вас выйдет…
Он долго уговаривал ее принять в дар бабушкин дом.
– Зачем он мне? – говорила она. – Мне и со своим-то не управиться! Да и перед соседями неудобно!
Договорились, что он оформит куплю-продажу и подтвердит получение денег, которых на самом деле никто платить ему не будет.
– Ох, уж эти ваши махинации! – вздохнула тетя Катя и согласилась.
Он пробыл в Кузнецке пять дней и вернулся оттуда молчаливый и умиротворенный.
55
Как же она ненавидела его до тех пор, пока не попыталась изменить! Но не изменила (поцелуи не в счет). И как должен был ненавидеть ее он, чтобы изменить при первой же возможности! Прелюбодеяние от любви – вот как называется то, что он сделал! Ну, и кто из них двоих после этого по-настоящему виноват?
Хорошо, пусть все идет, как идет – рано или поздно все встанет на свои места, иначе, зачем каждую ночь звезды открывают лица, спеша подтвердить незыблемость мироздания? Зачем это небо, сизой голубизной похожее на французский флакон с туалетной водой? Зачем из глубины лесов встает, словно дым пожаров туман испарений? Для чего ткется паутина дней, а ночью на нее выползают черные пауки мыслей? Для чего дается радость, если все кончается печалью? Зачем эти ворóны-цыганки на голых ветвях и чайки-кликуши среди пены облаков, и куда, расширяясь с ускорением, торопится Вселенная, как человеческая жизнь в конце срока? И зачем, в конце концов, человеку правое полушарие и дофамин?
Кстати о музыке: а не сходить ли ей с Марией в филармонию? Ведь жизнь продолжается – она дышит, ест, спит, работает (много работает), говорит по телефону, слушает, не перебивая, улыбается клиентам и продавщицам, бывает рассеянной, бывает равнодушной, может обнять Марию и тут же отчитать; старается не спорить, пытается сдерживаться, благодарит за комплименты, по вечерам остается дома, любит свернуться и пригреться на диване, не ходит в гости, не принимает гостей, часто плачет перед сном, а иногда ей хочется послать всех к черту. И все бы ничего, если бы не этот комариный зуд в сумеречной глубине души, что не дает ей покоя. Вот потому она дышит, ест, беспокойно спит и до тошноты работает, чтобы этим если и не прибить комара, то хотя бы заглушить его гнусный зуд.
В пятницу десятого апреля она договорилась с Яшей встретиться у нее дома, чтобы вместе с ним попытаться осмыслить ситуацию в розовом свете, пока та окончательно не заехал не в те палестины. Яша пришел с цветами и бутылкой вина. В прихожей он взглянул на нее быстрым смущенным взглядом и поцеловал ей руку. Она провела его в гостиную и усадила на диван за низенький столик напротив фотографии покойного жениха.
Сначала говорили о случайных вещах, и он с тонким юмором поведал ей последние курьезы из его адвокатской практики. Наташа внезапно развеселилась, и поскольку они сидели рядом, она вдруг в свойственном ее нынешнему состоянию истеричном порыве уронила на его колено руку и задержала ее там в полувоздушном положении, задыхаясь от нервного смеха. Он в ответ неожиданно подхватил ее руку и прижался к ней губами. Затем оторвался и взглянул на нее более чем откровенно. Лицо ее потухло, она тихо высвободила руку, сгорбилась и тускло сказала:
– Не надо, Яшенька, не надо… Ты милый, ты хороший, но не надо…
Он смутился, покраснел и пробормотал:
– Извини, пожалуйста…
Некоторое время они молчали, а затем он излишне бодро спросил:
– Так насчет чего ты хотела со мной поговорить?
– Теперь даже не знаю, сможешь ли ты быть объективным, – смущенно улыбнулась она.
– Смогу, смогу! – ободрил он ее.
– Тогда слушай…
И она, как доктору, поведала ему без утайки перипетии ее отношений с женихом: и про американца, и про подлость Феноменко, и про измену жениха – все для него новое, свежее, удивительное. Но удивительней было другое: рассказывая историю своих несчастий, она словно перебирала сломанный механизм их с женихом совместной жизни, смазывая его болтики, винтики, колесики, пружинки и прочие незаметные ей ранее детальки каким-то новым, томительно-пунцовым, неведомым ей прежде чувством. Она собрала аккуратную, похожую на часы конструкцию и прислушалась к ее ходу: механизм молчал. В отчаянии она потрясла его над ухом – механизм не запускался. И тогда она, помедлив, вдруг торопливо и отчаянно осенила его заветным словом, и случилось удивительное: механизм, словно музыкальная шкатулка тихо и мелодично запел! И когда она, обрадованная и растроганная, спросила Яшу: «Скажи, что мне, по-твоему, делать?», она уже знала ответ, и все, что она теперь хотела знать (да и то в угоду вежливости) – совпадет ли ее ответ с Яшиным.
Между тем к Яше вернулась его профессиональная задумчивость и, поразмыслив, он сказал:
– Формально он виноват.
– Ну, это ясно… – нетерпеливо откликнулась Наташа.
– Морально тоже.
– Ну, понятно!
– Виноват теоретически, практически, исторически, диалектически и синтетически…
– Ну, так, так!
– А потому ты должна его простить. Если любишь, конечно. Ты его любишь?
– Ах, Яша! – качнулась она к нему, неожиданно обняла и поцеловала прямо в губы – протяжно и крепко, словно прощаясь навсегда. Потом откачнулась от него, изумленного, и сказала:
– Спасибо тебе, Яшенька! За все спасибо! Ты не представляешь, как ты мне помог!
И снова поцеловала его – целомудренно и нежно. Единственная благодарность за его долголетнюю любовь и верность, которую она могла себе позволить. Ироничной грубоватостью скрывая смятение, он спросил:
– Ну, хоть руку твою я могу напоследок подержать?
– Руку можешь, – милостиво протянула она ему руку.
Он бережно принял ее и принялся гладить, поднося к губам и покрывая поцелуями.
– Скажи, – задумчиво спросила Наташа, не обращая внимания на его манипуляции, – а как бы ты на его месте поступил?
– Хм, – задумался Яша. – Ну… если бы моя Юлька такое учудила – я имею в виду американца – я бы с ней развелся!
– А не слишком ли радикально? – усомнилась Наташа.
– В самый раз! Так что, считай, тебе повезло!
– Ну, хорошо… А если бы к тебе пришел человек и сказал, что он ее любовник?
– Я убил бы и его, и ее!
– Ладно, ладно, Яшенька, не преувеличивай!
– Ну, тогда только ее…
– Вот это другое дело! Только я бы все же начала с любовника!
С этими словами она забрала у него руку, быстро поцеловала в щеку, встала и сказала:
– Идем на кухню пить чай!
Прощаясь, он обратил на нее страдающий взгляд и сказал:
– Завидую твоему жениху, ты не представляешь, как завидую… Если вы вдруг расстанетесь, то знай, что есть я. Если вы все же сойдетесь – сделай так, чтобы он увез тебя отсюда куда-нибудь подальше от меня…
После его ухода она сняла со стены и спрятала Володину фотографию, освободила на пальце место для кольца жениха, разобрала узел и разложила его вещи. Затем пришла на кухню, принесла с собой листок с телефонным номером американца и сожгла его в пепельнице. После чего взяла на руки кошку, села за стол и, устремив невидящий взгляд вдаль, сидела так с тихой улыбкой и навернувшимися слезами, оглаживая кошку и повторяя шепотом:
– Противный мальчишка, ах, какой противный мальчишка!
Наутро она проснулась с ощущением близкой радости. Нет, нет, она не собиралась ему звонить, но знание того, что между ними больше нет проклятого препятствия, питало ее приподнятое настроение. Она включила прелюдии Шопена так громко, чтобы звуки проникали в самые отдаленные уголки квартиры, и с удовольствием занялась уборкой. Порхая и подпевая, она иногда подхватывала Катьку и, заглядывая в ее прижмуренные глаза, говорила с веселой строгостью:
– Нет, ты представляешь, какой противный мальчишка – не звонит! Обиделся, видите ли!
К трем часам дня она привела в порядок жилплощадь, изрядно запущенную за время страданий, приняла душ и уселась с телефоном на диван.
– Привет, Светуля!
– А, это ты… – кисло откликнулась Светка.
– Ты уж извини меня! – заторопилась Наташа. – Сама понимаешь, какие были обстоятельства…
– Да ладно, чего там! – отмахнулась Светка. – Ну, что у тебя нового? Изменила жениху?
– Что за глупости! С какой стати?!
– Ну, ты же, вроде, собиралась…
– Мало ли что я сгоряча собиралась!
– То-то же, подруга! Я же сказала – не горячись!
– Хорошо, хорошо! Слушай, хочу тебя попросить…
– Ну…
– Не могла бы ты ему позвонить и пощупать его настроение?
– А самой-то что – лень?
– Ты понимаешь… Вначале он звонил – три раза в день звонил, а потом как обрезало, и я даже не знаю, что думать… Ведь я же его фактически прогнала… Может, он опять с кем-то спутался, а тут я со своим звонком. Не хочу унижаться…
– Гордая, значит?
– Гордая…
– Ну, ладно, черт с тобой, жди!
Через десять минут Светка перезвонила и сообщила, что говорила с женихом, который сказал, что сейчас едет в поезде, но обещал дать знать, как только вернется.
– А как он по голосу? – жадно поинтересовалась Наташа.
– Да вроде нормально – вежливо так, культурно, без злости…
– Про меня не спросил?
– Нет, подруга, про тебя не спросил! Да ты сама позвони – он тебе все и скажет!
– Нет, сама звонить не буду! Это же он мне изменил, а не я ему!
– Ну, и дура! – заключила Светка. – В общем, жди!
И Наташа принялась ждать.
Только ведь бесплодное ожидание, как температура при лихорадке – сколько ее не сбивай, она возвращается вновь. Да и сбивать-то особо нечем – ну, может, если только работая за троих. И она, давно имея планы по реорганизации фирмы, принялась их осуществлять. Грандиозные планы требовали поддержки нужных людей, и она моталась по городу, оживляя старые связи и укрепляя существующие. Оказалось, что она многого могла бы достичь, обнадежь она некоторых важных людей, заинтересованных кроме соучастия в деле в ее теле. Таких она попросту вычеркивала из списка будущих партнеров.
Вечером она возвращалась домой, чтобы кое-как поужинав, забраться с ногами на диван и обратиться мыслями к необъяснимому молчанию жениха. С той же силой, с какой ее отшвырнуло от него, ее теперь тянуло к нему и, думая о нем, она с всё возрастающим изумлением, стыдом и ужасом вспоминала свою нелепую попытку изменить ему. Отвратительные подробности, состоящие из преступной темноты, вороватых шорохов, нескромного чавканья и телесных ожогов приходили ей на память, заставляя краснеть и содрогаться. Сослагательное воображение рисовало ей омерзительное продолжение, где Феноменко, опережая ее нерасторопность, силой овладевает ею и, невзирая на ее запоздалые мольбы и вопли, доводит дело до конца; где ее душа вместо того чтобы наполниться сытой местью обращается в выжженную, оскорбленную пустыню. И дальше, дальше – туда, где она покоряется ему, становится его помощницей, а на самом деле – личной, безропотной шлюхой, и так живет, опускаясь в беспросветное, скотское одиночество, не имея ни сил, ни воли восстать. От такой перспективы ее бросало в жар, и она снова и снова неистово благодарила кого-то невидимого и бесконечно милосердного за то, что образумил ее за секунду до бесчестья.
Каждый вечер она с заискивающим замиранием спрашивала Светку одно и то же: «Ну?..», и та сочувственно отвечала:
– Нет, не звонил…
Она подхватывала кошку, прижимала к груди и говорила:
– Почему, ну почему он молчит?!
Перед сном она тихо плакала и заклинала судьбу: «Господи, только бы он не наделал глупостей!»
Засыпая, испытывала неизменное облегчение: «И все же это так прекрасно, так необыкновенно радостно, что я ему не изменила!»
Кажется, что проще – позвонить ему и прекратить мучения! Но она мучилась, потому что утром надежда на его звонок возвращалась к ней, и она снова носилась по городу, плетя деловую паутину, питаясь как попало и желая оказаться дома, как можно позже. Однажды в одном бюро ей встретился человек, лицом весьма напоминавший Володю. Это было так неожиданно и вызывающе, что сердце ее поначалу дрогнуло и забилось, однако затем успокоилось и покинуло волнение ровным размеренным шагом.
«Еще один майский жук… – вяло подумала она. – Где же ты был раньше…»
Подходила к концу третья неделя ее одиночества. Девятнадцатого апреля вечером, разочаровав в очередной раз, Светка обронила:
– Кстати, когда мы с ним говорили, он сказал, что не откажется от тебя, даже если ты ему изменишь…
– Ты… ты… ты, Светка, знаешь кто после этого? – разволновалась Наташа. – Почему сразу не сказала?
– Он даже сказал, что ты имеешь право ему изменить… Ну и чудаки же вы с ним оба! – хихикнула в ответ Светка.
56
Вернувшись из Кузнецка поздно вечером восемнадцатого апреля, он обнаружил, что многим нужен. Появились первые покупатели на квартиры, дом под Зеленогорском тоже хотели видеть. Кроме того, его завалили предложениями из-за границы. Все нужно было смотреть, везде нужно было быть, во всем нужно было разбираться. Что до его страданий, то за время своего путешествия он тяжелыми мыслями истолок их в порошок, просеял через сито жизнеутверждающих планов и теперь развеивал по ветру предстоящих перемен. Остался лишь тонкий угрюмый осадок, не толще тихого нытья.
Наутро мать отправила его в магазин за продуктами. Белое воспаленное солнце за серой кожей облаков и незаслуженная для конца апреля прохлада владели городом. Он шел, оглядываясь вокруг себя с крепнущим отчуждением.
«Без меня, – думал он, – теперь без меня!»
Все будто сговорились – звонили. Даже бомж на панели, присев у стены дома на корточки и подставив чахлому солнцу заплесневелое лицо, звонил кому-то.
«Мне, что ли, позвонить… – усмехнулся он. – Интересно, что она скажет, если ответит…»
Пока он, нерасчетливо легко одетый, добирался до магазина – замерз. Ветер был несильный, но упрямый – подстать скупому экономному солнцу. Набрав продукты, он встал в кассу. Позади него пристроилась истовая поклонница новейшего оригинального жанра – публичного телефонного общения: пустоголовая красотка из тех, у кого язык вроде миксера. Обнажив свою ничтожную суть, она принялась терзать его слух самодовольными воинственными сентенциями. Задолбав его как бы типа блинами, пока он не заценил прикол и реально не офигел, она вдруг важно сообщила:
– Ладненько, приветик, у меня тут вторая линия…
«Вот этой свистульке здесь точно хорошо…» – неприязненно подумал он, и ему вдруг реально, так сказать, захотелось в Европу: там, по крайней мере, ему от такой дурацкой тирады достанется по причине незнания местного языка только чарующая причудливая мелодия.
Рассчитавшись, он напоследок скользнул взглядом по оловянному гонору девицы и про себя пожалел ее:
«Желать тебя, конечно, будут, может даже полюбят. Но ненадолго…»
Во вторник, двадцать первого апреля он заехал к Юрке, с которым после разрыва с невестой ни разу не виделся. После запоздалых Юркиных соболезнований, бесцеремонно униженных глубоким удовлетворением Татьяны, сели за стол. Выпили, и он впервые поведал им предысторию и истинную причину их расставания. Хозяева, столкнувшись с такой горой подробностей, разволновались, не зная, как ее переварить. Перебивая друг друга, они спрашивали, переспрашивали, уточняли, сомневались, возмущались, одобряли, осуждали, приветствовали и, наконец, выпили за здоровье будущей мамочки и дочки.
В гостиной мерцал телевизор, и Татьяна, которой о таких страстях приходилось только мечтать, ревниво заключила:
– Да у вас целый сериал получился! Ну, и хорошо, что все так кончилось! Не любит она тебя! Любила бы – простила. Это я тебе как женщина говорю…
По телевизору в это время показывали фильм о конце света, и когда он прервался жизнерадостной рекламой, гость объявил, что вплотную занят эмиграцией, поведав при этом, как далеко зашло дело. Юрка искренне опечалился, Татьяна, кажется, тоже.
– Я думал, что ты, как и все, только ворчишь, а ты, оказывается, и вправду решил сбежать! – воскликнул огорченный Юрка.
– Сбежать? В смысле, как крыса с корабля? – рассмеялся гость. – Ладно, пусть так. Только крыса, между прочим, умное и чуткое животное, и потому знает, когда бежать…
– Но почему так радикально? Чего тебе здесь не живется? Ведь живем же мы! – попытался в очередной раз образумить друга Юрка.
– Я уже никому ничего не хочу объяснять. Считай, что я спятил, а с сумасшедшего какой спрос…
– Димыч, не считай меня за идиота! Я спрашиваю тебя, потому что знаю, что ты ничего не делаешь просто так! Потому и держусь тебя! Скажи, что ты знаешь, что ты видишь?
И Дмитрий, снисходительно глядя на друга, ответил с усталым назиданием:
– Объясняю последний раз: страна с плохим фундаментом входит в полосу потрясений. Поставить казнокрада, мздоимца, мошенника и вора выше демонстранта, требующего соблюдения закона – это приговор. Те персоны, которые сегодня олицетворяют благополучие, обрели его неправедным путем, а оказавшись у власти, сделали с ней то, что и положено людям жадным и трусливым – узурпировали ее. Их политическое слабоумие и нравственная импотенция приведут страну к развалу. Грядет бунт, и поводом, как всегда станет чья-то невинная смерть. Гордиться здесь нечем, стыдиться бесполезно, а потому лучше всего уехать, и побыстрее. Такие вот мои апрельские антитезисы…
Юрка внимательно выслушал друга, подумал, почесал затылок и сказал:
– Нет, Димыч, не зацепил ты меня…
– Что ж, может я не прав, может, чересчур пуглив, может, правду говорят – там хорошо, где нас нет, но я все равно уеду. И пусть вам будет хорошо там, где нет меня…
Будь он в начале пути, он бы, давясь возбужденными словами, прокричал своему непонятливому другу, что страна переживает опасное состояние общественного сознания, проистекающее все из того же правового нигилизма, никогда нас не покидавшего, но нынче переступившего какую-то окаянную черту, когда персоны и структуры, живущие на бюджетные деньги и обязанные за это действовать полезным для общества образом, полностью и основательно уверились в том, что они в принципе никому из нас ничего не должны. Никому ничего не должны чиновники, милиционеры, судьи, врачи, учителя, спортсмены и уж тем более беспризорные толстые дядьки с пухлыми кошельками в лакированных автомобилях, а также молодые люди, мечтающие быть на них похожими.
Что он лишь один из сотен тысяч, если не миллионов граждан, которые не желают жить там, где своеволие и самоуправство стали нравами, где стремление причаститься к власти, как верному средству защиты от закона делают ее желанной в первую очередь для людей бесчестных и корыстных, а стало быть, заведомо опасных для общества. Где и без того жалкие притязания закона на уважение становятся откровенно смехотворными, когда в деле замешаны люди с положением и деньгами. Где у плохих людей стало хорошим тоном отвечать на замечание убийством.
Что эти миллионы, как и он не желают испытывать ощущение неполноценности от хронического состояния внутреннего бесправия, что их возрождающееся чувство достоинства входит в опасное несоответствие с условиями повседневного существования. Что им становится невозможным мириться с позицией власти, жаждущей самоутверждения больше, чем долгожданной победы над беззаконием и произволом.
Что они не желают ждать, когда позиция тех, кто плюет на других и в принципе никому ничего не должен станет непререкаемым правилом для подавляющего большинства, и страна окажется в такой ситуации, когда уже не мы будем возводить железный занавес, а те, кто живет по соседству, чтобы защитить себя от нас.
Что он, наконец, не желает быть в числе тех, для кого нет большего наслаждения, чем дышать патриотическим угаром!
И если уж совсем начистоту, если уж говорить с бесстыдной наготой и несдержанной откровенностью, но без мстительного пристрастия и всяких там постмодернистских скоморошьих подъелдыкиваний, то вот его твердое несокрушимое резюме: он не желает далее следовать в одной компании с возбужденными пассажирами взбесившегося электропоезда «Москва – Петушки» – того еще недавно патриархально-рассудительного состава, что усилиями недальновидных одержимых обличителей разогнался до неудержимого состояния, отчего проскочил конечную станцию и с пугающей быстротой несется теперь в неизвестном направлении.
Хотелось бы в этой связи понять отдельных его пассажиров – этих доморощенных пророков, оглашенных крикунов, неуравновешенных мудрецов с булькающим средством от печали в дорогом их сердцу чемоданчике; хотелось бы задним числом спросить этих транспортных вандалов, которые, возможно, мечтали всего лишь о домике в деревне, всего лишь желали сойти с порочного, как им казалось, маршрута, вырваться, так сказать, из плена неидеальной реальности, но вместо этого повредили тормозную систему – короче, хотелось бы с запоздалым и мучительным изумлением знать: какого рожна они это делали?
Зачем было интеллигентским похмельем родниться с перегаром народных масс, тасовать и передергивать историческую колоду, наполнять обиженные души крепким словесным рассолом, в котором не водилось ничего толкового, а одна лишь ядовитая зеленая тоска и детское недоумение? Зачем было заряжать жерла обывательского недовольства глубокомысленным правдоискательством, не имея представления о силе отдачи? Зачем было мутноглазым скепсисом одухотворять запальчивый национальный порыв – заведомо бессмысленный и беспощадный? Зачем, питая метафизическими фантасмагориями свои мечты о совершенстве мира, было употреблять талант на рытье невидимых нор, истощая почву под ногами режима? Ведь адекватной их больному икающему воображению реальности нет и не может быть, а стало быть, сколько ни было и ни будет этих режимов, ни один из них не был и не будет им угоден!
Не про них ли сто лет назад сказал на пути к сумасшествию больной, но мужественный мудрец: «Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика»? Не для них ли было сказано им же: «Добрые суть тормоз: они сдерживают, они поддерживают». И не они ли, самовлюбленные ворчливые неудачники, инфантильные эгоисты не вняли сердобольным рецептам гениального немецкого подстрекателя, обольстителя и разрушителя?
Что ж, недалекие недоверчивые витии, вот он, перед вами – экспоненциально прогрессирующий сюрреализм российской жизни: любуйтесь теперь его похожей на полное затмение оскорбительной и наглой фазой! Вы об этом мечтали, господа правдолюбы? Или неведомо было вам, домогавшимся перемен, что колдуны на Руси меняют лишь личину, но не суть, и что всякая борьба добра со злом здесь кончается победой еще большего зла, отчего Россия, как и во времена Белинского остается страной, «где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей»!
Ну как тут не спросить вас с вашей шкурной близорукостью: «Какого рожна вам надо было тревожить геометрическую прогрессию зла?»
Молчат, не дают ответа…
И поскольку никто не собирался каяться, он сказал:
– Знаешь в чем разница между эмигрантами двадцатых и мной? Они уезжали отсюда в слезах, а я плакать не собираюсь…
Он хотел было добавить, что ему ни капли не жаль покидать страну, которая, растеряв былое могущество, все более превращается в анфиладу полупустых запущенных губерний с беспризорным, теряющим признаки одушевленности населением, в этакую проложенную с запада на восток трубу, по которой в обратном направлении набирает тягу сквозняк иноземной, иноязычной, инородной, похожей на оккупацию миграции, но в этот момент звонок трубки прервал его хотение.
Ну, и кто же может ему звонить в девять вечера двадцать первого дня месяца апреля две тысячи девятого года от рождества Христова? Он подтянул трубку и прочитал: Наташа. Израненное, перебинтованное сердце, на котором, кажется, не было живого места, замерло и вдруг резво кинулось вскачь, погоняемое самым безжалостным в мире кучером. Тут и кровь прилилась к щекам, и во рту пересохло, и мысли спутались, и слезы бы выступили, если бы он их вовремя не пресек – словом, оказалось, что все его попытки отречения, облегчения, обличения, излечения, обречения, отсечения, все ухищрения, уловки, анестезии и прочие душевные клизмы не только не задушили, а напротив, лишь обострили болезнь!
“Elle court, elle court, la maladie d’amour…” (Течет, течет любовная болезнь…)
Он выскочил из-за стола, отвернулся и, стараясь говорить спокойно, негромко сказал:
– Да, Наташенька…
– Привет, – сказала она.
– Привет, – ответил он.
– Ты можешь меня встретить? – спросила она, и он обострившимся слухом уловил в ее голосе страх перед его отказом.
– Где ты сейчас? – все так же спокойно спросил он.
– На Петроградской…
– Жди. Я позвоню, когда приеду.
Он обернулся к столу и невидящим взглядом скользнул по нему, словно вспоминая что-то. Затем похлопал себя по карманам, зачем-то обыскал их и сказал:
– Мне надо идти… Вы уж извините…
Его проводили с недоуменным сожалением.
57
Забравшись в машину, он достал жевательную резинку: две рюмки коньяка – не та доза, что способна помешать ему увидеть женщину, которая искорежила его жизнь.
Зачем он ей потребовался? Что она может ему сказать больше того, что он уже знает? Как ему себя вести и как смотреть ей в глаза? Он изменил, она изменила – есть ли жизнь после измены? Под аккомпанемент мучительных вопросов, благоразумно держась в правом ряду и направляемый подслеповатым морганием светофоров, он за сорок минут добрался до места и позвонил. Она вышла из подъезда, и он шагнул ей навстречу.
– Привет… – протянула она ему руку.
– Привет… – заключил он ее в свою, ощутив на секунду теплое нежное электричество. – Что так поздно?
– Работы много…
– Что случилось? Почему ты без машины? – невыразительно спросил он.
– Машина на станции техобслуживания, а случилось… – она помолчала. – Да, случилось… Просто ужас… Помнишь Юльку с Московского?
– Да, конечно…
– Звонила два часа назад: ее сегодня в подъезде ограбили и избили…
– Действительно, ужас… – бесстрастно согласился он.
– Ты мог бы меня проводить? – заторопилась она. – Я боюсь одна… Конечно, если ты не против…
И снова он уловил в ее голосе страх перед его отказом.
– Ну почему же, конечно! – ответил он дружеским, ничего не значащим голосом.
В густой сумеречной апрельской синеве они дошли до машины – чужие, отстраненные. Он запустил мотор и тронулся с места. Ехали молча, пока она не спросила:
– Слышала, ты куда-то уезжал…
– Да, ездил в Кузнецк, чтобы устроить кое-какие дела и обеспечить Галину с ребенком… – спокойно и просто сообщил он.
– Нормально съездил? – участливо поинтересовалась она, быстро взглянув на него.
– Да, – обронил он, уловив ее покладистый призыв.
Судя по всему, теперь его черед задавать вопрос. Только вот о чем он должен ее спрашивать, прекрасно зная, что она не знает, что он знает то, чего знать не должен? Он вдруг представил, как она будет пытаться вернуть его (иначе, зачем она его призвала?), как усилиями кривых, избегающих правды фраз будет карабкаться на мнимую вершину оскорбленной невинности, чтобы оттуда милостиво даровать ему прощение в обмен на его виноватую собачью преданность. Представил и тут же ощутил неловкое преимущество своего просвещенного положения. Ощутил, как унизительно будет она выглядеть в своем жалком неведении, как сама того не ведая двуличным и лживым лепетом выжжет дотла горючие развалины его сердца, не оставив ему другой возможности жить, кроме как развеяв пепел их отношений по стонущему ветру разочарования.
А может она решит признаться, и тогда он окажется перед беспощадным выбором – либо смириться и простить ее, обесчещенную, чтобы мучится, но быть вместе, либо гордо и мрачно отвергнуть, потому что ее измену, низкую и пошлую, в отличие от его измены, безысходной и отчаянной, простить невозможно!
«Нет, нет! – вдруг испугался он. – Нельзя допустить, чтобы она унижалась! Я должен немедленно прокричать ей, что все знаю и не готов пока меняться неравными изменами!»
И тут у него сам собой возник вопрос:
– Почему ты позвонила мне, а не Феноменко?
– Причем тут Феноменко? – повернулась она к нему, удивленная.
И тогда он, страдая и запинаясь, выложил ей обжигающую правду:
– Вечером в день свадьбы я был возле твоего дома и видел, как он шел к тебе с цветами…
Она резко выпрямилась и даже, кажется, вскочила бы, если бы не была пристегнута.
– Ах, вот оно что! – воскликнула она. – Тогда понятно, почему ты перестал звонить! Успокойся – мы посидели, поговорили напоследок и разошлись! Я ушла от него две недели назад!
Он почувствовал, как слабеют руки, сжимающие руль. Тугое звенящее напряжение отпустило его, и усталый покой, растолкав по углам все прочие чувства, заполнил покореженное пространство.
– Ты опять похудела… – сказал он, не глядя на нее.
– Ты тоже… – обронила она.
Когда сегодня ей позвонила Юлька и истерично поведала, что с ней приключилось, она вместо того, чтобы испугаться, вдруг отчаянно, невыносимо, до сердечных мук захотела оказаться рядом с ним, прижаться к нему, зацепиться за него, как цепляется за скалу одинокое дерево, и больше не отпускать от себя, что бы ни случилось.
Около половины одиннадцатого они подъехали к ее дому, встали у обочины метрах в двадцати от арки, и он помог ей выйти. Сумерки сгустились, но фонари еще держали паузу, и они погрузились в мир умирающего света, когда все вокруг еще живо, но неуклонно теряет силы и тает. Черно-синяя испарина проступает на фасадах домов, и прозрачные, призрачные, пугающие воображение тени окружают нас со всех сторон. Час между собакой и волком, говорят про такое время французы. Час между светом и нечистью. Еще немного, и украсится ночь хищной оскаленной пастью. Еще чуть-чуть, и разорвется ночная тишина предсмертным воплем робкой жертвы. Таков закон природы, и нет в нем места морали, потому что обитатели ночи вне морали и вне закона…
Им предстояло миновать группу неряшливо одетых парней, чьи лица, но не досуг стерли сумерки: их было трое, и у каждого в руке по банке. Расположившись недалеко от арки и беспорядочно жестикулируя, они гулко и громко задирали друг друга, и, казалось, вот-вот сцепятся, если бы в последний момент густой гогот не разряжал обстановку. Возможно, такова была их мирная манера общения, но не оставляло впечатление, что их внешнему миролюбию не хватает только повода, чтобы пойти войной на весь свет.
При виде вновьприбывших они смолкли, зацепились за них взглядами и не отпускали, пока те не поравнялись с ними. Воздух был тих и свеж, и от веселой компании пахнуло запахом еще не прокисшего хмеля. Ни дать, ни взять – веселые демоны городских джунглей, прислужники невзыскательного бомжа Диониса! Наташа с женихом, благоразумно сторонясь летучей мистерии, почти миновали их, когда один из них громко и безнаказанно сказал:
– Классная телка, пацаны! Я бы ее реально трахнул, а вы?
Крепкие связки, луженая глотка, вдохновение скотоложца: слова вышли смачные, нитроглицериновые – попробуй, пройди мимо! Да к тому же оскорбительно радостным ржанием отозвались подельники. Жених остановился, как вкопанный.
– Пойдем, Димочка, пойдем! – испуганно потянула его за локоть Наташа.
– Ты иди, я сейчас, – толкнул он ее под арку.
– Дима, не ходи! – в страхе воскликнула Наташа.
– Не ходи, Дима, не ходи, а то больно будет! – передразнивая Наташу, кривлялся кто-то за его спиной. Прочие ржали.
– Наташенька, все будет хорошо – я знаю, как с ними обращаться. Иди, я сейчас приду, – но она не ушла и осталась тут же, под аркой. Повернувшись, он направился к шумным дворнягам.
По виду они ничем не отличались от тех возбужденных зрелищем юнцов, которыми набит стадион, и чей восторженный порыв сливается во время матча с его порывом. Вытертые до матового блеска джинсы, короткие темные куртки с капюшонами, кроссовки – универсальный хитиновый покров городского планктона, что бывает добродушен, но чаще опасен. Он не сомневался: свои, болельщики, зенитчики. Немного навеселе, но он заставит их извиниться и, признавшись в любви к «Зениту», они разойдутся с миром.
Он приблизился к злоязычным одноклубникам. Были они ниже его ростом, худые и длиннорукие. Они не выступили ему навстречу, а только слегка развернулись.
– Здорово, пацаны! – небрежно сказал он.
– Тамбовский волк тебе пацан! – ответили сумерки.
– Тогда «Зенит» – чемпион! – попробовал он зайти с другой стороны.
– Че те надо, дядя? – насмешливо отозвался тот, что ближе. Одну руку он прятал в кармане штанов, другая, полусогнутая, застыла с банкой на уровне пояса. Был он до такой степени безлик, что глазу не за что было зацепиться. Настоящий универсальный фоторобот. Двое других были помельче, но в драке дело не в росте, а в злости. А то, что ему придется драться, Дмитрий уже не сомневался.
Он ощутил волнение – новое, острое, совершенно необычное. Не то, каким потрясает великая музыка и не то, что заставляет испытывать женщина, и уж тем более не то, что переживаешь, теряя или приобретая в лотерею. Это было нечто другое – волнение перед непредсказуемым, роковым, неотвратимым шагом, волнение, когда на кону сама жизни – словом, волнение перед атакой. Сейчас он испытает то, чего никогда в жизни не испытывал – сейчас он станет воином и защитником чести любимой женщины!
Фоторобот незаметно придвинулся к нему. Двое других сделали тоже самое. Нет сомнения: перед ним были псы, готовые превратиться в шакалов. Ладно, тогда вперед.
– Дядя хочет, чтобы ты извинился, – сказал Дмитрий, вынимая руки из карманов.
– А если нет, че тогда? – обернулся тот к компании и ухмыльнулся.
– Лучше извинись по-хорошему…
– Ты глянь, дядя угрожает! – удивился фоторобот. – А ты меня заставь!
Дмитрий стоял, не зная, как быть: бить первым или ждать нападения? Тем временем безликий надвинул на него злой лик и свободной рукой толкнул его в грудь.
– Ну, давай, чего ждешь! Или вали отсюда!
И тогда Дмитрий неожиданно для себя выбросил правый кулак в сторону тени и попал ей в плечо. Тень оказалась мягкой и податливой и даже отскочила от него, но тут же вернулась и ударила Дмитрия прямо в губы. Призрачный кулак оказался на редкость крепким, а его удар – больным.
– А-а-а!.. – истошно взвыла где-то рядом Наташа. – Что вы делаете, уроды!
Дмитрий замахал кулаками, но они большей частью попадали в сумерки, а если в тень, то вскользь и не больно. Перед глазами у него мелькнуло совершенно глупое воспоминание, где он играет в морской бой с другом детства Витькой Мальковым. Он называет клетку, а Витька кричит:
– Не попал!
Он называет другую, и Витька снова радуется:
– Мимо!
Зато все Витькины выстрелы точны и увесисты.
Его уже били втроем. Он закрывал руками голову и сгибался все ниже и ниже. Где-то рядом истерично кричала Наташа. Его повалили на землю и били ногами по ребрам, по голове, по почкам. Наташа, как разъяренная кошка цеплялась за куртки разбойников и орала, не помня себя:
– Гады, гады, уроды, что вы делаете, сволочи, подонки, скоты, отпустите его, кто-нибудь – на помощь, на помощь!
Они отшвыривали ее, она вскакивала и снова бросалась на них, пока фоторобот не крикнул:
– Рыжий, мочи эту тупую суку!
И рыжий коротко, смачно, с оттягом ударил ее снизу кулаком в беззащитный живот. Наташа сложилась пополам и рухнула на землю. С другой стороны улицы кто-то закричал:
– Эй, вы! Вы че там творите?!
И фоторобот прохрипел:
– Все, валим, валим!
И все трое исчезли на пружинистых, привычных к бегству ногах, оставив после себя на тротуаре Наташу с женихом, три банки пива с потеками возле маленьких удивленных ртов, да равнодушные фонари, что распускали над полем боя неоновые цветы…
…Книга орбита пыль путь мудрость свет зеркало душа страхи сон скука королева глина колдунья одиночество ландшафт звери склоны камни голова помосты рисунок кванты фольга энергия листья монолог котенок тело лужи отец дождь рыба куст кони земля гармония звук угли сосуд небо цветы заботы лодки города советы радуга улицы обложки вампиры дворцы хаос хижины льды ночь шакалы мнения пустыня существо языки духи срок тщета бдения роща весна пена молнии…
Мир рассыпался на слова. Ранее ученые и ручные, они забыли про вдохновенные перестроения, превратились в черных птиц, смешались в трепещущую стаю и, скрепленные первобытным синтаксисом, носятся головокружительными кругами над лугами логики, не торопясь выбирать место для посадки. Ну что же вы, почему сомневаетесь, отчего медлите, чего боитесь?
…Мужчина руки желания глаза девочка песни стихи женщины встречи муравьи краски проблемы паутина крыльцо автомобили ветер покой обман голод жажда воздух луг река лицо печаль звук струна плач заводь подвох банка зверь мир повелитель ветер слезы даль дом небо мосты лес покров пруд одеколон ресницы камни аромат мать комната темнота звезды луна люди…
Ах! Вот, кажется, и первые ласточки! Да, да, запотевшая луна, сырые звезды, да, да, люди-призраки – они любят меня, лунные тени гуще самих призраков, лунный свет – обман, метнуть камнем в луну, как в фонарь…
Птицы падают одна за другой на плоское поле смысла, возвращая себе падежи, склонение, приложение и причастность.
И будет так: выстрелы и трупы на дымных, усеянных битым стеклом улицах, мечущиеся фигуры приготовились умирать, горят автомобили, брызжут неспокойными искрами шипящие маки, звенят фонари – хаос нынче царь. Лобная участь неправедных, толпа скандирует имя человека – не то Сталин, не то Пушкин – человека, над которым более нет власти, кроме судьбы, и судьба его будет нелегкой. Даже бесплотный свет фонарей неподъемным грузом ляжет на его плечи. Проклятие самодержавия очаровало эту землю. Следующая революция – революция планктона, и ее сила не в идее, а в количестве безыдейных. Зачинщики и смутьяны ответят за свои действия по закону!..
И спросил бог перышко на теле двуглавого орла: «Кем ты хочешь быть после смерти?» «Парусом!» – ответило перышко. И стало перышко парусом и поплыло, куда дует ветер…
Ах, какой счастливый конец у этой сказки! Николай Михайлович, Лариса Сергеевна, полчаса назад у вас родился внук, Николенька Ростовцев-Максимов! Вес 3,5 кг, рост 52 см, красотой весь в мамочку! С Наташенькой все в порядке! Ждем вас в гости на наш необитаемый полуостров! Счастливые мы…
На лестничной площадке курит Сталин в мягких домашних тапочках.
– Здравствуйте, товарищ Сталин!
– Здравствуйте, товарищ Максимов.
– Товарищ Сталин, вокруг вас одни враги!
– Знаю, товарищ Максимов, знаю. Берия?
– Берия, товарищ Сталин…
– Хрущев?
– Хрущев, товарищ Сталин…
– Космополиты?
– Космополиты, товарищ Сталин…
– Евреи?
– Они, товарищ Сталин…
– Вот видите, товарищ Максимов, я все знаю, но ничего не могу поделать…
– Как же так, товарищ Сталин?
– Каждый день ко мне обращаются миллионы честных советских граждан, а я ничего не могу поделать. Но вам, товарищ Максимов я помогу советом…
– Каким, товарищ Сталин?
– Дайте вашей жене то, что она просит. Не забывайте о роли кухарки в управлении государством… Да вот она и сама вас зовет!
– Димочка, малыш! Ты почему не спишь? – склоняется над ним в темноте мать, касаясь его молодыми мягкими прядями.
– Мама, мама… – улыбаясь, шепчет он.
– Миленький мой, Димочка, это я, Наташа! – отвечает мать.
– Наташа… – улыбается он.
– Хороший мой, хороший! – гладит его Наташа и целует кровоподтеки на его лице.
– Что мы? Где мы? – спрашивает он, пытаясь приподнять голову.
– Лежи, мой любимый, лежи! Я здесь, я с тобой…
Когда звери убежали, она, корчась от боли и слез, добралась до жениха, села возле него и взвалила его голову и плечи себе на колени. Глядя на его безжизненное лицо и давясь слезами, она тихо скулила:
– Димочка, родненький, не умирай, прошу тебя, не умирай!
Неожиданно он дернулся, открыл глаза и произнес:
– Мама, мама…
– Миленький мой, Димочка, это я, Наташа! – в голос зарыдала она.
– Наташа… – попытался он улыбнуться.
– Хороший мой, родной, любимый Димочка! – заикаясь от рыданий, склонилась она над ним.
– Что мы? Где мы? – спросил он, пытаясь приподнять голову.
– Лежи, Димочка, лежи, мой любимый! Я здесь, я с тобой… – целовала Наташа солоноватые кровоподтеки.
Он замер, затем пошевелился и, напрягая разбитые губы, произнес слабым голосом:
– Наташенька, я не собираюсь умирать, а потому не говори того, о чем потом будешь жалеть…
– Ты мой глупый, любимый дурачок! – улыбалась она сквозь слезы. – Я люблю тебя, Димочка, люблю, люблю, люблю! Я, как дура все ждала, когда полюблю тебя, как Володю, а оказалось, что я давно тебя уже люблю, но не понимала, потому что любила тебя не так, как его, а по-другому, потому что ты и сам другой… – торопилась она, словно боясь, что не успеет ему всего сказать.
– Поцелуй меня… – попросил он, и она, склонившись и окружив его лицо растрепанным каштановым шатром, осторожно и нежно прижалась к его разбитому рту.
Он напрягся, и лицо его перекосилось от боли.
– Очень больно, мой хороший? – скривилось вслед за его лицом ее лицо.
– Все болит… – ослаб он у нее на коленях и вдруг спохватился: – Не сиди на холодной земле! Встань и помоги мне добраться до стены…
Двое пожилых, наблюдавших за ними мужчин, предложили помочь, но она, возбужденно отмахиваясь, закрыла его от них:
– Не трогайте, я сама, я сама!
Гримасничая – он от боли, она от безмерного сострадания – они общими усилиями усадили и привалили его к стене.
– Скорую надо вызвать и милицию, – сурово посоветовал один из мужчин.
– Не надо, ничего не надо… – поморщился он. – Все нормально, спасибо!
Мужчины ушли, качая головами.
– А я об этих уродов все ногти обломала! – стоя перед ним на коленях с залитым слезами и стянутым судорожной улыбкой лицом, показывала она ему руки. – Ничего, отрастут!
Он неуклюже взял ее руки в свои и приложил к разбитым губам.
– Мой милый, хороший, любимый Митенька! – бормотала она.
– Митенька… Меня так мать в детстве звала…
– Теперь я тебя так буду звать! – говорила она, не вытирая слез.
– Голова кружится… Ничего, я сейчас немного посижу, и мы пойдем, – сказал он, подтягивая ноги. – Ну и рожа у меня сейчас, наверное…
– Неправда! Ты у меня самый красивый, самый лучший, самый любимый! Мы сейчас придем, и я буду тебя лечить!
– Календулой… – улыбнулся он, побеспокоив гримасой разбитые губы.
– Не календулой, Димочка, не календулой! Сама залижу, мой хороший, сама, чтобы быстрее зажило!
– Наташенька, я люблю тебя, ты не знаешь как… Мне даже бывает страшно… Я ведь думал, что ты мне изменила…
– Димочка, я дура, я распоследняя дура! Я так тебя ненавидела, так ненавидела! Я в тот день и правда хотела тебе изменить, но не смогла, мой хороший, не смогла, потому что поняла, что люблю тебя!
И заплакав в голос, она уткнулась ему в плечо, повторяя:
– Верь мне, Димочка, верь, я никогда тебе не изменяла, никогда!
– Я знаю, моя родная, знаю, не плачь! – утешал он ее мягким глубоким голосом.
– И еще я боялась, что ты сгоряча наделаешь глупостей! – заикаясь от слез, проговорила она.
– Глупая моя, ну что ты такое говоришь! Ну как бы я без тебя стал жить! Ну не плачь, моя родная, не плачь! – гладил он ее по голове.
Она вдруг вскинула голову и, глядя ему в глаза, отчетливо сказала:
– Я хочу тебе признаться… Я еще никому и никогда в этом не признавалась… Никто не знает, никто…
Размазав тыльной стороной ладони по щекам слезы, она помедлила и, запинаясь, стеснительно произнесла:
– Ведь я до тебя… ни с кем и никогда… не испытывала… оргазм… Даже с Володей… Была, как рыба холодная и бесчувственная…
И дальше, горячо и сбивчиво, торопясь закидать ворохом слов былую принадлежность другим самцам; спеша похоронить и сравнять с землей нагую, отданную другим мужчинам часть своей жизни, так бездумно и бездарно потраченную:
– И только ты меня разбудил, понимаешь, только ты! Я только с тобой узнала, что это такое, понимаешь! Только с тобой поняла, что значит быть настоящей женщиной! А это значит, что ты и есть мой первый мужчина, мой самый первый мужчина в жизни, самый настоящий и самый любимый, только мой, только для меня! Ведь так, ведь правда, Димочка?
– Правда, – сказал он, – правда, моя любимая: первый и последний…
– И последний, конечно, последний! – со счастливой мокрой улыбкой говорила она. – Знаешь, я уже две с лишним недели не пью таблетки, и я не хочу больше ждать никакой свадьбы, я тоже хочу девочку, и как только ты сможешь…
– Я смогу, Наташенька, смогу, сегодня же смогу… – перебил он ее.
– Не сегодня, нет… Мы сейчас придем, и я тебя уложу, прижму к себе, и ты заснешь… Я дам тебе силы, и ты поправишься…
Она обхватила его и прижалась слезами к его щеке, бормоча:
– Милый мой, родной, любимый Митенька!
Соглядатаи-фонари, вытянув угодливые шеи с бледными лицами, завистливо прислушивались к их счастливым бурным словам, которыми они приветствовали то редкое, настоящее и прекрасное, что их теперь соединяло.
Он сказал:
– Я собрался покупать для нас дом в Испании, но если ты хочешь, мы останемся здесь…
– Димочка, я поеду с тобой, куда скажешь, хоть на край света! – горячо воскликнула она, провозглашая с христианских небес анафему стране, которая так зверски обходится с ее любимыми мужчинами.
Она снова обхватила его, и они застыли, украшая собою безмолвную, униженную неоном панель: он, привалившись спиной к стене и подтянув ноги, она сбоку на коленях, прижавшись щекой к его щеке. Он уже чувствовал в себе силы встать, но продолжал сидеть, захваченный восхитительным моментом слияния воплотившихся грез с его избитым ликующим существом.
– Пойдем, – наконец решился он. – Помоги мне…
– Ты мой рыцарь, ты мой верный любимый рыцарь… – говорила она, помогая ему подняться.
Он поднялся, выпрямился и стоял некоторое время на нетвердых ногах, прислонясь к стене и справляясь с головокружением. Она подставила ему плечи, он обнял ее, и они, слившись в одно израненное целое, побрели туда, где в самом дальнем ящике стола среди вороха теперь уже ненужных фотографий корчился не то от смеха, не то от рыданий злой гений их любви – самонадеянный правитель заплечного мира, гипсовый глашатай лживых посулов, бессильный демон бесплодных потрясений, косноязычный посредник подземных российских колдунов, отныне и навсегда утративших над ними власть…
Санкт-ПетербургСентябрь 2011 г.
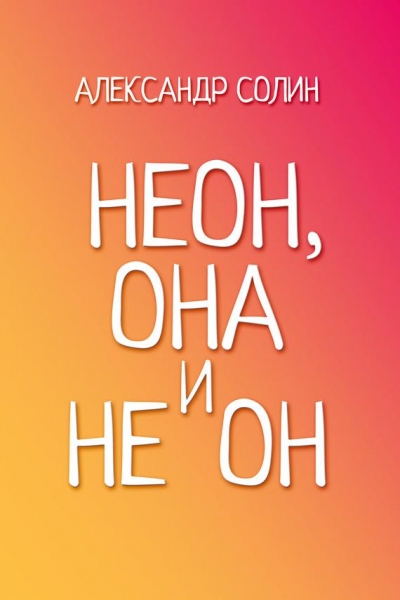





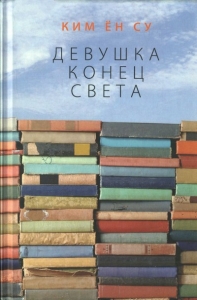
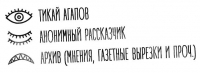
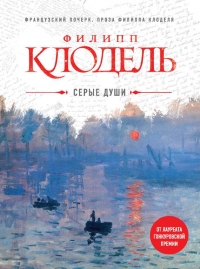
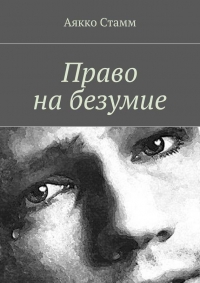

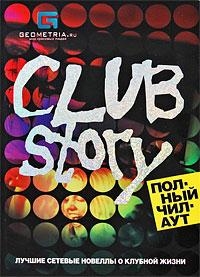

Комментарии к книге «Неон, она и не он», Александр Матвеевич Солин
Всего 0 комментариев