Дженнифер Джонстон
Предисловие «И в смерти восторжествую…»
Ирландская писательница Дженнифер Джонстон живет в Лондондерри, городе, получившем сегодня такую печальную известность. Вот уже десятый год здесь хозяйничают английские солдаты, рвутся бомбы, происходят вооруженные столкновения протестантских экстремистов с католиками, идут баррикадные бои на улицах, обыскивают по ночам мирное население, в тюрьмах, не выдержав голодовки протеста, гибнут юные ирландцы. Здесь царит атмосфера враждебности, подозрительности, предательства…
Из окон «Большого дома», как по традиции называют в Ирландии старинные особняки, видна река Фойл. Это место хорошо знает каждый ирландский школьник. Здесь в 1689 году была проиграна битва, после которой началась мощная колонизация страны Великобританией.
Вся история Ирландии — это непрерывная цепь войн, восстаний и мятежей, потопленных в крови. Но снова и снова ирландский народ вставал на борьбу.
Ольстерская трагедия сегодняшнего дня своими корнями уходит туда — в глубь веков. Есть у нее вехи и в истории XX века. Незавершенная революция 1919–1923 годов, целью которой было добиться самостоятельности Ирландии, раскол страны, создание ольстерского юнионистского государства с узаконенной дискриминацией католического населения — все это служило постоянным источником кризисов на протяжении XX столетия. Острейший политический кризис разразился осенью 1968 года. Сложность социальных, политических, религиозных проблем усугубляет терроризм, к которому постоянно прибегают и протестантские экстремисты, и католики Ирландской республиканской армии, выступающие под лозунгом национально-освободительного движения. «Остров святых и ученых», изумрудный Эрин, так поэтически-горделиво величали Ирландию в древности, сегодня превратился в «пылающий остров».
Как уже не раз бывало в истории культуры, кризис, обостривший борьбу Ирландии за самостоятельность и за свои права, способствовал бурному развитию североирландской литературы. Первыми на события в Ольстере откликнулись драматурги и поэты. В поэтических сборниках Джона Монтегью, Шеймаса Хини, Ивена Боланда, в пьесах Стюарта, Бойда, Фрила отчетливо проступило намерение осветить многовековые распри между католиками и протестантами не с религиозных, но с социальных позиций. Несколько позже на североирландские события отозвались и романисты. Произведения Юджина Мак-Кейба, Бенедикта Кили, Кевина Кейси, Дженнифер Джонстон позволили критикам всерьез заговорить об «ольстерском романе» как новом типе ирландской прозы.
Традиционно англо-ирландская проза тяготеет к двум видам повествования: бытовому, или нравоописательному, и историческому. Классическим образцом исторического жанра стала шеститомная автобиографическая эпопея Шона О’Кейси, охватывающая историю Ирландии с 80-х годов прошлого века до 20-х годов XX века. Примерами произведений на историческую тему в середине XX века могут быть романы А. Мердок «Алое и зеленое» о кануне Дублинского, или, как его иначе называют, Пасхального восстания 1916 года, и «Взбаламученный город» Дж. Планкетта, в котором описаны классовые бои ирландского народа начала века.
В «ольстерском романе» произошло плавное и гармоничное слияние двух исконно ирландских типов прозы: историческое повествование соединилось со внимательным описанием нравов, с углубленным, вдумчивым исследованием внутреннего мира личности. Сформировалась литература, которую в целом отличает злободневность, острая документальность, особая социальная зоркость, восприятие общественных событий как выстраданных, глубоко личных. Появился и новый герой — не традиционный весельчак, паяц, балагур или безумец, с различными модификациями которого можно встретиться в произведениях Синга, О’Кейси, Биена, но гражданин, что, в свою очередь, говорит о духовной зрелости этой прозы.
Еще одна очень важная черта «ольстерского романа» — стремление осмыслять и оценивать жизнь человека с точки зрения вечных, метафизических категорий, что в свою очередь также в традиции классической ирландской литературы — поэзия и драматургия У.-Б. Йейтса, «Улисс» Дж. Джойса, «И снова?» Шона О’Фаолейна.
Яркий пример «ольстерского романа» — творчество Дженнифер Джонстон.
Дженнифер Пруденс Джонстон родилась 12 января 1930 года в очень талантливой семье. Ее отец, Денис Джонстон, — выдающийся североирландский драматург, много сделал для развития национального театра. Мать, Шила Ричардс, — известная актриса, режиссер. Дженнифер Джонстон пробовала писать еще в детстве. Интерес к литературе укрепило обучение в одном из старейших университетов Ирландии Тринити-Колледж. Правда, раннее замужество и дети помешали Джонстон получить диплом. На несколько лет она вместе с семьей уезжает из Ирландии: живет в Париже, Лондоне. Но в конце 50-х годов возвращается на родину, в Северную Ирландию. К этому времени относится намерение Джонстон, продолжив семейные традиции, стать актрисой. В 1960 году она приняла участие в Дублинском фестивале, где сыграла главную роль в пьесе Бертольта Брехта «Св. Иоанна скотобоен». Хотя отзывы об ее исполнении были вполне доброжелательными, Джонстон поняла, что театр не ее призвание. Начала писать, скорее для себя, нежели для печати, как она сама говорила, «коротенькие пустячки». Первой серьезной пробой пера стала пьеса, которую она рискнула предложить издательству. Отзыв рецензента был крайне противоречив: «Это очень плохо. Но вы — прирожденная писательница. Не пишите больше пьес. Попробуйте написать роман».
В 1972 году Джонстон закончила роман «Капитаны и короли». Но и на этот раз ее ждала неудача. Издательство отклонило книгу, мотивировав отказ следующим образом: «Превосходная проза, но уж слишком лаконичная». Однако Джонстон не изменила свойственной ей манере. Роман «Ворота» (1973) еще короче, так что его скорее можно назвать — как, впрочем, и все произведения Джонстон — повестью. Он был принят к печати, и в сорок три года состоялся наконец литературный дебют Джонстон. Дебют поздний, но, как показало дальнейшее творчество Джонстон, весьма основательный: все последующие романы — «Далеко ли до Вавилона?» (1974), «Пятна на нашей коже» (1977), «Старая шутка» (1979) — отмечены значительными литературными премиями. В 1973 году вышел и отвергнутый ранее роман «Капитаны и короли».
Критики — ирландские и зарубежные — не скупились на похвалы. Все они сходились на том, что в литературу пришла самобытная писательница со своим художественным миром и оригинальным почерком.
Демократизм, искренняя симпатия к простым труженикам, героизм которых в каждодневном честном выполнении долга, сочувствие к тем, кто одинок и обездолен, но не согнулся под бременем обстоятельств, преклонение перед теми, кто готов отдать свою жизнь за свободу родины, чуждость аффектации, любым проявлениям слащавости и сентиментальности, юмор, надежда на победу доброго, гуманного начала в жизни — вот что читатель сразу же увидит в книгах этой писательницы.
Творческую манеру Джонстон и в самом деле отличает лаконизм, который некоторые критики восприняли как скудость поэтики. В ее романах присутствуют лишь самые необходимые, несущие важную социальную и психологическую информацию детали. Проза предельно драматизирована: автор старается не вмешиваться в повествование и не комментировать происходящее; духовную эволюцию героев раскрывает диалог, динамичный, как в пьесе. Недаром часто Джонстон сравнивают с Джейн Остин, классиком английского реалистического романа XIX века, мастером детали, лаконичного, но при этом очень емкого психологического портрета.
Драматургическая организация повествования — это, безусловно, не только традиция английской классической литературы, но и влияние пьес Йейтса, Синга, О’Кейси, современных ирландских драматургов. Напряженный психологизм, скупая, точная деталь, передающая не только лично важное, но и общественно значимое, оркестровка прозы, насыщенность текста различными аллюзиями, цитатами, умение передать материальную, осязаемую жизнь, звуки, запахи, ощущения — все это говорит и о творческом освоении традиции Джеймса Джойса. Романтизм мировосприятия, патетика, умение придать повествованию мифологический характер — дань ирландской фольклорной традиции, связь с которой также сильна в прозе Джонстон.
Ирландский характер творчества этой писательницы не только в следовании национальной литературной традиции. Сама атмосфера, дух ее книг — ирландские. Один британский критик так писал о ней: «Это настоящая ирландская писательница, и мир ее книг насквозь ирландский».
Эту глубинную, кровную связь с родиной ощущает и сама Джонстон: «Если мне случается провести три недели вне Ирландии, я начинаю испытывать настоятельную потребность вернуться на родину. Я люблю наши подернутые туманом поля, мужчин в темных костюмах. С тех пор как в стране начались беспорядки, я стараюсь не уезжать… Мне тягостно видеть солдат на наших улицах. Им не место здесь».
«Война повсюду», — говорит в начале первой мировой войны старый владелец кабачка в романе «Далеко ли до Вавилона?». «На земле всегда была война… и через сорок лет будет примерно то же самое», — вторит ему в канун ирландской гражданской войны восемнадцатилетняя героиня романа «Старая шутка», только еще вступающая в жизнь Нэнси Гулливер, до конца не осознавая, сколь справедливы по отношению к ирландской действительности ее слова.
Война — постоянная тема Джонстон: англо-бурская война, первая мировая война, гражданская война в Ирландии в 20-е годы, война, полыхающая сегодня в Ольстере. И даже в тех романах, где нет непосредственного изображения войны («Капитаны и короли», «Ворота»), она так или иначе присутствует в сознании персонажей, определяет их дальнейший жизненный уклад, духовный настрой.
Войны уносят много человеческих жизней: «Даже из нашей маленькой деревушки, — пишет в своем дневнике Нэнси Гулливер, — сколько народу убито». На полях первой мировой войны погиб Габриэл («Старая шутка»), сын безумного генерала, в прошлом участника англо-бурской войны. Гибнут в перестрелке, организованной революционером Энгусом Барри, двенадцать английских солдат («Старая шутка»), а через сорок с лишним лет в Лондондерри погибнут от бомбы члена ИРА ирландские солдаты, послушные исполнители чужой воли, быть может, сыновья тех, кто погиб на этой земле в 20-е годы.
Но даже те, кто остается жив в романах Джонстон, опалены войной. Ее отблеск как родимое пятно: недаром одна из книг писательницы так и называется — «Пятна на нашей коже». Из-за войны не сложилась жизнь у тети Мэри («Старая шутка»), в прошлом красавицы, пережившей погибшего на войне брата, умершую в родах сестру и теперь тихонько попивающую по вечерам, чтобы как-то утолить боль души; война, точнее, войны сделали несчастной и мать Джо («Пятна на нашей коже») — первая мировая война искалечила не только физически, но и нравственно ее мужа, война, что идет в сегодняшнем Ольстере, грозит отнять у нее сыновей.
У Джонстон война — это и символ, образ особого, неправильного отношения к жизни. Сама результат ненависти, война в социальном и психологическом смысле постоянный источник непонимания, разлада, предательства. В книгах Джонстон читатель встречается с разными формами ненависти: социальной — политическая вражда ирландцев и англичан, религиозная ненависть протестантов к католикам; личной — ненависть, существующая между родителями и детьми, братьями, супругами. У каждого вида ненависти — свои приметы: у первой — взрывы бомб, дымовая завеса выстрелов над городом, печатный шаг по ночным, пустым улицам, окрики солдат, команда «Огонь!». У второй — стылые, пусть и безупречно вежливые слова, холодные, мертвые глаза.
При том, что в книгах Джонстон так много горя, так часто на наших глазах или за занавесом обрывается человеческая жизнь, они не оставляют тягостного, мрачного, давящего впечатления. Ненависть, смерть, насилие не заслоняют от героев Джонстон величия жизни, вечного торжества природы, красоты поэзии, задушевности песни. Напротив, смерть, такая реальная в Ирландии во все времена, делает жизнь особенно бесценной.
Три последних произведения писательницы: «Далеко ли до Вавилона?», «Пятна на нашей коже», «Старая шутка» — хотя и не связаны общими героями и в них не выдержана хронологическая последовательность (в первой изображены канун и начало первой мировой войны; вторая переносит нас в реальность сегодняшнего Ольстера; в последней действие происходит перед самым началом гражданской войны в Ирландии), тем не менее выстраиваются в своеобразную военную трилогию.
Надо обладать недюжинной писательской смелостью, чтобы во второй трети XX века рискнуть создать роман, тематически близкий «Смерти героя» Р. Олдингтона. Не только история главного героя «Далеко ли до Вавилона?» Александра Мура, оказавшегося на войне случайно, к военной жизни совершенно не подготовленного, но и мучительное расставание с иллюзиями англичанина Беннета, мечтавшего о подвиге, о славе — это и в самом деле напоминает судьбу Джорджа Уинтерборна из «Смерти героя». Книгу Джонстон с программным для всей литературы 20-х годов романом Олдингтона сближает и антивоенный пафос, осуждение мировой бойни, где молодые люди были всего лишь пушечным мясом.
Однако если бы роман «Далеко ли до Вавилона?» исчерпывался лишь проблематикой «Смерти героя», его трудно было бы считать оригинальным произведением. Вчитываясь в судьбы героев Джонстон, постепенно приходишь к выводу, что сходство, существующее между двумя произведениями, не абсолютное.
Роман условно распадается на две части: англо-европейскую и ирландскую. Все, что происходит во Фландрии, весь кошмар окопной жизни, вся линия майора Гленденнинга, безукоризненной военной машины, не ведающей ни жалости, ни сострадания, наконец, бессмысленная, отнюдь не геройская военная эпопея англичанина Беннета, которого скорее всего ожидают не награды, а смерть от «скоротечного загнивания ног» — да, это в традиции литературы «потерянного поколения». Тогда как часть ирландская — линия Александра Мура и его друга, крестьянского паренька Джерри Кроу — в иной традиции, которую стоит рассмотреть подробнее. Ирландский акцент дал возможность Дженнифер Джонстон после Р. Олдингтона, У. Оуэна, Р. Грейвза сказать и свое слово о судьбе героя, чья юность изувечена первой мировой войной.
Война внесла немало изменений в жизнь Ирландии. Ушли в прошлое «Большие дома» — в одном из таких вырос Александр Мур, — цитадели и одновременно символы размеренного, патриархально неспешного быта. С началом войны ускорился процесс расслоения ирландского общества. Хотя в центре внимания Джонстон драматическая история Александра Мура, с которым читатель прощается, когда ему остается всего лишь несколько часов до казни, в этом небольшом романе возникает лаконичная, но убедительная и объемная картина ирландской жизни начала XX века. Мы узнаем, как относились к войне различные слои ирландского общества. «Сладостно и почетно умереть за отечество», — говорит мать Александра Мура, хладнокровно отправляющая сына на бойню. Мать Мура — не просто холодная красавица, бездушная эгоистка, в романе она, как и домашний учитель Александра, мистер Бингем, воплощает типичные для того времени настроения проанглийски ориентированной ирландской аристократии и буржуазии.
Совсем иной отец Мура. В минуту откровенности он говорит сыну: «Земля — это сердце нашей страны. Ее отняли у народа… И мне хотелось бы верить, что она, когда настанет время, будет возвращена в хорошем состоянии». По этим отрывочным фразам ирландский читатель, хорошо знающий свою национальную историю, может предположить, что в молодости мистер Мур, видимо, был членом Земельной Лиги, организации, созданной в 70-е годы прошлого века, которая стремилась уничтожить английский лендлордизм и вернуть землю ирландским фермерам. Ее возглавляли видные ирландские революционеры Майкл Девитт и Чарлз Стюарт Парнелл, «некоронованный король Ирландии», борец за гомруль, то есть за самоуправление в рамках Британской империи. Мистер Мур не скрывает, что ему очень не по душе англичане, хозяйничающие в Ирландии («Но я никогда не желал стать англичанином. И не желаю этого для моего сына», — с раздражением заявляет он жене), первая мировая война, эта бессмысленная бойня, развязанная, по его мнению, «проклятыми идиотами». Война не нужна ирландскому народу: она обескровит страну, лишит ее молодых сил. (Как известно, английские власти отправляли полки, составленные из ирландских волонтеров, в самые опасные места с целью ослабить будущих противников Англии.)
С другой стороны, мистер Мур понимает, что из-за войны в Ирландии начнутся перемены: война ускорит брожение, идущее в ирландском обществе. Если бы мистер Мур не был так стар, чтобы брать на себя серьезные обязательства, то отдал бы свои силы, как он говорит сыну, на то, чтобы эти перемены наступили скорее.
Действительно, война способствовала росту сознания ирландского народа. Формируется движение шинфейнеров (ирл. Sinn Fein — «мы сами»). Эта политическая организация продолжила дело фениев, революционеров-республиканцев 2-й половины XIX века, боровшихся за независимость Ирландии; великий патриот, республиканец-социалист и рабочий лидер Джеймс Конноли создает Ирландскую республиканскую армию, которая должна была защищать участников забастовок, волной прокатившихся по стране, от правительственных войск; эти годы отмечены деятельностью вождя революционеров-волонтеров, одного из вдохновителей Пасхального восстания 1916 года Патрика Пирса.
Крестьянский паренек Джерри Кроу называет себя республиканцем, он явно — член организации шинфейнеров. На вопрос англичанина Беннета, много ли таких, как Джерри, в Ирландии, он с достоинством отвечает: «Наберется». Именно Джерри, а не Александру Муру и не Беннету, хотя они намного образованнее и развитее его, ясна политическая перспектива. Если Александр Мур и задумывается о будущем Ирландии, его, как и многих представителей либерально настроенной интеллигенции, вполне устроил бы гомруль. Но этого мало Джерри. Для него гомруль — «розовая водица». Просто подачка, «чтобы заткнуть рты». Джерри знает только один способ избавиться от поработителей-англичан — стрелять. А этому необходимо учиться. И этому он собирается научиться на войне. «Есть вещи, — говорит он, повторяя слова Патрика Пирса, — ужаснее кровопролития, и рабство одна из них».
Судьба Джерри сложилась так, что ему не суждено было принять участие в новой, теперь уже справедливой, праведной войне за свободу, когда «каждый город, каждая деревня станет передовой… Даже дети будут с ними сражаться…». Джерри гибнет. Но, останься он в живых, он бы наверняка был участником знаменитого Пасхального восстания 1916 года.
Становление личности, духовное мужание, которое, совпав с периодом политического кризиса, происходит особенно интенсивно, — излюбленная тема Джонстон. Очень разные эти два представителя поколения, которое потом историки и социологи назовут «потерянным». Позиция Александра Мура, не готового ни к жизни, ни к войне, — неприятие насилия. Характер Беннета, происходящего, как и Мур, из родовитой семьи, сложнее, противоречивее. Поначалу он самонадеянно заявляет, что жилось ему «невыносимо скучно», что война «лучшее, что случалось в его жизни», и потому он видит один выход — «либо стать героем, либо умереть». Однако окопная жизнь быстро отрезвляет Беннета. И его протест против войны серьезнее, нежели инфантильный пацифизм внутренне глубоко порядочного Александра. Очень быстро Беннет начинает понимать, что война нужна «жирным толстякам дома», и если им вздумается, он и его товарищи просидят в окопах вечность. Те, кто на фронте, для военных заправил — не люди, но всего лишь «дрессированные собачки». Поначалу смотревший на Джерри свысока (а как иначе может смотреть английский юноша, выпускник какой-нибудь закрытой привилегированной школы, джентльмен, на простолюдина?), мирившийся с его обществом лишь потому, что тот был другом Александра и еще потому, что всех троих объединяла страстная любовь к лошадям, он постепенно меняет свое отношение к нему. А изменив отношение к Джерри, он по-иному начинает смотреть и на ирландцев, которые раньше ему представлялись «чертовыми кельтами», не способными видеть мир в перспективе, глупыми романтиками, совершенно не умеющими управлять самими собой. Когда же он понимает, что Джерри и ему подобные хотят больше, чем гомруля для Ирландии, что они готовы сражаться за свои убеждения, не жалея жизни, он вдохновенно предрекает, как рабы восстанут на своих господ, и он, джентльмен, жмет Джерри руку как собрату-революционеру, а сам уже мечтает стать героем не на полях первой мировой войны, но в рядах революционной армии Патрика Пирса.
Меняется и главный герой романа Александр Мур. Но его эволюция носит в основном духовно-этический характер. Хотя он никогда и ни в чем не знал лишений, но в его детстве не было главного — радости и любви. Родители ненавидели друг друга, мать всем своим поведением показывала, что не любит, презирает отца. Не было понимания между сыном и взрослыми. И мать, и отец каждый по-своему боролись за симпатии мальчика. Но добились они лишь того, что мальчик вырос легко ранимым, пугливым, несчастным.
Именно поэтому Александр так живо и так искренне откликнулся на дружбу с Джерри. Эта дружба показала ему, что жизнь не ограничивается стенами их чопорного дома, что жизнь — это купание в ледяной воде, солнечный, обжигающий свет, вечер, спускающийся на ирландские холмы и озера, лебеди, стремительные скачки по полям, песни. Этот мир мечты, фантазии, поэзии, природы и становится тем сказочным и прекрасным Вавилоном из стишка, строчка из которого вынесена в заглавие книги. Этот мир и эта дружба стоили того, чтобы за них бороться и не уступить родителям (первый шаг на пути духовного взросления Александра), особенно матери, которая настаивала, чтобы сын порвал недостойные аристократа отношения с мужланом. Впервые ощутив сопротивление сына, она отправляется с ним в заграничное путешествие. Но ни архитектура, ни красоты южной природы, ни безмятежный досуг не заставили Александра забыть друга. Более того, противник войны, он пошел в армию в значительной степени потому, что туда решил завербоваться Джерри. И в армии, где на дружбу офицера и солдата смотрели косо, он не изменил себе. Ненавидящий насилие, боящийся боли, крови, смерти, он, это «жалкое создание» в глазах майора Гленденнинга, решился на мужественный и благородный поступок, когда узнал, что должен будет командовать расстрелом Джерри, нарушившего военную дисциплину. Понимая, что Джерри ему не спасти, он убивает друга в камере, когда тот, чувствуя себя в полной безопасности в присутствии Александра, поет свою любимую песню. Убивает и тем самым спасает Джерри от позора, а себя от предательства.
Гленденнинг, командование, может быть, и мать, которая теперь не сможет похвастать, что сын ее пал смертью храбрых на войне, считают Александра сумасшедшим. Но ведь именно он, далекий от политики юноша, не захотел носить, говоря словами великого ирландского поэта Йейтса, «кафтан шутовской» и погиб, как герой, утверждая своей смертью достоинство человека. Такая смерть — не смерть Джорджа Уинтерборна, героя Олдингтона. Она не пройдет бесследно для тех, кто остался жив. И может быть, герой другого романа Джонстон, мистер Прендергаст («Капитаны и короли») именно поэтому с таким почтением вспоминает своего брата, которого тоже звали Александр и который тоже погиб во время первой мировой войны? И смерть другого ирландца, Джерри, тоже оставляет след в мире. «Удел одержимых» в том, что они, подобно фантастической птице Феникс, которую так чтут в Ирландии, возрождаются в других поколениях. Джерри оживает в простом пареньке Джо Малхейре («Старая шутка»), который в 20-е годы сознательно выбирает для себя путь революционной борьбы.
Романы «Старая шутка» и «Далеко ли до Вавилона?» разделяют только пять лет. Но разница между ними значительная. Первый роман больше тяготеет к ранним произведениям Джонстон: здесь еще есть некоторая одномерность образов (мать Александра, Гленденнинг), многое в поступках героев объясняется романтическим порывом. «Старая шутка» — произведение зрелого мастера, превосходно владеющего всей палитрой красок, умело сочетающего лирику с иронией, патетику с комизмом. Один западный критик, давая оценку творческому пути Джонстон, справедливо заметил, что эволюцию, которую эта писательница проделала за десять лет, иной романист не проделывает и за всю жизнь.
«Старая шутка» — еще один «роман воспитания» Джонстон. Всего неделю проводит читатель с главной героиней Нэнси Гулливер. Но если на первых страницах он встречается с несмышленышем, самонадеянной девчонкой, эдаким «гадким утенком», то прощается со зрелым человеком.
Восемнадцатилетие Нэнси совпало с трудным для Ирландии временем. Всюду — следы войны. Среди жителей деревушки неподалеку от Дублина, где в имении своей тетки она проводит каникулы перед поступлением в университет, немало убитых. Одни служили в английской армии и стали жертвами первой мировой войны, другие погибли здесь, в Ирландии, от руки английских солдат. Политические разногласия — нередкая причина семейных споров. Дед Нэнси, генерал, участник англо-бурской войны, ревностный защитник Британской империи, а его сын Габриэл, погибший во время первой мировой войны, выступал за гомруль. Тетушка Мэри, вырастившая круглую сироту Нэнси, хоть и жалеет английских солдат, как всяких солдат, ни за что не выдаст им ирландского революционера, за которым они охотятся. Юный Мартин, служивший в семье Нэнси грумом, теперь в тюрьме в Англии — он был схвачен после налета на британские казармы. Служанка Брайди, один из самых ярких образов в романе Джонстон, и не думает скрывать своей ненависти к англичанам и симпатии к республиканцам. В семье рабочего паренька Джо Малхейра еще больший разлад, чем в аристократическом доме Нэнси. Отец умер в тюрьме во время всеобщей забастовки 1913 года, а мать прокляла его — не могла простить, что он потерял место и лишился куска хлеба из-за каких-то глупых идей. Сестры Брэйбезон, приятельницы тети Мэри, тоже неединодушны в оценке политического положения в стране. Джорджи сочувствует командиру английских солдат, явившемуся в дом Нэнси с обыском. А Силия решительно заявляет, что в Ирландии идет настоящая война и поэтому каждый должен сделать выбор, на чьей он стороне. Она-то твердо уверена, что «не ведать Ирландии мира, пока не свободна она».
Первая запись в дневнике Нэнси помечена 5 августа 1920 года. И это, конечно, не случайно, как ничто не случайно в до мелочей продуманных романах Джонстон. С 1919 года в Ирландии шла партизанская война, и ни один английский солдат, чиновник или наместник не мог быть уверен в своей безопасности. Где бы ни находились представители английской власти, их настигала карающая рука повстанцев, членов Ирландской республиканской армии, к ним принадлежит и Энгус Барри, незнакомец, с которым встречается на берегу моря Нэнси. Начиная с июня 1920 года английские войска начали проводить в Ирландии ожесточенный террор и тем самым лишь способствовали усилению национально-освободительного движения.
Комендантский час, случайные выстрелы, окрики солдат на улице, подозрительные взгляды прохожих — все это «родимые пятна» войны. Все это хорошо знакомо Нэнси с детства, все это привычно, как «старая шутка», которую уже не воспринимаешь.
В сознании Нэнси, только что вступившей в свое восемнадцатилетие, настоящая история, та, что рядом, и та, что в книгах, которые она собирается штудировать, поступив в университет, пока еще существуют раздельно. Волнуют же Нэнси совсем другие проблемы, с историей, как ей кажется, никак не связанные. Нэнси твердо намерена стать личностью. Для этого, надо сказать, у нее есть задатки: она очень неплохо образована, начитана, с легкостью цитирует Марло, Шекспира, Свифта, Китса, Йейтса и даже Чехова. В шутливой реплике немного захмелевшей Нэнси в одном из разговоров с Гарри: «Умру, мой бог, умру… голодной смертью» читатель вряд ли узнает остроумно измененную цитату из Томаса Ловелла Беддоуза (1803–1849). Но главное сейчас для нее — разобраться в себе.
Нэнси — круглая сирота. Но если о матери она знает немало: в доме есть ее фотографии, вещи, об отце ей толком ничего не известно. Его имя предпочитают не упоминать. И все же по отдельным замечаниям складывается представление о неугомонном, обуреваемом фантастическими, с точки зрения обычных людей, идеями человеке, которому претил покой, который зачем-то сразу же после свадьбы отправился за границу (туда, кстати сказать, уезжали в те годы многие борцы за свободу Ирландии), о большевике, как его презрительно называет старый генерал.
Поиски отца образуют сюжетный костяк книги. На самом деле перед читателем духовная «одиссея» девушки, ищущей себя. Ей важно скорее понять, как жить, найти ответы на самые важные, самые жгучие вопросы. Поначалу Нэнси собирается «жить надежно» и спокойно, приблизительно так, как тетя Мэри, у которой весь день расписан по часам и «будь хоть трижды день рожденья», если после обеда надо работать в саду, ничто не может отменить заведенный порядок. Поэтому избранником Нэнси становится красивый, но очень недалекий и очень «правильный» биржевой маклер Гарри. Однако постепенно Нэнси начинает осознавать, что порядок не ее удел. Размеренный быт не заменил тете Мэри счастья — ведь у нее, как замечает сама Нэнси, «слез полна душа». Порядок, против которого, внутренне взрослея, восстает Нэнси, воплощает и ненавистная ей красавица Мэйв, в которую влюблен Гарри. Даже музыку, Шопена, казалось бы не терпящего никакого порядка, Мэйв может заставить звучать как-то размеренно и зловеще. И природу, по сути своей не приемлющую насилия, она втаскивает в границы своей аккуратной, стерильной гостиной.
Нэнси же вся — отрицание порядка: она угловата, порывиста, у нее вечно торчит палец из ее старенькой парусиновой туфли. Не случайно Джонстон дала своей Нэнси такую звучную фамилию — Гулливер, связав эту юную мятежницу с «неистовым деканом» Дж. Свифтом, противником всяческого благоразумия.
Нэнси, как Гулливер, непрестанно растет. И Джонстон все время напоминает нам об этом каким-нибудь вскользь оброненным замечанием. Нэнси ощущает свой рост физически: ее пальцам тесно в туфлях, телу — в одежде. Растет она и духовно. И в этом духовном росте сбрасывает ненужную шелуху — учится понимать людей, учится сомневаться, учится делать выбор, учится любить. Нэнси растет, а Гарри, ищущий в жизни лишь тепленькое местечко, считающий мерзавцами всех тех, кто борется за самостоятельность Ирландии, и холодная выскочка Мэйв уменьшаются, превращаются в лилипутов, в жалкую пародию на людей.
Решающим в духовном росте Нэнси становится ее столкновение с историей, которая принимает облик таинственного незнакомца. У Нэнси к нему двойственное отношение. Ей интересно разговаривать с ним, ей нравится ореол романтической таинственности, которым окружена его жизнь. Но, увидев в его руке револьвер, символ ненавистного ей насилия, она всерьез подумывает о том, чтобы сообщить о нем в полицию. Нэнси не хочет верить, что жизнь полна «несправедливости и страдания», что солнце, которое так щедро светило в день ее восемнадцатилетия, часто закрывают тучи, что с врагом надо бороться насмерть. Когда же она принимает правду незнакомца, то готова во всем помогать ему. Передает письмо связному в Дублине, бежит ночью предупредить его о готовящейся облаве.
Нэнси очень хочется верить, что незнакомец — ее отец. И надо заметить, до самого конца книги, даже когда становится известно имя знакомого Нэнси, у читателя сохраняется подозрение, что пришелец — ее отец Роберт, так внезапно исчезнувший из жизни семьи Нэнси. Это ощущение поддерживает старик-генерал, роль которого очень велика в этом повествовании. Этот безумец, которого, как маленького ребенка, опекает тетя Мэри и который постоянно смотрит в бинокль куда-то вдаль, давно живет в собственном мире, где действуют иные, неподвластные реальному времени законы, где внутренний взгляд видит больше, чем взгляд обычный. Когда Нэнси еще ничего не знает о появлении незнакомца в ее хижине на берегу моря, дед вдруг сообщает домашним, что видел на станции Роберта. Никто не воспринимает его слова всерьез. Но ведь он первым заметил на рельсах чужого. И когда английский офицер приходит в дом, разыскивая Энгуса, слова генерала о Роберте уже не кажутся такими нелепыми.
Конечно, Энгус Барри — отец Нэнси, не по крови, но по духу. Прощаясь с ним, Нэнси, совсем не склонная к излиянию чувств, целует его на прощание — как дочь отца.
Незнакомец научил Нэнси главному: жизнь — это постоянный поиск, самое благородное в ней — борьба за свободу родины; человек, как бы тяжко ему ни приходилось, не должен терять надежды, но должен терпеливо выбирать свой путь в жизни, а выбрав, быть верным себе до конца, даже если цена этой верности — смерть.
Смерть, разрушение, уход — постоянные лейтмотивы романа. Умерла мать Нэнси, умер ее отец, умерло немало народу в деревне, скоро умрет дед. Нэнси все время кажется, что и незнакомец вернулся в эти края, потому что смертельно болен и вот-вот умрет. «Умирает» и дом, в котором прожило столько поколений семьи Нэнси. Нет денег на его ремонт, все ценности уже проданы, и дом, как живое существо, должен подчиниться неумолимому ходу времени и перейти в руки нового владельца нувориша-буржуа, отца Мэйв. Недаром еще один дом, который уже постигла участь жилища Нэнси, Джонстон назвала «Вишневым садом».
Живое, постоянное напоминание о смерти, ждущей каждого, о бренности сущего — дед-генерал, без конца выкликающий строчки из какого-то погребального гимна. Но роль деда, как уже говорилось, совсем не так проста в книге. Это безумец-провидец. Он видит то, что не замечают остальные: как Нэнси разговаривает с незнакомым мужчиной, как рыскают вокруг их дома солдаты в поисках Энгуса. И наконец, внешне разрозненные, бессмысленные выкрики деда выстраиваются в единое стихотворение, которое принадлежит поэту Генри Фрэнсису Лайту (1793–1847), автору многих популярных песнопений. Этот гимн становится внутренним эпиграфом всей книги:
Дню нашей жизни краткой близок, близок конец; Ко мне на закате жизни милостив будь, Творец! Все иные опоры шатки, иных утешений нет, Опора убогих и слабых; милостив будь ко мне. Век земной быстротечен, близок полночный час, Радости наши меркнут, свет покидает нас, Все преходяще и тленно, близок, близок конец. Ты един неизменный, милостив будь, Творец! Не убоюсь я ворога под защитой твоей руки, Бедствия мне не тягостны, слезы мои не горьки. Смерть, где твое жало? Могила, где твой венец? И в смерти восторжествую, лишь милостив будь ко мне. В час, когда очи смежатся, дай мне узреть твой крест, Озари мне лучом во мраке путь к сиянью твоих небес, Тени земные сгинут, ночи настанет конец, Ко мне и в жизни, и в смерти милостив будь, Творец! (Перевод Норы Галь)Эти строки, соотнесенные со всем романом, лишаются сугубо религиозного звучания. Они образно воплощают идею верности идеалу, а это и есть, с точки зрения Энгуса Барри, вера («рано или поздно вы поверите, — говорит он Нэнси, — не в одно, так в другое, хотя бы в себя. Верить можно и не в бога»).
И смерть в этих строчках не просто физическое угасание и не старая, приевшаяся всем шутка. Чтобы понять смысл заглавия, надо вспомнить слова деда-генерала, представляющие собой несколько измененную цитату из «Отцов и детей» Тургенева: «Старая шутка смерть, а каждому внове». Смерть всегда всерьез. Даже немало повидавший на своем веку генерал на закате своих дней все вспоминает и вспоминает, как падали скошенные пулями своих же соотечественников английские солдаты, бессмысленно отдававшие жизнь за чье-то чужое дело, а он все кричал и кричал: «Прекратите огонь!»
Это же приказание в отчаянии выкрикнет и Нэнси, когда взвод солдат будет стрелять в безоружного Энгуса. Но смерть этого человека — совсем не шутка, это не безвестная смерть где-то там, на чужбине. Эта смерть вселяет надежду в живущих.
Без всякого художественного нажима Джонстон создает в своем романе два плана — реальный и романтико-мифологический. И у каждого из ее любимых героев: Нэнси, Энгуса Барри, Брайди — две ипостаси. В первой они обычные земные люди, во второй — мифологические герои, пришедшие из ирландских саг. Нэнси — прекрасная великанша, которой все подвластно, или чайка (еще одна чеховская параллель в прозе Джонстон), вольно парящая над миром. Барри — Революционер, Борец за справедливость, Человек на все времена. Любопытно отметить, как помогает переключению из одного плана в другой имя героя. Энгус по-гаэльски означает «единственный выбор»; детское прозвище незнакомца — Эн-гусь — связывает его с «дикими гусями», свободолюбивыми ирландцами, которые не захотели остаться в стране после того, как она была колонизирована в XVII веке англичанами, и предпочли изгнание. Брайди — воплощение здравого смысла, добра, любви и тепла — вырастает в символ Ирландии. В ней есть что-то от героини пьесы Йейтса «Кэтлин, дочь Хулиэна», где старая женщина, олицетворяющая Ирландию, бредет по дорогам и собирает своих сыновей на борьбу за свободу. Стоит заметить, что Джонстон отдает последнее слово в книге именно Брайди — слово о необходимости делать выбор.
Неуловимый, бесстрашный Энгус гибнет, спасая жизнь Нэнси: быстро подплывшая к берегу лодка принимает тело, чтобы как можно скорее скрыть следы преступления. Неуемному мятежному Энгусу тесно на земле. Как героя древнего кельтского эпоса его приемлет безбрежное море. Невольно вспоминаются строчки из стихотворения Йейтса «Пасха 1916 года» о героях дублинского восстания:
Они умели мечтать — А вдруг им было дано И смерти не замечать? (Перевод А. Сергеева)Он поистине «в смерти восторжествует»: тем же путем, путем борьбы идет Джо Малхейр, а за ним, без сомнения, последует и Нэнси. Не случайно Силия Брэйбезон говорит: «Хорошо ли, худо ли, но, похоже, Нэнси уже для себя это решила».
«Старая шутка» — роман не только о прошлом Ирландии. Это взгляд на события исторической давности из сегодняшнего дня. Из Ольстера, где льется кровь, к нам донесся чистый голос Дженнифер Джонстон, говорящий о дружбе, любви, добре, о праве человека на свободу и необходимости бороться за нее.
Е. ГениеваДалеко ли до Вавилона? (Роман)
Я — офицер и джентльмен, а потому мне принесли мои записные книжки, ручку, чернила, бумагу. И вот я пишу и жду. Я не отстаиваю никакого дела. Я никого из живых не люблю. А то, что все мое будущее можно исчислить часами, меня как-то не очень трогает. В конце концов будущее — здесь ли, там ли — равно нам неведомо. И чтобы скоротать часы ожидания, мне остается только играть с прошлым. Пожонглировать воспоминаниями, возможно, неточными, дать свое объяснение событиям, чего бы оно ни стоило. А предположениям, надеждам и даже снам места нет. Но странно, по-моему, мне даже нравится, что это так.
Я не написал ни отцу, ни матери. Им успеют сообщить другие, когда все будет кончено. Свершившийся факт. На службе его величества. Зачем продлять боль, которой им не избежать? Его это может убить, но ведь, пожалуй, ему, как и мне, умереть даже лучше. Ну, а жалость к ней мое сердце особенно не терзает.
Ко мне тут относятся с уважением, очевидно, положенным моему сословию, и с опаской, несомненно, вызванной тем, что меня считают сумасшедшим. Как пугаются люди демонов, таящихся в сознании!
Майор Гленденнинг меня не навещал, за что я ему благодарен. Теперь ему уже не сделать из меня мужчины, но вряд ли эта мысль потревожит его сон. — Были минуты, когда он внушал мне почти восхищение.
Наступление теперь уже началось. Сотни ярдов истерзанной земли, холм, увенчанный кольцом деревьев, которое у нас дома принадлежало бы лишь феям, ферма, кучка строений без крыш — тихое безобидное местечко, а теперь оно — центр мира для десятков тысяч людей. Для многих же — и конец мира, для героев и трусов, для господ и рабов. Их, конечно, мочит дождь, въедливый и промозглый февральский дождь.
Время от времени меня навещает падре. Он показал мне золотой крест, который носит под рубашкой, вдавленный в косматые черные волосы у него на груди.
— Веруете ли вы? — спросил он.
Но не этими словами. Манера выражаться у него более сложная, и в ней проскальзывает смущение, а потому его вопрос прозвучал как что-то неприличное.
— Я просто никогда об этом не задумывался.
— Но не настал ли теперь час задуматься?
Мне хотелось, чтобы он ушел. У меня не было и нет настроения для душеспасительных споров: это занятие для тех, у кого много лишнего времени.
— Боюсь, теперь немного поздновато, падре. Вера — утешение живых, а мертвым, мне кажется, она ни к чему.
— Но вы живы.
— Формально.
— Утешение…
— Спасибо, мне оно не нужно. Я… меня всегда удивляло, почему вы… ну, понимаете… вы… — Я протянул руку и потрогал стоячий воротник, знак его сана. — Ну, представители, словно бы получаете большое удовлетворение, внушая нам страх смерти. Радуйся в господе! Предстань перед ним с песнею! Я знаю, я цитирую не совсем точно, но смысл же именно такой. Я охотно спою:
Далеко ль до Вавилона? Сто три мили, говорят, сэр. Я туда успею к ночи? И воротитесь назад, сэр.Мое пение больше смахивает на хрип. Он огорченно воздел руки.
— Ваша неуместная шутливость меня удручает.
— Извините. Не надо. Ведь каждый по-своему встречает смерть.
Он засунул крест назад под рубашку и застегнул пуговицы. После этого он скоро ушел.
Мне стало жаль, что я его удручил.
Мое детство было одиноким. Я не ищу себе извинений, а просто констатирую факт. От других детей, моих сверстников, меня отгораживали традиционные барьеры сословия и образования. Не то чтобы я получил настоящее образование. Просто череда гувернанток обучала меня череде предметов, пока я не достиг магического десятилетнего возраста и не поступил в ведение младшего священника, который ради добавки к своему скудному жалованью тратил несколько часов в день, пытаясь преподать мне математику, английскую литературу, начала французской грамматики и, конечно, латынь. Латынь была его коньком, и он весь сиял от удовольствия, когда наступала минута открыть одну из множества книг, которые мы с ним переводили. Если на меня находил особенно злой стих, я путался в словах, спотыкался и с наслаждением следил, как его удовольствие угасает прямо на глазах. От него тонко благоухало мятным драже. Примерно раз в час два его белых пальца опускались в карман жилета и извлекали оттуда белый сладкий шарик, который он клал в рот почти украдкой, словно совершая какое-то мелкое преступление.
И еще был учитель музыки: раз в неделю он приезжал на поезде из Дублина. О нем я помню только, что учить он не умел. И еще — почему ему отказали. Под конец каждого урока в гостиную приходила мать, садилась в кресло и досадливо вздыхала, потому что я не делал никаких успехов. А он был очень нервным и при ней становился почти сумасшедшим. Руки у него тряслись, и, следя за тем, как я играю, он принимался отчаянно соскабливать темные сальные пятна, украшавшие спереди его пиджак. Гостиная пахла яблоневыми дровами и торфом, а осенью в ней веяло горьковатым запахом конца года, запахом хризантем, которые стояли в вазах, сдвинутых в эркере: желтые, золотые, бронзовые, белые, словно пламя в еще одном камине. Черный лак концертного «стейнвея» отражал цветы. Учитель музыки был здесь до нелепости неуместен.
Он встал и пошел к матери, кланяясь ей на ходу. Множество золотистых птиц на голубом ковре летало широкими кругами под его жалкими башмаками. Наверное, была осень, потому что в моей памяти с его словами мешается запах хризантем.
— Да. Да-да. У него все идет отлично… У мальчика. Вы замечаете… Да-да… успехи… мне кажется. Я так надеюсь, что вы вполне…
Он говорил, а его блеклые глаза подергивались. Пальцы скребли и скребли. Скоро, подумал я про себя, там будет дырка.
— …довольны.
Договаривая, он низко нагнулся над ней. Она чуть-чуть отклонила голову.
— А, да. Успехи. В чем-то — пожалуй.
Движением руки она отстранила его, и он выпрямился. Я замер у рояля. Умение слушать я довел до высокого искусства. При желании я становился неподвижным и невидимым, как стул или ваза с цветами.
— Столько вашего таланта, миссис Мур, перешло… э… к мальчику…
Внезапно им овладела мысль о пятнах, его длинные мертвенно-серые пальцы распластались, заслоняя пиджак, точно две дохлые медузы на пляже. Я тихонько заиграл арпеджио, и мать подняла руку, указывая на дверь.
— Ваш поезд, мистер Кейв. Я хочу сказать, не опоздайте.
— Нет-нет. Ни в коем случае. Ну, так… — он умолк и обвел взглядом комнату, словно стараясь запомнить ее на черный день. — Так я пойду. Время и… хе-хе… поезда никого не ждут.
Он еще раз поклонился матери. Она улыбнулась, но ее глаза смотрели мимо. Он повернулся ко мне.
— Ну, а ты, малышок… значит, до вторника. И упражняйся, упражняйся.
Он пошел к двери. Внезапно мной овладело чувство… Не помню какое, но я соскользнул с табурета и пошел следом за ним из гостиной по темному коридору. В полумраке он протянул руку и легонько сжал мое плечо.
— Такая красавица, дай ей бог! Такая… — у него не хватило слов. — Какой же ты счастливый, малышок, что у тебя такая красавица мамочка.
— У вас есть пальто?
Я обеими руками потянул за бронзовую ручку, и дверь открылась, впустив восточный ветер. На длинном столе красного дерева затрепетали конверты, а языки пламени в камине изогнулись, но тут же обрели равновесие.
— Пальто? Нет, сыночек. — Он выдавил из себя смешок. — Мне никогда не бывает холодно.
Неправда, подумал я. Он принадлежал, сказал бы я, к тем людям, кому никогда в жизни не бывает тепло. Или хорошо. Или весело — хотя бы на миг. Он мужественно шагнул в вечернюю тьму, поклонился еще раз и начал спускаться с крыльца.
Я пошел назад. В гостиной теперь был отец, и я, остановившись за дверью, слушал их голоса.
— …но отказать ему необходимо. Мне невыносимо даже подумать, что он еще раз явится сюда в дом.
— Дорогая Алисия, это нелепо.
— Нет. Нисколько.
— Но что я скажу?
— Найдите предлог. Придумайте что-нибудь. Что угодно. От него так отвратительно пахнет!
— Не могу же я сослаться на это! Ну, посудите сами.
Я услышал шелест ее юбок — она шла через комнату.
— Он, наверное, болен. Какой-то мерзкой болезнью. У меня такое чувство, словно он размазал ее по всему дому.
Она открыла окно, и рама застонала от ворвавшегося ветра.
— Как будто его съела жизнь, и не осталось ничего, кроме этого ужасного запаха… Еще, еще воздуха!
Вздохнув, открылось второе окно.
— Он хороший учитель. Вы сами говорили.
— Фредерик, я больше не хочу терпеть его в доме. Кажется, я ясно сказала. А маленького я буду учить сама.
Наступило долгое, очень долгое молчание. Лицо моего отца никогда ничего не выражало. И голос тоже. Но порой он стискивал руки, перекручивая пальцы жестом исступленной ярости. Мать ничего, казалось, не замечала. А если замечала, ей было все равно.
— Чтобы он таскал свою болезнь и нищету в мою гостиную? Вы напишете, так?
Это был приказ, а не вопрос. Я расслышал короткий вздох отца.
— Если вы настаиваете…
— Да, настаиваю.
Учитель музыки больше не приезжал. Очень скоро матери стало скучно учить меня; а может быть, мои неуклюжие пальцы ее раздражали, но как бы то ни было, уроки музыки прекратились совсем.
Вероятно, мне было двенадцать, когда возник вопрос о том, не послать ли меня в школу. То есть я тогда услышал об этом впервые. Днем столовая выглядела неуютно. Она выходила на север, и холодный свет ложился на стены и мебель с беспощадной серостью. В столовой я ел с ними только второй завтрак. Первый завтрак и свой ранний ужин я в одиночестве пережевывал в классной. Там я хотя бы мог читать или дописывать в тетради задание, которое не успел сделать в час, отведенный для приготовления уроков. Одиночество не было мне в тягость. Собственно говоря, как я понимаю теперь, ничего другого я никогда не знал. Даже с ними я был одинок. А одиночество и его, и ее нарушал лишь я. Это вовсе не значит, что они вели затворническую жизнь. Наоборот, они прекрасно и с большим радушием принимали гостей у себя и сами, по-видимому, были приятными гостями, но все остальное время и он и она замыкались каждый в своей пустыне. И ребенок был их единственной точкой соприкосновения.
Завтрак в тот день подходил к концу. На столе стояли сыр и сельдерей — то, что от него осталось. Я смотрел, как за окном ветер пробегает по еще нераскрывшимся желтым нарциссам под каштанами. Кобыла аккуратно щипала весеннюю травку, а за ней, как приклеенный, шел жеребенок.
— Ну, как, хотелось бы тебе учиться в школе, маленький… Александр?
Его вопрос застал меня абсолютно врасплох. Но мать все равно ответила за меня.
— Фредерик! — Ее голос предостерегал.
Он коротко улыбнулся в ее сторону. Вряд ли эта улыбка могла дотянуться до нее через всю длину стола.
— И как же, мой мальчик?
— Я об этом не думал, папа.
— Так подумай. Сейчас самое время. Будешь среди сверстников. Выйдешь из скорлупы. Немного отполируешься. Спорт и игры, — сказал он без особой убежденности. — Передай, пожалуйста, сельдерей. И все прочее.
Я передал ему сельдерей.
— Мистер Бингем — прекрасный учитель. — Ее голос был холоден, как северо-восточный ветер.
— Но известная широта не помешает. Есть науки, которые мистер Бингем…
— У него слабое здоровье, Фредерик; Нельзя подвергать его риску.
— Слабое только в вашем воображении, дорогая. А я не замечаю никаких признаков, что оно так уж плохо. Только сейчас он весьма плотно позавтракал.
— Доктор Десмонд…
— Доктор Десмонд осел.
— Фредерик, pas devant[1]…
— Дорогая моя, как вы прекрасно знаете, доктор Десмонд скажет все, что вам угодно.
— Вы говорите удивительные нелепости.
Я смотрел на нарциссы и молчал. Их слова прокатывались мимо меня туда и назад по всей длине полированного стола. Их разговоры всегда были одинаковы, словно какая-то жуткая игра, но только в отличие от нормальной игры победитель неизменно бывал один и тот же. Они не повышали голоса и благовоспитанно роняли спокойные и полные злобы слова. Зеленые завитки яблочной кожуры падали из-под пальцев матери на ее тарелку.
— Мы давно об этом договорились. И вы помните. Хорошо помните. Очень хорошо. Тогда, когда у маленького была пневмония.
— Но положение изменилось.
— Нисколько. И никогда не изменится.
Она положила в рот кусочек яблока и сжала губы в линию. Отец вздохнул и тщательно сложил свою салфетку по сгибам.
— Мистер Бингем очарователен, — сказала мать.
— Его очарование не имеет к делу никакого отношения.
— Я не намерена оставаться в этом доме наедине с вами. Я это давно сказала. И мне казалось — достаточно ясно. Возможно, вы мне не поверили.
— Наверное, поверил. Я ведь верю вам почти всегда. Но это было очень давно.
— Я повторяю еще раз.
— Да, конечно.
Должно быть, я шевельнулся, слишком громко вздохнул или еще как-то выдал свое присутствие. Его взгляд обратился на меня.
— Можешь идти, Александр.
— Спасибо.
Я соскользнул со стула и вышел из столовой. И все время, пока я преодолевал мили и мили пола, я чувствовал на себе их взгляд.
Вот так я остался без школьного образования, пошло бы оно мне на пользу или нет. Возможно, оно лучше подготовило бы меня к положению, в котором я сейчас нахожусь? Не думаю. Мистер Бингем преподал мне основы, а все остальные знания, хранящиеся в моем мозгу, я приобрел сам. Но готов признать, что чувство локтя во мне не слишком развито.
Джерри всегда был где-то поблизости. Заглянуть во двор конюшни значило увидеть его. Он удивительно хорошо умел увертываться от лошадиных копыт и от кулаков скорых на расправу конюхов. Я запомнил его ноги прежде, чем его лицо. Босые, серые от пыли летом, с подошвами, явно столь же твердыми и непроницаемыми для камней, колючек и сырости, как подметки моих дорогих туфель из черной кожи. Зимой он неуклюже ковылял в мужских башмаках, подвязанных веревочками. Мы никогда не разговаривали, даже кивками почти не обменивались, но я знал, что он приходит туда не только ради лошадей — его тянуло ко мне не меньше, чем к их холеному совершенству.
Озеро лежало чуть ниже дома и к югу от него. Летом от окон нижнего этажа его заслоняла густая листва кустов и деревьев по ту сторону газонов, но зимой ни на секунду нельзя было совсем забыть тускло-серую колышащуюся воду, которая через минуту могла заблестеть ослепительным серебром или разбежаться голубой рябью, крохотными волнами накатываясь и накатываясь на камыши. Дальше тянулось болото — до каменных зубчатых холмов, которые защищали нас от мира за ними. И они, точно ноги Джерри, менялись в лад с временами года, от весеннего золота цветущего дрока до черноты и бурости в ясные зимние дни, оглянцованные влагой пронесшегося дождя. Иногда по утрам, когда я смотрел в свое окно, холмы придвигались так близко, что казалось, просунь руку сквозь стекло — и дотронешься до них; а иногда они были бледными, призрачными и словно принадлежали другому миру. Если бы я мог до них добраться, то, уж конечно, не воротился бы назад, сэр. По озеру девять месяцев в году плавали лебеди. Порой, загремев крыльями, они поднимались в воздух, а потом, обессиленные затратой энергии, долго планировали по ветру, как большие комья смятой бумаги, брошенные высоко в небо. Мать по заведенному ритуалу ежедневно после чая шла к озеру по усыпанной песком дорожке и кормила их. Они брали у нее из рук желтые кусочки воздушного бисквита и намазанные маслом тонкие лепестки хлеба с чайного стола. Иногда лебеди вылезали на берег и ковыляли за ней по дорожке, загребая неуклюжими лапами аккуратно разровненный песок. Она оглядывалась и негромко хлопала в ладоши, чтобы прогнать их — не пугая, но предостерегая.
— Земля — не ваша стихия, мои милые. Идите назад. Кыш, кыш!
Один раз я слышал, как она окликнула их голосом, настолько не схожим с ее обычным голосом, что на мгновение меня согрела любовь к ней.
У озера кончалась не только дорожка, по которой ходила мать. Зеленые тропки в прохладном сумраке под густыми ветвями вели к деревне и дальше к болоту и холмам. Там, чтобы потом не попасться, надо было снимать башмаки, потому что только в самое знойное лето тропки более или менее просыхали и не оставляли на них серых следов липкой грязи. Я засовывал носки в башмаки и аккуратно ставил их под куст. Потом нырял под замшелые ветки, оглядывался, не видит ли меня кто-нибудь, и с восторгом навеки исчезал в сырой жужжащей мухами мгле. На прогалине за ивой тропка терялась в мягкой траве и обрывалась у воды. Тут я мог купаться, не опасаясь, что меня, увидят. Из-за моего будто бы слабого здоровья купаться мне не разрешалось — разве что в разгаре лета, когда выпадали особенно жаркие дни и песок на дорожке, по которой ходила мать, обжигал мне ноги сквозь подметки летних туфель.
В первый раз мы заговорили в начале мая. Нарциссы поникли, увядая. Дни стояли теплые, стремительно разворачивалась листва, и свечи каштанов были в апогее своей красоты. Я вышел на траву из сумрака. За ивой вдруг что-то зашуршало. Раздался всплеск. Сердце у меня заколотилось. Все мое детство меня пугали цыганами. Я тихо пошел вперед по траве, уже такой высокой, что она ласково сгибалась у меня под ногами. На корнях ивы лежала одежда. И больше никаких признаков жизни, нигде ни звука. Я сгреб одежду, спрятал ее под кустом и подошел к воде посмотреть, кто вторгся в частные владения.
— Давай влезай, чего ты ждешь?
Крик раздался далеко в озере. Пловец повернул ко мне, и я узнал сияющее, ухмыляющееся лицо. Это был Джерри.
Заговорил я, только когда он встал по пояс в воде прямо подо мной.
— Ты разве не знаешь, что это частное владение?
Он сплюнул в воду. Не злобно, не вызывающе, а просто презрительно. Плевок медленно поплыл в сторону.
— Ты не имеешь права тут быть!
— Ну и что?
— Я могу отдать тебя под суд.
— Так чего не отдаешь?
Я почувствовал себя глупо. Он долго смотрел на меня ясными ярко-синими глазами в розовом ободке. То ли он не выспался, то ли плакал. Но я подумал, что он не из тех, кто плачет.
— Места тут много, хватит на двоих, — сказал он наконец. — Давай лезь.
Я взвешивал, что делать дальше. Он повернулся, нырнул, всплыл ярдах в двадцати от берега и помахал мне. С его рук посыпались искры брызг. Я разделся и скользнул по траве в воду.
Купаться с кем-то было несомненно веселее, чем одному. Но вода еще не прогрелась, и мы скоро вылезли. Выбравшись на траву, мы остановились и посмотрели друг на друга. Никогда прежде я никого голым не видел. Он был маленький и щуплый, гораздо ниже меня, с костями-палочками, которые выпирали из-под белой кожи и, казалось, могли вот-вот ее прорвать. Ноги у него были чуть кривые. Волосы на его теле еще только пробивались — без всякого порядка, как и у меня.
Легкий ветер всколыхнул листья и скользнул по моей голой спине. Пока на дворе май, одежды не снимай. В моих ушах зазвучал предостерегающий голос. Меня пробрала дрожь, и я засмеялся.
— А я спрятал твою одежду.
— Где?
— Не скажу.
— А вот скажешь. Я заставлю.
— Где тебе! Я выше, чем ты. Погляди. На целую милю.
Я вприпрыжку прошелся перед ним.
— Подумаешь!
— Эх, ты, коротышка!
— Коротышка не коротышка…
Он кинулся мне в ноги, и мы покатились по земле. Он был куда сильнее меня и куда увертливее.
— Коротышка, так, значит? Так?
Он вжал мое лицо в траву. Я помотал головой, и он слегка ослабил хватку.
— Ну-ка говори: ты великан и герой.
— Ты проклятущий великан и герой.
— Самый большой величайший великан и герой в мире.
— Самый большой поганый величайший проклятущий великан и паршивый герой в мире.
Он захохотал.
— А у тебя не рот, а говорильня. Набить его травой? Как ослу длинноухому? Маленькому такому ослику?
Одной рукой он ухватил пучок травы.
— Раб.
— Это еще что за кошки-мышки?
— Мир. Сдаюсь. Ты победил. Я твой смиренный раб.
— Где моя одежка, раб?
— Вон под тем рододендроном.
Он скатился с моей спины и растянулся на траве.
— Принеси ее, раб, из-под этого самого… как его…
Я приподнялся, но он ухватил меня за щиколотку и снова повалил.
— А, брось!
Мы лежали и смотрели на солнце, что мне всегда запрещалось. Можно ослепнуть, сойти с ума, получить солнечный удар или какую-то таинственную мозговую опухоль.
— Знаешь что? — сказал он. — Вот если лежать голышом на солнце каждый день весь год, можно стать черным, как негр? Ты про негров слыхал?
— Конечно. Я грамотный. Но, по-моему, нельзя.
— А почему, собственно?
— Да они же так черными и родятся. И жарься не жарься — ничего не получится. Как тебя зовут?
— Джеремия.
— Почему?
— Как так почему? Имя у меня такое, и все.
— Господи помилуй! Это ведь не слишком обычное крестьянское имя.
Он повернулся и ущипнул меня за ухо.
— Раб!
— Александр!
— Ты что? Будто я не знаю. И ничем не лучше моего. Я буду звать тебя Алеком.
— Меня так никто не называет.
— Вот и хорошо. А ты зови меня Джерри. Так меня все называют. Идет?
— Идет.
— Я научу тебя драться. А ты научишь меня ездить верхом. Ну, как — идет?
— А если я не хочу учиться драться?
— Не хочешь?
— Нет, почему же…
— Значит, идет?
— Хорошо.
Он протянул руку в мою сторону, и я потряс ее. Мы лежали и смотрели на запретное солнце, пока оно не скрылось за деревьями и нас не обдал холодный ветер.
Теперь у меня был друг. Мой собственный тайный друг. Я не ходил к нему в гости, а он — ко мне. Мы встречались либо у озера, либо на холме за домом, куда я отправлялся на моем пони к тому часу, когда у него в школе кончались занятия. Там, на вершине, за надежным заслоном сверкающего гранитного гребня, мы соорудили себе манеж. Убрав камни и заровняв ямы, проложили беговую дорожку между кустами дрока и смастерили полдесятка простеньких барьеров. Нам все там казалось великолепным. После урока верховой езды я пускал Фараона щипать чахлую траву, и мы, устроившись под каменной стенкой, принимались делать уроки, заданные Джерри на дом.
— А я ничем, кроме занудной латыни, словно бы и не занимаюсь.
— Ora pro nobis[2], - пропел Джерри.
— Куда там! Занудные галльские войны зануды Цезаря. А от твоей католической латыни бедный мистер Бингем хлопнулся бы в обморок.
Джерри вскочил, веером рассыпав по земле учебники и карандаши. Он протянул руки перед собой. Полчища хвойных деревьев внизу в зеленой сырой долине слушали, как он пел.
— Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis[3].
Фараон положил голову на стенку и фыркнул, обдав мне лицо жарким дыханием.
— Хватит! Хватит! Бедный мистер Бингем, ты его убиваешь! Он в аго-о-онии.
— Kyrie eleison[4]…
— Это не латынь, жалкий ты невежда.
— А вот латынь!
— Да нет же, жалкий невежественный коротышка. Это греческий, и вставлено, чтобы путать тупых деревенщин вроде тебя. То есть, я думаю, что греческий. А может, и вавилонский.
— От невежды слышу. Дату битвы при Клонтарфе знаешь? Где тебе!
Я захохотал.
— А вот знаю. Мистер Бингем напичкан ирландской историей. Трагикомическая гаэльская история достойна изучения, мой мальчик, а потому не смежайте вежд. — Я решил, что неплохо передразнил его застегнутый на все пуговицы голос.
— Он что, правда так говорит?
— Еще хуже.
— Здорово, кошки-мышки. Удушен собственным воротничком!
— Ага!
У Джерри всегда была с собой губная гармоника, на которой он играл, как виртуоз. Он садился на корточки, закрывал глаза и прижимал ко рту гармонику, зажатую в ладонях. Пальцы его босых ног шевелились в своей особой пляске ликования. Он играл народные баллады — и чувствительные, и революционные, а также древние мелодии без слов, почти восточной сложности. Иногда я пытался напевать слова, которые он швырял мне уголком рта. Я набрался исторических сведений, которые, наверно, напугали бы мистера Бингема. Но чаще я просто лежал и блаженно слушал. Когда мы дрались, верх всегда оставался за ним, хотя со временем я научился драться заметно лучше, чем прежде, и отработал кое-какие приемы: раз-два, и готово! На лошади первенство принадлежало мне — то есть в смысле стиля. Моя посадка была безупречной, его — никакой, но он не придавал значения таким тонкостям. Впрочем, стиль — стилем, а моего Фараона он умел разгорячить. Задним числом все это выглядит сплошной идиллией, но я не сомневаюсь, что у нас бывали не только чудесные, но и безобразные минуты. Истинная дружба приемлет и безобразие рядом с красотой. Мне вспоминаются мгновения, вырывавшие меня из вялого одиночества моей привычной жизни, распахивавшие передо мной радость и страх бытия.
— В июне я кончаю со школой.
Мы лежали на вершине холма и следили за человеком, который шел под нами за плугом по узкому, длинному полю. Голова лошади клонилась вперед, словно в полной расслабленности, но ее большие копыта под белыми космами шерсти ни на миг не сбивались с четкого ритма. Пахарь курил трубку, и позади него завивалась струйка дыма. Чернота безупречно прямых борозд разливалась все шире.
— Почему?
— То есть как почему, дурачина? Потому что надо.
Я оторвал взгляд от пахаря с его лошадью и посмотрел на Джерри.
— Но ты же мой ровесник. Значит, еще ребенок. Мы же еще дети.
Он стукнул меня по затылку.
— Ну, мне-то ребенком оставаться недолго. И уж тогда держи со мной ухо востро и языка не распускай.
— А что ты будешь делать?
Он кивнул на пахаря.
— Вот это, наверное. Наймусь к какому-нибудь хозяину. Дома делать нечего: знай сажай картошку, выкапывай ее и ешь. Да уж это я столько лет делаю. А она корову доит. — Он задумался. — Может, удеру с цыганами.
Последнюю фразу он произнес словно вскользь, а потому я ничего не сказал про эту, на мой взгляд, упоительно романтическую идею.
— Она хочет, чтобы я завербовался в армию. — Он сплюнул, как всегда, совсем рядом со мной, и я нервно дернул ногой, хотя и не отодвинул ее. — Как папаша. И тогда она будет получать два конвертика с денежками, кровь из носа.
— Ты бы играл на своей гармонике в полковом оркестре.
— Большое спасибо. Я уж лучше останусь дома. По-моему, я в солдаты вообще не гожусь. Пожалуй, слишком уж люблю себя.
— Послушай, Джерри!
— Ну, что?
Он протаскивал взад и вперед травинку сквозь щелку между передними зубами.
— А почему бы тебе не устроиться тут? На конюшне? Уж это тебе подошло бы, верно?
Он покачал головой.
— Об этом я уже думал.
— Так почему нет? По-моему, блестящая мысль.
— Мы бы перестали быть друзьями — вот тебе одна причина.
Снизу донеслось покрикивание пахаря. Лошадь ускорила шаг, ее шея напряженно вытянулась.
— Да почему?
— Я же стану твоим работником. И все переменится.
— Не моим, дурень ты разнесчастный.
— Твоего отца, твоим. Какая разница? Они не позволили бы нам быть друзьями.
— Им-то какое дело?
Но я знал — какое. Он был прав. Губы матери сомкнутся в недовольную линию, голос вдруг грозно повысится, как случалось, когда она разговаривала с отцом.
— Какое-никакое, а твоих это не устроит. Да и моих с ними вместе, если на то пошло. Они друг друга стоят.
Я перевернулся на спину и уставился в бледное весеннее небо. Из-за холма выползала гряда туч, серых, мрачных, с серебряной обводкой. По кустам дрока с запада пробежал ветер. Еще до вечера зарядит дождь. Пахарь внизу, должно быть, тоже понял, что предвещает этот ветер: его покрикивание стало громче — он уговаривал и понукал.
— Когда я вырасту, устрою конный завод.
Он ничего не сказал.
— Я решил, что лошади — самое для меня дело. Наверное, надо будет поехать куда-нибудь поучиться, но это — то, чего я хочу.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка! — донеслось от подножия холма.
— Я много об этом думал и понял, что ничего другого не хочу. Отец, я думаю, возражать не станет. Мы могли бы стать компаньонами. Ты и я. Нет, правда.
Он засмеялся. Я повернул голову и посмотрел на него. Его лицо никогда не загорало — зимой, весной, летом оно оставалось бледным, в мелких крапинках веснушек под глазами и на переносице.
— Здорово ты умеешь верить, что все будет легко и просто.
— А что? Почему бы и нет?
Он вздохнул.
— Сам знаешь.
— У нас с тобой все было бы замечательно. Тебе этот план нравится?
— Нравится-то правится…
— Значит, решено. А хорошо, когда, будущее уже решено.
Он ухмыльнулся. Да, он бесспорно был мудрее меня.
Когда пришло время, он поступил работником к одному фермеру, арендатору моего отца, и видеться нам удавалось уже не так часто. Моя жизнь словно бы вовсе не менялась. Я рос. Временами так быстро, что ночью в постели мне чудилось, будто я ощущаю, как мое туловище удлиняется под одеялом. Если говорить о росте, то я далеко обогнал Джерри. Ногти у него почернели от земли, и он начал курить. Прилипшие к языку табачные крошки он снимал большим и указательным пальцами — эту манеру я замечал у наших конюхов. Он сразу сделался старше. Во всяком случае, в моих глазах. Как он и сказал тогда, ребенком он быть перестал. Зарабатывал он сказочную сумму — семь шиллингов шесть пенсов в неделю. Хотя мать забирала у него их все, кроме одного шиллинга, никакой Ротшильд не получал столько удовольствия от своих денег. Мы часами сгибались над газетной страницей, посвященной скачкам, с огромным наслаждением выигрывая и теряя несуществующие богатства. Мы считали себя великими знатоками не только лошадей — «коняшек», как мы их называли, но и жокеев. Никто лучше нас не разбирался, как скажется на каком-нибудь далеком ипподроме внезапный ливень или долгая засуха, когда лошади небрежных жокеев ломают ноги, точно спички. Запасаясь бесценными сведениями на более денежное будущее, свои реальные шиллинги Джерри тратил на сигареты. Иногда я пробовал затянуться и кашлял, а он смеялся с видом бесконечного превосходства и умудренности.
Внезапно он обзавелся лошадью — нелепой пегой кобылкой с белой гривой и белым хвостом.
— У цыган увел, а? Ну, смотри, они с тобой посчитаются.
— Мистер Умник-Разумник, вы много чего не знаете.
— Если ты не украл эту дохлятину, откуда же она у тебя?
— Пожалуйста, без дохлятины! О даме следует говорить с уважением.
— Свел у цыган, и больше ничего. Тоже мне дама!
Он широкими круговыми движениями водил по ее крупу щеткой, которую я позаимствовал из чулана при конюшне. Кобылка щипала траву на склоне с полным равнодушием к перемене в своей жизни.
— Разве не так?
— Не спрашивай, и тебе не соврут. Скажу одно: в тюрьму меня за нее не посадят.
— А ноги у нее коротковаты.
Оскорбления похлеще мне придумать не удалось.
— Она побьет Фараона с закрытыми глазами.
— Врешь ты, коротышка, и больше ничего.
— Побьемся об заклад?
Мы подобрали ей кличку из древней истории — Королева Мэв. Кличка эта нам обоим очень понравилась. Он вытащил из кармана пузырек и протянул мне.
— Ну-ка, выпьем за здоровье малютки.
— Это что?
Я всегда был опаслив.
— А ты как думаешь? Что люди пьют на крестинах?
— Шампанское, по-моему.
— Что значит барич! Ну, да это тоже не святая водица. Пусть будет шампанское, если тебе так больше нравится.
Я вытащил пробку и подозрительно понюхал.
— Чего ты мнешься? Это настоящее питво. Для мужчин. От него у тебя волосы на груди вырастут.
Я прижал горлышко ко рту и осторожно отхлебнул. Едкая жидкость обожгла горло, из глаз хлынули слезы. Он забрал пузырек и опрокинул его в рот. Сквозь слезы я все-таки разглядел, что ему пришлось не легче. И я почувствовал себя не так глупо. Он опять протянул мне пузырек.
— Выпей еще глоточек. Не оставляет никакого запаха. То есть мне так говорили.
Он потер пальцем нижнюю губу, словно она ныла.
Я мужественно отхлебнул еще раз, но теперь сглотнул не сразу, а покатал жидкость во рту.
— А что это?
— Самогонка.
Я кивнул, очень довольный.
— Слыхал про нее?
— Конечно.
— И пробовал?
Я прикинул, удастся ли соврать, и покачал головой.
— Я тоже нет, — сказал он. — Замечательное питво.
— Для мужчин.
— Ага. Замечательное.
— А где ты ее раздобыл?
Он подмигнул.
— Секрет.
Он забрал у меня пузырек, налил несколько капель на кончики пальцев и направился к Королеве Мэв.
— Пусть это и не святая водица…
Кобылка подняла голову, и он нарисовал у нее между глазами крест.
— In nomine patris et filii et spiritus sanctu[5].
— Аминь.
— Ам-и-и-инь.
— Мистер Бингем этого не одобрил бы.
— Да и отец Маклофлин тоже. Выпьем за их здоровье.
Мы допили то, что оставалось в пузырьке, и некоторое время нам было очень тепло и мы все время хохотали.
Теперь, когда я мысленно вернулся в тот день, мне вспоминаются летящие облака в бледном небе вверху, а внизу — такие же летящие облака в воде, и мы словно парили между ними, свободные от всякой связи с землей. Это было мое первое и самое блаженное знакомство с алкоголем. Когда настало время возвращаться, мы спустились с холма и долго плавали среди облаков в озере, глотая их и разбрызгивая друг по другу. По озеру бежала солнечная дорожка, и, глядя на нее, мы пришли к выводу, что ходить по водам — детская забава.
Воспоминания поднимаются на поверхность памяти, словно водоросли — на поверхность моря, стоит только взбаламутить глубины, где в забвении покоятся каждое слово, каждый жест, каждый вздох.
— И что же ты будешь делать со всем этим?
Деревья стояли голые, и нам были видны тянущиеся к небу печные трубы дома. Над ними доблестно реяли серые флаги дыма. Озеро было в черном настроении. Оно тяжело колыхалось, и его черноту иногда нарушали, словно по ошибке, крохотные перышки белизны. Мы сооружали новые, более трудные препятствия — пузатенькие стенки из камней и барьеры из хвороста. Было холодно. Я таскал, наклонялся — и тело у меня разогревалось, но руки и лицо совсем застыли.
— С чем всем?
— Да с этим. Со всем. Везде вокруг, черт подери. Все же твоим будет.
— А, ты про это.
— Угу.
— Я, собственно, не думал. То есть помимо лошадей. Насчет них ты по-прежнему согласен?
— За кого ты меня принимаешь? Я что — дамочка, у которой семь пятниц на неделе?
— Все-таки…
— Если ты не передумал, то я и подавно. Вот будет денек, кошки-мышки!
— Начнем мы с малого. Я все прикинул. Ну, а дальше от тебя зависит выиграть парочку заездов где-нибудь поблизости. Ну, скажем, в Фейрихаузе и еще где-то, чтобы на нас обратили внимание. Пусть люди решат, что у нас можно найти что-нибудь интересное. Вот тогда мы начнем расширять дело.
— Слишком уж просто у тебя все выходит.
— И выйдет просто.
— А если война?
— Война? Какая война? Тебе иногда черт те что в голову взбредает.
— Идут такие разговоры. Немцы поставят на место всех остальных в Европе, англичане поставят на место немцев, а мы… — Он умолк и сунул пальцы в нагрудный карман за окурком.
— Мы?..
— А мы поставим на место англичан.
— Послушай! Ну, что ты городишь?
— Люди говорят.
Он пригнул голову от ветра, закуривая.
— Во всяком случае, мистер Бингем говорит, что войн никогда больше не будет.
Джерри сплюнул.
— Война… — сказал я. Было просто невозможно, чтобы война достала нас здесь, в магическом кольце холмов.
— Мистеру Бингему не повредило бы кое-чему научиться.
— Он не так уж плох. Правда, немножко дубина.
— И часто тебя охаживает?
Он протянул мне окурок, кончик которого уже рдел, как уголь.
— Раньше он иногда драл меня за уши. Но это было давно. Может быть, я стал лучше.
— Или сильнее.
Мы засмеялись и продолжали по очереди затягиваться, пока окурок еще можно было держать в пальцах. А тогда Джерри тщательно растер его ногой.
— Ну, мне пора. Надо загнать коров и подоить их. Бывай!
Все открылось. Не знаю как, но в то время у меня было ощущение, что тут свою роль сыграл былой уходратель мистер Бингем. А может быть, мы просто со временем забыли про осторожность: ездили верхом там, где нас могли увидеть из окон дома, или слишком уж громко хохотали над нашими довольно-таки тупыми шутками, или еще что-нибудь, что дошло до ушей матери.
— Это ты Александр?
— Да, мама.
— На минутку, милый.
Я шел, и мои каблуки резко стучали по плитам холла. Золото заливало гостиную. Она сидела у камина за чайным столиком. Одно высокое окно было открыто, и в комнату лился запах свежескошенной травы. Когда я вошел, она поднялась со стула.
— Я иду кормить лебедей. Проводи меня, если хочешь.
Она взяла стоявшую на подносе тарелку с ломтиками пеклеванного хлеба. Белая кружевная скатерть ниспадала складками почти до пола. В камине пело полено. Я пошел за ней к двери. Ее волосы и косые лучи заходящего солнца сплетались воедино и равно слепили. Когда мы вышли на террасу, она положила теплую руку на сгиб моего локтя.
— Вечера невыразимо красивы. Я всегда считала, что Ирландию следует переименовать в Остров Вечеров. Согласен? Идеальное время для смерти. Я умру вечером. Вот погоди, и увидишь.
Я засмеялся — не очень уверенно. Мы молча спустились по ступенькам. Разговаривать с ней было трудно. Всегда. Она либо была рассеянна, либо требовала больше, чем вы могли ей дать.
— Совсем сухие! — сказала она сердито, остановилась, сняла руку с моего локтя и сорвала головку увядшей розы. Несколько секунд она держала ее в пальцах и с отвращением разглядывала, а затем опустила в мой карман.
— Выбросишь ее. Потом. Сколько раз можно повторять одно и то же этому тупому мальчишке! Посмотри — вот и вот.
Я оттопырил карман для еще двух трупов.
— Они же не только безобразны, но мешают распускаться другим. У всего есть своя причина. Этот мальчишка просто не способен ничему научиться. Лентяй, я полагаю.
Она опять положила руку мне на локоть, и мы пошли дальше.
— Небрежность. Никакой любви к делу. И все-таки продолжаешь надеяться, что рано или поздно найдешь идеального садовника. Потенциально идеального.
— Дорожки он разравнивает очень красиво.
— Разравнивать дорожки способен любой идиот. Даже машина — если кто-нибудь изобретет машину для разравнивания дорожек. Сколько времени ты проводишь с этим..?
Она умолкла, и наступила долгая тягостная пауза. Говорила она, ища взглядом увядшие розы. Ее пальцы у меня на локте чуть-чуть дрожали. Мое сердце отчаянно заколотилось прежде, чем она договорила.
— …субъектом. Наверное, мне следовало бы сказать — с этим мальчишкой. Из деревни. Не делай вида, будто ты не понимаешь. Так сколько времени?
Я жгуче краснел и молчал.
Она сняла руку с моего локтя и щелкнула пальцами, словно я был собакой.
— Александр!
— Не так уж много, — пробормотал я.
Она не взглянула на меня и ничего не сказала. Держа тарелку с хлебом прямо перед собой, точно какой-то странный щит, она ушла вперед. Я молча шел за ней. Слева и справа от нас шелестели зеленые листья, грачи уже подняли свой вечерний гвалт. Если бы мне было суждено родиться еще раз и в другом облике, я пожелал бы стать грачом. Они на своих деревьях ведут такую веселую сплоченную жизнь, хором кричат и кувыркаются в небе. А умирают словно бы очень редко.
Лебеди уже ждали. Один копался клювом в пуху под крылом. Они неуклюже выбрались из воды и вытянули нам навстречу длинные шеи. Холмы поднимались совсем рядом, удивительно четкие и светлые. В воздухе пахло дождем. По камышам пробегал ветерок, и они кланялись ей. Тысяча тысяч зеленых воинов с зелеными пиками, и все кланяются.
— «Держите пики свои в порядке, Так приказала Шан Ван Вохт»[6].Она с недоумением оглянулась на меня.
— Перестань. И вообще ты не способен петь.
Ее пальцы сердито раскрошили серый ломтик. Она протягивала кусочек за кусочком. Шеи опускались и поднимались. Безобразные, перепончатые лапы давили траву. Последние кусочки она побросала в воду, и лебеди кинулись за ними, подняв тучу брызг. Они вновь обрели красоту. Вынув из кармана крохотный платочек, она обтерла пальцы.
— Как его зовут?
— Джеремия.
Она усмехнулась.
— Об-б-бычно его называют Джерри.
— Ну, так с Джерри все. С Джеремией. Этому конец. Да.
Она снова положила руку на мой локоть, и мы пошли назад по дорожке. Она шла медленно, слегка опираясь на мою руку, чтобы я не убыстрял шага.
— Ты уже больше не маленький. Молодой человек! — Она взглянула мне в лицо и улыбнулась. — Но, конечно, ты и сам знаешь. Я могла бы этого не говорить.
Ее платье было бледно-бледно-серым и при каждом движении прокатывалось волнами по всей длине ноги. Я вдруг попробовал представить себе, как выглядят ее ноги.
— Мы подумали, что тебе пришла пора расширить кругозор. Мистер Бингем, пожалуй, уже дал тебе все, что мог. Мне кажется, настало время, когда… Должна признаться, я всегда мечтала попутешествовать.
Я чувствовал, что ее глаза внимательно следят за мной. Я смотрел на свои ступни — как они механически движутся взад-вперед, взад-вперед, загребая песок.
— Вот тогда-то и начинается подлинное образование. Классная комната отслужила свое. Ты теперь уже настолько взрослый, что будешь надежным спутником, сумеешь заботиться обо мне. Я думаю, мы начнем с Греции.
— Мы? Вы и я?
— Ну да, милый. И не смотри так испуганно. Ты и я. Что тут удивительного?
— Греция…
— Говорят, она необыкновенно красива. Колыбель… Мистер Бингем объяснит…
— Да, конечно.
— Ну, так..?
— Что?
— Нет, ты не хочешь понимать! Почти как твой отец. Неужели тебе этот план не кажется чудесным?
Ее пальцы впились в мой локоть, как мелкие злобные зубки.
— Все уже устроено.
— А если бы я сказал, что не хочу ехать?
— Но ведь ты этого не скажешь?
Пальцы на моем локте расслабились.
— Пожалуй, нет.
Она ласково провела пальцем по моей щеке.
— Значит, решено. Я рада. И ты больше не будешь встречаться с этим деревенским мальчишкой. Правда?
Я промолчал.
— Не будешь. Об этом просто не может быть и речи. Это не… ну, comme il faut[7]. Я запрещаю. Категорически.
Дальше мы шли молча… У ступенек террасы она обернулась ко мне и протянула тарелку.
— Будь добр, отнеси в буфетную.
Я взял тарелку и убежал.
Вечером после обеда меня позвали в гостиную. Отец всегда сидел в одном и том же кресле, обитом зеленым бархатом, с резной изогнутой спинкой. В этом же кресле, конечно, сидел прежде его отец, а еще раньше — отец его отца. Поколения мужских задниц уютно продавили и согрели сиденье. Я представил себе, как придет моя очередь. Он прочищал трубку. Когда он не читал и не занимался делами имения, он прочищал трубку. А потому никогда не отдавал всего внимания разговору, который велся возле него. Мать сидела за роялем, как будто собираясь играть. Она слегка помассировала одну руку, потом другую.
— А! — сказал отец, когда я вошел, но не поднял головы от трубки.
— Пожалуйста, садись, — сказала мать, словно гостю. Я прошел через комнату и сел. Окна еще были открыты и занавески отдернуты. Небо хранило отблески заката. Даже в комнате мне был слышен пронзительный писк летучих мышей, которые круто устремлялись почти к самой земле, пугаясь притягательного света, падавшего из окоп.
— Выпьешь рюмку портвейна?
Он яростно выскребывал что-то из чашечки трубки маленькой серебряной палочкой.
Я покраснел и покачал головой.
— Тоскуешь от одиночества, э?
— Нет, папа. Во всяком случае, мне так кажется.
— Отлично, отлично. Отлично.
Мать начала наигрывать. Не помню что, но, наверное, Шопена. Она особенно любила Шопена.
— Мы думаем, настало время, чтобы ты немножко расправил крылышки.
Он подул в мундштук и нахмурился.
— Повидал бы белый свет. Ну, ты понимаешь.
— Мама мне говорила.
— А, да.
Он потянулся вперед и резко постучал трубкой о мраморную каминную доску.
— Ты доволен?
— Ну-у… собственно…
— Разумеется, он доволен, Фредерик. Зачем вы задаете такие глупые вопросы? Ну, какой мальчик в его возрасте не был бы доволен!
Он снова, нахмурясь, уставился в чашечку трубки и продолжал ее выскребывать.
— Я думаю, в будущем сезоне ты мог бы ездить со мной на травлю. Сделаем тебя доезжачим, если ты не против.
— Конечно, не против. Спасибо.
— Посмотрим, как у тебя получится.
— Да, конечно. Я…
— Терпеть не могу, — он повысил голос так, чтобы она его обязательно услышала, — музыки в комнате, когда я пытаюсь говорить.
Она не обратила на него ни малейшего внимания. Ничего другого он, естественно, и не ждал.
— Через год-другой мне, как распорядителю травли, нужен будет сораспорядитель. Я ведь, знаешь ли, не молод, мой мальчик.
Он вынул из кармана мягкий кожаный кисет и начал набивать трубку, прижимая крошки табака плоскими подушечками больших пальцев.
— Пожалуй, нам пришло время познакомиться поближе, э?
Мое лицо окостенело от смущения. Я кивнул.
— Надо будет поездить с тобой, показать, что и как. То есть, когда ты вернешься.
— Я готов хоть сейчас.
Он как будто не знал, на что решиться. Его глаза на секунду оторвались от трубки и скосились в сторону рояля.
— Мне кажется, будет лучше, если ты на время уедешь.
— Но ведь должна начаться война?
Мать сняла руки с клавиш. Несколько мгновений замирали отголоски. Отец чиркнул спичкой и поднес огонек к аккуратно спрессованному табаку.
— Я хотел сказать… Если война, то не совсем разумно отправляться вокруг… Ну… я не думаю, чтобы… мне просто пришло в голову.
Она засмеялась. Ее смех всегда был чарующим. Отец снова покосился на нее над огоньком спички.
— Милый мальчик, где ты мог услышать такой вздор?
Она встала в шелесте юбок, словно волны, шипя, лизали песок.
— Бесспорно, определенное напряжение существует, — сказал отец. — Но я не сомневаюсь, что все удастся уладить.
— Но где ты мог услышать подобные глупости? Вот что я хотела бы знать.
— Недолгую вспышку, пожалуй, вовсе исключить нельзя.
Он легонько всосал воздух, табак зарделся, и на какой-то миг его лицо почти просветлело.
— Положение в мире. Да. Стремление к господству. — Быстрым досадливым движением кисти он погасил спичку и бросил ее в камин. — Если тебя это интересует, я распоряжусь, чтобы газеты, когда я их прочту, относили тебе. Тогда ты сам сумеешь разобраться в происходящем. Меня же это мало интересует. Страницы, посвященные международной политике, я чаще пролистываю. Если от меня самого ничего не зависит, то, как я убедился, мной овладевает страшная апатия. Иногда я сожалею… — Он чиркнул новой спичкой. — Здесь, — он взмахнул колеблющимся огоньком, — мы так далеки от всего, так ограждены!
— Ах, Фредерик, как вы скучны, когда говорите ни о чем, как сейчас. И говорит, и говорит ad infinitum[8] ничего ни о чем. С кем ты разговариваешь о подобных вещах, Александр? Неужели с прислугой? — При одном только предположении ее голос чуть прервался.
— Конечно, нет.
— Но в таком случае?
Огонек над чашечкой трубки трепетал, как бабочка на венчике цветка.
— Ну-у… с людьми.
Она плотно, гневно сомкнула губы, а потом сказала:
— Ты имеешь в виду этого мальчишку. Этого Джеремию Кроу.
— Может быть.
Спичка погасла и медленно чернела между его пальцами.
— Что он может знать?
— Вероятно, меньше, чем вы, но гораздо больше, чем я. О том, что происходит в мире.
— Ты больше никогда с ним видеться не будешь. Ты понял?
— Я понял то, что вы сказали, но не могу понять — почему.
— В таком случае просто положись на мое решение…
Она протянула руку мимо меня и дернула сонетку — медную, всю в завитках, ручку на стене у камина.
— Но он очень хороший. Мы… он мой друг.
— Фредерик!
Он вздохнул. Обуглившаяся спичка выпала из его пальцев.
— В определенном смысле твоя мать права, мой мальчик. Такие отношения неуместны.
— Во всех смыслах.
— Так далеко я заходить не стал бы. Но во многих смыслах. С этим грустным фактом следует смириться в юности, мой мальчик. Да, в юности. — Он умолк и потыкал ногтем мизинца в рдеющий табак. — Обязанности и ограничения, неотъемлемые от сословия, к которому ты принадлежишь по рождению. С ними надо смириться. Но, с другой стороны, подумай о привилегиях. Стоит принять привилегии, и остальное последует само собой. Хаос может воцариться с такой легкостью…
— Ни о чем. И говорит, и говорит. Всегда одно и то же…
Открылась дверь, и вошла горничная.
— Пожалуйста, гардины.
Она вернулась к роялю и села, расправив под собой юбки. Горничная прошла через комнату и закрыла окна. За ними уже совсем стемнело.
— Налейте-ка мне рюмку виски, молодой человек, — распорядился отец.
Тяжелый стеклянный графин стоял на серебряном подносе. Виски он предпочитал неразбавленное. Я налил стопку примерно наполовину. Вокруг нас неслись вихри Grande Valse Brillante[9]. Горничная одергивала и расправляла занавески широкими уверенными движениями. Я поставил стопку на столик рядом с отцом. Он кивнул.
— Больше ничего не нужно, сударыня?
— Благодарю вас. Нет.
Ее голос, как и ноты, вырывавшиеся из-под ее пальцев, был веселым. Я еще не успевал разобраться в ее настроении, как оно менялось.
— Вы даже говорить веско не умеете, — сказала она, едва дверь за горничной закрылась. — И всегда кажется, что вы не знаете, о чем говорите. Вы всегда и во всем были никчемностью.
Он взял стопку. Его руки дрожали. Трубку он отложил.
— Что же, это слово подходит мне не хуже любого другого.
— Никчемный старик.
Я протянул руку и погладил его колено. Торопливый жест и тоже никчемный, словно сделал его он сам.
— Как вы скажете. Я сделаю все, что вы…
Он засмеялся.
— Делай то, что велит тебе мать, мой мальчик. Так нужно… Да.
Он взял трубку и начал ковырять в ней. Я почувствовал, что разговор со мной окончен, встал и пошел к двери. Мать сказала мне вслед:
— Так ты обещаешь?
— Что же…
— Обещаешь?
— Ну, хорошо.
Закрыв за собой дверь, я остановился и прислушался. Что они скажут друг другу? Они не сказали ничего.
Мы отправились в Европу. Мы обозревали античные развалины. Мы слушали музыку. Мы осматривали прохладные итальянские церкви и галереи столь усердно, что глаза, ноги и мысли у меня отказывали. Мы ели незнакомые и иногда восхитительные блюда под сумрачными тентами, а солнце сжигало все вокруг. Мы общались с людьми, такими же приятными и равнодушными, как мы сами. Я собрал целый каталог новых звуков, новых запахов, новых ощущений. И за все это должен был благодарить ее.
Когда мы вернулись, деревья вокруг дома стояли растрепанные, почти без листьев. Вылезая из автомобиля, мать поежилась, а я испытывал только радость оттого, что голые холмы приблизились, ограждая меня, только удовольствие от сырого воздуха, холодящего мое лицо, опаленное солнцем, которого ничто не заслоняло.
…ты плоть от плоти Моей, и мы с тобой неразделимы В счастье или в горе[10].Вот и все расширение кругозора, подумал я.
За время нашего отсутствия отец сдал — нет, он не одряхлел ни внешне, ни внутренне, но стал как будто меньше, чем я его помнил. Теперь я проводил дни не с мистером Бингемом, а с отцом и его управляющим, что было бесконечно приятнее. Он купил мне гнедую кобылу. Когда я испытующе-ласково положил ладонь ей на шею, она задрожала всем телом и посмотрела на меня глазами, полными такого великолепного безумия, какого мне еще не приходилось видеть.
— А! — вот все, что я сумел выговорить.
— Ага, — сказал Пэдди, грум. — Хозяин заплатил за нее бешеные деньги и правильно сделал.
— А!
Я тут же назвал ее Морригана.
— Какая странная и безобразная кличка, — сказала в тот вечер мать, когда мы сели обедать.
— Вина. Будь так добр.
Я передал ему бутылку, и, помню, он взял ее трясущейся рукой.
— Ты сам ее придумал? Или где-нибудь слышал?
— Это была прославленная колдунья.
— Неужели, милый? Как интересно. Вроде Феи Морганы?
— Примерно.
— Несомненно, ирландская колдунья, судя по такому поразительному имени.
— Она постоянно меняла облики. И я решил, что это — самое последнее ее превращение.
— Какие глупости!
— Вы заметили ее глаза? — Я повернулся к отцу.
Он улыбнулся.
— Насколько я понимаю, ты доволен.
— Как никогда в жизни.
— И отлично, мой мальчик. И отлично.
— Вы меня удивляете, вы оба. Мы с маленьким провели в Европе четыре месяца, а вам все равно. Вам интереснее обсуждать лошадиные глаза.
— А вы предпочли бы, чтобы мы обсуждали… что именно?
Она презрительно посмотрела на него и промолчала. Я покраснел и, чтобы не видеть их, уставился на сверкающие серебряные ножи и вилки, аккуратно разложенные у моей тарелки. На каждой ручке сердито поднимал когтистую лапу грифон.
— Я не настолько чужд культуры, как вы, по-видимому, считаете.
Он сказал это холодно, без всякого интереса, просто мимоходом указав на второстепенный факт. Над столовой повисло ее молчание, а мы с отцом вели какой-то незначительный разговор, и слова были напряженные, словно блуждали в тумане от него ко мне, от меня к нему.
Осень перешла в зиму. Голые деревья топорщились ветками в облезшем саду. Бурая земля почти светилась невпитавшейся водой. Серые холмы сливались с чуть более светлой серостью туч.
Отец был методичным человеком. Каждую пятницу к нему в кабинет являлся управляющий в тщательно вытертых сапогах и без шляпы, оставленной часа два сиротливо ютиться на столе в холле среди подносов, цветов и невскрытых конвертов. Перед отцом на письменном столе были стопками разложены счета по имению и дому, книги учета арендной платы и платежные ведомости. Отец аккуратно сидел в кресле, его рука, державшая перо, иногда слегка дрожала. Во время этих совещаний он не курил трубки и с облегчением брал ее, только когда управляющий вставал и прощался.
— Надеюсь, ты начинаешь понемножку разбираться, мой мальчик. Цифры и документы кажутся бесцельными, но ты должен уметь справляться с ними. Держи их вот тут.
Он нажал подушечкой большого пальца на стол, словно раздавив жучка.
— У нас в стране самое важное наше достояние — земля. Да. Хм-м-м. Никогда не обходись с ней бессердечно. Никогда не отмахивайся. Никогда не пренебрегай ею. Ну, а если быть практичным и не впадать в чувствительность, чему, не отрицаю, я порой бываю подвержен, то чем больше ты вложишь в землю, тем больше в конце концов получишь от нее. Самую жизнь, собственно говоря. Жизнь может быть очень бесплодной, мой мальчик. Но всегда помни: земля здесь далеко не бесплодна. А! Твоя мать всегда утверждала, что в душе я — крестьянин. Возможно, она права. Но я нисколько этого не стыжусь. Мы все ведем род от каких-то вымерших племен. Смотреть, как наливаются твои нивы, как тучнеет твой скот… — Он усмехнулся, вдруг смутившись. — Извини. Это простые радости, но самые большие из всех, которые выпали на мою долю. Я стар. И могу говорить только о том, что испытал сам. Можешь не слушать. Как все. Любовь к земле дает больше, чем все остальное… Я узнал не так уж много. В чем для меня радость. В чем моя вера. Возможно, я кажусь тебе глупым. С другой стороны, некоторые люди не узнают ничего. Вообще ничего.
Он всегда говорил отрывистыми фразами, часто умолкая, чтобы поковырять в трубке или посмотреть, как огонек ползет по спичке, изящно зажатой между большим и указательным пальцами. Порой слова продолжали неловко срываться с его губ, а он закрывал глаза, точно у него уже не было сил смотреть на окружающий мир. Я слушал почти в полном молчании, выбирая, что мог, из клубка мыслей, воспоминаний, фантазий и взлетов воображения, которые ему угодно было предлагать мне. Теперь, думая об этом, я прихожу к выводу, что порой он испытывал мучительную боль. У него была манера внезапно выпрямлять спину — его шея вдруг делалась очень длинной и худой, голова подрагивала, а рука скользила за спину, осторожно ощупывая нижние ребра. По-моему, я не спрашивал, что с ним, из страха перед ответом, которого не хотел бы услышать ни я, ни он сам. В общем, мое присутствие его как будто радовало — но так, наверно, человек на необитаемом острове иногда радуется своей тени и разговаривает с ней.
С Джерри я не виделся до конца зимы. Потом в ослепительно холодный весенний день, когда восточный ветер гнал по небу пухлые сияющие облака и гнул едва подернутые зеленью живые изгороди, Джерри и Королева Мэв выиграли заезд на местных скачках. В загоне отец вручил ему приз и пожал ему руку. Стоявшие вокруг дамы и господа вежливо похлопали, а за оградой раздались восторженные вопли одобрения. Шея Королевы Мэв почернела от пота, от нее поднимались клубы сладко пахнувшего пара. Я протянул руку. Джерри взял ее, не глядя на меня.
— Поздравляю, Джерри.
Его рука была ледяной. Он, казалось, ни на йоту не вырос, но выглядел совсем взрослым. Я покраснел, заметив, что на нем мои старые брюки.
— Благодарю вас, — пробормотал он. — Сэр.
— Ты отлично прошел.
Он молчал.
— А прыжок у нее просто великолепный. Я всегда говорил: если ее потренировать как следует, прыгать она будет замечательно.
Он улыбнулся уголком рта.
— Куда ей до твоей новой кобылы.
— Ты ее видел?
— Кошки-мышки! Еще бы не видел.
— И как она тебе.
— Поглядеть — ослепнуть.
Я снова протянул ему руку.
— Джерри…
Пальцы матери легли на мой локоть. Жесткие, требующие.
— Александр, милый, нам пора. Кто-нибудь должен проводить меня домой. Я больше не в силах терпеть этот ужасный ветер.
Она чуть кивнула Джерри и увела меня. Ее лицо побелело от холода и гнева.
— Я очень недовольна.
Снова она заговорила, только когда я усадил ее в автомобиль и закутал ей пледом ноги.
— Кажется, этот молодой человек связан с какой-то преступной организацией.
— Кто?
— Тот мальчишка, с которым ты разговаривал. И ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду.
— Чушь собачья!
— Прошу прощения?
— Извините, мама, но это правда чепуха.
— От людей такого сорта можно ждать чего угодно.
— Джерри не глуп. И он не преступник. И я просто не понимаю, о чем вы говорите.
— Кое-где вырастает опасное брожение.
Я засмеялся.
— Как старомодно это звучит у вас!
— Я не потерплю, чтобы ты с ним виделся. Parlons d’autres choses[11].
— Он прекрасно ездит верхом. Признайте за ним хоть это.
— Autres choses, мой милый, autres choses.
Возможно, я был несправедлив к матери. Я никогда не понимал ее побуждений, а это мешает видеть людей такими, какие они есть. Я не был знаком ни с одной другой женщиной и не мог ни с кем ее сравнить. В ней чувствовался тщательно выработанный блеск, который посторонние принимали за настоящий, но мне он представлялся тонкой скорлупой, скрывавшей черную жгучую ярость, которая непрерывно ее пожирала. На рояле она играла со странной злобой, и мне становилось не по себе, неясный страх гнал меня из комнаты, и я слушал с безопасного расстояния. Мне кажется, она меня любила, но она ждала от меня чего-то, о чем я представления не имел. Шли месяцы, и ее все больше раздражало взаимное удовольствие, которое мы с отцом получали от общения друг с другом.
Войны, когда она началась, мы почти не заметили. Бельгия и Фландрия были от нас так далеко! Наши поля стояли в золоте, и земля под нашими ногами оставалась твердой и надежной. Осень начала сдабривать морозцем вечерний воздух. Дым костров был единственным дымом, от которого щипало наши глаза. Мы выезжали на травлю молодых лисиц рано поутру, когда земля на время белела от тумана и росы. Некоторые знакомые лица исчезли. Война занимала первые страницы газет, которые ежедневно привозили из Дублина на поезде.
«…наша страна навеки покроется позором, предаст свое мужество и отречется от уроков своей истории, если молодая Ирландия ограничится тем, что останется дома охранять свои берега от маловероятного вторжения и уклонится от долга, призывающего на поле брани показать ту доблесть и беззаветную храбрость, которые отличали наш народ на всем протяжении его истории».
— Проклятые идиоты!
Он направился к двери столовой, стиснув руки у груди. Мать щелкнула пальцами, чтобы я поднял газету с пола. Я передал газету ей.
— Я рада убедиться, что мистер Редмонд наконец-то вспомнил о лежащей на нем ответственности.
Она, сдвинув брови, нагнулась к газете, тщательно воспринимая каждое слово.
— Пушечное мясо!
Он не оглянулся на нас, а просто выкрикнул это в пустоту холла и захлопнул за собой дверь. Мать взглянула на дверь, чуть улыбнулась и снова занялась газетой.
После этого он заметно постарел и, как я подозреваю, начал пить больше, чем следовало бы. Он почти полностью замкнулся в таинственной башне своего сознания, его глаза покраснели, и на веках все время подсыхали какие-то корочки, которые он то и дело снимал уголком носового платка — это занятие поглощало его почти не меньше, чем возня с трубкой.
Как-то в первых числах октября мы вечером сидели в гостиной. Весь день, не спадая, дул ветер, стучал оконными рамами, завывал в трубе. Время от времени в комнату из камина поднимались струи дыма. Это раздражало отца: каждый раз он вынимал из кармана носовой платок, проводил им по глазам и досадливо вытирал нос. Весь день с деревьев срывались вихри листьев, обнажая грачиные гнезда, единственное их зимнее украшение. Мы ждали мать, чтобы выпить предобеденный херес. Меня увлекли стихи мистера Йейтса.
О Роза Роз, ты Роза всей земли, Ты тоже там, где смутные валы Бьют в пристани тоски.Читая, я сознавал, что отец проводит платком по глазам, а потом яростно машет им на огонь. Его костюм вдруг стал ему словно велик. Как ни странно, я не знал, сколько ему лет. Его руки теперь, казалось, были сплетены из узловатых веревок.
Зовут колокола нас. Красота Печальная от вечности своей, Тебя из нас создав…— Их надо убрать, — пробормотал он. — Остатки гнезд.
Открылась дверь, и вошла мать. Мы оба встали. Вставая, я уронил топкий томик стихов, и он лежал, раскрывшись переплетом вверх, на подогнувшихся страницах. Она была бледна. Ее губы сжимались в узкую жесткую линию. Отец отошел к подносу с графином и рюмками.
— Кристофер Бойл убит.
Я и сейчас слышу мягкий шелковистый шелест ее платья.
Отец осторожно положил стеклянную пробку на поднос и молча ждал.
— Во Фландрии, — сказала она. — В каком-то месте с непроизносимым названием.
Она протянула к огню руки в пене кружев. Бриллианты на пальцах заблестели. Отец взял графин и налил три рюмки.
— Проклятые идиоты. — Больше он ничего не сказал.
— Я была у них, когда пришла телеграмма.
Ее полные странного возбуждения глаза обратились на меня. Отец вложил рюмку ей в пальцы.
— Такая бессмыслица.
Мы молча пили свой херес. Еще одна струйка дыма спиралью поднялась в темноту под потолком. Внезапно отец сердито махнул рукой и сбросил со столика фарфоровую статуэтку.
— Ах, Фредерик! Как вы неловки.
Мы все посмотрели вниз, на разлетевшиеся по полу белые и позолоченные осколки. Они были похожи на осыпавшиеся цветочные лепестки.
— Извините.
Она покачала головой. Это могло означать что угодно и вовсе ничего.
— Я куплю вам другую. Что она, собственно, изображала?
— Не надо.
Она сделала шаг к сонетке.
— Не звоните! — сказал он резко. — Не задавайте им лишней работы. Я уберу сам.
Он медленно нагнулся и начал подбирать осколки с пола. Это был пастушок с овечкой, лихо перекинутой через плечо, — один из пары. Второй пастушок беззаботно улыбался с того же столика.
— Я куплю вам другого такого же.
— Это вам не удастся. Они, кажется, французские, а может быть, и нет. Впрочем, они мне никогда особенно не нравились. Вот, пожалуйста. — Она подала ему корзину для бумаг, и он ссыпал туда осколки. От согнутого положения у него, очевидно, закружилась голова. С трудом выпрямившись, он ухватился за спинку своего кресла.
— Вы стареете, — сказала она. — Последнее время я все чаще это замечаю. Возможно, вы нездоровы? Не показаться ли вам врачу?
— Может ли врач вылечить меня от возраста, дорогая?
— Но если вы нездоровы? — Она произнесла эти слова задумчиво, глядя мимо него на вазу с желтыми хризантемами у стены.
— Нет, это только возраст. Одеревянение тела. Теперь я все время чувствую его — ощущение, незнакомое молодости. И неприятное. Но врач тут не поможет. Нет.
— Я заметила, теперь вы берете на прогулку трость.
Он ответил ей легким поклоном.
— Вам необходимо привести себя в порядок.
Она быстро отпила из рюмки.
— Когда Александр уедет воевать, вы уже не сможете полагаться на него, как теперь. Опираться на него.
Мы с отцом засмеялись, и секунду спустя она присоединилась к нашему смеху. Мы стояли с рюмками в руках у камина и смеялись, точно счастливые люди. Отворилась дверь, и на пороге возникла горничная.
— Кушать подано, сударыня.
И вот она начала чистить грушу. Обед прошел почти в полном молчании. Только когда в комнате была прислуга, кто-нибудь из нас делал вид, что поддерживает разговор. Все во мне ныло от дурных предчувствий. У меня за спиной нежно лепетал и вздыхал огонь, как, наверное, лепечут и вздыхают влюбленные. По вечерам столовая выглядела уютнее — длинные бархатные гардины были освобождены от шелковых петель, а стол заливало сияние свечей. Когда я думаю об этой комнате, в моей памяти приятная еда всегда соседствует с неприятными разговорами. Ножичек в со пальцах был серебряным, с ручкой в хитрых завитках. Я никогда не любил груш.
— Почему вы смеялись?
— Полагаю, — сказал отец, — потому что ваши слова были смешны.
— Если вы разрешите… — Я встал, собираясь уйти.
— Сядь! — Ее голос был раздраженным.
Я сел.
— Я вовсе не шутила.
— Мама…
Он перебил меня.
— Если вы не шутили, значит, вы, как и все, лишились рассудка.
— Нет, о нет, Фредерик. Он должен уехать.
— Передай мне портвейн, будь другом. Мне кажется, Алисия, еще вчера вы даже не замечали этой войны… Нет, прошу прощения, вы были совершенно равнодушны к тому, что где-то идет война. И вот теперь, только оттого, что какой-то злополучный неразумный юнец был убит, вы хотите отправить туда Александра. Какой дьявол вдруг вселился в вас?
— Вовсе не дьявол. И вы прекрасно знаете, что это его долг.
— Ничего подобного я не знаю. И в любом случае право решать принадлежит ему.
— У него нет выбора.
— Нет, есть. Против обыкновения англичане повели себя не как круглые дураки.
— Так нравственный долг. Почему все другие должны, а он нет?
Отец встал.
— Я отказываюсь это обсуждать. Мне нужно заняться делами. Прошу меня извинить. — Он пошел к двери, продолжая говорить взволнованным голосом, которого я прежде у него никогда не слышал. — Все, чего вы когда-либо желали… Все, Алисия. Вспомните это. И хорошенько подумайте, прежде чем вы заберете моего сына. Нет, говорю я. Нет.
— Dulce et decorum est…[12] Вы стары.
— Да, сейчас я, бесспорно, стар, но я никогда не желал стать англичанином. И не желаю этого для моего сына.
— Нашего сына.
— Нашего сына.
— Мистер Редмонд…
— Мистер Редмонд — близорукий дурень.
— Идите, займитесь своими долами, старик. Это вы одержимы дьяволами, не я.
Он ушел, оставив нас вдвоем. Она молча доела грушу. Ненавижу груши. Она вытерла рот салфеткой и встала. Она подошла ко мне сзади, обняла меня за шею и притянула мою голову к своей мягкой теплой груди. Ее пальцы поглаживали мои волосы. От нее исходил сладкий, нежный и все еще молодой запах. Она откинула волосы с моего лба и поцеловала меня.
— Мой мальчик. Мой милый, милый мальчик.
Я ненавидел ее.
Когда я вышел в холл, дверь отцовского кабинета была открыта.
— Александр!
Мать уже ушла в гостиную. Оттуда доносились звуки рояля.
— Александр!
— Иду.
Эта комната была полна теней, она следила и выжидала. Где бы я ни сидел и ни стоял в ней, меня не оставляло ощущение, что за моей спиной кто-то есть, кто-то суровый и требующий, от кого не отделаться быстрой примирительной улыбкой через плечо. Отец сидел у камина, заслоняя ладонью глаза от слепящего жара из самого сердца огня. Другая рука держала коньячную рюмку. Он кивком попросил меня сесть. Я сел по другую сторону камина и откинулся, чтобы экран отгораживал мое лицо от пламени. Мы долго сидели так, и мрак укрывал наши беззащитные лица. Я слышал дыхание, царапающее его горло, и пляску огня, и трепет живых теней.
— Коньяку? — спросил он наконец.
— Нет.
Он поднес рюмку к губам и выпил. Короткое мгновение стекло стучало о его зубы.
— Быть может, — сказал он немного погодя, — тот мир осмысленнее этого.
Где-то кто-то вздохнул. Не отец и не я. Мысль в ту минуту не слишком утешительная.
— Твоя мать замечательная женщина.
— Пожалуй, я все-таки выпью.
Сказал я это больше потому, что надо было что-то сказать. Он кивнул. Я встал и налил себе рюмку.
— Я лгу, — сказал он.
Я снова сел и поглядел на него. Увидел я только его глаза, поблескивавшие в темноте.
— Я очень не хотел бы, чтобы тебе довелось испытать унизительность жизни с кем-то, кому ты совершенно безразличен. Унизительность… — он умолк и отпил из рюмки. Другая его рука упала на колено, словно была больше не в силах оберегать глаза. Его лицо, казалось, изваял скульптор эпохи Возрождения из зыбкого золота. Я видел такие лица во время своего путешествия.
— …э …да …и ничем не тронуть, не достать. Прости меня. — Он посмотрел в мою сторону. Я смущенно, с досадой, не то кивнул, не то мотнул головой.
— Теперь, когда я знаю, что она меня ненавидит, стало легче. Как ни странно. Но, думаю, ты не поймешь.
— Я уверен, что она не пена… — Я понял, что мои слова неуместны.
— Прости меня, — повторил он. — Сердце иссушается, и следует благодарить бога, что это так. Ты как будто встревожен?
— Ну-у… пожалуй…
— Налей мне еще. Никогда не позволяй себе тревожиться, когда люди что-нибудь говорят. Мы все слишком выдрессированы в правилах поведения. Спасибо. Спина у меня сегодня что-то пошаливает.
— Доктор… — нерешительно начал я.
Он засмеялся.
— Но почему вы говорите, что она вас ненавидит?
— Неужели ты веришь, что она посылает тебя на войну из истинно патриотических чувств?
— Не знаю. И в любом случае я не поеду.
Он снова засмеялся. Видимо, он искренне находил меня смешным.
— Нет, мой мальчик, поедешь. Ты трус, и потому поедешь.
— Но это же лишнее основание остаться, ведь так?
— Настоящие трусы боятся встретить жизнь лицом к лицу. А страх смерти — это всего лишь…
— Сплошные загадки, — сказал я. — Почему вы разговариваете со мной загадками?
Он улыбнулся.
— Вернешься, тогда поговорим.
— Все считают, что она кончится к рождеству.
— Войны имеют обыкновение не кончаться к рождеству. Начнутся перемены. Здесь, имею я в виду. О внешнем мире я не говорю. Здесь. Будь я молод… Я слишком уж стар, чтобы брать на себя обязательства. Мне кажется, я скоро умру. Меня это не пугает. И я вовсе не хочу разжалобить тебя и так далее. Меня, правда, это не пугает. Мне бы хотелось ясности. Мне бы хотелось знать, что ты всегда будешь делать то, что необходимо земле. Не тебе, и не ей, и не для исполнения каких-нибудь твоих нежданных фантазий. Здесь самой первой и самой важной должна быть земля. Ты понимаешь? Это сердце нашей страны. Ее отняли у народа. Мы… я буду говорить прямо… Мы отняли ее у народа. И мне хотелось бы верить, что она, когда настанет время, будет возвращена в хорошем состоянии.
— Я никуда не уеду, папа.
— Мы же не абсолютно плохие люди.
Его веки опустились и снова вздернулись. Я встал, подошел к нему и вынул рюмку из его пальцев.
— Да, — пробормотал он. — Да, будь так добр. Тогда я смогу уснуть.
— Ну…
Он хлопнул меня пальцем по руке.
— Послушай, мой мальчик. Не надо ни судить, ни читать морали. Просто возьми и налей мне еще. Побольше. Я мог бы попросить у доктора пилюли. Но так приятнее. И сам выпей еще. С хорошим старым коньяком ничто не сравнится. Пожалуй, я столько его пью, что к тому времени, когда ты вернешься, от него ничего не останется.
Я последовал его совету.
— Как, наверное, ужасно быть красавицей. Все время ждать, чтобы люди умирали ради тебя. Все время стоять перед перспективой увядания. Пальцы в морщинах. Да-да.
Он улыбнулся огню почти со злорадством.
— Честное слово, папа, я не верю, что вы действительно думаете то, что говорите. Просто сыплете словами без всякой мысли.
— Возможно, ты прав, мой мальчик. Годы и годы я сидел тут по вечерам, работал, читал, разговаривал сам с собой. Пока не явился ты, мне не с кем было говорить, кроме как с самим собой. — Он засмеялся. — Удачно сказано… Пока не явился ты. Но я вел с собой очень интересные беседы о том о сем. Да. О том, о… Наверное, я бы разговаривал с ней, если бы она хотела слушать, но зачем ей? Или кому-нибудь другому? Или тебе? У меня не выработалось привычки разговаривать с людьми. Только говорить им что-то. Приходится нащупывать свой путь по жизни. Тук, тук, тук. Словно слепой своей палкой. Тебе скучно меня слушать?
— Нет.
— Пальцы в морщинах. И приходит день, когда уже никто не захочет умереть ради нее, и ей остается только созерцать свои морщинистые… Должен сказать, эта мысль доставляет мне определенную… Иди ложись спать, мой мальчик.
— А вы? Вы тоже пойдете?
— Я склонен еще посидеть здесь. Беспокоиться не стоит.
Я ушел, а он остался сидеть у камина и снова поднял руку, заслоняясь от огня. И, конечно, едва я вышел, он начал беседовать с тенями.
Вероятно, если бы я сохранил ясность ума, то сразу же вышел бы в ночную прохладу. Но голову мне затуманивали круговерченье мыслей и коньяк. Рояль безмолвствовал. Я решил, что она ушла к себе в спальню. Там она будет сидеть у окна и сильными размеренными движениями водить щеткой по волосам, пока в них не забегают и не затрещат искры, а тогда отложит щетку и примется массировать голову кончиками пальцев, ведя их кругами от висков через макушку к основанию затылка. На это нужно время, но его у нее сколько угодно.
На лестницу выходило высокое незанавешенное окно, и, поднимаясь, я видел в нем стены, картины, поблескивающие перила, три рогатые оленьи головы, скрещенные пики и пару серебряных шпаг с изящными резными эфесами, однако ночная тьма меняла цвета отражений. По стеклу забарабанил ветер, нетерпеливо застучали пальцы совсем облетевшего плюща. Свет большого стеклянного фонаря над лестницей почти не попадал в коридор, ведущий к моей комнате. Двери спален прятались в нишах, темных и глубоких, как пещеры. Подходя к своей комнате, я увидел, что из-под двери пробивается свет. Она сидела в кресле у камина все в том же платье, которое надела к обеду. Когда я вошел, она встала.
— Что он сказал?
— Просто разговаривал. О том о сем.
Она прошла через комнату, отдернула занавески и открыла окно. Мимо нее пронеслись запахи осени и звуки играющей где-то скрипки.
— Ты станешь совсем таким, как он.
И ее голос долетел до меня с тем же ветром.
— После возвращения из Европы я все время замечаю в тебе это. Как ты поддаешься. А ведь я надеялась, что вот ты вырастешь, милый мой мальчик, и я больше не буду одинокой.
— Мне жаль, если я оказался недостойным.
Она обернулась и посмотрела на меня.
— Ты пил с ним.
— Пил.
— Да, недостойный — самое подходящее слово.
Она подошла и взяла меня за руку.
— Я не хочу быть несправедливой. При других обстоятельствах он мог бы стать более достойным человеком. Мне невыносима мысль, что ты… Ты поедешь, правда?
— Мама, я…
— Для меня это очень важно.
— …не хочу. Я не чувствую, что у меня есть право ехать туда и стрелять в людей. То есть во имя чего-то, что остается мне непонятно, к чему я равнодушен.
— Право?
— Ну, да… Мне трудно объяснить.
— Но мне понятно, но я неравнодушна. Разве этого не достаточно?
У меня не хватило духа сказать, что я ей не верю.
— И мне не хочется, чтобы меня убили. Или даже ранили. Меня это правда не прельщает. Нисколько, мама, честное слово.
— Но почему тебя должны убить? Тебя?
— Кристофера Бойла убили же.
— Ты трус.
— Наверное, раз вы так говорите. Скверное слово.
— Трусы — скверные люди.
— Мне кажется, если мы не остановимся, то наговорим такого, о чем потом будем жалеть. Я не поеду.
— Долг? Любовь? Послушание?
— Нет.
Она несколько секунд внимательно глядела на меня и молчала.
— Помимо всего остального я нужен отцу, — сказал я. — И вот тут действительно речь идет о моем долге.
— Ты думаешь, я хотела прозябать здесь все эти годы? С ним? Ты думаешь, я бы осталась, если бы не ты?
— Дорогая мама, при чем тут это?
— Самопожертвование. Я могла бы жить полной жизнью.
— Мне очень жаль.
— И теперь я прошу у тебя лишь одного: сделай для меня это. Все остальные молодые люди уже в армии.
— Дураки, как сказал бы отец.
— А может быть, герои.
— Не думаю. Но в любом случае не лучше ли иметь сыном живого труса, чем мертвого героя?
Я засмеялся. Вернее, попробовал засмеяться.
— Ты станешь таким же циником, как он. Ты с каждым днем становишься все больше похож на него. Манеризмы. Обороты речи. Натужное умничанье. Ты подражаешь, впитываешь. Смотришь и подражаешь. Позволь мне один вопрос. Что, если он не твой отец?
Еще не договорив, она отвернулась от меня. Платье ниспадало с ее плеч, как каскад. Огонь придал ее лицу и рукам притягательную теплоту. Она как будто испугалась, но и торжествовала. И была полна жизни.
Казалось, прошло очень много времени, прежде чем ее слова достигли меня, а потом проникли глубоко в мое сознание. Может быть, час. Она терпеливо ждала, положив руку на каминную полку. В полене взорвался сучок, на решетку и край ковра посыпались искры. Я машинально облизнул большой и указательный пальцы, нагнулся и быстро погасил все до единого крохотные алые сердечки.
— Так что же?
Я разглядывал черные точки на большом пальце.
— Вы же не хотите, чтобы я отнесся к вашим словам серьезно.
— Нет, хочу.
— Он знает?
— Он ничего не знает. Ничего не видит.
Это происходило словно не со мной. Словно я стоял в стороне и наблюдал. В голове у меня что-то рвалось со звоном. Противное ощущение, но я был не в силах от него избавиться.
— Кто… мой отец?
— А! Он умер. Очень давно. — Ее голос был небрежно равнодушным, словно она обсуждала теннисную партию. — Возвращаться к этому нет нужды. Я была очень молода. Ты, вероятно, не поверишь, если я скажу, что почти ничего не помню. Это было так давно. И в памяти всплывают только полагающиеся воспоминания. Солнце, радость, смех. Наверное, какое-то время я была несчастна. Не помню. Потом я вышла за твоего отца. Я была очень молода.
— Что с ним случилось?
— С кем?
— Ну, с ним. С моим…
— Он умер, я же сказала. Умер, Александр. N’en parlons plus[13].
— Мама, бога ради…
Она протянула руку и коснулась моего плеча.
— Поверь мне, лучше не надо. Я не дала счастья твоему… ну… Фредерику, но вначале я старалась. Как-то старалась. У меня нет иллюзий относительно моего характера. Я отнюдь не хорошая женщина. И вряд ли могла бы стать хорошей, однако в других обстоятельствах я, вероятно, была бы… Ну, не знаю. Но, во всяком случае, не такой.
— Вы говорите об этом так спокойно!
— А почему бы и нет? В конце концов у меня было достаточно времени, чтобы обрести спокойствие.
— А впереди бессонная ночь.
— Милый, это уж чересчур.
— Я не о вас, я о себе. Одна фраза — и я лишился всего.
— Пожалуйста, обойдись без мелодрамы. Твое положение ни в чем не изменилось.
— Только в моих мыслях.
— А это уж твое дело. Но пойми: рано или поздно я все равно тебе рассказала бы.
Она снисходительно потрепала меня по щеке и пошла к двери.
— Я устала.
Взявшись за дверную ручку, она обернулась ко мне с легкой улыбкой.
— Я очень хочу, чтобы ты уехал, подчиняясь всем лучшим побуждениям, а не всего лишь двум-трем худшим.
Она ушла. Вздохнула закрывшаяся за ней дверь. Я схватил кочергу и бил, бил по пламени. Искры взлетали снопами и уносились в черную дыру дымохода. Клубы золы и дыма извергались на меня и вокруг меня. Першило в горле, саднило глаза. Я забил пламя до смерти, бросил кочергу в камин и, весь дрожа, выпрямился, измученный и напуганный собственным взрывом. Зола мелкой пылью начала понемногу оседать на стулья, на кровать, на туалетный столик, на высокий шкаф красного дерева, на золоченые рамки акварелей. Выцветшие горные пейзажи и потускневшие голубые озера стали еще тусклее под слоем белесой торфяной пыли. Она осаживалась на мой костюм и на пижаму, аккуратно разложенную на постели. От пыли у меня зачесалась голова. Я попробовал отряхнуться, но без толку. Пыль поднялась, только чтобы снова осесть. Она осаживалась, и я чувствовал, как уходят от меня все эти предметы, совсем недавно бывшие моими по праву, — укрывшись под покровом пыли, они безоговорочно утверждали свою точку зрения. Она сказала правду: я действительно впадал в мелодраму. Бесшумно открыв дверь, я вышел в коридор и оставил все неодушевленное, все враждебное позади себя. Где-то в трубе забулькала вода, по полу пробежала дрожь, и вновь наступила тишина дышащего дома. Я радовался темноте. Она прятала меня от взглядов предков на стенах, для которых я теперь стал самозванцем. Лунный свет красиво посеребрил дорожку на лестнице. Входная дверь была не заперта. Ее никогда не запирали. И, думаю, никогда не будут запирать. Летом она всегда распахнута, приглашая друзей и чужих войти без церемоний в высокий белый холл. Зимой она затворена, но друзья поворачивают бронзовую ручку, толкают, и она открывается, чуть скрипя по черным и белым натертым до блеска плитам пола. Я потянул ее на себя и вышел на крыльцо. Затявкала лисица, и я машинально заметил, откуда донесся этот звук. Скрипка все еще играла. Вниз по ступенькам и по аллее. Под ногами холодно похрустывал песок. Музыка притягивала меня, и я пошел напрямик по тропке вдоль озера. Луна расстелила по воде серебряную дорожку. На холмах не было видно ни огонька. В чуть студеном воздухе мое дыхание выходило изо рта зримыми колеблющимися струйками. На кустах камелий среди глянцевитых листьев белели пухлые бутоны будущего года. Мне требовался бог — или друг. Я ничего не узнал, и вдруг стало ясно, что мне необходимо узнать очень много. Сквозь высокую узкую калитку я вышел в широкий мир, прямо к перекрестку у деревни. На обочине мягкими кучами лежали опавшие листья.
Люди плясали — человек девять-десять, а другие смотрели на них. Скрипач стоял у кромки дороги, и при каждом движении смычка его тело покачивалось, как ветка на ветру. С того места, где я остановился, было видно, что он слеп. Глаза у него были исчерчены густой сеткой красных прожилок. Они блестели, но были неподвижны и ничего не видели — никогда ничего не видели. Он был стар. У его ног лежали длинная палка, которой он ощупывал свой путь, и бдительный пес. Музыка внезапно оборвалась, и скрипач протянул руку, ожидая, чтобы в нее вложили бутылку, которая ходила по кругу. Он отпил большой глоток, а потом держал бутылку в вытянутой руке, пока кто-то из молодых парней не забрал ее. Смычок раза два взвизгнул по струнам, скрипач откинул голову и запел:
Добрые люди в этом дому, Тут ли священник и можно ль к нему? Стучится чужой к вам, не знаю, как быть. С отцом бы мне Грином поговорить.Пальцы вцепились в мой рукав.
— Это ты, а?
Джерри все еще выглядел, как ребенок — маленький и щуплый, но одежда на нем была одеждой взрослого мужчины, совершенно ему не подходившая. В руке он держал бутылку. От него пахло застарелым потом, торфяным дымом и самогоном. Самогоном очень сильно.
— Вот не знал, что ты любитель танцев.
— А я иногда не прочь. Ну-ка!
Он ткнул в меня бутылкой.
— Спасибо. Только нет. Я не хочу.
Стучишься не зря ты, он дома теперь. Святого отца всем распахнута дверь. Но ты подожди-ка внизу, молодец. Взгляну я, свободен ли добрый отец.— А! Да вытри ты горлышко и выпей! Ничего, не помрешь.
Я достал из нагрудного кармана белый сложенный вчетверо платок и обтер край горлышка. Он правильно сказал: не помру. Он следил за моими руками с веселой усмешкой.
— Что это?
— Капелька горячительного. Да не трусьте вы микробов, мистер Александр, сэр. Хлебните в память о былых денечках. И разве же мои и ваши микробы не одни и те же? Разве ж мы не вдыхаем и не выдыхаем одних и тех же микробов in saecula saeculorum?[14] Если вы еще не забыли свою латынь, сэр. — Он сплюнул.
— Ну, во всяком случае, ты к ней хорошо приложился.
Под его насмешливым взглядом я отхлебнул из бутылки слишком много. Вкуса во рту я не ощутил почти никакого, но в горле жидкость превратилась в огонь, опаливший желудок. Я вспомнил наше первое знакомство с алкоголем.
— О господи!
Убили под Россом отца моего, А в Горей…— Я завтра завербуюсь.
С этими словами он забрал у меня бутылку и поднес ее к губам.
— Но ради чего…
— Денежки.
Он утер рот ладонью.
— Мой милый Джерри, если тебе нужна работа, ты бы пришел и поговорил со мной.
Он засмеялся.
— Что тут смешного?
— Отхлебни еще и сам поймешь. Все поймешь в свое время. Ну, а про это скажем пока, что королевского шиллинга хватает подольше, чем хозяйского.
Второй раз ожог в горле был послабее.
— Охотничий клуб…
Он мотнул головой.
— Что они будут делать без тебя?
— Обойдутся как-нибудь. Денежки.
Он вытянул руку и уставился на пустую ладонь, всю исчерченную складками, как у старика. Рай для цыганки.
— А может, мне нравятся блестящие пуговки.
— По-моему, я слышал, что ты связался с шинфейнерами.
— Заткнись!
Он сказал это с такой яростью, что у меня заколотилось сердце, словно от удара по лицу.
Я ненависть в сердце своем не таю, Но крепче всего я отчизну люблю. Благослови же, отец, и пусти На смерть, если бог так назначил, пойти.— Денежки, Алек, вот из-за чего. — Он улыбнулся, и все стало хорошо. — Ты меня прости. Я выпил многовато, хоть и недостаточно, понимаешь? Попозже мы оба начнем нести чушь, и тогда уж будет неважно, что мы говорим. Ну-ка, дай бутылку.
Он отпил несколько больших глотков.
— Денежки, в них все дело.
— Ага.
В женевской казарме преставился он И у перевала был там схоронен. Добрые люди, вам мир и покой, Почтите молитвой его и слезой[15].Он протянул руку, и я ее пожал. Смычок два раза взвизгнул по струнам и заиграл джигу.
— Может, ты хочешь танцевать? — спросил я. — Так давай, я постою.
— Как вы справедливо заметили, я не такой уж любитель танцев.
— Ну, тогда давай сядем. Это твое чертово пойло ударило мне в ноги.
Мы сидели под деревом на траве, мокрой от ночной росы, и смотрели, как отплясывают мужчины и женщины. Из-под их топочущих ног, точно дым, поднимались клубы пыли.
— Я тоже еду завтра.
— Еще чего!
В тени дерева мне был виден только подвижный блеск его глаз.
— На войну.
Он выскреб в земле между нами ямку и поставил, в нее бутылку.
— Когда в горле пересохнет, сам бери и пей.
— Поедем и будем героями вместе.
— Не пойму, как они еще без нас обходились.
— Вот и я тоже.
— Тебя сделают офицером.
— А мне все равно. Я всегда благодарен за удобства, которыми меня окружают. Лишь бы выбраться отсюда.
— Меня мутит от мокрых полей.
— Нашел, на что их менять! Разве что хочешь умереть. А ты хочешь умереть?
— Кто, кошки-мышки, этого хочет?
— Я.
— А пошел ты!
— Выпей.
— После тебя.
Мы оба выпили.
— Говорят, в Пикардии они ездят на травлю.
— Чертовы дураки англичане!
— Да. Мать говорит, что я не сын своего отца.
Джерри поскреб пальцем в затылке.
— Ну и что?
— То есть как — ну и что? Сегодня вечером сказала. Час назад. Я теперь никто.
— И ты ей поверил?
— Ну-у… да.
Джерри засмеялся.
— Что тут смешного?
— А из тебя сделают офицера!
— Зачем ей было лгать?
— Когда им нужно, они что хочешь скажут. Когда им нужно… Ну, да ведь и ты бы тоже, и я.
— Мой… ну… отец — хороший человек.
— Мммм.
— Мне бы хотелось уехать, не прощаясь с ним.
— Утром ты будешь чувствовать себя по-другому, а если приложишься как следует, — он щелкнул ногтем по бутылке, — так и вовсе ничего чувствовать не будешь. Собственно, если разыграть карты правильно, можно и вообще ничего не чувствовать, пока в тебя не угодит пуля.
— Спасибо.
— Плавал ты всегда лучше меня.
— Да.
— А хорошие были денечки!
— Да.
— Лебеди еще там?
— Да.
— Выпей-ка!
— После тебя.
Мы оба выпили.
— Зачем она тебе сказала? Такое?
— Не знаю.
— А ее ты не спросил?
— Наверное, у нее были свои причины.
— А! Так или эдак, разница не велика.
— Для меня — велика.
— Чудак ты!
— Возможно.
— Тут скоро начнется стрельба.
— Все уладится, когда кончится война.
— Опытные солдаты тогда ох как пригодятся!
— Джерри…
— Может, даже тебе подобные.
— Они перестали танцевать.
— Слепому захотелось выпить.
— Откуда он?
— С холмов. Только он больше по дорогам бродит. Тут поклянчит милостыню, там на скрипке попиликает. Говорят, у него не все дома. Только сам я этого не замечал.
— Вечный странник.
— Ни кола, ни двора!
— И жены нет?
Я услышал, как он сплюнул.
— Чтоб они пошли за тобой, им надо луну пообещать. А дашь луну, так потребуют солнце. Ты хоть раз с девочкой бывал?
Я покраснел.
— Нет.
— Вот и я тоже. А мне жуть как интересно. И страшно. Заберут тебя в лапки, и оглянуться не успеешь. Мать у тебя — благородная красавица. Я раньше думал: ну, прямо Прекрасная Елена.
— «…чья красота на бой послала греков И сотни кораблей — на Тенедос»[16].— А потом, в день скачек, я поглядел на ее лицо не такими детскими глазами и понял: она хочет того же, что все женщины на дорогах, только побольше.
— Ты говоришь так, будто тебе лет сто.
— Некоторые люди родятся старыми и никогда не молодеют.
— А я?
— По твоему лицу не скажешь, что ты когда-нибудь подрастешь.
Скрипач играл, и музыка уносилась в темноту. Смех танцующих был мягким смехом начала ночи. Топотали ноги. Деревья вздыхали, точно томясь желанием принять участие в пляске. Где-то кто-то развел костер, и в воздухе пахло древесным дымом.
Он перегнулся и стиснул мое колено. Его пальцы впились в кожу сквозь мягкую ткань. Помню, что утром я увидел вокруг коленной чашечки пять уже желтеющих синячков.
— Мы, значит, вместе поедем, верно, Алек?
Мир понемножку вращался. Мне пришлось нажать ладонями на траву, чтобы остановить всеобщее круженье.
— Верно.
— Ну, так выпьем за это?
— Выпьем.
Он прижал бутылку к моим губам. Жидкость утратила всякую жгучесть и проскользнула в горло, как теплая вода. Он отнял бутылку от моего рта и допил ее до дна.
— И будем танцевать.
Он вскочил на ноги удивительно быстро и швырнул бутылку через плечо в канаву. Я кое-как поднялся и начал счищать с брюк глину и траву.
— А толку-то? — разумно спросил Джерри.
За деревьями сияла луна. Внезапно юна стала очень холодной, а земля легонько завертелась, даже как-то ласково. Очень осторожно мы направились к компании, окружавшей скрипача, и вдруг нас засосало в пляску. Меня обволокло запахом пота, дыма и перегара. Потные руки задевали мои, лица стремительно кружились и уносились, как уносился я сам, не зная и не думая о том, что делаю, а земля двигалась в такт с нами. Вся земля плясала. Слепой стал творцом, движителем всего живого. Его лицо висело над нами, как луна, глаза в прожилках блестели силой, переполнявшей его. Пляска оборвалась столь же внезапно, как и вспыхнула. Слепой стоял, опустив смычок, и словно глядел на небо в чаянии вдохновения. Я все еще вертелся и спотыкался в гуще толпы, почти падал и, наконец, окончательно растянулся на земле у ног слепого.
— Господи, помоги мне! — услышал я собственный голос.
Нес между колен скрипача угрожающе заворчал, у меня за спиной кто-то насмешливо захихикал.
— А ну, хватит! — грубо сказал Джерри.
— Хи-хи-хи. — Смех скрипача был немножко сумасшедший.
— Парень-то нализался.
— Не он один.
— Ш-ш-ш!
— Может, больной?
— Сам ты больной!
— Ш-ш-ш! Говорят же вам! Не видите, что ли, кто это?
— А мне плевать, будь он хоть Чарлз Стюарт Парнелл.
— Нализался, одно слово.
— Хоть и нализался, так что?
— А ну, хватит!
Джерри говорил вполголоса, но внятно. Он стоял рядом со мной. Пес все рычал и рычал.
— Хи-хи-хи.
Джерри нагнулся и подергал меня за плечо. При виде движущейся руки нес, чья морда была почти рядом с моим лицом, оттянул верхнюю губу в свирепой усмешке. Скрипач медленно опустил смычок и коснулся собачьего бока. Рычание стихло.
— А он-то! «Господи, помоги мне!» С каких это пор слепой стал господом? Как же тут не засмеяться. От моего смеха вреда никому нет. Господи, помоги мне, говорит он. Господи, помоги нам всем, говорю я.
Он снова сунул скрипку под подбородок и задрал лицо к луне.
— Господь, он там, наверху, — пробормотал он, поднимая смычок. — Там, откуда дует холодный ветер.
— Да ну же! Вставай, пока совсем не раскис.
Он поставил меня на ноги. Скрипач снова заиграл. Танцующие забыли про нас. Спотыкаясь, мы обошли их и поплелись по траве к калитке.
— Я провожу тебя домой.
Поддерживая друг друга, мы медленно брели по тропинке.
— Тебе нужно домой. В постельку.
— Мне надо сказать что-то очень-очень важное.
Мы на секунду остановились, пока я собирался с мыслями.
— Ну?
— Забыл.
Мы пошли дальше.
— А тут, наверху, опасно.
Мне казалось, что кусты опрокидываются на меня.
— Может, поближе к земле..? — вопросительно сказал Джерри и опустился на четвереньки.
— Пожалуй.
Мы ползли, пока не очутились на травянистом склоне между камелиями и водой.
— Остановимся. По-моему, я пьян.
— Прямо как я.
— Пьяным я домой вернуться не могу.
— А я думал, джентльмены всегда возвращаются домой пьяные.
— Что ты знаешь о джентльменах?
— Да немного.
— Есть у нас с тобой одно общее, Джерри.
— Что бы это?
Мы сидели бок о бок на траве. Еще не договорив, он поднял руку и погладил глянцевитые листья камелии. Бутоны будущего года уже почти совсем сформировались.
— Мы оба умеем распознать хорошую лошадь.
Я вспомнил Морригану и расчувствовался, что легко случается с теми, кто по-настоящему пьян.
— Вообще-то мне нравилось быть ребенком.
Джерри засмеялся. Он вскочил на ноги и начал сбрасывать с себя одежду.
— Ну-ка, давай!
— Что это ты?
— Выход у нас только один.
Он мотнул головой в сторону озера.
— Ты в своем уме?
— Но ты же сказал, что должен вернуться домой трезвым.
— Дикость какая-то!
— Алек, либо раздевайся, либо я сам тебя раздену.
Я расшнуровал вечерние туфли, которые, как и я сам, заметно утратили элегантность, и стянул носки. Трава оказалась неприятно холодной.
— Чего только на тебе не наверчено!
Джерри, обхватив руками узкую грудь, подпрыгивал, чтобы не замерзнуть. Я дергал и тянул пуговицы жилета. Скоро и я разделся донага. Секунду мы с любопытством смотрели друг на друга, а потом смущенно уставились на озеро.
— Догоняй!
Он побежал по траве и нырнул прямо с берега. Когда ледяная вода обняла его всего, как никогда не обнимет ни одна женщина, взлетела и рассыпалась туча мерцающих брызг, а за ним к середине озера протянулся усыпанный звездами след.
— Господи, вот здорово! — Джерри высунулся по плечи из воды и стряхнул с лица капли.
— Ну, до чего же я трезвый!
— А что я тебе говорил?
— Лечение шоком.
— И хорошие же были денечки!
— Еще бы.
— Мамаша все время меня допекала, что я так много купаюсь. Говорила, что я в гроб себя уложу. Не одно, так другое. У тебя — микробы, у нее — холодная вода.
— А моя мать считает, что мир рухнет, если мы перестанем переодеваться к обеду.
— Алек?
— Мммм.
— Ты помнишь эхо?
— Ну как же!
— Давай наперегонки.
Мы поплыли к самому центру озера, перевернулись и легли на спину. Миллионы звезд, казалось, спускались все ниже и ниже, пока мы смотрели на них.
— Эхо! — крикнул я.
— «Хо… хо… хо…»
Звук обежал череду холмов.
— Э-эй, ты там!
— «Ты та… ты та… ты та…»
Словно где-то вдали перекликались голоса.
— Мы тебя любим! — крикнул Джерри.
— «Убим… убим… убим…»
Возле дома залаяла собака, и ее лай был тотчас подхвачен, но не эхом, а другой собакой где-то в деревне.
— Гав-гав-гав, гав-гав-гав, — хором залаяли мы.
— «Ав… ав… ав… ав… ав…» — откликнулись с холмов призрачные собаки. Мы захохотали и, захлебываясь хохотом, лаяли, а в ответ лаяли холмы и словно бы все собаки всех деревень, а мы хохотали и плескали друг в друга пригоршнями осеребренной звездами воды.
— Мы перебудим всех в округе. — Джерри взбил ногами фонтан искр.
— Ну и что!
— Нас-то здесь не будет.
— Ага.
— Алек, ты же на попятный не пойдешь?
— С чего ты взял?
— Утром тебе все может представиться по-другому.
— На попятный я не пойду. Только я замерз. А ты? Я вылезаю. Пальцы совсем окоченели. Кровообращение у меня скверное.
Три пальца на правой и на левой руке побелели и онемели. Я поплыл к берегу, а Джерри остался лежать на спине, созерцая луну. Было невозможно поверить, что тот же серебряный лик смотрит сейчас на окопы, пушки, колючую проволоку, на мертвецов.
— Ты не думаешь вылезать?
Я стоял на берегу, растирал рубашкой покрытую пупырышками кожу и смотрел, как он неторопливо плывет ко мне. Внезапно, словно кто-то сдернул покрывало, небо из иссиня-черного стало рассветно-серым.
— Ненавижу эту слякоть, — пожаловался Джерри, выбираясь на крутой берег. — Утиное и лебединое дерьмо гнило тут тысячу лет, а теперь выдавливается между пальцами. Бррр, пакость.
Я бросил ему мою рубашку.
— Вытрись этой. Зачем портить вторую рубашку?
— Спасибо. — Он поймал ее и присвистнул. — Какая материя! Просто красотища. И чтоб такому, как я, да вытираться такой красотищей!
— Заткнись, чертова деревенщина.
Он набросил рубашку на плечи и принялся ожесточенно работать руками. Я смотрел на него, дрожа всем телом.
— Я себя жутко чувствую. По-настоящему жутко. Внутри весь горю, а снаружи леденею. Ненавижу холод. Сквозняки. Ванные комнаты зимой, сырые коридоры в чужих домах. В эту пору меня всегда начинают одолевать нервные страхи.
— Так ты бы оделся, чем языком трепать.
Я подобрал жилет. Он намок от росы.
— А я-то думал, что ты обзавелся девочкой.
— И ошибся. — Я надел жилет.
— Но ты иногда про это думаешь?
— Да нет, редко.
— А я так думаю. — Он бросил мою рубашку и начал ощупью искать свою одежду. — Не просто головой думаю, а прямо всем телом. Понимаешь?
— По-моему, да.
Он нашел брюки и натянул их.
— Это не грех. Можешь мне поверить.
— Наверное, нет. Только я никогда всерьез об этом не размышлял.
— Я подглядываю за сестрами. Я знаю, что не надо бы, и они меня просто убьют, если узнают, но ничего с собой поделать не могу. По-твоему, это нехорошо?
— Не знаю. Честное слово, Джерри. Мне это только любопытно, и то не слишком. Да и во всяком случае сестер у меня нет, а значит, и такой возможности.
— Удачно, когда сестрички рядом! — Он вздохнул. — Как-то грустно ехать на войну, так и не узнав ничего.
— Времени хватит, когда вернемся. Говорят, она к рождеству кончится.
— Какой только чуши собачьей не говорят!
Начинали просыпаться птицы. Их сонный щебет был неожиданно громок. По самой поверхности озера, точно дым, стлался туман.
— «Воинство Нокнари скачет в ночь Через могилу Клут-на-Бера; Койлт пламя волос разметал, А Ньем взывает: „Прочь, о прочь! Сердце от смертной мечты очисть…“»— И ты все это видишь там? Далеко же ты смотришь!
— Нет. Просто слова, которые пришли мне на ум.
— Твои собственные?
— Ну, что ты! Мистера Йейтса.
— И ты веришь? Что воинство скачет и всякое такое?
— Да, отчасти. Только говорить это вслух как-то глупо.
— Вот бы впитать их в память. — Он кивнул на воду, на холмы, готовящиеся к трудовому дню. — Для того… ну… чтобы всегда можно было на них поглядеть, если захочется.
— Ничего не выйдет. Ты не замечал? Колдовские минуты, когда говоришь себе — «этого я никогда не забуду», исчезают из памяти быстрее всего. Я, наверное, буду помнить, как сырой жилет липнул к коже, а не то, каким было озеро и как оно пахло. — Я вздрогнул, а вернее, затрясся от холода. — Я совсем замерз, Джерри. Праздник кончился.
— Угу. А дальше как?
— Не помню толком. Та та-та-та. Та та-та-та…
«Мы встали меж ним и делом его, Мы встали меж ним и сердцем его…»— О господи! — сказал Джерри.
Я протянул ему руку.
— Встретимся в поезде.
Он прикоснулся к моим обескровленным пальцам и кивнул.
Под светлеющим небом его лицо стало серым — лицо человека, уже опустошенного жизнью. Оно было не для посторонних взглядов, дневное оживление больше не прятало настороженности его глаз. Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, потом он улыбнулся или, во всяком случае, растянул губы.
— Ты же поедешь первым классом, а?
— Просто поразительно, до каких нелепостей ты додумываешься.
Внезапно он засмеялся.
— Вот будет потеха: старик завернет за угол, а я тут — скалюсь на него. Просто не дождусь посмотреть на его рожу.
— А скалиться зачем?
— Я всегда на него скалился. Он тяжел на руку, и лучше перед ним не пасовать.
Я ушел, а он остался стоять там, бесцельно заточая в памяти туманные холмы.
Меня всегда поражала быстрота, с какой тьма сменяется светом. Я шел по дорожке и смотрел, как ширится розовая полоса за домом. Погубленная рубашка была новая, купленная в Риме. Кто-нибудь что-нибудь скажет по этому поводу. И еще пятна трапы на брюках, и засохшая глина на лакированных туфлях. Там, где дорожка вливалась в аллею, я остановился, поглядел на дом и вдруг спросил себя, можно ли любить человека так, как я любил эти гранитные плиты, спящие окна, безыскусственно серый цвет — все строгое совершенство этого здания. Песок под моими ногами хрустел так громко, что должен был бы разбудить весь свет, но ни одна рука не приоткрыла занавеску, ни одно лицо не поглядело вниз на меня.
— Круу, — где-то высоко под крышей проворковал голубь.
— Ш-ш-ш! — сказал я.
— Круу.
Я повернул бронзовую ручку входной двери, и мои пальцы оставили на ней большой грязный мазок. Я подумал, что и об этом кто-нибудь что-нибудь скажет.
Утром я еще долго лежал в постели после того, как горничная принесла медный кувшин с горячей водой и отдернула занавески. Прошло много времени, прежде чем я посмел открыть глаза, а когда открыл, то понял, что лучше бы мне их не открывать. Дневной свет оказался невыносимо ярким, а вопрос о том, что следует упаковать в чемодан, отправляясь на войну, давил своей важностью и неразрешимостью. Голова у меня шла кругом. В конце концов я все-таки встал и побрился с величайшим тщанием. Перед решительными минутами всегда надо бриться очень тщательно. Я выглядел удивительно бодрым, оскорбительно юным. И позавидовал лишенным возраста глазам Джерри. Прогремел гонг к завтраку. Его гулкий звон всегда, казалось, вещал конец света, а не приглашал в очередной раз к столу. В коридоре постукивала щеткой горничная, запоздавшая взяться за дело. Возможно, и она расплачивалась за удовольствия прошлой ночи.
— Круу, кру-кру-кек, — сказал мой утренний знакомец. Он явно чувствовал себя лучше, чем я.
— Черт, о черт! Мне противно то, что я делаю. Я сам себе противен.
Я завязал галстук и заботливо его расправил. Мать всегда требовала безупречности утреннего костюма. Они будут сидеть за столом столь же безупречно одетые, изящно склонив головы над газетами и овсянкой со сливками, аккуратно разложив на коленях белоснежные салфетки. И столь же безупречно они будут стареть, укрывая от мира свою беспощадную ненависть друг к другу. Может быть, подумал я, ненависть не меньше любви необходима для того, чтобы колеса вертелись? Голова у меня разламывалась. Я надел пиджак и спустился в столовую.
К завтраку стол всегда накрывали скатертью. Столовая, как обычно, хранила холодно-парадный вид. Отец читал каталог распродажи породистого скота и только невнятно буркнул, когда я вошел. Мать, как всегда, сидела в окружении для нее одной поданных баловств — вересковый мед в сотах, ее серебряный чайничек с китайским чаем, липкий барбадосский сахар и серебряный ножик для разрезания бумаг, который каждое утро клали у ее прибора, чтобы она могла изящным движением кисти вскрывать конверты. Подняв голову от письма, она улыбнулась.
— Милый мальчик! — и подставила щеку для поцелуя. Так, словно ничего не изменилось. Мысль о том, чтобы прикоснуться к ее надушенной коже, была невыносима, и я прошел мимо к подогревательному устройству на серванте. Я оглядел кушанья под серебряными крышками, малая часть которых будет съедена, а остальное выброшено свиньям, и решил, что даже думать о еде не могу.
Налив чаю в чашку, я осторожно донес ее до стола, сел и за неимением другого занятия уставился в окно. Трава еще белела ночной росой. Садовник катил по лужайке пустую тачку.
— Ты, надеюсь, не дуешься? — Голос матери мягко скользнул в уши, как шелковинка в игольное ушко.
— С какой стати?
Отец сидел совершенно неподвижно, и я понял, что он ловит каждое слово.
— Я просто высказала предположение. Дуться — такое ребячество.
Наступило молчание. Я не положил сахара в чай, но тем не менее взял ложечку и принялся его размешивать.
— Ты не хочешь есть?
— Нет.
— Но почему? — Ее голос стал сердитым.
— Я не голоден.
— Тебе нездоровится? Обычно ты ешь завтрак с большим аппетитом.
Ее взгляд упал на невскрытый конверт у ее тарелки. Она взяла его, внимательно оглядела адрес и штемпель, а потом взрезала по верхнему краю. Вынимая письмо, она снова заговорила:
— Нет, ты все-таки дуешься. Когда ты был маленьким, то постоянно дулся. Неприятная привычка.
— Я не дуюсь, мама.
— Тогда почему ты ничего не ешь?
Отец, заслоненный газетой, тревожно вздрогнул. Она развернула письмо и небрежно пробежала первые строчки.
— Я сказал вам, что не голоден.
— От Мод.
Продолжая читать, она нахмурилась.
— Она намерена приехать погостить в начале охотничьего сезона. Вздор.
— Как так вздор?
— Разумеется, ты голоден. Юноши твоего возраста всегда голодны, если только не больны.
— Лошади я Мод не дам, — сказал отец. — С меня достаточно прошлого раза.
— Но не могу же я так ей написать.
— Этой чертовой бабе только на верблюде ездить.
— Милый, я намажу тебе маслом сухарик с капелькой моего особого меда. В этом году он восхитителен.
— Сколько раз я должен повторять, что не голоден?
— Он не голоден, — поддержал меня отец из-за газеты.
Губы матери зловеще сжались.
— Осужденный не съел перед казнью плотного завтрака. — Еще не договорив, я пожалел об этой дурацкой шутке.
Отец положил газету на стол.
— Александр…
Мать предостерегающе подняла руку.
— У нас никогда не бывало неприятных сцен за завтраком…
— И сейчас это никакая не сцена. Я не хочу есть без всякой задней мысли. Можете мне не верить, но это так. А кузине Мод дайте Морригану.
Отец поглядел на меня как на сумасшедшего.
— На открытие охоты? Что это еще за глупости?
— Поскольку меня тут не будет, так почему бы ей и не… Или устройте перетасовку.
— Как так — тебя здесь не будет?
— Вероятно, я тогда буду уже на пути в Бельгию.
— Ну вот! — сказала мать. — Я же говорила, что он дуется.
— Ах, вот что!
— Но, милый, ты вполне можешь дождаться открытия охотничьего сезона.
— Я еду сегодня.
— Сегодня? — Ее голос был пронзительным и очень сердитым.
— Да. А потому, если вы меня извините, я пойду…
— Не кажется ли тебе, что ты немножко не считаешься с нами?
— Я просто теряюсь. Вчера вы выразили желание, чтобы я завербовался в армию. Сегодня я еду в армию. Не понимаю, чем вы недовольны.
— Ты невыносимо груб.
— Прошу прощения. Это не намеренно. Но я не хочу больше никаких споров, никаких обсуждений. Я убедился, что с вами ничего невозможно обсуждать… Мне надо ехать, и все. Я надеялся, что вы поймете.
— Но тебе не обязательно ехать сегодня.
— Нет, обязательно. Я собирался охать сразу же, едва проснусь. С первым лучом зари, как говорится. Но потом передумал.
Она беспомощно провела рукой по воздуху.
— Ну, если обязательно… Другие юноши обходятся без…
— Мне надо успеть на дублинский поезд. Я пойду укладываться.
— …подобных выходок.
Несмотря на брюзгливость ее слов, я ощутил исходящую от нее волну жгучей радости, какого-то торжества.
— Я думаю, нам следует отправить его в автомобиле, не правда ли, Фредерик?
— Я предпочту поехать на поезде. Боюсь, мне придется попросить у вас денег, папа. Извините.
— Да-да, конечно.
Он взял газету и снова укрылся за ней. Руки у него дрожали.
Мать вытерла салфеткой уголок рта, убирая все следы особого меда и орехового сухарика.
— Ты был очень бессердечен, милый, но я тебя прощаю. Пойдем. Позволь, я уложу твои вещи.
Она встала, подошла ко мне и приложила прохладный палец к моей щеке. Я отмахнулся от него, как от мухи.
— Позволь, я помогу тебе.
— Я беру только зубную щетку.
— Какой ты смешной.
— Да.
Я встал.
Отец за газетой высморкался.
— Ну, — сказал он, — если ты решил ехать, то, конечно, чем скорее, тем лучше.
— Разумеется.
— Жаль, что ты не будешь на открытии сезона.
— Да.
— Для Мод я что-нибудь подберу. Давать ей Морригану ни в коем случае не следует. Она разорвет ей весь рот. Возможно, я возьму ее сам.
— Я был бы очень рад.
— Мммм.
Он внезапно встал и пошел к двери.
— Твой дед был военным. Не могу сказать, чтобы это ему что-нибудь дало. Когда соберешься, я буду у себя в кабинете. Ты решительно отказываешься от автомобиля?
— Решительно.
Я слышал, как он прошел через холл. Я слышал, как он открыл и закрыл дверь кабинета.
— Я так тобой горжусь, — сказала мать у меня за спиной.
Я засмеялся и пошел наверх укладываться.
Уложив зубную щетку и белье в коричневый кожаный чемоданчик, я сел на край кровати. Во все ящики и в высокий шкаф красного дерева положат нафталинные шарики, потом забудут открыть окна, и вскоре комната станет безликой. Что к лучшему. Если я когда-нибудь и вернусь в нее, то совсем другим человеком. Открылась дверь, и вошел отец. Он секунду смотрел на меня, а потом сказал:
— Мне необходимо кое-куда съездить.
Я кивнул. Он протянул мне пачку банкнот.
— Да. Необходимо съездить. Одно непредвиденное обстоятельство.
— Ну, конечно, папа.
— Возьми. Это все, что сейчас есть в доме. Но я пришлю тебе еще.
— Спасибо.
Я взял деньги и продолжал держать, не зная, что с ними делать.
— Не ограничивай себя. Все, что тебе понадобится…
— Спасибо.
— Мне надо уехать. Я не в силах сидеть здесь и ждать.
— Я понимаю.
— Твоя мать захочет проститься с тобой наедине. Я настаиваю, чтобы ты был с нею ласков.
— Хорошо.
— Спрячь деньги как следует. Ты их потеряешь.
Я сунул пачку в карман пиджака.
— Не потеряю.
Он опустил два пальца в карман жилета и извлек свои золотые часы.
— Ни тебе, ни мне сентиментальность не слишком идет. Будем считать это данью традиции. Часы моего отца. Балаклава и прочий вздор. Возьми их, ради бога возьми. Он великолепно ездил верхом. Настоящий великан. Солдатом он, я убежден, был никудышным. Во всяком случае, умер он в своей постели. Теперь они твои. А мне карманные часы больше ни к чему. Весь дом полон настенных и напольных, черт бы их побрал. Тикают повсюду. Спрячь их.
Они были теплыми. Хранили теплоту его тела. Я положил их в тот же карман, что и деньги.
— Мой охотничий костюм я отдал бы Чарли Бреннану и сделал бы его доезжачим.
— Бреннану?
— Он ничем не хуже остальных.
— Хорошо, я подумаю. Ну, и… Ты уложил вещи?
— Только зубную щетку. Какой смысл…
— Разумеется.
— Жаль, конечно, пропустить начало сезона.
— Наверстаешь в будущем году.
Я нагнулся, взял чемоданчик и протянул ему руку.
— До свидания.
Он пожал ее.
— До свидания, мой мальчик. Не слишком… э… увлекайся всякими глупостями.
— Я буду писать.
— Да. Извини, что я тебя не провожаю.
Я ушел, а он все стоял там.
Мать ожидала меня в гостиной. Едва я вошел, она протянула мне навстречу руки великолепным театральным жестом. Я направился к ней. Пол словно растянулся на милю. Наконец я оказался перед ней, и ее руки, как две птицы, вспорхнули мне на шею, и она притянула мое лицо к своему. Я поцеловал одну щеку, потом другую. Но она продолжала держать меня. Я поднял руку и расцепил ее пальцы. Глаза у нее светились синим торжеством.
— Ты приедешь навестить нас в мундире, не правда ли?
— Мама, перед отъездом мне необходимо сказать вам одно.
— Что же?
— О том, что вы сказали вчера вечером.
Она улыбнулась мне.
— Так говори же, милый.
— Я не верю вам. И никогда не поверю.
Она засмеялась.
— Поторопись, милый. Ты опоздаешь на поезд.
Я повернулся и пошел к двери. Обратный путь был не таким долгим. Она сказала мне вслед:
— Пиши! Непременно пиши! Я так буду ждать твоих писем.
В холле меня окружили слуги, пожимали мне руки, поглаживали по пиджаку. Миссис Уильямс, кухарка, всхлипывала в большой голубой платок. Да, новость разнеслась стремительно.
— Увидимся на рождество. — Больше я не нашел, что сказать, сбежал с крыльца и сел в автомобиль. Я опустил стекло, чтобы вдохнуть торфяной дым, чтобы успеть деть двух лебедей, покачивающихся на озерных волнах.
Далеко ль до Вавилона?Странная мысль для подобной минуты.
Сто три мили, говорят, сэр.Только эти строчки крутились в моем мозгу. Нелепый спотыкающийся стишок, которого я не слышал с детских лет.
Я туда успею к ночи?Пока мы ехали по аллее, перед нами все время вальсировали палевые листья каштанов.
И воротитесь назад, сэр.Следующие полтора месяца я провел на берегах Белфаст-Лоха, учась быть солдатом. Это походило на какую-то сумасшедшую детскую игру, только правила полагалось соблюдать со всей серьезностью. Джерри оказался прав: никому и в голову не пришло, что я могу быть чем-то, кроме офицера. Я отрастил усы, чтобы придать лицу хоть какую-то солидность, чтобы спрятать мой нежный детский рот, а может быть, просто чтобы иметь причину улыбнуться всякий раз, когда я смотрелся в зеркало. Ничего хоть сколько-нибудь заслуживающего упоминания не произошло вплоть до первого декабря, когда майор Гленденнинг прислал за мной и объявил, что на следующий день я отбываю с ним на фронт. Затем он долго сверлил меня взглядом над своим полированным письменным столом. Мне оставалось только сверлить его взглядом в ответ. Его лицо было словно обтянуто лакированной кожей, которую тщательно содержат в порядке. Его руки умели лежать перед ним на столе в полной неподвижности, словно были просто еще двумя принадлежностями письменного прибора. Он имел обыкновение откусывать крупными блестящими зубами кончик каждого слова, выходящего из его рта. Он выглядел человеком, который постиг все тонкости контроля над собой.
— Судьба послала мне, мистер Мур, — сказал он напоследок, — такой букет никчемностей, какого я в жизни не видел: неграмотные крестьяне, хулиганье и вчерашние школьники. Тем не менее я намерен сделать из вас настоящих солдат.
Я это уже слышал. На протяжении полутора месяцев он раз в неделю обрушивал на нас свои тирады. И я знал, что отвечать не следует.
— Сделать все возможное. Ничего другого нам не остается. Постройте своих людей ровно в девять.
— Есть, сэр.
Я не понял, отпустил он меня или нет. А он приподнял одну из своих рук со стола и что-то написал на листе бумаги. Потом снова посмотрел на меня или, вернее, сквозь меня.
— Вы откуда-то из-под Дублина?
— Примерно, сэр.
— По пути мы захватим там еще парочку никчемностей. Если хотите, можете часа на два съездить повидаться с родными.
— Благодарю вас, сэр, но я предпочту не ездить.
— Как угодно.
— Я предпочел бы обойтись без этого, сэр.
Он записал на листе еще что-то.
— Можете идти.
— Благодарю вас, сэр.
Когда я подошел к двери, он меня окликнул!
— Мистер Мур!
— Сэр?
— Будьте общительнее, мистер Мур.
— Общительнее, сэр?
— Я сказал именно это. Я слежу за вами всеми. И у меня создалось впечатление, что вы считаете себя выше остальных.
— Нет, сэр.
— В таком случае, почему вы не общительны?
— Я как-то об этом не думал, сэр.
— Не думали?
— Я не знаю, что сказать, сэр.
— Беда подобных войн в том, что в армию идут совершенно неподходящие люди. Бесхребетные.
— Мне очень жаль, сэр, если я подал вам повод к неудовольствию. Я был бы рад служить рядовым.
— Идиотизм.
Он разорвал лежащий перед ним лист и бросил в корзину для бумаг. У меня возникло ощущение, что он каким-то образом адресовал это движение мне.
— Просто возьмите себя в руки и общайтесь. Можете идти. Постройте своих людей в девять и помните, что я сказал.
Я закрыл за собой дверь. Капельки пота выступили у меня из-под корней волос и поползли по лбу. Дежурный сержант ухмыльнулся мне. Я вытащил из кармана платок и вытер лоб. Сержант подмигнул. Я кивнул ему, стараясь сохранить достоинство.
Джерри околачивался около двери. Я в первый раз увидел его не в строю с тех пор, как мы завербовались. Он отдал мне честь. Его постригли, заставили немножко подтянуться, но настоящим солдатом он не выглядел. Мы пошли рядом по дорожке к офицерской столовой.
— Ну, Алек?
— Как ты?
Он внимательно огляделся и только тогда сплюнул.
— Отправляемся завтра.
— Слыхал. По-твоему, мы вернемся домой к рождеству?
— Ха-ха!
— Вот и я так думаю.
— Как, по-твоему, будет там?
— Алек, старина, хуже, чем здесь, там быть не может.
— Вот и я так думаю.
— Ну, я пошел, не то потащут меня в военно-полевой суд за панибратство с офицером. Покедова.
Вопреки всем требованиям устава он засунул руки в карманы и позвенел монетками.
— До свидания, Джерри. Желаю удачи.
Он ушел, продолжая позванивать. Начался дождь. Крупные капли ударяли по лицу, рассыпаясь миллионами ледяных иголочек. Он побежал — тоже, наверное, нарушая устав. Бежать положено только во время атаки, причем прежде убедившись, что бежишь на противника, а не куда-то там еще, как никчемный трус. У угла здания он остановился и обернулся ко мне. Вытащив руку из кармана, он быстро провел ребром ладони по горлу. Приветствие, которое он придумал сам. Потом скрылся за углом. Я уже сильно промок.
Весь следующий день дождь лил не переставай.
В Дублине к нам присоединились еще сто солдат и двое субалтернов из третьего батальона. Сногсшибательного впечатления они не производили. Бедняга Гленденнинг, думал я, как вам грустно, что нынешние гунны явно не разбегутся при виде нас. Серые толпы стояли на серых улицах. То тут, то там какая-нибудь женщина призывала на нас благословенье божье. Мы были мокры насквозь, когда наконец добрались до парохода. Он задним ходом, как и тогда, когда я путешествовал с матерью, вышел из Кингстаунской гавани, а затем повернулся к войне кормой.
Бухта, охваченная кольцом холмов, вся в фестонах бледных мерцающих огней, была красива даже под низкими дождевыми тучами. Маяк Бейли вспыхивал, посылая предостережение и привет, Кингстаунский мигал в ответ. Над нами мяукали чайки. Они кружили и падали к серым, как небо, волнам. Далеко ль?.. Некоторые продолжали махать, пока от города не остался только светло-зеленый мазок, отраженный в тучах.
Мы понесли свои первые потери — какой-то несчастный дурак перерезал себе вены на руках еще до того, как мы высадились в Англии. Но больше ничего за время пути не произошло. Устав, правила и дополнительные правила. Каждому солдату был выдан экземпляр следующей инструкции с приказом хранить его в расчетной книжке — по-видимому, чтобы перечитывать в минуту искушения.
«Вас посылают за границу как солдата короля, чтобы помочь нашим французским друзьям отразить вторжение нашего общего врага. Вам предстоит выполнить задачу, которая потребует всей вашей храбрости, энергии и терпения. Помните, что честь Британской армии зависит от вашего личного поведения. Ваш долг — не только показывать пример дисциплины и стойкости под огнем, но также поддерживать самые дружеские отношения с теми, кому вы помогаете в этой войне. В новой обстановке для вас могут стать соблазном вино и женщины. Вы должны твердо отвергать оба соблазна и, обходясь с женщинами неизменно и безупречно вежливо, избегать какой бы то ни было близости. Мужественно исполняйте свой долг. Бойтесь бога. Чтите короля».
Бедный Джерри, подумал я, мое сердце разрывается от жалости к тебе.
Мы высадились в Гавре и из-за неразберихи с транспортом задержались там на несколько дней. Солдаты ворчали не переставая. Майор творил новые правила. Нам воспрещалось есть свинину в прифронтовой полосе, так как оставшиеся в живых свиньи — их было не слишком много, должен я прибавить — соблазнительно жирели на человечине. Английской. Французской. Немецкой. Свинье шовинизм чужд, и для розовой лопоухой свиньи все нации едины. Пейзаж был донельзя уныл. Мы забыли, что такое сухая одежда. В конце концов нас погрузили в поезд, а затем поздно вечером выгрузили в Байеле. Дождь лил не переставая. Последние десять миль до Вест-Утр мы прошли в ту же ночь по шоссе, вымощенному камнями побольше утиных яиц и скользкими от глины и лошадиного навоза. Середина шоссе, хотя и в рытвинах, казалась сущим раем в сравнении с обочинами, по которым мы были вынуждены брести почти все время, по лодыжки увязая в жидкой глине. А проносившиеся мимо тяжелые транспортные грузовики то и дело обдавали нас грязью. Солдаты, конечно, ворчали. Нашей базой стала — и осталась — небольшая заброшенная ферма. Ограда с высокими железными воротами укрыла нас от шоссе. Два сарая по сторонам двора заняли солдаты, в приземистом каменном доме разместились майор Гленденнинг, Беннет и я, а также унтер-офицеры и ординарцы. Было слышно, как в отдалении бьют тяжелые орудия, и время от времени справа раздавались винтовочные залпы — слишком близко, чтобы спокойно их не замечать. Иногда земля у нас под ногами содрогалась и немногие уцелевшие стекла дребезжали в рамах. По комнатам, разыскивая пропавших хозяев, бродила одичалая дворняга и, стоило зазеваться, хватала все съедобное, что попадалось ей на глаза. Солдаты пытались ее гладить и принимались бить, но она оставалась одинаково равнодушной и к ласкам, и к ударам, занятая одним: как бы выжить.
В Байеле к нам присоединился Беннет, молодой человек, казавшийся симпатичным. Хотя он был старше меня всего на несколько месяцев и только что приехал из Англии, держался он с таким видом, словно все это давным-давно знает, и крепко стоял обеими ногами на земле. Мы делили крохотную мансарду — нередко с дворнягой, подбавлявшей тяжести в и без того тяжелую атмосферу, которая ни мне, ни ему не доставляла особого удовольствия, хотя у нас не хватало энергии принять какие-нибудь меры. Стекло в единственном оконце уцелело, и еще там был очаг, который наш денщик ежедневно топил. Дымил очаг невыносимо, но, по крайней мере, мы могли обсушиться.
На третье утро внезапно засияло солнце. Мы вышли во двор и посмотрели на него.
— А оно настоящее, — сказал Беннет.
— Только не очень греет.
— Это было бы уж слишком. А я знаю, где можно раздобыть пару лошадей.
— Не глупите, Беннет. Майор Гленденнинг не разрешит нам верховых прогулок.
— А кто ему скажет?
— Да, конечно.
Я вспомнил про Джерри.
— Раздобыть трех вы не можете?
— А почему?
Это было одно из любимых его выражений. Его невозмутимый юный английский голос ставил под вопрос все. Ответами он, в сущности, не интересовался: ему важно было задать вопрос.
— У меня есть друг.
— Все ясно. Будет очень весело.
Он исчез. Я вышел за ворота и направился туда, где несколько солдат возводили мощные земляные сооружения — во имя дисциплины, для поддержания боевого духа и чтобы как-то убить время.
— Можно мне примерно на час забрать рядового Кроу? — спросил я у командовавшего ими сержанта.
— Можно. Кушайте на здоровье.
Ему бы и в голову не пришло ответить так не то что майору, но даже Беннету. Он повернулся к солдатам.
— Кроу, бездельник, отлепи задницу от глины, да поживей. Тебя требует мистер Мур.
Джерри вылез из ровика и отдал честь. Я повернулся и зашагал прочь как мог быстрее. Он почти бежал за мной, чтобы не отстать.
— У меня есть лошади.
— Кошки-мышки!
Мы прошли мимо ворот, удаляясь от бдительного ока майора Гленденнинга и ротного старшины, который не питал ни малейшего уважения к младшим офицерам.
— Настоящие лошади?
— Погоди, и увидишь.
— Как это ты ухитрился?
— Влиятельные друзья.
Он сплюнул. Я смотрел на него, и мне было хорошо, как уже давно не было. Из-за угла выехал Беннет, ведя на поводу двух гнедых.
— Кошки-мышки! Ну, кошки-мышки!
— Ваш друг? — спросил Беннет, останавливаясь возле нас.
— Джерри Кроу. Лучший наездник графства Уиклоу. Посадки, конечно, никакой. И все-таки самый лучший.
Беннет невозмутимо нагнулся с лошади и протянул Джерри руку. С этой минуты я проникся к нему теплым чувством.
— Беннет.
Джерри пожал ему руку.
— По великой английской традиции, — сказал я, садясь на лошадь, — крещеного имени у него нет. Только фамилия.
— Мы же все знаем, что англичане — нехристи. Так что я не удивляюсь.
— Ну, так в седло, и поехали, пока кто-нибудь не решил, что мы ему совершенно необходимы, чтобы накопать еще нужников.
Мы последовали за ним по дороге. Он словно бы знал, куда едет. Потом мы свернули прямо в поле, где три-четыре крестьянина вскапывали и перекапывали землю длинными плоскими лопатами. За полем начиналась гряда холмов, кое-где украшенных грустными зимними деревьями. Беннет кивнул на холмы.
— Хотите посмотреть на спектакль?
— Какой спектакль?
— Не важно. А ну, за мной, за мной, за мной!
Он пришпорил лошадь и понесся вверх по длинному склону. Мой скакун трепетал от удовольствия. В ноздри мне ударил чудесный запах его пота. Джерри крякнул и промчался мимо меня, низко пригибаясь в седле, как жокей. На твердой земле за полем весь мир слился в перестук конских копыт. Мы свернули вправо и взлетели на гребень холма. Там Беннет остановился. Он взглянул на Джерри и широко усмехнулся.
— Наш общий друг был совершенно прав в оценке вашей посадки. Джентльменом в седле вас никак не назовешь, но на любых скачках я поставлю на вас.
— Я на джентльменов в седле плевать хотел.
— Правильно, — сказал Беннет. Он отвернулся и посмотрел на распростертую перед нами равнину. Вытянув руку, он указал длинным худым пальцем:
— Обещанный спектакль, господа.
Небо было необъятно. По нему величаво плыли большие белые облака, зачерненные снизу дымом, который поднимался от земли. Слева от нас ипрский собор обвиняюще уставлял в небо свои шпили. А за городом далеко-далеко, на самом горизонте, появлялась и рассеивалась цепочка белых пуховочек, служа задником серой искореженной равнине. Ближе справа били тяжелые пушки, и серый дым смерчами поднимался к облакам. Кое-где весело пылали фермы. И ничего живого. Из-за какого-то каприза ветра грохот канонады доносился до нас легким рокотом, так что лошади даже ушами не передернули.
— Кошки-мышки! — сказал Джерри.
— Дивный спектакль, а?
— По-своему это почти красиво.
— Игры.
— О, да.
— На такую игру я предпочел бы смотреть со стороны, — сказал Джерри.
— Ну, не знаю. — Голос Беннета был задумчив.
Мы не могли оторвать глаз от прихотливо меняющихся узоров дыма и облаков. Моя лошадь устала ждать, сердито ударила копытом о землю и тряхнула головой, зазвенев уздечкой. Я вдруг заметил, что совсем замерз.
— Да, я бы предпочел смотреть со стороны, чем участвовать в этом, а вообще-то я бы предпочел быть дома, — сказал Джерри совершенно серьезно.
— А почему?
— Чего спрашивать-то?
— По-моему, во всем этом есть что-то великолепное. И ведь можно стать героем. Ну, не заманчиво ли?
— Не очень.
— Я замерз, — сказал я им.
— Следовательно, и у вас это зрелище не воспламеняет крови?
Он повернул лошадь, и мы поехали поперек склона.
— Нигде ни движения.
— А мне-то с детства внушали, что вы, ирландцы, большие романтики.
— Во всем этом нет ничего, хоть отдаленно смахивающего на романтику, — и меньше всего в мысли, что мы в любую минуту можем оказаться там.
— Жаль-жаль.
Джерри сплюнул.
— А знаете, — сказал Беннет, — моя жизнь до сих пор была невыносимо скучной. Раз и навсегда заведенный порядок. Куда ни взглянешь — раз и навсегда заведенный порядок. И ничего лучше со мной еще не случалось: я либо стану героем, либо погибну.
— Смерть надежнее, — сказал я.
Он засмеялся.
— А еще мне про вас говорили, что все вы — циники. Может быть, вы признаете, что хоть это правда.
— Может быть.
— Смерть, по крайней мере, сулит тайну.
— Как и завтрашний день.
— Чушь, молодой человек. Ничего он не сулит, кроме разочарования. — Он посмотрел на Джерри, который легкой рысцой ехал впереди. — Друзья?
— Да, друзья.
— Как же так?
— К черту ваш английский снобизм.
— По-моему, вы добавляете эпитет «английский» ко всему, что вам не нравится.
— Не исключено. Это вырывается само собой. По-видимому, нам надо узнать друг о друге еще очень много.
— Вы просто добавочный мешок в Бремени Белых.
Я зло усмехнулся. Шутки порой заходят слишком далеко. Беннет принадлежал к тем, кто не умеет вовремя остановиться. Смерть или геройский подвиг. Джерри перешел на шаг, и мы его нагнали.
— Скажите, Джерри, что привело вас в армию?
— Деньги.
Беннет онемел.
— Деньги, а то что же. А он, — кивок в мою сторону, — пошел в армию потому, что его мамочка захотела от него избавиться. Теперь вам известна вся подноготная.
Я почувствовал, что краснею. Вид у Беннета был ошарашенный. Это, по-видимому, не укладывалось в раз и навсегда заведенный порядок. Я расхохотался.
— Вы… э… разыгрываете меня?
— Еще чего! Спросите у него.
Беннет посмотрел на меня.
— Это правда?
— В значительной мере… хотя, прошу заметить, сам я, мне кажется, ничего подобного вслух не сказал бы. Джерри умеет редкостно передергивать.
Джерри явно был доволен.
— Моя мать плакала. Да. Не то чтобы это было так уж неожиданно, однако…
— А моя ликующе заиграла Шопена, едва за мной закрылась дверь, — сочинил я. Но это было так вероятно! — Grande Valse Brillante.
— Дам-ди-да-да, дам-ди-и-да-да.
— Совершенно верно.
— Просто поразительно.
— Свечи и новены, — загадочно сказал Джерри.
— Что-что?
— Да мамаша. Свечи и новены. Отщелкивает на четках. Преклоняет к себе слух бедняги бога… Ах, кошки-мышки!
Все его тело напряглось.
— Вы только поглядите!
Его дрожащий от возбуждения палец указывал туда, где ниже по склону, за канавой, по которой текла бурая жижа, тянулось широкое поле. По полю, не торопясь, словно времени у нее было предостаточно, шла лиса, глупая, ни о чем не подозревающая французская лиса. Во мгновение ока мы взвились над канавой, как птицы взлетают летом с нагретых солнцем склонов. И она побежала. Слава богу, она побежала. А мы припустили за ней. Наверное, прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем она скрылась в норе посреди изрешеченной снарядами рощицы. От лошадей поднимался пар, мое сердце отчаянно колотилось. Обломанные черные деревья были совсем неподвижны. Они были мертвы, и мало-помалу в наше сознание вновь проникли звуки войны.
— Здорово было, верно?
Джерри подмигнул мне. Я засмеялся. Мы смеялись все трое. Беннет вытащил из кармана большой чистый платок и вытер лоб.
— Когда этот спектакль кончится, я, пожалуй, переселюсь в Ирландию.
Назад через поле мы поехали неторопливым шагом.
— Поселюсь возле вас, и мы вместе обучим Джерри посадке джентльмена.
— Как бы не так.
— Но вы же свертываетесь в клубок, дорогой мой.
— Зато обскачу вас, стоит захотеть.
— Не спорю. Но речь идет о форме, а не об исполнении.
Джерри сплюнул.
— Мы думаем завести небольшой конский завод. Мы с Джерри. Мы думаем…
— Мне эта мысль нравится. Отличная мысль.
— Эй, вы!
Из дыры в живой изгороди вынырнул низенький взбешенный майор. Та часть его лица, которую не прятали пышные усищи, была лиловой от гнева.
— Эй, вы!
— Сэр? — сказал Беннет и, натянув поводья, почти весело отдал честь.
— Спешиться! — рявкнул он на нас троих.
Мы вытянулись по стойке «смирно», и он несколько раз смерил нас взглядом с головы до ног.
— Что это вы себе позволяете, а?
Он гневно махнул в сторону холма. Я почему-то отметил про себя, что на руках у него митенки цвета хаки и пальцы торчат из них всего на два сустава.
— Я двадцать минут за вами слежу. Вы совсем сошли с ума?
— Мы… э… увидели лису, сэр.
Это сказал я, потому что они явно не собирались отвечать.
— Лису?
Он изумленно уставился на меня и несколько очень долгих секунд хранил молчание. Его пальцы пошарили в грудном кармане и извлекли записную книжку с карандашом. Ногти у него были темно-коричневые и слегка загибались над кончиками пальцев. Возможно, в своей прошлой жизни он был летучей мышью, хотя его зрение как будто отличалось незаурядной остротой.
— Да, сэр, лису.
— Фамилия?
— Мур, сэр.
— Полк?
— Королевский ирландский стрелковый, сэр.
— Ага. Следующий. Вы.
— Беннет, сэр. Откомандирован в королевский ирландский стрелковый полк, сэр.
Майор энергично писал.
— По-видимому, у них ощущается нехватка младших офицеров, сэр.
Кой черт тянет его за язык, подумал я. Зачем втягивать этого сукина сына в пустой разговор?
— Мне требуются только ответы на мои вопросы. Благодарю вас, мистер Беннет. Теперь вы.
— Рядовой Кроу, сэр.
Отвечая, он отдал честь.
— Почему этот солдат с вами?
— Мы… я позвал его с собой.
— Он… — Но Беннет тут же решил, что лучше не продолжать. Майор взглянул на него с уничтожающей любезностью.
— Вы что-то сказали, мистер Беннет?
— Нет, сэр.
— Так, пожалуй, благоразумнее.
Он дописал последние слова, закрыл книжку с сердитым щелчком, аккуратно опустил ее в карман, вложил рядом с ней карандаш и разгладил пальцем клапан.
— Полагаю, вы считаете, что прибыли сюда развлекаться.
— О нет, сэр! — В голосе Беннета было искреннее негодование. — Я хочу сказать…
— Проклятые школяры! И откуда у вас лошади?
— От одного приятеля, — неопределенно ответил Беннет.
Мне пришло в голову, что он их попросту украл, а вернее — позаимствовал на время.
— Разминка…
— Кто ваш командир?
— Майор Гленденнинг, сэр.
— Будьте уверены, я сообщу ему о вашем поведении. О вашей… вашем… — Его лицо стало почти фиолетовым, пока он подыскивал нужное слово и не находил его, — …поведении. Остальное решит он. Хотя, учтите, я буду рекомендовать… — Его голос пресекся, и он замолчал, глядя на нас. — А что до вас… — Он перевел взгляд на Джерри. Наступило еще одно долгое молчание. — Можете сесть в седло, — сказал он наконец. — И немедленно возвращайтесь к себе в роту.
Мы сели в седла и тронули лошадей.
— И будьте уверены… — Он выкрикнул это, нам вслед, когда мы уже выехали за дыру в живой изгороди и он остался на поле один.
— Скверно, — сказал Джерри немного погодя.
— Мне кажется, за удовольствия положено платить, — сентенциозно заявил Беннет. — Давайте рассчитывать на лучшее. Вдруг в добросовестного майора угодит случайная пуля. В конце-то концов тут каждую минуту убивают по человеку, так почему этот вредный бухгалтеришка должен стать исключением? Нет, почему?
— Такого я ни одному, пусть и сукину сыну пожелать не могу!
— Сентиментальность в подобных случаях неуместна.
Пошел дождь. Ветер дул нам прямо в лицо, и капли вонзались в кожу миллионами острых иголочек. Мы подняли воротники шинелей и скорчились в седлах на манер Джерри, пытаясь как-то согреться. У обочины валялась дохлая лошадь, и ее труп, вздувшийся от происходивших в нем химических процессов, был единственным зримым напоминанием о бойне вокруг. Рев канонады нарастал и стихал в отдалении. Но единственным звуком, доходившим до моего сознания, был ритмичный стук лошадиных копыт и поскрипывание седел.
— Ну, хорошо, — внезапно сказал Беннет. — Давайте мне лошадей. А сами возвращайтесь на ферму, и побыстрее. Прямо по проселку до шоссе.
Мы послушно спешились и отдали ему поводья. Он подмигнул.
— Все хорошо провели время?
— Замечательно.
— В таком случае не задавайте лишних вопросов. Скоро увидимся.
Он свернул через поле к купе темных деревьев.
— Бьюсь об заклад, он их просто свел.
— Я тоже так думаю.
— Здорово. Мне это по вкусу. Понимаешь, для англичанина очень даже неплохо.
Мы шли по проселку. Уже совсем стемнело.
— Ну, вот и еще один день прожили.
На следующее утро нас отправили на передовую.
Система была следующей: три дня мы проводили в окопах первой линии, затем на три дня отходили в окопы второй линии, после чего возвращались в окопы первой линии. Недели через две нас отводили на ферму отдохнуть дней пять-шесть. И снова на передовую. В то время в окопах первой линии нам ничего особенно не угрожало — наша артиллерия и гуннская били друг по другу через наши головы. Главную опасность для нас представляли снайперы, так как бруствер во многих местах был высотой всего три фута, а стоило вашей голове хоть на миг мелькнуть над ним, последствия могли оказаться самыми скверными. В окопах второй линии нас в любую минуту мог разорвать на клочки шальной вражеский снаряд. Снаряды падали у нас за спиной, взметывая гигантские фонтаны земли, камней, веток и кровавых лоскутьев, оставшихся от лошадей и людей. Все это омерзительным дождем сыпалось на нас. А мы главным образом занимались тем, что подправляли окопы, удлиняли их, наращивали брустверы и пытались получше засыпать трупы, которые плохо засыпали те, кто был тут перед нами.
Окопы эти вырыли французы, и одно время они, несомненно, были местом тяжелых боев, но с тех пор успели превратиться в сточные канавы с жидкой глиной, мусором и нечистотами на дне. Ходить по этой грязи было почти невозможно, а высыхая, она облепляла сапоги толстой коркой, тяжелой и цепкой, как цемент.
Нет смысла утверждать, будто я не боялся. Днем и ночью мои ладони были липкими от пота. Пот все время сочился из-под корней волос и холодными полосками высыхал на лбу и шее. Но потеть меня заставляла не мысль о смерти: бывали минуты, когда умереть казалось желаннее, чем жить. Нет, я боялся, что как-нибудь проснусь, и окажется, что я тупо смирился с нелепой гнусностью нашего существования. Мы с Беннетом делили блиндаж высотой около шести футов и длиной около восьми. Под наши спальные мешки, которые мы называли блошниками, была подстелена относительно сухая солома, и она шуршала всю ночь напролет, словно армии каких-то тварей вели в ней непрерывные наступления и контрнаступления. Беннет обладал завидной способностью засыпать в любое время суток. Он лежал на шуршащей соломе с закрытыми глазами, чуть полуоткрыв рот, точно уморившийся беззаботный ребенок. Я ложился потому, что ноги отказывались меня держать. Я знал, что обязан отдохнуть, но засыпал с большим трудом, а заснув, через минуты две — так, по крайней мере, мне казалось — просыпался, разбуженный кошмаром. Может создаться впечатление, что мне было жаль себя. Да, было. Я выработал систему, как дотягивать до конца каждого дня: требовалось сосредоточиться на собственных неудобствах и мелких невзгодах так, чтобы ни для чего другого места уже не оставалось, исключая выполнение служебных обязанностей. Это было искусство не видеть ничего дальше кончика собственного носа, и, во всяком случае, с помощью этой системы мне удавалось держаться. От холода руки у меня всегда легко покрывались болячками, но теперь болячки обсыпали не только пальцы на руках и ногах, но и икры обеих ног там, где их терли сапоги. Я позволял боли всецело овладевать мной, надеясь, что стану слеп ко всему остальному.
Бесконечные кружки чая, сдобренные ромом, помогали согреться и тупо ни о чем не думать. Как-то вечером Беннет посоветовал мне обтирать ромом ноги.
— Безотказная панацея. Обеззараживает и обезболивает. Вот увидишь, поможет гораздо лучше, чем дрянь, которую дал тебе врач.
— Ты, полагаю, шутишь.
— Какие шутки в такое время? Нет…
— Пожалуй, я предпочту принимать эту панацею внутрь.
Беннет зевнул.
— От такого соседа толку не больше, чем от сурка.
Он засмеялся.
— А что? Обход ты уже сделал?
— Пойду через четверть часа. Кому-то сейчас туго приходится. Фейерверк нынче редкостный.
Он лежал на своем блошнике, заложив руки за голову, а мой набросил себе на ноги для тепла.
— Чаю? — спросил я.
— Пожалуй. Я стремительно становлюсь чаеманом. Это будет двенадцатая кружка за день, не меньше. А он такой тошнотворный.
Я высунул голову за дверь. Наш денщик скорчился под низким парапетом из мешков с песком. Его лицо было обращено к небу и на миг вдруг стало пронзительно зеленым, замерцало и вновь ушло в черноту.
— Пожалуйста, чаю.
Мы, моргая, смотрели друг на друга, ослепленные этой сменой света и тьмы.
— Есть, сэр.
— А без сахара не выйдет?
— Для вас, сэр, постараюсь, но на вашем месте я бы особенно не рассчитывал.
— Ну, сделайте, что сможете.
Я вернулся и сел на солому рядом с Беннетом. Его глаза были закрыты. Пол у нас под ногами непрерывно вибрировал и время от времени из-под наката стекала струйка черной земли.
— Может, мы скоро что-то начнем. Вот потому и палят. Чтобы обескуражить противника. А может, это они нас обескураживают. Чудесная мысль…
— Начнем? — Он не открыл глаз и говорил словно бы сквозь сон.
— Наступление. Ну, хоть что-нибудь.
Он усмехнулся.
— Я люблю тебя, Алек. Люблю простоту, с какой ты мыслишь. Очень-очень люблю.
— Рад, что даю тебе возможность посмеяться.
— Мы проторчали в окопах восемь дней, и вот ты рассуждаешь, что, может, мы пойдем в наступление или на нас пойдут в наступление. Не хочешь ли восемь месяцев, старина? — Помолчав, он открыл глаза и посмотрел на меня. — Восемь лет! — Он внезапно приподнялся и сел, вызвав подозрительную суматоху в глубине соломы. — Мы просидим тут вечность, если им вздумается. Жирным толстякам у нас дома. Мы пойдем в наступление или на нас пойдут в наступление тогда, когда они — или их приятели в Берлине — сочтут это нужным. Война кончится, когда они захотят, чтобы она кончилась. Или же будет продолжаться вечно, если им так будет удобнее.
— Ты преувеличиваешь, Беннет. Насмотрелся скверных снов.
— Дрессированные собачки. Вот что мы такое. Щелкает хлыст, кто-то произносит магическое слово la Patrie, la Gloire, das Vaterland[17], никогда, никогда англичанин не будет рабом, и дрессированные собачки кидаются со всех ног убивать друг друга…
— Ну, а как насчет того, чтобы стать героем? Что-то ты не оставил для этого места.
— За последние дни я пришел к мрачному выводу, что скорее всего бесславно погибну от скоротечного загнивания ног. Смерть длительная и грязная.
Вошел О’Киф с двумя кружками чая.
— Без сахара, сэр, не вышло.
— Что поделаешь, О’Киф.
— Такова система, — сказал Беннет.
— Верно, сэр. Сахар кладут вместе с чаем. Вперемешку.
— Всем дрессированным собачкам положен чай с сахаром.
— Верно, сэр. Мне-то это в самый раз. Я сахар всегда уважал. Идете в обход, сэр?
— Да.
— Поберегитесь крыс. Говорят, нынче ночью они точно взбесились. Окопы дальше по линии заливает, вот они все и плывут сюда.
— Превосходно, — сказал Беннет. — А то экземпляр в нашей соломе затосковал от одиночества.
— Вы мне больше не нужны, О’Киф. Попробуйте уснуть, если сумеете.
— Есть, сэр.
Он отдал честь и ушел.
Я вытащил из кармана фляжку с ромом и протянул ему.
— Панацея.
— Не отрицаю: иногда у тебя бывают проблески здравого смысла.
Он плеснул рому в кружку. Его ноздри затрепетали от удовольствия, когда пар обрел приятный ромовый запах. Он вернул мне фляжку, я встряхнул ее и сунул в карман.
— А сам не пьешь? Почему бы?
— Берегу для Джерри. Там дьявольски холодно.
— Мммм. А знаешь, Алек, это странно.
— Что именно?
Чай действительно был тошнотворным — переслащенный и перекипяченный. Во рту от него оставалось липкое ощущение. Мне на миг представился китайский чай в тонких чашечках, ломтик лимона, плавающий в бледном золоте. Аромат элегантности, незыблемости. Пальцы, бледные и хрупкие, как фарфор.
— Ты нравишься солдатам. И естественно: ты справедлив, внимателен к ним и добр. Вы все явились сюда из разных уголков одного болота. Но они за тобой не пойдут. В долину смерти и так далее. Я им не нравлюсь — что меня, впрочем, мало трогает, — и за мной они тоже не последуют. Единственный, кто заставит их забыть о себе и в нужную минуту побежать в нужном направлении, это Гленденнинг. Видишь ли, собачки доверяют тем, кто щелкает хлыстом. Пожалуй, я научусь быть таким.
Он снова растянулся на соломе и закрыл глаза.
— Нет, ты говоришь поразительные глупости!
Мне показалось, что он засыпает. Одна его рука прижимала дымящуюся кружку к груди, другая расслабленно вытянулась вдоль бока.
— Что ты видишь, когда закрываешь глаза?
— Точки. Миллионы точек, словно разноцветные звезды.
— Ты буквален. Ты правдив. Ты идиот. Я вижу, как рабы восстают на своих господ, а потом… знаешь что?
— Что?
Я прикидывал, как бы сдернуть с его ног мой спальный мешок. Сырость соломы просачивалась сквозь брюки, и мои ягодицы неприятно стыли.
— На улицах будут песни и танцы. Упоение великими свершениями, цветение всего, что прекрасно, устремление к совершенству, а потом — пфф!
Он слегка наклонил голову к груди и осторожно отпил чай.
— Ты рассуждаешь что-то очень темно. Когда у меня закрыты глаза, я вижу точки.
— Пфф!
Я протянул руку и сдернул с него мой спальный мешок. Его ступни под коростой грязи были очень костлявыми.
— Пфф! Умные дрессированные собачки подбирают хлысты, обучают остальных всяким новым штукам, и представление начинается вновь. C’est la чертова vie[18]. В сущности, даже забавно.
— Не понимаю, зачем ты берешь на себя труд жить дальше?
— Мне кажется, если трезво оценить ситуацию, жить мне осталось что-нибудь от двух минут до полутора месяцев. Зачем же зря тратить пулю, которой можно найти применение получше? Если ты не намерен подстелить блошник себе под задницу, то, будь другом, укрой мне ноги.
Я засмеялся и укутал ему ноги.
— От них воняет.
— Ничего. Вот вернемся в Вест-Утр, и я их вымою. И сменю чертовы носки.
— А заодно и выстираешь их.
— Не думаю. Эта пара у меня больше особой любви не вызывает.
— Так сверни их потуже и запули в гуннов. Новое секретное оружие.
— Попробую предложить майору. А еще капельки не уделишь?
— Нет…
— Т-ч-ч-ч.
Он поднес кружку к губам и сделал еще глоток. Из всех, кого я знал, только он умел пить, лежа на спине. И получалось это у него очень изящно. Догадаться, о чем он думает, было невозможно. Даже когда он разговаривал или пускался в путаные рассуждения, его лицо было, как чистый лист бумаги, и ничего вам не подсказывало.
Допив чай, я надел шинель и фуражку. Он больше не открывал глаз и ничего не говорил, танцуя на улицах с восставшими рабами.
Я выбрался из блиндажа и отправился в обход.
Канонада немного стихла. Солдатам было не о чем докладывать. Джерри был один в дальнем конце окопа. Настил там совсем сгнил, и он стоял по колено в воде.
— Все в порядке?
— Угу. Слава богу, перестали грохотать, пусть ненадолго. Я уж думал, что оглох.
Я протянул ему фляжку.
— Спасибо. Вот друг так друг.
Он отпил и хотел вернуть мне фляжку.
— Допивай. Это все для тебя.
Он кивнул и стиснул фляжку в кулаке, сберегая ром на последнюю минуту.
— А лебедей помнишь? Ну, на озере? Да ты знаешь.
— Конечно, помню. А почему ты о них заговорил?
— Тут пролетела пара. Как раз когда наступило затишье. Я услыхал хлопанье их крыльев. — Рука с фляжкой описала дугу в сторону Ипра. — Они туда полетели. Совсем низко. Футах в пятнадцати над землей, не больше. Настоящие лебеди.
— Тебе сегодня много лишнего мерещится. Как и Беннету. Вы оба понемножку свихиваетесь.
Он быстро отпил из фляжки.
— Черт! Самое оно. Нет, ум за разум у меня еще не зашел и лебедей я всегда узнаю. Хлоп, хлоп, хлоп — точно простыни на ветру.
Справа что-то вспыхнуло, и к облакам метнулся столб искр и света.
— Ну и бьют! — сказал он. — Сегодня они бьют по-настоящему, кошки-мышки. Авось мамаша молится усердно.
Я засмеялся.
— Фабриканты церковных свечей, наверное, неплохо зарабатывают. Набили полные карманы.
— Приятно думать, что хоть кому-то есть от этого польза.
Он сплюнул, чуть не попав в меня, что мне вовсе не понравилось.
— Черт бы побрал твои пакостные крестьянские привычки.
— И черт бы побрал твои пакостные барские замашки. Бери! — Он сунул флягу мне в руку. — Допьем вместе.
Допивать было почти нечего. Только рот сполоснуть.
— Как поживает твой Беннет?
— Когда я уходил, досматривал сны о мировой революции.
— Нам надо его держаться. У него хватит смекалки оказаться на стороне тех, кто победит. Живо ее в карман. Кто-то идет!
Он утер рот ладонью и отвернулся от меня. Я спрятал фляжку.
— Добрый вечер, сэр! — Я тоже утер рот, отдавая честь.
— Все в порядке, мистер Мур? — Это был майор Гленденнинг.
— Да, сэр. Как раз возвращался, чтобы доложить.
— Барри сказал, что вы пошли в этом направлении довольно давно, и высказал опасение, что с вами что-то случилось.
— Ничего, сэр.
Сержант Барри недолюбливал младших офицеров.
— Кто этот солдат? Кто он, Барри?
— Кроу, сэр.
— Совершенно верно. Рядовой Кроу, — тупо повторил я.
— А!
Наступило долгое молчание.
— Все в порядке, Кроу?
— Чудесно, сэр.
Барри втянул воздух сквозь зубы, чуть присвистнув.
— Сержант, присмотрите, чтобы тут как можно быстрее восстановили настил. Иначе этот окоп невозможно будет использовать. Просто позор, что его довели до такого состояния.
— Тогда бруствер станет недостаточным, сэр.
— Чушь. Если солдаты не хотят, чтобы им снесло головы снарядом, пусть держат их пониже. Однако в случае атаки тут невозможно будет передвигаться. А солдатам необходимо передвигаться. Это крайне важно, сержант. Что толку от солдата, увязшего в грязи?
— Я пригляжу, сэр.
— Значит, все в порядке, Кроу? Молодец. Будьте внимательны. Мне надо поговорить с вами, мистер Мур.
Я пошел за ним по окопу к его блиндажу. У него был стол и стул, а его солома выглядела чуть более сухой, чем наша. Он снял перчатки и аккуратно положил их на стол рядом с кипой бумаг. Как почти все офицеры, сабли он не носил, а всегда ходил со стеком, который тут же пускал в ход, если возникали какие-нибудь неприятности с рядовыми. Теперь он бросил его вместе с фуражкой на солому и начал расстегивать шинель. Пальцы у него не гнулись, не то от холода, не то от артрита, и пуговицы их не слушались. Шинели он так и не снял, но когда сел, то плотно запахнул ее на ногах для тепла. В заключение он поглядел на меня.
— Да, — сказал он.
Я ждал, надеясь, что он задержит меня недолго. На мои плечи навалилась огромная усталость.
— Да, — повторил он, переплетя перед собой пальцы. — Кто вам этот парень?
— Простите, сэр?
— Как его там? Кроу. Барри докладывал мне, что вы разговариваете с ним.
— Ну-у… да, сэр… иногда.
— Так кто же он вам?
Слова разделялись короткими четкими паузами, и вопрос прозвучал зловеще.
— Мы с ним земляки. Я знаю его с…
— Раз и навсегда: я не потерплю разговоров между солдатами и офицерами. Никаких разговоров. Вы понимаете, что я имею в виду?
— Ну…
— Так потрудитесь понять. Дисциплина превыше всего! Строжайшая безличная дисциплина. Всегда и во всем. Ничего другого я в моей роте не потерплю.
Он замолчал и посмотрел на меня; его глаза на сером лице превратились в узкие сердитые щелки.
— Вы все — дилетанты. Я сделаю из вас профессионалов. Для меня вы только одно — солдаты. Остальное не имеет значения. Щадить я никого не буду. Вы поняли?
Я кивнул. Мой голос куда-то пропал.
— Я не просил, чтобы мне навязывали ораву проклятых болотных ирландцев. У меня один выход: делать все, что в моих силах. Вы все должны научиться воевать. Вы будете учиться, так?
— Да, сэр.
Он расцепил руки и положил их плоско ладонями на стол. Несколько секунд он рассматривал свои морщинистые пальцы.
— Это относится и к вашему приятелю Беннету. Можете передать ему, что я не потерплю никаких глупостей. Что-то там было с лошадьми. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Ну…
— Я не стал слушать. Он болван. Но больше чтобы этого не было. Больше никаких историй. Если вы дадите мне возможность, я сделаю из вас солдат, настоящих мужчин. Если же вы будете валять дурака, то убедитесь… Я уже сказал, что щадить никого не буду.
Его рука потянулась к бумагам. Он мне не нравился, но я понимал его точку зрения. Я застыл в стойке «смирно», руки строго по швам.
— Идите, — сказал он.
Я отдал честь. Когда я шагнул к двери, он снова заговорил:
— Поверка в шесть тридцать. В десять нас должны сменить, и я не хочу, чтобы сменяющая нас рота десять следующих дней барахталась в нашей грязи. Вы поняли?
— Понял, сэр.
Дней через пять-шесть я лежал на своем матрасе в Вест-Утр. Мне было тепло, и я вдыхал запах жарящейся грудинки. Пушки били где-то далеко и лишь временами. По крыше оглушительно барабанил дождь, но это было даже приятно. А главное — кто-то жарит грудинку, и скоро мы будем ее есть, запивая большими кружками сладкого чая. Уже давно стало непреложным правилом ни в коем случае не заглядывать дальше текущей минуты, дальше, собственно говоря, грудинки.
— Сегодня — лошади, — сказал Беннет.
Он был такой: только что спал, уютно и взрывчато похрапывая, а мгновение спустя сна уже ни в одном глазу и полностью вернулся к делам дня.
— Грудинка! — добавил он блаженно.
Было еще так темно, что я его не видел, но каждое его движение на матрасе доносилось до меня, словно усиленное рупором.
— Пусть тебя черт возьмет вместе с твоими лошадьми!
— А почему?
— Сам прекрасно знаешь, «а почему»!
— Мне надо проехаться верхом. Колени просто чешутся. И меня не запугает этот… этот, ах, этот… Другие же, черт побери, катаются!
— Он категорически запретил…
— Все уже устроено, и Джерри согласен. Следовательно, все твои возражения побоку.
Я встал, зажег лампу и приступил к ежедневному осмотру своих болячек. Врач дал мне для них легкую белую присыпку, которая подсушивала открытые язвы, и за несколько дней на ферме они заметно зажили, но еще далеко не прошли, а чесались так, что доводили меня до исступления.
— Хоть все и устроено, из этого не следует, что я должен ехать с вами. — Он ничего не ответил, и я начал снимать первый бинт. Свободный конец я аккуратно наматывал на два пальца. Местами бинт прилипал к коже, и я сильно дергал, чтобы его отодрать, сдирая заодно подсохшую корочку с язв. На глаза у меня навертывались бессильные детские слезы, потому что я вынужден был сам причинять себе эту пронзительную боль.
— Но я поеду.
— Угу. — Он нисколько не удивился.
— Если ты считаешь, что нас не застукают.
— Безусловно.
Он вылез из блошника совсем одетый, только без сапог и кителя.
— Воды! Э-эй, воды! — крикнул он, сцепил руки и по очереди пощелкал всеми суставами пальцев. Меня затошнило. На лестнице послышались шаги.
— Мне трудно нарушать правила.
Я положил бинт на матрас рядом с собой и нащупал в ранце присыпку.
— Правила! — повторил он презрительно.
Я встряхнул голубую жестянку, и присыпка облачком опустилась на мою ногу. На ней по всей икре и до щиколотки поблескивали кровь и гной.
— Я бы ее отрезал, — сочувственно посоветовал Беннет. — Может, тогда бы тебя отправили домой.
— А, заткнись!
Дверь открылась, и вошел О’Киф с кувшином горячей воды.
— Доброе утро, сэр, и вам, сэр, обоим.
— Доброе утро! Налейте в тазик, пожалуйста. Не слишком расщедрились, а? Оставьте чуточку в кувшине для зубов. У меня сегодня настроение почистить кусалки.
— Как скажете, сэр.
Он осторожно налил воду в тазик, поставил кувшин на стол рядом с тазиком, отдал честь и вышел. Беннет подошел и поглядел на воду без малейшего удовольствия.
— Просто как в школу вернулся. Правда, тут хоть вода горячая. А там обходись холодной при открытых окнах, и улыбочки: это вам очень полезно. Вот чего ты лишился, старина. Школа учит здоровому пренебрежению к властям и, пожалуй, ничему больше. Голову, конечно, набивают книжной премудростью, только чего она стоит? И еще крикет. Вот это — цивилизованная игра.
— У нас в крикет по-настоящему не играют.
— Еще бы! Я же сказал, что это — цивилизованная игра. И запомни: чем больше будешь отличаться в крикете, тем дальше пойдешь.
— Я не хочу идти далеко.
— Ну, об этом ты судить не можешь, пока не пойдешь.
Он намылил лицо и полоску шеи над воротником, а потом начал тыкать и растирать их сильными худыми пальцами.
— Я буду чист! Я буду! Буду! — Это звучало, как заклинание. Он нагнулся и уставился на свое клоунское лицо в мутном зеркальце, которое О’Киф повесил для нас на степу. Глаза у него были красные. И у меня глаза были красные. И у всех на мили и мили вокруг глаза были красные. Я раздумывал, использовать ли еще раз старый бинт, смотреть на который было довольно противно, или израсходовать один из моего бесценного запаса чистых. Я решил, что сначала поем, а там видно будет.
— Десны кровоточат, черт их дери. И так было всегда. В школе мы выстраивались шеренгой. Шварк, шварк щеткой! Тьфу! И мало у кого из десен не шла кровь. В сущности, странно. Вот еще одно, чего ты не узнал о своих братьях людях.
— Ничего! Успею узнать от тебя. Если уцелеешь, так узнаю.
— Учитель анархии при кротком консерваторе. Ну и ролька!
Я покраснел.
— Идиот! Я же не тори, я сторонник гомруля.
Он взвыл от смеха.
— И что же это за штука, скажи на милость?
— Сам знаешь не хуже меня.
— Никчемная политическая группа, род примочки.
— Парнелл…
— …скончался. И в любом случае… — Он умолк и вытер лицо безнадежно серым полотенцем, потом повернулся ко мне. — В любом случае толку от него не было никакого. Дал себя убить. Что это за человек!
Он бросил полотенце на пол, подошел ко мне и тихо положил ладонь мне на голову. Нечто среднее между лаской и благословением.
— Вот уж не думал, что буду восхищаться кротостью в мужчине. — Он опустил руку. — Только пойми меня правильно. — Лампа начала коптить, и я машинально протянул руку, поправляя фитиль. Он стоял рядом со мной, застыв без движения. На левом мизинце он носил золотой перстень с печаткой. Перстень казался слишком тяжелым для его тонких косточек. — И не суди неверно. — Он резко отошел. На шаг. Его губы чуть улыбались. Я ничего не сказал, но только потому, что не знал, что сказать, а минута была такой, когда говорят самое верное… или молчат.
Он пошарил в кармане, вытащил гребешок и вернулся к зеркальцу. Чтобы видеть лицо полностью, он слегка подогнул колени.
— Вероятно, в нормальной обстановке о таких вещах не говорят. Но эти обстоятельства никак не назовешь нормальными. Не чувствуй, что ты обязан как-то реагировать. Пожалуй, я все-таки отращу усы.
А я в смятении не мог разобраться, то ли он подразумевал больше, чем сказал, то ли пытался что-то во мне подорвать, то ли это было искреннее и непосредственное выражение привязанности, на которое во мне не нашлось отклика. В той единственной жизни, которую я знал, душевной теплоте и непосредственности места не было. Излишне анархические качества. Опасные. Я старательно обсыпал порошком левую ногу.
— Как, по-твоему, они мне пойдут?
— Э… а… Да.
— По-викториански отвислые.
— Чудесно.
— Я тебя рассердил.
— Нет.
— Как жаль!
Я решил все-таки еще раз использовать старый грязный бинт.
— Значит, ты поедешь с нами.
— Да. Я же сказал.
— Правда, сказал. Где, черт подери, эта грудинка? С ума можно сойти от запаха.
Мы встретились на том же углу, что и в прошлый раз. Только Джерри теперь взял с собой Беннет. Небо затягивали оливковые набухшие снегом тучи. Воздух был неподвижным и режуще-холодным. Я захватил перчатки для Джерри и, садясь в седло, отдал их ему.
— Я попрошусь, чтобы меня перевели к лошадям.
— Нет, ты его послушай! — сказал Беннет.
— Они же вовсе за ними не ходят. Черт! Видел бы ты конюшни, Алек. Безобразие, дальше некуда. Да ты на этих трех посмотри. Совсем клячи стали.
— Прямое попадание…
— Пятнадцать убило, и еще двадцать, если не больше, пришлось пристрелить.
— Вот она, ирландская сентиментальность!
— Хоть лопните со смеха, если вам смешно.
— Извините, старина. Я пошутил.
— Смердит так, что дышать нечем. Даже сейчас все кругом словно тем же воняет.
— Лошадиные трупы пахнут не хуже человеческих.
— Заткнулись бы вы, что ли!
— Беннет, оставь его в покое.
— Все надо видеть в перспективе. А вы, чертовы кельты, совершенно на это не способны. Вот и понятно, почему мы убеждены, что вам не по силам самим собой управлять.
— Мы поехали, чтобы хорошо провести время. Вон даже дождя нет. Ну, и хватит.
С удовольствием.
Беннет ударил лошадь каблуками, перелетел через небольшую канаву и зарысил по полю. Лошади вязли в грязи, но едва мы выбрались на пригорок, как они пошли отлично. Словно воскресли. Джерри, припав к седлу, обогнал меня и скоро поравнялся с Беннетом. Мои болячки заныли: я слишком сильно сжимал бока лошади, а потому я сдержал ее и только смотрел, как они свернули к канаве и взвились над ней, подняв фонтаны грязи. Даже под самым ярким солнцем эти зимние поля не слишком радовали глаз, но теперь они выглядели, как те бесконечные пустыри, которые, наверное, тянутся перед вратами ада, да и рая тоже, и по которым мы осуждены блуждать, пока не позабудем свой мир. Оставалось только надеяться, что я там пробуду не очень долго. Я больше не управлял лошадью, и она перешла с рыси на шаг. Беннет и Джерри давно скрылись из вида. Две снежинки, кружась, опустились мне на рукав. Я смотрел, как они гибнут, а потом заставил себя встряхнуться. Лошадь почувствовала это и пошла быстрее. Она, по-видимому, знала, куда ускакали ее товарки, и я предоставил ей догонять их.
— Что с тобой случилось? — спросил Беннет.
— Я не особенно торопился, только и всего.
— Он меня побил.
— И опять побью.
— Ну, это мы еще посмотрим.
— Вон деревня, и вроде бы в ней должен быть кабак, — заметил Джерри.
— Стоящая мысль, — объявил Беннет.
Деревня лежала на краю полей, и война словно бы ее не коснулась. Высокие ограды скрывали от дороги сараи и дворы.
Суровые окна холодно поблескивали, когда мы проезжали мимо. Стекла в них были целы, давно не крашенные ставни облупились. За стеклами опасливо двигались одетые в черное женщины, настороженно поглядывая на верховых, которые ехали по их тихой улочке. Джерри не ошибся: трактир в деревне был. Мы привязали лошадей и вошли. Там было темно, но тепло. За обитой цинком стойкой с латунными перильцами стоял мужчина и уныло перетирал рюмки. Он встретил нас мимолетной улыбкой, вежливой, но отнюдь не дружелюбной.
— Messieurs[19].
В углу сидели за картами три старика. Они тихо переговаривались и по очереди наливали себе из бутылки, стоявшей посреди столика.
— Коньяк. Вот что нас сейчас взбодрит, — сказал Беннет и направился к стойке. Мы с Джерри сели и расстегнули шинели.
— Une bouteille de cognac, s’il vous plaît[20].
Хозяин поставил рюмку и разразился потоком слов, за которыми Беннет явно не успевал. Пожав плечами, он скрылся в задней комнате. Беннет вернулся к нам и сел.
— Чертовски странное место. Где война? Куда девалась война?
От пола исходил легкий запах хлорки. В глубине дома что-то громко сказал женский голос. С улицы вошел гнусного вида пес, пересек залу и рухнул у стойки, замученный жизнью. Как и все собаки, каких нам довелось там увидеть, он, видимо, забыл, что значит есть досыта.
Из темноты с бутылкой в руке возник хозяин. Он поставил ее на столик и остался стоять, не спуская с нее глаз.
— Merci… э… merci… — Я почувствовал, как вокруг меня волнами заплескалось возмущение мистера Бингема, — beaucoup[21].
— Où est la guerre?[22] — спросил Беннет.
Хозяин неторопливо вытащил из кармана большой белый платок, несколько секунд его осматривал, а затем поднес к своему довольно непривлекательному носу и высморкался.
— Vous rigolez, monsieur[23], — вопросительно сказал он.
— Чего он топчется тут? — буркнул Джерри в мою сторону. — А рюмки где? Хватит языком трепать. Пусть несет рюмки.
Это практическое предложение Беннет пропустил мимо ушей.
— Non. Je ne rigole pas. Où est la guerre. Où?[24]
— La guerre est partout, monsieur[25]. — Он развел руками, охватив ими залу, деревню, весь мир. Я взял бутылку и вытащил пробку. В воздухе между нами повеяло теплым запахом коньяка.
— Рюмки, — сказал Джерри с надеждой. И напрасной.
— Où est la guerre?
Джерри взял со стола воображаемую рюмку и опрокинул ее в рот. Француз кивнул.
— Bien sûr[26]. — Он ушел за стойку и минуту возился там. Пес, когда он проходил мимо, постучал хвостом по полу.
— Туралуралу, туралуралей. Туралуралу, туралуралей, — вдруг весело пропел Джерри.
Старики оторвались от карт и удивленно оглянулись на него.
— И спел он песню «Кружка пунша»!
Хозяин вернулся с тремя рюмками и поставил их в ряд на столике. Взяв бутылку, он тщательно налил каждую до краев.
— Voilà[27].
— La guerre n’est pas ici[28].
Моя рука и рука Джерри одновременно протянулись к рюмкам. Моя, как всегда, дрожала. Его была твердой и уверенной.
— Mais pourquoi? Почему?
— Nous attendons, monsieur. Jour par jour, nous attendons. Les Boches, les Beiges, les Anglais, même les Français, qui que ce soit, tout le monde souffrira ici[29].
— Sláinte[30].
— Хлопнули!
— Nous avons perdu notre fils. Le vingt septembre[31].
— Je regrette…[32]
— N’en parlons plus. C’est fini[33].
— Может, угостим старичка?
— У него убили сына, — сказал я.
Джерри перекрестился.
— Упокой, господи, душу его.
Хозяин улыбнулся ему. Первой настоящей улыбкой. Я пододвинул ему рюмку Беннета.
— Pour vous, monsieur[34].
Он молча взял ее и выплеснул в рот, не прикоснувшись губами к краю. А потом поставил рюмку точно на то же место, с какого взял ее. Все это заняло мгновение.
— On a besoin[35].
Он снова вынул платок, вытер рот, наклонил голову в нашу сторону и вернулся за стойку. Пес опять шевельнул хвостом, когда хозяин проходил мимо. Я налил рюмку Беннету.
— Спасибо.
Прежде чем взять, он внимательно осмотрел ее, словно решая, пить из нее или нет.
— Туралуралу, туралуралей…
— Вы тоже сторонник гомруля?
— Я? Кошки-мышки! — Джерри сплюнул на пол и захохотал.
Беннет ухмыльнулся, залпом выпил свою рюмку и снова ее налил.
— Это из-за чего же вы так решили?
— Из-за Александра.
— А! Ну конечно, бог его помилуй. Он же точно малое дитя. Его с детства учили доверять англичанам. Благороднейшие люди.
— Но ведь ваш отец в армии? Значит, и он примерно так же думает.
— Мой отец не то что не умеет мозгами пораскинуть, а еще не успел ими обзавестись. Передайте-ка бутылку.
— Но если вы не за гомруль, так кто же вы?
— Республиканец.
Я пододвинул ему бутылку. Беннет посмотрел на него с удивлением.
— А их много?
— Наберется.
— Джерри, будь честен: жалкая горстка.
— Алек, ты про это ни черта не знаешь.
— Я читаю газеты.
— Газеты!
Беннет перегнулся к нему через столик.
— Нет, я, правда, не понимаю, зачем вы тут?
— Учусь стрелять из винтовки. Вот, послушайте. — Он выпил и только тогда продолжал: — Когда я вернусь, так буду одним из тех, кто понимает, что к чему, как дело дойдет до драки. Можно, конечно, маршировать между холмов и швырять палки, но придет минута, когда понадобятся люди, которые годятся и на другое. Глядишь, меня генералом сделают. — Он захохотал. — Черт подери, я вам одно скажу: если я отсюда выберусь живой, так уж больше ничего никогда не побоюсь.
— Вот и конец нашему племенному заводу, — услышал я собственный тоскливый голос.
— Все будет в порядке. — Он погладил мою руку. — Когда мы сделаем то, что должны сделать, у нас хватит времени делать то, что мы хотим.
— Я весьма приятно удивлен, — сказал Беннет.
— А вы слыхали про Патрика Пирса?
— Как будто бы нет.
— Вот кто умеет так сказать, что просто огнем обожжет. Он учитель. И не так давно он такое сказал… — Он сосредоточенно поковырял в носу, вспоминая: — …есть вещи ужаснее кровопролития, и рабство — одна из них. Они врезаются в память, такие слова.
— Но рабство… Джерри, скажи честно… ну, кто раб? — Я замолчал и посмотрел на них. Беннет подливал коньяк в рюмку. — Вон Беннет говорит, что мы все рабы, потому что боимся быть свободными людьми.
— Я не про философию толкую, а про то, что на самом деле.
— Чушь. В Ирландии нет рабов.
— Нас лишили права самим говорить за себя. Это что, не рабство?
— Гомруль…
— Дерьмо твой гомруль. Розовая водица, даже если его и получат. Чтоб заткнуть рты. Я верю… я знаю только один способ, как от них избавиться — стрелять.
— А странно, что мы столько лет друзья и ни разу прежде об этом не разговаривали.
— Может, и к лучшему, что так. Теперь ни мне, ни тебе от этого вреда не будет, а раньше мог бы выйти большой вред.
— Не верится, что таких, как ты, много.
— Будет много. Может, ты и сам станешь таким.
— Кто знает?
— Должен признаться, я в восторге, что встретил собрата-революционера, — сказал Беннет. — Руку! — Он протянул Джерри руку через стол, но тот только с улыбкой поглядел на нее. — Мне нравится этот ваш мистер… как его?
— Пирс.
— Ну, если мне не удастся стать героем во Фландрии, я уеду в Ирландию и стану героем там.
Джерри засмеялся.
— Таких, наверное, наберется немало. Только вот на чьей стороне вы будете, можно спросить?
— На стороне мистера Пирса, а то на чьей же? На стороне человека, который сказал эти слова.
— По-моему, вам не понять, почему он их сказал.
— Чепуха.
— Вы оба сумасшедшие.
— Так выпьем за наше безумие.
Беннет взял бутылку и помахал ею в сторону хозяина за стойкой.
— Мсье?
— Merci. — Он покачал головой.
— Sláinte, — снова сказал Джерри.
— За мечту каждого из нас, — объявил Беннет.
— Люди будут издеваться над их короткими шеями, но они будут побеждать. По всему миру.
— Что-что? — с недоумением спросил Беннет.
— Мои лошади. Моя мечта другая, чем у вас. Только лошади, мои чудесные, не знающие поражения лошади.
— Так оно и будет. А скакать на них буду я, нравится вам, мистер Беннет, моя посадка или не нравится.
— Аскот, Эпсом, Ньюмаркет, Челтнем, Лоншан… и даже Саратога… Как насчет Саратоги, Джерри?
— А чего?
— Ты, наверное, пьян, — сказал Беннет.
— Наверное.
— За ваших лошадей! Чтобы все приходили первыми!
— Sláinte.
— Авось наши нынешние знают дорогу домой.
— На западе серый мой дом, — запел Джерри.
— Ш-ш-ш! Ты мешаешь им играть в карты.
— Да-ди-да-да-ди-да-да.
— Je vous en prie…[36]
— Все в порядке, мсье, — сказал Беннет. — Ne vous inquiétez pas. Он немного пьян и немного malheureux. Il est Irlandais, вы понимаете, a Irlandais chantent toujoura quand ils sont un peu пьяны[37].
Хозяин стоял за стойкой, и двигалась только его рука, без конца протирая рюмки, которые никак не могли быть грязны. Может быть, он слушал, может быть, нет. Может быть, он думал о своем сыне, убитом двадцатого сентября, когда я скакал по холмам на моей Морригане, а Джерри тренировался швырять палку. Джерри напевал почти неслышно. Старики за картами время от времени тревожно оглядывались на нас. У меня возникло ощущение, что мы для них — предвестники вторжения ненужной им войны. Им хотелось, чтобы мы ушли. Это желание тяготело над залой и рождало во мне неловкость. По окну винтовочными выстрелами забарабанила ледяная крупа. Джерри сотрясла дрожь. Он взял бутылку и вновь наполнил наши три рюмки.
— Посошок на дорожку. Sláinte.
— За мертвецов! — Беннет поднял рюмку.
— Вампиризм какой-то. Думай о живых.
— В таком случае: за живых мертвецов!
Старики в углу обернулись в очередной раз и следили за тем, как мы пьем этот тост. Их глаза, точно окна французских домов, прятали то, что было внутри. Беннет воткнул пробку в бутылку и встал. Он сунул бутылку в карман шинели. Потом подошел к стойке и положил перед хозяином деньги.
— Eh bien, — сказал он. — Nous allons chercher la guerre. Nous allons massacrer les sales Boches. Peut-être nous reviendrons[38].
— Peut-être[39], — повторил человек за стойкой без всякого энтузиазма. Пес негромко зарычал. Потеряв войну, я вовсе не хотел ее разыскивать, но мы соскользнули в нее так же легко, как перед этим выскользнули.
На следующее утро мы выстроились на поверку еще до рассвета. Восточный ветер бил ледяной крупой, и солдаты ежились. Майор Гленденнинг, за плечом которого стоял Барри, сказал коротко:
— Что за шваль!
Наступила очень долгая пауза. Какой-то бедняга давился кашлем, а я напрягал всю силу воли, чтобы удержать пальцы, не дать им впиться в зудящие икры.
— Канальи, как сказали бы наши союзники французы. На нас… э… возложен… э, долг показать миру, что внешний вид еще не все. Так, сержант Барри?
— Да, сэр.
Барри обвел строй свирепым взглядом, явно надеясь обнаружить несогласных.
— Поверьте, я понимаю ваше раздражение… ваше нетерпение. Бездействие, словно бы бесполезное, необходимо выносить безропотно. И вы будете его выносить, а когда настанет время драться, — а оно настанет — вы будете драться. Всякий, кто думает иначе, будет иметь дело со мной, и вот сейчас я предупреждаю вас всех, что без малейших колебаний прибегну к крайней мере. Запомните. Без малейших колебаний. К крайней. — Он произносил это, слово с наслаждением, и мне мучительно захотелось, чтобы солдаты поняли, как понял я, что он не из тех, кто сыплет пустыми угрозами. — Мы выступаем на передовую в десять. Мистер Беннет и мистер Мур проследят, чтобы никто ни под каким предлогом ничего не бросал.
Эти дураки завели обыкновение, когда идти становилось особенно тяжело, бросать в ближайшую канаву все, что считали не особенно важным в своем снаряжении.
Прокукарекал петух. Нелепо мирный звук. У нас над головой быстро неслись низкие тучи. Светало, и я увидел, что они все еще оливковые, набухшие снегом.
Майор хлестнул стеком по сапогу.
— А теперь, — сказал он почти так, словно это не была пустая формальность, — если у кого-нибудь есть вопросы… — Он не договорил, и конец фразы повис в воздухе вместе с паром, вырывавшимся из его рта.
Джерри вышел из строя на шаг и отдал честь.
— Что такое? Кто это?
Барри наклонился вперед и сказал ему на ухо:
— Рядовой Кроу, сэр. Вы знаете.
— А-а… Да. Кроу. — Он уставился на Джерри так, словно только что его увидел в первый раз. — Ну, в чем дело?
— Я вот думал, сэр, нельзя ли перевести меня к лошадям.
Я покраснел.
— Должен ли я сделать вывод, что вы чем-то недовольны… — Он резко взмахнул рукой. Лица солдат не выражали абсолютно ничего.
— Да нет, сэр. Просто мне кажется, что там от меня будет больше толку. Я видел, как содержат лошадей, сэр. Им приходится плохо. Я бы мог помочь. Лошади… — Его голос замер. Они смотрели друг на друга в упор.
— Им бы нужен кто-нибудь вроде меня, — договорил он наконец. Его голос стал очень твердым, очень сдержанным.
— Могу ли я спросить, что вы там делали?
— Просто сходил туда, сэр. Я же объяснил, что интересуюсь…
— …местечком потеплее.
— Прошу прощения, сэр. Это мне и в голову не приходило.
— В таком случае, Кроу, — или как вас там, черт побери, — вы спокойно можете остаться тут.
Джерри ничего не ответил и только чуть кивнул.
— Вы что-то сказали? Говорите громче.
— Я ничего не сказал, сэр.
— Я уже давно к вам присматриваюсь как к тайному смутьяну. Примите это к сведению. Да.
Он как будто кончил. Тот, кого терзал кашель, еще раз попытался сдержаться. Сержант Барри свирепо закусил кончик уса.
— Да. — Он повернулся к Барри. — Приглядывайте за этим солдатом.
— Есть, сэр.
Уж этим он займется с большим удовольствием.
— Позаботьтесь, чтобы к десяти все было готово к выступлению, мистер Беннет.
— Есть, сэр.
Майор повернулся и ушел. Стек в его руке подергивался, словно живой.
Беннет скомандовал разойтись, и мы пошли завтракать.
— Черт. Джерри круглый идиот.
На завтрак были сосиски, поджаренная солонина и картошка. Приговоренные к смерти могли плотно закусить. Я получил письмо от матери и теперь пытался его читать. Она всегда пишет самым тонким перышком, и кажется, что слова — это вовсе не слова, а живые паучки, сцепляющиеся друг с другом по всей белой странице. Листок был плотный, квадратный и чуть благоухал духами — вероятно, от прикосновения ее пальцев, — обрызгивать духами писчую бумагу — вульгарно. Солонина была жуткой.
— Ммм.
— Ты не слушаешь.
— Солонина жуткая. Для последнего нормального завтрака нам могли бы отыскать пару яиц.
Беннет крикнул О’Кифу, который сидел о солдатами за столом в другом углу.
— Яиц для мистера Мура не найдется?
— Яиц? Каких яиц?
— Идиот проклятый. — Беннет, обернувшись ко мне, понизил голос. — А? Ты не согласен?
— Но могло бы и получиться.
— Ни в коем случае. А теперь на него налеплен ярлычок и, что еще хуже, Барри ему прохода не даст.
«…младший Дейли вернулся домой на костылях. Ему продырявило ногу где-то неподалеку от тебя, как мне кажется. Он поразительно весело относится к случившемуся. Генри Таунсенд пропал без вести. Вы все такие храбрецы. Несколько девушек по соседству поступили в добровольческий медицинский отряд. Скоро вокруг никого из молодежи не останется. Кузина Мод гостила три недели. Как она ни мила, но мне это показалось слишком долгим…»
— Тебе известна теория козла отпущения?
«…Ты так давно не писал. Нам всем не терпится узнать твои новости. Должна признаться, мне больно твое молчание. У всех остальных находится время писать…»
— Так что же?
— Заткнись, Беннет. Я пытаюсь читать письмо из дома.
Он перегнулся через стол над тарелками со стынущей солониной и чашками с дымящимся чаем. Я заметил, что возле своей чашки он поставил фляжку с ромом. Я еще не дошел до рома за завтраком, но, наверное, это был лишь вопрос времени. Он выдернул письмо из моих пальцев.
— Что такое дом? Риторический вопрос, на который я отвечу сам. Нереальнейшая из нереальностей. Скорее всего ни ты, ни я, ни Джерри больше никогда дома не увидим. А если и увидим, то совсем другими людьми. А потому весточки из дома — бессмыслица.
— Но послушай…
Он начал рвать письмо на мелкие квадратики — складки все глубже прорезали его бледный лоб, а пальцы рвали и рвали. Я сидел и смотрел. Он швырнул клочки через плечо на пол. Конфетти. Солдаты за другим столом глядели на него с полным равнодушием. Внезапно он улыбнулся и протянул мне руку-губительницу.
— Почему ты меня не ударил?
— Не знаю.
У него было такое выражение, словно он намеревался мне это объяснить, но тут же он передумал, взял чашку и большими глотками выпил ее. Потом встал.
— Поторапливайтесь, — сказал он через плечо солдатам, выходя за дверь.
Я слушал, как его сапоги стучат вверх по каменным ступенькам. Они выбивали искры в моей голове. Стол, за которым мы ели, пили, писали и горбились в ожидании, был светлый и весь в бороздках, оставленных временем и щетками череды хозяек, гордых порядком в доме. Царапины и узоры древесины украшали стол, точно творение художника. Наши кружки и стаканы оставили на нем бурые и серые кольца, а один угол темнел созвездиями пятен, выжженных окурками. Какой-то идиот глубоко вырезал в крышке свои инициалы «К. Д.» с росчерком, а снизу провел три широкие бороздки. Кто-то посадил кляксу и размазал синее пятно в подобие ползущего насекомого. Времени оставалось мало. Шаги Беннета у меня над головой звучали как понукание. Я вытащил из кармана лист бумаги, ручку и начал писать матери. Я подробно описал стол, за которым сидел. В ту минуту это представлялось мне необыкновенно важным.
Примерно в девять сорок пять повалил снег. Идти было очень трудно. До окопов второй линии мы добрались, когда уже совсем стемнело. Солдаты вымотались и изголодались. Твердая снежная бахромка налипла на их волосы, воротники, полы шинелей… Тем, кого мы сменяли, не терпелось уйти, и обстановку они сообщили крайне коротко. Им пришлось плохо. Трое убитых, семеро раненых. Им хотелось только одного: поскорее убраться отсюда, очутиться в относительной безопасности на ферме. Они злились, что мы хотя бы минуту заставляем их ждать дольше, чем требовалось.
Мне не повезло: меня отправили в окопы первой линии. Мы вышли, даже не выпив чаю. Они оказались черт знает в каком виде. Им явно пришлось выдержать тяжелый обстрел. На то, чтобы привести в порядок бруствер и расчистить ходы сообщения, требовалось не меньше двух дней напряженной работы. По ту сторону колючей проволоки пронзительно стонал раненый. Стоны усиливались, затихали, переходили в невнятное бормотание, а время от времени вдруг возникала тишина. Но мы все время помнили об этих стонах и ждали, когда они снова раздадутся. Солдат они мучили не меньше, чем меня. Их лица темнели от ненависти.
Я кончил обход и собрался лечь, чтобы, может быть, уснуть часа на два, но тут на пороге возник Джерри. Он протянул мне кружку с чаем, которую принес. Его рука дрожала.
— Что случилось?
— Наверное, я старею.
— Садись.
Я указал на кучу соломы.
— А можно?
— Черт тебя подери, Джерри. Садись.
Мы сели рядом. Между нами тихо поднимался пар из кружки.
— С ногами плохо?
— Могло быть хуже.
— От этих завываний с ума сойти можно.
— Извини, Джерри, что утром так получилось. Мне следовало бы вступиться. Я знаю, что следовало бы.
— Было бы два дурня вместо одного. И очень хорошо, что ты прикусил язык.
— Выпить хочешь?
— Не откажусь.
Я встал и открыл свой ранец. Ром был завернут в старый зеленый свитер. Я поставил фляжку на пол, а свитер кинул Джерри.
— Это что, мне?
— Зачем зря мерзнуть? Плесни мне в чай, а сам пей прямо из фляжки.
— Я хотел взять его на мушку. Да только темно.
Он отвинтил крышечку и налил в чай щедрую порцию. Чай, конечно, станет холоднее, но что за важность.
— Но не смог.
— Может, это и к лучшему.
Он засмеялся и сделал большой глоток из фляжки.
— Ни один из них не вернулся.
Мы оба долго молчали.
— Сплошная пакость, — сказал он.
— Скоро кончится. Говорят, что скоро. Большое наступление, и тогда…
— А ты помнишь что-нибудь? Трава, которую не истоптали? Спокойные лица? Тишина?
— Лебеди.
— Да. Черт, отличное питво. Я совсем зашелся от холода. Вот бы сейчас разжечь побольше торфу, снять сапоги и протянуть ноги к огню.
— Мы даже не понимали, до чего нам было хорошо.
— Эх, кошки-мышки…
— Пей еще.
Он кивнул и выпил.
— Где твой Беннет?
— Наверное, старик его гоняет.
— Сукин сын! Когда война кончится, помяни мое слово, у меня найдется пуля-другая для таких, как он. Они у нас попрыгают.
— Не понимаю, как ты можешь даже думать о том, чтобы снова воевать.
— Это же будет не так, как здесь. Ни окопов, ни передовой. И не надо ничего ждать. Каждый город, каждая деревня станет передовой. Каждый холм, камень, дерево. Им повернуться будет некуда. Даже дети будут с ними сражаться. Все будет совсем не так, как здесь, можешь мне поверить. Эх, Алек, вот будет дело!
— Ненавижу эту твою мечту.
— Ненавидь на здоровье.
— Вы оба извлекаете из насилия какое-то странное наслаждение. Или, по крайней мере, из его предвкушения.
— Ну, а лисья травля?
— В ней есть свое сумасшедшее совершенство.
— И насилие, Алек.
— Наверное, я не продумал все как следует.
— Ничего, продумаешь. — Его голос стал резким.
— Возможно, это род апатии.
— Просто у нас разный подход. Но мы нужны друг другу. Такие, как ты, и такие, как я. Вот увидишь.
— Ты меня пугаешь. Гораздо больше, чем Беннет.
— Он болтун и в один прекрасный день захлебнется в своей болтовне.
Он встал.
— Мне пора. Я рад, что с ногами у тебя не так плохо. Я ничем помочь не могу?
— Спасибо, нет.
Он взял кружку.
— Ну, еще увидимся.
— Да.
Он медленно пошел к двери. Мне хотелось, чтобы он остался. Мне не хотелось быть одному. У двери он обернулся и улыбнулся мне. Потом поднял усталую серую руку, шутливо отдавая честь.
— Больше ничего не нужно, сэр?
— Ничего. Да, ничего.
Когда он отодвинул доски, служившие дверью, внутрь ворвался холодный сквозняк, принеся с собой отголоски смеха.
— Ради бога, Джерри, скажи им, чтобы они прекратили. Они что, не понимают, где находятся?
Он быстро задвинул за собой дверь.
Я лег и закрыл глаза. В темноте заплясали, заколыхались яркие цветы. Ноги у меня горели. Стоны, кажется, не стихали. А может быть, это звенело у меня в ушах.
Беннет явился на следующее утро веселый и бодрый.
— Ну, вот мы и опять тут. Отдых на жаловании.
— Старика скоро ждать?
— Он в пути. Уже в пути. А убирать тебе тут есть что!
— Мммм.
Мы с рассвета работали, как одержимые. Подпирали стенки там, где они оползли, клали настил на совсем уж непролазную грязь. Насыпали мешки песком и волокли их по окопам мили и мили, как нам казалось. В довершение всего за нами следили два снайпера, и, чтобы не получить пулю, нам все время приходилось сгибаться в три погибели. Не переставая сыпал свинцовый дождь. Едва чуть-чуть рассвело, на передовой неподалеку от нас начала бить тяжелая артиллерия.
— Что это?
Он мотнул головой в сторону, откуда доносились стоны.
— Говорят, он четыре дня так.
— Черт! Наш?
Я кивнул.
— Черт! И еще раз черт!
Он потер пальцем уголок правого глаза.
— Или кошки-мышки, как сказал бы кое-кто.
— Да.
— Ходят слухи о наступлении.
— Раз они дошли до таких, как ты, то до гуннов и подавно.
— Вполне возможно.
— Приятная перспектива.
— Ну, да пусть, — сказал он. — Будем думать о светлой стороне: лучше, что угодно, лишь бы не торчать тут.
Слухи, возможно, были верны. Весь день высоко над нашими головами проносились снаряды, явно предназначенные для цели милях в двух у нас за спиной — возможно для артиллерии и скоплений пехоты. Их свист вскоре перестал вызывать у нас тревогу: наша работа была настолько неприятной, что времени на мысли об опасности не оставалось. Часть осыпавшейся стенки обнажила останки примерно десяти французских солдат. Мы аккуратно уложили их за новым рядом мешков с песком, и нам осталось только надеяться, что в нашей жизни они больше не возникнут.
Майор Гленденнинг добрался до нас уже в сумерках. Когда он вошел, я встал и отдал честь.
— Докладывайте.
— В сущности, не о чем, сэр. Почти весь день мы приводили…
— Достаточно.
Он бросил фуражку на стол и расстегнул шинель.
— Чай у вас найдется?
— Да, сэр.
Я подошел к двери и окликнул О’Кифа, который ждал снаружи.
— Без молока и сахара.
Я передал его требование, и мне осталось только надеяться на лучшее. Когда я повернулся, он уже сидел на единственном стуле, аккуратно повесив шинель на спинку и разложив перед собой какие-то бумаги. Он вытащил из кармана сверточек и положил его на стол. Бережно развернул большой белый платок и извлек из него лимон. Затем небольшим острым ножом отрезал два аккуратных кружка. После чего тщательно обтер лезвие об уголок платка, завернул лимон и спрятал его в карман мундира.
— У нас у всех есть свои пристрастия. Да не торчите там. Сядьте…
Я начал собирать со стола мои листки, которые лежали там, когда он вошел.
— Что это? — спросил он с некоторым интересом в голосе.
— Я пробую писать, сэр… ничего такого… просто… Ну, вы понимаете.
Я сунул листки в ранец.
— Несомненно, доклады в штаб дивизии, если не в военное министерство, о том, как следует вести войну с точки зрения младшего офицера. Еще совсем зеленого.
Я покраснел.
— Нет, сэр. Ничего похожего. Я просто пишу, сэр, для развлечения. Ничего такого, что вы… ну… ничего, что вы…
— Против чего я возражал бы.
— Совершенно верно, сэр.
Вошел О’Киф с двумя кружками чая. Он осторожно поставил их на стол. Я увидел, что в одной нет молока, и не усомнился, что в ней нет и сахара. Не усомнился я и в том, что мне налита обычная бурда.
— Больше ничего, сэр?
— Ничего.
Майор Гленденнинг проколол кончиком ножа оба кружка лимона и опустил их в чай.
— Да сядьте же, бога ради.
Я взял кружку и сел на солому.
— Значит, вам не о чем докладывать?
— Нет, сэр.
— Я поглядел, Мур. Совсем неплохо. То, что уже сделано. Но завтра вам нужно будет поднажать. Поднапрячь все силы. Очень скоро сюда прибудет значительный новый контингент.
— Наступление?
— Полевым офицерам разрешается только строить предположения. Они получают приказы, а информацию — крайне редко. Предположения либо пришпоривают, либо сводят с ума. Я переночую тут. Не можете ли вы найти мне спальный мешок?
— Постараюсь, сэр. Возьмите мой, а я найду что-нибудь у солдат.
— Как хотите. Ну, идите и займитесь этим. Мне надо написать рапорт. И на боковую.
Он улыбнулся мне короткой свирепой улыбочкой.
Я ушел, а он остался писать рапорт и пить чай с лимоном. Остался в блиндаже и мой чай. Захвати я кружку с собой, он, конечно, счел бы это распущенностью.
Джерри сидел, прислонясь к мешку с песком, и тихо наигрывал на губной гармонике. Эту мелодию я узнал всем моим существом, но не мог бы ее назвать. Другие солдаты сидели, развалившись, или лежали на соломе в надежде уснуть. Джерри посмотрел на меня, но ничего не сказал. Его пальцы порхали у губ, как мотыльки. Кое-кто из солдат повернул голову в мою сторону. Остальные словно не заметили моего прихода. Я сказал О’Кифу:
— Нужна еще одна постель. Майор остается ночевать у нас. Не найдется свободного блошника?
— Будь в этих мешках только блохи, — сказал кто-то, — это бы еще ничего.
— Не беспокойтесь, сэр. Я пригляжу, чтобы ни вы, ни майор не замерзли.
Дождь прекратился. Воздух был промозглым и едким от дыма. Стон на мгновение стал нестерпимо пронзительным. Кто-то из солдат у меня за спиной исступленно выругался.
— Мистер Мур!
Голос майора, словно острый стальной зонд, задел нерв в моем мозгу. Я вернулся в блиндаж. Он сидел, чуть наклонив голову набок, и слушал.
— Кто это?
— Один из глостерцев, сэр. Их пятерых послали в разведку. Четыре дня назад, сэр. Я думаю, он давно без сознания.
— Благодарю вас, — сказал он саркастически.
Следом за мной вошел О’Киф со спальным мешком и одеялом.
— Спасибо, — сказал я. — Положите их рядом с моим.
Он кивнул.
— Когда я кончу рапорт, мы доберемся до него и посмотрим, что можно сделать.
— А!
О’Киф старательно сложил одеяло и только тогда опустил его на солому. Он внимательно слушал.
— Мне нужно не более получаса. Не ложитесь.
— Но…
— Я могу вызвать добровольца.
— Нет-нет… я… но что мы можем сделать?
Он взял свой нож и положил его в аккуратную кожаную сумку на поясе.
— Решение мы сможем принять, только когда будем точно знать ситуацию. А пока, если вы меня извините… О’Киф!
— Сэр!
— Через полчаса поставьте двоих. Мистеру Муру и мне нужно будет прикрытие. Надежных и сообразительных. Не каких-нибудь тупых раззяв.
— Есть, сэр! — Он отдал честь и вышел.
Майор продолжал испещрять лежавший перед ним лист аккуратной и точной вязью слов. Черные чернила. Черная ручка зажата в аккуратных худых пальцах, как хирургический инструмент. Я достал из ранца книгу и попробовал читать. Но тут же обнаружил, что не могу сосредоточиться. Я скользил и скользил взглядом по одним и тем же словам, но в сознание они не проникали. Я пробовал произносить их почти вслух. Я даже водил пальцем по каждому слову, но ничего не помогало: они оставались случайным сочетанием букв, которые ровными полосками пересекали страницу. Я не в состоянии вспомнить, что именно я пытался читать. В голове кружилась только одна мысль: «Я боюсь увидеть, почему он стонет, я боюсь, что запомню это навсегда. Я боюсь, что сам буду сведен к этому».
— Ну, вот! — Он прихлопнул аккуратную стопку листов. — Посмотрим, какова погода. Слишком рисковать нет смысла.
Он встал и потянулся. Опустив руки, окинул меня оценивающим взглядом.
— Револьвер?
Я кивнул. И потрогал его, чтобы удостовериться.
— Заряжен, я полагаю?
Он подергивал себя за усы, натягивая их на узкие губы.
— Да, сэр.
— Фонарик? Превосходно. Ну, так пошли. Тянуть время незачем. Шинель оставьте. Только помеха в такой прогулке. Просто следуйте за мной и точно выполняйте мои распоряжения. Абсолютно точно.
О’Киф ждал снаружи с Джерри и еще одним солдатом. Они держали винтовки наизготовку. Ночь была самая подходящая для вылазки. Тяжелые тучи прятали небо, и уже снова накрапывал дождь. Руки у меня тряслись. Я сунул их в карманы.
— Отлично. Лучше трудно и придумать. Если мы не вернемся достаточно скоро… или если у вас будут основания заключить… э… О’Киф…
— Слушаю, сэр.
— Немедленно сообщите мистеру Беннету. Вы поняли?
— Есть, сэр.
— Мы или вернемся с ним, или…
Пальцы Джерри на мгновение крепко сжали мой локоть.
— Готовы, Мур?
— Готов, сэр.
Я вылез за ним через бруствер. Не столько вылез, сколько перекатился, и услышал, как двое позади нас заняли позицию. Услышал, как щелкнули их затворы.
— Фонарик? — Он говорил шепотом. — Сюда. Вот сюда. Светите ниже и прикрывайте ладонью. Так, ничего. Выключите. Опустите пониже. Включите. Чуть ниже. Вот так.
Он перерезал проволоку в нескольких местах и проскользнул за нее. Я полез за ним, чувствуя, как колючки цепляются за брюки и китель. Останься здесь с нами! Останься! На некотором расстоянии справа от нас что-то ярко пылало. На тучи снизу ложились оранжевые отблески, в воздухе плясали вихри искр. Впереди меня майор побежал, перегнувшись почти пополам. Земля была вся в воронках от снарядов, но он словно умел видеть в темноте. Только главное было не просто избегать воронок, а не думать, на что ты то и дело наступаешь. Я старался сосредоточить все мысли на его спине, бесформенным пятном движущейся впереди меня сквозь черноту. Раненый больше не стонал. До нас доносились только долгие мучительные хрипы. Казалось, на то, чтобы найти его, ушла вечность. Где-то затрещали винтовочные выстрелы, через секунду раздался ответный залп. Но далеко, на заднем плане. Если бы им вздумалось запустить парочку осветительных ракет, просто на всякий случай, нам пришел бы конец. Живые мишени. В конце концов мы отыскали его на краю воронки.
— А! — внезапно крякнул майор и опустился на колени. Я скорчился рядом с ним, все еще глядя ему в спину.
— Фонарик. Держите у самой земли. Обойдите с той стороны. Не угодите в чертову воронку.
Я ощупью обошел то, что осталось от человека. Он не осознал нашего появления.
— Светите. Ну-ка.
Когда свет ударил в его лицо, раненый снова пронзительно застонал. Я успел увидеть безумный выпученный голубой глаз и перекошенный рот.
— Медленно ведите луч по его телу. По-моему, надежды нет никакой. Пониже. Вот сюда. Я должен удостовериться. О, господи!
Я видел его медленно движущиеся руки, две пасущиеся твари. Он секунду повозился, а потом сунул мне в пальцы какие-то раскисшие бумаги.
— Сохраните. Не трясите фонарик, черт подери… Если б мне только дали настоящих солдат, а не младенцев.
Металл звякнул о металл. Еле слышно.
— «Безмерно тайной, недоступной Розы…»
— Молчать!
Я даже не заметил, что заговорил вслух. Майор вдруг всхлипнул, а вернее, испустил долгий печальный вздох, и стон оборвался. Наступил миг полной тишины, пронизанной только мягкими шлепками дождевых капель.
— Погасите эту дрянь.
Я выключил фонарик.
— Погодите, чтобы привыкли глаза, и следуйте за мной. Держитесь как можно ниже.
Мы благополучно добрались до проволоки и пролезли в дыру. Трое ждавших в окопе солдат помогли нам перебраться через бруствер. Майор Гленденнинг прошел сквозь них.
— Горячей воды, — буркнул он через плечо. — Раздобудьте, где хотите, но поживей. И кружку чая для мистера Мура. — Он неприятно усмехнулся.
В блиндаже он начал с того, что достал еще один поразительно белый платок и принялся протирать свой нож.
— Немедленно разденьтесь, не то схватите воспаление легких.
Я послушно разделся донага и завернулся в шинель. Лежа на блошнике, я следил, как он водит и водит ножом по платку. Лицо у него было непроницаемым, но совсем белым. Он оттирал нож, словно повинуясь непреодолимой потребности. Когда лезвие стало как будто совсем чистым, он положил нож на стол рядом со стопкой листков своего рапорта, смял платок в плотный комочек и небрежно бросил в угол на солому. Он начал расстегивать мундир. Пальцы, все в темных пятнах, двигались еле-еле.
— Стишки, — сказал он раздраженно.
— Это вышло почти как песнопение… как молитва. Я не заметил, что…
— Вы жалкое создание, Мур. — Ему понравилось звучание этих слов и он повторил: — Жалкое создание. Да.
— Может быть, если бы мы встретились при других обстоятельствах…
Вошел О’Киф с ведром воды и жестяным тазиком.
— Налейте тазик и поставьте на стол. Мистер Мур воспользуется ведром. Вы можете просушить нашу одежду?
— Постараюсь, сэр.
— Отлично.
Он был сама любезность и цвел чарующими улыбками. Когда он разделся до подштанников, О’Киф забрал нашу одежду. Майор снял наручные часы и аккуратно положил их рядом с ножом. Руки его почти по локти были вымазаны смесью грязи и крови. Так, во всяком случае, мне показалось. Он погрузил их в тазик и замер, давая теплу разлиться к плечам. Я знал, что мне надо встать и тоже вымыться, но не мог себя заставить.
— Песнопения или стишки, разницы ни малейшей. Мне нечего делать с человеком, не способным принять реальность такой, какая она есть.
— Но, может быть, у каждого человека своя реальность.
— Ерунда.
Он поднял руки из тазика и посмотрел на них. Потом встряхнул, и на стол посыпался дождь мутных капель.
— Мыло у вас найдется?
Я кивнул и встал, чтобы достать ему мыло из ранца. Пока я рылся в ранце, я слышал, как у меня за спиной он плещет пальцами в воде.
— Насколько я понял из слов Беннета, вас не отдали в школу.
— Совершенно верно.
Я положил перед ним мыло и мое маленькое серое полотенце, а потом снова лег.
— Боюсь, ваши родители совершили очень серьезную ошибку.
Я промолчал. Возможно, он был прав, но ничто на свете не принудило бы меня сказать ему это. Он нагнулся к самому тазику и принялся тереть лицо.
— Возьмите чистой воды, — предложил я. — Я не буду мыться.
Он словно не услышал.
— Школа готовит нас нести обязанности взрослых мужчин.
— Меня считали болезненным ребенком.
— Руководить и служить.
Он энергично растер лицо и принялся протирать пальцы, как перед этим — нож.
— Песнопения, — произнес он презрительно. — Вы католик?
— Нет.
— С ирландцами никогда не знаешь, чего ждать.
Он сложил полотенце, как его, несомненно, научили складывать полотенца в школе, и положил на стол.
— Да, — сказал он задумчиво. — Руководить и служить.
— Вы руководите, мы служим.
— Вы позволяете себе дерзости.
— Извините. Я не хотел.
— Надеюсь, вы не заражены ирландской болезнью?
— Какой болезнью?
— Недовольством. Нелояльностью. Такие эпидемии вспыхивают время от времени.
Он взял нож, внимательно его осмотрел и, удовлетворенный результатами осмотра, убрал в сумку.
— Что бы то ни было, Мур, что бы то ни было, я, по крайней мере, сделаю из вас мужчину.
Это прозвучало угрозой. Он забрался в блошник и закрыл глаза. Разговор — если это можно назвать разговором — был окончен.
Мы пробыли в окопах первой линии еще три дня, главным образом орудуя лопатами и устанавливая подпорки. Дождь шел не переставая. Иногда по голым рукам солдат била ледяная крупа, а по ночам морозило, и дно окопов затягивала тонкая ледяная корка. Мы прокладывали окопы дальше влево. Ворочать, не разгибаясь, набухшую водой глину было отчаянно тяжело, спина и плечи мучительно ныли, Солдаты ненавидели эту работу, копали медленно и непрерывно ворчали. Почти весь день наша артиллерия интенсивно била по немецким окопам. Часами у нас над головой визжали снаряды. Мало-помалу я настолько свыкся с этим звуком, что у меня, когда он вдруг обрывался, возникало странное ощущение беззащитности, и лишь потом ко мне медленно возвращалась способность мыслить.
Беннет сменил нас на четвертый день, когда стемнело. Ему и его людям предстояла неприятная обязанность установить перед новым окопом проволочное заграждение. Несчастью для них, мы продвинулись мало, и речь шла о каких-то пятнадцати ярдах или около того. Перед тем, как мы ушли, майор Гленденнинг осмотрел нашу работу и коротко кивнул мне. По-видимому, это означало, что все более или менее в порядке.
Я раздумывал о том, что вот сейчас мне предстоит процедура стаскивания сапог, и тут в дверь проскользнул Джерри.
— Выпьешь?
— Угу.
Я кинул ему фляжку.
— А ты?
Я покачал головой.
— Трезвенником стал?
Он отвинтил крышечку и сделал большой глоток.
— Я не могу спать. Так вдруг дело в этом.
— А кто сейчас может спать? Только чокнутые и недоумки.
Он протянул мне флягу.
— Возможно, ты и прав.
Только это и оставалось прямым удовольствием — ощущение того, как ром медленным пламенем разливается по горлу. Джерри опустился на колени и начал осторожно стаскивать сапог с моей правой ноги. Смутная боль в его глазах, когда он улыбнулся мне, была отражением моей. Он молчал. Снять сапог удалось далеко не сразу. Было очень больно, и я всерьез опасался, что надеть его снова не удастся — настолько распухли ступни.
— Словно пробку из бутылки тащишь.
Потом он стянул второй сапог и осторожно снял с меня носки. По-прежнему молча он взял флягу, налил рома на ладонь и принялся растирать мне ступни.
— Э-эй!
Он только ухмыльнулся.
— Утром будешь как новенький.
— А как у тебя ноги?
— На меня все это действует меньше, чем на тебя. Да ты же толком не передохнул ни разу и все время под дождем.
— Что-то ты преувеличиваешь.
— Не очень.
— Пожалуй.
Он снова отхлебнул из фляжки.
— Я все хотел тебя спросить…
— Ну?
— Как старик это сделал?
Я не понял.
— Ну… ты знаешь… в ту ночь.
— А… э… ножом.
— Кошки-мышки!
— Мммм.
— Молодец, ничего не скажешь.
— Пожалуй.
— Ноги перебинтовать?
Я мотнул головой. Мне хотелось только одного: спать. Ступни словно парили в воздухе, отделившись от меня. Открылась дверь, и вошел сержант Барри. Джерри сунул фляжку в солому и встал.
— Все в порядке, мистер Мур. Я только что обошел посты.
— Очень хорошо, сержант. Благодарю вас.
— Еще что-нибудь, сэр?
— Нет.
Моя веки неудержимо смыкались.
— У него к вам какое-нибудь дело, сэр?
В глазах Джерри вспыхнули огоньки.
— Нет. Все в порядке, сержант. Мне не удавалось стащить сапоги, и я позвал его помочь.
— Ах так, сэр. Вы, конечно, извините меня, сэр, но лучше было бы позвать денщика.
Я покраснел, черт бы его подрал.
— Благодарю вас за совет, сержант. Можете идти.
Он выждал у двери, пока не вышел Джерри, а потом вышел следом за ним. Я погасил лампу и попытался уснуть. Мое тело спало, но сознание не угасало. Я видел, как они сидят совсем одни по концам длинного сверкающего стола, разделенные канделябрами, солонками, отражающимися в столе букетами и прочими атрибутами их безупречно элегантной жизни. Они обмениваются фразами только в присутствии слуг, а потом замыкаются в злом молчании. Они все хотели, чтобы я стал настоящим мужчиной. Мне никак не удавалось толком понять, что это, в сущности, означает, хотя, бог свидетель, на объяснения они не скупились. Каким-то образом у меня сложилось непонятное убеждение, что все это связано с постижением мрака. Мрака, который внутри. Их голоса, когда они обменивались фразами, вежливыми, но полными неумолимой злобы, скользили и скользили по полированному столу. Возмужание, быть может, наступает тогда, когда бурление человеческого сознания и спокойствие человеческой души обретают гармонию в общении друг с другом. Какое имеет значение, чей я сын? В конце-то концов нас делает такими, какие мы есть, то, с чем мы соприкасаемся после рождения. Вот что видела она, следя за тем, как я расту. Она видела, как он дает, а я беру. И она тоже должна была внести свой вклад.
Мы провели на передовой еще четыре дня и вернулись на ферму. Мы слышали о тяжелых потерях ближе к Ипру, но сами остались почти не задеты новыми смертями. Останки людей и лошадей все время были вокруг нас. Но я заметил, что эта мешанина не вызывает у меня никаких чувств, кроме физической тошноты. Наступило и миновало рождество, почти не замеченное и никак не отпразднованное. Какая-то особа королевской крови прислала нам всем рождественские пудинги, которые мы добросовестно сжевали. Солдатам выдали добавочную порцию рома. Веселье было весьма ограниченным.
Вскоре после рождества пришло письмо от отца.
«Милый сын,
во-первых, от всего сердца поздравляю тебя с рождеством. Я оказался из рук вон плохим корреспондентом, но я никогда не умел и не любил писать писем. Боюсь, я должен упомянуть о твоем последнем — или единственном? — письме матери. Оно очень ее расстроило. Она показала его мне, и, должен признаться, я смеялся, восхищаясь твоим литературным стилем, однако она сочла его презрительным пренебрежением к ее тревоге за тебя. Надеюсь, ты напишешь и помиришься с ней. Ты должен понять, что ей очень тяжело. Тут все идет потихоньку, как обычно зимой. Охотничий сезон был отличным. Твоя кобылка становится все лучше. Я привык к твоему обществу, и теперь собственное не доставляет мне ни малейшего удовольствия.
Остаюсь твой любящий отец».Я лежал на кровати и глядел в потолок. Его покрывала сложная сетка трещин — черные глубокие опасные провалы и тонкие изящные линии, словно начерченные остро отточенным карандашом по когда-то белому потолку. Если вглядываться долго, линии слагались в узоры, или в лица, или в сумасшедший хоровод зверей, которые кувыркались и гонялись друг за другом с веселой увлеченностью, никак не вязавшейся с их положением. Беннет тоже читал письма, тихонько напевая и нетерпеливо шелестя бумагой.
— О, черт! — сказал он вдруг и смахнул конверты и письма на пол рядом со своей кроватью.
— Что случилось?
— Мы выигрываем войну.
— Правда?
— Правда. Высокопоставленные лица говорят… «Благодаря мужеству и преданности долгу наших мальчиков, мы…»
— …выигрываем войну. Это тебе пишут твои?
— Гордясь и ободряя. Оказывая моральную поддержку. Не могу избавиться от ощущения, что наибольшее удовольствие им доставили бы пышные похороны юного героя и горсть орденов и медалей, чтобы разложить их под стеклянным колпаком. Ну, и знаешь — такие траурные объявленьица в «Таймс»: «…памяти нашего возлюбленного героя-сына, павшего славной смертью…»
— Заткнись! Мой отец пишет, что охотничий сезон был хорошим.
— О чем ты думаешь, Александр? Я этого никогда не знаю.
— Я тоже. Во всяком случае, ни о чем существенном. Я боюсь. Но и это не так уж существенно. Мне бы хотелось остаться незатронутым.
— Войной?
— В том числе. Но вообще-то всем.
— Своеобразно! — сказал он, повторил и сразу уснул.
Следующие шесть дней на ферме майор Гленденнинг жал на нас уже по-настоящему. Ни у кого не было ни минуты передышки от учений и маршировки. Мы вставали с зарей, и нас наставляли и гоняли до самой ночи, когда наставало время ложиться спать. Малейшие нарушения карались со всей суровостью, и мы с Беннетом подвергались страшнейшим разносам, стоило ему вообразить, что мы слишком снисходительны к рядовым. Наше снаряжение и обмундирование, недавно еще заросшие грязью, обрели вид, почти положенный по уставу.
Вечером накануне возвращения в окопы мы с Беннетом шли от майора, получив последние инструкции. Доблестная луна спокойно плыла по небу, равнодушно игнорируя рвущуюся вокруг нее шрапнель. Было очень холодно, и земля похрустывала у нас под ногами. Дыхание, вырываясь изо рта, словно бы тут же замерзало. Беннету на рождество прислали в подарок трубку, и он время от времени без особой охоты возился с ней. Но в эту минуту ее огонек, то разгорающийся, то тускнеющий, был приятной противоположностью всему, что нас окружало. Негромко ухала сова. Тяжелая артиллерия молчала, и слышались только отдаленные хлопки, словно где-то палили из детских ружей. Беннет впивался зубами в мундштук, и они серебряно поблескивали. Моя нижняя челюсть, казалось, распухла от холода и готова была вот-вот оторваться напрочь. Ветер донес сердитое лисье тявканье.
— А-ах! — сказал я почти весело.
Тявканье раздалось снова, совсем близко, высокомерно-уверенное.
— Ты как будто ужасно доволен. — Беннет с трудом цедил слова сквозь зубы, сжимавшие мундштук. Пока он говорил, из чашечки взвивались искры и гибли от обмораживания.
— Мне надо очень мало, чтобы быть довольным, как говорят у меня дома.
— А уж в каком восторге ты был бы, если бы мог вскочить на лошадь и затравить несчастную тварь.
— В безумном.
В небе опять начала рваться шрапнель. Луна сохраняла полное равнодушие.
— А красиво, — сказал я, запрокидывая голову так, что заныла шея. — Точно очень дорогой фейерверк.
— Дороже не бывает. — Он вынул трубку изо рта и заглянул в чашечку. Ему как будто не понравилось то, что он увидел. Снова сунув трубку в рот, он сердито подул в нее и пошарил в кармане, ища спички.
— Не думаю, что ты когда-нибудь угомонишься настолько, чтобы стать истинным курильщиком трубки.
Он только буркнул в ответ и чиркнул спичкой. Огонек осветил его красные пальцы, все в болячках от холода. Глядя на них, я ощутил в моих пальцах невыносимый зуд его болячек. Он задул спичку и бросил ее на землю.
— Черт! — сказал он, снова вынул трубку изо рта и спрятал ее в карман.
— Мой отец — курильщик трубки. Идеальный. С помощью трубки он укрывается от окружающего мира. Он не смотрит на тех, на кого не хочет смотреть, а заглядывает в трубку. Ну, что может быть такого в чашечке трубки? Тлеющая трава, и только. А ты допускаешь, чтобы трубка выводила тебя из равновесия. Это никуда не годится. И в любом случае с ней ты — вылитый управляющий банком.
Он протянул руку и ухватил меня за ухо. Крепко защемил и дернул.
— Эй!.. Ой…
— Значит, управляющий банком. Ах ты жалкий убийца бедных лисичек!
Он дернул сильнее. Я откинулся вбок, чувствуя, что оставляю в его пальцах половину уха, вцепился ему в левое плечо и наподдал коленом. Он чуть было не хлопнулся навзничь, но кое-как удержался на ногах, извернулся и стиснул меня в медвежьих объятиях, стараясь оторвать от земли. Он так тесно сомкнул руки, что я всем телом чувствовал, как в нем клокочет смех.
Я вырвался и схватил его за запястье.
— Отдавай мое ухо!
— Не отдам. Никогда. Я скурю его в моей трубке.
— Банковский управляющий и людоед сверх того.
— Добрый вечер, господа.
Мы отпустили друг друга, и каждый остался стоять один под улыбчатым взглядом луны и прокурорским — сержанта Барри.
— Добрый…
— …вечер…
— …вечер…
— Добрый, сержант…
— …добрый…
Близнецы-двойняшки.
Он испепелил нас взглядом и прохрустел мимо по замерзшей глине. Нас сразил исступленный смех. Мы добрались до фермы, содрогаясь от безмолвного хохота. Внутри было не так холодно и пахло пылью, сушащейся одеждой и похлебкой невесть из чего. В нашей комнате нас ждал Джерри. Он стоял у моей кровати и явно поднялся с нее, только когда услышал наши шаги на лестнице.
— «Дух чудесный, нет, не птица ты»[40], — продекламировал Беннет, слегка опьяневший от нашей стычки с сержантом.
— Что ты так долго? Я почти час жду. Где ты был?
— Нас задержал старик.
— «С высоты небесной…»
— Мне очень неприятно, что ты так долго ждал.
— А, ладно!
— «…Льешь» что-то там такое…
— Что это с ним?
— Почем я знаю.
Беннет начал раздеваться, швыряя одежду на пол.
— «От сердца полноты», — сказал он. — Ну да, от полноты сердца.
— Тебе что-нибудь нужно, Джерри?
Он покосился на Беннета.
— Да не обращай ты на него внимания, бога ради.
— Вот-вот! Говорите. А на меня внимания не обращайте. Будто меня тут и нет.
— Если бы ты заткнулся, может быть, нам было бы легче в это поверить.
Я снял шинель и повесил ее на дверь.
— Как ты думаешь, майор даст мне отпуск?
— Что? Сейчас?
— Да.
Он стоял, сунув в карманы крепко сжатые кулаки. Теперь он вытащил одну руку из кармана и протянул мне листок.
— Это что?
Я взял листок, и он засунул руку назад в карман.
— Если вы меня извините, дамы и господа, я отойду ко сну! — Беннет забрался в свой блошник и закрыл глаза. — Я сплю, — объявил он. — Не слышу злого, не говорю злого, не вижу злого. Аминь!
— Сядь, Джерри.
Он присел на край моей кровати.
Я развернул листок. Это было письмо. Слова выстроились напряженно прямые по бледно-голубым строчкам. Буквы были крупные, кудрявые, тщательно выписанные. Черные, но иногда вдруг в середине слова почти серые — перо тут следовало еще раз обмакнуть в чернила.
«Сыночек миленький не знаю что с нами будет один офицер написал что твой отец пропал без вести. Как мы будем жить когда деньги перестанут приходить прямо не знаю только я очень за него тревожусь. Может они все равно будут платить только вот не знаю. Пропал без вести ведь не убит твержу себе днем и ночью потому что не могу спать все думаю. Не годится чтоб человек помирал так далеко от дома и может без священника. А потому если он только пропал без вести сыночек миленький так я вот думаю может ты его разыщешь а как разыщешь так может вернешься домой а то я не справляюсь без вас обоих. Да благословит тебя бог сынок да пошлет тебе разыскать отца. Погода очень плохая твоя любящая мать».
Я прочел письмо еще раз — главным образом потому, что не знал, что сказать Джерри, — потом сложил его по прежним сгибам. Я подошел к Джерри и отдал ему письмо. Его пальцы коснулись моих. Они были ледяные.
— Я думаю, что все-таки нет.
— Нет? — Он посмотрел на меня с недоумением.
— Гленденнинг. Отпуск. Ты же спросил.
— А… да. Я было подумал… Ты прав. Да, он вряд ли даст.
— Конечно, я могу пойти и спросить, — сказал я без всякой охоты. — И сразу напишу отцу.
— Это-то зачем?
— Ну… я подумал, что раз есть финансовые…
— Брось, Алек… Но вот если бы ты сходил…
— Ты думаешь…
— Да. Она же хочет, чтобы я его разыскал.
— Джерри, но у тебя нет никаких шансов его найти. Скорее всего он…
— Не важно. Она хочет, чтобы я его нашел. Если он убит, ей дадут пенсию. Спросишь, а? Если он ранен, так, может, я помогу как-нибудь.
— Хорошо. Я схожу сейчас же.
Мне отчаянно претила мысль о холоде, о темноте, о майоре, еще более холодном и темном, чем ночь. Я снова надел шинель. Джерри стоял, не двигаясь. Я помешкал у двери, проверяя, хочет ли он пойти со мной.
— Я подожду тут. Если он не против.
— Он спит.
Выходя, я услышал, что Джерри, запел. Очень тихо. Слов я не разобрал. Его руки, стиснутые в кулаки, были засунуты в карманы.
Майор Гленденнинг играл в вист с тремя друзьями, а может быть, мне следует сказать — с тремя собратьями офицерами. Меня удивило, что они сидели за карточным столиком с зеленым суконным верхом. Кто-нибудь привез его из Англии? Или его вежливо реквизировали в одном из поместий по соседству? — подумал я. В четырех тщательно протертых бокалах было виски с содовой, и денщик на заднем плане незаметно следил за уровнем жидкости в них. Майор указал мне на стул и продолжал играть. Выпить он мне не предложил. В очаге горел уголь, и от его жара мои болячки начали невыносимо зудеть, что было к лучшему, так как иначе я заснул бы. Минут через десять настал черед майора Гленденнинга быть болваном. Он взял свой бокал и подошел ко мне. Я встал.
— Итак, мистер Мур? — Судя по его тону, мне лучше было бы не приходить.
— Извините, что я беспокою вас, сэр, но один из солдат получил письмо из дома с сообщением, что его отец пропал без вести. Я… э… подумал, нельзя ли дать ему отпуск по семейным обстоятельствам на два-три дня?
Он долго молча смотрел на меня.
— Какой же это солдат?
— Рядовой Кроу, сэр.
Он чуть отпил из бокала. Его лицо ничего не выражало.
— А да, Кроу. Разумеется.
— Я прочел письмо, сэр. Оно от его матери.
— Не сомневаюсь.
Он уставился на огонь. За столиком кто-то постукивал ногтем по картам.
— Мистер Мур, вам пора полностью прекратить всякие отношения между вами и рядовым Кроу.
— Я полагал, это вполне обоснованная просьба, сэр.
— А вы подумали о том, у скольких солдат английского экспедиционного корпуса отцы, братья, сыновья и другие близкие родственники пропали без вести, ранены, убиты? Убиты? Вы подумали?
— Да нет, сэр… я просто…
— Короче говоря: нет. Кроу завтра отправляется на передовую с остальными своими никчемными дружками.
— Я не думаю…
— Я знаю, что вы не думаете, мистер Мур. Можете идти.
Джерри, конечно, все время прислушивался, не возвращаюсь ли я. Едва я начал подниматься по лестнице, как услышал, что дверь открылась и он спускается мне навстречу. Но когда мы встретились, он даже не остановился, только чуть помедлил и резко прошел мимо.
— Нет, — сказал он. Это не был вопрос.
— Нет, — шепнул я ему вслед. И все.
Утром дождь лил как из ведра, и нам еще никогда не было так трудно построить солдат на поверку. К моему облегчению я увидел Джерри. В плаще, с мешком за плечами он выглядел очень хрупким. Дождь стучал по их каскам, веселыми струйками падал на плечи и с какой-то неуместной игривостью ручьями стекал на землю. Выглядели они как последний сброд. Майор, по-видимому, был того же мнения. Поглядев на них, он недовольно сжал губы, повернулся на каблуках и ушел в дом. Я пошел за ним. Денщик подал ему чай, и он стоял спиной к огню, сжимая в руках кружку. Молоко с сахаром не вызвало у него никакого неудовольствия.
— А, да, Мур. — Он смерил меня долгим брезгливым взглядом, и я понял, что он думает о нашем вчерашнем разговоре.
Я отдал честь.
— Когда мы выступаем, сэр?
Он взглянул на часы.
— Через пятнадцать минут. В такую погоду нам на переход потребуется шесть-семь часов.
— Могу я разрешить солдатам пока разойтись, сэр?
Он посмотрел на меня с удивлением.
— Чтобы они успели выпить чаю и вообще.
— Нет, — сказал он, повернулся к огню и наклонил голову над кружкой. Я знал, что задай этот вопрос Беннет, ответ был бы другим. Или сержант Барри. Как командир, я был бесполезен. Я не умел подчинить солдат себе и не мог ничем им помочь. Я отдал честь его спине и вышел, оставив на полу кольцо дождевой воды.
Наши прежние унылые дни на передовой совершенно не подготовили нас к тому, что значит находиться под огнем. Результаты мы видели вокруг повсюду, и каждый из нас по-своему либо захлебывался от тошнотворного ужаса, либо внутренне цепенел. Теперь у нас не осталось уютных иллюзий, за которыми можно было бы укрыться. Под холодным ветром смерти мы все были равны. Жалости к мертвецам в сердцах живых уже не оставалось никакой — только угрюмая злоба: каждая новая смерть означала, что рухнул еще один барьер, что сделан еще один шаг к тебе самому.
Я пытался держаться спокойно. Я выполнял и передавал приказы. Как машина. Беннет, наоборот, был прямо-таки весел. Его жутковатые шуточки тонули в реве канонады, искрящиеся глаза заволакивал дым. Отсутствие Джерри я заметил лишь бессознательно. Только когда вымотанные, недосчитываясь многих, мы вернулись на ферму, я позволил себе сосредоточиться на факте его отсутствия. Если отсутствие можно назвать фактом.
— Что скорее всего произошло с Джерри? — Я тут же понял, что изложил ситуацию довольно нелепо и переусложненно, но он все равно не услышал. Он хмуро смотрел на сырые французские поленья, которые давали очень мало жара и очень много дыма.
— Беннет!
— У меня начинается грипп. Я чувствую.
— Скажи это старику и посмотри, что последует.
— Я никак не могу согреться. У меня такое ощущение, что кости внутри — сплошной лед. А уж озноб! Ты что-нибудь подобное испытывал?
— Просто шок. Пройдет.
Он не мог заболеть, это я знал твердо.
— Шок? Какой еще шок, черт подери?
— От обстрела. Сам знаешь. У очень многих после обстрела наступает шок.
— По-твоему, я схожу с ума?
— Я вовсе…
— Пять-шесть дней в постели. Каждые два часа пить горячее. И сразу менять грелки, едва начнут остывать. Парочка завлекательных книг, читать которые не обязательно. Топящийся камин в спальне, отблески на потолке, угли, тихо рдеющие всю ночь напролет, так что в комнате царит приятный полумрак. Питание легкое. Как говорится: простуду корми, лихорадку мори голодом. Все только так, как нравится пациенту, а перед сном горячее виски с лимоном. Постель не покидать, за исключением кратких пробежек на шатких ногах в ватерклозет за стеной. Грипп, или инфлюэнца, если ты предпочитаешь называть это так.
— Я предпочитаю называть это шоком. Но не спорю: прописанное лечение подходит и тут. Где Джерри?
— Что-что?
— Джерри. Ты его видел?
Он задумался.
— Нет. Вроде бы нет. Но он не убит и не ранен, в этом я уверен.
— Черт!
— А что?
— По-моему, он сбежал.
Беннет откинул голову и взвыл от смеха.
— Господи, и ты еще говоришь, будто у меня шок! А сам окончательно свихнулся.
— Я серьезно.
— Джерри? То есть… О, господи! Тайное письмо… Что нам делать?
— А что мы можем? Только надеяться, что он не попадется.
Мы выпили за это. Беннет не спал всю ночь. Я слышал, как он ворочается и постанывает. Утром его затолкнули в угол битком набитого санитарного фургона и отправили в тыловой госпиталь. Покидая комнату, он тоскливо поглядел на меня.
— Я умру, вот увидишь.
— Не говори глупостей, Беннет.
— Я бесславно умру от инфлюэнцы. Даже не от скоротечного загнивания ног. От него меня, вероятно, излечат еще до моей кончины.
Я засмеялся, хотя, должен признаться, мне было совсем не весело.
Он возвел глаза к небу и сложил ладони.
— Бог воинств, дай мне вернуться, чтобы меня разорвало снарядом в клочья. Не дай… не дай мне умереть от инфлюэнцы.
Его унесли.
Исчезновение Джерри официально обнаружил сержант Барри. Я занялся разборкой вещей Беннета. Меня душила черная тоска. Было очень холодно. По окну стучала ледяная крупа и сыпалась из трубы на остывшую золу в очаге. Барри вошел, не постучав.
— Сэр!
— Доброе утро, сержант. У вас ко мне дело?
Я сидел на полу, укладывая вещи Беннета в его ранец. Теперь я встал.
— Я насчет рядового Кроу, сэр. Я подумал, может, вы знаете, где он.
— Нет. С какой стати?
Мой голос звучал виновато.
— По-видимому, он самовольно ушел, сэр.
— Не может быть.
Наступила долгая пауза. Он смотрел в окно. Крупа рассыпалась по стеклу калейдоскопическими узорами. Но вряд ли он их даже видел.
— Почему… почему вы решили? — Я почувствовал, что у меня начинает краснеть шея. — Майору Гленденнингу вы докладывали?
— Я решил сперва обратиться к вам, сэр. Я думал, может, вы что-нибудь знаете.
— Нет, не знаю. А солдаты…
— Солдаты, сэр, по-видимому, ничего не знают.
— Как давно его не видели?
— Боюсь, уже несколько дней. Еще когда мы были на передовой.
Он перевел взгляд с окна на меня.
— Вы же понимаете, в чем его обвинят.
— Я убежден, сержант, что тут какое-то недоразумение.
— Не думаю, что майор так на это взглянет, сэр. — Он улыбнулся мне. Улыбкой почти нежного торжества. Я не мог понять, откуда у него такая неприязнь ко мне.
Я снова сел на пол и продолжал укладывать вещи в ранец.
— Если вы больше ничего не скажете, сэр, я пойду к майору.
— Я могу только сказать, что произошло какое-то недоразумение.
Он отдал честь и ушел. Охваченный ощущением полной беспомощности, я схватил ранец и швырнул его через всю комнату в дверь. Бесплодный жест, который, как я прекрасно понимал, ни в чем не убедил бы ни Барри, ни майора Гленденнинга.
За мной прислали очень скоро. Прежде чем пойти, я вынул из нагрудного кармана гребешок и пригладил волосы.
— Жаль, что с Беннетом так получилось, — сказал майор. — В настоящий момент найти ему замену будет нелегко. В настоящий момент ощущается значительная нехватка младших офицеров. Так что там с Кроу?
— Я знаю не больше вас, сэр. Я не видел его с того вечера, когда сказал вам про его отца.
— Больше он вам ничего не говорил?
— Нет, сэр.
— Его характеризуют не с лучшей стороны.
Я промолчал.
— Не так ли?
— Не знаю, сэр. Солдат он не хуже остальных.
— Я говорю о другом. Мне о нем не раз докладывали, не так ли?
— Ну, мне кажется, были…
— Отвечайте, да или нет. Мне о нем докладывали?
— Да, кажется. Но я полагаю…
— Если мне надо будет знать, что вы полагаете, я так и спрошу.
Он что-то записал на лежащем перед ним листе.
— Вам что-нибудь известно о его политических взглядах?
— Нет, сэр.
Он внимательно посмотрел на меня.
— Так ли?
— Я ничего не знаю. С какой бы стати?
— Не считайте меня круглым идиотом, Мур.
Он еще что-то написал на листе. Я не мог разглядеть, о Джерри или обо мне.
— Я прекрасно знаю, что происходит в вашей жалкой предательской стране. Я слышал, сколько изменников-ирландцев сражается на стороне немцев.
— Если это так, то они, вероятно, считают, что сражаются за свою родину.
— Интересно, Мур, интересно. Меня поражает, как человек вашего происхождения мог сказать подобное.
Он снова заскрипел ручкой. Скрип, скрип поперек страницы.
— Недовольный?
— Я даже не знаю, какой смысл вкладывается в это слово.
— Ха-ха-ха! — Он засмеялся довольно добродушно, не отрывая взгляда от того, что писал.
— Значит, вы не считаете, что Кроу перебежал к врагу?
— Категорически нет, сэр.
— Вы говорите очень убежденно.
— Да, сэр.
— Следовательно, вы до некоторой степени имеете представление о том, что происходит у него в голове.
— Я могу лишь предположить, сэр, что он отправился искать своего отца.
— Ему это было безоговорочно запрещено. Разве только… — Он взглянул на меня.
— Я передал ему то, что вы сказали, сэр.
— Вот именно. — Он положил ручку перед собой. — Дезертирство под огнем противника — таково будет обвинение, если его поймают.
— Я убежден, что он не дезертировал, сэр.
— Тут наши мнения расходятся. Вы знаете, каким будет приговор?
— Богом клянусь, он не дезертировал, сэр.
— Если он жив, мы его найдем. Остальное решит военно-полевой суд. Можете идти.
— Есть, сэр.
— Еще одно, Мур. Для вашей же пользы не советую вам пытаться его предупредить.
— Не понимаю, почему вы мне не верите.
— Просто, лжете вы или говорите правду, получается это у вас не слишком убедительно. Благодарю вас.
Я не представлял себе, на что рассчитывал Джерри. Вряд ли все-таки он собирался перевернуть все до единого одетые в хаки трупы между нашими позициями и Ипром. И от могил толку было бы не больше. Ведь на крестах если и пишутся фамилии, то только офицеров, и все равно они скоро исчезают. Мили и мили трупов останутся здесь, когда это кончится. Наши трупы, их трупы — и не только в аккуратных кладбищенских рядах, но и брошенные как были, чтобы еще много лет спустя их выворачивали из земли лемехи плугов или бродячие псы. Свиньи. Я мысленно видел, как он заботливо наклоняется над мертвыми и умирающими. Он был такого же роста, как в двенадцать лет. Идеальный жокей — легкий, ловкий, неутомимый. Меня невыносимо угнетала мысль о том, как он ищет там и все время помнит устав. Мой револьвер был чист. По прихоти судьбы. Но в действительности я убил ровно столько людей, сколько Китченер и Френч, ровно столько, сколько все офицеры и все рядовые английской армии. В случае необходимости нанесет ли он, как Гленденнинг, быстрый милосердный удар, избавляющий от страданий? У меня тогда это вызвало восхищение. И страх. Я всегда подозревал, что у свиней гнусные привычки. Они ведь пожирают собственных новорожденных поросят. Лебеди наклоняли головы с черной полоской и смотрели, как мы плыли наперегонки. Иногда они высоко приподнимались на воде и хлопали могучими крыльями, точно хлыстом. Но в этом не было угрозы. Нам никогда ничто не угрожало в нашей ложбине между голубыми холмами. Разве что сами холмы, когда они темнели, уходили ввысь и надвигались ближе и ближе, словно стремясь раздавить всех, кто жил в их тени. Меня никогда не влекло то, что лежало за холмами. А теперь я знал, что за ними лежало. Сомма, Эн, Ипр, Пикардия, Фландрия. Такие красивые названия. Он ведь очень добрый. И переворачивать эти жуткие тела будет осторожно и нежно. Его отец тоже был невысок и тщедушен. Видел я его не больше двух раз, но эта тщедушность запечатлелась в моей памяти. Маленький, щуплый. Пять-шесть лопат фландрской глины — и он исчезнет навсегда.
А названия и у нас красивые. Лугнакуилла, Гленкри, Киппьюр, Тайнели, Аннамоу.
Я спал, провалившись в самые глубины беспамятства, когда он разбудил меня, тряся за плечо. Я долго вырывался из цепких рук сна, но наконец осознал, что меня дергают и толкают его оледеневшие руки. Он скорчился рядом со мной. Его дыхание щекотало мне щеку. Темнота была непроглядная, но я знал, что больше никто не стал бы вот так тянуть меня за локоть.
— Ш-ш-ш! — сказал я. Он не произнес ни слова, но казалось, что комната полна шумом его присутствия.
— Я уж думал, что тебя не добудиться.
— Ш-ш-ш!
Я провел ладонью по его рукаву. Он был мокрым насквозь до самого плеча.
— Я тебе что-нибудь найду, — шепнул я. — Сейчас же раздевайся. — Я вылез из блошника, ощупью пробрался через комнату и отыскал белье и фуфайку Беннета. Пока было достаточно и этого. Его кожа вся была такой же ледяной, как руки. — Ложись в постель. Там теплее.
Он со вздохом лег.
— Поесть найдется?
— К сожалению, ничего нет. Только коньяк.
— Сойдет.
Я взял бутылку со стола, вернулся к кровати и лег рядом с ним. Натянул одеяло на нас обоих и отдал ему бутылку.
— Как ты сюда пробрался? Тебя кто-нибудь видел? Тебя же ищут, ты знаешь? — Я слышал, как он глотал коньяк, точно воду.
Он отнял бутылку ото рта и сунул мне в руку.
— Да. Я знаю, что меня ищут. А что я тут, не знает никто. Можешь быть уверен. — Он усмехнулся. — Сбегая с уроков, я навострился не попадаться на глаза кому не нужно. Вот по лестнице так подниматься было страшно, кошки-мышки. У тебя все в порядке?
— То есть в каком смысле?
— Мне очень не хотелось уходить тайком от тебя. Были неприятности?
— Неприятности — не то слово. У меня-то все в порядке, а у тебя нет. Какого черта ты вернулся?
— А куда мне было идти? Я об этом думал. Все время думал. Но так и не придумал, как переплыть Ла-Манш.
— Еще называется великий пловец!
— Может, выпей я две такие бутылочки, так и переплыл бы.
— Ты его нашел?
— Выпей-ка.
Я выпил. Горлышко было теплым от его губ. Он повернулся на бок и потеснее пристроился ко мне, пытаясь впитать мое тепло. Я обнял его, крепко прижал к себе и почувствовал под рукой его тонкие, хрупкие кости.
— Да, — шепнул он, — я его нашел. Сведения о нем. Про него.
— Ну?
— Наступил на мину. Скоротечное загнивание ног, как сказал бы твой Беннет. — Он долго молчал. — Во время демонстративной вылазки, черт их дери.
— Грустно.
— Я-то его почти и не знал. Он совсем дома не бывал. Ему эта жизнь нравилась. В отпуске каждый день до самого отъезда начищал сапоги. По дому он никогда ничего не делал. Только сапоги чистил. Я таких сапог больше ни у кого не видел. Надо будет написать ей.
— Они со временем напишут. Зачем тебе самому?
— Мне хочется, чтобы она знала, что я искал. Ей приятно будет.
— А последствия?
— …я на последствия!
— Надо тебя как-то отсюда отправить.
— Я вымотался.
— Если одеть тебя в форму Беннета, может быть, тебе удалось бы добраться до побережья.
— А оттуда вплавь? Алек, ты же не ребенок. Да и до побережья я нипочем не доберусь. Стоит мне рот открыть, и сразу станет ясно, что никакой я не офицер. Ну, и пристрелят меня на месте. А кроме всего, я совсем вымотался.
— Тебе надо выбраться отсюда. Разве ты не понимаешь…
— Ничего я не понимаю. Я сделал то, чего она от меня хотела. И опять сделал бы. Кому от этого плохо? Английский экспедиционный корпус остался, каким был. Ничье достоинство не пострадало. Да и ему, пожалуй, лучше там, где он теперь. Послушай, Алек, я хоть перестал протирать задницу и что-то сделал.
— Только сделал самое неудачное из всего, что мог.
Он просунул руку мне под шею, и мы замолчали. Мое тепло передавалось ему, но ладонь, прижатая к моей шее, была все еще холодной, как камень, вытащенный со дна моря.
Я решил, что он уснул. Стук наших сердец был словно хлопки крыльев, когда лебеди медленно поднимаются с озера над взбаламученной водой.
— Когда вернемся домой, то устроимся жить одни. — Его голос стал легким и дремотным.
— Ты все-таки был с девушкой? Ну, как ты мечтал?
— Времени на это еще хватит. Ты только подумай, сколько будет девушек после войны. А мужчин — раз-два и обчелся. Вот тогда мы сможем выбирать по-настоящему. Я вот часто думаю, какая это, наверное, благодать медленно тонуть в могучих объятиях вдовы лет так сорока пяти. Огромной. Не женщина, а пуховик. Мне твои костлявые хныкалки ни к чему.
— Я буду жить один.
— А я как же? Нет, как же?
— Ш-ш-ш! Даже без тебя.
— А ты не боишься, что тебе станет одиноко? Что останешься один навсегда?
— Нет. Я боюсь, только когда я с другими людьми. А ты со своей толстухой-вдовой можешь поселиться рядом. И еще лошади. Мы же их обязательно заведем. Я буду кормить твоих детей конфетами.
— Ты будешь один.
— Мммм.
— Так жить не годится.
— Наоборот. Мой дом будет всего лишь раковиной для моего тела. Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще дышал моим воздухом вместе со мной, поднимал мою пыль.
— По-моему, это нехорошо.
— Почему, собственно? На людях я буду вести себя безупречно. А ведь только это и важно, разве нет? Над трубой я подниму тот флаг, который укажешь мне ты. Может быть, я буду писать тягучие книги. У меня пальцы чешутся взяться за перо, а в голове пусто: ни сюжетов, ни идей.
— Тогда уж лучше занимайся лошадьми.
— Наверное, ты прав.
Внезапно я уснул. Он ткнул меня локтем, и мои веки с трудом разомкнулись.
— Я еще выпью, — сказал он. — Скоро надо будет что-то сделать.
Я пошарил, нащупывая бутылку.
— Ты человек действия.
— Ты думай. А я буду действовать.
— Не говори глупостей, Джерри.
— Ты не спорь, ты думай.
Он отпил из бутылки. Слишком много отпил. Я осторожно забрал у него бутылку. По его подбородку ползла струйка коньяка. Он перехватил ее пальцем. Я заткнул бутылку пробкой. Передо мной возникло лицо Гленденнинга, и я понял: как бы мы ни думали и ни действовали, верх останется за ним. Внизу под нами послышался шорох. Нервное шарканье по полу, а затем вновь тишина. Пальцы Джерри больно сдавили мне затылок.
— Думай!
Он крепче сжал пальцы. Острые стрелы боли взлетали у меня за ушами.
— Ну, мне представляется…
— Не виляй! Никаких «если» или «но». Алек?
— Что?
— Мне страшно.
— Нет.
— Как так нет? Мне страшно. Я знаю. Просто по запаху чувствую.
— Ты перепутал нас. И говоришь обо мне.
— Что мне делать? Прятаться?
— Нет, это не поможет. Просто оттянет…
— …черный час?
— Именно.
— Ну, так?
— Есть только две возможности.
— Бежать или остаться?
— Именно.
— Ты думаешь ничем не лучше меня.
— Я же всегда это говорил.
— А, кошки-мышки!
— По-моему, тебе следует остаться. Принять последствия…
— Тарарабундей!
— Я знаю, приятного тут мало…
— Но ты бы поступил именно так.
— Наверное. Скажу честно: не знаю. Вполне возможно, что я попробовал бы избежать… уклониться. Но я считаю, что поступил бы в таком случае неправильно.
— А ты замолвишь за меня словечко?
— Конечно. Только голос у меня не очень громкий.
— Ну, а ты кричи.
— И Беннет. Я знаю, он тоже будет за тебя ходатайствовать.
— А, Беннет! Чертов Беннет.
— Почему ты так говоришь?
— Еще один великий английский герой.
— Он просто много болтает. А сердце у него хорошее.
— Это значит только, что он поплачет, когда будет тебя расстреливать.
— А я думал, он тебе нравится.
— Да и нравится. Ну, раз ты так советуешь, я остаюсь. Тут ведь где ни спрячься, либо те, либо другие, а уж взорвут меня.
Внизу кто-то вдруг засмеялся — во сне или нет, понять было невозможно.
— Тебе лучше побыстрее одеться и выбраться отсюда. Иди прямо к майору Гленденнингу. Да. Господи, вызволи нас!
— Я сделал только то, чего не мог не сделать.
— Знаю. Наверное, и со всеми всегда так.
Я вывернулся из его рук и встал. Каждое мое движение, казалось, сотрясало весь дом.
— В тазике есть вода, хоть и грязная. Тебе не мешает умыться. Я подберу, что тебе надеть. Все твои вещи насквозь мокры.
Я чиркнул спичкой и поглядел на него. Он мне улыбнулся. Его глаза ослепительно блеснули. Я зажег лампу, и комната превратилась в зеленую пещеру. Холод был лютый.
— Для чего мне умываться?
— Как хочешь. Но я всегда умываюсь, когда мне предстоит важный разговор.
Джерри перегнулся через край кровати и сплюнул на пол.
— Коньяку.
— С тебя хватит.
— А я говорю — нет.
Бутылка стояла на полу у кровати. Он схватил ее, торопливо вытащил пробку и швырнул в угол. Барабанил дождь, а может быть, где-то били пушки. Он откинулся на кровати и принялся лить коньяк себе в рот. Лицо у него было, как мел, и только чернели круги под запавшими глазами. Страх вынуждал его глотать, глотать, а я мог только стоять и смотреть. Наконец он, сильно размахнувшись, швырнул бутылку в угол вслед за пробкой. Она разбилась о стену с оглушительным звоном. А он разом провалился в сон. Внизу послышались голоса и шаги. Я все еще не мог шевельнуться. Шаги на лестнице. Дверь отворилась, и почтительный голос О’Кифа у меня за спиной:
— Ничего не случилось, сэр?
— Нет.
— Матерь божья!
Его ноги простучали по комнате, и он остановился рядом со мной, тоже впиваясь взглядом в Джерри, распростертого на кровати.
— Он что, ранен, сэр?
— Нет.
— Просто..?
— Вот именно.
Он на цыпочках подошел к самой кровати.
— Бедняга. А как… как… ну… если разрешите вас спросить?
— Просто вошел в дверь. Как вы. Мокрый насквозь. — Почему-то это прозвучало неубедительно, хотя и было чистой правдой.
— У вас есть какой-то план, сэр?
— Нет, О’Киф, боюсь, что нет. Никакого плана.
Он поскреб в затылке.
— По-моему, вам обоим будет лучше, чтоб его тут не видели. — Он с тревогой взглянул на меня. Человек, улавливающий тонкости любой ситуации.
— Я не знаю, что делать.
— Вы бы пошли прогуляться. Его бы надо убрать отсюда, пока не пришел сержант. Вы же понимаете, о чем я. Он человек суровый. Может, я сумею его спрятать, пока он не протрезвеет. И тогда получится, что вы вроде бы ничего не знаете. Совсем ничего. Сделайте удивленные глаза и помалкивайте. Не нужно, чтоб за его глупость и вы отвечали.
— Мне надо будет ходатайствовать за него.
— Это одно, сэр, а пособничество и укрывательство — совсем другое.
Он неуверенно мне улыбнулся.
— Если его найдут здесь, ни вам, ни ему пользы не будет. Вы понимаете?
Я кивнул.
— А раз так, — он поднял с пола мои сапоги и протянул мне, — то и уходите.
Я послушался. Сапоги были сырыми внутри, и мне не сразу удалось их натянуть. Джерри храпел, как человек, которого не гнетут никакие заботы. Я взял шинель и пошел к двери. Мне не хотелось уходить из зеленой пещеры. Мои пальцы уже взялись за дверную ручку, но тут дверь распахнулась, оттолкнув меня, и в комнату вошел сержант Барри. Возможно, он уже некоторое время стоял на лестнице и слушал. Так или иначе, его лицо было непроницаемым, как у китайца.
— А! — Больше он ничего не сказал. Он даже не счел нужным отдать мне честь. Джерри храпел все оглушительнее. Барри отступил за порог, ни на секунду не отводя взгляда от Джерри, чтобы он не исчез, и рявкнул в темноту лестницы.
— Двое сюда! Бегом!
Мы молча прислушивались к шуму внизу. По ступенькам прогремели шаги, и в комнату, чуть не упав, ввалились два солдата с винтовками наизготовку.
— Арестуйте его, — сказал он, кивая на спящего Джерри.
— Мы его нашли вот так, сэр. Мистер Мур как раз шел доложить майору.
Я покраснел. Барри пропустил его слова мимо ушей. Солдаты подхватили Джерри и выволокли из комнаты. Он мотал головой из стороны в сторону, словно протестуя, но глаз не открыл и ничего не сказал.
— Фении, сучье семя, чтоб их! — сказал Барри в никуда. — Думают, что им все с рук сойдет.
Он сгреб мокрую одежду Джерри, сунул ее под мышку и ушел.
Я сел. Меня трясло. Еще секунда, и я упал бы.
— Вот так, — сказал О’Киф. — Неудачно вышло, чтобы не сказать хуже.
— Да, неудачно.
У меня тряслись руки.
— Теперь неприятностей не оберешься.
— Да.
Я весь трясся.
Он нагнулся, взял блошник, еще хранивший тепло Джерри, и закутал мне плечи.
— Сейчас затоплю. А чай внизу вот-вот закипит. Мигом принесу вам кружечку.
Он присел на корточки и начал разгребать в очаге. Тепло Джерри ласкало мне плечи. Я испытывал глубокую благодарность и жалел, что не могу отплатить ему тем же. А больше я ничего не помню, пока меня не пришли звать к майору. Вокруг был уже серый свет, и дым из очага ел мне глаза. Рядом со мной стояла кружка — пустая, если не считать кучки чаинок у той стороны, которая наклонялась к губам. Я причесался. Я должен был сделать хотя бы это.
— Итак, вашего приятеля нашли.
— Он сам вернулся, сэр.
Он поглядел мне прямо в лицо и улыбнулся.
— Не стоит прятаться за слова, мистер Мур.
Из огня вырвался сноп искр, и они секунду тлели на половицах.
— Его нашли при весьма странных обстоятельствах. Даже такой близорукий юнец, как вы, должен был бы это заметить.
Я решил, что разумнее не отвечать.
— Возможно, точнее было бы сказать «тупой»? Э, э?
— Не знаю, сэр.
— Вы правы, Мур. Вы ничего не знаете. И в том числе, что мы на войне. Вы сознаете, что на вас надето?
— Род маскарадного костюма, сэр.
Его лицо побелело. Он схватил со стола стек и подошел ко мне. Он отвел руку назад. Я знал, что сейчас произойдет. Стек ударил меня по правой щеке под самым глазом. Сначала я ничего не почувствовал, а потом, когда меня обожгла боль, начал чихать. Нелепая реакция и явно лишенная хоть какого-то намека на достоинство.
Я чихнул раз пять. По-настоящему. Так, что голова чуть не лопалась. Он положил стек точно на прежнее место, потом сел и выжидал, пока я не перестал чихать.
— Физическое насилие мне неприятно не менее, чем вам, но есть люди, не способные понимать доводов рассудка.
Его сцепленные руки лежали на столе перед ним. Я заметил, что они подрагивают. Мне казалось, что мое лицо опухает — собственно говоря, скосив глаза вниз, я уже различал красный рубец, вздувавшийся с почти зримой быстротой.
— Я думаю, у нас разные взгляды на то, что можно считать доводами рассудка.
— Мне неизвестны ваши взгляды, и они меня совершенно не интересуют. Вы здесь, чтобы сражаться. Чтобы подчиняться моей дисциплине, армейской дисциплине, а это вы последовательно отказывались делать.
Он вздохнул и почесал уголок глаза дрожащим пальцем.
— Мне крайне неприятна мысль об открытом столкновении с одним из моих офицеров. Это подрывает моральный дух. Появляются трещины там, где их прежде не было. Вы слишком испытываете мое терпение.
— Не намеренно. Нет, правда. Но я чувствую, что справедливость…
— Это вас не касается. Обвинения против Кроу очень серьезны.
— На бумаге.
— Совершенно верно. И я, как его командир, представлю рапорт.
— Но он же вам не правится и…
— Вы мне тоже не нравитесь, мистер Мур. Но — я говорю лишнее и должен положиться на вашу сдержанность — через несколько дней начнется наступление. Нечто, о чем никто из вас даже представления не имеет. Оно может изменить ход войны. Или даже выиграть войну. Оно непременно должно увенчаться успехом, а для этого необходимо, чтобы машина действовала идеально.
— Мы люди.
— Не для меня. Не для генерального штаба и не для военного министерства.
— Если бы они смотрели на нас, как на людей, войны, возможно, вообще не было бы.
— Пустопорожние слова, не стоящие дыхания, которое вы на них потратили.
Он встал и подошел к окну. Снаружи его война сотрясала весь мир.
— У меня нет времени, Мур, вести с вами бесцельные мальчишеские споры. Я повторяю: обвинения против Кроу крайне серьезны. Вы ничего изменить не в силах. Что касается вас, то у меня в настоящее время нет желания применять по отношению к вам суровые дисциплинарные меры, но в будущем я колебаться не стану, невзирая на последствия. А теперь идите к своим солдатам.
Мой правый глаз совсем заплыл. Героическая военная рана, даже еще более бесславная, чем грипп Беннета.
— Прежде чем уйти, сэр, я думаю, мне следует кое-что объяснить в отношении рядового Кроу. Видите ли… он… я…
— Возвращайтесь к своим солдатам. Разве я не достаточно ясно дал понять, что не желаю знать больше, чем уже знаю?
Он поднял правую руку и прикрыл глаза. Странно жалобное движение. Мне так и не удалось разобраться, ненавидел я его или уважал. Он действовал на меня совершенно неожиданным образом. Возможно, когда-нибудь я увижу мир с пронзительной ясностью и разберусь в нитях, которые словно бы без конца сплетаются и расплетаются на протяжении всей жизни и всей истории. Вечные повторения.
Мы шли через ноля, и земля, снова бурая, потому что наступила оттепель, присасывалась к нашим ногам. Солдаты были угрюмы и выполняли команды медленно. Бесконечные транспортные грузовики оттесняли нас в канаву, нарушали наш строй и обдавали солдат грязью с ног до головы. А они уже даже поотругивались. В сером небе появились два лебедя. Совсем низко они летели с юга на север, и их крылья поднимались и опускались с величавым достоинством. Я остановился, смущенный их присутствием, словно какой-то давний знакомый навестил меня в мучительно неудобный момент. Они едва не зацепили ветки пяти-шести искореженных деревьев и полетели наискось над самой солдатской колонной. Я приветственно поднял руку и тут же услышал выстрел. Шея передней птицы мотнулась слева вправо и поникла. Бесформенный комок мяса и перьев шлепнулся на землю. Солдаты, сломав строй, кинулись к нему. Вторая птица на мгновение задержалась, а потом полетела дальше, но уже не низко, а круто поднимаясь под защиту туч.
— Кто это сделал? — Ветер швырнул мой голос мне в лицо. Солдаты пересмеивались на краю поля. Тяжелое напряжение последних дней вдруг ослабело.
— Кто это сделал?
Они отталкивали друг друга, стараясь получше рассмотреть убитую птицу. Одно крыло сломалось при падении и смялось под тяжелым туловищем.
— Ну и выстрел, парень! Вот уж не знал, что ты такой мастак.
— Кайзеру только на бога и надеяться, если вы вдруг повстречаетесь.
— Кто, черт дери, это сделал?
— Я, сэр! — Какой-то коротышка весело махнул мне винтовкой.
— Зачем?
Мое лицо подергивалось.
Он пожал плечами, одновременно сбрасывая со счетов и меня, и мертвого лебедя.
— А чего тут плохого? — спросил чей-то голос.
Я отвернулся и отошел.
Кто-то испустил непристойный звук, а затем четкий голос сержанта приказал им вернуться в строй. Весь остальной путь до фермы они бодро пели.
Меня поджидал Барри, вестник рока. Его пуговицы и его лицо сияли одним свирепым блеском. Солдаты рассыпались по своим помещениям.
— Вы меня ждете, сержант?
— Майор хотел бы поговорить с вами, сэр.
— Я сейчас приду.
Когда я входил в эту комнату, все было как всегда. Холодный неодобрительный взгляд, кивок, бумаги, перья, аккуратно сложенные руки.
— Все в порядке, Мур?
— Да, сэр.
— Мы выступаем на передовую утром в четверг. Надо взять дополнительные боеприпасы и провиант. Надеюсь, что Беннет вернется к нам завтра днем. Как раз вовремя. Сегодня сержант Барри сопроводит вас на склады, чтобы вы указали, что нужно взять. Мы останемся на передовой по меньшей мере десять дней.
Он взял ручку и провел три прямые линии на листе перед собой.
— Это все, сэр?
— Рядовой Кроу приговорен к смерти. Вы командуете его расстрелом завтра в восемь утра.
Сначала я не понял, что он сказал. А потом вдруг сразу понял.
— Это какая-то ошибка.
— Мистер Мур, мне все это столь же неприятно, как и вам. Уверяю вас, никакой ошибки не произошло.
Он нетерпеливо постучал по листу.
— Я предупреждал вас, что обвинения очень серьезны. Самое важное при нынешних обстоятельствах — следить, чтобы ничто не подрывало боевого духа солдат. Дезертиров необходимо примерно карать.
— Апелляция…
— Апелляции не будет. Завтра утром в восемь. Разрешите также напомнить вам, Мур, что Кроу был не просто дезертир. Вполне возможно, что он, кроме того, предатель.
— Полнейшая чепуха.
Он покраснел от гнева.
— Осторожнее, молодой человек. К этому выводу пришли люди старше и умнее вас. И не с легким сердцем. Опытные люди… Люди, знающие людей.
— Солдаты воспримут это плохо.
— Об этом предоставьте судить мне.
Он провел на листке еще одну линию.
— Наши разговоры всегда следуют одной схеме. Вы не желаете, чтобы вами руководили.
— А вы не желаете смотреть на людей иначе, чем на скот.
— В подавляющем большинстве они именно скот. Полагаю, когда-нибудь вы это усвоите.
— Я не собираюсь усваивать ничего, чему меня учат люди вроде вас.
— А!
Его лицо выражало полное равнодушие ко мне, да и почти ко всем людям тоже.
— В восемь, — сказал он.
— Мне бы очень хотелось узнать, что произойдет, если я откажусь?
Он как будто удивился.
— Меня поражает, что вы задаете такой вопрос. Позволю себе заметить, что вы делаете из мухи слона. А также отнимаете у меня время. Мне совершенно не хочется отдавать вас под суд, Все это может стать крайне неприятным. Вы слишком испытываете мое терпение, предупреждаю вас. Право, не понимаю, как вы, проклятые ирландцы, можете даже думать о том, чтобы управлять своей страной, когда вы не способны управлять собственными бессмысленными эмоциями.
— Я отказываюсь.
— Рядовому Кроу это не поможет. Вы глупо упрямы. Подумайте хотя бы о своих родителях, если остальное вам безразлично.
Молчание длилось очень долго. Я думал о своих родителях.
— Мне придется расстрелять вас, а затем я отправлю ваше тело домой к вашим родителям. Пусть погребут его, как труп героя.
— Где вы научились быть таким исчадием зла?
— Меня научил наш мир. Он научит и вас. Меня вы поймете только в тот день, когда вам самому придется принимать ответственные решения. Человеческие жизни. Человеческие смерти. Рушащийся мир ждет вашего слова.
— Дай бог, чтобы такая кошмарная ситуация никогда не возникла.
— Дай бог, — сказал он без малейшего раздражения. — На создание общества, в котором мы живем, потребовались столетия. И нельзя допустить, чтобы горстка неуравновешенных субъектов его разрушила.
— Мне кажется, вы преувеличиваете мое значение. И значение рядового Кроу.
— Увы, нет. Именно люди вроде вас и Кроу, не способные разглядеть за деревьями леса, приносят неисчислимый вред, влияя на тех, кто вообще ничего не видит. На тех, кем необходимо руководить.
Он встал, взял фуражку и стек.
— Я отдаю вам приказ. Готовы вы выполнить его или принять все последствия отказа?
— Для Джерри нет никакой надежды?
— Джерри?
— Для рядового Кроу.
— Никакой.
— В таком случае я…
— Молодец.
Он подошел ко мне и слегка потрепал по плечу. Мое тело пронизала дрожь.
— В интересах человеколюбия — один совет. Предупредите свой взвод, чтобы они хорошенько целились и стреляли сразу. Так быстрее. Я знаю, они поступают иначе из самых лучших побуждений, но…
Я кивнул.
— Умница. Поверьте, очень скоро вы все будете видеть в ином свете.
Я вышел из комнаты следом за ним.
Когда я добрался до полевой тюрьмы, было поздно и очень темно. Войти оказалось совсем просто. Часовой у двери отдал мне честь и вызвал дежурного, который проводил меня к Джерри. Он сидел один в тесной комнатушке. Черная печка в углу гудела, но не давала почти никакого тепла. Когда дверь открылась, он встал и, тут же увидев, что это я, снова сел.
— Здравствуй.
— Здравствуй.
— Как это тебе позволили явиться сюда?
— А я никого не спрашивал.
Он слабо улыбнулся.
— На старости лет ты начинаешь кое-чему учиться.
— Возможно.
— Садись.
В комнатушке была еще только кровать. Я сел на нее и попробовал подыскать слова.
— Ты слышал?
— Да.
— Черт те что.
— Лови! — Я вынул из кармана фляжку и бросил ему.
— Ты чудо.
Он поставил фляжку на стол перед собой и смерил ее взглядом.
— Только я, пожалуй, пить не буду.
— Но почему?
— Приберегу на черный день.
Я засмеялся.
— Ну, как хочешь.
— Это будет очень скверно?
— Какие мы были идиоты, что завербовались. Ты и я.
— У нас не было выбора. Я ни разу не видел, как расстреливают.
— Я тоже.
— Вот ждать трудно. Часы. Минуты. Каждый час кажется страшно долгим. И не могу придумать, о чем думать, понимаешь?
— Вспоминай.
— Нечего вспоминать.
— Озеро. Лебедей.
— Как они хлопали крыльями, точно стреляли.
— Священник к тебе приходил?
Он плюнул на пол.
— Не делай этого, когда предстанешь перед апостолом Петром.
— Прежде у тебя духа не хватало мне что-нибудь сказать.
— Верно.
Его пальцы нервно откручивали и закручивали крышку фляжки.
— Мне жалко всего того, чего я так и не узнаю.
— Наверное, перед смертью каждый так говорит.
— Скачек, которые выиграли бы наши лошади. Ньюмаркет, Челтнем, Аскот.
Я сунул руку за борт шинели и нащупал револьвер.
— Лоншан.
— Ага. Ты там всех побьешь. Только вот, Алек, тебе надо будет подыскать жокея.
— Подыщу. Саратога. Начну подыскивать сразу, как вернусь домой. Эпсом. Выпей.
— Нет. Только представь: стоять перед взводом, а голова раскалывается с похмелья. Я же если начну, то не остановлюсь. Мы были друзьями.
— Да.
— Это было хорошо.
— Очень.
— Только дальше ведь могло бы и не выйти, как мы думали.
Рукоятка в моей ладони становилась теплее.
— Нет, вышло бы.
— Мне бы хотелось так думать.
— Сыграй мне что-нибудь.
Он покачал головой.
— Гармонику у меня забрали. Все забрали. Даже шнурки. А то вдруг бы я да испортил им развлечение.
— Сволочи.
— Да.
— Ну, так спой.
— Мистер Мур решил провести веселый вечерок?
— Вот именно.
Он подумал, а потом откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза.
— «Добрые люди в этом дому…»
— А!
— «Тут ли священник и можно ль к нему? Стучится чужой к вам…»
Я вытащил чертов револьвер из-под шинели и оглядел его. Словно бы все в порядке. Курок взвелся с легким щелчком. Я вздрогнул, но он продолжал петь.
— «Стучишься не зря ты, он дома теперь…»
Шаги в коридоре. Я спрятал револьвер за пазуху. Послышались голоса.
— «Убили под Россом отца моего…»
Они прошли дальше по коридору. Больше ни шагов, ни голосов. Я встал и подошел к нему.
— «А в Горей…»
Блеск его влажных невидящих глаз за ресницами. Его руки расслабленно лежали на столе. Я положил левую руку на его пальцы. Они сплелись с моими.
— «Я ненависть в сердце своем на таю, Но крепче всего я отчизну люблю».
Его глаза внезапно открылись. Такие синие. Он улыбнулся мне.
— «Благослови же, отец, и пусти…»
Я зажмурил глаза и дернул пальцем. Когда замерли отголоски оглушительного грохота, я услышал бегущие шаги. Он медленно отклонялся от меня, его пальцы медленно выскальзывали из моих. Стул упал вместе с ним. Кто-то кричал. Я стоял неподвижно, закрыв глаза. Когда дверь открыли, в моих ушах еще звенело эхо выстрела. Потом они взяли из моей руки револьвер и увели меня.
Понять они не способны. А потому я ничего не говорю. Пушки на передовой бьют не смолкая и все громче. Здание вибрирует.
Я — офицер и джентльмен, а потому у меня не отобрали ни шнурков, ни ручки. И я сижу. И жду. И пишу.
_____________________
How Many Miles to Babylon? (1974) First published in Great Britain 1974 by Hamish Hamilton Ltd Copyright © 1974 by Jennifer Johnston Перевод И. ГуровойСтарая шутка (Роман)
5 августа 1920.
Знаменательный день. Солнце светит вовсю. Это-то не знаменательно, только странно, ведь на дворе август.
Наш дом стоит к морю боком и смотрит на юг, так что все комнаты залиты солнцем. Судя по дымке на горизонте, — похоже, от моря поднимается пар, — солнце повсюду: не только на нашей полоске, на восточном побережье Ирландии, но и в Корке, Скибберине, в Белфасте, Голуэе и Килкенни; сушит траву и тревожит фермеров. Похоже, что погода вечно тревожит фермеров. Даже в Англии, где я никогда не бывала, солнце светит вовсю. Мы читаем об этом в газете, она приходит по утрам как раз к завтраку и завладевает тетей Мэри примерно на полчаса.
Если подняться на холм позади нашего дома, в ясные дни виден Уэльс. Не такое уж волнующее зрелище, просто серая шишка вдалеке, а все-таки другое какое-то место. Новое. Последние две недели Уэльса было не разглядеть, просто в небо мягко поднималась бледная дымка и отгораживала наш остров от всего света.
Утренние поезда из Дублина набиты битком: прибывают горожане посидеть на берегу, шлепают по воде, кидают в нее камешки и кричат на детишек, а те за несколько часов меняются на глазах: вначале по-городскому бледнолицые, они нестерпимо обгорают на неожиданно жарком солнце и под конец хнычут и капризничают. Обычно приезжие держатся на дальнем краю пляжа, поближе к станции и двум маленьким кафе, где есть фруктовые соки, мороженое, печенье и можно насладиться чашкой живительного чая. В сущности, нам эти приезжие ничуть не мешают. Нарочно для них введены два поезда, которые под вечер забирают их обратно в город, ведь не все уместятся в том, что идет в половине шестого из Уиклоу. Пляж после них остается грязный, захламленный, но почти весь мусор смывает прибой. А вот бедный мистер Кэррол, начальник станции, с ног сбивается, поддерживая в своем хозяйстве чистоту и порядок, он единственный на всю нашу деревню откровенно радуется, что жара у нас редкость.
Знаменательный день.
Сегодня мне исполняется восемнадцать.
Чувствую, что это очень важная веха в моей жизни. Я кончила школу. Вчера забросила на чердак все школьное: платья, учебники, правила поведения, которые мне столько лет старались навязать, и даже альбомы с фотографиями подруг, которых я вовсе не жажду еще хоть раз увидеть.
С этого дня я начинаю становиться личностью. Вступаю в свой новый год. Впереди у меня вся жизнь, еще пустая, как страницы этой тетради, — я ее сама себе подарила на день рожденья. Это, в сущности, не дневник, скорее мимолетные мысли, в которых я отражаюсь, так что через сорок лет, если жива буду, как сказала бы Брайди, я смогу оглянуться назад и увижу, какова я была в начале пути. Забывать очень легко. Я в этом убедилась, наблюдая тетю Мэри, уж не говорю про деда, но дед — случай особый, его медленно пожирает невообразимая старость.
Вообще-то, наверно, не следовало начинать с погоды, но, может быть, через сорок лет мне приятно будет знать, что в день, когда я впервые стала замечать окружающий мир, светило солнце.
Мне кажется, на земле всегда была война. Думаю, и через сорок лет будет примерно то же самое, хоть люди и говорят обратное. Даже из нашей маленькой деревушки сколько народу убито. Мой дядя Габриэл убит под Ипром, его имя занесено на доску в память павших; там же, на стене нашей церкви, увековечены сын ректора и брат миссис Тирел, — этот, по словам тети Мэри, был повеса и развратник, а все-таки никто не пожелал бы ему сгинуть от пули какого-то бородатого мусульманина. И еще брат священника, отца Фенелона, и Сэмми Кэррол с железнодорожной станции, а Пэдди Хегерти, сын рыбака, лишился правого глаза и теперь немножко не в своем уме. В нашей округе есть и другие, только я сейчас всех не припомню. И потом, Фила Райана убило, когда англичане из пушек били по Сэквил-стрит, а на прошлой неделе «черно-пегие»[41] застрелили Барни Карни, когда он после танцев выходил из Брэйского зала. Говорят, застрелили по ошибке. Может быть, на том свете им лучше, чем здесь, по крайней мере, так Брайди говорит — на небесах ли, в преисподней ли, хуже, чем здесь, быть не может. Пожалуй, я с ней не согласна. Бывают, конечно, разные ужасы, а все равно, по-моему, жить — большое везенье.
Тетя Мэри подарила мне на день рожденья теннисную ракетку. В глубине души она надеется, что я стану хорошей спортсменкой и буду пользоваться успехом в обществе, но, думаю, ее ждет разочарование. Брайди испекла для меня пирог — предполагается, что я об этом не подозреваю. Дед уже не способен никому ничего дарить. Я получила семь поздравительных открыток от бывших школьных подруг и коробку шоколада от садовника Джимми — это очень, очень великодушно с его стороны, у него ведь нет лишних денег. Сейчас мне слышно, как он под моим окном медленно разравнивает граблями песок. Ему, видно, нипочем ни жара, ни холод, он всегда двигается неторопливо — что-то подвязывает, ровняет, пропалывает, высеивает, и руки у него теперь как древние корни, которые зарываются в мягкую землю, будто хотят опять обрести в ней покой.
Родителей у меня нет. Посторонним иногда от этого немного неловко или грустно, но я-то привыкла, ведь у меня их никогда и не было. Тетя Мэри для меня сразу и отец и мать, меня это вполне устраивает.
Следы моей матери везде, куда ни погляди — фотографии в премиленьких серебряных рамках, в альбомах или засунуты за рамы зеркал, которые от старости и зимней сырости уже пошли пятнами. Похоже, она всегда улыбалась, совсем как тетя Мэри, и волосы у нее закручивались над высоким лбом прелестными вопросительными знаками. На моем туалетном столике (когда-то он был мамин, и все, что есть в моей комнате, когда-то было мамино) лежит серебряная щетка для волос, и на ручке — мамин вензель. А в одном из ящиков комода — ее носовые платки, но у меня никогда не хватало храбрости ими пользоваться. Я сплю в той самой постели, в которой спала она, когда была молоденькая. Зимой на ветру в окно стучат те же ветки. Те же ступеньки скрипят у меня под ногами, когда я взбираюсь по винтовой лестнице сюда, к себе, в нашу комнату на верхотуре. Восемнадцать лет назад она дала мне жизнь, а я ее убила. Отблагодарила называется.
Отец из моей жизни исчез, не оставив никакого следа. Никто ни разу не упомянул его имени, не рассказал про него что-нибудь забавное. Ни одно лицо в запыленных альбомах мне не показали как отцовское. Может быть, это от него я унаследовала нос с чуть заметной горбинкой? И прямые тонкие волосы? Может, у него тоже, как у меня, вторые пальцы на ногах были немножко длинней больших? Жив он или умер? Хороший он человек или плохой? Унылый или весельчак? До него, видно, никому нет дела. Лет с десяти я стала его искать. Таращила глаза на более или менее пожилых мужчин — встречных на улице и тех, что садились напротив меня в вагоне, когда я ехала утром в школу. В поезде, в трамвае, в гостях присматривалась, какие у кого руки, волосы, уши, кожа. Сейчас здравый смысл берет верх над любопытством, а все же я еще не отделалась от привычки пялить глаза на незнакомцев, хоть и стараюсь отучиться. Любопытно, что же это был за человек, если сумел так бесследно исчезнуть.
По крайней мере, я знаю, где мама. Под аккуратным прямоугольником зеленого дерна на маленьком протестантском кладбище, на склоне холма над нашей деревней. Склон полого спускается к воде, приземистая церковка укрывается под темными тисами, которые вечно хлещет безжалостный ветер, налетающий с холодного моря. Кладбищенская ограда невысока, и здешние призраки, тоскующие по миру живых, могут, нимало себя не утруждая, глядеть на деревенские крыши, в беспорядке сбегающие к морю.
Здесь же, рядом с моей матерью, лежит и дядя Габриэл, вернее, часть его: по словам тети Мэри, от него мало что удалось собрать, чтобы похоронить; но когда война кончилась, дед настоял, чтобы останки перенесли сюда. Невеселая была история. Брайди тогда сколько слез пролила, говорит, оставили бы лучше беднягу, где он есть, не к добру это — перетаскивать кости покойника с места на место, да только ее совета никто не спрашивал. Моя бабушка тоже там — мне кажется, она заждалась деда. Иные кресты там стоят прямо, иные наклонились, есть такие замшелые, что и надписей не прочтешь. Есть надгробные плиты, есть вроде как ящики — песчаный прямоугольник, обведенный каменным бортиком. И немало поросших травою холмиков, на которых ни имен, ни слова памяти, но тетя Мэри знает про всех и каждого, кто лежит в какой метиле, и всё о каждом, вплоть до самого первого Чарлза Дуайера, эсквайра, почившего в 1698 году, родом из графства Корк. Все они смотрят поверх деревенских крыш на море и в погожие дни, если им любопытно, могут увидеть Уэльс.
— Нэнси!
Тетя Мэри вышла из своей комнаты внизу и тихонько притворила за собой дверь. Перешла площадку и остановилась у лестницы, ведущей в мансарду.
— Нэнси!
Пошла дальше, приостановилась у большого зеркала. Пригладила волосы. Голова ее слегка уже клонилась книзу, но большой узел на затылке поддерживал равновесие.
— Пора, милочка… пора.
— Иду.
Нэнси вышла из своей комнаты и побежала вниз, за теткой.
— В один непрекрасный день этот дом развалится на части, — жалобно сказала тетя Мэри, когда Нэнси очутилась рядом — спрыгнула с последних ступеней так, что в прихожей пол задрожал.
— Тра-ля-ля.
— Я встретила в деревне Гарри и зазвала к нам позавтракать. В конце концов… он, кажется, очень доволен.
Они вышли из дому, и солнце их ослепило, обе минуту постояли на пороге, мигая и жмурясь, пока глаза не освоились.
— Он на кухне, рассказывает Брайди новости.
— А-а… — Больше Нэнси ничего не сумела вымолвить.
Милый, милый Гарри!
Как чудесно пахнут кустики лаванды. Нэнси сорвала несколько листков, растерла между пальцами.
Гарри.
Завернули за угол дома, и тут слышно стало бормотанье старика.
— Только не забыть… — будто старая калитка скрипит на ветру. — Не забыть.
Он сидел в кресле на колесах под огромным черно-белым зонтом, который защищал от солнца его глаза и макушку. В руках он сжимал половой бинокль и, перестав бормотать, поднес бинокль к глазам и принялся оглядывать железную дорогу, проложенную внизу, по насыпи, между дальними полями и морем. В полях и на рельсах ничто не шевельнется, и воздух недвижим, хоть бы одна усталая птица всколыхнула его крылом.
— Хорошо тебе спалось, голубчик?
Тетя Мэри, пригнувшись, проникла под зонт и поцеловала макушку стариковской панамы. Он, похоже, этого и не заметил.
— Выпьем, — сказала она, выпрямилась, чуть задержала руку на его плече. Повернулась, прошла через стеклянную дверь в гостиную. Нэнси опустилась на верхнюю, нагретую солнцем ступеньку веранды, прислонилась спиной к стене.
— До половины второго никаких поездов не будет, дед. Сейчас смотреть не на что.
Старик ответил хитрым смешком:
— Я вижу кое-что и кроме поездов.
— Как таинственно.
Она сорвала ромашку, проросшую в щель между ступеньками, и принялась обрывать лепестки. Любит, не любит, любит…
— Напомни, я ей скажу.
— Глупости.
Любит, не любит…
Наверно, у старика устали руки, он уронил их вместе с биноклем на толстый плед, который даже в самые теплые дни должен был согревать его старые кости. Веки его тоже опустились, голова поникла. Дышал он с хрипом.
…любит… любит меня, я знаю, не любит.
В кустике лаванды жужжала пчела, по холму медленно взбирались звуки фортепьяно. Шопен.
Нэнси бросила изувеченную ромашку на ступеньку подле себя.
Шопен. Робкое начало, а потом белые пальцы осмелели, музыка обрела ритм, уверенность. Нэнси сердито нахмурилась вслед пролетающей бабочке.
— «Ко мне на закате жизни милостив будь, Творец», — пропел сквозь сон старик, конечно, это музыка его вдохновила.
Нэнси ясно увидела за окном прямую спину Мэйв — солнце освещает ее пальцы, они с силой выжимают из клавиш музыку. Лицо наполовину в тени — бледное, невозмутимое, совсем как у монахинь, которых встречаешь на городских улицах.
Смех, легкий звон стекла. Музыка запнулась было, но к той минуте, когда тетя Мэри с Гарри вышли на веранду, опять обрела уверенность.
В руках у Гарри бутылка шампанского, он возится с неподатливой пробкой.
— Как я понимаю, у вас торжество. Правда, мне повезло, что я встретился в деревне с Мэри?
Тетя Мэри несет с полдюжины бокалов, зажатых по одному между пальцами.
— У нас всего-то осталось несколько бутылок. Еще с довоенных времен. В конце концов, восемнадцать лет — это раз в жизни бывает. Обожаю шампанское. Обожаю. Подложи подушку, милочка, не то схватишь геморрой.
— На этих ступеньках геморроя не схватишь, — возразила Нэнси. — Скорее обожжешься. Изжаришься.
— Изволь слушаться.
Нэнси поднялась и взяла с шезлонга подушку.
Хлоп.
— Ура!
Тетя Мэри поспешно подставила бокал под пенистую струю.
— О-о! Брайди, подите сюда. Пьем шампанское. Папочка, проснись. Держи крепко, голубчик.
Она сунула бокал в удивленную руку старика. Он открыл глаза.
— Вот это радость, — прошептал он.
— Сегодня день рожденья Нэнси. Радостный день.
Из-за угла появилась Брайди, облаченная в большущий, ослепительной белизны фартук. Гарри налил и ей, и с минуту все они стояли, протянув бокалы к Нэнси, и смотрели на нее. Брайди заговорила первая:
— Бог милостив.
И залпом выпила шампанское. Все рассмеялись.
— Поздравляю, Нэнси. — Гарри подошел к новорожденной. Она наклонила голову и увидела, как решительно подступают к ней до блеска начищенные его башмаки. — Я тебя поцелую.
Она отвернулась, и поцелуй, точно падающий лепесток, опустился на ее пылающую щеку.
— Ух! — сказал Гарри. — От тебя так и пышет жаром. Чем это ты с утра занималась?
Нэнси покраснела пуще прежнего и низко наклонила голову над бокалом. От шампанского защипало в носу, и она чихнула.
— Через десять минут чтоб все сидели за столом, — скомандовала Брайди.
И зашагала прочь, мимоходом плеснув себе еще из бутылки.
— У кого нынче день рожденья? — спросил старик.
— Это, наверно, Мэйв играет? — спросил Гарри.
Он стоял за плечом Нэнси, рукав его шелковой кремовой рубашки касался ее обнаженной руки.
Она молча кивнула.
— Восхитительно.
— День рожденья Нэнси, милый. Нэнси! Ей уже восемнадцать.
— Нэнси! — Старик пригубил из бокала, который держал в руке. — Мою мать звали Нэнси.
— Да, голубчик, поэтому мы так назвали нашу Нэнси.
— Восхитительно.
Только музыка и кружит в тишине. Хоть бы подул ветерок, отнес бы ее подальше.
— «Смерть, где твое жало?» — внезапно изрек старик.
— Папа, ну что ты, право! Будь сегодня умницей, будь умницей.
Он поставил бокал на стол около себя и поднес к глазам бинокль. Внизу по рельсам, пыхтя, катил одинокий паровоз с тендером.
— Интересно! — На этот раз голос его прозвучал ясно, почти молодо.
— Что именно?
Он уронил бинокль на колени и повернулся к дочери.
— Мне надо тебе кое-что сказать.
— Слушаю, голубчик.
Она поднялась с места, взяла бутылку.
— Шампанского осталось совсем немножко.
Она разлила остатки по бокалам.
— Сегодня утром я видел на железной дороге Роберта.
Фортепьяно как раз смолкло, и слова старика прозвучали особенно громко.
— Кто это Роберт? — без большого интереса осведомился Гарри.
Тетя Мэри порывисто отошла к ступенькам веранды.
— Да нет же, отец, — сказала она с досадой.
— А может, это было вчера.
Она спустилась с крыльца, шампанское в бокале плескалось и кипело пузырьками при каждом ее шаге.
— Никакого Роберта тут нет.
— Говорят тебе, я видел. Говорят тебе.
Старик приподнял бессильную руку и показал в сторону рельсов.
Тетя Мэри будто и не слышала. Быстрыми, резкими движениями она отщипывала с куста головки отцветших роз, словно сейчас это было важнее всего на свете.
— Кто такой Роберт?
Гарри сел рядом с Нэнси на ступеньку, геморрой его явно не пугал. Она не ответила. Стиснула руками холодное стекло бокала. Вдали на море плясали солнечные блики.
— Нэнси?
Она покачала головой:
— Не знаю!
Ее отца звали Роберт Гулливер.
— У деда винтиков не хватает, — пробормотала она.
— Ну что ты, Нэнси…
— Вечно ему что-то мерещится. Надоедает до смерти. И гимны эти поет, и…
— Он же старый.
По лужайке к ним шла тетя Мэри. Летом она всегда надевает соломенную шляпу с большими полями, бережет нежную кожу северянки от яркого солнца. А если станет жарко или она разволнуется, на носу, точно роса, проступают капельки пота. Она приветственно помахала Нэнси и Гарри пустым бокалом, словно возвратилась из долгой отлучки.
— Счастливый день…
— «В час, когда очи сменится, дай мне узреть твой крест…»
— Сколько есть праздничных гимнов, а ему непременно надо петь самые мрачные. Самые похоронные.
— Он же старый.
Тетя Мэри, слегка задыхаясь, поднялась на веранду. Скоро и она начнет стареть, подумала Нэнси, нож и вилку станет брать трясущимися руками, и оступаться на лестнице, и суетиться по пустякам. Вот она медленно прошла по веранде, поставила бокал на стол, тронула деда за плечо. Кисть руки у нее, как и лицо, очень бледная и такая худая, что во впадинах между косточками лежат тени.
— Роберт умер, — сказала она.
Оба на минуту застыли, предаваясь воспоминаниям, потом она порывисто сняла шляпу, бросила на стол рядом с бокалом. И тут Мэйв опять заиграла. Какую-то мазурку, резкую, скрипучую.
Гарри вздохнул.
— Давайте-ка садитесь за стол, не то вся еда простынет, — позвала из окна Брайди.
Да, старомодной обходительности нашей Брайди не хватает, подумала Нэнси, поднимаясь с подушки.
Гарри протянул руку тете Мэри.
— Сударыня…
Она слегка наклонила голову, приняла его руку.
— Раз, и два, и три…
Они прошлись мазуркой вдоль веранды.
Нэнси шепотом чертыхнулась.
Потом взялась за спинку дедова кресла и покатила его вслед за танцорами.
От деревни до песчаной косы берег протянулся мили на две. Это была узкая полоска серой гальки с крупным песком вперемешку, она круто спускалась к морю. Волны выбрасывали на сушу миллионы камешков и опять их уносили, нескончаемо обтачивали, шлифовали, засасывали и выплевывали. Даже в самые погожие дни здесь не бывало тишины. Между берегом и полями, защищая их от моря, которое нередко свирепело, сурово высилась железнодорожная насыпь, ее только и украшали, уходя вдаль по берегу, гудящие телеграфные столбы. Под самой насыпью грудами громоздились гранитные плиты, словно бы сваленные как попало. Зимою о них разбивались валы прибоя и высоченными фонтанами взлетали хлопья пены, а летом, на ярком солнце, они сверкали, как алмазы. Если удастся дойти до конца косы, видишь, сколько хватает глаз, как изгибается полоса гальки и песка, и вереницей тянутся телеграфные столбы, и мягко круглятся холмы, переходя вдалеке в синеющие горы. Впрочем, никто не доходит до конца косы, не такая уж это приятная прогулка, разве что любишь одиночество и компанию огромных белых птиц, которые восседают на гранитных глыбах, точно древние короли, недобрым взглядом уставясь в пространство. Примерно на полпути между деревней и косой одиноко стоит почернелая купальня, когда-то ее поставил монастырь в заботе об удобстве и скромности немногих монахинь — любительниц купанья. В летние дни они изредка появлялись втроем, вчетвером, похожие в своих одеяниях на странных морских птиц, склоняли головы над молитвенниками или, разговаривая, склонялись друг к другу. Иногда Нэнси видела, как они, смеясь или тихонько вскрикивая, вбегали в своих длинных рясах в воду. Порою ей хотелось остановиться и поглядеть на них, но она боялась любопытством их обидеть.
А примерно в полумиле за косой стояла хижина. Должно быть, ее много лет назад построил кто-то из рабочих, которые прокладывали железную дорогу; хитроумно укрытая за гранитными плитами, она была защищена от ветра и моря. Дощатая квадратная хижина с односкатной кровлей. Нэнси набрела на нее в бурный весенний день. Волны неистово кидались на берег, ветер победно гудел в телеграфных проводах. Добрых два часа Нэнси руками отгребала песок, пока ей удалось приотворить дверь и заглянуть внутрь. И тут она поняла, что долгие годы хижина только ее и дожидалась. Она опять захлопнула дверь и взобралась на насыпь. Прошла по шпалам почти до того места, которое, по ее наблюдениям, уже мог в бинокль видеть дед, по заросшему травой склону соскользнула в поле и, укрываясь за деревьями, пошла домой. У нее появился секрет. Ей всегда очень трудно было хранить свои секреты. Теперь надо быть очень осторожной.
В ближайшие недели Нэнси отыскала дома старую половую щетку, с одного боку почти облысевшую, разжилась гвоздями, молотком, парой ветхих, истертых одеял и двумя подушками, из которых то и дело вылезали длинные колючие перья. Она скребла и мыла пол морской водой, пока доски не побелели, точно иссохшие кости. Прибила полки, расставила на них кое-какие любимые книжки, отличную жестянку с печеньем, чтоб было чем подкрепиться после купанья, и стеклянную вазочку, полную занятных ракушек и камешков, подобранных на берегу. Отгребла песок от двери, смазала ржавые петли, внутри ввинтила в балку крюк — вешать полотенце. Подумывала покрасить стены, но решила, что не стоит. Ни к чему ей такая изысканность.
По-видимому, никто не замечал, что она уже не слоняется скучливо по дому, как бывало всегда во время школьных каникул. Тетя Мэри вечно поглощена собственными хлопотами, у нее все расписано по часам: отведено время на хлопоты по дому, на чтение, на гольф, на бридж, на встречи с приятельницами, на посещение скачек, на уход за дедом и на невеселые мысли. Когда уж ей задумываться, что там затевает Нэнси.
Нэнси заранее знала, как будет, едва закончится трапеза: будь хоть трижды день рожденья, но тетя Мэри удалится из столовой и скроется в кабинете. Это у нее время для чтения, а вслед за часом, отведенным книге и пищеварению, наступит час садоводства. Она примется подстригать, подравнивать и полоть, подвязывать вьющиеся розы и ломонос, срезать и сощипывать увядшие цветы в оранжерее и собирать в большую берестяную корзину, подберет всех до единой улиток, которых заметит на клумбах, и выложит рядами на песке, чтобы их потом уничтожил кто-нибудь не столь брезгливый. Деда водворят на обычное место в гостиной у окна, он свесит голову на грудь, тихонько, прерывисто похрапывая. А Гарри начнет беспокойно бродить взад-вперед, болтая о пустяках и втайне подыскивая предлог — как бы улизнуть к Мэйв.
Нэнси выскользнула из комнаты, пока те трое еще сидели за столом, вяло помешивая кофе крохотными серебряными ложечками.
Она пересекла аллею, обогнула рощицу за домом, на склоне холма, и тут в ветвях дохнул теплый ветерок. Впервые за долгие недели шевельнулись листья — едва заметно, точно спящий, который вот-вот проснется. Движение пришло с юго-запада. Скоро погода переменится, вероятно, не сегодня, но скоро. Проходя полем, Нэнси ощутила запах моря. Над головой, распластав во всю ширь неподвижные крылья, медленно проплыла в воздушной струе чайка. Нэнси сняла туфли и вскарабкалась по насыпи. Приятно ощутить босыми ногами теплые шершавые шпалы.
«Роберт умер».
В голосе тети Мэри, когда она это сказала, не слышалось ни печали, ни радости. Деловито сказала. Довольно глупостей. Роберт умер, папочка, и незачем больше об этом говорить. Кто же там был? Кого увидал старик? Кто заставил его вспомнить?
Никто. Наверно, всплыл в памяти какой-то образ из туманного прошлого. Проглянул сквозь даль времен. Да и вообще у старика винтиков не хватает. Если б надо было выбирать имя для собственного отца, так не Робертом же его называть. Нет уж. Пожалуй, как-нибудь поэкзотичнее. Константин или Артимис, или героическое имя вроде Александра. И чего ради ему было умереть? Вовсе я этого не думаю.
Дойдя до хижины, Нэнси решила искупаться. Крупный песок колол и обжигал ступни, к воде она бежала как по раскаленной плите. А вода неожиданно оказалась ледяная. Место это не рассчитано было на любителей плескаться или шлепать на мелководье, — крутой откос, и через несколько ярдов дна уже не достать, и течение мягко увлекает тебя вдоль берега и, если не поостережешься, унесет неведомо куда. Потом она растянулась на полотенце — пускай обсушит солнце — и стала смотреть, как собираются по всему горизонту облака. Наверно, было уже около четырех, когда она вспомнила про пирог Брайди. Поднялась, начала стряхивать песок, налипший на икры и плечи. И вдруг словно бы ощутила на себе чей-то взгляд.
— Эй!
На берегу и на рельсах ни души. Никакого движения. На щеку упала капля дождя.
— Фу, черт!
Нэнси сердито вскинула голову — небо чистое, вполне невинное. Песок чуть заметно зыблется под ветром. Нэнси пошла к хижине. У двери помедлила, оглянулась.
— Эй!
Вошла в хижину, оделась. По крыше стукнули еще несколько редких капель.
Нэнси стала на пороге, стряхнула полотенце.
— Э-э-эй!
Чайка, сидящая на гранитной плите, искоса глянула на нее недобрым глазом.
— Почему бы тут кому-то и не быть? — рассудительно спросила Нэнси чайку. — В конце концов, считается, что у нас тут свободная страна, и напрасно ты на меня так уставилась.
Чайка повернулась к ней спиной. Когти нетерпеливо царапнули по камню. Вряд ли она бы сидела так спокойно, шастай кто-то поблизости. Нэнси повесила полотенце на внутреннюю сторону двери. Дождь уже дробно стучал по песку и по крыше. Нэнси заботливо притворила дверь, чтобы дождь не захлестывал внутрь, не то сгниет пол, потом взобралась на насыпь и почти всю дорогу до дому бежала бегом.
Когда она вошла, все сидели в гостиной, допивали чай.
Гарри еще не ушел. Ему очень даже по вкусу и сандвичи с огурцами, и слабый китайский чай, и Мэйв тоже, покорно подумала Нэнси.
— Я еще здесь, — сказал он, будто она сама не видит.
— Выпей чаю, — сказала тетя Мэри. — Только он уже остыл.
— Спасибо, не хочется.
— Пирог мы еще не разрезали. Хотя искушение нешуточное.
— Куда это ты исчезала? — спросил Гарри почти жалобно.
— Она вечно исчезает. Жизнь ее полна тайн. Но я необыкновенно тактична, никогда ни о чем не спрашиваю. Правда, детка?
— А сандвичей не осталось?
— Неужели ты думаешь…
— Понятно.
— Давайте отведаем пирога. Разрежь сама, детка. Пирог полагается разрезать новорожденной.
— Причем загадать желание, — подсказал Гарри.
Нэнси взяла нож и взрезала шоколадную корочку. Желаю… нет, не желаю, чтобы он сказал, не заскочить ли нам сейчас к Мэйв. Первый ломтик.
— Восхитительно выглядит. Фирменный пирог Брайди. Она у вас просто сокровище, Мэри.
— Хочешь пирога, дед?
— Пирога, — растерянно повторил старик, никто не понял, означает это да или нет.
Нэнси отрезала кусочек, положила на тарелку. Отнесла и поставила на круглый столик возле деда.
— Сегодня мой день рожденья. Ты не забыл? Мне уже восемнадцать.
Старик с минуту смотрел снизу вверх ей в лицо, пытался сообразить, кто это перед ним.
— А, да, — сказал он наконец. — Дочка Элен. — Глаза его блеснули торжеством. — Я не ем пирогов.
Она все-таки оставила тарелку подле него, может быть, еще передумает.
— Ты промокла, — сказала тетя Мэри.
— Немножко. Дождь начался так неожиданно.
— На твоем месте я пошла бы и переоделась.
— Только не в день рожденья, — отрезала Нэнси.
— Ревматизм…
— В восемнадцать лет ревматизма не бывает.
— Детка, надо быть осторожнее…
— Э-э… я вот думаю… — начал Гарри с набитым ртом, жуя пирог. — Я думаю, может, нам заскочить к Мэйв. На минутку.
Нэнси отошла к окну, выглянула на сверкающие струи дождя. Вот и загадывай желания. Всегда заранее знаешь, чего от него ждать, черт возьми. Непостижимо, откуда у нее к нему… ну… слабость. Слабость, нежные чувства. Может быть, это потому, что всегда знаешь, чего от этого человека ждать. Никакие опасности тут не грозят. С ним скучно до смерти? Если любишь, так не скучно.
— Мартышкина свадьба, — сказала Нэнси.
— Что такое?
— Она хочет сказать, сразу и дождь и солнце, — пояснила тетя Мэри, собирая чашки с блюдцами на поднос.
— Вот тебе и раз! Почему?
— Что почему?
— Почему это называется мартышкина свадьба?
— А почему бы и нет? — спросила Нэнси.
— Жаль, что ты упустила сандвичи с огурцами. У Брайди они просто изумительны, Мэри.
— Надо резать хлеб тонкими-тонкими ломтиками. В этом весь секрет. Совсем тонкими, иначе ничего не получится. И в перце, конечно. Нужна очень точная мера.
Она забрала с отцова столика тарелку с нетронутым пирогом.
— Извините, я только отнесу поднос на кухню. По субботам Брайди любит попасть в церковь пораньше.
Она вышла, а Гарри подошел к Нэнси.
— Так как же?
— Хорошо. Если вам так хочется.
— Только на минутку заглянем.
— Прямо сейчас?
— Ну… ну да… А почему бы нет?
— Дождь.
— Мартышкина…
— Да.
— Ты уже все равно промокла.
Нэнси вздохнула.
— Ладно, пойдем.
Они вышли на веранду, вслед послышался голос деда:
— «Век земной быстротечен, близок полночный час, радости наши меркнут, свет покидает нас. Все преходяще и тленно…»
— Мы ушли, тетя Мэри, до свиданья. Идем к Мэйв. Заскочим на минутку… — Ее разобрал смех.
— Переоденься. Переоденься, детка, сними мокрое… Переоденься.
Нэнси потащила Гарри с веранды.
— Скорей, Гарри. Гарри, скорей. Скорей, скорей.
— Нэнси…
— Тише! Не суматошьтесь вроде нее. А то вдруг, пока я стану переодеваться, Мэйв возьмет да и уйдет куда-нибудь. Мало ли. Лови мгновенье[42] — кто-то что-то такое сказал, верно? Это, кажется, из латыни?
— Почему он все время поет? Пока тебя не было дома, он все время пел. Похоже, он и сам этого не замечает? Да еще такой мрачный гимн.
— Ну, не знаю. «И в смерти восторжествую, лишь милостив будь ко мне». Хотя завтра, наверно, он запоет что-нибудь другое. Знаете, иногда бывает, привяжется мотив. И никак от него не отделаешься. Дед обожает Тома Мура. «Часто в полночной тиши»[43]. Больше все вот такое унылое. Винтиков у него не хватает, а слова помнит в точности, прямо чудеса.
Она храбро взяла Гарри под руку. Он не противился. Он всегда такой вежливый.
— Можно вас кое о чем спросить?
— Давай.
— Если не хотите, не отвечайте.
— А в чем дело?
— Вам приятно было воевать?
Он остановился — стоял и смотрел на желтую розу на прямом зеленом стебле, готовую вот-вот распуститься.
— Какой странный вопрос.
Меж бровей у него прорезалась морщинка.
— Я любопытная. Вот и любопытничаю.
Гарри слегка наклонился к розе. Нэнси чувствовала, прежде, чем он ей ответит, розе придет конец.
— Приятно… Странно сказано, Нэнси.
Она ждала.
— Ну… надо признаться, иногда бывали приятные минуты… Иногда… Пожалуй, я был не против. Скажем так. Как называется эта роза?
— Вам было страшно?
— Право, не замечал.
— Страшно кого-то убить?
— Глупая девочка. Много от этого было бы толку.
— А что вас самого убьют?
И она щелкнула пальцами, словно точку поставила.
— Тоже не суть важно. Ну, иногда как-то вроде сосало под ложечкой. Но подолгу страха не чувствовал. Не понимаю, почему тебе это интересно. Уставал. Пожалуй, больше всего запомнилось вот это чувство: усталость. Страх мы там отлично научились подавлять, о нем почти не помнили. Так что же это за роза?
— Понятия не имею. Спросите у тети Мэри. Она знает по именам нее цветы и деревья… наверно, все, сколько их есть на свете. И птиц тоже. А вы чувствовали себя героем?
— Конечно, нет. — Гарри засмеялся. — Ну, ясно, там были и герои, но только не я. В конце концов, у меня деды и прадеды солдаты, а не герои. Самые обыкновенные солдаты. Знали свое дело. Но мне это занятие не по душе. По-моему, времена несколько изменились. Наверно, родители были разочарованы, когда я ушел из армии. Особенно мать. Она всегда воображала, что сынок вырастет генералом. Ты же знаешь, каковы матери.
— Не знаю, — сказала Нэнси.
Он густо покраснел.
— О господи! Извини, Нэнси. Надо же такое ляпнуть. Как-то сорвалось с языка.
Она чуть подтолкнула его локтем — хватит стоять на месте. Трава под ногами была скользкая. Пора бы ее скосить. Она будто разом выросла под этим нежданным дождем.
— Ну, а…
— А что?
— А вот быть биржевым маклером… это занятие вам по душе?
— Какое ты еще незрелое существо.
— Но-но! — сердито вскинулась Нэнси.
— Я хочу сказать… когда станешь постарше, ты не будешь приставать к людям с такими глупыми вопросами.
— Но я хочу знать. Как же что-нибудь узнать, если ни о чем не спрашивать?
Гарри сочувственно вздохнул.
— Живешь, и никто тебе ничего не говорит, ничего не рассказывает. Мне надо столько времени наверстать. У меня голова гудит от вопросов. Вам так страшно хочется быть биржевым маклером?
— Надо же чем-то заниматься. Когда-нибудь и ты это поймешь. Мужчине, во всяком случае, нужно занятие. Нужно делать карьеру, зарабатывать деньги, нести какую-то ответственность. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Маклерством зарабатываешь деньги, способ не хуже других. А вообще хорошо быть девушкой… никаких таких забот. Сиди и жди, покуда не явится какой-нибудь малый и не поднесет тебе все на блюдечке.
Нэнси не ответила. Они молча шли к калитке в высокой живой изгороди, которая отделяла сад Кейси от поля.
— «Страшно хочется», — повторил Гарри не презрительно, скорее задумчиво. — Наверно, тебе самой чего-то страшно хочется?
— Ну… сейчас только понять. — Она засмеялась. — Вы опять скажете, что я незрелое существо. У вас это на лице написано.
— А что тебе хочется понять?
Ему уже поднадоел этот разговор. Он ускорил шаг, спешил к калитке, к Мэйв, к зрелости.
— Наверно, все на свете… — Нэнси порывисто взмахнула руками.
Гарри достал из кармана серебряный портсигар, вынул сигарету. Несколько раз постучал концом по крышке и только потом взял в рот.
— Обо всем где-нибудь да написано. Поступишь в колледж, тогда и потрудись все это разыскать. — Эдак покровительственно, снисходительно. Достал спички, закурил.
— Меня заботит то, про что не написано.
— Смотри, станешь невыносимой занудой. С пунктиком.
Он выпустил из ноздрей синий дым. Потрясающее зрелище. А вот и калитка. Глубоко в сплошной стене эскаллонии, кусты которой поднялись выше человеческого роста и чудесно пахнут после дождя. Нэнси взялась за щеколду, остановилась.
— Я хочу жить надежно. Все всегда было так надежно, безопасно. Я чувствую… — Сама того не замечая, она загремела щеколдой. — …если знать, что к чему, это должно помочь. Тогда знаешь, когда надо действовать самой. Знаешь и понимаешь. Надо разобраться…
Она посмотрела на Гарри. С губ его тянулась струйка дыма. Он слегка пригнулся, уклоняясь от торчащих над головами веток. И смотрит мимо Нэнси, вперед, туда, где сад и светло.
— А, ладно… — покорно сказала она. Ткнула его пальцем в бок. — Эй… послушайте. По-вашему, я хорошенькая?
— Э-э… Нэнси… я задумался. — Он оглядел ее с головы до ног. — Да ничего. Ты еще похорошеешь. Пожалуй, еще чуточку не хватает…
— Зрелости?
— Вроде того. Понимаешь, что я имею в виду…
Нэнси пинком ноги распахнула калитку, и они прошли в сад семейства Кейси. На правильных, будто с циркулем и линейкой вычерченных клумбах росли чистенькие, аккуратные цветы. Даже после дождя ни единый лепесток не посмел слететь на газон. Дорожки выложены кирпичом, сквозь него не пробилась ни одна сорная травинка. Дом был построен примерно в начале века из добротного красного кирпича. Окна-эркеры смотрят на этот гладкий газон. Из хвоста каменного дельфина загадочным образом бьет в пруд водяная струя. Приятно слушать плеск воды, вдыхать густой вечерний запах цветов.
— А-а! — глубоко, с наслаждением вздохнул Гарри. Вот кто обожает порядок. — А-а-а!
Нэнси промолчала.
— Иногда мне кажется, что ты не любишь Мэйв, — сказал он сурово.
— Люблю, люблю.
Гарри оглядел недокуренную сигарету, недоумевая, как с нею поступить. В этом саду нет моста для мусора. Он осторожно придавил пальцами тлеющий кончик и сунул смятый окурок в карман. Нэнси следила за каждой его мыслью, за каждым движением. А она может быть злючкой, подумал он, злая, настырно любопытная девчонка. Ничего, с годами это пройдет. Прежде, чем вынуть руку из кармана, он пощупал, точно ли сигарета погасла.
— Мэйв не курит?
— Конечно, нет.
— А тетя Мэри курит. В куренье нет ничего плохого.
— Некоторые считают, что это дурная привычка.
— Ау!
Мэйв вышла на веранду им навстречу.
— Как хорошо, что вы пришли. Я совсем одна. Мама с папой поехали в город, там то ли званый ужин, то ли еще что-то. Я совсем одна. Я надеялась, что вы заглянете. — Она улыбалась обоим, но не сводила глаз с Гарри. — Гарри, — почти уже шепотом.
— Ну… э-э… да… э-э… очень удачно, что мы зашли, правда, Нэнси?
— И Нэнси.
— Привет, — сказала Нэнси.
Мэйв и Гарри улыбались друг другу. Они не замечали, какое долгое молчание окружает их улыбающиеся лица и сближает их все тесней, тесней. Над бровью Нэнси сердито застучала какая-то жилка. Цветы самодовольно вставали во весь рост над разрыхленной влажной землей. Ни одна улитка здесь не поедала листья, не оставляла серебристых следов на дорожках. Нэнси с досадой поглядела на дырку в своей правой туфле, оттуда неряшливо торчал большой палец.
— Мои паршивые ноги никак не перестанут расти, — сказала она.
Улыбки угасли.
— Простите? — переспросила Мэйв.
— Да нет, ничего… просто у меня огромные лапы, и все растут… ничего интересного… ничего…
— У нее сегодня день рождения, — пояснил Гарри. — Ей исполнилось восемнадцать.
— Это замечательно! — теперь Мэйв обратила улыбку к Нэнси. — Вам по виду не дашь восемнадцати. Правда, Гарри? Если бы я знала, я приготовила бы подарок. — Она мимолетно коснулась губами щеки Нэнси, поцелуй пахнет духами. — Замечательно! Прощай, школа. Теперь она выйдет замуж. Правда, Гарри? Пойдемте же в дом. После дождя стало прохладно. На той неделе будет вам от меня подарок. Непременно, лучше поздно, чем никогда. А вы что ей подарили, Гарри?
Через веранду она провела их в гостиную. Это было продолжение сада. Куда ни глянь, в упорядоченном изобилии вьются, изгибаются, топорщатся цветы. От них избавлен только белый концертный рояль, задвинутый в угол.
— Да пока еще ничего не подарил. В сущности, я поздновато узнал. Забыл. Никакой памяти на эти дела. Никакой. Что тебе подарить, Нэнси?
— Правда, Нэнси, что вам подарить?
— Да ничего мне…
— Требую ответа, — сказал Гарри. — Решительно требую.
— Уж наверно вам чего-нибудь хочется, — сказала Мэйв.
Нэнси призадумалась.
— Просить, что захочу?
— В разумных пределах, конечно.
— Ну, конечно, — согласилась Нэнси.
— Нэнси не злоупотребит вашим вниманием, — сказала Мэйв.
Нэнси задумалась, а они опять заулыбались друг другу.
— Мне хочется в Аббатство. Вы не сводите меня на представление?
— С превеликим удовольствием.
— Замечательная мысль! Можно и мне с вами? Пожалуйста, возьмите и меня!
— Конечно! — с восторгом отозвался Гарри.
— Вы ведь не возражаете, правда, Нэнси?
— С чего мне возражать? — Нэнси посмотрела на них, оскалив зубы.
— Вот прелестно, правда? Гарри все устроит, и мы проведем прелестный вечер. Замечательно.
— Замечательно, — сказала Нэнси.
— А сейчас мы отметим праздник рюмочкой хереса. Вы, если хотите, выпейте виски, Гарри, а мы с Нэнси…
Мэйв пошла к двери.
— Я вам помогу.
— Спасибо, я и сама справлюсь, — однако она ему улыбнулась, и они вдвоем вышли из гостиной.
Нэнси плюхнулась на цветастый диван.
Зачем я сюда пришла?
Потому что ему хотелось пойти. Видно было — до смерти хочется. И не хватает смекалки, как бы пойти одному.
Я им тут без надобности.
Ну да. Только и нужна была, пока они не справятся с той первой улыбкой.
А сейчас? Взялись они за руки там, в соседней комнате? Ладонь к ладони, безгрешный ладонный поцелуй.
Отчего чайки со злыми глазами нравятся мне куда больше, чем эта любезная девица?
Отчего ему..?
В соседней комнате смеются.
…больше нравится…
Ладонь к ладони.
…она…
Чуть звякнуло стекло о стекло.
…чем… чем…
В комнате пахнет мастикой для пола и сладко — готовыми осыпаться розами.
Я им только помеха.
Нэнси встала.
— Мне пора домой. — Она изысканно поклонилась роялю. — Очаровательный вечер… благодарю вас. — Она медленно пошла к двери, кивая и улыбаясь стульям, цветочным вазам, столу, на котором стояла, вернее, застыла в балетной позе нарядная фарфоровая пастушка. — Так мило… так любезно с вашей стороны, до свиданья…
Вышла в сад и кинулась бежать по дорожке, к живой изгороди, за калитку.
Калитка взвизгнула, затворяясь за нею.
— Предательница, — прошептала Нэнси.
На холме поднимались из двух труб струи дыма, пятная небо; одна, наверно, от плиты: в кухне, конечно, Брайди, топая по скрипучим половицам и что-то напевая, готовит ужин; другая — от недавно разожженного камина в гостиной, там пламя с треском пробивается сквозь искусное сооружение из сучьев и хвороста.
Пока Нэнси шла полем, злость ее утихла.
— Поздравляю себя с днем рожденья, — сказала она вслух.
8 августа.
Со дня моего рожденья все время лил дождь, но сегодня как будто проясняется. В небе появились голубые просветы, изредка выглядывает солнце, играет на клумбах. Ласточки так долго прятались под застрехами, копошились прямо над изголовьем моей кровати, а теперь ныряют в воздухе за окном, трепещут крыльями. Какие они быстрые. Мелькнут перья — и нет их, миг — и вернулись. Такие неугомонные. Видно, очень радуются, что живут на свете.
Последние два дня деду было худо. Два раза падал с кресла. В таких случаях он никогда не ушибается, наверно, потому, что весь расслабленный и даже не пробует удержаться. А потом беспомощно лежит на полу, и нам с тетей Мэри не так-то легко поднять его и заново усадить в кресло. По-моему, он падает нарочно, когда ему надоест дремать и петь и разглядывать в бинокль железную дорогу. Я это сказала тете Мэри, а она только фыркнула: «Чушь!», но я-то знаю, по глазам вижу, что он старается нам досадить. Если во время таких небольших приступов его для безопасности оставить в постели, он весь день ноет и стонет, будто его мучают. И не желает есть сам, отнимает время у тети Мэри, она сидит возле него и кормит с ложечки, будто мамаша — капризного младенца. Когда он такой, я его ненавижу. Он не желает надевать вставные зубы, уголки глаз у него гноятся, и я себя презираю за то, что так на него злюсь. Иногда как посмотрю на его бессмысленное лицо, взяла бы и придушила подушкой. А когда с ним тетя Мэри, куда только девается ее привычная резкость. Поразительно, до чего она тогда ласковая. Это меня тоже злит. Хоть бы он умер, пока, разваливаясь на составные части, не доконал и нас.
Но сегодня день опять будет солнечный, и я пойду на берег, к моим чайкам, и послушаю, как волны разбиваются о гранит.
Сияло солнце. Над лужайками весело поднимался парок, и земля на клумбах опять стала теплая на ощупь.
Кончался второй завтрак. Высокие окна и двери на веранду были распахнуты, ветерок вздувал занавески. Старик свесил голову на грудь. Солнечный луч лег на его бескровные, почти неживые руки. Тетя Мэри, держа чашку в руке, напоследок старательно ее выскребла и наклонилась к нему.
— Ну, последнюю капельку, голубчик. На. Ты был таким умницей… ты сегодня такой… Брайди порадуется, что ты все съел. На, голубчик.
И сунула ложку в послушные вялые губы. С этой самой ложки его кормили, когда он был маленький. Ручку украшал его вензель: «Дж. Д.».
Тетя Мэри отставила чашку на стол и потрепала старика по колену. Он никак не откликнулся, сидел и тупо разглядывал свои руки, лежащие поверх пледа. Тетя Мэри встала, отошла к окну.
— Иные люди просто разваливаются, — сказала она вполголоса. — Иные счастливцы умирают мгновенно, а другие… да… другие. Вот так и с ним. Мы должны быть очень внимательны к нему. В глубине души он все понимает.
— Понимает он, как же, — презрительно отозвалась Нэнси.
— Мы должны быть очень внимательны к нему. Но завтра ему будет лучше. Я уж вижу.
В прихожей зазвонил телефон. Долгий дребезжащий звонок, потом перерыв. Нэнси встала, пошла к телефону. Когда она снимала трубку, звонок задребезжал снова.
— Слушаю.
Звонил Гарри.
— А, привет! — Она постаралась не выдать, как рада слышать его голос.
— Куда ты в тот вечер девалась? Ужасно невежливо было с твоей стороны вот так сбежать. На что это похоже, Нэнси!
— Просто я ушла. Порыв? Позыв? Какое слово следует применить?
— Иногда ты бываешь такой несносной девчонкой.
— Я подумала, без меня вам будет лучше… ну… и, пошла домой.
— И ни слова не сказала.
— Стала бы прощаться, получилась бы чепуха. И потом, мне там, в этом цветнике, неуютно было, будто я заблудившийся муравей.
— Чушь!
— Я же знаю, вам без меня было лучше. Признались бы честно.
— Я остался ужинать.
— Вот то-то. А при мне бы не остались.
— Она была совсем одна…
— Именно…
Молчание. Слушая, как они молчат, миссис Берк, телефонистка, нетерпеливо кашлянула.
— Я звоню насчет театра.
— А, да.
— Пойдемте завтра вечером? Мэйв это удобно. А тебе?
— Да.
— Уверена?
— Да, конечно. Спасибо. Спасибо.
— Наверно, тебе сперва надо спросить у Мэри?
— Она позволит.
— Ну, прекрасно. Может быть, приедешь поездом и зайдешь ко мне в контору? На Колледж-стрит. Перекусим на скорую руку. Я приведу машину и отвезу тебя домой. Скажи Мэри, пускай не беспокоится о тебе.
— Будет чудесно.
— Значит, в шесть в конторе. Кстати, идут «Скачущие к морю»[44].
— Да, я знаю.
— Значит, договорились?
— Да.
— Что ж…
— Что ж…
Миссис Берк опять покашляла.
— Завтра увидимся.
— Да.
— До свиданья.
— До свиданья.
Нэнси положила трубку на рычаг и повернула ручку, давая миссис Берк знать, что разговор окончен… будто она сама не знает. Постояла минуту в темноте, прислушиваясь к голосу Гарри, еще звучащему у нее внутри.
— Кто? — окликнула из столовой тетя Мэри.
Нэнси пошла туда.
— Гарри.
Тетя Мэри утирала салфеткой лицо деда.
— Завтра вечером он ведет меня в Театр Аббатства.
— Очень мило.
— На «Скачущих к морю».
— Только будь осторожна, в городе черно-пегие и… беспорядки…
— И Мэйв идет, — сказала Нэнси.
— Хорошенькая девушка. — Тетя Мэри уронила смятую салфетку на стол. — Скучновато на мой взгляд.
— Это мне подарок к рожденью.
— Но будь осторожна. Хотя, думаю, Гарри о тебе позаботится. Уснул. Пожалуй, отвезу его в гостиную. Он любит сидеть у того окна.
— По-моему, я влюбилась в Гарри.
Тетя Мэри нагнулась, отпустила тормоз инвалидного кресла.
— Какие пустяки.
На солнце набежало облако, и в комнате стало темнее.
— Для меня это не пустяки.
— Может быть, и так, детка. Думаю, у тебя детское увлечение. Так бывает. Но это не любовь. Любовь — огромное чувство, голубчик, тебе рановато об этом думать. И во всяком случае, Гарри тебе совсем не подходит.
Облако ушло, на полу и на стене заиграли солнечные пятна. Нэнси молчала.
— Я не хочу сказать о нем худого. Он очень милый… просто ничем не поражает воображение.
— Он красивый. Поразительно красивый.
Тетя Мэри взялась за ручки кресла и покатила его по комнате.
— Красота, как тебе известно, штука чисто внешняя. Есть красота без глубины, а есть… понимаешь ли… кое-что поинтереснее. В нем нет глубины. Ему надо бы остаться в армии, из него бы вышел образцовый красавец-генерал. Куда красивее, чем был его отец.
— Это ты так думаешь…
— Погода сегодня получше, что ты собираешься делать до обеда?
— Погуляю. Может быть, искупаюсь.
— Нашла бы себе подруг. Играла бы в теннис. Я в твои годы увлекалась теннисом.
— Ты всегда была спортивная.
— Возьми свитер. Ветер холодный.
Когда они вышли в прихожую, старик, потревоженный шагами, запел:
— «Не убоюсь я ворога под защитой твоей руки…»
— Правда, замечательно? — сказала тетя Мэри. — Ему уже лучше. Может быть, завтра я все-таки смогу поехать на скачки.
— «Бедствия мне не тягостны, слезы мои не горьки».
Нэнси вышла на веранду, ее обдало густым сладким запахом герани.
— Свитер! — крикнула вслед тетка.
Казалось, все как всегда. Защищенно. Безлюдно. Был отлив, берег обрамляла кружевная оборка мелких волн. С гребня крыши озирала горизонт неподвижная чайка. Справа от двери, среди раздробленных ракушек, валялся окурок. Нэнси, нахмурясь, поглядела на него, потом босой ногой забросала его песком. Отворила дверь, заглянула в хижину. Никого; но недавно здесь кто-то был. Кто-то здесь двигался и дышал. Трогал ее вещи, угрожал ее тайне. Сперва Нэнси разозлилась, потом испугалась. Над головой по крыше царапнули когти — шевельнулась чайка. И Нэнси успокоилась. Взяла с полки блокнот и карандаш и принялась писать:
«Дорогой сэр,
буду вам признательна, если вы больше сюда не придете. Это очень личная собственность.
С уважением
Нэнси Гулливер»Аккуратно вырвала листок из блокнота, постояла, постукивая карандашом по зубам, огляделась — где бы пристроить записку. Наконец прислонила ее к книгам на полке, как раз напротив двери, чтобы сразу бросилась в глаза тому, кто войдет. Купаться расхотелось, она старательно затворила дверь, помахала на прощанье чайке и пошла домой.
Наутро, когда они завтракали, опять позвонил Гарри.
— Нэнси?
— А, привет.
Он все отменит, подумала она. Только бы не отменил.
— Я сейчас мчусь на службу.
— Да.
Тетя Мэри досадливо зашуршала листами «Айриш таймс».
— Я вот подумал, позвоню, спрошу, не возражает Мэри, что ты поедешь в город?
— Я же говорила. Она не против.
— Гренки остынут, — окликнула тетя Мэри.
— Хорошо. Она не беспокоится, что ты поедешь поездом одна?
— Нет. (Ну вот, пошли ахи-охи.)
— Не бери обратный билет. Я отвезу вас обеих домой.
— Да.
— Что может быть отвратительней остывших гренков. Воспитанные люди не пользуются этим мерзким аппаратом в такое время, когда другие завтракают.
— Я поставлю автомобиль поближе к театру, не надо будет далеко ходить.
— Да.
— Так что пускай Мэри не беспокоится.
— Она, по-моему, и не беспокоится.
— Гренки.
— Значит, условились. Жду тебя в конторе. И пойдем перекусить.
— Спасибо.
— В половине седьмого, времени хватит.
— Половинка семи.
— Половинка семи — это три с половиной, — сердито крикнула тетя Мэри. — Хоть бы говорила по-человечески.
— Мне пора.
— Да.
— До свиданья.
— До свиданья. Спасибо, что позвонили.
Нэнси опять села за стол.
— Немцы вместо «половина четвертого» говорят «половина четырех», — сказала из-за газетного листа тетя Мэри. — Halb vier. Halb fünf… половина пятого. Невразумительно, но они же иностранцы. Разные языки, разные конструкции и вообще. Ешь свои холодные гренки.
— Больше не хочется.
— Чепуха! И потом, на них уже столько масла и мармелада.
Она опять углубилась в газету, а Нэнси стала жевать гренки. Наконец тетя Мэри аккуратно сложила газету, взяла ее под мышку. Поднялась, собрала раскиданные перед ее тарелкой письма.
— В последнее время газеты читать тошно. Хоть бы прекратились эти убийства. Бедный Габриэл! — Она вздохнула, постояла, глядя в пространство. — В каком-то смысле я даже рада, что его уже нет. Его бы все это так расстроило. Вот я очень расстраиваюсь. Бедные люди… Понимаешь, он всегда хотел самоуправления, гомруля хотел.
— Кто?
— Твой дядя Габриэл. Папа всегда так из-за него расстраивался. Так сердился. Всегда говорил, Британская империя превыше всего. Бедняжечка! Пойду посмотрю, как он сегодня утром. Не забудь, надо говорить половина седьмого. Половина семи — это не просто неправильно, это дурное воспитание.
«Дорогая мисс Гулливер, благодарю за записку. Заверяю вас, я очень уважаю права личности и сожалею, что так или иначе посягнул на ваши. Уверен, знай вы все обстоятельства, вы бы меня извинили. Похоже, вы — человек, способный прощать. Я за вами наблюдал. Я видел, как вы встревожились и рассердились однажды, когда заподозрили, что я нахожусь поблизости. Постараюсь больше вас не потревожить. Надеюсь, сегодня вы найдете все в полном порядке, не будет ни окурков, ни духоты. Должен сказать, мне очень правится ваш выбор книг. Такая удача — найти прибежище не только для тела, но и для души! Благодарю вас. Не могу не выразить также почтения к вашей знаменитой фамилии. Подобно тому, кто носил ее задолго до вашего появления на свет, я тоже причисляю себя к разряду путешественников».
Никакой подписи.
Записка приколота была к двери длинной золотой булавкой от галстука, вроде той, какой закалывал свой широкий галстук дядя Габриэл в дни, когда выезжал на охоту. Нэнси старательно вколола ее в блузку. Шутник, подумала она. Отворила дверь хижины, заглянула внутрь. Никаких следов посетителя. Шутник. По гранитным плитам она взобралась на железнодорожную насыпь. Сколько хватает глаз, на берегу ни души. Только и движения, что блестки солнца на море. Две чайки лениво парят в воздухе. Позади, под деревьями и дальше по склонам холмов среди дрока пасутся овцы. Стараясь не терять равновесия, Нэнси стала на рельс.
— Ладно. Ладно. Хватит шутить. Где вы там есть. Выходите.
Отзвук ее голоса замер в тишине.
— Ш-ш! — укоризненно шепнула волна.
— Я хочу с вами познакомиться.
Нэнси подождала минуту, покачиваясь на рельсе.
— Пожалуйста! — Брайди напомнила бы про «пожалуйста». Нэнси, не скупясь, еще и повторила его. Никакого ответа.
Она спрыгнула с рельса и спустилась обратно к хижине. Взяла плед, книгу, растянулась на солнышке — можно почитать и подождать.
— Мисс Нэнси Гулливер?
Она не слыхала, как он подошел. Он неслышно спустился по гранитным плитам и стоял позади нее, в каких-нибудь трех шагах. Босой, ноги узловатые, точно корни старого дерева вылезли из земли. Пока Нэнси его разглядывала, он не шевельнулся. Невысокого роста. Густые мягкие волосы спадают вдоль щек, лицо в этой темной рамке худое, почти костлявое, и светлые прозрачные глаза.
Нэнси долго его рассматривала.
— Вы, видно, больны, — наконец сказала она.
— Я здоров.
— Вы кто?
— Путешественник.
Она досадливо мотнула головой.
— Это я уже знаю. А кто вы?
— Не сердитесь, детка. Я просто прохожий, сторонний человек. Как сказал величайший писатель, какого до сих пор ухитрились породить эти острова, «что значит имя?»[45].
— Просто я хочу знать, что вы такое.
— Вы склонны к философии или просто любопытны?
Нэнси покраснела и отвела глаза. Чайка на крыше над ними явно до смерти скучала: голова втянута в плечи, глаза остекленели.
— Не присядете ли?
Прозвучало по-дурацки, этакая светская любезность. Он мимолетно улыбнулся.
— Благодарю.
Все так же неслышно подошел по песку, сел возле Нэнси на плед. Посидели молча, глядя на море. Далекий горизонт ясен, словно по линейке прочерчен.
— Опять будет дождь, — сказал незнакомец.
— Да.
— Боюсь, лето кончилось.
Нэнси зачерпнула пригоршню песка и предоставила ему медленно протечь между пальцев.
— Вы преступник? Только это я и хочу знать.
— Нет. Надеюсь, вы мне поверите.
— Я поверю всему, что вы скажете.
— Это не всегда разумно.
— Мне не часто приходилось встречаться с людьми, которые лгут.
Очень церемонно прозвучало, он опять улыбнулся.
— Оно и видно.
Оскорбленная Нэнси посмотрела на него в упор:
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, милая девочка… прошу прощенья, милая молодая леди… что вы еще юны… как я подозреваю, совсем юны… и едва ли у вас было много случаев заглянуть в темные закоулки Дублина и чужих умов. — Он вздохнул. — Никогда не мог понять, почему те, кто молод, так презирают свою молодость. Великолепнейшее свойство. О господи, если б можно было опять посмотреть на мир неискушенными глазами!
— Почему вы выбрали мою хижину?
Он засмеялся.
— Боюсь, вы мне не поверите, но эта хижина была моей еще задолго до вашего рождения.
— Конечно, не верю.
— А как будто собирались верить каждому моему слову.
— Но не каким-то нелепым выдумкам.
— Это не выдумка. Я знал эту хижину с детства. — Он чуть улыбнулся. — Когда был еще моложе вас.
Нэнси посмотрела на него с любопытством.
— Вы родом из здешних мест?
— В некотором смысле. Знаете, эту железную дорогу когда-то смыло.
— Вот как!
— Она проходила там, где теперь лежат те плиты. Пришлось ее перенести выше, дальше от воды. Это было лет тридцать назад. Да. Помню, зимой был сильнейший шторм, и куски дороги снесло. Тогда вся линия берега изменилась. Помню, люди работали на дороге, молотки стучали по рельсам, звенело железо, это было почти как музыка, что-то вагнеровское. — Он засмеялся. — Только я тогда еще ничего не знал про Вагнера. Я не был ни чудо-ребенком, ни блудным сыном. По правде говоря, с тех пор прошло гораздо больше тридцати лет. Пожалуй, все сорок.
— Сбеситься можно.
— Ох, прошу прощенья!
— Вы не виноваты. Просто я мечтала, привыкла думать, что это все мое.
— Так и есть. Тут все слишком переменилось. Только чайка — та же, прежняя. Я ее сразу узнал. Чайка, вещай-ка, — окликнул он птицу.
— Вот уж это чистая выдумка.
— Чайки славятся долголетием.
— Ерунда!
— Может быть, в нее вселилась Грозная вещунья.
— Я всегда считала, что эта чайка мужского рода. У нее слишком много свободного времени.
— Нет-нет. Это старая дама. Ее дети давно уже взрослые, и теперь она просто сидит и мрачно смотрит на безобразие, которое устраивают в мире другие чайки.
Нэнси вздохнула.
— Да. Пожалуй, вы правы.
Она опять зачерпнула пригоршню песка и уставилась на него. Теплые серые и золотые крупинки, крохотные осколки раковин, блестки слюды.
— Мне пора идти, — сказала она наконец, все еще разглядывая песок.
— Так скоро? Мы едва успели познакомиться.
— Мне надо ехать в город. Я собираюсь в Театр Аббатства.
— Это славно.
— Н-ну… да… в некотором смысле.
— Наверно, с вами будет какой-то счастливый молодой спутник.
Нэнси отшвырнула песок.
— Н-ну, в некотором смысле… То есть, он не мой спутник… Я… ну… он мне очень нравится, но… Она тоже идет.
— Это, знаете, со всеми нами случается.
— Тетя Мэри говорит, я еще слишком молода.
— Пожалуй.
Нэнси улыбнулась ему. На миг лицо ее осветилось, прелесть необыкновенная. Ему захотелось коснуться ее, но он благоразумно сдержался. Только сказал:
— На вашем месте я не стал бы огорчаться.
— Я и не огорчаюсь. Ничего подобного. Я делаю разные другие глупости.
Она встала, отряхнула песок с ладоней о юбку.
— Вам больше незачем прятаться.
— Спасибо. Признаться, мне это будет приятнее.
Нэнси протянула руку:
— До свиданья.
Он пожал ей руку. К ладони еще липли жесткие песчинки.
— До свиданья, Нэнси.
— Вам что-нибудь нужно?
— Я отлично умею о себе позаботиться. Нужна только скромность.
— Я не из болтливых.
— Не сомневаюсь.
Нэнси неловко помахала ему рукой и полезла на насыпь. Обернулась, взглянула на прощанье, — он сидел на пледе к ней спиной и смотрел на море.
Нэнси любила станцию железной дороги. Всегда любила — ряды путей на сортировочной, где снуют взад и вперед паровозы, пыхтят, отдуваются, порой беспокойно ворчат, а в иные минуты радостно гремят и лязгают буферами, словно разбушевались десятки закованных в кандалы привидений; любила сигнальную будку в конце перрона, — когда Мартин, сигнальщик, бывал хорошо настроен, он позволял ей взбираться туда по крутой деревянной лесенке и следить, как он передвигает рукоятки, и слушать, как звонят колокола вдоль линии, и смотреть, как медленно меняются замечательные сигналы: трах — падает красный, скрррип — поднимается зеленый. И еще через единственную колею от платформы «из Дублина» к платформе «на Дублин» перекинут железный мост, — если стоишь на нем, когда под тобой проходит паровоз, на минуту весь мир скрывается в облаке серого дыма.
— Добрый вечер, Нэнси.
— Добрый вечер, мистер Кэррол.
Всегда такой важный, на фуражке золотой галун, под мышкой зеленый флажок; станция — его радость и гордость, здание сверкает чистотой, нигде на стенах не лупится краска, на оконных стеклах ни пятнышка, опрятная клумба, которая тянется позади платформы «из Дублина», всегда радует глаз.
— Покатила?
— Да.
— Смотри, будь поосторожнее. Нехорошие настали времена, поосторожнее надо. Невеселые времена, — бормотал он. — Невеселые.
Наверно, он думает о Сэмми, догадалась Нэнси. Протянула руку, погладила рукав его темно-синей форменной куртки.
— Я еду в театр, — сказала она в надежде немножко его подбодрить.
— Вот это славно. Голову прозакладываю, тут замешан какой-то славный малый, а? — Он подмигнул.
Нэнси улыбнулась:
— Конечно.
— Быстро ж ты растешь. Вроде только вчера тут вертелась, приставала — дай, мол, покататься на турникете, а нынче у тебя другое на уме. Как тетушка поживает?
— Спасибо, здорова.
— А генерал?
— В последние дни неважно.
— Дай ему бог здоровья! И то сказать, знатно пожил. Так. Обожди-ка минутку.
Они вместе вышли на платформу.
— Никогда не садись в купе, где один мужчина… разве что знакомый человек. Понятно тебе?
Он выбрал для нее подходящее купе, открыл дверь.
— Залезай.
Нэнси серьезно кивнула ему и поднялась в вагон. Два солидных пассажира читали газеты, немолодая женщина вязала. Тут Нэнси будет в безопасности. Мистер Кэррол захлопнул дверь. Нэнси опустила окно и выглянула.
— Спасибо, мистер Кэррол.
— Смотри, поосторожнее, Нэнси. Поосторожнее.
Он поднес к губам свисток, взмахнул зеленым флажком.
Попутчики зашелестели газетами, один глянул на часы. Попутчица вязала — две прямых петли, одна обратная, движутся искусные пальцы. Громко зашипел пар, состав дернулся. Нэнси помахала мистеру Кэрролу, он ответно махнул зеленым флажком. Она закрыла окно и села. Начертила пальцем свои инициалы на пыльном стекле, за окном уже мелькали тыльные стены каких-то лавок, потом дома, потом пустая гавань, рыбачьи сети, свернутые у стенки набережной. Поезд набирал скорость. Кончик пальца стал серый, Нэнси вытерла его о юбку.
Кликети клак, клакети клик, кликети, кликети, кликети…
Кажется, спицы вязальщицы позвякивают в такт колесам. Пальцы работают, а взгляд устремлен за окно, на море. Мастерица, подумала Нэнси.
Кликети, кликети, секрет, секрет. В иные минуты колеса не тараторили, а будто напевали про себя. Кликети. Что он сейчас поделывает, тот секрет? Может, все еще сидит на пледе и о чем-то размышляет? Может быть. Кликети, о чем размышляет? Вязальщица принялась считать петли, осторожно передвигая каждую по спице кончиком другой спицы. Беззвучно шевелит губами, считает. А у него лицо, в общем-то, породистое. Усталое. Породистое. Измочаленное. Измочаленное лицо. Сколько ему лет? Кликети, кликети. Пятьдесят с хвостиком. Не умеет она разбираться в возрасте.
Надрывный свисток, поезд нырнул в туннель. Теперь Нэнси только и видит в пыльном стекле свое неизмочаленное лицо в ореоле летящих искр.
Может быть, он сумасшедший? Нет. Скрывается, ух ты, да, может, он из тех! Были же люди вроде него, замешанные… может, и дядя Габриэл был бы один из них, если б его не убили, когда он был в армии, которая теперь вражеская. Если он из тех..? А может, он большевик? У него неплохое лицо, подумала она, снова мысленно разглядывая запомнившиеся черты… только измочаленное, больное. Скромность, сказал он. Я буду нема, как могила.
Поезд опять вырвался на свет. Внизу, у самой насыпи, море глубокое и мрачное, а дальше, где на него не падает вечерняя тень холма, оно еще весело искрится. По заливу летят наперегонки штук десять яхт, белые паруса надуты ветром. Кликети, кликети. Опять она вяжет, пальцы так и пляшут, моток коричневой шерсти подпрыгивает на коленях. Один из попутчиков опять поглядел на часы, недовольно поморщился. Не терпится ему. По другую сторону за окном уже не поля, а пригородные сады, чистенькие цветочные клумбы, теннисные площадки, аккуратные огородики, полощется на ветру сохнущее белье. Потом — словно глубокое ущелье, с двух сторон только и видны крутые каменные стены да вверху тонкая полоска неба, и колеса опять оглушительно загремели.
Снова дома, задворки, в просветах мелькает море, потом Меррион, громадный пляж протянулся до самого Хоута, сейчас он почти пуст, только вдали у самой воды — стая чаек да бегают с собакой несколько ребятишек. Поезд опять сворачивает прочь от берега, дома все тесней жмутся друг к другу, ни пятнышка зелени. Закопченные окна хмуро глядят на проносящийся мимо поезд, серый и рыжий кирпич, ни деревца; там и сям в темных комнатах уже засветились лампы. Пожилая дама свернула вязанье и сунула в большую черную сумку. Солидные попутчики дружно зашуршали газетами; один аккуратно сложил свою и сунул в карман, другой оставил свою на сиденье. Один зевнул, другой опять посмотрел на часы.
Кликети клак. Клакети клик. Клик… клик…
Гарри стоял на ступеньках у входа в контору и ждал.
— Здравствуй, Нэнси. — Он снял шляпу.
— Вот те на! Неужели вы давно ждете!
— Нет. Нет. Ничего подобного. Ну… пойдем перекусим.
Он надел шляпу, и они пошли по улице.
В окнах верхних этажей еще вспыхивало вечернее солнце. Сигналы, подумала Нэнси. Тайные световые сигналы передаются с улицы на улицу. Мимо пробежал трамвай, от проводов над головой с треском посыпались искры. Еще сигналы. Сегодня вечером город полон тайн.
Гарри взял ее за локоть и властно повел по улице.
— Ты мило выглядишь. Новый наряд?
Она покраснела от удовольствия.
— Просто я сегодня аккуратно оделась. Только и всего. Тетя Мэри грозно за мной надзирала. И сказала, в кои веки у меня приличный вид. Вы согласны?
— Безусловно.
— Безусловно приличный вид. Как благородно! Не параличный вид, не горчичный вид и даже не…
— Замолчи, Нэнси! Почему ты всегда болтаешь невесть что!
— А где Мэйв?
Незаметно, в кармане она скрестила пальцы. Не придет! Какое счастье! И никогда больше не придет. Утонула во всей красе, как Офелия или та, что пошла скликать коров с зыбучих Дийских песков[46]. Волосы разметались по воде, лилии, так все романтично. Какое счастье! Прекрасная покойница. Тетя Мэри возложит на гроб прекрасный венок, она мастерица подбирать цветы. Скручивает и переплетает стебли. Куда лучше, чем заказывать нечто чопорное в магазине. Над могилой все станут проливать слезы. Гарри проведет год в благородной скорби, а потом…
— …так что она встретит нас в театре, — объяснял он.
— А… ага… да! — вздохнула Нэнси.
Он свел ее с тротуара. Из-за угла подул ветерок и проводил их через улицу. Запахло пылью и навозом. Трамвайные рельсы на булыжной мостовой — точно серебряные ленты.
— Вот я и подумал, что мы поедим в закусочной Бьюли. Понимаешь, так быстрей. Ты не против?
Нэнси подняла голову и улыбнулась ему.
— Да ради бога, как хотите!
По Дейм-стрит прокатил грузовик, полный солдат, и помчался мимо Ирландского Банка к реке.
— Я полагаю, они едут кого-нибудь расстреливать. — Нэнси попыталась завязать светскую беседу.
Гарри нахмурился, но промолчал.
Она взяла его под руку.
— Может, если бы вы после войны не ушли из армии, вы бы сейчас ехали с ними. Кого-нибудь расстреливать.
Мимо, покачиваясь, прошел трамвай, горделивый корабль на рельсах.
— Как бы это вам понравилось?
Она подергала его руку, ожидая ответа.
— Я не прочь бы добраться до кое-кого из этих мерзавцев.
Он полотно сжал губы, чтоб не сорвались еще какие-то слова, и опустил глаза на свои ноги в начищенных черных башмаках, переступающие по тротуару.
— Гарри?
— Хватит.
По Графтон-стрит шли в молчании. Когда переходили через улицу к «Восточному кафе Бьюли», перед ними проехал автомобиль, за рулем сидел немолодой человек. Он вел машину медленно, Нэнси подалась вперед, всматриваясь ему в лицо.
Теплый аромат свежесмолотого кофе обдал их и словно втянул через вращающиеся двери в кафе.
— Как по-вашему, может быть, это был мой отец?
— Кто? Где? — ошарашенно спросил Гарри.
— Человек, который проехал в той машине.
— О господи!
Он подтолкнул Нэнси вперед, через магазин, к двери в глубине — входу в кафе.
— Я всегда смотрю в проезжающие машины, нет ли там отца. — Нэнси тут же пожалела о сказанном. Беспокойно засмеялась. — Шучу, шучу.
— Садись.
И он отодвинул для нее стул за маленьким столиком. Она села. Смотрела, как он повесил шляпу на высокую рогатую вешалку, как небыстрыми, аккуратными движениями расстегнул пиджак. Наконец он тоже сел и через стол пододвинул к ней меню.
— Твой отец умер.
— Откуда вы знаете?
— Это всем известно, глупая ты девочка!
— А мне не известно.
— Конечно, известно. Итак, что ты хочешь есть? Времени у нас немного.
— Тогда где он похоронен?
— Нэнси, я…
— Где хоть какая-нибудь бумага, в которой сказано, что он умер? Какой-то документ. Мистер Роберт Гулливер скончался. Что-нибудь в этом роде. Где?
— Ну откуда мне знать! Задавай свои глупые вопросы тете Мэри. Ей досконально все известно.
Нэнси покачала головой. Гарри нетерпеливо постучал пальцем по столику, показал на меню. Нэнси пробежала его глазами.
— Мне омлет и картофельные оладьи, — сказала она. — И кофе.
— Уверена?
— Да.
Он помахал официантке.
— Она только строит предположения. У нее нет доказательств. — Нэнси наклонилась к нему через стол. — Моя мать умерла. Это я знаю. У меня ее щетка для волос. И еще разные вещи… да я даже сплю в ее кровати, а Роберт… он… мой…
— На твоем месте я предположил бы то же что и все.
Нэнси смотрела на него, пока он заказывал еду. Шепнула чуть слышно:
— До чего ж вы иногда бываете нудный.
Гарри почесал уголок глаза бледным чистым пальцем. Ногти у него красивые, ровно острижены, руки такие, словно ни к какой житейской грязи сроду даже не приближались.
— Одно тебе скажу, где бы он там ни был, но в автомобиле по Дублину он не разъезжает.
— Вы не знаете.
— Я тоже умею строить предположения.
Кругом полно народу, бренчат ножами и вилками, помешивают кофе в тяжелых белых чашках, улыбаются друг другу или читают газеты. За стенами что-то вроде войны, подумала Нэнси, но когда сидишь тут, в тепле, в мягком приглушенном свете, ни за что об этом не догадаешься. Она поглядела на спокойные лица вокруг — может, вон те двое, самые обыкновенные люди, что с улыбкой наклоняются друг к другу, замышляют кого-то убить, передают тайные сведения; помешивают ложечками кофе, а сами кого-то предают и улыбаются, улыбаются. Официантка поставила перед ней тарелку, перед Гарри другую, лицо у него недовольное; потом что-то передвинула на столике, освободила место для кофейника и тарелки с пухлыми, дымящимися оладьями.
— Надеюсь, тебе это придется по вкусу, — вежливо сказал Гарри.
— Сногсшибательно.
— Разливай кофе. Хозяйничает дама. Мне два куска сахару.
Он взял нож и вилку и принялся за ветчину и сосиски — тщательно отрезал кусочки, склонив голову над тарелкой. Нэнси налила ему кофе, ни капли не плеснула на блюдце, хотя рука немного дрожала.
— Я зануда?
Он поднял глаза и улыбнулся ей. От этой улыбки у нее на миг закружилась голова.
— Ты глупая девочка, но не зануда. Пока. Если не перестанешь глупить, пожалуй что и сделаешься занудой, но я думаю, у тебя это скоро пройдет.
— Отъявленная зануда?
— Ешь омлет. Не годится заставлять Мэйв долго ждать.
10 августа.
Хоть я и приняла знаменательное решение аккуратно вести дневник, но с отвращением убеждаюсь, что была ленива… ну, пожалуй, вернее сказать — небрежна. Наверно, мне вообще свойственна небрежность. Может быть, это от возраста и когда-нибудь я, как очень надеется Гарри, стану дельной особой. Организованной. Однако на мое вчерашнее поведение ему жаловаться нечего. Я себя вела как настоящая светская дама. Мы заставили Мэйв несколько минут подождать, но она благородно это перенесла. На ней было светло-сиреневое платье — терпеть не могу этот цвет, но ей он к лицу.
Мы смотрели две пьесы — «Андрокл и лев» Джорджа Бернарда Шоу и «Скачущие к морю». На «Андрокле» я много смеялась, а на «Скачущих» плакала. По-моему, в обоих случаях это правильно. Но хоть пьеса мистера Шоу меня и насмешила, она не очень-то мне поправилась, только им я этого не сказала — и Гарри и Мэйв от нее в восторге.
Как-то странно пахнет в этом Театре Аббатства; может быть, во всех театрах так, не знаю, у меня мало опыта.
Нам пришлось очень спешить, чтобы выбраться из города до комендантского часа. Мэйв сидела рядом с Гарри и смеялась, и болтала, и время от времени трогала его за руку выше кисти. По дороге домой мы обогнали несколько армейских грузовиков, но не видали никаких беспорядков. Когда едешь с Гарри, бояться нечего — пока он рядом, ничего страшного с тобой не случится.
Когда я вернулась домой, все уже легли. Тетя Мэри оставила в прихожей свет, чтобы мне не топтаться в темноте. На одном конце длинного стола в прихожей стоял поднос, а на нем кувшин молока, накрытый от мух муслиновой салфеткой с цветными бусинами по краям, стакан и кусок вкуснейшего фруктового пирога, Брайди обычно его держит для гостей. Я погасила свет и села на нижнюю ступеньку лестницы.
Наш дом был тихий, ласковый. Тикали степные часы, вся мебель вокруг тихонько дышала, вещи всегда дышат по ночам, когда все остальное молчит. В кухне шебуршала мышь, в полукруглое окно над парадной дверью светила луна, оранжевые ломтики света ложились от нее на пол, на ступеньки и, наверно, на меня тоже. Мне стало очень надежно, защищенно. Я попробовала понять, правильно это или неправильно, но так ничего и не решила.
Назавтра, когда Нэнси спустилась к хижине, шел дождь. На берегу ни души. Море и небо одинаково бурные, темно-серые; взметались и опадали белые брызги пены, вздыхающие переменчивые узоры. Гудели телеграфные провода. Нэнси прихватила с собою в старой школьной сумке еду — понемногу всякой всячины.
Он сутуло сидел в углу хижины, на худые плечи накинут плед. В руке книга. Когда вошла Нэнси, он положил книгу на пол и поднялся.
— Извините, — сказал он. — У меня и в мыслях не было, что вы сегодня придете. Неподходящий день для купанья.
— Я принесла вам поесть… не так уж много… по кусочку того-сего. Я же не знаю, как вы тут справляетесь.
Она говорила, а сама беспокойно отжимала капли дождя, стекающие с намокших волос.
— Вы очень внимательны и добры!
Нэнси протянула ему сумку. Он взял сумку и, не раскрывая, положил на полку.
— Знаете что, не надо обо мне тревожиться. Я очень признателен… мне не хотелось бы… Я… м-м… прекрасно умею справляться.
Долгую минуту они стояли и молча смотрели друг на друга.
— Понравилось вам в театре? — учтиво осведомился он.
— Спасибо, было очень хорошо.
— Вы бы предпочли, чтобы я на время исчез?
— Нет, нет! Пожалуйста, не надо. Я никому не проболталась.
Он чуть улыбнулся.
— Про вас.
Она перестала терзать свои волосы, вытерла мокрые пальцы о перед юбки.
— Я и не думал, что вы проболтаетесь.
— Людей ведь не разберешь.
— По-моему, прекрасно можно разобраться. Да. Вероятно, я так думаю потому, что стар и многоопытен. Может быть, присядем? Я всегда считал, что незачем стоять, если можно сидеть.
Он разложил плед и подушки так, чтобы хватило места обоим, вежливо подождал, пока усядется Нэнси, потом сел рядом.
— Ну, вот так-то, — сказал он.
— Да.
Он достал из кармана недокуренную сигарету и, прежде чем взять ее в рот, отщипнул погасший кончик. Потом стал рыться в кармане в поисках спичек.
— Вы умираете? — спросила вдруг Нэнси.
Он, видно, даже испугался. Нашарил коробок, чиркнул спичкой. Поднес огонек к лицу, рука его дрожала. Взмахнул спичкой, погасил и обгорелую спрятал обратно в коробок.
— Ну, вообще-то все мы смертны. Почему вы спрашиваете?
— Просто я думала… ну… хотела понять… мне показалось, это тоже объяснение.
— Боже милостивый, да чего ради я заявился бы сюда помирать! Нет-нет, Нэнси Гулливер, я предпочел бы умирать с удобствами.
— А по-моему, вы бы до этого не додумались.
Он засмеялся.
— Чепуха, милая девочка. Я совсем не романтический герой. И не меньше других люблю уют. Особенно если уж речь пойдет о смерти. Предпочитаю умереть не на берегу, где свищет ветер, сжевав два неспелых яблока, а в теплой постели, сразу после хорошего ужина с бутылочкой кларета.
— «Угаснуть заполночь, не испытав мучений…»[47]
— Это было бы приятно.
— Дед никак не умрет. Только сидит и ждет и все не дождется. — Нэнси ковырнула в носу указательным пальцем. — Даже как-то не по себе от этого… то есть, гораздо хуже. Сидит такой беспомощный и ждет. Да. А мы смотрим. С каждым днем он понемножку высыхает, но все никак не умрет.
— А вам обязательно надо ковырять в носу?
Нэнси поспешно отдернула руку и покраснела.
— Извините. Я сама не заметила…
— Расскажите-ка о себе. Чем вы заняты кроме того, что смотрите, как высыхает ваш дед?
— В сущности, я ничем не занята. Я сирота.
— Я тоже.
Она засмеялась.
— Глупый! У меня никогда не было родителей.
— Другими словами, вы появились в облаке дыма, как демон в пантомиме.
— Вот было бы забавно!
— А ваш дедушка…
— Я живу с ним и с тетей. Вон там… — Нэнси неопределенно махнула рукой в сторону железной дороги. — Я только что кончила школу. Осенью поступлю в Тринити-колледж.
— И что будете изучать?
— Историю. Во всяком случае, для начала это как будто неплохо. Тетя Мэри говорит, наверно, мне история быстро надоест.
— А тете Мэри на роду написано никогда не ошибаться?
— Вообще-то она хотела, чтобы я училась в Оксфорде, но… ну… у нас на Оксфорд не хватит денег. Она говорит, чтобы я работала головой, меня надо подхлестывать… и нужна дисциплина. Она говорит, тут я, наверно, не получу ни того, ни другого. Она говорит…
Нэнси замолчала, тревожно поглядела на него.
— Что же?
— Она говорит, наверно, это даже к лучшему, что у нас нет денег, потому что будет война с Англией… настоящая война… и тогда мне лучше оставаться тут. В конце концов…
— Так она думает, с Англией будет настоящая война?
Похоже, это его позабавило.
— Она говорит, очень может быть, потому что кругом ужасные путаники и баламуты.
Порыв ветра застучал дождем по крыше. Точно камешки посыпались на нее, потом соскользнули, и стало тихо.
— Она добрая.
— Вот как!
— Она очень добрая и с дедом, и со мной. И вообще со всеми. У нее в жизни большой порядок. Ведь правда, это хорошо?
— Несомненно.
— Вы так сказали, как будто не очень в этом убеждены.
— Нэнси Гулливер, в детстве вы, наверно, были несносная надоеда.
Она чуть улыбнулась.
— На фотографиях моя мама очень похожа на тетю Мэри. Только, по-моему, она была не такая любительница порядка.
— Почему вы так думаете?
— Она обзавелась мною. — Нэнси наклонилась к собеседнику, будто боялась, что кто-то подслушает. — Подозреваю, что она была не замужем. Это ведь не очень в порядке вещей, правда? Имейте в виду, люди ничего подобного не говорят, это просто мои подозрения.
— Пожалуй, вам было бы куда легче жить, если б вы верили тому, что говорят люди.
— Да, пожалуй.
На нее вдруг напал голод, она встала, сняла с полки свою сумку и заглянула внутрь.
— Банан хотите?
— Нет, спасибо. Никогда не ем в неурочное время.
— А я один съем, ничего? Их тут три штуки.
— Ешьте на здоровье.
Нэнси достала банан, аккуратно отогнула кожуру. Мякоть местами побурела и стала как кисель. Нэнси опять неохотно села, вытянула перед собой ноги. Ей хотелось двигаться, походить взад-вперед, точно лев в клетке. Слишком длинный второй палец с любопытством выглядывал из дырки в промокшей парусиновой туфле. Нэнси жевала банан и смотрела на палец, как будто несколько встревоженная его появлением. Ее сосед уже подумывал, не взяться ли опять за книгу.
— Как вас зовут? — спросила Нэнси после долгого, долгого молчания.
— Мы, кажется, уже говорили на эту тему?
— Но ни до чего не договорились. Правда же… полагается… удобнее… знать имя квартиранта. То есть… вы не… но все-таки.
Он не отвечал.
Нэнси свернула банановую кожуру и сунула в карман.
— Вы случайно не Роберт?
— На своем веку я переменил немало имен.
— И Робертом вас тоже звали?
— Что-то не помню. Не такое уж интересное имя.
— Моего отца звали Роберт.
Он захохотал во все горло. Через минуту она тоже засмеялась, от ветра и от хохота даже хижина задрожала.
— Вот так-так, ай-да Нэнси! Неужели вы считаете меня виновником?
— А почему бы и нет? Почему бы и не вы?
— И откуда вы знаете, что его звали Роберт? В конце концов, раз уж вы не верите тому, что говорят люди…
— Но это я знаю. Дед иногда поминает это имя, а он уже не способен врать. И потом, у меня есть эта книга. — Нэнси говорила и машинально поглаживала давний, с детства, шрам на коленке. Не умела она сидеть неподвижно. Ее руки не ведали, что такое покой. — Первое издание Йейтса. Знаете, такая чудесная мягкая бумага, а там, где страницы разрезаны ножом, края неровные… Наверно, это его подарок ей… моей матери. Там написано Элен… ее так звали.
Он кивнул, это могло означать что угодно или ровно ничего. Впрочем, Нэнси на него не смотрела, она словно впилась глазами в черную кудрявую надпись на титульном листе книги.
— «…любовь умчалась, шепчешь ты с тоскою, и по вершинам горным над тобою ступает, лик скрывая свой меж звезд»[48].
Молчание.
— Не знаю толком, что это значит.
Молчание.
— Но это славно… хорошо. И потом еще приписано! «Элен от Роберта». Так что сами понимаете.
— Да, понимаю, — сказал он мягко. — И уверяю вас, что это написал не я.
— Ну, что ж… — покорно проговорила Нэнси.
— Не стоит принимать это так близко к сердцу.
Он нагнулся, растер окурок о подошву. Он держал останки сигареты в ладони, точно крохотного мертвого зверька.
— Пока вы молоды, существуют сегодняшний день и завтрашний. Несчетные завтра. Только когда доживешь до моих лет, в жизни начинает играть какую-то роль прошлое. Непрошеное. Хочешь не хочешь.
— Просто я хочу знать, что во мне намешано. Что за личность может из меня получиться.
— Это чепуха, девочка.
— Так ведь, наверно, важно, что в меня заложено?
— Несущественно. С наследственностью ничего не поделаешь, надо попросту о ней забыть и делать свое дело: взрослеть, разбираться в своих способностях и развивать их.
— Вы так и сделали? То есть, так и делаете?
Он смотрел на смятый окурок в руке.
— Да бросьте вы его на пол, — посоветовала Нэнси.
Он поднялся, подошел к двери; едва ее отворил, в хижину брызнуло дождем. Он швырнул окурок на песок и поспешно закрыл дверь.
— Не считайте меня стариком. — Он усмехнулся. — Я-то себя стариком не считаю, но все же… теперь все время… как я уже говорил, хочешь не хочешь, а прошлое напоминает о себе. Опять и опять вторгается в мою жизнь. Непрошеное. Мне уже не хватает времени поразмыслить. Это очень раздражает. Я уже не могу действовать свободно, мешают голоса прошлого.
Он стоял, не шевелясь, у двери и говорил словно про себя, бледное лицо — лишь неясное пятно в полутьме.
— Все здание моей жизни затряслось, точно эта забавная хижина под порывами ветра. — Он внезапно вытянул руки, и Нэнси заметила: они тоже дрожат. — И вот, впервые за многие годы, все, что я делаю, оказывается под вопросом. Я вынужден притворяться, обманывать людей. Я всегда был полон уверенности, сокрушительной уверенности; а теперь вынужден подавлять сомнения, постоянно напрягать свою мысль. Возможно, растерянность — участь людей средних лет и среднего сословия. Это можно сравнить с утратой веры.
Он посмотрел на свои протянутые руки, потом уронил их вдоль тела. Нэнси казалось, она подслушивает то, что не предназначено для ее ушей.
— О господи, — сказал он. — Прошу прощенья. Обычно я не болтаю зря. Еще один признак.
Он подошел и опять сел с ней рядом.
— Я не против, — сказала Нэнси. — Я не поняла, про что это вы, но мне правится вас слушать.
— Лучшей слушательницы и желать нельзя.
Он сказал это мягко, без насмешки.
— А вот я неверующая, — сказала Нэнси.
— Полагаю, рано или поздно поверите, не в одно, так в другое, хотя бы в себя. Верить можно и не в бога.
— Я часто думаю — помогает это? …ну, вера в бога? От этого, что ли, легче жить? Меньше в жизни… ну… темных углов?
— Боюсь, что нет. Сам я не набожный и не хотел бы сбивать вас с толку. Но в одном я убежден: очень важно почувствовать, что в твоей жизни есть смысл.
— Я всегда терпеть не могла пещеры. Раньше, когда мы пускались в дальние прогулки… когда я была… ну, моложе… понимаете…
Он ободряюще кивнул.
— Все непременно забегали в каждую попавшуюся пещеру. Ура, кричат, хорошая пещерка! А я этого не выносила. Оставалась снаружи. Только слушала, как другие там кричат и хохочут. Понимала, что теряю что-то, а внутрь войти не могла. Все, когда выходили, дразнили меня. В пещерах иногда наталкиваешься на ужасные вещи.
— Это верно.
— И в лабиринтах, и в запертых комнатах, куда годами никто не входил, и в погребах. И в темных заброшенных проулках. Я терпеть не могу пугаться.
— Вам, видно, чужд дух приключений. В юности почти всем кажется, что когда страшно — это очень увлекательно. Даже весело. А вам так не кажется?
— Нет.
— Чем же вы увлекаетесь?
Нэнси на минуту задумалась, беспокойно грызя ноготь.
— Мне правится пускать камешки по воде.
— Благородное занятие.
— Ехидничаете, — рассердилась она. — Я стараюсь вам объяснить. Наверно, я какая-то балбесина. Слова. Вот что меня увлекает — слова. Написанные, сказанные, они у меня кувыркаются в голове… даже не мысли, а тени, но так и шумят. Понимаете?
— Похоже, у вас впереди трудное время, молодая особа.
— Для начала у меня куча преимуществ.
— Да. Но вам следует понять, что иногда эти преимущества могут обернуться изрядной помехой.
Замолчали. На крышу опустилась чайка. Слышно было, как нетерпеливо царапали когти по крыше, пока наконец чайка не уселась удобно.
— Однако меня вы не боитесь, — сказал он после долгого молчания.
— А разве надо бояться?
— Я для вас такая же неизвестность, как запертая комната.
— Люди меня не пугают. Разве что очень умные, которые, вроде, все на свете знают.
— Но вы же понимаете, что на самом деле всезнающих нет.
— Мне тоже так кажется, а все-таки я не уверена.
Он сунул руку в карман и достал что-то. Протянул ей.
Это был револьвер.
Внутри у Нэнси что-то противно подпрыгнуло. Она не шевельнулась и не заговорила, пока это неведомое внутри не вернулось на место. Сердце неистово колотилось.
— Ну?
— Это все, что вы можете сказать?
— А что, по-вашему, я должна сказать? — Голос ее прозвучал сердито, почти пронзительно. Хочу жить, хочу жить, хочу жить!
— Вы убить меня хотите… или что?
— Нет, конечно.
Он спрятал револьвер в карман.
— Так зачем… зачем..?
— У меня при себе оружие. Я вдруг подумал, что вам следует об этом знать.
— Вы… вам надо..?
— Если надо будет, я пущу его в ход.
Он снова сунул руку в карман, и Нэнси собралась с духом, готовясь опять увидеть револьвер, но из кармана появилась пачка сигарет. Он достал одну, постучал ею о ноготь большого пальца, потом сунул в рот.
— Если я вас расстроил, не стану извиняться. — Сигарета в углу его губ кивала в такт словам. — Вот первая истина, которую вы должны усвоить, если намерены хоть чего-то достичь: в жизни далеко не всё приятно и светло и не все люди — благовоспитанные джентльмены, которые встают, когда в комнату входит дама. Напротив, жизнь полна насилия, несправедливости и страдания. Вот это вам и страшно увидеть, когда вы открываете запертые двери и заглядываете в пещеры. Грозную истину.
— Нет, — сказала Нэнси. — Нет, нет…
— В давние-давние времена… — Он опять полез в карман, на этот раз за спичками. — …дали мне красивую форму и оружие и призвали убивать врагов моего народа. Я исполнил свой долг. Я был отличным солдатом, Нэнси, наверно, потому, что не боюсь умереть… Знаю, это звучит высокопарно, но это правда; мне страшно было бы оказаться в плену у бесконечной жизни, на манер вашего деда… Я получил чин майора. Я не был, как множество несчастных дураков, героем-мальчишкой из тех, что так и скачут галопом до седых волос. Четыре распроклятых года в полевой артиллерии. У меня на глазах люди умирали за то, что кое-кто из них считал правами малых народов. Бойня. Молодые, старые, герои и негодяи и просто несчастные олухи, которые воображали, будто исполняют свой долг. — Он чиркнул спичкой, огонек отразился у него в глазах. Затрепетали сразу три огонька. — Сперва я думал, мы наносим миллион ударов во имя справедливости, совершается нечто вроде искупления… но, конечно, я ошибался. Хотя одному я научился. — Он погасил спичку и с нею огоньки в глазах, глубоко затянулся. — Теперь я знаю, кто враги народа. Настоящие враги. — Он неожиданно засмеялся. — Наверно, вы думаете, что я немножко спятил?
— Пожалуй, — осторожно сказала Нэнси. — Немножко.
— Возможно. Болтаю лишнее. Изливаю заумный бред на такую вот девочку, а ее, верно, никогда не трогало… не задевало… в конце концов, чего бы ради вам…
Изо рта и ноздрей его просочились струйки дыма. Нэнси в упор смотрела на его худое лицо. Умирает, зло подумала она, скоро умрет; надеюсь, ты скоро умрешь. Сигарета свесилась между его пальцами, загрубевшими оттого, что он столько лет нажимал на спусковой крючок.
— Моей войне конца не будет, — сказал он негромко.
Нэнси встала.
— Чем скорей вы отсюда уйдете, тем лучше, и… и… пожалуй, я не буду больше носить вам бананы… или еще что. Нет уж, дудки.
Он запрокинул голову так, что оперся затылком о стену, и захохотал.
— Ничего смешного. Уходите. Убирайтесь. Вы…
— Я не хотел вас обидеть. Поверьте, мне очень жаль. Просто меня многое забавляет.
— Вы, что ли, не понимаете, может, я пойду в полицию. К военным… мы… мы знаем офицеров…
— Пусть это не прозвучит высокомерно, но — раз вы считаете нужным, ступайте в полицию. Не возражаю.
Нэнси прошагала к двери, распахнула ее. В хижину яростно ворвались дождь и ветер. Потревоженная шагами и шумом чайка заерзала на крыше. Нетерпеливо стучала когтями, дожидаясь, когда все опять успокоится. Нэнси обернулась. Тот по-прежнему стоял у стены, улыбался.
— До свиданья.
— Вы разве не хотите забрать свои бананы?
— Молчите, вы! Чертов… чертов..!
Она вскарабкалась на насыпь и, не оглядываясь, зашагала по рельсам. Далеко на горизонте упрямо двигался в сторону Англии пароход. Видно, нелегко ему пробиваться вперед по серому взбаламученному морю. Шпалы скользкие, в глубоких провалах между ними полно воды.
Когда Нэнси переступила порог, по прихожей как раз шла тетя Мэри. В одной руке она несла чашку чая, в другой — тарелку с мелко нарезанными, намазанными маслом гренками.
— Деточка, ты насквозь мокрая. Где ты была? Беги скорей переоденься, не то завтра совсем расхвораешься.
— Чаю… — начала Нэнси.
— Не спорь. Если поторопишься, чай еще не совсем остынет, он только что подан. Знаешь, дедушка сам попросил гренки. Поразительно. Он сегодня гораздо бодрее, наш голубчик. Такое облегчение.
— Я возьму себе чай наверх.
— Незачем разгуливать по дому, когда ты вся мокрая.
Нэнси прошла в гостиную и налила себе чаю. В камине тихонько тлел сложенный пирамидой торф. Нэнси отрезала кусок бисквита и вернулась в прихожую. Тетя Мэри оказалась еще там.
— Что-то было такое… — туманно начала она. — Посмотри, сколько мокрых следов на полу, детка. Брайди очень расстроится. С тебя капает.
— Что-то такое?
— «Смерть, где твое жало?» — запел старик в комнате по другую сторону прихожей.
— Иду, голубчик. Гренки. Да, о чем бишь я?
— Терпеть не могу этот противный гимн.
— «Могила, где твой венец?»
— Сейчас, минутку. — Тетя Мэри направилась к дверям. — А, да, вспомнила. Гарри.
— Гарри? — переспросила Нэнси с полным ртом.
— Он звонил. Хорошо, что я не выходила в сад… такой ливень. Мне надо бы поработать в саду, там уже настоящие джунгли. А телефон я там не слышу… то есть слышу, но у миссис Берк такой несносный характер, она звонит от силы раза два, бросаешься к этому противному аппарату, бежишь, пыхтишь, а она говорит… я думала, никого нет дома, мисс Дуайер. А сама прекрасно знает, что всегда кто-нибудь да есть. Не может минутку потерпеть. Как будто у нее работы по горло. Я подозреваю, что она просто не может оторваться от завлекательных чужих разговоров, вечно подслушивает.
— Что же Гарри?..
Нэнси уронила крошку на ковер и нагнулась подобрать ее.
— «И в смерти восторжествую, лишь милостив будь ко мне».
— А, да. Они с Мэйв ждут тебя к ужину. Около семи. Ее родители едут по какому-то случаю в город, а Мэйв приглашает тебя и Гарри ужинать. Что-то в этом роде.
— И ты за меня согласилась… Ну, знаешь, тетя!
— Я думала, ты захочешь пойти, деточка.
— Это возмутительно! Просто… черт-те что!
— Такой молоденькой девушке совсем не пристало браниться.
Нэнси в сердцах пнула ногой по низу перил. Чай выплеснулся из чашки на блюдце.
— Гарри очень настаивал. Прими хорошую ванну, деточка, ты рискуешь подхватить ревматизм.
— Я ему нужна просто как… ну, как… вроде…
— Уймись. Ты обобьешь с балясин всю краску.
— Краска и так вся облупилась. Не дом, а какая-то облезлая развалюха.
Тетя Мэри вздохнула. Стоит тут, в руках быстро стынут гренки, а лицо вдруг сделалось такое несчастное, бесконечно усталое.
— Ты ведь сегодня вечером играешь в бридж?
— Я подумала, посижу лучше с дедушкой. Я очень мало работала в саду… из-за дождя… Не такая уж надобность около него сидеть, но… — Тетя Мэри подняла глаза и, глядя в потолок, к удивлению Нэнси довольно немузыкально посвистала. — Миссис Хэзлоп очень расстроилась. Ты ведь ее знаешь… ну, ничего не попишешь. — Она сделала несколько шагов по направлению к комнате старика. — По-моему, ему лучше, гораздо лучше. — Свободной рукой она толкнула дверь. — Он еще всех нас переживет. Гарри сказал, в семь. Беги, детка, и прими горячую ванну.
Она вошла к старику и затворила за собой дверь.
— Ну и ну! — сказала Нэнси пустой прихожей.
В ванной пахло гамамелисом и свежевыглаженным бельем. В окошко прокралась глициния. Нэнси лежала в ванне и смотрела на перекрученные стебли, ползущие к потолку. Наверно, мало кто может похвастать, что у него в ванной растет глициния. Мысль эта приходила всякий раз, как Нэнси ложилась в горячую, дышащую паром воду, — и тут же забылась.
— Пойду в полицию, — сказала Нэнси губке.
Губка не ответила ни да, ни нет.
В конце концов я рада, что он мне не отец, не может он быть моим отцом. Не может. До смерти рада. Вдруг бы это был он? О чем только я говорю?
Девичье нетронутое тело бледно поблескивало в зеленоватом свете.
— Как бы ты поступила на моем месте, губка?
На большой палец ноги капнула из крана холодная капля. Нэнси отодвинула ногу, по воде пошла рябь, исказила линии ног.
— Ну, почему я ничего не соображаю? Почему? — Она вдруг озлилась, отшвырнула губку. Та угодила в стену возле раковины и, брызнув водой, шлепнулась на пол.
— Все, что мне требуется, это уменье мыслить четко и ясно. Ну, почти все. А я — воплощенная биологическая, психологическая и физиологическая неразбериха. Чертова неразбериха.
Нэнси свирепо посмотрела в другой конец ванной, на ни в чем не повинную губку; вроде немного отвела душу. В дверь постучала тетя Мэри.
— Нэнси, детка, нехорошо слишком долго лежать в кипятке. Очень вредно для кожи. Она станет слишком сухая. Пойдут поры и морщинки.
Вот так, нахмурилась Нэнси, сперва загнала меня в ванну, теперь выгоняешь из ванны. Ну и жизнь.
— Ты там уже давно. Я хотела бы войти. Мне надо почистить зубы.
Тетя Мэри жаждет чистить зубы в любое время дня и ночи. Далеко по бокам у нее золотые пломбочки, их видно, когда она смеется; наверно, столь цепное имущество надо содержать в идеальном порядке.
— Ну, так войди. Мне скрывать нечего.
— Фу ты!
Заскрипели половицы под удаляющимися шагами.
— Тетя Мэри!
— Вылезай, девочка, вылезай. Ты даже не моешься. Я же слышу, все тихо, ты просто лежишь в воде и нежишься. Вылезай.
Нэнси со вздохом встала, потянулась за полотенцем.
— Донести всегда подлость?
Опять заскрипели половицы, тетя Мэри вернулась к двери ванной.
— Я не расслышала, что ты говоришь.
— Доносчики — все подлецы?
— Что за странный вопрос!
— А ты можешь ответить?
Молчание.
Большим пальцем ноги Нэнси ухитрилась вытащить пробку. Вода, журча, устремилась в сток.
— Н-ну… Знаешь, я не раз задумывалась об Иуде. Как-то трудно примириться с тем, что столько веков его считают презреннейшим из людей. — За дверью наступило молчание, тетя Мэри размышляла об Иуде. — Видишь ли… может быть, он был даже героем. Я хочу сказать, больше героем из них двоих. Необыкновенно сильным, прозорливым, истинным союзником. Я только говорю — может быть.
— По-моему, это какое-то кощунство.
Грома с ясного неба не последовало. Только заскрипели старые половицы.
— Пошевеливайся, детка. Мои зубы тоскуют по мытью.
— Ты мне не ответила.
— Ты задаешь невозможные вопросы. Бывают разные обстоятельства. Иногда было бы крайне глупо не донести, если уж тебе угодно так выразиться, а в других случаях этого нельзя ни за что на свете. В нашей стране слово «доносчик» звучит весьма неприятно. А с какой стати ты вдруг спрашиваешь?
— Просто раздумывала о том о сем.
— Ну, так раздумывай где-нибудь в другом месте.
Нэнси яростно растерлась полотенцем и с любопытством поглядела, как оно крохотными белыми чешуйками сдирает кожу.
— Я этого не сделаю, — сказала она.
— Что такое? — крикнула из-за двери тетушка.
— Ничего.
Она решила соблюсти приличия и явиться в дом Кейси через калитку кованого железа, по чисто подметенной дорожке, с парадного хода. Чинно прошла по аллее и по дороге в лучших своих туфлях, в чулках, в черном крепдешиновом платье — тетя Мэри отговаривала ее от этой покупки, уверяя, что такое платье не для молоденькой девушки. Нэнси шла и чувствовала себя старой… ну, во всяком случае, старше своих лет. Шла и по-лебединому вытягивала шею, как заклинала когда-то учительница танцев. «Головы к небесам, девочки, выше, выше. Подрастите». Нэнси росла на ходу. Наверно, в ней уже шесть футов росту. Она презрительно посматривала на пыльную дорогу, на серебряные пряжки своих лучших туфель. Ветер унес дождевые тучи, зеленовато-голубое небо так и сияло. Даже при великанском росте, какого достигла Нэнси, моря отсюда не видно, но в воздухе всегда ощущаешь его терпкое соленое дыхание; а иногда, если забыть о приличиях и высунуть язык, даже вообразишь, будто его лизнула.
Едва она толкнула кованую калитку, и презрения, и роста у нее поубавилось. Пожалуй, тетя Мэри права. Может быть, в этом платье она выглядит просто глупо. Она медленно подошла к парадной двери. Возле гаража стояла машина Гарри. Может быть, после ужина он отвезет ее домой, и она просто будет молча сидеть с ним рядом и не скажет ничего безмозглого или незрелого. Стекла по обе стороны двери ярко светились. Нэнси нажала кнопку звонка. Подумала о человеке, чье имя не Роберт, — все ли у него ладно? Может, он решил уйти? Она отняла руку от звонка. По прихожей кто-то шел. Нэнси повернулась и побежала по гладкой, аккуратной дорожке, из-под ног так и разлетался песок.
— Нэнси… — окликнул голос Гарри.
Она выбежала за калитку, на дорогу.
— Нэнси…
Она завернула за угол и здесь, в безопасности, на шоссе, ведущем к железнодорожному мосту, уже не бежала, а пошла так чинно, как только сумела. Каждая жилка билась не в лад с другими. Туфли, чулки, черное крепдешиновое платье теперь были совсем некстати. Они меня убьют, подумала Нэнси, но это будет завтра. А сейчас важно его остановить. Если он уйдет, он, конечно, уже никогда не вернется, исчезнет окончательно и бесповоротно, за свою жизнь он наверняка сколько раз так скрывался. Револьвер там не револьвер, а этого она вовсе не желает. У моста она перелезла через ограду под насыпью. В поле высокая мокрая трава хлестала по щиколоткам. Нэнси сняла туфли и чулки и оставила под изгородью. Взобралась на насыпь и зашагала к песчаной косе. Яркое солнце уже скользнуло книзу, длинные лучи золотили пологую волну.
На вершине холма светилось окно столовой. Наверно, тетя Мэри с дедом сидят там и молчат, и все одни и те же мысли тихонько гудят у них в головах. В комнате только и слышно, как позвякивают ножи и вилки. Шпалы под ногами мокрые. Странно, ведь в конце концов тишина — это всего лишь пустота в воздухе, а как она много значит. Думается, у деда какая-то своя потаенная утешительная жизнь, старик никому не даст до нее добраться, даже кроткой, неусыпно бдительной тете Мэри. Бывает, наткнешься босой ногой на крохотную занозу, мука мученская ее вытаскивать, а если не вытащишь, она проникнет в какой-нибудь сосуд, и пойдет в тебе колесить, и под конец пронзит сердце. И крышка. Под насыпью идут по берегу парень с девушкой. Тоже молчат. Руки сплетены — не разнять, лица от полноты чувств какие-то даже измученные. Любить — такая трудная задача.
По насыпи не удается идти размеренно, расстояние между шпалами неудобное, приходится укорачивать шаг, чтобы не ступать по колкой щебенке в промежутках. Иногда летом вдалеке увидишь дельфинов, гибкие тела играют, изгибаются дугой, блестят. Шш-ш! Плеснула волна, одним долгим вздохом и нарушила тишину, и взмолилась — пускай опять все стихнет.
Дойдя до косы, Нэнси спустилась с насыпи и зашагала по песку. На песке никаких следов, только узорчатые отпечатки птичьих лап у самого края воды.
Он сидел спиной к хижине и читал. Когда Нэнси подошла ближе, поднял голову от книги, встал, стоит и смотрит на нее, в правой руке — книга.
— Не ждал, что вы так скоро вернетесь. Я собираюсь уйти утром.
Нэнси замотала головой.
— Я подумала, может быть… может…
— Первым делом. С самого утра.
— Извините меня. Я поэтому пришла — сказать. Пожалуйста, не уходите.
Он долго молча, в упор смотрел на нее. Нэнси почувствовала — щеки горят.
— Я никакой гадости не сделала.
— Шш-ш! — сказало море.
— Я боялась, что вы уже ушли. Я спешила…
Тысячелетняя чайка прилетела с моря и уселась на крыше.
— Пожалуйста, не уходите.
— А вы понимаете, что это значит?
— Я постараюсь.
Он кивнул.
— Тогда, пожалуй, выпьем. Я полагаю, вы для этого не слишком молоды?
— С удовольствием выпью.
— У меня есть только виски.
— Виски — это очень мило.
Что сказала бы тетя Мэри?
— В доме или на воздухе?
— На воздухе. Всегда, если только нет дождя.
— Я принесу плед.
— Не беспокойтесь. Мне и так хорошо.
— Я принесу плед.
Он ушел в хижину.
Прямо как тетя Мэри — ахи, охи, простуда, сквозняк, ревматизм. В конечном счете все взрослые одинаковы, черт возьми. Нэнси покружилась на месте, черное платье вспорхнуло, точно крылья. Славно. Покружилась еще. Он вышел из хижины, в руках бутылка и две чашки, на плечи наброшен плед.
— Какое милое платье! — сказал он.
Нэнси покраснела.
— Вам правда нравится?
— Правда. В нем вы как молодая ведьма. Понятно, не из тех крючконосых, которые летают на помеле. Пожалуй, вернее сказать — ворожея.
— О-о!
Нэнси смотрела, как он расстилает плед на песке.
— А тете Мэри это платье не нравится.
— На сей раз тетя Мэри рассудила неправильно. Не угодно ли присесть?
Он повел рукой, приглашая ее на плед, и, когда Нэнси уселась, подал ей чашку, виски там было на донышке.
— Придется пить неразбавленное. Воды из-под крана в моей берлоге нету.
— Мне все равно, — сказала Нэнси. — Я никогда еще не пила виски.
Сдвинув брови, она заглянула в чашку.
— Спешить некуда, — сказал он и сел рядом.
— Я люблю, когда небо голубое и уже показываются звезды.
— Значит, вы опять проделали всю дорогу.
— Ну… да… я все гадала, как тут надо поступить, а потом подумала, это же не мое дело, и, наверно, я еще не такая взрослая, чтоб разбираться… в этом… во всем. Я еще очень мало вообще думала. Я там стояла у двери и вижу, один человек идет открывать, и подумала, не вытерплю я этого — сиди целый вечер и улыбайся, как пай-девочка, а если по правде, ты им вовсе ни к чему. Даже в лучшем платье я там все равно… не к месту. Не могу я сидеть и смотреть, как они держатся за руки… то есть в переносном смысле. — Нэнси подняла глаза на звезды в голубом небе. — Я ревнивая. Мне это противно. Просто противно.
Она торопливо отхлебнула виски. Очень крепко, даже рот обожгло.
— Вы полагаете, я что-нибудь понял?
— Может, вы просто послушаете, а понимать не обязательно.
На губах его мелькнула улыбка, он отвернулся, поглядел вдаль. Лицо у него иссечено морщинами, под глазами серые мешки.
— Сколько вам лет?
— Предполагается, что я должен слушать, а не отвечать на вопросы. На дурацкие вопросы.
— Как мне жить?
— Еще один дурацкий вопрос. В вашем возрасте редкий человек знает, как ему жить. Знают очень немногие, они так и рождаются целеустремленными. А обычно, когда живешь, поневоле приходится выбрать, к чему приложить свои силы. Очень важно это понять. В молодости не хватает терпенья.
— Когда эта война кончится… что тогда будет?
Он засмеялся.
— Будет другая война… Те, кто сейчас заодно, станут драться друг с другом. Так всегда бывает.
Нэнси еще отпила из чашки.
— Те, кто победит, усядутся на троне и станут угнетать всех и каждого, в точности как прежде угнетали их самих. Все это будет очень печально, а достигнуто ничтожно мало. У одних по-прежнему еды будет в избытке, а другие по-прежнему будут жить впроголодь.
— Какая-то бессмыслица. Зачем вы это делаете?
— Я? Я не воюю именно против англичан, льщу себя надеждой, что я воюю за народ. Я не желаю власти, я хочу справедливости для всех людей и готов убить каждого, кто всерьез угрожает…
Нэнси пробрала дрожь. Он протянул руку и коснулся ее плеча.
— Извините.
— Ничего. Это просто из-за убийств. Ненавижу, когда убивают.
— В мире есть немало такого, что похуже убийства. Против людей все время совершаются жестокие преступления. Их совершают другие люди.
Он отхлебнул виски.
— Остается только воевать.
— По-моему, все это очень странно.
— Да. Поговорим лучше о чем-нибудь другом.
— Мы живем вон там, на холме.
Он кивнул.
— Знаю. Я уже вам говорил. В детстве я знал эти места. Этот… эту… — Он постучал костяшками пальцев по стенке у себя за спиной. — Мы приходили сюда почти каждый день. Приезжали с гувернанткой в коляске и играли на берегу.
— Мы?..
— Да. Мы. Дети. Прекрасно помню. Каждое утро, когда выхожу из хижины, мне опять все это вспоминается. В небе ни облачка, на берегу ни души. И на море пусто. И поезда. На ходу машинист выглянет и помашет нам рукой. И тогда пора домой, обедать. Она всегда позволяла нам дождаться, пока пройдет поезд. — Темнело; холмы позади насыпи, наверно, уже совсем черные. — Это было очень давно. Еще раньше…
— Раньше чего?
— Раньше, чем я стал тем, кто я есть. — Он засмеялся. — Самым настоящим потрепанным революционером.
— Вы знали мою мать?
— Наверно, тогда она была крохой. Здешний мирок был тесен. Даже в те времена у него не было будущего. Я родился в тысяча восемьсот семидесятом.
— Ух ты! — Нэнси мысленно подсчитала, сколько же ему.
— На пасху. Славно родиться в такой день, кругом цветут нарциссы и звонят колокола, и никто слыхом не слыхал ни про Джеймса Конноли, ни про Патрика Пирса.
— Деду восемьдесят с чем-то. Кажется, восемьдесят четыре. Он воевал в Крыму.
— Навряд ли я доживу до столь почтенного возраста.
— Вы больны? Так и знала, что вы больны.
Он засмеялся.
— Я не охотник до бессмертия.
— Дед тоже не охотник, я уверена, но это ему не помогает. Он такой застывший, как будто уже мертвый. Руки холодней, чем у мертвеца. Дотронешься до него — прямо дрожь пробирает. Он все время сидит, закутанный пледами, и смотрит, как мимо идут поезда. У него есть полевой бинокль… он говорит, на днях он видел моего отца.
Нэнси поднесла к губам чашку и поверх чашки впилась глазами в собеседника.
— А-а. — Ни по лицу его, ни по голосу ничего не поймешь.
— Вообще-то у него винтиков не хватает.
— Годы такие. А вам не холодно?
— Немножко. Шла полем к насыпи. Наверно, от этого… А моего дядю Габриэла вы знали?
— Может быть, пойдем в хижину?
— Нет.
Она порывисто поднялась, отдала ему чашку.
— Пора домой. Придется расхлебывать кашу.
— Что вы натворили?
— По-моему, я вам уже рассказала.
— Ничего вы мне толком не сказали.
— Я сбежала от Гарри и Мэйв. — Она усмехнулась. — Уже второй раз.
— Это та самая парочка, что держится за руки в переносном смысле?
— Да.
— Едва ли вас за это можно осуждать.
— Тетя Мэри скажет, что я поступила невежливо.
— Понятно.
— И начнет поучать насчет простейших правил приличия.
— Это вам не повредит. Я человек довольно старомодный и тоже стараюсь соблюдать приличия.
— Даже когда кого-нибудь убиваете?
— Очень невежливое замечание.
— Да. Извините.
— Уже почти совсем темно. Как вы пойдете домой одна?
— Я темноты не боюсь. Привыкла.
Нэнси протянула руку на прощанье. Не вставая, он улыбнулся ей.
— Какие церемонии!
И коснулся пальцами ее ладони.
— Как вас зовут?
Он усмехнулся:
— А вы упрямая, никогда не отступаетесь?
— Надо же мне как-то вас называть, когда я про вас думаю. Не просто «этот человек».
— Икс?
Она помотала головой.
— Прямо из геометрии и не очень оригинально.
— А мне совершенно все равно, как называться. Ярлыки надо наклеивать только на посылки, чтобы они наверняка дошли по назначению.
— Как вас называла ваша мама?
— Не помню.
— Врете.
Она повернулась и пошла прочь. Песок под ногами был уже холодный. Телеграфные провода вдоль насыпи гудели, поднимался ветер. Все та же чайка уселась на ночлег и неподвижно глядела в пространство. Вдруг пришла охота захлопать в ладоши или закричать и спугнуть ее. Но это было бы невеликодушно. Море неспокойно шумело. Нэнси остановилась на одной из гранитных плит, обернулась, крикнула:
— Я знаю, как буду вас называть.
— Как же, мисс Гулливер?
— Кассий.
— Очаровательно. — В голосе его звучала насмешка.
— Потому что вы тощий и с виду голодный.
— Кассий плохо кончил. Но вспомните: «…и каждый раз нас, совершивших это, назовут людьми, освободившими отчизну»[49].
— Кто это сказал?
— Кай Кассий.
— Гнусный заговорщик.
— Бегите домой и расхлебывайте кашу.
— А вы будете здесь?
— Трудно поручиться. Возможно.
— Спокойной ночи, Кассий.
Нэнси поднялась на насыпь и зашагала по шпалам.
— Спокойной ночи, мисс Гулливер.
Она подобрала мокрые туфли и чулки и пошла босиком к дому, навстречу возмездию.
— О-го!.. — дружески окликнула сова, когда Нэнси вошла в калитку.
Посреди пустого неба ехидно ухмылялась луна.
— О-го-го! — отозвалась Нэнси.
— Про кого?
— Про тебя, дуреха!
Дорогу к дому обрамляли непролазные заросли рододендронов, меж их ветвями карабкалась куманика и, вырываясь наружу, покрывала каждый куст чужими ему белыми цветами. Занавеси в окне гостиной задернуты неплотно, виден яркий свет.
— О-го!
— Спокойной ночи, сова. Пожелай мне удачи.
Нэнси повернула медную ручку двери, ладони стало холодно. А у него такие теплые пальцы.
На пороге гостиной стояла тетя Мэри.
— Ну, знаешь, Нэнси… у меня нет слов!
Нэнси прошла за нею в гостиную. Старик сидел в кресло на колесах и улыбался про себя чему-то, что случилось сто лет назад. Напротив него, далеко вытянув длинные ноги, сидел Гарри. Лицо каменное, ни тени улыбки. Тетя Мэри стала посреди комнаты, сразу видно — возмущена.
— Ну, знаешь, Нэнси… — начал Гарри.
— Это я уже слышала от тети Мэри.
— Ты вела себя очень невежливо, Нэнси. Незачем продолжать в том же духе.
— Каюсь.
— Не мешает.
Тетя Мэри подошла к креслу старика, взялась за спинку.
— Пойду уложу папу в постель.
— Постель, — повторил дед. — Мне надо в постель?
— Уже поздно, голубчик. Ты устал.
— Я не устал, Мэри. В кои веки… в кои веки я хотел бы решать сам за себя.
— Надо принять лекарство и прочее. Я помассирую тебе спину. Если будешь умницей, почитаю тебе. Немножко. Я тоже устала.
— Вдруг я не усну.
— Конечно, уснешь, отец.
— Я не могу спать. Просто лежу. Какой смысл ложиться в постель, чтобы просто лежать в темноте?
— Тише, дорогой. Все будет хорошо. Извинись, Нэнси. Ты просто обязана извиниться, сама понимаешь.
— Так и не засыпаю, пока не начнет светать. Это невыносимо, Мэри.
— Я помассирую тебе спину, папочка…
Дверь за ними закрылась.
Нэнси обернулась к Гарри.
— Извините.
Села на ручку дивана и оглядела свои босые ноги. Ноги мокрые, к ним прилипли травинки и крохотные камешки.
— Я просто не понимаю тебя, Нэнси.
Она чуть заметно пожала плечами.
— Я хочу сказать… ты совсем не думаешь о людях… бедняжка Мэйв… Я хочу сказать, я-то тебя знаю, но она… что она должна подумать?
— А мне тошно было думать, что придется целый вечер сидеть и смотреть, как вы с ней обмираете друг по дружке.
— Совсем мы не обмираем друг по дружке.
— А по-моему, обмираете.
Гарри поднял кочергу и со злостью стукнул по чурке в камине; она в ответ зашипела на него, точно кошка.
— Надо тебе поскорее стать взрослой, Нэнси. Научиться себя вести. Я не первый раз это говорю.
— И еще скажете. Я голодная.
Нэнси потерла ладонью впалый живот, в животе пусто.
— Я возмущен. Как ты можешь рассчитывать, что другие станут хорошо к тебе относиться?
— А я и не рассчитываю.
Он посмотрел с другого конца комнаты, покусал нижнюю губу. Вгляделся сердитыми голубыми глазами в лицо Нэнси, и в глазах что-то дрогнуло.
— Пойду поищу чего-нибудь поесть. Не то сию минуту свалюсь замертво. Умру, мой бог, умру… голодной смертью!
Она втянула щеки, страшно вытаращила глаза. Гарри и не подумал улыбнуться. Нэнси направилась к двери; он встал и пошел следом.
— И Мэри из-за тебя совсем расстроилась.
Шаги их громко отдавались на каменном полу коридора.
— Она была поражена, когда я ей сказал, просто поражена. И расстроилась.
— А зачем сказали? Кляузник. Предатель. Вот вы кто.
— Не говори глупостей! Я думал, тебе вдруг стало плохо, заболела. Или…
— Сбежала с разносчиком молока.
Одним нескладным взмахом руки Нэнси стукнула кулаком по кухонной двери, распахнула ее и повернула выключатель.
— Пшли!
В кухне пахло глаженым бельем и свежевыпеченным хлебом.
— Для чего столько шума?
— Для мышей, — Нэнси осторожно шагнула в кухню и огляделась. — Я всегда надеюсь их спугнуть. Нападение, знаете ли, лучшая оборона. Вам, старому вояке, следует это знать.
— Ну и ну, неужели ты боишься мышей?
— Нечего насмехаться. У каждого свои слабости.
— Так ведь на то есть кошка.
Посреди кухонного стола в круге света возлежал, притворяясь спящим, большущий рыжий кот.
— Мыши ему нравятся. У него с ними дружба. Ему и в мысль не придет сделать мышке больно. Он, паршивец, чересчур откормленный.
Нэнси подняла крышку хлебной корзинки и заглянула внутрь.
— Хотите хлеба с вареньем? Славный серый хлеб и малиновое варенье.
— Я уже ел, — сухо сказал Гарри.
— А, да. Может, кусок пирога? Садитесь, пожалуйста. Брайди всегда прячет пирог, но, если только вам хочется, я уж его разыщу. Стакан молока? Очень полезно для здоровья.
— Нэнси…
— У этого кота желтые глаза. Ну, почти желтые. Под цвет шкуры. Желто-рыжие. Правда, удивительно?
— Нэнси…
— Я всегда думала, что желтые глаза бывают только у очень дурных людей, у ведьм. — Она вдруг улыбнулась. — У ворожей. В этом роде. Вы не согласны?
— Нэнси…
— Да сядьте же наконец, Гарри! Вы действуете мне на нервы. Потому я и плету такую чушь.
Она открыла стенной шкаф, достала кусок желтого масла на тарелке.
— Ни слова больше не скажу, пока вы не сядете.
Баночка варенья, нож, тарелка. Она молча выставила все это на стол. Чисто вымытый, выскобленный стол так и сиял, на побелевших досках проступили все прожилки. Кошачий хвост с минуту подрагивал, потом кончик его дернулся, сильно стукнул по столу. Нэнси отрезала ломоть хлеба и села. Руки ее двигались в круге света. А вся она оставалась в тени, почти неразличимая.
Гарри с треском проволок стул по плитам пола и сел напротив нее.
— Почему ты ходишь в черном?
Руки знай делали свое дело.
— Молоденьким девушкам не следует носить черное. Нужно что-нибудь яркое, веселое, нарядное.
— Мне так нравится.
— Черное… ну… нет, конечно, ты и в этом мило выглядишь… но… Мэйв тоже так думает. Она сказала, черный цвет…
— Хотела бы я быть красавицей. — Нэнси откусила хлеба с вареньем, стала жевать. К губам прилипли малиновые капельки. — «Ее красою, объятый пламенем, разрушен Илион». На меньшее я не согласна.
— Ни слова не разберу. Говоришь с полным ртом.
— «Елена нежная, мне поцелуем бессмертье подари»[50].
— Вечно ты со своим Шекспиром.
Нэнси поглядела на него смеющимися глазами, но смолчала. Продолжала жевать.
— Куда же ты все-таки сбежала?
Она облизнула липкие губы.
— Просто погуляла по берегу. Было такое странное чувство. После дождя стало очень красиво. Тихо. Безгрешно.
— Какое вдруг странное слово!
— Только что пришло в голову. Чистота. Должно быть, это чудесно — почувствовать себя таким… иногда находишь такую, белую косточку. Славную белую-белую гладкую косточку.
Она стала отрезать еще хлеба.
— Я часто думаю, может, человек чувствует себя очищенным после того, как занимался любовью. Чистым-чистым. Наверно, это должно действовать как-то в этом роде. Да?
Через стол она уставила кончик ножа на Гарри. Он с досадой почувствовал, что краснеет.
— Не знаю, — пробормотал он.
— Крошки! — сказала Нэнси.
Намазала хлеб маслом, потом вареньем. Кот, по соображениям, ведомым ему одному, вдруг замурлыкал; если б не это, тишина стала бы угрожающей.
— Я пойду, — сказал наконец Гарри.
Нэнси как будто и не слышала. Слизнула с кончика ножа варенье.
— Вы что же, никогда… никогда… ну..?
Она подалась вперед, так что лицо оказалось на свету, и посмотрела на него с какой-то даже суровостью.
— Вы никогда… ну, сами понимаете?
— Довольно глупостей, — рассердился Гарри. — Я не отвечаю на подобные вопросы.
— Ни с кем не спали? — В голосе злость.
Он поднялся и молча смотрел на нее сверху вниз.
— Непостижимо! Такой взрослый.
— Мэри…
— Да-да, можете ей и про это сказать. Только вы не посмеете. Я все такие слова знаю.
— Дрянь девчонка.
— Неужели вам не любопытно было попробовать? Наверно, вы неправду говорите.
— Мэри следовало отослать тебя в приличную закрытую школу. Мои родители всегда так считали.
Нэнси расхохоталась.
— Порядок, приличия, традиции… — под ее хохот голос Гарри звучал все беспомощней. — Ты знаешь, что я имею в виду.
— Бред сивой кобылы.
— Я ухожу. — Он направился к двери. — Завтра поговоришь с Мэйв… объяснишь… извинишься…
Нэнси не ответила. Она сидела наполовину на свету, наполовину в тени, точно призрак, и кот раскрыл желтые глаза и уставился на Гарри.
— Ты пойдешь, да?
— Мэйв… — Нэнси вздохнула.
— Конечно, пойдешь.
Он явно не был в этом убежден, стоял и смотрел на Нэнси.
— Одно вам скажу, — заявила она. — Я-то к двадцати шести годам это испытаю.
Гарри хлопнул дверью и почти бегом бросился по коридору. Нэнси прислушивалась — по плитам стучали шаги, мчали его прочь.
— Я так хочу, чтобы он меня любил, — сказала она коту. Глупую рыжую зверюгу это ничуть не трогало. — Я плачу. — Нэнси провела пальцем по щеке. — Знаешь, кот, будь я и правда ворожея, я бы его заставила меня полюбить, только это было бы нечестно.
Кот улегся поудобнее и уснул. Нэнси отерла слезы рукавом черного платья, потом поднялась, аккуратно убрала хлеб, варенье и масло по местам. Смахнула крошки со стола в горсть, пошла и кинула в раковину, прежде всего чтоб не соблазнять мышей, а еще чтобы поменьше сердилась Брайди, по утрам она всегда не в духе. Когда погасила свет и вышла из кухни, кошачий хвост дрогнул.
12 августа.
Оглядываясь назад, я думаю — в том, как я себя вела с Гарри, а потом разревелась, виноват тот глоток виски. Меня одолела небывалая усталость, и голова горела. Какой-то чудной был день. Никогда раньше я так близко не видела оружия. Конечно, солдаты ходят с оружием, а некоторые люди вешают его на степу — престранное украшение; и я помню, дядя Габриэл ходил на охоту, но все это меня, в общем, не касалось. А револьвер, который он держал в руке так близко, меня изрядно напугал. Этот человек ничуть на меня не похож; когда он на меня не смотрит, я очень внимательно изучаю его лицо, каждую черточку. Интересно, какой он был в моем возрасте, в конце прошлого века. Да нет, простой здравый смысл подсказывает, что было бы нелепым совпадением встретить собственного отца при таких вот обстоятельствах. А все равно мне интересно. И еще интересно, куда девается вся уверенность, которую чувствуешь, когда молод… он бы сказал — очень молод. Раньше я ни в чем не сомневалась, я столько всего знала. Брайди, когда сильно на меня разозлится, зовет меня мисс Всезнайка. И все это куда-то испаряется, и остаешься ни с чем, будто стоишь на вершине горы и тебя обдувает ледяным ветром. Никакой защиты. Интересно, на других тоже находит такое отчаяние? Тетя Мэри говорит, я слишком занята собой. Отчаяние, одиночество. Гарри вовек ничего такого не почувствует. Наверно, поэтому я его и люблю. Он совершенно не опасный и красивый. Красавец Гарри. Хотела бы я посмотреть, какой он, когда выходит нагишом из воды после купанья, мокрое тело блестит, капли стекают с волос, бегут по лицу, по плечам. Я видела голыми только ребятишек да себя, конечно, это совсем не внушительно. Любопытному нос прищемили, сказала бы тетя Мэри. Тетя Мэри очень часто бывает права.
Назавтра день спозаранку выдался ослепительный. Солнце прокралось под спящие веки Нэнси задолго до семи. Ей слышно было, как затрепыхались под застрехами ласточки, донеслось утреннее воркованье голубя. Трещины над годовой, бегущие по белой штукатурке потолка, сложились в лицо того человека на берегу. Прежде в этих трещинах всегда рисовалась старуха с лейкой, а теперь вместо нее стоял и серьезно смотрел в окно тот человек.
— Вещий знак, — сонно пробормотала Нэнси, в ее возрасте вещим знакам придается огромное значение. Натянула простыню на лицо и заснула опять. А когда примерно через час снова проснулась, птицы распелись вовсю и в трубах журчала вода: тетя Мэри уже приняла ванну. На потолок вернулась старуха, вечно поливающая из лейки неведомо что.
В столовой тетя Мэри аккуратно сложила газету и прислонила ее к кофейнику.
— Доброе утро. — Она чуть приподняла голову, подставила щеку для поцелуя, но глаз от газеты не отвела. Перед нею была таблица скачек, Нэнси в этом ровно ничего не смыслила.
— Почему ты не читаешь последние новости? — Нэнси подсела к столу и принялась чистить апельсин.
— Кофе? — Тетя Мэри положила газету возле своей тарелки. Взяла кофейник и угрожающе нацелила его на чашку Нэнси.
— Пожалуйста.
— В дни скачек я никогда не читаю новости. Все время происходят такие ужасы. — Она вернула кофейник на подставку и опять прислонила к нему газету. — В дни скачек я предпочитаю не портить себе настроение. Очень просто.
Колыхались ветви деревьев, дотянувшиеся уже чуть не до самых окон, отбрасывали на стену переменчивые узоры теней.
В прихожей Брайди постукивала щеткой, выметала вчерашнюю пыль в сад, откуда ее нанесло.
Тетя Мэри каждый раз перед тем, как откусить гренок, накладывала на него самую малость масла и мармелада — она умела проделывать это, не отводя глаз от газеты.
— Некоторые люди говорят, что азартные игры — грех, — сказала Нэнси из желания повредничать.
— А некоторые люди сказали бы, что и сидеть тихо, и дышать — грех. Объяснилась ты с Гарри насчет вчерашнего?
— Вроде да.
— Вежливость — это очень важно. — Тетя Мэри вздохнула. — Наверно, я не слишком хорошо тебя воспитала.
— Глупости. Я прекрасно воспитана. Я не ем горох с ножа, не рыгаю за столом и не говорю потом «Ах, извините». Даже наша Брайди считает, что я не так уж плоха. Просто у меня… ну… свои волнения.
— Я бы хотела, чтобы ты пила кофе с молокой. Черный кофе вреден для сердца.
— Не так-то много мы разговариваем, а?
— Я бы этого не сказала, деточка.
— Мы говорим друг другу разные слова, сотрясаем воздух, но это ведь не разговор. Кто живет под одной крышей, друг с другом почти не разговаривают. Вот ты с кем разговариваешь?
Тетя Мэри, видно, смутилась.
— У меня есть подруги.
— Да знаю я… знаю. У тебя есть подруги по бриджу, и подруги по скачкам, и люди, которых ты знаешь с детства, и всякое такое. Я не об этом. А было тебе хоть раз до зарезу нужно распотрошиться, вытряхнуть все, что жжет внутри?
— Ты говоришь так, будто тебе требуется не друг, а хирург. Вот еще! Молоденьким всегда мерещится, будто у каждого внутри что-то горит и пылает. Это просто воображение. А на самом деле почти все люди живут и хотят жить спокойно, уравновешенно. — Она засмеялась и повторила: — Уравновешенно. — Дотянулась, погладила Нэнси по руке. — Жизнь и так нелегка, незачем ее еще усложнять.
Долгое молчание. Тетя Мэри принялась собирать письма, уже прочитанные и аккуратно вложенные обратно в конверты, разрезальный нож слоновой кости, очешник.
— «Сказала — живи так просто, как травы растут, шурша…»[51]
— Да, так. Ты, дорогая моя девочка, еще юна и неразумна.
— А у тебя слез полна душа?
Тетя Мэри поднялась с пачкой писем в руке.
— Я довольна жизнью. Большего никогда не желала.
Теперь она несколько часов будет хлопотать вокруг старика. Поднять его и одеть. Навести чистоту. Накормить завтраком. Потакать ему, успокаивать. Довольна ли она, нет ли, а в напряженном лице сквозит усталость.
— Ты будешь дома, да? Где-то поблизости. Присмотришь за ним?
Нэнси кивнула.
— Не оставляй его долго сидеть на солнце. У него разболится голова.
— Знаю.
— Конечно, знаешь, голубчик. Я суматошная старуха.
Она медленно пошла к двери. В каждом ее движении — неизменное изящество, всегда она подтянутая, держится прямо без видимого усилия. Старомодная она, подумала Нэнси. Я ее люблю, но не хочу сама быть такой. Тетка приостановилась в дверях:
— Ты будешь…
— Да. Буду следить за ним зорким ястребиным оком.
— И потом, надо собрать малину. Всю, детка, не только те ягоды, которые сами бросаются в глаза.
— Я непревзойденная собирательница малины, лучшая в мире.
— Я рассчитываю вернуться к половине седьмого. Ты позаботишься, чтобы он что-то поел за обедом, да?
— Уж что-нибудь я в него впихну.
Нэнси взялась за «Айриш таймс».
Два гражданских лица застрелены близ Навана. Пожар на военных складах в Каррике на реке Шаннон. Человек, выпущенный из тюрьмы, застрелен на дороге неподалеку от Лимерика. Активные действия воинских частей в Дублине, множество арестованных. Известный журналист застрелен часовым. Возобновились бои в Армении. Ужасающее преступление в Голуэе. Леди Уолсингем отбыла из Лондона на Ривьеру. Лорд и леди Килмейн после недельного пребывания в Дублине прибыли в Лондон. На корабле Королевского почтового пароходства среди других пассажиров в Кингстаун прибыли… Нэнси кинула газету на пол. Напечатанное черным по белому, все это выглядит бессмыслицей. Вот была бы я чайкой, подумала она, смотрела бы на все это из прозрачных воздушных высей. Тогда бы можно безнаказанно оставаться равнодушной. Никто бы ничего с тебя не спрашивал. Парить по ветру, смотреть, как безжалостно наползают дома на зелень полей, как дымятся сожженные здания, бесполезными кучками мятого тряпья лежат вдоль дорог убитые, снуют взад-вперед суда Королевского почтового пароходства, как сменяются зима и лето на сером, черном, сине-зеленом вечно беспокойном море и на волнах качаются чайки так же вольно, как плавают по воздуху.
— Ты весь день будешь тут сидеть?
Брайди с грохотом поставила поднос на буфет.
— Ты меня испугала. Просто, я задумалась.
— Поди лучше собери малину, пока дождя нет.
— Сегодня великолепная погода. Никакого дождя не будет.
— Утро ясно, день ненастный, — с мрачной уверенностью изрекла Брайди. — Это ты вчера вечером ела хлеб у меня в кухне?
— Я.
— Крошки.
Единственное слово — маленький гневный взрыв.
— Мне казалось, я все убрала чисто.
— Тебя что, под горкой мало кормили? — Брайди начала собирать посуду на поднос.
— Я там не осталась. Это было ужасно. Я от них удрала. Гуляла по берегу.
— Чего ради такое учудила?
— Порыв души.
Брайди насмешливо фыркнула.
— Порыв? Были бы у нас с твоей тетушкой порывы надавать тебе как следует по попке, когда ты была маленькая, так ты бы теперь не устраивала кругом порывы. Что эти двое теперь о тебе думают?
— Не знаю и знать не хочу.
Брайди грохнула кофейником о поднос.
— Тебе полагается быть настоящей леди. Тебя воспитывали как леди.
— Леди? А что это, в сущности, такое — леди?
— Ты прекрасно знаешь, про что я толкую, а этим Кейси только улицы мести, а ты перед такими людьми тетушку позоришь.
— Все люди просто мужчины и женщины.
— По-твоему, может, оно и так, да только в этих делах надо глубже глядеть, и ты Ее не расстраивай, у Ней без тебя забот по горло.
Брайди всегда говорила про тетю Мэри уважительно — Она и, лишь когда они оказывались лицом к лицу, произносила чуточку ворчливо «мэм».
— Корзинки под малину в кухне на столе.
— Спасибо, — сказала Нэнси.
Брайди взяла с буфета щетку и совок и принялась сметать крошки со стола. Когда она наклонялась и далеко протягивала руки, она потрескивала, как ее же плетеный стул в кухне. Темно-синее платье под мышками у нее выцвело почти добела. От нее вечно пахло белыми мятными леденцами, она с утра до ночи грызла их остатками зубов.
— Пока мечтаешь, дела не сделаешь.
— Да уж наверно.
Нэнси встала и пошла собирать малину.
Неторопливо ползли часы. Брайди не ошиблась: когда Нэнси шла к дому с малиной, на садовой тропинке уже темнели первые дождевые капли. К полудню все затянула серая пелена дождя. Тетя Мэри укатила в долгополом коричневом макинтоше и мягкой кожаной шляпе с обвисшими полями. В таком наряде она походила на гнома, усталого от слишком долгих трудов в подземелье. Она все махала рукой из окна машины, пока не выехала за деревья в конце дорожки.
— Ничего не видно.
Брюзгливая жалоба деда заставила Нэнси вздрогнуть. С тех пор как тетя Мэри, махая на прощанье рукой, укатила прочь, это были его первые слова. Его давно уже устроили в кресле у окна, ноги надежно укутаны пледом, бинокль и панама рядом на столике. Он дремал, бессмысленно бормотал что-то себе под нос, изредка поднимал бинокль и придирчиво осматривал железную дорогу. А потом споет клочок гимна и этим снова себя убаюкает.
— Сейчас не на что смотреть. Только на дождь.
Нэнси встала с дивана, где лежа читала книжку. Перешла комнату и остановилась подле старика. Прядь его белых, очень тонких волос лежит как прилизанная поперек макушки. Пальцы, в которых стиснут бинокль, на вид уже мертвые.
— Там вообще не на что смотреть, дед, только поле да железная дорога.
— Я много чего вижу. Целыми днями тем и занимаюсь. Это отличный бинокль. На редкость. Германский полевой бинокль. Военного образца.
Старик опустил бинокль и не без гордости на него посмотрел.
— Мародерство.
Нэнси присела рядом на корточки, и оба минуту-другую молча смотрели в окно, рябое от дождя.
— Дед, — сказала наконец Нэнси, — ты помнишь Роберта? Моего… ну, словом… Роберта?
— Я эту штуку взял у того малого, из того орудийного окопа. Он был мертвый, да. Африкандишка паршивый. Считается мародерством. Такое не одобряли. Дурной пример и прочее. Помню его лицо, будто вчера, это было. Вот чудно. Лицо вполне порядочного человека. Проклятые дикари эти африкандеры. В конце концов, не взял бы я, так взял бы другой. — Долгое молчание. — Ведь правда?
— Да, наверно.
— Такое не одобряли. Но все так делали. Не похвалялись этим, только и всего.
— Роберт… — подсказала Нэнси.
— Не помню. Очень легко все перепутать.
— Если ты помнишь лицо мертвого бура, так наверняка можешь вспомнить Роберта.
— Если кого-нибудь убьешь, он уж постарается тебе оставить на память свое лицо. Хорош подарочек.
— Ты что же, убил того бура, у которого взял бинокль?
— Наверно, пришлось. Не припомню в точности, как было дело. В конце концов, я ж был солдат. Со мной был молодой парнишка, я ему, помню, тогда сказал — этот, говорю, на вид славный малый. Вот это я помню.
— А он что сказал?
— Может, «Слушаю, сэр». А может, ничего не сказал. Что он особенного мог сказать.
— Ничего, наверно.
— Кто-то когда-то сказал: «Старая шутка смерть, а каждому внове». — Старик вздохнул. — Киплинг, наверно. Или не Киплинг? Такие слова в духе Киплинга. — Он устало поднял к глазам бинокль. — Ничего невозможно разглядеть.
— Тургенев. Вот кто это сказал. Тургенев[52].
Дед то ли не слышал, то ли остался равнодушен. Долго обшаривал взглядом железную дорогу, и поле за нею, и серое, распадающееся дождем небо; потом, к изумлению Нэнси, заявил:
— Всегда не любил русских. Роберт был большевик.
— Да что ты, дед, не может быть!
— Или анархист, или социалист. Какая-то чертовщина в этом роде. Один раз я ему сказал, наверно, говорю, в одну прекрасную ночь ты нас всех спящих перережешь. Что-то в этом роде. Он и ухом не повел. Зубы у него были в пятнах от табака. — Налетел внезапный порыв ветра, и деревья храбро замахали ветвями. — Заметно было только когда он смеялся. Коричневые пятна. Скорей всего от табака.
Он говорил так долго, что, видно, выбился из сил. Голова свесилась на грудь, пальцы разжались, бинокль упал на пол. Нэнси его подобрала. У человека на берегу, у Кассия, на зубах нет коричневых пятен. Это точно, нету. Она осторожно положила бинокль деду на колени. Старческие пальцы и во сне ощупью его искали. Нэнси съежилась на корточках возле спящего, прислушиваясь к его слабому дыханию. Что делать, если он прямо сейчас возьмет и умрет? Вот так, сидя в кресле? Перестанет дышать? В комнате станет совсем-совсем тихо, и тогда она поймет. От одной этой мысли сердце подскочило и застряло в горле. Тетя Мэри вернется после скачек веселая и застанет их тут в тишине. Она тронула руку деда.
— А! — только и сказал он. Поднял бинокль. — «Последняя летняя роза еще цветет…»[53]
— Ох, дед! — сердито пробормотала Нэнси и пошла читать книгу.
Среди дня дождь стал стихать. Наконец проглянуло солнце и на клумбы и лужайку легли черные тени.
Зазвонил колокольчик.
Кто-то дернул медную ручку звонка у парадной двери, и колокольчик заплясал на пружине высоко на стене кухни.
— Это еще кто?
Брайди подняла голову и поверх газеты поглядела на колокольчик.
— Бог его знает.
Нэнси опять уплетала хлеб с вареньем. Будто знала, что больше никогда в жизни хлеб с вареньем не покажутся ей такими вкусными.
Колокольчик опять разразился звоном.
— Кому-то не терпится. — Брайди опять зашуршала газетой перед самым своим носом. Стул под ней уютно затрещал. — У тебя ноги молодые.
— Фу! — Нэнси запихнула в рот остаток хлеба. — Наверняка это кто-нибудь противный или, может, монашки.
Обычно у парадного звонили только те, кто собирал пожертвования на всякую благотворительность;, почти все остальные попросту входили и окликали, есть ли кто дома.
А это пришла Мэйв.
— А, здрасте. — Нэнси покраснела. — Это вы.
— Дождь перестал, и мне захотелось немножко пройтись, вот я и… — Концы желтого шарфа, которым Мэйв повязала волосы, изящно трепетали на ветру. — Просто я подумала, пойду проведаю вас. Лучше ли вам сегодня.
— Просто мне вдруг стало нехорошо. Замутило… как-то голова кружилась… не хотелось затевать суматоху… вот я и… — Нэнси плела что попало и отколупывала пальцем бугорок краски на дверном косяке.
— Вы пошли домой и легли?
— Свежий воздух… вы же знаете, иногда совершенно необходимо подышать свежим воздухом. Я немного погуляла. Но, конечно, прошу извинить. Может быть, зайдете?
Мэйв колебалась.
— А то давайте посидим в саду. Там после дождя так славно пахнет.
— Я ведь ненадолго. Мне надо съездить в город.
Ясное дело, на свиданье с Гарри. Розовые абажуры.
Вино. Они держатся за руки, и над столиком позвякивают браслеты Мэйв.
— Вы уже пили чай?
— От чашечки чая никогда не откажусь. Если вас это не слишком затруднит.
— Нет-нет, — без особого восторга пробормотала Нэнси. — Пройдите кругом. Шезлонги на веранде. Я мигом.
И она побежала по коридору в кухню.
— Чаю не осталось?
— Кто хочет чаю? — спросила Брайди из-за газетного листа.
— Старая дура Мэйв Кейси. «От чашечки чая никогда не откажусь».
— Завари свежего.
— Да я просто долью чайник.
Брайди кинула газету на пол.
Четверо убитых в засаде.
— Приготовь ей чаю, чтоб ей не пришлось рассказывать, что в этом доме гостям подают спитой. И возьми в коробке пирога, если сама уже не уплела весь, стоило мне отвернуться.
— Опять ахи-охи. Подумаешь, принимаем королеву английскую.
Нэнси вытряхнула распаренную заварку в раковину и ополоснула чайник кипятком.
— Надо надеяться, ни королева английская, ни английский король в этот дом век не войдут.
— Глупости, Брайди, сама знаешь, если они когда-нибудь заявятся в Дублин, ты наденешь лучшее платье и побежишь их приветствовать.
Презрительное фырканье.
— Нет уж. Я республиканка.
— Вечно громкие слова. Поскорей чаю, а то вдруг мадемуазель из Армантьера[54] уберется восвояси.
Брайди извлекла из-под себя журнал, на котором сидела, и принялась перелистывать. Напомнила:
— Сахар не забудь.
— И на что тебе эти журналы. Они только для уборной годятся, читала бы лучше настоящие книги.
— Напиши сама книгу не хуже такого журнала, тогда я ее почитаю. Тут есть очень хорошие истории. В них все правда. И еще вязанье.
— Может, и напишу. — Нэнси поставила на поднос две чашки. — И опишу тебя. Правдивая история Брайди Райан.
— То-то смеху будет.
Девушки уселись в чуть отсыревшие шезлонги по обе стороны столика на ножках кованого железа. От пирога Мэйв отказалась. Положила себе два куска сахару и, не взирая на обычный кухонный чайник и простые чашки, жеманно оттопырила мизинчик. Густо пахло розами с клумб тети Мэри. Окно гостиной было отворено, оттуда опять и опять доносился усталый старческий голос.
— «Век земной быстротечен, близок полночный час…»
— Он все время так?
— Он старый.
— Я знаю… но вот так петь? Все время?
— Мы этого почти не замечаем. — Смутное чувство верности заставило ее солгать.
— Какой роскошный сад! Сколько у вас садовников?
— Ну, понятно, Джимми. — Нэнси постаралась, чтобы это имя прозвучало как первое в длинном списке: Джимми, наш старший садовник…
— Джимми?
— Он уже немножко стареет. Он у нас с четырнадцати лет. Его отец смотрел за лошадьми… невесть сколько лет назад. Джимми никого не слушает, все делает по-своему, но он очень милый. Брайди говорит, у него свои замашки. Не знаю, как бы мы без него обходились.
— Один Джимми?
— И тетя Мэри садовничает. Она это любит. Она знает по имени все цветы и деревья и все их привычки. Я только диву даюсь. Отрежет от чего угодно веточку, крохотный кусочек, воткнет в землю — и оно вырастет.
Мэйв не слушала.
— «В час, когда очи смежатся, дай мне узреть твой крест…»
— Должно быть, сад требует слишком много тяжелой работы. А ведь она не становится моложе.
— Она не старая, — оборвала Нэнси. И подумала, какое у тети Мэри увядшее лицо, а глаза, когда она усталая, становятся блеклые, почти бесцветные, и в такие минуты уже не блестят, не смотрят вызывающе. — Совсем она не старая.
Мэйв поставила чашку на стол; немного красуясь, откинулась на отсыревшем шезлонге, затылком на руки, на переплетенные пальцы и оглядела пологий склон, усаженный розами. Под кустами земля усыпана яркими лепестками; желтые, алые, розовые пятна, разноцветный ковер.
— Я полагаю, ваша тетя вам сказала… — начала Мэйв так небрежно, будто речь о цене пары туфель, — …что мой отец ведет с ней переговоры о… о покупке вашего имения. Я полагаю, вы уже знаете.
Ошеломленная Нэнси молча смотрела на нее.
— …оно приходит в упадок…
— Какое имение? — спросила наконец Нэнси.
— Вот это. Ардмор. Этот дом, вот это… — Мэйв повела рукой на розы.
— Ведет переговоры?
— Да. С вашей тетей. Он хочет благоустроить эту землю. Вам, конечно, об этом уже говорили?
Нэнси засмеялась. Когда не знаешь, что сказать, смейся.
— У него всегда возникают блестящие идеи. Он думает, что это очень подходящее место, будет немало желающих здесь поселиться. Все больше людей переселяются из города. Очень понятно при теперешних беспорядках. Им нужны будут приличные дома и сады. Теннисные площадки и всякое такое. А тут и море, и гольф-клуб, и железной дорогой только полчаса езды… Будут жить приличные люди. Люди образованные — и свободных профессий, и из деловых кругов… Почему вы смеетесь?
По ту сторону поля поднялся на насыпь какой-то человек и зашагал по шпалам. Нэнси перестала смеяться и следила за ним глазами, пытаясь в то же время собраться с мыслями.
— Боюсь, я чего-то не понимаю.
Далекий пешеход скрылся за деревьями.
— Это будет замечательно для всех. Не только для него. Вы, пожалуйста, не думайте… И для вас, для всех. Моему отцу всегда приходят на ум блестящие идеи.
— «Ты един неизменный, милостив будь, Творец».
— Пой. Да, пой, — сказала Нэнси.
— Простите, не поняла?
— Извините, сама не знаю, сорвалось с языка.
— Понимаете, он построит для вашей тети одноэтажный дом где-нибудь под этим холмом, поближе к деревне. Никаких лестниц, ничего такого, это облегчит ей жизнь… ведь она… не становится моложе.
Мэйв разняла руки, сплетенные под головой, и выпрямилась. Начертила на шелковой юбке некий невидимый узор. Тщательно отполированные ногти сверкают и подрезаны аккуратнейшим образом, но коротко, чтобы не мешали играть на рояле. Над клумбами роз затеяли вечернюю игру ласточки, то взмывают ввысь, то проносятся совсем низко, чуть не задевают листья трепетными крыльями.
— А этот дом?.. — Нэнси не удалось договорить.
Мэйв наклонилась, дотронулась до ее коленки.
— Ни о чем не беспокойтесь. Мы его не снесем. Он потребует затрат. Отец не пожалеет денег. Такой дом требует ухода.
— Чарлз Дуайер, эсквайр, родом из графства Корк.
— Я не знала, что у вас есть родня в Корке. Там живет замужняя сестра моего отца.
— Он переселился из Корка в тысяча шестьсот каком-то там году и начал строить этот дом… конечно, тогда все тут было не так, с тех пор над ним много народу мудрило. Просто мне сейчас вспомнился этот Чарлз Дуайер. Тетя Мэри — последняя из рода Дуайер… кроме деда.
— Некому наследовать имя?
— Некому.
— Ну, вот видите… не такая уж будет трагедия. Ведь правда?
— Не такая уж трагедия.
Вдоль стены осторожно прошел рыжий кот и уселся к ним спиной, сонные рыжие глаза следили за полетом ласточек.
— Гарри про все это знает?
Мэйв встала.
— Не взглянете, который час? Мне надо бежать. Я еще должна переодеться. Огромное спасибо за чай. Нет, не провожайте. Я пойду напрямик, полем. — Она посмотрела сверху вниз на Нэнси. — Очень рада, что вы не…
— Нет, у меня тогда немножко закружилась голова. Спасибо, что навестили.
— Непременно приходите как-нибудь на днях. Вместе с тетей. Мы будем рады, Я очень рада буду познакомиться с вами поближе.
— Спасибо…
— Пока.
Мэйв пошла прочь. По ступенькам веранды, по дорожке, вьющейся между клумбами роз, желтый шарф колышется при каждом движении. У калитки, ведущей в поле, обернулась, помахала рукой. Нэнси не стала махать в ответ.
— Почему ты мне раньше не сказала? Как ты могла?
Они сидят у камина в кабинетике, что примыкает к гостиной. Занавески еще не сдвинуты, на фоне черного неба за окном обе видят свои неясные тени.
Тетя Мэри вернулась со скачек веселая, возбужденная несколькими выигрышами, несколькими выпивками и нетребовательным благодушием подруг. Она катала старика в кресле по саду и оживленно болтала — глаза блестят, руки ни минуты не остаются в покое, подчеркивают сказанное, взмахивают для наглядности, отщипывают головки увядших роз, порою ласково поглаживают рукав стариковой куртки. Возможно, такое внимание ему было приятно, но сам он молчал, только раз что-то недовольно промямлил и при этом ткнул трясущимся пальцем в сторону железной дороги. После ужина тетя Мэри увезла его и стала укладывать на ночь. Сидя у камина, Нэнси слушала, как она что-то приговаривает, то громче, то потише, иногда вдруг негромко засмеется. Славные, хорошо знакомые вечерние звуки, каждый самый малый шумок внятен, у каждого свой смысл. Наконец тетушка вернулась в комнату и притворила дверь.
— Тра-ля-ля!
Она прошла в угол, к столику с бутылками и бокалами, налила себе солидную порцию виски, и тут, прямо на глазах, лицо ее обмякло, сбежал румянец недавнего оживления, она подсела к камину и откинула голову на спинку кресла.
— Как ты могла?
Тетя Мэри, сдвинув брови, поглядела на опустевший бокал.
— Голубчик…
Она медленно поднялась, пошла и налила себе еще.
— …наверно, не хотела тебя тревожить… чтобы ты предавалась невеселым мыслям о… о том, с чем все равно ничего не поделаешь.
— Так, значит, это fait accompli?[55] — Они сидят в этой комнате, а она, может быть, уже чужая?
— Нет… — Тетя Мэри покачала головой. — Я все еще ворочаю это в уме на все лады. Прингл мне советует. Я все собиралась тебе сказать прежде, чем…
— А что он тебе советует?
— Быть благоразумной, детка. Мистер Прингл очень благоразумный человек. Боюсь, благоразумнее всего…
— Что?
— Продать. Боюсь, что так.
— Это невозможно.
Тетя Мэри улыбнулась.
— Надо же как-то сводить концы с концами.
Долгое молчание.
— Наши дела так плохи?
— У меня… н-ну… словом, суть в том, что пять человек, считая Джимми, а мы не можем сбросить Джимми со счета, живут на деньги, которых больше нет. Наши доходы куда меньше расходов. Мистер Прингл все мне объяснил. Понимаешь, с тех пор, как погиб Габриэл… Наверно, надо было что-то предпринять раньше.
Она отпила из бокала и не сразу проглотила виски, а подержала во рту. Нэнси смотрела, как дрогнуло ее горло, когда она наконец глотнула.
— Получилось вроде той, знаешь, истории с людьми, за которыми гонится волчья стая, они кидали волкам одно за другим, что было в санях, а потом уже нечего стало кидать. Я все время что-то продавала. Глупо, конечно. Теперь продавать уже нечего. — Она вздохнула. — Я никогда не умела смотреть правде в глаза. Габриэл бы ничего этого не допустил. Он-то был такой деловой, находчивый. А я нет. Когда-то казалось, это не понадобится… Наверно, все-таки нам еще повезло, было что продавать. Я не понимала, в каком мы положении. Нет, надо смотреть правде в глаза. Необходимо.
Нэнси встала, отошла к окну. Тьма за окном угнетала; ни минуты больше нет сил смотреть на отражения, будто в зеркало. Она задернула занавеси.
— Пожалуй, если бы я об этом подумала тридцать лет назад или хотя бы двадцать, я сумела бы справиться… найти какой-то выход… не просто плыть по течению. Хотя все уладится. Важно только одно — что будет с людьми. С дедушкой, и с Брайди, и с беднягой Джимми. Для них все уладится. А ты еще молода. Для тебя это всего лишь маленькая неприятность. Ты не станешь долго огорчаться, ведь у тебя еще столько всего впереди. Твоя жизнь только начинается. Может быть, эта история даже помешает тебе самой натворить кучу таких же глупых ошибок.
— А этот дом нам нельзя сохранить?
— У нас будет свой домик. Славный старый домик.
— Мэйв сказала, он для тебя построит новый, одноэтажный.
Тетя Мэри засмеялась.
— Не будь дурочкой. У нас будет домик где-нибудь на холме, чтоб видно было море и, если можно, эта треклятая железная дорога. Надо же деду на что-то смотреть в свой паршивый бинокль. А ты обоснуешься в Дублине и станешь к нам приезжать на субботу и воскресенье.
Она уже все продумала.
— Я только надеюсь… — она провела пальцем по краю бокала, и он отозвался тоненькой протяжной песенкой, долгим замирающим звоном, — …надеюсь, они не станут слишком спешить… понимаешь… ему будет не хватать поездов… и вообще. Не хочу я лишить его привычных удобств. — Она улыбнулась. — Никаких лишений. Должно быть, ему бы лучше просто… Ненавижу эти мысли.
— Это ужасно, когда становишься взрослой?
Взрыв смеха.
— Не знаю, голубчик. Со мной этого так и не случилось. Разве что вот теперь я взрослею.
— Никогда ты не отвечаешь, когда тебя спрашивают о важном.
— Стараюсь не сбивать тебя с толку.
— Но можно же нам тут остаться? Продать землю и по-прежнему жить в доме?
Тетя Мэри чуть вздрогнула, протянула руку к огню.
— Нет, нет. Вряд ли из этого что-нибудь получится. Опять полумеры. И хватит с меня… ох, не знаю даже, как это назвать… может быть, глупейшая гордыня, но не хочу я смотреть, как нас со всех сторон начнут теснить чужие дома и теннисные площадки. И чтоб из-за белых занавесок за нами кто-то следил и осуждал, что мы запихиваем пыль под ковер и окна протираем только снизу. Может, я и неправильно думаю, но так уж я устроена. Словом, они покупают все сразу, и дом тоже. Подозреваю, что они хотят сами здесь жить.
— Вон что!
— На него уже сто лет ни гроша не потрачено. Я только рада буду, что о нем позаботятся, он этого заслуживает. А у тебя все наладится. Обещаю тебе.
Камин тихонько урчал, в его темной глубине дрожал гибкий синеватый язычок пламени.
— Что я могу сделать? — после долгого молчания вдруг спросила Нэнси. — Я хочу знать, может быть, я хоть что-то могу сделать?
— Нет-нет. — От виски и от усталости голос тети Мэри звучал теперь невнятно. Она слабо хихикнула и вдруг зачастила такой скороговоркой, будто не хотела, чтобы Нэнси ее расслышала: — Да. Конечно. Да. Все меняется. Должно быть, ты и сама понимаешь. Думаю, оно и к лучшему, только я-то едва ли буду знать наверняка. Перемены требуют времени. И человек тоже должен меняться. Это очень важно. Надо двигаться вперед, запасаться новыми силами. Не просто плыть по течению, как я всю жизнь плыла. Твой дед уже мертвец, и я тоже умираю. — Она подняла руку, не давая Нэнси вставить слово. — Да я и не жила никогда. Просто была довольна, спокойна, и почти всю жизнь от меня не было никакой пользы. Есть великая истина, ее всегда нужно помнить: ничего не надо бояться. С годами учишься это понимать. Мы живем в вечном страхе. Мы бываем отвратительно жестокими друг к другу, мы друг друга не понимаем — и все это из-за страха. И все наши ужасные ошибки — от страха. — Она снова хихикнула. — Наверно, я совсем пьяная.
— Есть немножко.
— Невелика важность. Брайди на меня рассердится. Когда она утром приносит мне чай, она уж непременно увидит, если я выпила лишнее, и прищелкнет языком, и посмотрит сурово.
— Она возненавидит новый дом.
— Домик.
— Домик. Все равно возненавидит.
— Она скоро привыкнет. Уютно, удобно, все под рукой. Она станет другим человеком. На склоне лет мы с ней будем посиживать у камелька, читать и играть в карты. И тут же этот мрачный кот.
— Какая скука.
— Ничего подобного. Весь свет пускай сходит с ума, а мы будем себе сидеть и потихоньку о нем рассуждать, и поставим иногда на какую-нибудь лошадку, и спать будем, и вспоминать разное. Нам с Брайди есть много о чем повспоминать вместе. Нет, право, я должна пойти лечь или уж выпить еще.
Последний еще державшийся кусок торфа рухнул на рдеющие в золе искорки.
— Я думаю, лучше лечь, — сказала Нэнси.
13 августа.
Я мечтаю — вот бы ветер подхватил наш старый дом, и закружил, и понес, как несет чаек. И опустил бы тихонько где-то на берегу моря, и чтоб был поблизости ипподром — тете Мэри ездить на скачки, и поодаль тянулась бы железная дорога, а на ней полно блестящих паровозов, и товарные поезда, и пассажирские, и стрелки, семафоры, запасные пути, всякая всячина — чтобы деду хорошо видно в бинокль. Чтобы ему полное удовольствие на последние дни или на годы, уж как получится. Никаких тревог, никаких печалей, просто вот такое чудо. Глупая мечта. А я, как дитя малое, все еще тешусь глупыми мечтами. Прямо вижу, как здесь станут жить. Брайди, конечно, скажет, до чего миленькая парочка. Он приведет дом в самолучший вид, она будет играть в гостиной на своем белом рояле, и они вовек не заметят, что по углам прячутся наши горестные тени. Да нет, у них все углы будут слишком чистенькие и светлые, теням да привидениям там будет неуютно. И ничего не останется ни от мамы, ни от дяди Габриэла, ни от девчонки, которая столько лет сидела на верхней ступеньке лестницы и так и не подхватила геморроя. Когда-то в конюшне стояли лошади, и дядя Габриэл дважды в неделю выезжал на охоту, и конюх был, следил за сбруей и начищал до блеска великолепные сапожки. Пахло седельной мазью и конским навозом. Теперь седла валяются, облезлые, в сыром чулане со всей прочей сбруей. Печка в углу никогда не топится, птицы роняют мелкие ветки в холодный дымоход, и этот мусор выпадает из топки на пол. Хотя иногда еще слышно — вдруг попятится лошадь, застучит подковами по камню, тихонько заржет. Это, конечно, когда на тебя найдет такой стих. Я всегда трусила. Помню, какая-нибудь лошадь вскинет голову, шагнет в мою сторону, а у меня сердце так и подпрыгнет. Конюха звали Мартин. Он все тер и тер их щеткой, начищал, наглаживал, бока так и лоснились, и всегда насвистывал сквозь зубы. Прислонится, бывало, головой к теплой лошадиной шее и, не переставая насвистывать, краешком губ поцелует. Теперь он в Англии, в тюрьме. Его схватили после налета на казармы где-то поблизости от Корка. Он как будто был ранен и не мог бежать. Что-то в этом роде.
Из них выйдет миленькая парочка. Наверно, такую, как я, он никогда бы не полюбил, будь я даже на пять лет старше. Она такая вся с иголочки, такая изысканная, прямо совершенство, и она не будет по-настоящему ласкова с ним, а он, скорей всего, этого и не заметит. Они оба соизволят милостиво принять все дары, какие может поднести наш мир. Это не преступление. Наверно, преступление, когда хочешь все кругом хоть немного перетряхнуть. Ох, господи, не дай мне вовсе впасть в ничтожество и сделай, — пожалуйста, так, чтобы я перестала грызть ногти! Аминь.
Ночью опять поднялся ветер, и на утро сад замусорили обломленные сучки и крутящиеся листья. Нэнси мысленно увидела берег, захламленный выкинутыми волной водорослями и плавником. Разведу костер, подумала она. И сказала:
— Отличный денек для прогулки. Буду гулять долго-долго. Захвачу фруктов. К обеду не вернусь.
— Мм-м!
— Дождя ведь не будет, как по-твоему?
— Мм-м!
— В такой день можно отшагать не знаю сколько миль.
Тетя Мэри так и не выглянула из-за газеты.
— Скажи Брайди, что уходишь.
Она развела костер примерно в полумиле от хижины, на полпути между купальней монахинь и косой. Кроме двух бананов и яблока, прихватила с собой две газеты и коробок спичек. Лист за листом скомкала газеты — скомкала «светские новости», спортивные страницы, рекламы овсяных хлопьев Уайта, мужских и дамских непромокаемых плащей фирмы Дж.-У. Элвери и Ко, натурального китайского чая Роб. Робертса и недельной распродажи в обувном магазине Клири, бюллетени фондовой биржи, парламентские отчеты и последние новости. Нагромоздила на все это гору плавника и поднесла спичку. Костер мигом разгорелся, и она сидела и смотрела, как вьется по ветру дым, — интересно, видит ли его в бинокль дед, может быть, вместе с этим дымом в мыслях у него поднялись и вьются какие-то новые воспоминания? Под конец, когда от костра осталась лишь кучка дотлевающих углей, она съела бананы и пошла вдоль воды к хижине. И вдруг заметила, что идет рядом с цепочкой чьих-то чужих следов. Отпечатки мужских башмаков. В песке глубокие вмятины от каблуков, подошвы рубчатые — полоски крест-накрест. Нэнси остановилась, оглянулась. Следы спустились от железной дороги. Вели по песку напрямик, знали, куда идти. Рядом не рыскала никакая собака. Просто прошел одинокий путник. Следы свернули вправо и исчезли среди гранитных глыб. Исчезли, как отрезало. Нэнси старательно поискала, не осталось ли хоть малейшего признака, но ничего не нашла. А когда выпрямилась, увидела своего знакомца Кассия, он стоял возле каменной глыбы и смотрел на нее.
— Что-нибудь потеряли?
— Это ведь не ваши следы? — Нэнси махнула рукой назад, на берег. — У вас башмаки не такие.
— Браво, Шерлок Холмс!
Она покраснела.
— Сюда кто-то приходил?
Он кивнул.
— И сейчас… сейчас?.. — Она озиралась по сторонам.
— Нет. Идите сюда. Холодно. Войдемте.
Молча пошли к хижине.
— Рассердились? — спросил он у порога. Отворил перед Нэнси дверь и посторонился, пропуская ее. — Уйдемте от ветра.
— Так неосторожно. Он оставил следы. По всему берегу.
— Здесь следов нет.
— Какой-то мужчина. Я не позволяла вам принимать посетителей. Не хочу я, чтобы толпы народу заявлялись в мое…
Он постоял минуту, глядя на нее, потом сел, прислонился спиной к стене. Достал из кармана фляжку, вытащил пробку.
— Это был связной. Только и всего. Сюда он не заходил. Мы встретились там, среди скал. Я его ждал. Он передал мне несколько важных слов и немного виски. Выпейте глоток, и не надо сердиться.
Он протянул ей фляжку. Нэнси покачала головой.
— В тот раз, когда я у вас пила виски, оно прескверно на меня подействовало. И вообще молодым леди в моем возрасте не полагается пить виски.
Он рассмеялся. Потянулся к полке над головой, достал кружку. Осторожно налил из фляжки на донышко и протянул кружку Нэнси.
— Ну, вот, самая что ни на есть ледистая молодая леди может спокойно выпить такую малость.
Нэнси приняла кружку.
— Извините, что я сердилась.
— Подите сюда и сядьте. Надо полагать, это вы подавали дымовые сигналы?
— Обожаю костры. Тетя Мэри говорит, дым убийственно вреден.
— Я думаю, понадобился бы дым поистине исполинского костра, чтобы убить человека. Ну-ка, глотните. И скажите, как вам это понравится.
И сам отпил из горлышка.
Нэнси осторожно пригубила.
— Вкусно. Совсем не такое, как в тот раз.
— Это особенный сорт. Не каждый день отведаешь такого виски. Только когда является посланец богов.
— Посланцы богов не оставляют на песке таких большущих следов. А этот сорт и называется по-особенному?
— Шотландское виски. Лучший напиток на свете. При моем образе жизни. В некотором роде скитальческом. Если ведешь жизнь более оседлую, тогда… ничто не сравнится с кларетом… с добрым старым кларетом.
Нэнси засмеялась.
— Вы забавный.
— Я, знаете ли, не только тем весь век занимался, что ел бананы из бумажного кулька.
— А я, знаете, пари держу, что дед видел на рельсах вашего посланца богов. Дед почти все замечает. Он вечно твердит, будто видит каких-то людей, только мы на него внимания не обращаем. Он все время бормочет, иногда ерунду, но не всегда, только нам неохота разбираться. У вас есть пожилые родственники?
— Дорогая моя Нэнси, я давным-давно порвал все родственные узы. Предпочитаю странствовать налегке.
— И вам не одиноко?
Он покачал головой и опять немного отпил из фляжки. Закупорил ее и положил возле себя на пол.
— Сейчас в моей жизни нет места подобным чувствам. Может быть, когда я стану бесполезным… как знать… может быть, тогда мне и станет одиноко. Вон чайка на крыше не чувствует одиночества. Глаза у нее как кремни.
— Когда вы сделаетесь бесполезным, вам можно будет сидеть в кресле и думать про всех, кого вы поубивали.
— Послушайте, молодая особа…
— Извините. Я не то хотела сказать.
— То самое. Я не чувствую вины за то, что я делаю и как думаю, так что не воображайте, будто вы можете воззвать к тому, что считаете лучшей стороной моего «я». Есть на свете люди бессердечные, без стыда и совести, они способны на все, лишь бы мир оставался таким, как это им выгодно. Они не желают никаких перемен. Они разрушают и уничтожают… стремлении… надежды. Должен же человек хотя бы на что-то надеяться.
— Но убивать…
— Ваш дедушка тоже ведь был убийцей, — мягко сказал Кассий, — но никто из-за этого не отпускает шпилек по его адресу. Отнюдь. Он получил медали и пенсию. А между тем он убивал даже не для того, чтобы защитить родину, как раз наоборот. Он отнимал чужую землю, других людей лишал родины. Создавал империю для старушки с колпаком на голове, похожим на чехол для чайника. А будь ваш дед помоложе, он бы, скорее всего, сейчас где-нибудь на этой дороге убивал своих соотечественников, разрушал их мечту. И все же…
— Нет, нет… ничего подобного!..
— …и все же он милый несносный старичок, он что-то бормочет и напевает и, вероятно, умрет в своей кровати, как оно и полагается каждому человеку, и кое-кто о нем поплачет.
— У меня все в голове перепуталось. Меня за это надо презирать?
Он откинулся к стене и захохотал. Нэнси смотрела на него и думала — а может быть, и у него в голове почти такая же путаница? У слепых и поводыри всегда слепые.
— Простите, что я смеюсь, — сказал он наконец. — Вас совершенно не за что презирать. Можете мне поверить.
— Тетя Мэри продает наш дом.
— Вот как!
Нэнси впилась в него глазами. Улыбка его медленно слиняла, хмурый взгляд обратился в прошлое, к рощам и тропинкам, и солнечным зайчикам на ковре в гостиной и на полированном дереве добротной мебели. Давние дни, давние лица. С минуту он крутил неуверенными пальцами колпачок фляжки.
— Да. Пожалуй, рано или поздно этого было не миновать. Вам все равно пришлось бы на это пойти.
— Едва ли я до этого бы додумалась. Тетя Мэри гораздо практичнее меня.
— А кому?..
— Построят дома, — объяснила Нэнси. — Целую кучу. Шикарные дома. Это ведь… ну… так близко от города. Поездом…
— Итак, дорогая моя, вам тоже подвернется случай странствовать налегке.
— Вот уж не стремлюсь.
Он наконец открутил колпачок и хлебнул из горлышка.
— Трусиха!
— Нет, не трусиха. Просто мне хочется, чтобы все оставалось по-прежнему…
— Трусиха!
— Да, я трусиха.
За стеной на берег внезапно с шумом обрушилась волна.
— Поднимается ветер. — Нэнси не знала, что бы еще сказать.
— Прошлой ночью хижину чуть не смело. Нас с этой чайкой унесло бы на северный полюс.
— Я думала, вы мне посочувствуете.
— Ну нет, не дождетесь. Все на свете непременно должно меняться. Это пустые выдумки, будто с переменой теряется то, что по-настоящему ценно. Это неправда. Наступающий год всегда будет лучше прошедшего. У вас впереди целый огромный мир, черт возьми. Кто-то снял с ваших плеч то, что было бы только тяжким бременем, а вы еще жаждете сочувствия. О господи!
— Я люблю эти места.
— Просто вы ничего другого не знаете. Море здесь холодное, берег каменистый, всю зиму дует восточный ветер. Чем раньше вы отсюда выберетесь, тем лучше. Ваша разумная тетушка выбрасывает вас из гнездышка — так иные птицы поступают с птенцами. Вон из гнезда — и либо лети, либо падай. Из-за вас я чувствую себя старым стариком. Я почти уже не помню, что это такое, когда тебе восемнадцать. Я ездил на охоту не реже двух раз в педелю и не смел заговаривать с хорошенькими девушками, которых встречал по вечерам в гостях. Среди этих девушек была и ваша тетя.
— Она была хорошенькая?
— Да, только язычок слишком был острый, если мне память не изменяет. А вот вы перестаньте грызть ногти. Мерзкая привычка. Подумайте, что случилось с Венерой Милосской.
Нэнси покраснела, сжала кулачки, пряча следы преступления.
— Вы злой!
— Ничуть. Всякий уважающий себя отец сказал бы то же самое своей дочке.
— А у вас есть дети?
Он покачал головой.
— Ничем не обременен. Был когда-то женат, но едва жена получше меня узнала, я ей разонравился. Все это случилось, когда я был моложе.
— Почему вы ей разонравились?
— Любопытному нос прищемили.
— А все-таки?
— Наверно, потому, что, когда мы поженились, я был некто с положением. Мог всякому назвать свое имя и адрес. Даже носил с собой в кармане такие маленькие карточки и повсюду их оставлял — пускай люди знают, что я существую. Жене это нравилось. У меня был дом в Лондоне. Это ей тоже нравилось. Видное положение, почти что на верху всей кучи. Она была уж так воспитана — все время ждала от жизни только удовольствий. И ушла к тому, кто мог предоставить ей жизнь более приятную, чем я. После пяти лет брака я стал для нее только помехой.
— Она была красивая?
— Да, пожалуй. Красивое лицо и красивое тело.
— Это ведь важно, правда?
Он чуть усмехнулся, так тревожно она это спросила.
— Тоже своего рода бремя. Женщина способна годы жизни потратить, тараща глаза на других женщин и гадая — а вдруг они красивей ее. Годами смотрит на себя в зеркало, с опаской разглаживает кожу под глазами. Я наблюдал за женой. Поначалу мне казалось, это очаровательно… а потом… — Он пожал плечами. — Просто еще одна обуза.
— Ну, не знаю, — только и сказала Нэнси.
Она встала. Он зорко следил — вот она выпрямляется после того, как долго сидела скорчившись на полу. Рукам и ногам ее, так же как мыслям, неспокойно оттого, что она взрослеет. Минутами в ее движениях сквозит какое-то хмурое изящество — и вдруг, будто испугавшись скрытого в них очарования, она как нарочно разрушает это словно бы ложное впечатление какой-нибудь неуклюжестью. Он со страхом ощутил, что растроган ее неискушенностью. И опять наскоро глотнул виски. Проклятое пойло, без него не обойтись, но если продолжать в том же духе, его ненадолго хватит. Нэнси стояла и смотрела на него сверху вниз. Как всегда, когда они оказывались вместе, ее пугало, что у него такое смертельно усталое лицо.
— Будут приходить еще связные? — спросила она.
— Нет. Этот единственный. Очень скоро я отсюда уйду. Я только его и ждал.
— Не пойму, то ли относиться к вам серьезно, то ли нет.
— Я к вам отношусь вполне серьезно.
— Да ну вас!
Нэнси распахнула дверь. Под короткими яростными порывами ветра низко, над самой землей несло песок и мелкую гальку, на миг эти вихорьки опадали и вновь, крутясь, бежали по берегу.
— Вам что-нибудь нужно? — спросила Нэнси, стоя к нему спиной и глядя на море.
— Вы бываете иногда в городе?
— Могу съездить.
Она обернулась и посмотрела на него. Казалось, в хижине сгустилась тьма, человек в ней почти призрак, недвижно сидит на полу, одно колено торчком. Только живо блеснули глаза.
— А если бы я попросил вас кое-что передать?
Из-за поворота возник дневной уиклоусский поезд и покатил над ними по насыпи. Ветром с моря швыряло над полями дым и искры. Хорошо бы дед не спал, полюбовался.
— Да, — сказала она, когда грохот укатился дальше по рельсам. — Я передам.
— Наверняка?
— Да.
— Завтра утром встретимся на линии. Возле моста. В десять.
— Я и сюда могу прийти.
— Возле моста.
— Ладно.
— Спасибо. И ни о чем не беспокойтесь.
— Хорошо. — Она неловко махнула ему рукой. — Ну, что ж…
— До свиданья, Нэнси.
— До свиданья.
Она закрыла его там, в темноте, и взобралась на насыпь. Искры угасли в траве, дым еще висел меж деревьями.
Когда Нэнси подошла к дому, обе мисс Брэйбезон отпили с тетей Мэри чай и уже готовились уходить.
— Привет! — закричала высокая мисс Брэйбезон, вскинула руку и неистово замахала.
Маленькая мисс Брэйбезон — она была совсем-совсем маленькая — попросту протянула руку.
Нэнси пожала протянутую руку.
— Добрый вечер.
— Мы только что вернулись из Марселя. Вот и подумали, заглянем к Мэри, скажем, что благополучно прибыли. Она уж и не надеялась опять нас увидеть.
— Из-под Марселя. Мы были не в самом Марселе. Прескверная вонючая дыра.
Высокая мисс Брэйбезон подошла к своему «даймлеру» и потрепала его по капоту, словно лошадь по холке.
— Поэтому мы так загорели. — Маленькая мисс Брэйбезон подтянула кверху рукав и показала Нэнси руку.
— Изумительно! — сказала Нэнси.
— Камарг. Бой быков и всякое такое. Ужасно волнующее зрелище. И там необыкновенно жаркий ветер. Жаркий. Надо же!
Нэнси подумала — кажется, высокая мисс Брэйбезон сейчас угостит свою машину яблоком.
— И наш милый старый рыдванчик вел себя истинным джентльменом. Правда, Джорджи?
Маленькая мисс Брэйбезон кивнула.
— В следующий раз Мэри должна поехать с нами. Непременно, Мэри. Это совершенно безопасно. Мы ведь тебе говорили, это совершенно безопасно.
— Там видно будет, — сказала тетя Мэри.
— Он даже не поперхнулся французским бензином. — Высокая мисс напоследок похлопала машину по капоту и оглядела Нэнси с головы до ног.
— Ты выросла.
— Конечно, она выросла, — заметила маленькая сестра. — Такой возраст.
— Чепуха, некоторые перестают расти в тринадцать лет. Ты уже стала одного роста с Мэри.
— У Силии это пунктик — кто какого роста.
— Твоя мама была невысокая…
— Во Франции ее принимали за un monsieur Anglais…[56] Прямо со смеху покатились, когда поняли, что она женщина.
— …правду говоря, она была по колено муравью. А отец твой был высокий. Настоящий рослый мужчина. Пожалуй, ты пошла в него.
— Тирим-пам-пам! — Маленькая мисс Брэйбезон, пританцовывая, направилась к машине.
— Непременно как-нибудь расскажите Нэнси про ваши приключения, — сказала тетя Мэри.
— И в милого старого генерала.
— Да.
— Он душенька. Мне так жаль, что сегодня нам нельзя было его повидать.
— Он слишком выбивается из колеи, если гости приходят среди дня.
— Мы как-нибудь придем к ужину. Это можно?
— Будет очень мило.
— В субботу после скачек?
— Прекрасно.
Высокая мисс Брэйбезон наклонилась над капотом автомобиля.
— Дорогая… да ну же, Джорджи, садись, довольно тебе канителиться… мы тебе еще не рассказали? На днях шиннеры[57] хотели украсть нашу машину.
Лицо у тети Мэри стало испуганное.
— Силия, дорогая…
— Дело было вечером, назавтра после возвращения из Франции, мы приоделись и поехали ужинать к Пилкингтонам… ехали проселочной дорогой на Раундвуд. А они перегородили дорогу своей повозкой, и нам пришлось остановиться, и тут они выскочили из канавы и давай махать на нас пистолетами…
— Я завизжала, — самодовольно вставила Джорджи.
— А ты что же?
— Лица у них у всех были обмотаны шарфами, и один говорит… надо признать, очень вежливо… Извините, пожалуйста, мисс, но нам нужна ваша машина…
— Представляешь? — вставила Джорджи.
— Дорогая моя, я просто протянула руку, дернула шарф книзу — и кто же это, по-твоему, был? Томми Рок, сын наших арендаторов. Я и говорю ему, только тронь этот автомобиль, ВОТ ЭТОТ, пальцем, и я скажу твоей матери, чем ты у нее за спиной занимаешься, и она отделает ремнем твою бунтовщицкую задницу.
Тетя Мэри засмеялась.
— Храбрая ты женщина, Силия! А дальше что было?
— И уберите повозку с дороги, говорю. Мы уже и так опаздываем к ужину.
— И они послушались, — вставила Джорджи. — Представляешь?
— Спасибо, говорю им, очень вежливо говорю. Хватайте любой другой автомобиль… любой… хоть «моррис»… но не ЭТОТ. Могли бы и сами понимать. Он у нас вроде любимой собаки. А Томми отвечает: «Прошу прощенья, мисс, мы думали, ваша машина еще во Франции». Ну, и мы поехали своей дорогой. Не знаю, достали они другую машину или нет, и зачем она им понадобилась, не слыхала. Уж наверно для какой-нибудь зловредной каверзы.
— Правда, потрясающе?
— А в полицию вы заявили?
— Что за глупости, Мэри, дорогая. У мальчишек были бы неприятности.
Силия в последний раз ласково погладила капот и вскочила на свое место за рулем.
— Мы заедем за тобой в субботу. В этой самой тележке. В прошлый раз, когда мы ездили в Карэ в твоей машине, меня совсем скрючило.
Она натянула перчатки, старательно разгладила каждую морщинку на пальцах.
— Машина Мэри не виновата, что у тебя такие длинные ноги.
— Вздор!
Силия нажала на стартер, и «даймлер» затрясся.
— Ах ты моя умница!
Она высунула голову в окошко и сказала, понизив голос, насколько сумела:
— Как бы ты ни поступила, Мэри, дорогая, не огорчайся. Все уладится. В субботу мы у вас ужинаем; не забудь предупредить Брайди. До свиданья, Нэнси, береги тетю.
Она надавила сигнальный рожок, и он негромко отозвался — ему бы заржать, а он урчит, как тигр, подумала Нэнси, — и они умчались, вздымая вихрь песка с дымом пополам.
— Ф-фу! — выдохнула Нэнси.
— Она правит этой штукой, точно почтовым дилижансом. — Тетя Мэри все еще махала рукой вслед подругам. — Я им рассказала про…
— Мм-м!
— В конце концов, мы с ними знакомы всю жизнь.
— Не представляю, неужели они когда-то были детьми.
— Вот я и подумала, следует им сказать…
Вошли в дом. Уже в прихожей до них донеслось негромкое пение деда. Интересно, мой отец и вправду был очень высокий? — подумала Нэнси.
— …я бы им раньше сказала, если бы они не уехали. Спросила бы совета… похоже, у них найдется для нас свободный домик. Великолепно, правда? Возле Ларэ. Его уже несколько лет никто не арендовал, там нужно все покрасить и привести в порядок.
— Пожалуй, я завтра съезжу в город. Тебе что-нибудь нужно?
— Меня прямо в дрожь бросало от одной мысли — искать приличное жилье. Конечно, будет далеко от моря, но мы привыкнем…
— Это ты, Мэри?
— Я поеду двухчасовым поездом.
— Иду, голубчик, иду… и от железной дороги тоже далековато, но придется дедушке найти что-нибудь другое, на что смотреть в бинокль. У Брайди в той стороне родня. Похоже…
— Мэри!
— …что лучше не придумаешь. Как по-твоему?
— Да. Нужно что-нибудь в городе?
— Пожалуй, зайди в библиотеку, детка. Сейчас, папа. Сию минуту.
Она скрылась в гостиной.
Нэнси взбежала по лестнице к себе и выглянула из окна. Увиделось: по отлогому склону холма разбросаны в полях опрятные домики, цветочные клумбы, беседки, оплетенные вьющимися розами, каменные горки, там и сям затейливый павильончик; на воровке, протянутой в укромном уголке, развевается сохнущее белье, на посыпанных песком подъездных дорожках ждут автомобили; высокие, аккуратно подстриженные живые изгороди — ни один непослушный сучок не торчит — надежно охраняют всех и каждого от соседского глаза. Будут еще и теннисные площадки, и огороды, и солнцу велено будет светить без передышки.
Если мой отец был выше высокой мисс Брэйбезон, он, наверно, и правда был высоченный. Не человек, а небоскреб. Выше Кассия с берега. Выше Гарри.
— Ого-го!
Выше господина Де Валеры — она видела его фотографии; стоит на разных трибунах, голова и плечи возвышаются над всеми вокруг.
— Ого-го!
Комок земли ударил в стену возле Нэнси и разбился, осыпав подоконник и ее руки.
— Ой!
— Ты похожа на Рапунцель, когда она склоняется из окна башни, только волосы у тебя коротки.
Внизу на дорожке стоит Гарри.
— Здравствуйте. А по-моему, это очень глупая история, ведь пока у нее отросли бы такие длинные волосы, ей было бы уже сто лет. И ему тоже. Дряхлые старики, им уже не до свиданий.
— Волшебство. Там было волшебство. А теперь, если ты очнулась от своих неведомых грез, пойдем-ка искупаемся. Я не прочь искупаться.
— Он бы стоял у подножья башни и плакал, бедняга, и жалел, что зря потратил свою жизнь, столько ждал, пока у нее отрастут такие волосы… Ох, избави меня боже дожить до глубокой старости!
— Нэнси, проснись. Идешь ты купаться или не идешь?
— Это вы мне?
— Не дури. Пойдем искупаемся.
— А как же Мэйв?
— Она только что от парикмахера. Мы с ней приехали одним поездом.
Нэнси со стуком захлопнула окно.
От парикмахера, скажите на милость! Она сдернула с вешалки на двери полотенце и купальник и сбежала по лестнице.
— Я же знал, что ты пойдешь, — брюзгливо сказал Гарри.
Надо быть поосторожнее, не то он, пожалуй, опять перестанет с ней разговаривать. Нэнси взяла его под руку и свела с веранды.
— Искупаться я всегда готова. Только мы замерзнем. Ветер прямо с моря.
— Деточка, — окликнула из окна тетя Мэри.
Нэнси помахала ей полотенцем.
— Я живо, искупнусь и назад.
— Не опоздай к ужину. Здравствуй, Гарри.
— Здравствуйте, Мэри. Она не опоздает, я обещаю. Мы недолго. Окунемся разок — и все. Один разок.
— Не разгуливай в мокром купальнике, детка. Ветер восточный.
— Ахи, охи, суматохи, — сказала Нэнси. — Делай то, не делай сего. Я же не дура.
— Ты бываешь не слишком рассудительна.
— Вы уже говорили, зрелости не хватает.
— Правильно.
— Ну, так вот что я вам скажу. Я намерена скоро дозреть. Я уже решила. Я думаю… ну… первым делом избавляюсь от своей невинности, это ужасная обуза, и потом вступаю в республиканскую партию. Как вам нравится такой план?
Она искоса глянула на Гарри. Лицо у него сердитое.
— Тебе следует задать хорошую порку.
Он высвободил руку и решительно зашагал впереди нее вниз по косогору.
— Шуток не понимаете? Ни одной?
— Мне неприятны шутки в дурном вкусе. Особенно от такой девчонки. Ты сама не понимаешь, что говоришь.
— А которая в дурном вкусе — про невинность или про республиканскую партию?
— Не знаю, как я еще тебя терплю.
Нэнси бегом догнала его и опять взяла под руку.
— А я знаю. Потому что я вас люблю и в глубине души вы довольны и польщены. Вам приятно видеть огонь восторга, пылающий в моем взоре.
— Чушь!
Он засмеялся и локтем прижал ее руку.
— Ну и язычок у тебя, Нэнси. А мне, вероятно, не хватает чувства юмора. Мне всегда это говорили.
— Правда, будет изумительно, когда все это поло превратится в «прелестные загородные резиденции»?
Гарри не ответил.
— Наверно, сейчас мы шагаем, — Нэнси пошла широким шагом, — по чьей-то бесценной розовой клумбе и топчем новый сорт желто-розовых чайных роз. И в ноги нам впиваются шипы. Или… — она отпустила руку Гарри и кинулась бегом, — …бежим через столовую и насмерть перепугали горничную, которая накрывает стол к ужину и уголком фартучка перетирает стаканы. Ух! Извините! — Она как вкопанная остановилась перед Гарри: — Зажмурьтесь, будьте паинькой, мы застигли мадам в ванной. Нечем прикрыться, кроме губки. — Нэнси перелезла через калитку на дорогу. Гарри остановился и смотрел на нее.
— Да, — сказал он. Отворил калитку, благопристойно прошел и закрыл за собой калитку.
— Мэйв сказала мне, что она тебе сказала.
— Вон там, — Нэнси показала через дорогу, на поле у железнодорожной насыпи, — дома будут не такие первоклассные, ведь кому же понравится, что мимо идут поезда и дымят. В открытые окна будет лететь сажа. Сушить белье после стирки…
— На самом деле это очень хорошая мысль. Это будет хорошо для всех.
— Конечно.
— Для Мэри поистине спасение, дар божий.
— Безусловно.
— Я рад, что ты принимаешь это благоразумно.
— Я изумительно благоразумна. Давно вы про все это знаете?
К немалому ее изумлению, Гарри покраснел.
— Ну… уже некоторое время.
Подошли к тропинке, ведущей под арку моста. Нэнси нагнулась, сняла туфли. Невыносимо, когда в туфли набивается песок, натирает и колет подошвы, въедается между пальцами. Под мостом песок всегда холодный и влажный. Когда дождь, вода просачивается в просветы между шпалами и песок, кажется, вовек не просыхает. Паренек и девушка прислонились к каменной стене арки, стоят и шепчутся. Вдалеке на берегу кто-то кидает палку двум собакам — какая скорее принесет; а больше нигде ни души, все попрятались по домам. Ветер злющий. Изворачиваясь ужом, Нэнси натянула купальник и сняла платье. У Гарри под брюками заранее надеты были купальные трусы. Вот он стоит и ждет ее, красивый, серьезный, вокруг головы солнечный ореол. Нэнси схватила его руку и поцеловала. И побежала к воде.
— Идем! — крикнула на бегу. — Наверно, мы последний раз вместе наслаждаемся купаньем. С завтрашнего дня я намерена вести преступную жизнь. Буду преступно дозревать.
Гарри призвал на помощь все свое чувство юмора и засмеялся.
Бок о бок они вбежали в воду, начинался отлив.
Безоблачный день.
В десять часов, как ей было сказано, Нэнси спустилась к железнодорожному мосту. И смотрела, как он быстро, уверенно шагает по шпалам. Широким шагом, не на каждую шпалу ступает, а через одну. Подошел ближе, и видно — на нем твидовый костюм и коричневая шляпа, шляпу он снял и машет Нэнси. Поглядеть на него — ни дать ни взять джентльмен, сельский житель, вышел прогуляться, только собака по пятам не бежит. В руке плоский чемоданчик.
— Доброе утро.
И он опять надел шляпу.
Как будто мы гуляем по Графтон-стрит, подумала Нэнси.
Ниже, на берегу, противные детишки Фентонов кидались друг в друга песком, а их бабушка сидела на коричневом пледе и читала книгу. Он вынул из кармана конверт и протянул Нэнси. Она взяла и, не глядя, сунула в карман. Показалось, так будет правильно. И вот они стоят и смотрят друг на друга. Странно видеть его прилично одетым.
Галстук на нем, похоже, от военной формы. Любопытно, где он всю неделю хранил этот костюм, все на нем такое чистенькое, отглаженное.
— Надо думать, вы знаете кафе Бьюли на Графтон-стрит?
— Восточное кафе Бьюли, — как дурочка повторила она. — Знаю.
Пройдете через магазин в глубину, в кафе.
Нэнси кивнула.
— Сядете за первый столик справа у двери и передадите этот конверт молодому человеку, он будет уже там. Он вас угостит чашкой кофе или, если угодно, чая.
Нэнси чуть не спросила, а как быть, если никакого молодого человека она там не застанет или за тем столиком будет полно народу, но передумала — уж наверно об этом загодя позаботились.
— Все понятно?
— Первый столик справа. Молодой человек.
— Я вам очень благодарен.
Он опять снял шляпу и слегка поклонился.
— Если вы не против, погуляйте несколько минут по берегу. Это было бы разумно.
Оскальзываясь на камнях, Нэнси спустилась на пляж и стояла, глядя ему вслед, а он широким шагом направился к станции. Как только он скрылся из виду, она достала из кармана конверт, оглядела. Никакой надписи. В некотором роде разочарование.
Когда она вернулась домой, тетя Мэри и дед сидели за утренним кофе.
— Я тебя видел, — сказал старик, едва она вошла.
Сердце Нэнси дрогнуло.
— Да, деточка. Он говорит, ты стояла на рельсах и с кем-то разговаривала.
— Я только поздоровалась. И все. Там проходил один человек.
— Я видел, ты разговаривала с каким-то мужчиной, — сказал дед.
— Я только поздоровалась. Он… э-э… мне поклонился.
— Надо быть осторожнее, не следует разговаривать с первым встречным, — сказала тетя Мэри.
— Он мне кого-то напомнил, — сказал дед.
Нэнси почувствовала, что краснеет.
— Глупости. Это был просто старый бродяга. Никого он не мог напомнить.
И поднялась к себе одеться поприличнее.
За первым столиком справа сидел молодой человек и читал книгу. Поднимался парок над чашкой кофе. Книга лежала на столе рядом с чашкой. Он опирался лбом на руку. Нэнси отодвинула стул напротив и села. Он продолжал читать. Может быть, я чего-то не поняла, подумала Нэнси. Осторожно огляделась. Вокруг люди крохотными серебряными вилками ели пирожные с кремом.
— Привет, — сказала Нэнси.
Он поднял на нее глаза. Улыбнулся, из-под верхней губы высунулись два крупных передних зуба, и он стал похож на дружелюбного кролика.
— Привет.
Он закрыл книгу, беспокойно придвинул ее к себе, словно испугался, как бы Нэнси ее не стащила. Каштановые волосы его буйно вились, он примаслил их, пытаясь укротить, но безуспешно.
— Выпьете чашечку кофе?
— Спасибо.
— Или, может, хотите чаю?
— Нет, кофе. Он тут всегда такой ароматный. Просто прелесть…
Молодой человек коротко кивнул и щелкнул пальцами, подзывая официантку.
— Мисс?
Нэнси открыла сумочку, пошарила в ней. Конверт на месте. Все в порядке. Нэнси взяла его кончиками пальцев, не вынимая из сумки.
Подошла официантка.
— Что угодно, сэр?
— Пожалуйста, два кофе. А может быть, вы хотите пирожное?
Нэнси покачала головой.
Официантка отошла, на ходу записывая заказ в книжечку.
Молодой человек провел пальцем изнутри по тугому воротничку. Воротничок докрасна натер ему шею. Нэнси вынула письмо из сумочки и подтолкнула к нему через стол. Он торопливо взял письмо и, не глядя, сунул во внутренний карман пиджака на груди. Лицо у него стало поспокойнее.
— Спасибо.
Нэнси чуть кивнула и подумала, что же, они так больше ничего друг другу и не скажут? Пятнадцать минут сидеть друг против друга, молча пить кофе и прикидываться, будто другой вовсе и не существует — весело, нечего сказать.
— Как вас зовут?
— Нэнси Гулливер.
Опять выступили вперед большие верхние зубы.
— Первый раз встречаю человека по фамилии Гулливер. Здорово. Век живи, век учись. Моя мама говорит, каждый день надо научиться чему-нибудь новому. — Он через стол протянул руку. — А я Джо Малхейр. Будем знакомы?
Нэнси пожала ему руку, на миг задержала его пальцы. Оказалось, он тоже грызет ногти.
— Вы еще в школе?
Она покраснела, потом нахмурилась.
— Нет, ясно, уже кончили, — поспешно ответил он сам себе. — Просто вы молодо выглядите… ну, довольно молодо. Скажем так. — Он наклонился к Нэнси, расплылся в улыбке. — Помиримся на том, что довольно молодо.
— Мне восемнадцать, — сурово сказала Нэнси. — Правда, только-только исполнилось. Это ужасно, когда молодо выглядишь. Никто тебя не принимает всерьез.
Официантка принесла две чашки кофе, поставила на стол. Перед Джо теперь стояли сразу две чашки исходящего паром кофе.
— Спасибо, — в один голос сказали оба и тут же рассмеялись.
— Когда сбудется, — сказала Нэнси. — Можно загадать желание. Мы оба можем загадать, только нельзя говорить вслух…
Он опять протянул руку, Нэнси взяла ее, и они оба молча загадали каждый свое желание.
Нэнси пожелала того же, что и все последние годы — чтобы Гарри в один прекрасный день ее полюбил, и сейчас же впервые пожалела: такой был отличный случай, пожелала бы что другое, а это все равно дело гиблое. Интересно, а какое желание загадал Джо Малхейр?
— Вам сколько лет?
— Тоже восемнадцать.
— Ну, знаете!..
— Скоро уже девятнадцать. Но моя жизнь была полна событий. Вот откуда во взоре моем свет мудрости.
Нэнси расхохоталась. Он повертел книжку, лежащую на столе, потом взял и сунул в карман.
— Что это вы читаете?
Он как будто немного смутился.
— «Гамлета».
— «Гамлета»?
— Вы его на сцене видели?
Нэнси покачала головой:
— Нет. Мы его читали в школе. Знаете, распределили в классе роли, я была Клавдий. Мне всегда приходилось читать за всяких негодяев. Наверно, я мерзкая личность. «Стой, выпьем. За твое здоровье, Гамлет. Жемчужина твоя. Вот твой бокал»[58].
Она подняла чашку, словно это был тост в честь Джо Малхейра.
— Дорого бы я дал, чтобы посмотреть это в театре. Замечательная вещь.
— А вы что делаете? Ну… какая у вас работа?
— Видите ли, пока что я всецело занят тем, что читаю «Гамлета» и сражаюсь за свободу.
— Не говорите глупости…
— То есть как это глупости! Разве этого мало для кого угодно? Спорим, вы делаете меньше.
— Н-ну… да… но…
— Что «но»?
— Ничего… Я хочу сказать, чем же вы зарабатываете на жизнь?
— А я не зарабатываю. Кормлюсь благотворительностью. Подумывал пойти кондуктором на железную дорогу, но мне не улыбается весь век пробивать щипцами дырки в билетах.
— Я думала, все мальчишки хотят быть машинистами.
Джо кинул два куска сахара в свою вторую чашку и поглядел на взбаламученный кофе.
— Угу, — сказал он. — Многие и сейчас не прочь бы. Но меня это больше не привлекает.
Он пригубил кофе.
— Мой отец умер в тюрьме.
— Какой ужас! Извините.
— Нечего извиняться. Он был хороший человек. По вашему лицу видно, вы понятия не имеете, что иногда хорошие люди кончают тюрьмой.
— Я…
— Сам не знаю, почему я вам про это говорю.
Оба отпили по глотку кофе.
— Он был профсоюзный деятель. Родом из Белфаста. Чудной город. Оттуда вышло много профсоюзников. Во время локаута его посадили в тюрьму и… и вот… он умер. Он всегда был слаб здоровьем. Я думал… вот вы меня спросили… когда вообще стал думать… попробую заняться чем-нибудь таким, чего хотел бы для меня отец. Не просто пробивать дырки в билетах. Ну и вот… понимаете?
— Ну-у…
— Нет, — хмуро сказал Джо. — Уж наверно не понимаете.
Он больше прежнего стал похож на кролика. Нэнси вдруг очень захотелось до него дотронуться. Погладить по руке. Тогда она взяла ложечку и стала помешивать кофе.
— Да и на что это вам.
— Я очень хочу понять. Правда.
— Знаете, когда люди хотят получить свои права, а им не дают, так уж надо бороться. Я думаю, отец бы это понял.
— А если борешься и все равно ничего не добьешься?
— Надо бороться дальше. Всегда остается кто-нибудь, кто станет продолжать.
— О господи. Да. Наверно, так. Пожалуй, вам бы лучше жилось, если бы вы пробивали дырки в билетах.
Он усмехнулся.
— Вот и мать мне то же самое говорит. Послушайте, вы не серчайте. Уж не знаю, что на меня нашло. Вообще-то я не привык ныть да жаловаться.
— Должно быть, это оттого, что вы начитались «Гамлета».
— Может, и так. А вы-то как впутались в эти дела? Такие, как вы, ручки марать не любят.
— Просто я оказываю любезность другу… нет, вернее, знакомому… пожалуй, так правильнее.
— Да. Знакомому. Он не позволяет себе заводить друзей.
— А вы его знаете?
— Нет. Я-то не знаю. Я тоже просто передаю поручения. Говорят, он англичанин.
— Нет, едва ли. Не думаю.
— Во всяком случае, не из наших. Не простой человек.
— Все люди просто люди.
— Ну, нет. Неправда. Сами знаете, что неправда. Некоторые почти на всех людей смотрят как на скотину. Это, мол, просто скоты, ничего не думают и не чувствуют. Пользуйся ими как скотом, а от кого пользы больше нет, тех на свалку. Больных, старых. У нас в стране полно народу, с кем обращаются куда хуже, чем с собаками. Так мой отец говорил. Его самого я плохо помню, а что он говорил — много запомнил. И помню, как пришли и сказали нам, что он помер. Мать давай плакать… и ругаться.
— Ругала тех, кто его посадил в тюрьму?
— Нет. Его. Она деревенская и уж бранилась почем зря. Стоит посреди комнаты и орет такое — слушать страшно. Проклинает его, вроде как он изменщик, бросил ее. Страх было слушать. Даже соседи расстроились.
— Как странно — ругаться, что человек умер!
— Она всегда считала, зря, мол, он суется, куда не надо. Сидел бы тихо. Своих забот хватает, нечего за весь свет хлопотать. Повезло тебе, есть у тебя работа — и слава богу, и держись за нее. И нечего наживать себе врагов. Я никак понять не мог, чего они вечно ругаются.
— Может быть, если бы ваш отец ее слушал, он и сейчас был бы жив.
— Может быть, да только такого, какой он был, я его больше люблю.
— Мертвого.
— Пускай даже мертвого. Наверно, мертвому ему лучше. — Джо засмеялся. — Вербует небесное воинство в профсоюзы. Так прямо и вижу его за этим делом!
— Лучшие условия труда для херувимов и серафимов.
— Сократить рабочий день архангелов.
Джо Малхейр посмотрел на нее, чуть помолчал.
— Вы мне нравитесь. Что-то в вас есть такое. Вы не из наших, но…
— Я…
— Нет, не из наших. Но можете быть за нас. Это главное. Допивайте кофе и прокатимся на трамвае.
Он опять щелкнул пальцами, подзывая официантку.
— Или, может, вы не любите трамваев? Может, у вас есть другие дела?
Нэнси покачала головой.
— Обожаю трамваи. Только мне надо поспеть на поезд без четверти шесть.
— Счет, мисс.
Он доедал ложечкой сахар со дна одной из своих чашек.
— Поедем трамваем в Долки, а там вы перехватите свой поезд. Сядем на верхотуре, и пускай у вас волосы летят по ветру. Это здорово — встретить девушку с длинными волосами. Все теперь так коротко стригутся. Моя мать говорит, волосы — венец девичьей красы. Сестра обкорнала волосы до ушей, так она когда явилась домой, маму чуть удар не хватил.
— И она ругала вашу сестру?
Он засмеялся.
— Ругань она приберегает для больших бед. А если ругаться слишком часто, брань вроде как теряет силу.
Он взял у официантки счет и подмигнул ей.
— Go raibh maith agat.
Та осуждающе опустила глаза.
— Нечего тут гадости говорить.
И оскорбленно удалилась.
Он посмотрел на Нэнси и засмеялся.
— Эта девица во всем подозревает дурное. А я только сказал ей спасибо.
— Она заподозрила дурное, потому что вы так поглядели.
Нэнси взяла со стола сумочку и сверток с книгами для тети Мэри.
Выходя из кафе, Джо надел кепку. Любопытно, может, у него там проделаны дырочки для ушей, кроличьи уши, наверно, пробиваются вверх сквозь эту косматую гриву. Джо не заботился о том, чтобы спутница все время шла по внутренней стороне тротуара, не то что Гарри, — тот всегда, словно бы загораживая собою, передвигал ее подальше от мостовой. Две босоногие девчушки протянули к ней руки.
— Леди…
Нэнси замешкалась, припоминая, есть ли мелочь в кошельке, но Малхейр потянул ее за локоть.
— Идем.
— Леди…
Одна малышка, заметив, что Нэнси колеблется, побежала было следом.
— Леди…
— В чем смысл? — спросил Джо.
Он крепко держал Нэнси под руку. И шагал очень быстро, втянув голову в плечи, — может быть, чтобы не так натирал шею жесткий воротничок.
— Придет время, и нищих больше не будет.
— Но пока…
— Несколько ваших медяков ничему не помогут.
Верзила-полицейский взмахом рук в белых перчатках дал знак перейти через улицу. Толпа пешеходов хлынула с тротуара, какой-то молодой автомобилист нетерпеливо засигналил. Две рослые лошади, впряженные в тяжелую подводу, переступали на месте, упряжь позвякивала при каждом их движении. У возницы накинут был на голову пустой мешок и свисал по спине. Сквозь толпу, не обращая внимания на полицейского, пробирался грузовик, битком набитый солдатами. Из-за угла, со стороны Колледж Грин, вывернулся трамвай.
— Бежим, — сказал Джо.
Они побежали по узкому тротуару, он потянул Нэнси за руку и втащил на площадку.
— Нэнси!
От неожиданности, что ее окликнули, Нэнси чуть не выронила библиотечные книги. Оглянулась. В проводах над головой затрещало, трамвай качнулся, пошел. А на тротуаре стоял Гарри.
— Нэнси…
Он сиял шляпу.
— А, здравствуйте. — Она постаралась улыбнуться ему как можно непринужденнее.
— Что вы здесь…
— Наверх, наверх! — Малхейр подтолкнул ее к лесенке. Вагон качало из стороны в сторону. Гарри стоял со шляпой в руке и смотрел вслед. Они поднялись по лесенке и, спотыкаясь от качки, пробрались вперед. Трамвай свернул за угол, на Нассау-стрит, с проводов над головой с треском сыпались искры.
— Вот не повезло!
Нэнси опустилась на место, Джо уселся рядом.
— Тот малый?
— Он приставучий. Пойдет ахать и охать, задавать дурацкие вопросы. Кто вы такой? Куда мы ехали? Почему то, почему се? И наверно, расскажет тете Мэри.
С верхотуры они увидели — в Колледж-парке играют в крикет. Бежит кто-то в белом с битой наотмашь. В густой листве деревьев кое-где уже проглядывает желтизна.
— Что же вы скажете?
— Что-нибудь придумаю. — Нэнси улыбнулась. — Я навострилась сочинять. Поневоле навостришься. Живу как под стеклянным колпаком. За каждым шагом смотрят.
— Для молодой девицы вроде вас, не очень-то здравомыслящей, это не вредно.
Они улыбнулись друг другу.
Поездка длилась почти час. Лица раскраснелись на ветру, и ветром чуть не унесло кепку Джо, но он почувствовал, что ее срывает с головы, и успел подхватить.
В Кингстауне десятиминутная остановка. Слева за дорогой в гавани мягко покачиваются на воде яхты. Двое солдат поднялись в вагон и прошли между скамьями, мельком оглядывая пассажиров. Нэнси старалась не думать про конверт в кармане Джо. Никто не смотрел на этих двоих с револьверами наготове. Никто слова не промолвил, пока они не вышли из вагона.
— Надеюсь, я не заставила вас полдня потерять зря? — спросила Нэнси.
— Вот уж не сказал бы, что потерял время зря, — улыбнулся Джо.
Вагоновожатый спустился со своей площадки и стал дергать веревку, привязанную к дуге. Опять посыпались искры.
— Удивительно, правда, — сказала Нэнси. — Эти искры носят нас по рельсам. Вы бы не хотели водить трамвай?
— Нет. Лучше поезд. А так скука смертная — все время одни и те же улицы, и толпы народу, и каждую минуту остановка, входят, выходят. То ли дело скорый поезд. Мчишься мимо деревень, пугаешь коров.
— Вот и видно, что деревню вы не знаете, коровы поезда ни капельки не пугаются. Даже и внимания не обращают.
— Ну, просто — мчаться через поля и леса, свистеть напропалую, и пускай все на свете остается позади.
Трамвай, отдохнув, снова пустился враскачку по узкой улице.
— Наверно, мы больше никогда не увидимся, — вдруг вполголоса сказал Джо.
— Почем знать.
Он снял кепку и с минуту разглядывал подкладку, будто на ней написаны слова, которые хочется сказать.
— Вот и это худо в нашей жизни. Людей так и швыряет. То туда, то сюда, невесть куда. Очень бы я хотел еще с вами повидаться. — Он опять надел кепку и посмотрел на Нэнси. — Я не про завтрашний день. Не теперь, а после, когда…
— Когда что?
— Когда мы будем знать больше. Когда… — Он повел руками.
— Да. Я бы тоже хотела.
— Правда?
— Правда.
Он улыбнулся.
— Тогда так оно и будет, непременно. Не забудьте.
Он опять снял кепку и вдруг отбросил ее прочь. Она упала наземь и отлетела в канаву, чудом не попав под колеса какого-то велосипедиста.
— Я ее терпеть не мог, — сказал Джо. — Просто ненавидел. — Он взял руку Нэнси и задержал в своей.
— Что-то скажет ваша мама? — сквозь смех проговорила Нэнси.
— Наверняка стукнет меня кулаком, а потом пойдет и купит другую. Она думает, если я стану ходить с непокрытой головой, так непременно помру от простуды либо от чахотки.
— Видно, она похожа на мою тетю Мэри. И наверно, с вами никакого сладу.
— Ага, пожалуй, что и так. Ей тошно думать — вдруг я кончу, как отец. Но она хорошая.
— А я и не сомневалась.
— Стало быть, если когда-нибудь я заявлюсь к вам и скажу — привет, Нэнси, — вы меня вспомните, а?
— Тот самый, как бишь его, который выкинул из трамвая свою кепку. А как его зовут?
— Неважно. Вы просто меня не забывайте.
— Нет. Не забуду. — Нэнси указательным пальцем перекрестила себе сердце. — Слово верное, клянусь, коль вру, сквозь землю провалюсь.
— И вы тоже так говорите? — удивился Джо.
— Все так говорят, — убежденно заявила Нэнси.
— Я часто думал, хорошо бы поступить в колледж. Получить какое-никакое образование. Выучусь разным умным словам, стану потом людям пыль в глаза пускать.
— Для этого довольно купить словарь.
— Знаете что… Нэнси… — Он стиснул ее пальцы. — Я бы хотел сочинять книжки… вот чего мне по-настоящему хочется… только боязно, вдруг окажусь дурак дураком.
— Мне тоже хочется писать книги… только я боюсь, вдруг будет не о чем.
— Первый раз вижу человека, кто хочет писать.
— И я. Таких людей, кто может стать писателем, на каждом углу не встретишь. Да еще в моих краях.
Они изумленно смотрели друг на друга.
— У меня есть тетрадка, я в нее записываю разное. Дневник. То есть не совсем. Записываю, чтобы не забыть. Все так легко забывается.
— А про меня запишете?
Нэнси покраснела.
— Ну, я записываю больше мысли, а не случаи. И мне уже немножко надоело.
— Вы только запишите мое имя. Мне приятно будет, что я попал в вашу книжку.
Нэнси улыбнулась.
— Помню, лет в десять я думала про одного мальчика, что он замечательный, и писала его имя на кусочках бумаги, сто раз писала, а потом рвала и кидала в огонь. Вы когда-нибудь делали такие глупости?
— А как его звали?
Она призадумалась.
— Представляете, не помню, честное слово. Я только раз его видела, в гостях у подружки. — Она расхохоталась. — Вот глупо, а? И ведь я правда думала, что он самый необыкновенный мальчик на свете. Сколько месяцев про него думала. Прекрасные были мечты.
— Нет, вы только запишите мое имя и уж не кидайте этот листок в огонь.
— Мы почти приехали, — перебила Нэнси.
— Да.
Они надолго замолчали. Джо рассеянно смотрел на пробегающие мимо дома и все сжимал и сжимал ее пальцы.
— А как ваша мама относится к тому, что вы… ну… понимаете… замешаны…
Он явно поразился:
— Господи, да неужели я ей такое скажу! Ее хватил бы удар! — Он усмехнулся. — Я ей тогда скажу, когда все кончится. Когда мы победим. У меня брат в армии. Всю войну воевал. Теперь он сержант. Месяца два назад приезжал домой, в отпуск, и все уговаривал меня тоже пойти в британскую армию. Мне, мол, такая жизнь придется по вкусу. Сам-то он парень неплохой.
— А вы что ему сказали?
— Я сказал, нипочем не пойду на жалованье к английскому королю, а мать говорит, лучше солдатское жалованье, чем никакого. Вот вам братец Диклен. Мою сестру зовут Мэдж, она служит в магазине Клири. Я младший. Непутевый.
— Теперь я все знаю.
— Да. Теперь вы знаете.
Трамвай остановился, кондуктор зазвонил в колокол, давая всем знак выходить.
— Долки, — закричал он. — Долки! — Соскочил наземь и стал перетягивать дугу на другой конец вагона.
Нэнси и Джо были единственными пассажирами, кто еще оставался на верхотуре. Они спустились по лесенке. Вожатый стоял на площадке и читал газету.
— Как пройти на станцию знаете? — спросил Джо, когда они вышли на дорогу.
Нэнси кивнула.
— Я поеду обратно этим же трамваем, так что… если вы не в обиде.
— Конечно, не в обиде. Было очень… Я очень довольна.
Джо взял ее за руку чуть выше локтя. Он вполне мог обхватить пальцами всю руку, точно браслетом. Притянул Нэнси к себе совсем близко.
— Вы его увидите?
Она кивнула.
— Так скажите ему… не сегодня, сегодня не ходите…
— Что сказать?
— Что Брой говорит, ему надо сниматься с места. Он думает, так лучше.
— Бр…
Он стиснул ее руку, не давая договорить имя.
— Ой!
— Только это и скажите.
Отпустил ее, шагнул к трамваю. Обернулся, посмотрел на Нэнси. Она потирала руку.
— Больно?
— Ничего.
— Нэнси — славное имя. Мы еще увидимся, Нэнси. Берегите себя.
— И вы.
— Постараюсь. Не забудьте, я еще объявлюсь.
— Как снег на голову.
— Угу. Так как меня зовут?
— Джо Малхейр.
— Скажите еще раз.
— Джо Малхейр.
— Мы еще увидимся, Нэнси.
Он поднялся на площадку. Они стояли и смотрели друг на друга; какая досада, что ей нечего дать ему на память. Она подняла руку в прощальном приветствии.
— Au revoir[59].
— Нэнси, — только и сказал он и взбежал по лесенке на верхотуру.
В поезде оказался Гарри. Она была к этому готова и осторожно высматривала его с перрона, пока вагоны катились мимо, замедляя ход. Со стуком распахнулись двери, пар прозрачными пальцами цеплялся за ноги выходящих пассажиров. Вот он, Гарри, в вагоне первого класса, сидит в углу, чуть наклонив непокрытую голову над аккуратно сложенным номером «Айриш таймс». Котелок торжественно покоится на колене. Нэнси поскорей вскочила в соседний вагон третьего класса — повезло, он ее не видал! Когда приехали, она переждала, пока он вышел, уже, как полагается, в котелке, и зашагал прочь, и тогда лишь соскочила на платформу. Вот он начал подниматься по крутой лестнице железнодорожного моста, перекинутого над рельсами. Длинные ноги так и мелькают, раз-раз, со ступеньки на ступеньку. Позади него, пыхтя, поднимается с плетеной корзинкой через руку миссис Брэдли из здешней гостиницы. Машинист выпустил большущий клуб паровозного пара, тот поднялся и угодил как раз в середину моста. Гарри скрылся в белом облаке. Захлопали двери. Проводник пошел по платформе, проверял ручки — все ли закрыты. Кондуктор свистнул в свисток. Махнул зеленый флаг; толчок, неизменный лязг, поезд тронулся. Нэнси взбежала по ступенькам на мост. Он дрожал под ногами. Вагоны уже мерно бежали прочь. Дым отплывал назад, к станции, и вверх, в вечернее небо. Гарри ждал у выхода на дорогу.
— Нэнси.
— А, здрасте.
Она вызывающе помахала сумкой с библиотечными книгами.
— Что это ты сегодня вытворяла?
Солнце косыми лучами грело им лица. С моря дул прохладный ветерок. Нэнси смотрела, как поезд, все набирая скорость, уходит по изгибу насыпи к косе. Окна блестят на солнце.
— Ничего я не вытворяла.
— А кто тот малый, с кем ты была?
Нэнси не ответила.
— С виду какой-то жалкий замухрышка.
Нэнси только сумкой махнула.
— Нэнси?
— Да просто я с ним столкнулась в библиотеке. Он менял книги для матери. Получилось, что нам по дороге. Бывают же такие совпадения.
— По его виду не похоже, что его мамаша берет книги из библиотеки. Судя по его виду, его мамаша едва ли умеет читать. Куда вы ездили трамваем?
— Я люблю ездить трамваем, — сказала Нэнси чистую правду.
— Это не ответ на мой вопрос.
Теперь она промолчала. Поезд уже почти достиг косы. К ним летели, ширясь и расплываясь, облака дыма.
— В сущности, это не ваше дело, — сказала наконец Нэнси.
— Пожалуй, мне следует поговорить с Мэри.
— Вот это, я вижу, ваше дело. Мешать мне жить. Устроили бы потолковее свою жизнь, чем соваться в мою. Чух-чух утренним поездом в город, чух-чух вечерним из города, а посередке продаете паршивые акции да облигации или чем вы там еще занимаетесь. Ну что вам от этого толку?
— У меня классная служба. Из самых лучших. Ты не понимаешь, как мне повезло, что я получил место в нашей фирме. Я хочу сказать, после войны сотни таких, как я, не могли найти работу. Да еще многие до того проучились год-другой в университете, а у меня и такого преимущества не было. Прямо со школьной скамьи угодил в армию. Не будь мои отец знаком с Питером Джорданом, может, я по сей день искал бы работу.
— Ничего, мистер Кейси, уж конечно, найдет вам подходящее местечко, что-нибудь по застройке земельных участков.
— Ну и сучка же ты, Нэнси.
— О-о!
— Извини. Я не то хотел сказать.
— Наверняка то самое и, наверно, вы правы.
Она нагнулась, сняла нарядные туфли и кинула в сумку с книгами.
— Хватит, больше не могу. Не туфли, а орудие пытки.
Вздернула юбку, отстегнула и сняла чулки. Лицо у Гарри стало свирепое. Сперва он следил за ее движениями, потом перевел глаза на высокую живую изгородь по правой стороне дороги. Нэнси скатала чулки и сунула в карман.
— Так-то лучше.
— Я хочу жить прилично. Вот и все. Прилично, нормально жить. Ты понятия не имеешь, что за штука жизнь.
— Надежды, стремления и всякое такое.
— Тебе, видно, только и хочется неприятностей. А если их нет, ты их сама устраиваешь. Вот повзрослеешь, тогда поймешь, что я имею в виду. Разберешься. Тогда поуспокоишься.
Нэнси вздохнула.
— Но мы отвлеклись. Так кто же был тот замухрышка?
— Я уже вам сказала, никакой он не замухрышка.
Нэнси отвернулась и медленно пошла по дороге. Земля под босыми ступнями была еще теплая, шершавая.
— Почему вы не снимете свой дурацкий котелок?
Гарри пошел следом, на ходу сердито похлопывая по ноге свернутой газетой.
— У него мать больная, прикована к постели… это временно… понимаете. Ему приходится… — Нэнси обернулась, невинными голубыми глазами не мигая уставилась на Гарри. И храбро пошла дальше, пятясь задом, — …носить ей книги. Тоскливо же все время лежать в постели, когда и читать нечего. Они живут в Монкстауне, у самой башни, окна выходят на море. Он оставляет мать у окна, и она лежит и смотрит на море. Он уходит, а она ему говорит — не задерживайся, милый. Возвращайся скорей. Мы поехали вместе трамваем. Я поехала дальше, в Долки, а там села в поезд. В трамвае он за меня заплатил. Правда, мило с его стороны? Да, и он взял для нее «Гамлета».
— «Гамлета»?
— Ага, и еще разное… м-м… «Большие надежды»…
— Хорошо. Хорошо. Довольно идти задом наперед, кончится тем, что ты упадешь.
Дошли до ворот. Нэнси остановилась.
— У нее только что вырезали аппендикс.
— Этот малый тебе явно не компания. Надеюсь…
— Нет-нет, мы не назначили друг другу свидание, ничего такого. Просто попрощались. — Она хихикнула. — Я еще сказала спасибо, что заплатили за мой билет. Ну, вот и пришли.
— Да.
Нэнси шагнула к нему.
— Вот я все и рассказала, ведь ничего плохого в этом нет?
— Полагаю, что нет.
Нэнси улыбнулась ему. Хотелось коснуться его лица, кончиками пальцев ощутить гладкую теплую щеку, но она не смела. Только все отчаянней улыбалась. Наконец он улыбнулся в ответ.
— Зайдете, выпьете чего-нибудь? Не то тетя Мэри разозлится.
— До чего ты несносная.
Нэнси взяла его под руку, и они молча пошли к дому.
Тетя Мэри ждала их, опершись на перила веранды.
— Ты пропадала целую вечность. Я уж думала, ты опоздала на поезд.
— Мы очень мило ссорились, — сказала Нэнси.
— Бедный Гарри! Ему необходимо выпить. Сними этот дурацкий котелок, Гарри, милый.
Гарри высвободил руку из-под руки Нэнси и снял котелок. Лицо у него стало до крайности растерянное.
— Помимо всего прочего, — продолжала тетя Мэри, — к сорока годам ты совсем облысеешь. До чего нелепая у мужчин привычка.
Гарри и Нэнси поднялись к ней на веранду.
— У тебя такая прекрасная грива, лучше всякого головного убора. Надеюсь, деточка, по Дублину ты не разгуливала босиком.
— Я больше ни минуты не могла вытерпеть в этих туфлях. Сняла их на дороге. Сейчас пойду переоденусь. Я мигом.
Нэнси вошла в дом и побежала наверх.
— Мэри, — послышался голос старика. — Мэри, Мэри, Мэри.
Нэнси тщательно прикрыла за собой дверь спальни. С веранды доносился голос тети Мэри — такая стремительная скороговорка, будто надо высказать уйму всего, а времени в обрез. Засмеялся Гарри. Ну, это хорошо. Нэнси достала из ящика тетрадь, открыла чистую страницу. Джо Малхейр, написала она. Точка. Джо Малхейр. Джо Малхейр. ДЖО МАЛХЕЙР. Джо. джо. джо. Джо Малхейр.
Следующее утро Нэнси провела, собирая овощи и ягоды для Брайди. За последними логановыми ягодами, чьи кусты росли вдоль высокой серой стены, огораживающей сад, приходилось тянуться на цыпочках. Крохотные колючки царапали руки, пальцы стали лиловыми от сока. Потом Нэнси уселась на табурет во дворе, возле кухни, и принялась лущить горох в белую фаянсовую миску. На проводах над головой охорашивались ласточки, порой срывались с места и стремглав проносились в разбитые окна надворных построек. Посреди двора растянулся рыжий кот, смотрел настороженно, выжидающе. Хоть бы он не разогорчился из-за переезда. Странные создания кошки; вдруг он станет опять и опять сюда возвращаться из Ларэ, находя дорогу через холмы, или, может быть, зачахнет и помрет с тоски по излюбленным местам, по своим ласточкам, по своим мышам, по своим врагам, с кем сражался ночами. Если с ним что-нибудь стрясется, Брайди очень расстроится. Ей будет не хватать его общества в кухне, долгих бесед, которыми они оба явно наслаждаются, обмениваясь словами и мяуканьем. Неужели и тетя Мэри тоже зачахнет, ведь у нее, как у этого рыжего кота, корни слишком старые, вдруг не примутся на новой почве? Я навсегда сохраню самую прекрасную, самую нежную память об этом доме, даже об этой простой минуте — гудят пчелы, из кухонной двери тянет запахом свежевыпеченного хлеба, на булыжнике двора лежат тени, из какого-то окна наверху Брайди шумно отряхивает метелку от пыли. Где-то внутри у меня есть и мягкость, и покой, с ними можно пуститься в ту настоящую жизнь, которая ждет впереди. Вот почему у меня всегда будет запас прочности. А может, это просто радужные надежды. Теперь все-все переменится, но для меня источником силы будет то, что дала мне жизнь здесь, как для Джо Малхейра источник силы — образ его отца.
— Налущила ты наконец горох?
На пороге кухни с шумом и треском возникла Брайди. Кот дернул хвостом — в некотором роде приветствие.
— Почти кончила.
— Так поторапливайся. Она хочет пообедать вовремя. Нынче у Нее гольф.
Брайди наклонилась, взяла из корзинки пригоршню стручков, провела по ребру одного ногтем, высыпала горошины в миску.
— Нынешним летом хорош уродился горох. А прошлый год он был жесткий-прежесткий. Не поймешь, отчего так бывает.
Нэнси раскусила сочную, сладкую горошину.
— Брайди, а тебе жалко будет отсюда уезжать?
Плик, плик, плик, плик — быстро сыплются в миску горошины из-под коротких, плоских пальцев Брайди.
— Мне все едино, где ни жить. С чего мне жалеть?
— Может, ты станешь скучать по своим приятельницам, мало ли.
— Может, и жалела бы, если б меня понесло в Америку или хоть в Англию. А тут же не за море, просто чуток подальше. У меня во всяком месте работы по горло. Это вот молодые вроде тебя сидят да мечтают, за полчаса три горошинки налущат, а из-за таких пустяков трепыхаются.
— Я не трепыхаюсь.
Плик, плик, плик.
— Ну, вот и хорошо. У тебя вся жизнь впереди, а бог милостив.
Плик.
— Ты знала моего отца, Брайди?
Короткое молчание.
— Знала.
Плик, плик, плик.
— А можно сказать и не знала.
Кот сел и начал чесать лапой за ухом.
— Душенька. Попрыгунчик. Ты про это хотела узнать?
— Вроде этого.
Плик, плик.
— Вот тебе и ответ.
— Маловато.
— Непоседа, перекати-поле. Таким уродился. Ненадежный человек, я бы сказала, да меня тогда не спросили.
— Мя-ау!
— Обедать хочет. Он приехал из заграницы.
— Иностранец? — изумилась Нэнси.
— Ничего подобного. Родом откуда-то с запада, из Клэра, что ли, а сюда приехал из заграницы. Выдумщик был, не приведи бог, и опять укатил в заграницу. После свадьбы. И уж не воротился. Вроде, Она говорила, где-то там его убили. Не знаю… — Брайди нахмурилась, припоминая. — Индия. Так, что ли? Вроде в Индии дело было.
Плик, плик, плик.
— Индия.
— Вот чудеса! — Нэнси представился отец, распростертый в лунном свете подле Тадж-Махала.
— Он был из этих, которые путешествуют. Такие не женятся, не та порода.
— А тогда почему же он женился?
Брайди вздохнула:
— Хотел с ней по-честному. Что-что, а человек он был порядочный. Может, не умри она, он бы и воротился когда-нибудь, коли самого бог бы не прибрал. Может, так, а может, и нет.
Нэнси пыталась освоиться с услышанным. Кот поднялся во весь рост, повертелся, попрыгал.
— Так ты говоришь, я… — Нэнси помедлила: как бы это так сказать, чтобы не расстроить Брайди?
— Я всегда Ей толковала, рано ли, поздно ли ты спросишь, и не к чему врать, и что тут такого.
Миска была уже полна. Брайди нагнулась, подобрала с земли шелуху в свой большущий белый фартук.
— Надо думать, они любили друг друга, — сказала наконец Нэнси.
— Надо думать. На что бы им все это сдалось, коли бы не любили? Снеси миску на кухню, у меня еще не все к обеду готово. По-твоему, мне только и дела, что разговоры разговаривать.
Одной рукой она придерживала на животе фартук с шелухой, другую положила Нэнси на плечо.
— Что тут такого? — повторила она. — Ты молодая, и воспитывали тебя, как полагается. Мы тебя все любим.
Нэнси кивнула. Рука Брайди давила плечо. Всей тяжестью лет, полных любви и людей, привыкших понимать друг друга и идти на уступки.
— Бог милостив, — вздохом слетело с губ Брайди, словно в ней впервые шевельнулись сомнения.
И она пошла в темную глубину дома.
— Ты к Ней с этим не приставай, — окликнула на ходу, голос опять звучал твердо. — У Ней без того забот по горло, и неси-ка сюда горох.
Когда Нэнси подошла к хижине, он лежал на берегу. Лежал не шевелясь, на манер рыжего кота. Взгляд устремлен в небо, в проплывающие облака. Он без рубашки — аккуратно свернул ее и подложил под голову, и видно — худощавое тело изуродовал длинный бугристый шрам. Начинается под ключицей, тянется по левой стороне груди и скрывается под поясом брюк.
— «Повстречались мы с друзьями, грязны, мокры, как из ямы, разберите хоть один, где слуга, где господин».
Он так и не шевельнулся, говорил, будто обращался к облакам.
— Почем вы знали, что это я?
— Как узнал, — мягко поправил он. — Язык надо уважать, от неправильной речи людям пользы нет.
— А кто это сказал?
Она села рядом на песок.
— Что именно?
— Ну, это… повстречались… я всю жизнь это слышу.
— Сумасбродный декан. Тот малый, который изобрел вашу фамилию. Я знал, что это вы, милая девочка, потому что, как бы вы ни старались подкрасться ко мне незаметно, ваши руки и ноги еще не научились вас слушаться… Смело могу сказать, надеюсь, вам никогда не придется зарабатывать свой хлеб этим способом — незаметно подкрадываясь к людям.
Он все смотрел на облака, а Нэнси стала смотреть на море, оно каждый миг меняло цвет в лад движению волн, становилось то зеленым, то синим, то серым.
— Откуда у вас такой шрам?
— «Я получил их в Криспианов день»[60].
Помолчали.
Нэнси повернулась, посмотрела на него. Он слабо улыбался.
— Под Ипром. Под гиблым Ипром. Я был с парнишкой, вернее сказать, с мальчиком примерно ваших лет, в него попал снаряд. До сих пор не знаю, кому из нас больше повезло.
— Какой ужас!
Он взял ее руку в свою. Провел ее пальцами по шраму, прижимая их к мягкой бугристой плоти. Ее пальцы испуганно сжимались, силясь отстраниться, но он держал их крепко и не отпускал. Провел под пояс, до твердой, выступающей кости бедра, потом назад, к плечу. И опять книзу. Ребра его слабо колыхались, будто рябь на спокойном море. Шрам был на ощупь просто неровная плоть, а вот с виду — точь-в-точь растянутый в зловещей гримасе рот, губы перекрещены бледными следами швов, кое-как стянувших края. Наконец он выпустил руку Нэнси.
— Ужас! — повторила она.
И поглядела на свои пальцы — никогда еще они не касались ничего подобного.
— Ну, а теперь сами, — приказал он. — Сами потрогайте.
Она мягко провела пальцами вверх, до его плеча.
— Вот видите.
Нэнси зарылась пальцами в песок. Самый верхний слой — сухой, теплый, а чуть поглубже песок холодный, сырой и колючий.
— Как я понимаю, ваше вчерашнее путешествие прошло точно по плану.
Она кивнула.
— Джо…
— У меня правило — не знать ничьих имен.
— Он мне понравился. Мы ездили трамваем.
— Трамвай — отличное изобретение.
— Он сказал передать вам, что… Брой сказал, он считает, что вам надо сниматься с места. Так будет лучше.
— А!
Он сел, стряхнул с плеч песок. Может быть, он прямо сейчас встанет и уйдет?
— Зайдите-ка в хижину и пошарьте в кармане моей куртки, там есть виски. Я думаю, нам следует выпить.
Когда Нэнси вышла с фляжкой и двумя кружками, он уже сидел в рубашке, аккуратно застегнутой до самой запонки.
— Так у меня вид приличнее? Боюсь, не вполне. Мой отец всегда повторял, что порядочный человек не должен появляться на люди без воротничка.
— При мне — это еще не на людях.
Нэнси передала ему фляжку. Опустилась рядом на колени, протянула обе кружки. Он откупорил виски, осторожно налил.
— Значит, вы уйдете?
Он кивнул:
— Через день-другой.
— А куда?
— Подальше.
— Хоть бы вы в кои веки ответили, когда я спрашиваю.
— Вы всегда спрашиваете, о чем не надо.
— Вы вернетесь?
Он отпил из кружки.
— Сюда — не вернусь.
— Так что же, я вас больше не увижу?
— Наверно, нет.
— Мне это не нравится.
— Переживете.
— Лучше бы вам не приходилось убивать людей.
— Кто-то должен это делать.
— Но я не понимаю, почему?
— Когда-нибудь поймете.
— А без этого никак не обойтись?
— Никак.
Нэнси выкопала в песке ямку, поставила туда кружку.
— Можно дочери поцеловать отца на прощанье?
Она подползла на коленках совсем близко. Он обнял ее, прижал к себе. Казалось, в них бьется одно сердце. Щека его прижалась к щеке Нэнси, колючая, как был колючим песок.
— Вы не дадитесь им в руки, правда?
— Я намерен мирно скончаться в постели, выпив кларета, девочка.
Он выпустил ее, зорко всмотрелся в лицо.
— Видно, я старею.
— Почему вы так говорите?
— Потому что в первый раз за многие годы жалею, что надо прощаться.
Она одарила его такой сияющей улыбкой, что его проняла дрожь.
— Чудесно, что вы мне так сказали!
— Мужчины часто будут говорить вам такие слова. Ручаюсь. А теперь выпей, девочка, и беги.
— Спасибо, мне пить не хочется.
— В хижине я оставлю все, как было раньше.
— Не беспокойтесь…
— Я предпочел бы, чтобы вы дня три-четыре сюда не приходили. А еще лучше — неделю.
— Неделю, — повторила Нэнси.
Он протянул руку. Нэнси весьма благовоспитанно ее пожала.
— До свиданья.
— До свиданья, Нэнси. А кстати…
— Да?
— Джо Малхейр — очень хороший молодой человек. Помните об этом, если опять с ним встретитесь.
— Да.
Она поднялась между гранитными плитами на насыпь и оглянулась. Он по-прежнему сидел и смотрел на море. И не шевелился.
Пятница, вечер.
Пожалуй, я перестану записывать. Мне все трудней и трудней найти слова для мыслей о том, что происходит изо дня в день. Видно, надо изобрести что-то вроде фильтра, чтобы процеживать мысли, прежде чем выкладывать на бумагу. Это надо обмозговать самой. И все остальное, наверно, тоже. Да. Теперь, когда я знаю, что мой отец умер, у меня будет больше времени и простора для мыслей. Я уже никогда не узнаю, был ли у него второй палец на ноге длинней большого. Меня не задевает ни его смерть, ни мое не очень-то нормальное положение. Как сказала Брайди — что тут такого? А думала, буду вечно из-за этого маяться. Может быть, когда состарюсь, начну, сидя у камина, опять все это перебирать в памяти, думать да гадать. А сейчас не время. В молодости еще сама толком не понимаешь, в чем надо разобраться, это трудно, но увлекательно. В последние дни столько было увлекательного, прямо чувствуешь, как тебя поднимает. Будто вот-вот разразится землетрясение.
Завтра мне нужно будет смотреть за дедом, тетя Мэри и обе мисс Брэйбезон едут на скачки. Хоть бы он не слишком дурил.
«Даймлер» укатил около полудня, унося трех дам в шляпах и перчатках, корзинку с завтраком и бутылку джина. Ярко светило солнце, но дул ветерок и сулил дождь. По всему горизонту громоздились облака и только ждали своего часа.
Нэнси с дедом позавтракали в молчании, потом она подкатила его к излюбленному окну и положила ему на колени бинокль. Он учтиво улыбнулся.
— Благодарю, дорогая.
Нэнси взяла подушку, вышла на веранду и села, прислонясь спиной к теплой серой стене. Ей слышно было, как дед то бормочет себе под нос, то шумно дышит, стоит ему шевельнуться. У подножья холма Мэйв опять усердствовала за роялем. Интересно, может, и Гарри там — сидит на цветастом диване и слушает, и на лице — обожание.
— Probablement[61], — прошептала Нэнси и усмехнулась, так по-дурацки это прозвучало.
А потом она, должно быть, уснула: когда дед окликнул, это застало ее врасплох, она даже подскочила.
— Девочка!
— А?
— Когда я был молодой, мы не носили хаки.
Облака теперь неслись по небу, пока еще высоко, и минутами закрывали солнце.
— Нет. Нет.
Он опять поднес к глазам бинокль и погрузился в молчание.
Сдвинув брови, Нэнси посмотрела в сторону железной дороги. Пусто и неподвижно.
— Но это, конечно, когда я был молодой. Потом многое переменилось. Все переменилось.
На землю возле Нэнси шлепнулась крупная капля дождя.
— Все меняется.
Она встала и отнесла подушку в дом.
— «Все преходяще и тленно», — запел старик.
Нэнси затворила окно.
— Хаки.
Она накрыла на стол, скоро Брайди позовет обедать. Приятно смотреть на белые кружевные салфетки в аккуратной рамке серебряных ложек, вилок, ножей. Комната полна благоуханием роз в большой вазе. Вот и дождь пошел, брызжет в раскрытые окна, пятнает каплями пол. Брайди выбежала во двор за развешенным для просушки бельем, хватает белоснежные полотенца и скатерти, перекидывает через плечо. Запыхавшись, бормочет: «Тьфу, пропасть! Тьфу, пропасть!» Кот презрительно уселся на пороге, лениво смотрит, как она суетится. Нэнси вернулась в гостиную.
— Может, подвезти тебя к камину, дед? Все равно сейчас ничего не увидишь.
— Нет, нет. — Старик рассердился, не желает он двигаться с места. — Дождь пройдет. Я опять смогу наблюдать. После дождя от земли идет пар.
— У нас так не бывает, дед, только в жарких странах.
— Да. Жаркие страны. Говорил я тебе, что мы первыми поднялись на Талана Хилл?
Она покачала головой — бог весть, что это за Талана Хилл и где он есть.
— Тяжелый был бой. Мы потеряли много народу убитыми, а потом сзади по нас начала бить своя же артиллерия.
— Какой ужас, дед!
— Да. Ужас. Ужас, иначе не скажешь. Прекратите огонь. Когда я понял, что творится, я встал прямо под выстрелами. Прекратите огонь. Я высоко поднял руки, надеялся… прекратите огонь. От буров нам худо пришлось, но это… мы потеряли… уже не помню.
— Там ты и добыл этот бинокль?
— Не пойму..?
— Бинокль. Ты говорил, что взял его у человека в воронке от снаряда.
— Нелепость. — Он призадумался. — Не могу… не помню, как выглядело. Это было… — Голова его свесилась на грудь, но он с усилием опять ее поднял. — Это подрывает дух солдата, когда по тебе стреляют свои.
— Еще бы.
— Не могу вспомнить. Где Мэри?
— На скачках. Вернется к ужину.
— Мне надо было там умереть.
— Не говори глупостей, дед.
— Славное было время!
Он опять опустил голову, но на этот раз опустились и веки, и скоро он уже спал.
Дождь не переставал. Низко неслись плотные тучи. Подумалось — того гляди, можно будет их потрогать, я почувствую, какие они мягкие, сожму в кулаке, и сквозь пальцы просочится вода.
Вот и семь, восьмой час, а «даймлера» нет как нет.
Старик не запротестовал, когда его подкатили к камину, и что-то напевал про себя, иссохшей рукой отбивая такт. Нэнси пристроилась в углу дивана с книжкой. Брайди опять и опять суматошно шмыгала в прихожую, по коридору в кухню и обратно.
— Надо им было поехать в Ее машине. Она никогда не задерживается.
— Наверно, они где-то по дороге попали в затор. Вернутся с минуты на минуту.
— На Нее это не похоже — запаздывать.
— Да.
— Если они скоро не явятся, весь ужин пропадет, это уж как пить дать.
— Довольно тебе ахать да охать, Брайди.
— Я не ахаю и не охаю. А ужин перестоится на кого пенять?
— Ахи-охи, суматохи.
— Хоть бы машина не разбилась.
— От Карэ ехать долго.
— Уж эти автомобили.
Брайди опять зашагала по коридору, башмаки скрипели при каждом ее гневном шаге. Нэнси побрела к парадной двери, поглядела — серая подъездная дорожка, серые деревья и трава серая.
— Chiaroscuro[62]. Вот что это такое.
Нэнси представился Талана Хилл, где бы он ни был, и люди в хаки, стреляющие друг в друга, и груды мертвецов в хаки на сером каменистом косогоре. Может быть, тот холм был такой же, как этот, позади нашего дома? Наверно, неприютный, серые скользкие камни, от земли — пар. Не то что здесь — живые изгороди, густые кусты боярышника и фуксии укрыли бы испуганных людей от других испуганных людей, а кроны буков заслонили бы их от жаркого солнца. Хотя, конечно, снаряды прорвали бы живую изгородь, выворотили с корнем деревья, и тогда оба холма стали бы одинаковые.
— Ничего там не видать? — Голос Брайди разогнал ужасы, что примерещились Нэнси.
— «Анна, сестра моя Анна, ты никого не видишь?»[63]
— Это еще что?
— Ничего не видно.
Но не успела Нэнси договорить, как из-за поворота вывернулся «даймлер», взревел сигнальный рожок.
— Вот и они.
— Бог милостив.
Автомобиль остановился у крыльца, три дамы выбрались наружу.
— Ура! — сказала Нэнси. — Вы ужасно поздно. Брайди уже сходила с ума. — Она всмотрелась в их лица. — Что такое? Что случилось?
Тетя Мэри бледная и старая. Глаза покраснели, как будто она недавно плакала. Маленькая мисс Брэйбезон, по обыкновению, протянула руку для пожатия.
— Мы попали в ужасную передрягу!
— Авария?..
— Да нет же! — сказала мисс Силия. — Мы все расскажем, только сначала немножко почистимся и выпьем. Мэри немножко выбита из колеи. Правда, дорогая?
— Правда. Я думаю, все мы немножко выбиты из колеи. Ничего, Нэнси. Волноваться не о чем. Мы… с нами ничего не случилось.
— Хватит прохлаждаться. Мой пузырь требует облегчения.
И Силия ринулась в дом, за нею более степенно последовали две другие дамы.
Когда они наконец сошли в столовую, все три уже держались спокойнее. Заслышав шаги, старик открыл глаза.
— А, Мэри! — На обеих гостий он и не взглянул. — Мой плед сполз.
Тетя Мэри поцеловала его в щеку, наклонилась и поправила плед.
— Силия, дорогая, налей, пожалуйста, всем по рюмочке, хорошо? Ну вот, голубчик, теперь тебя не просквозит. Как ты провел день?
— Там в поле ходили солдаты.
— Боже милостивый!
Она успокоительно потрепала его по руке.
— Я их видел.
— Наверно, было интересно. Все-таки увидал что-то новенькое.
— У нас форма была не хаки в ту пору, когда…
— Ну, расскажите же, что случилось… Умираю от любопытства.
— Славное крепкое питье, — сказала мисс Силия, раздавая всем по бокалу. — Нэнси?
— Спасибо, не беспокойтесь. Я возьму немножко хересу.
Тетя Мэри и мисс Джорджи расположились у камина. Силия расхаживала взад и вперед по комнате, бокал она держала криво, и порой виски выплескивалось на ковер.
— Совершенно жуткая история… — начала тетя Мэри.
— Дай, я ей расскажу.
— Силия, но ты ведь была не там. Не с нами.
— Нам всем есть что рассказать. Начни ты, Мэри.
— Это было после третьего заезда…
— Начало моросить.
— Но небо совсем почернело.
— И я подумала, — продолжала тетя Мэри, словно ее не перебивали, — пойду-ка возьму из машины свой макинтош.
— И я тоже пошла, а Силия не боится промокнуть, она осталась и разговаривала с Фредди Хенниси…
— Вижу, вот-вот хлынет настоящий ливень.
— Дойти до машины тоже нужно время…
— Мы всегда стараемся поставить ее при дороге, тогда легче уезжать. Только мы дошли…
— Этот человек… какой-то солдат нас обогнал, с молодой девушкой…
— С женой.
— Это не важно.
— Нет, важно. Хорошенькая. Молоденькая. Они спешили, не хотели вымокнуть. Смеялись…
— Да не мешай ты, Джорджи, пускай Мэри рассказывает!
— Подробности все важны.
— Что же случилось? — спросила Нэнси.
Казалось, дед прислушивается. Он переводил глаза с одной рассказчицы на другую.
— Солдат, — повторил он.
— Ну вот, подошли мы к машине, я стою, Джорджи открывает дверцу. И тут из-за машины выходит человек…
— Из-за нашей машины. Нашего «даймлера». Наверно, он там сторожил.
— Я вижу, он так спокойненько выходит. И что-то у него в руке… Я толком не видала. Я ведь не смотрела… Я же ничего такого не ждала…
— Я искала свой зонтик.
— И вдруг бах, и солдат лежит на земле. Раз — и все. Я даже не поняла, что стряслось. Просто бахнуло.
— Я говорю — что это бахнуло, Мэри? — а она не ответила, и вдруг та девушка страшно закричала.
— Было так странно, будто все в мире на минуту остановилось. Не могу объяснить. Мы подошли к ним. Вернее сказать, подбежали, поняли, случилось что-то жуткое. А того человека и след простыл. Только девушка кричит, и этот…
— Мертвый.
— Мертвый? Какой ужас!
— Крови совсем не видно. Всегда ждешь — будет кровь.
— Ну, немножко все-таки было.
— Я укрыла его макинтошем, думала, вдруг ему холодно.
— Дорогая Мэри, если он был мертвый, макинтош ему не понадобился, — заметила Силия.
— Должна же я была что-то делать. Я думала, вдруг он замерзнет и промокнет, и… а потом вдруг вокруг нас толпа, сотни народу, и та бедная девушка…
— Она кричала, как безумная. Я говорю Мэри, похлопай ее по щекам. Единственное средство. А Мэри стоит, будто в землю вросла, а я не могла заставить себя похлопать ту бедняжку по щекам.
— Сотни народу… а потом слышим, еще стреляют, и вроде как поднялась паника.
— Не там, где мы были. Мы стояли возле ипподрома, у ворот, и услыхали такие хлопки. Фредди и говорит — чудно, похоже, стреляют, — а я говорю — не будьте идиотом, хотя кем же еще ему быть. Ну, словом, никто не обратил внимания. И вдруг через несколько минут кто-то говорит, убили генерала Макреди, а еще кто-то — что схватили и застрелили Майкла Коллинза. Стали болтать всякую чушь, и я решила, пойду посмотрю, как там Мэри и Джорджи. Фредди тоже увязался со мной, и мы их нашли, и видим — толпа, и полиция, и солдаты, и лежит этот несчастный молодой человек, укрытый ее макинтошем.
— А что с его женой?
— Мы хотели усадить ее в наш «даймлер», чтобы хоть под дождем не мокла, но она не послушалась. Сидела возле него на траве, а потом подошла какая-то женщина и увела ее.
— И его, — сказала тетя Мэри, — его тоже забрали.
— И макинтош тоже.
— Все равно я его теперь не взяла бы.
— А другие выстрелы?.. Были еще..?
— Двенадцать солдат убили. Наверно, за каждым кто-то шел по пятам. Никого не поймали.
— А потом нас целую вечность держала полиция, задавали всякие вопросы.
— Но я же не разглядела того человека. Он был в пальто и в шляпе, как все. Что еще я могла сказать.
— А я и вовсе его не видела.
— Она искала зонтик.
— Но они сто раз задавали одни и те же вопросы, без конца. Под дождем.
— Когда мы приехали, тебе следовало принять ванну, Мэри.
— К тому времени я уже совсем высохла.
— Была ужасная толчея, все старались убраться восвояси.
— Я не видела, что он держал в руке.
— А если бы и видела, дорогая, что ты могла поделать?
— Ужин на столе, — объявила Брайди, — и он не может больше ждать.
— Спасибо, Брайди. Сейчас идем. У нас был ужасный день.
— Я уж слыхала. Джимми слыхал в деревне, пришел и мне рассказал. Что ж, будет дюжиной английских солдат меньше, мучителей наших бедных парней.
— Это как посмотреть, Брайди. Можно и по-другому посмотреть.
— А вот я так смотрю.
— И я тоже, — сказала Нэнси и сама удивилась.
— Нэнси, деточка, ты в этих делах совсем не разбираешься.
— Учусь разбираться.
— Не дерзи тетушке, у Ней и так день был тяжелый. Коли ужин пропадет, пеняйте на себя.
Брайди повернулась и, скрипя половицами, отправилась на кухню.
За ужином никому не хотелось разговаривать. Да и есть тоже не хотелось, но, страшась гнева Брайди, они старались изо всех сил. Старик отбивал пальцем по краю стола такт неведомо какой песне, которая крутилась у него в голове. Лица трех женщин застыли, скованные ощущением неловкости и одиночества. Порой мисс Джорджи вежливо покашливала, поднося к губам кружевной платочек.
Потом тетя Мэри сказала:
— Я полагаю, не следует тебе говорить такие вещи, Нэнси.
— Какие «такие»?
— Да вот… как ты на что смотришь. Ты слишком молода и ничего этого не понимаешь.
— По-моему, вы тоже не так уж хорошо это понимаете, и не стоит делать мне замечания, — сказала Нэнси. И покраснела.
Мисс Силия Брэйбезон аккуратно положила вилку и ложку на тарелку. И процитировала:
— «Не ведать Ирландии мира, пока не свободна она».
— Такую форму носил Габриэл. Когда я увидела этого несчастного на земле, я подумала о Габриэле.
— Габриэл погиб, воюя за чужое дело.
— Но сейчас не война.
— Конечно, это война, Мэри, дорогая, хочешь ты этого или не хочешь, и рано или поздно тебе придется решать, на чьей ты стороне. Хорошо ли, худо ли, но, похоже, Нэнси уже для себя это решила.
Маленькая мисс Брэйбезон поднялась.
— Я думаю, нам пора домой, Силия. Мы все устали и переволновались. Нам надо лечь в постель. Я хочу в постель. Не хочу я рассуждать про войну, и смерть, и всякие решения, и я уверена, Мэри тоже не хочет.
У парадной двери позвонили.
В полутемной комнате лица всех за столом застыли, точно вырезанные из дерева и позолоченные сияньем свеч. Все молча прислушивались к шагам Брайди, пока она прошла по коридору в прихожую. Она отворила, донесся негромкий говор. Теперь шаги Брайди приближались, она стала на пороге, и в столовую хлынул яркий свет из прихожей. Свечи замигали.
— Мэм.
— Да, Брайди, кто там?
— Они.
Брайди говорила загробным голосом. Нэнси едва не расхохоталась.
— Зажгите свет, мы хоть увидим, где находимся.
Брайди повернула выключатель, и все зажмурились.
В дверях стоял офицер с фуражкой в руке.
— Мисс Дуайер? — Он обвел взглядом сидящих за столом.
— Мы как раз кончаем ужинать, — без особой надобности пояснила тетя Мэри.
— Простите, что побеспокоил.
— Войдите же. Чем могу быть вам полезна?
— Мои люди осматривают здесь все вокруг. Мне надо бы с вами поговорить. Меня зовут капитан Рэнкин.
— Здравствуйте, капитан. Это мисс Силия Брэйбезон, мисс Джорджина Брэйбезон, мой отец генерал Дуайер и моя племянница Нэнси.
Он поклонился.
Старик перестал барабанить по столу и оглядывал капитана с головы до ног.
— Мэри…
— Да, милый?
— Чего тут надо этому малому?
— Он только хочет что-то спросить. — Она обернулась к молодому капитану. — Моему отцу немного изменяет память. Вам придется его извинить.
— Говорил я тебе, я видел, сегодня кругом кишели солдаты.
— Я полагаю, вы слышали о сегодняшней трагедии, мисс Дуайер?
Высокая мисс Брэйбезон встала и направилась к нему через всю комнату. Протянула руку.
— Мы все вам сочувствуем. Примите наши соболезнования…
Он взял ее руку, на миг задержал в своей.
— Благодарю вас.
— Теперь, с вашего разрешения, нам пора. Джорджи. У нас был до черта тяжелый день.
Джорджи пошла к двери. Проходя мимо тети Мэри, положила руку ей на плечо.
— Ложись пораньше. Смотри, чтобы тебя никто не задержал. Завтра мы тебе позвоним по телефону. Понимаете, — пояснила она военному, — мы там были. Мы видели…
— Я вас провожу. — Тетя Мэри поднялась. — Извините, пожалуйста, я сию минуту.
Три женщины вышли. Нэнси неподвижно смотрела в окно. Как глупо выглядят теперь, при электричестве, жалкие мигающие огоньки свеч! Она смотрела на их трепетные отражения в стекле. Капитан все так же стоял у самой двери с фуражкой в руке.
— Габриэл. Что случилось с Габриэлом?
Ждет ли он ответа? — подумала Нэнси. Из прихожей невнятно доносились женские голоса.
— Талана Хилл. Может, он был на Талана Хилле.
— Нет, — сказала Нэнси. — Габриэл там не был.
Хлопнула парадная дверь.
— А вы, случаем, не воевали на Талана Хилле? Вы, молодой человек. Я вас спрашиваю.
— Нет, сэр. Я…
Вошла тетя Мэри.
— Извините. Брайди говорит, у нас во дворе солдаты.
— Это мои люди. Мы только все вокруг осмотрим. Понимаете, мы ищем того человека…
— Надеюсь, они не станут беспокоить Брайди.
— Не думаю… Просто все кругом осмотрят, дело обычное. Это и для вашей безопасности. Понимаете, может быть, он вооружен. Опасен.
Нэнси поднялась.
— Пожалуй, пойду спать.
— Я вас просил бы остаться. Мне надо задать несколько вопросов. Две минуты, не больше.
— Да, детка. Останься. Так, значит, вы кого-то ищете?
Капитан достал из кармана фотографию и подал тете Мэри.
— Вот он. Вы его случайно не видали где-нибудь поблизости? Мы считаем, что он где-то в ваших местах. Мы давным-давно его разыскиваем.
Долгое молчание, тетя Мэри держит карточку, внимательно изучает. Нэнси засунула руки в карманы джемпера — хоть бы они перестали дрожать, когда фотографию передадут ей.
Тетя Мэри медленно покачала головой.
— Странно. Как будто его лицо мне кого-то напоминает. Очень-очень смутно. Нет, я не видела этого человека. Нет.
— Вы уверены? Это очень важно.
— Уверена. Разве что я его встречала когда-то в далеком прошлом. А может быть, и нет. Не уверена.
— Можете вы назвать его имя?
Тетя Мэри вернула ему фотографию.
— Нет… Ничего не могу сказать.
— Генерал… — С карточкой в руке Рэнкин подошел к старику.
— Он никогда не выходит из дому. Не бывает дальше веранды. Бессмысленно его о чем-либо спрашивать. Он почти все время спит.
Голова деда свесилась на грудь. Глаза приоткрыты, но взгляд невидящий.
— Мисс… э-э… Нэнси?
Нэнси не вынула руки из карманов. Не шевелясь смотрела на фотографию, которую этот солдат положил возле нее на стол. Да, Кассий. В мундире майора, стоит у двери старого каменного коттеджа. Ярко светит солнце, и он немного щурится. В руке тросточка. С виду такой крепкий, будто намерен сто лет прожить.
— Нет. — Голос ее не дрогнул.
— Конечно, сейчас он не так одет. По-другому.
Она покачала головой.
— Нет.
— Вы уверены?
— Уверена.
Он аккуратно спрятал фотографию в нагрудный карман.
— Если вы случайно встретите его или кого-нибудь постороннего поблизости от вашего дома, будьте любезны сообщить нам или в полицию. Это очень важно.
— Он очень опасный человек. — У тети Мэри это не прозвучало вопросом.
— Он организатор. Неуловимый. Жестокий, свирепый мятежник.
— Да что вы!
Рэнкин покраснел.
— Содействовать нам — в ваших же интересах. Во всех отношениях. Мы сильно подозреваем, что сегодняшнее гнусное преступление — его затея.
— Мы сделаем все, что в наших силах, капитан Рэнкин. Сожалею, что ничем не могли вам помочь.
— Не буду дольше вам мешать. Спокойной ночи.
— Я видел какого-то человека на рельсах.
Когда дед заговорил, Нэнси отвернулась и опять стала смотреть на отражения в окне. И увидела, как офицер обернулся и подошел к старику.
— Сэр?
— Человек на рельсах.
— Ох, папочка, вечно ты все путаешь!
— Когда это было, сэр?
Нэнси видела — опять он нашаривает в кармане фотографию.
Старик покачал головой.
— Не помню.
— В последние дни? Может быть, сегодня? Посмотрите, это не он?
И сунул карточку в руку старика. Тот уставился на нее долгим взглядом.
— Это не мой сын, — сказал он. — Это не Габриэл.
— Дорогой мой, ну конечно, это не Габриэл.
Тетя Мэри прошла по комнате и взяла у деда карточку. Отдала офицеру.
— Я же вам сказала, он видит только то, что ему чудится. Вы его расстроите. Это никуда не годится. Пожалуйста, уходите.
— Спросите Нэнси, — сказал старик. — Она с ним говорила.
Нэнси обернулась к ним.
— Это был просто старый бродяга. Я же тебе сказала. Старик «Сорок одежек».
— Когда это было, мисс Нэнси?
— Право, точно не помню. На днях. «Сорок одежек». Он вечно тут бродит.
— И на железной дороге?
— Ну да. Где попало. То появится, то пропадет. Он бродяга.
— Он бродяжил в наших краях, еще когда я была маленькая, — сказала тетя Мэри. — Он совершенно безобидный.
— Я с ним говорила, а дедушка это видел.
— Тут не может быть ошибки, сэр?
— Ошибки?
— Человек, с которым, как вы видели, разговаривала на железной дороге мисс Нэнси, действительно был этот бродяга «Сорок одежек»?
— Мэри?
— Ну конечно, его ты и видел, голубчик.
— Очень хорошо.
И старик небрежно махнул рукой, отпуская офицера, как сделал бы двадцать лет назад.
— Что ж, очень хорошо.
Молодой человек поклонился тете Мэри, потом Нэнси.
— Ты проводишь капитана Рэнкина, Нэнси? Я должна уложить папу.
Не обменявшись ни словом, пересекли прихожую. Нэнси отворила дверь. Офицер вышел, надел фуражку. Далеко за железнодорожной насыпью лежала на море яркая лунная дорожка.
— Спокойной ночи, — сказал он.
— Спокойной ночи.
Когда она вернулась в столовую, тети Мэри и деда там уже не было. Нэнси выключила электричество, прижалась горящим лбом к оконному стеклу. Восемь или, может, десять солдат гуськом уходят по аллее. И, кажется, все с ружьями. Голова разламывается от страха. Наверно, я помогла убить двенадцать человек. Прости меня, боже. И еще подумалось о тете Мэри, как она укрывает макинтошем мертвого молодого солдата, и о том, как дед на Талана Хилле попал под выстрелы своих же пушек. «Прекратите огонь!» Если бы уловить общий смысл, тогда я, может, и разберусь. Должно же все это иметь какой-то смысл. Не может быть, чтобы все это было впустую.
— Замечталась? — спросила, входя в комнату, тетя Мэри.
— Да, пожалуй.
— Я намерена выпить чего-нибудь покрепче и лечь спать. Хочешь тоже выпить?
— Нет, спасибо.
Тетя Мэри подошла и стала рядом. Луна серебрила их лица. Солдаты уже ушли.
— Я думаю, хорошо, что мы отсюда уезжаем. Не хотела бы я, чтобы и тебя преследовали мои призраки.
Долгое молчание. Две летучие мыши то проносятся совсем низко, то взмывают в небо, точно ласточки в солнечных лучах.
— Ты ведь говорила не с бродягой?
— Нет.
Нэнси порадовалась, что сказала правду.
— Старика «Сорок одежек» в наших местах давным-давно не видели. Надеюсь, ты не делаешь ничего такого, о чем после пожалеешь.
— А разве можно знать заранее?
— Нельзя, — вздохнула тетя Мэри.
— Тот человек на фотографии — он кто?
— Может быть, я и ошибаюсь. Его лицо только смутно мне кое-что напоминает. Та семья жила неподалеку, возле «Вишневого сада». Их фамилия Барри. Их дом потом снесли. Целая вечность прошла… Барри. Их как будто в живых никого не осталось. Его звали Энгус. Мы его дразнили Эн-гусь. — Она улыбнулась. — Живых никого не осталось. Кроме него. Понимаешь, я-то думала, что и он тоже умер. Убит, как… ну, столько народу убито. Я рада, что он еще жив, даже если… — К паре летучих мышей присоединилась третья. Если выйти на улицу, я услышу их голоса, подумала Нэнси, а тетя Мэри не услышит. — Мне, видимо, придется съездить на днях в город и подыскать тебе приличную квартирную хозяйку. Такую, чтобы присмотрела за тобой и не позволяла бродить по Дублину и нарываться на неприятности. Если такие женщины еще есть на свете.
— Наверно, есть.
— Когда-то мы собирались на такие милые вечеринки, на балы, и все казались такими счастливыми.
— На самом деле вряд ли все тогда были счастливы.
— Спать.
— Да.
— Ты ничего не хочешь мне сказать?
— Нет.
— Что ж, спокойной ночи.
И она пошла взять стаканчик чего-нибудь покрепче.
Нэнси не стала зажигать у себя свет, чтобы в открытое окно не залетели летучие мыши. Села, не раздеваясь, на край постели и ждала, пока все в доме затихнет. Не затихало долго. Тетя Мэри беспокойно бродила из комнаты в комнату, щелкала выключателями, то зажигая, то гася свет — без сомнения, изредка опять подливала в стаканчик. Журчала в трубах водах, скрипели ступени, то тут, то там тихонько отворялись и затворялись двери. Наконец осталось только мирное дыхание ночной тишины. Нэнси спустилась с лестницы, на ступенях лежали полосы лунного света. За стенами теперь было только серебро и глубокие черные тени; даже летучие мыши исчезли. Пусто. Нэнси побежала полями, потом через насыпь и вниз, на песчаный берег. Если за насыпью следят… о господи, если за насыпью следят! Если следят… если… Нэнси сбежала напрямик к морю и потом по краешку, по ледяной зыблющейся воде, взбаламучивая ногами ее фосфорический блеск.
У хижины ни признака жизни. Неизменный страж — чайка, нахохлясь, сидит на кровле. Хоть бы он уже ушел, взмолилась Нэнси у двери, но он был там, лежал в углу, кутаясь в плед. Она не закрыла дверь, и серебряный свет хлынул за нею в темноту.
— Я ведь, кажется, сказал вам больше не приходить.
Он медленно сел и посмотрел на нее.
— Я надеялась, что вы ушли. Наверно, утром они сюда придут. Они все кругом обошли, расспрашивают, обыскивают. Дед им сказал, что видел на рельсах какого-то человека. Он не имел в виду…
— Ничего, Нэнси. Тут только вопрос времени. Я собирался уйти, когда рассветет, теперь уйду пораньше.
Он поднялся. Потом нагнулся, подобрал плед; встряхнул его и аккуратно сложил. К стене прислонен был небольшой брезентовый солдатский мешок.
— Куда вы пойдете?
— Подальше.
— Понятно. Мне не надо было спрашивать, да?
— Я человек весьма скрытный.
— Тот офицер сказал, вы опасный.
Он засмеялся.
— Это хорошо. Люблю, когда меня считают опасным.
— Те двенадцать…
Он подошел ближе.
— Мне очень жаль, Нэнси. Они тоже были опасны. Двенадцать только что прибывших опасных людей. Их надо было остановить прежде, чем они натворили много бед. Мы очень простодушный народ. Эти люди способны были разведать такое, что повредило бы очень и очень многим. Многое сильно осложнило бы. Нам необходимо победить, Нэнси. В конце концов народ непременно должен победить. Это очень важно.
— Когда вы так говорите, выходит, что важно.
Чайка на крыше над ними вдруг проснулась. Несколько секунд копошилась, хлопая крыльями. Потом медленно снялась и полетела в сторону моря.
— По-моему, вам надо уходить.
— Да.
Он подобрал с полу мешок.
— Вы — Энгус Барри?
— До чего настойчивая девица! Может быть, когда-то был таковым. Но, безусловно, перестал быть.
— А можно, я буду думать, что вы — это он?
— Если вам так нравится.
Он взял руку Нэнси и поцеловал.
— Итак, прощаясь, как простился бы Энгус Барри, я вас покидаю. Пройду немного по берегу, потом поднимусь в горы. Ничего худого со мной не случится. Есть место, где я буду в безопасности.
Нэнси кивнула.
— Побудете здесь немного, когда я уйду?
— Посмотрю, чтобы не осталось никаких улик. — Она улыбнулась ему. — Замету ваши следы.
Они подошли к двери, постояли рядом, глядя на окружающий мир.
— Холодно, — сказала Нэнси.
— Ночью в это время всегда холодно.
Откуда-то сверху на берег скатился камень. Нэнси стиснула руку Энгуса.
— Уходите.
— Сейчас. Надеюсь, я не очень вам повредил.
— Уходите же.
Она топнула ногой.
Он вышел из хижины и зашагал к морю.
Сердце Нэнси колотилось так, что ей показалось — сейчас она умрет.
— Стой!
Из тьмы возникла цепочка солдат, растянулась от насыпи до самой воды. А он все шел. Теперь он с плеском ступал по мелкой белой кудрявой зыби.
— Стой!
Под их тяжелыми шагами скрипит песок. Может быть, вплавь он еще ускользнет. Она сбежала к нему на берег.
— Бегите. Они уже здесь. Бегите. Плывите. Пожалуйста.
— Ни бежать, ни плыть нет смысла, майор Барри.
Он остановился, обернулся. Вода покрывала его ботинки из хорошей кожи.
— Уходите, Нэнси, — сказал он. — Сейчас, же уходите. Сию минуту.
— Они здесь, — только и удалось ей выговорить.
— Майор Барри, мы знаем, что вы вооружены. Бросьте мешок и оружие на землю. Не делайте глупостей. Любая сумасбродная выходка — и мы тут же пристрелим и вас и девушку.
Он застыл неподвижно.
— Девушка ничего не знает. Она просто ребенок. Она иногда приносила мне чего-нибудь поесть. Она ничего не знает. Дайте ей уйти. Спокойно уйти. Даю слово, тогда я сдамся без сопротивления.
— Нет, нет!
— Бросьте оружие и мешок.
— Только когда вы пропустите девушку. Говорю вам чистую правду. Она тут ни при чем.
— Ладно. Она может идти.
Нэнси посмотрела на него, их разделяло несколько шагов. Он ей улыбнулся.
— Ступайте, Нэнси. Пройдите между ними и шагайте прямиком до самого дома.
— А что будет?
— Ничего не будет. Меня увезут в тюрьму. Только и всего. Повернитесь и шагайте.
— Вы мне правду говорите?
— Да.
Она кивнула. Повернулась и посмотрела на солдат. Посеребренные луной равнодушные лица.
— До свиданья.
— Au revoir.
— Спасибо вам, — сказала она и пошла.
Она прошла сквозь цепь солдат, наверх, к гранитным глыбам, потом остановилась и обернулась. Он бросил мешок наземь и нашаривал в кармане револьвер. Вынул, мгновенье смотрел на него и кинул на песок рядом с мешком. И тогда в него выстрелили. Два выстрела. Третий. Бегом.
— Нет, нет, нет!
Четвертый. Пятый. Шестой. Для верности.
— Прекратите огонь! — Она услыхала свой крик, так кричал дед на Талана Хилле.
Бегом.
Седьмой.
Тишина.
— Нет, нет!
Ее перехватили, прежде чем она добежала до тела, которое теперь поглаживали ласковые волны.
— Нет!
Над ним наклонились двое. Красное растворялось в волнах, розовело, волна споласкивала раны, омывала дочиста.
— Оставьте его в воде. Не то еще придется тут пачкотню прибирать.
— Слушаю, сэр.
— Сейчас придет катер.
— Пожалуйста, — сказала Нэнси одному из тех, что ее держали, — пожалуйста, пустите, я ему помогу.
Солдат засмеялся.
— Этому сукину сыну уже никакой помощи не надо.
— Как же так? Он сказал, вы возьмете его в тюрьму. Как же так?
— С меня спросу нет, барышня. Наше дело исполнять приказ.
— Кто-нибудь один, проводите девушку домой. Откуда она пришла.
— Домой я одна дойду. Никаких провожатых мне не надо.
— Капрал Твиди, проводите девушку домой и скажите родным от нашего имени, пускай получше за ней присматривают.
— Слушаю, сэр.
Вдалеке затарахтел мотор катера.
— Нет, — сказала Нэнси.
— Пойдемте, мисс. — Голос капрала Твиди звучал по-доброму.
— Что вы с ним сделаете?
— Отпустите ее. Можно больше не держать.
Ноют руки выше локтей, так долго стискивали их солдаты. Лицо мокрое, только сейчас заметила — ручьями текут слезы. На горизонте теперь трещина, и оттуда свет, красный, как пламя. Капрал легонько подтолкнул Нэнси в сторону железной дороги. Она пошла. Услыхала за собой его шаги. Остановилась.
— Что они хотят с ним делать?
Моторы выключены, катер медленно сносит к берегу.
— Идите, мисс. Идите, не стойте.
Холод пробирает до костей. И она идет дальше, к гранитным плитам. Через них наверх. Поднялась на насыпь, оглянулась. Двое солдат втаскивают тело в лодку. Земля при свете утра уже обычного цвета. Скоро не останется никаких следов.
— Мне недосуг, мисс.
Нэнси кивнула, и они пошли по шпалам.
— Что с ним сделают? — негромко спросила Нэнси.
— Избавятся от него, — только и ответил капрал.
Дальше шли молча. У ворот она обернулась.
— Я пойду в дом. Все в порядке. Не надо меня дальше провожать.
Он посмотрел с сомнением.
— Обещаю вам. Сразу иду домой.
— Ну, не знаю…
— Поймите, если вы сейчас разбудите мою тетю и начнете ей про все это рассказывать, вы ее ужасно расстроите. Пожалуйста.
— У меня приказ, мисс.
— Обещаю вам. Мой дедушка генерал… ну, генерал в отставке.
— Ладно. Идите домой и ложитесь спать. Да глядите, станете потом болтать лишнее, так вам беды не миновать.
— Хотела бы я понять, почему они это сделали.
— Уж верно, у них были причины.
Где-то в гнезде над головой щебетнула потревоженная пичуга.
— Они там решают, а мы делаем, что нам велено. Уж так жизнь устроена.
— Наверно, он думал по-другому.
— Потому его и захотели убить. Вот вам и ответ. Идите-ка домой, мисс, и держите язык за зубами.
Капрал повернулся и пошел прочь.
В доме стояла мирная тишина.
В зеркале на туалетном столике Нэнси увидела свое лицо. Глаза несчастные, опухшие от слез. Она сбросила все с себя на пол и раздетая повалилась на постель. На потолке ширилась полоса света от восходящего солнца. Красное утреннее небо. Никогда больше я не смогу спать. Под застрехами трепыхаются ласточки. Спать, и смеяться, и любить, и купаться в море, где теперь полно его крови. Быть счастливой, никогда уже не быть счастливой. Великая несбыточная мечта. Все мы гонимся за несбыточной мечтой. Вот и все. Никогда больше я… никогда… я… Она уснула.
Наутро она, как всегда, проснулась от журчанья воды в трубах: тетя Мэри уже приняла ванну. Ой, надо скорей вставать, подумала Нэнси — и тут вспомнила все, что случилось ночью! А может, это был страшный сон? Пойду в хижину, а он все еще там, сидит, опершись спиной о стену, и читает. Да был ли он вообще? От него и следа не останется. Ни крови на песке. Ни отпечатка башмаков. Ни гильзы от выпущенных пуль. Сегодня воскресенье. В обеих деревенских церквах зазвонят колокола. Остается одно вставать. Она села на постели, спустила ноги на пол. Второй палец по-прежнему длинней большого. Ничто не изменилось. На полу песок. Брайди станет браниться. О господи, дай ему хоть теперь обрести покой! Так и не пришлось ему выпить кларета. Какая во мне тяжесть, и стыд, и печаль. Воскресенье, одеться прилично. Навести лоск.
По воскресеньям газет не приносят, и, когда Нэнси вошла в столовую, тетя Мэри читала книгу.
— Доброе утро, детка. Надеюсь, ты хорошо спала.
— Мгм. — Нэнси поцеловала тетку.
— А я, признаться, нет. Все думала о вчерашних ужасах, никак не могла перестать. Налей себе кофе, детка, у меня пальцы липкие. Теперь, наверно, будут репрессии. Вечно всем надо во все вмешиваться. Сегодня мы пойдем в церковь, детка. Мне необходимо рассеяться.
— Будет дождь.
— От небольшого дождика не растаем. А может быть, до обеда он подождет.
— Утро ясно, день ненастный.
Надо ж хоть что-то сказать.
— Хотела бы я знать, нашли они того человека, которого искали? Надеюсь, это не несчастный Эн-гусь.
— Мгм!
— С нами обедают Гарри и Мэйв. Надеюсь, ты будешь самой что ни на есть паинькой.
— Непременно. Даю слово.
— Умница, детка. В каком-то смысле я даже надеюсь, что его не нашли. Тошно думать, что с ним случится что-нибудь ужасное. — Она закрыла книгу. — Нельзя сказать, чтобы последние дни у нас были приятные.
— Да.
— Подозреваю, что Гарри с Мэйв намерены обручиться. Тебя это очень расстроит?
Нэнси немного подумала.
— Нет. Ни капельки. Правда, забавно?
— Вот и хорошо. Не хотела бы я, чтобы ты расстроилась.
Тетя Мэри встала, обвела комнату неуверенным взглядом.
— Надо будет решить, что мы продадим, а что оставим себе.
— Наверно, надо.
— К вещам так привязываешься.
— Да.
— Это будет вроде приключения. Новые места.
— Да.
— На той неделе непременно начнем все улаживать.
— Да.
— Пойду посмотрю, как там отец.
Она пошла к двери.
— Пожалуй, к обеду нужно шампанское. Неплохая мысль, правда?
— Да.
— И ты будешь вести себя хорошо?
— Я же сказала.
— Помоги Брайди накрыть на стол, будь умницей.
— Ладно.
Когда тетя Мэри открыла дверь и вышла, по коридору донесся скрипучий старческий голос:
— «Не убоюсь я ворога под защитой твоей руки, бедствия мне не тягостны, слезы мои не горьки…»
Нэнси взяла с буфета поднос и начала уставлять его стопками тарелок. Мне надо бы плакать, а я не могу. Боль и гнев.
— «Смерть, где твое жало? Могила, где твой венец?»
Дверь в конце коридора закрылась, и пения не стало слышно.
Главное, ты всегда можешь сама сделать выбор — и уж тогда, как говорит Брайди, пеняй только на себя.
_____________________
The Old Jest (1979) First published in Great Britain 1979 by Hamish Hamilton Ltd Copyright © 1979 by Jennifer Johnston Перевод Н. ГальПримечания
1
Не при… (фр.).
(обратно)2
Молись за нас (лат.).
(обратно)3
Свят, свят, свят господь бог Саваоф. Полнятся небо и земля славой твоей. Осанна в вышних (лат.).
(обратно)4
Господи помилуй (греч.).
(обратно)5
Во имя отца, и сына, и святого духа (лат.).
(обратно)6
Строки из ирландской народной баллады XVIII в. Шан Ван Вохт — букв. Бедная Старая Женщина (ирландск.) — аллегорическое название Ирландии.
(обратно)7
Прилично (фр.).
(обратно)8
Без конца (лат.).
(обратно)9
«Большой блестящий вальс» (фр.) — вальс Шопена.
(обратно)10
Дж. Мильтон (1608–1674), «Потерянный рай», кн. IX.
(обратно)11
Поговорим о чем-нибудь другом (фр.).
(обратно)12
Сладостно и почетно… (лат.) Строка из оды римского поэта Горация (65–8 до н. э.). Начало фразы «Сладостно и почетно умереть за отечество».
(обратно)13
Не будем больше об этом говорить (фр.).
(обратно)14
Во веки веков (лат.).
(обратно)15
Баллада ирландского поэта У.-Б. Макберни.
(обратно)16
К. Марло (1564–1593), «Тамерлан Великий», часть вторая, II, 4.
(обратно)17
Отечество, слава (фр.), отечество (нем.).
(обратно)18
Такова… жизнь (фр.).
(обратно)19
Господа (фр.).
(обратно)20
Бутылку коньяка, пожалуйста (фр.).
(обратно)21
Спасибо… большое спасибо (фр.).
(обратно)22
Где война? (фр.).
(обратно)23
Вы шутите, мсье (фр.).
(обратно)24
Нет, я не шучу. Где война? Где? (фр.).
(обратно)25
Война повсюду, мсье (фр.).
(обратно)26
Да, да, конечно (фр.).
(обратно)27
Пожалуйста (фр.).
(обратно)28
Войны здесь нет (фр.).
(обратно)29
Мы ждем, мсье. День за днем мы ждем. Боши, бельгийцы, англичане, даже французы, кто бы то ни был, весь свет будет здесь страдать (фр.).
(обратно)30
Ваше здоровье (ломан. фр.).
(обратно)31
Мы потеряли сына. Двадцатого сентября (фр.).
(обратно)32
Я сожалею… (фр.).
(обратно)33
Не будем больше говорить. Это кончено (фр.).
(обратно)34
Вам, мсье (фр.).
(обратно)35
Иногда это нужно (фр.).
(обратно)36
Прошу вас… (фр.).
(обратно)37
Не беспокойтесь… загрустил. Он ирландец… а ирландцы всегда поют, когда немного… (фр.).
(обратно)38
Ну, ладно… мы идем искать войну. Мы идем крошить грязных бошей. Может быть, мы еще вернемся (фр.).
(обратно)39
Может быть (фр.).
(обратно)40
Стихотворение Перси Биши Шелли (1792–1822) «Жаворонку».
(обратно)41
Английские карательные отряды в Ирландии в 1920–1923 гг.; принимали участие в подавлении национально-освободительного движения.
(обратно)42
Гораций (65–8 до н. э.) — Carpe diem (букв. «Лови день»).
(обратно)43
Из «Песен народов» Томаса Мура (1779–1852).
(обратно)44
Пьеса ирландского драматурга Дж.-М. Синга (1871–1909).
(обратно)45
Шекспир, «Ромео и Джульетта», II, 2. (Перевод В. Пастернака).
(обратно)46
Из стихотворения Чарлза Кингсли (1819–1875).
(обратно)47
Строка из стихотворения Дж. Китса (1795–1821) «Ода соловью».
(обратно)48
Из стихотворения ирландского поэта У.-В. Йейтса (1865–1939) «Когда ты стар».
(обратно)49
Шекспир, «Юлий Цезарь», III, 1. (Перевод М. Зенкевича).
(обратно)50
К. Марло (1564–1593), «Трагическая история доктора Фауста», V, 1.
(обратно)51
Из стихотворения У.-Б. Йейтса:
Сказала — живи так просто, как травы растут, шурша, Но я был юн, неразумен — и вот слез полна душа. (обратно)52
Несколько измененная цитата из «Отцов и детей», гл. XXVII.
(обратно)53
Томас Мур, из «Ирландских мелодий».
(обратно)54
Видимо, имеется в виду возлюбленная французского поэта Гильома де Машо (ок. 1300–1377).
(обратно)55
Уже решено (букв. совершившийся факт, фр.).
(обратно)56
За англичанина, за мужчину (фр.).
(обратно)57
Т. е. шинфейнеры.
(обратно)58
Шекспир, «Гамлет», V, 2. (Перевод Б. Пастернака).
(обратно)59
До свиданья (фр.).
(обратно)60
Шекспир, «Король Генрих V», IV, 3:
Кто, битву пережив, увидит старость, Тот каждый год в канун, собрав друзей… …Рукав засучит и покажет шрамы: «Я получил их в Криспианов день». (Перевод Е. Бируковой) (обратно)61
Вероятно (фр.).
(обратно)62
Светотень (ит.).
(обратно)63
Ш. Перро, «Синяя борода».
(обратно)

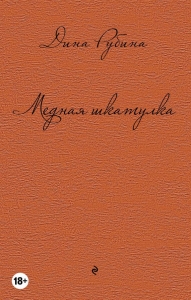



![Байки нашего квартала [Про Турцию и турков]](https://www.4italka.su/images/articles/468359/primary-medium.jpg)





Комментарии к книге «Далеко ли до Вавилона? Старая шутка», Дженнифер Джонстон
Всего 0 комментариев