Барбара Вайн Ковер царя Соломона
Barbara Vine
King Solomon’s Carpet
© 1991 by Kingsmarkham Enterprises Ltd. This edition published by arrangement with United Agents LLP and The Van Lear Agency LLC
Иллюстрация на переплете В. Коробейникова
© Резник С. В., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Посвящается всем, кто работает в Лондонском метро, а также музыкантам, играющим в его переходах.
– Да слушайте же! – страстно продолжал Сайм. – Всякий раз, когда поезд приходит к станции, я чувствую, что он прорвал засаду, победил в битве с хаосом. Вы брезгливо сетуете на то, что после Слоун-сквер непременно будет Виктория. О нет! Может случиться многое другое, и, доехав до нее, я чувствую, что едва ушел от гибели. Когда кондуктор кричит: «Виктория!», это не пустое слово. Для меня это крик герольда, возвещающего победу. Да это и впрямь виктория, победа адамовых сынов.
Гилберт Кийт Честертон. «Человек, который был Четвергом»[1]Глава 1
Никогда в жизни ей не приходилось делать многое из того, что кажется привычным другим людям. То есть вещей самых обыденных, но от которых ее ограждали деньги и слабое здоровье. Она ни разу не пользовалась утюгом или иголкой, не ездила на автобусе, не готовила еду для других, не ходила на работу, не поднималась вынужденно на рассвете, не посещала сама врача и не стояла в очередях. Прабабушка ее и одевалась-то только с помощью горничной, но времена с тех пор все же изменились, и сама она наряжалась без помощников.
Дом их, впрочем, остался все тем же: семья продолжала жить в Стивен-Темпл в Дербишире. Как и прежде, они тихо праздновали Рождество, а вот на Новый год устраивали шумную вечеринку. По традиции играли в буриме или «Что пропало?», а также еще в одну игру, изобретенную ее братом, которая называлась «Не зевай!». Либо время от времени развлекались тем, что заключали друг с другом пари о разных вещах: например, о высочайших или глубочайших местах на планете, или об их расположении, или о количестве чего-либо.
В тот раз один из гостей предложил сделать ставки на то, сколько в мире существует – метрополитенов. Когда его спросили, знает ли он сам ответ – иначе как они выяснят, кто выиграл? – он ответил, что, конечно, знает, а то бы не предлагал этого.
– Что такое метрополитен? – поинтересовалась она.
– Подземная железная дорога. Метро.
– Хорошо, и сколько же их?
– Как раз это я и прошу вас угадать. Ставьте десять фунтов на кон и называйте любое число по своему выбору.
– Значит, во всем мире? – уточнила она.
– Именно.
Не имея ни малейшего представления, она назвала «двадцать», подумав, что и это, наверное, многовато. Кто-то сказал «шестьдесят», кто-то – «двенадцать». Человек, предложивший пари, улыбнулся, и, заметив эту улыбку, ее сестра заявила «сто», а зять – «девяносто». Он и выиграл, сорвав банк. Правильный ответ был «восемьдесят девять».
– По одному метрополитену на каждый год нашего века, – произнес кто-то, как нечто само собой разумеющееся.
– Никогда не ездила на метро, – произнесла она.
Сначала ей никто не поверил. Прожить двадцать пять лет и ни разу не побывать в подземке? Но это было именно так. Жила она в основном за городом и к тому же была богата. Опять же здоровье: вроде бы с сердцем что-то, какие-то шумы, да и клапан работал не вполне идеально. Люди постарше называли ее «субтильной». Ей говорили, что рождение ребенка может вызвать некоторые проблемы, но ничего такого, с чем нельзя было бы справиться. В принципе, она была не прочь иметь детей, но когда-нибудь потом.
В конце концов она сделалась безвольной и ленивой. К примеру, не видела ничего страшного в том, чтобы полежать после обеда. Ей нравилось, когда все суетились вокруг нее. И ей даже в голову не приходило найти себе какую-нибудь работу.
С семнадцати лет она имела собственную машину, а когда приезжала в Лондон, авто всегда можно было взять напрокат, не говоря уже о такси, плавно перемещающихся по Мейфэр[2]. Она вышла замуж, но развелась, и у нее было около пятнадцати любовников. Семнадцать раз она побывала в Штатах, пару раз – в Африке, изъездила на машине либо исходила пешком большую часть европейских столиц и дважды обогнула земной шар. Одним словом, она совершила много чего незаурядного, а вот самые рутинные вещи прошли мимо нее. В частности, она так никогда и не побывала в лондонской подземке.
И, кстати, не испытывала ни малейшего желания туда спускаться. Ведь про это самое метро чего только не рассказывают: изнасилования, грабежи, бандиты, перестрелки, поезда, стоящие из-за самоубийц, часы пик…
По возвращении в Лондон ее брат-близнец сказал:
– На твоем месте я бы не особенно расстраивался. Кому какое дело, где ты была или нет? Я, например, никогда не был в соборе Святого Павла. Сам терпеть его не могу, так бы и взорвал.
– Собор Святого Павла? – удивилась она.
– Да нет, метро, конечно! Все снести и сровнять с землей, как в свое время римляне поступили с Карфагеном.
– Как можно сровнять с землей то, что находится под ней? – рассмеялась она.
– Линия проходит прямо под моим домом. Я уже не в силах выносить эти поезда – грохочут с самого утра.
– Так переезжай, – лениво посоветовала она. – Почему ты не переедешь?
Немного отдохнув после обеда, она поехала на такси в Хэмпстед, в магазинчик, где продавали что-то вроде этнической одежды, которую нигде больше нельзя было купить. Он находился на Бэк-лейн, сразу за углом. Там она приобрела свадебный наряд перуанской невесты: приталенный, с высоким воротничком, большими рукавами и длинной, до пола, юбкой. Все это было белым, как белоснежная роза, с белыми же атласными лентами и белыми кружевами. Ей предложили доставить наряд на дом и начали уже записывать ее адрес, когда внезапно покупательница передумала: ей захотелось надеть его этим же вечером.
На Хит-стрит и Фицджеральд-авеню не было недостатка в такси, однако она проигнорировала их и направилась прямиком к станции метро «Хэмпстед»[3], подумав, что было бы ужасно интересно вернуться домой подземкой. Покупка платья привела ее в странное возбуждение. Ее вдруг словно бы охватила какая-то одержимость.
Она, конечно, отдавала себе отчет в том, что в ее поступке было нечто вымученное. Что бы сказали ей все те, кто вынужден пользоваться этим видом транспорта день за днем, если бы узнали о ее мотивах? Мысль об их презрении, отвращении и зависти побудила ее сделать решительный шаг внутрь.
Покупка билета заняла несколько минут. Она не знала, что нужно говорить в билетной кассе, поэтому воспользовалась автоматом. И когда желтый билетик вместе со сдачей появился за маленьким окошком, она ощутила самый настоящий восторг. Понаблюдав за другими людьми и обнаружив, что все показывают билеты человеку в кабинке, она поступила так же.
Дальше была лестница. Объявление у входа извещало, что это – самая глубокая станция метро в Лондоне, и, поскольку требовалось спуститься на целых триста ступеней, пассажирам рекомендовали воспользоваться лифтом[4]. Когда она подошла к лифту, его двери закрылись. Наверное, надо было подождать следующего. Именно в этот момент она поняла, насколько, оказывается, сложно путешествовать в метро. Она сама всегда считала себя умной, и другие были с этим согласны. Но почему же тогда самые заурядные люди легко справлялись с тем, что представляло для нее такие трудности?
Не без страха шагнула она в подошедший лифт. Больше в кабинке никого не было. А вдруг ей придется управлять лифтом самой? И если да, то как это делается? Но тут подошли другие люди, и она вздохнула с облегчением. Никто не обращал на нее никакого внимания. Наверняка если кто из них и заметил ее, то подумал, что она – такой же бывалый путешественник, как и все они. Светящееся табло приказало отойти подальше от дверей, они закрылись, и лифт сам по себе пришел в движение.
Там внизу, в недрах земли, она осознала наконец, насколько глубоко спустилась. На указателе с надписью «К поездам» была нарисована стрелка – вперед и налево. Некоторые, впрочем, вместо того чтобы идти вперед, сразу свернули налево, что несомненно демонстрировало их мастерство, опыт и нежелание следовать по пути, предписанному каким-то бюрократом. На платформе она вновь засомневалась, что поступила правильно. Чего доброго, из сердца Лондона ее увезут неизвестно куда, в какой-нибудь пригород, вроде Хендона или Колиндэйла.
Шум приближающегося поезда вызывал страх и трепет. Все ее силы сосредоточились на том, чтобы выглядеть в глазах окружающих совершенно беспечной. В то же время она исподтишка наблюдала за тем, что делали другие. Похоже, садиться можно было где угодно и никаких правил на этот счет не существовало. Она никогда не была слишком послушной, но здесь, в подземке, неожиданно для себя вновь превратилась в маленькую девочку, усердную и аккуратную, но не имевшую той силы духа, которая никогда не покидала ее в детстве.
Она выбрала сиденье неподалеку от дверей. Ей казалось, что находиться рядом с дверями безопасней. Она уже не помнила, что поездка должна была стать интересным приключением, маленьким опытом, которого недоставало в ее жизни. Теперь все превратилось в испытание на прочность. Когда поезд тронулся, она глубоко вздохнула, сложив на коленях подчеркнуто расслабленные кисти рук и делая глубокие медленные вдохи и выдохи. Она очень боялась застрять в туннеле – больше того, у нее внезапно возникло чувство, что эти туннели ей, оказывается, глубоко отвратительны. Это было что-то новое. У нее никогда не наблюдалось приступов клаустрофобии, даже в небольших помещениях или в лифтах. Впрочем, раньше она никогда не бывала в туннелях, за исключением тех, которые быстро проскакивала на машине.
Тем не менее она справлялась. С ней все было в порядке. Поезд пришел на «Белсайз-парк», и она с любопытством рассматривала перрон. Эта станция, как и следующая за ней – «Челк-фарм», была отделана белой и светло-коричневой плиткой, напомнившей ей ванные комнаты для прислуги в Стивен-Темпл. Она принялась изучать схему линий на противоположной стенке вагона, сообразив, что в какой-то момент ей нужно будет пересесть на другой поезд. Наверное, на «Тоттенхэм-Корт-роуд», так как именно эта станция находилась на пересечении черной и красной линий. Судя по всему, поезд должен был вскоре туда прийти, а на станции она будет следовать указателям, которые там наверняка имеются, и, таким образом, попадет на Центральную линию, ведущую на запад.
Тем временем поезд подъехал к станции «Кэмдэн-таун»: синий и сливочный цвета, еще одна убогая ванная комната.
И тут произошло нечто неприятное. Такие вещи происходят в плохих снах, в повторяющихся раз за разом кошмарах, от которых просыпаешься в панике и ужасе, но подобное ей не снилось никогда и присниться не могло, поскольку прежде она ни разу не была в подземке.
Следующей станцией должна была быть «Морнингтон-крезент», но ее не было. Вместо этого они приехали на «Эустон». Ей потребовалось немало времени, чтобы понять, что случилось и в чем она ошиблась. В конце концов, ей все объяснила схема. Но к тому времени, когда она разобралась, как ею пользоваться, ее уже била дрожь.
Поезд, на котором она ехала, как, похоже, и все поезда, направлялся на юг Лондона. Но шел через станцию «Банк» вместо «Тоттенхэм-Корт-роуд», описывая петлю вокруг Сити. Иначе говоря, она села не на тот поезд.
Все это время пассажирка едва замечала, что в вагоне находились другие люди. Теперь же она обратила на них внимание. Они не были похожи на тех, с кем она обычно встречалась. Со своими свирепыми, раздраженными физиономиями, они показались ей враждебными, грубыми и даже дикими. Она повторяла себе, что должна сохранять спокойствие. Ведь ничего непоправимого не произошло. Можно выйти на станции «Банк» и там пересесть на Центральную линию, обозначенную на схеме красным.
На «Кингс-Кросс» в вагон зашло множество людей. Это была та самая станция, где недавно произошел пожар[5], она читала об этом в газетах и видела по телевизору. Ее муж – в ту пору она еще была замужем – сказал, что ей лучше такое не смотреть:
– Не стоит этим увлекаться. Поверь, твоих знакомых там быть не могло.
Впрочем, из окна ей не было видно ничего, что бы указывало на последствия пожара. К тому времени, как поезд тронулся, она вообще ничего там не видела. Более того, она едва могла видеть сами окна, так много людей набилось в вагон. Она сидела очень тихо, стараясь сделаться как можно незаметнее и зажав пакет с платьем между коленями. Говорила себе, что ей еще очень повезло занять сидячее место, что тысячи, если не миллионы, людей ездят так каждый день.
Одно было хорошо: больше в вагон не мог зайти никто. Впрочем, ей пришлось пересмотреть этот вывод – сначала на станции «Энджел», потом на «Олд-стрит». Ей пришло в голову, что, возможно, момент, когда уже никто не сможет поместиться внутри, никогда не наступит: все так и будут толкаться и пихаться, до тех пор, пока не передавят друг друга или пока вагон не лопнет. Ей вспомнилась избитая аналогия, сравнивающая людей в переполненном поезде с сардинами в банке, которую она много раз слышала. Если внутри банки что-то идет не так, там появляются газы, ее содержимое разбухает, и все взрывается…
После «Мургэйта» ей пришлось всерьез задуматься о том, как она собирается выходить на следующей станции.
Наблюдая, что делают другие пассажиры, она поняла, что ей не удастся даже встать со своего места так, чтобы никого не толкнуть. Дорогу придется прокладывать локтями, распихивая окружающих. Двери открылись, и голос в динамиках забубнил что-то неразборчивое. Если сейчас она не выйдет, то поезд помчит ее к следующей станции под названием «Лондонский мост», и тогда она вынуждена будет проехать прямо под руслом реки. Об этом на схеме извещала полоска голубого цвета, петляющая то вверх, то вниз, как водопроводная труба – Темза.
Поток выходящих людей подхватил ее и вынес из вагона. В такой ситуации было бы затруднительно остаться в поезде. Со всех сторон ее нещадно давили, пихали и толкали. Воздух на платформе оказался тяжелым и прокисшим, но после духоты вагона он показался ей свежим. Она глубоко вдохнула. Теперь следовало найти красную линию – Центральную.
Самым удивительным было то, что ей не пришло в голову проследовать по указателям «Выход», покинуть станцию, выйти на улицу и поймать такси. Сообразила она это, только когда уже ехала на запад по Центральной линии. Почему она об этом не подумала, разыскивая переход с одной линии на другую? Все ее мысли в тот момент направлены были на то, чтобы разыскать правильный путь. Пакет с платьем был к тому времени весь измят, а светлые туфли покрыты черными царапинами. Она чувствовала себя запачканной.
Один раз она свернула не туда. Простояла на платформе несколько минут, ожидая поезда, и, разумеется, села бы в него, если бы представилась такая возможность. Но она не смогла заставить себя, подобно другим, лезть вперед, протискиваясь сквозь плотную людскую массу, сбившуюся в дверях. Когда двери закрылись, утрамбовывая пассажиров, она случайно подняла глаза на светящийся указатель над головой и очень обрадовалась, что так и не попыталась залезть в вагон. Поезд шел на восток, в какой-то Хейнолт, о котором она до того ни разу в жизни не слышала.
Тогда она перешла на нужную платформу. Здесь тоже было много людей. Подошедший поезд направлялся в еще одно незнакомое ей место. Хэнджер-лейн. Но она знала, что направление верное: он должен был остановиться на Бонд-стрит, куда она и хотела попасть. Ей подумалось, что если бы она почаще пользовалась подземкой, то со временем разобралась бы, как там все устроено. Но одного раза с нее было более чем достаточно.
Впрочем, в подошедший поезд она вошла без особого труда. Не нужно было никого отталкивать, хотя сидячих мест в вагоне уже не имелось. Те, кому тоже не досталось места, стояли, поэтому ей оставалось только смириться с этим. В любом случае, это не должно было продлиться долго. Наверное, ей следовало послушаться голоса из динамиков, который просил пройти дальше в вагон. Но она осталась стоять у дверей, одной рукой ухватившись за поручень, а другой – сжимая пакет с платьем.
Недалеко от нее сидел совсем молодой парень. Она ждала, что он встанет и уступит ей свое место. Всю жизнь мужчины отказывались ради нее от своих мест: вставали, увидев ее, на теннисных матчах и лошадиных бегах, уступали сиденья у окошка в самолете и удобно расположенные кресла на балконе при проезде на королевский кортеж. Этот же тип даже не пошевелился, продолжая читать «Стар». Она так и осталась стоять, вцепившись в поручень и в свой пакет.
На станции «Сент-Пол» платформу покрывала огромная толпа. Она увидела целое море лиц, и на каждом из них читалась непреклонная решимость во что бы то ни стало сесть в этот поезд. Снова, как прежде на Северной линии, она подумала, что должно быть какое-то правило, может быть, даже закон, который ограничивал бы количество заходящих в вагоны людей. Чтобы, как только положенное число было бы достигнуто, появлялся бы специальный служащий, который выгонял бы лишних.
Но никто так и не вмешался, даже тот бестелесный голос из динамиков, а люди все заходили и заходили внутрь, подобно наступающей армии или крушащему все на своем пути тарану, изготовленному из мужских и женских тел. Она не видела, опустела ли уже платформа, потому что не могла ничего больше разглядеть. Какой-то человек, стремясь пролезть как можно дальше вперед, зацепился за пакет с платьем, и тот выскользнул из ее руки. Она попыталась схватить его, но безуспешно: в кулаке вместо пакета оказалась зажата чья-то юбка. Она, чуть не плача, выпустила ее, увидев встревоженное выражение лица владелицы. Возможно, такое же выражение было сейчас и у нее самой.
Пакет был смят, сжат, раздавлен ногами толпы, и не было никакой возможности его вернуть. Она не осмеливалась выпустить поручень, который изо всех сил сжимали еще четыре руки. Никогда еще лица других людей не находились так близко от ее собственного, за исключением разве что занятий любовью. Чей-то затылок прижался к ней так сильно, что волосы попали ей в рот – она почувствовала запах немытой шевелюры и увидела чешуйки перхоти. Попытавшись отвернуться, она вывернула шею, но встретилась глазами с другим человеком, смотревшим на нее так пристально, словно они с ним собирались целоваться. Но его глаза были мертвыми, намеренно остекленевшими, слепыми, не желающими ни с кем идти на контакт.
Наконец двери с визгом закрылись и поезд тронулся. Возня, суета, перемещение туда-сюда рук по поручням прекратились, все успокоилось. Люди замерли как неподвижные статуи, будто в игре «Море волнуется – раз». Она поняла, почему это произошло. Если бы они продолжали двигаться и беспокойное шевеление не прервалось, существование внутри поезда стало бы невозможным. Люди начали бы кричать, начали бы бить друг друга, сойдя с ума от абсолютно невыносимого, насильно навязанного им состояния.
Все утихомирились. Некоторые стояли задрав подбородки и вытянув шеи – их лица напоминали лики мучеников на картинах. Другие, напротив, кротко и покорно опустили головы. Хуже всех приходилось невысоким, таким, как толстая девушка, которую она заметила по соседству. Та стояла ни за что не держась, стиснутая окружающими телами, в лицо ей утыкался мужской локоть, а на горло давил угол сумки, которую конвульсивно сжимала под мышкой одна из женщин.
К тому времени она уже давно потеряла из виду свой пакет. И хотя она специально вышла из дома для того, чтобы приобрести это платье, теперь ей было все равно. Ее заботило только выживание, необходимость сохранять полную неподвижность, вытерпеть все, продержаться, пока поезд не прибудет на станцию «Ченсери-лейн». Там она его покинет и выйдет из метрополитена наружу. Сейчас она понимала, что должна была сообразить и подняться на поверхность еще на станции «Банк». Но потеря белого наряда перуанской невесты будет небольшой ценой за побег.
Поезд остановился, и она подумала, что они уже прибыли. Однако двери не открывались, а за окнами была темнота. Значит, они остановились посреди туннеля. У нее не было ни малейшего представления, является ли это обычным делом или чем-нибудь исключительным и нужно ли волноваться по этому поводу. Узница подземки хотела спросить у мужчины, стоявшего рядом с ней лицом к лицу и дышавшего на нее чесноком, но в горле у нее так пересохло, что она совершенно лишилась голоса. Куда отчетливее, чем прежде, она чувствовала, сколько человеческих тел к ней прижималось: локтей, грудей, животов, ягодиц, плеч… Да еще вдобавок это твердое стекло, к которому ее нещадно придавили.
В вагоне становилось все жарче. До этого она не обращала внимания на температуру, но теперь почувствовала, как капельки пота выступили у нее на лбу и на верхней губе, а потом тоненькая холодная струйка потекла вниз между грудей. Ее пронзил холод, но воспринимался он не как облегчение, а, скорее, как приступ боли или удар током.
Духота усиливалась. Вагон дернулся, как будто поезд тошнило, и она приготовилась, затаила дыхание, ожидая начала движения. Но раздалось шипение, и поезд снова замер. Человек рядом с ней хрюкнул. Его лицо было очень красным и выглядело так, как если бы его опрыскали водой. Капля пота стекла по ее лбу прямо в глаз, который тут же защипало. Она спросила себя: почему так? Почему от слез, даже горьких, не больно, а вот соленый пот разъедает глаза?
Пока она это обдумывала, по-прежнему держась за поручень влажной скользкой ладонью и чувствуя, что становится все жарче, поезд снова рванулся вперед. От этого движения, гораздо более сильного, люди вокруг одновременно качнулись, навалившись друг на друга, словно приливная волна, состоящая из человеческих тел. Ее нос ткнулся в чью-то твидовую спину, и она, борясь за глоток воздуха, изо всех сил боднула ее и застонала, когда еще одна ледяная струйка стекла вниз и отозвалась болью.
Может быть, именно этот ледяной шарик, скользнувший по коже, вызвал то, что произошло. Ужасная боль схватила ее за левое плечо, как будто железный коготь. Она выгнула спину и попыталась вытянуть шею, приподнять голову над мешаниной из плоти, волос и вони. Поезд тронулся, плавно двинувшись вперед, и тут стальные когти сомкнулись вокруг нее, как клешни монстра.
Они обхватили ее и потащили вниз, мимо плеч, рук, бедер, лодыжек, прямо к грязной стоптанной обуви. Поезд продолжал мерно приближаться к «Ченсери-лейн». Последнее, что она увидела, прежде чем сердце, с которым всегда было что-то не так, остановилось, был пакет с платьем, валявшийся между чьими-то брючинами.
Вагон был переполнен. Больше ни один пассажир не смог бы туда войти, даже если бы очень постарался. Тем не менее, когда она упала на пол и умерла, все расступились, отшатнулись, давая место, которое было так необходимо ей при жизни.
На «Ченсери-лейн» поезд был остановлен, и труп унесли. В вагоне остался лишь пакет, похоже, из магазина одежды. Он был из плотной бумаги, покрытой темно-синим глянцем, с изображением женщины в неопределенном национальном костюме. Работники метро побоялись его вскрывать и на всякий случай послали за саперами.
В итоге внутри было найдено свадебное платье. Там же находился и счет, на котором был указан адрес покупателя. Платье было отправлено по этому адресу и в конце концов вручено ее семье.
Глава 2
Смерть молодой женщины не попала в книгу Джарвиса Стрингера. Он собирал только самые яркие происшествия, наподобие первого погибшего «зацепера»[6] или абсурдной истории об излишне ретивых рабочих, которым при попытке вручную закрыть вентиляционные вороты снесло головы в туннеле, а также о жертвах пожаров. Впрочем, рапорт о расследовании дела и о дальнейших безуспешных попытках семьи выдвинуть обвинения против компании Лондонских Подземных Перевозок он прочитал внимательно. Если бы у них тогда что-то получилось, этому событию была бы уделена целая глава в разделе о несчастных случаях.
Позже брат погибшей сам попытался встретиться с Джарвисом, но тот в это время находился в России, а его книга была уже почти завершена. Он начал писать ее, еще когда жил с матерью в Уимблдоне, задолго до того, как переехал в так называемую «Школу».
В Лондоне находится старейший в мире метрополитен (так начиналась его книга). Он был основан в 1863 году в викторианском городе с его трущобами, газовыми фонарями, бесправием и бедностью. Семьсот пятьдесят тысяч живущих там людей ежедневно отправлялись на работу. Они шли пешком, приплывали на лодках, приезжали на омнибусах и на лошадях. Были и такие, которые вообще не могли устроиться на работу, поскольку жили слишком далеко.
Тогда один человек придумал дорогу, которая связывала бы все вокзалы, все сходящиеся в город пути. Звали его Чарльз Пирсон. Он родился в семье мебельщика, но сумел стать солиситером Муниципального Совета Лондона.
«Бедный человек, – писал Пирсон, – прочно привязан к своему дому. У него нет ни времени, чтобы добраться пешком до места, где можно получить хорошую работу, ни денег, чтобы туда доехать».
Сначала был разработан план постройки подземных галерей, освещенных газовыми фонарями и с вагонами на гужевой тяге. Этот проект был отклонен из-за опасения, что зловещие туннели могут превратиться в прибежище преступников. За двадцать лет до того, как его мечта была реализована, Пирсон придумал подземную железную дорогу, проходящую по просторным, хорошо освещенным и вентилируемым галереям.
Это был первый набросок проекта метрополитена.
Глава 3
Этот дом находился неподалеку от линии метро, и его всегда называли «Школой». Так звал его и Джарвис Стрингер, с тех самых пор, когда он был еще мальчуганом, слишком маленьким, чтобы что-то запомнить. В то время там действительно находилась школа. Скорее всего, так могла называть дом его мать, которая прежде в ней училась. Джарвису исполнилось всего пять лет, когда школа закрылась, а его дед покончил с собой.
Краснокирпичное викторианское здание было построено на улице Западного Хэмпстеда, идущей параллельно линиям Метрополитен и Юбилейная лондонской подземки. Этот большой, вполне неоготический, но с бельведером в итальянском стиле дом стоял в начале пути между станциями «Западный Хэмпстед» и «Финчли-роуд», там, где рельсы уходят с поверхности в галереи и ныряют под землю. Двор для такого большого дома был маловат, от соседей его отделяли лишь два ряда кустарника и полоска газона с деревьями у самого забора. За штакетником уже можно было видеть поезда, идущие на север – в Эмершам, Харроу и Стэнмор, или на юг, к центру Лондона. С той стороны постоянно доносился перестук колес. Тишина наступала только глубокой ночью.
Дед Джарвиса Стрингера Эрнест Джарвис купил этот дом в двадцатых годах. Железнодорожная ветка уже существовала там много лет, начиная с 1879 года, когда метрополитен дотянулся от Суисс-Коттедж до Западного Хэмпстеда. Эрнест был достаточно обеспечен, так как унаследовал часть состояния рода Джарвисов, и было не совсем понятно, почему он не открыл свою школу в какой-нибудь более приятной части северо-западного Лондона, например, поблизости от Форчун-Грин. Даже его дочь не понимала, почему он выбрал дом у самой железной дороги и зачем вообще устроил эту школу. Нельзя было сказать, чтобы он как-то особенно любил детей. Куда больше ему нравились поезда. Преподавательская квалификация четы сводилась к тому, что дедушка Джарвиса закончил Оксфорд, где прочитал всех «Великих Классиков», а бабушка поступила на учительские курсы в Колледж Голдсмит, так, впрочем, и не доучившись там. Тем не менее эти обстоятельства позволили им открыть частную школу.
Как ни странно, затея удалась. Родители охотно отправляли дочерей в учебное заведение, получившее название «Школа Кембридж», в течение долгих тридцати лет наряжая их в форму светло-коричневого и нежно-голубого цветов, придуманную самой Элизабет Джарвис. Возможно, причины успеха крылись в гениально выбранном названии школы и в не менее гениальной идее использовать в блейзерах и лентах шляпок голубой цвет, который напоминал цвета знаменитого университета. Естественно, никто никогда официально не утверждал, что между школой для девочек, размещавшейся у железной дороги, и Кембриджским университетом есть какая-то связь, но подтекст был очевиден. Название и бледно-голубой цвет придавали школе определенное очарование. Не слишком высокая престижность заведения искупалась низкой платой за обучение. Уроки не были особенно напряженными, а экзамены – суровыми. Как замечала мать Джарвиса, непреложный факт заключался в том, что ни одна из девочек, закончивших «Школу Кембридж», не продолжила обучение в каком-либо университете, тем более в Кембриджском.
В 1939 году, когда строили две новые линии подземки – ветки Бейкерлоо, Эрнест часто покидал школу, чтобы полюбоваться, как копают туннели под зданиями на Финчли-роуд, укрепляют фундамент отеля «Северная звезда» и перестраивают станцию «Финчли». Пару лет спустя, во время Второй мировой войны и бомбардировок Лондона, соседние здания были разрушены, но «Школа Кембридж» сохранилась. Элизабет говорила, что это напоминало чудесное спасение собора Святого Павла, когда все вокруг превратилось в сплошные руины. Элси Стрингер, в свою очередь, считала, что сравнение это было несколько натянутым, хотя такие преувеличения были свойственны ее родителям, когда те заговаривали о своем учебном заведении.
Ее сын Джарвис закончил Кембриджский университет с дипломом инженера. Оценки юноши оставляли желать много лучшего, потому что занимался он не слишком усердно. От дедушки он унаследовал «Школу» и любовь к поездам. Вернее, сначала «Школа» перешла к его матери, которая избегала поездок на поездах всеми силами, пока Джарвис, как положено молодому англичанину, странствовал по миру. Но вместо того чтобы прокатиться на машине по Индии, лично понаблюдать за политическими пертурбациями в Центральной Америке или пуститься в какую-нибудь африканскую авантюру, он всюду посещал метрополитены. Молодой человек стал одним из первых пассажиров MARTA – метро, открывшегося в Атланте в 1979 году. Пару лет спустя он ездил на открытие подземки в Фукуоке. Затем последовали ММТА в Балтиморе и метро в Каракасе.
Джарвису было пять лет, и он как раз играл с электрической железной дорогой, полученной в подарок на день рождения, когда его матери сообщили, что ее отец покончил жизнь самоубийством. Мальчик находился в своей комнате, а его мать – в соседней. Она сняла трубку. Ее сын слышал телефонный звонок, но не прислушивался к тому, о чем она говорила: ведь он играл с поездом. Позже, вспоминая тот день, он думал, что именно тогда железная дорога впервые смогла отвлечь его от горестной реальности. В дальнейшем такое происходило еще не раз.
Мать зашла в его комнату, опустилась перед ним на колени и обняла, задыхаясь от плача и вся дрожа. Она все прижимала его к себе, бормоча:
– О, мой дорогой мальчик, обними свою бедную мамочку, мамочке сейчас очень, очень плохо!
Сын терпел минуту или две, а потом вырвался из объятий и посмотрел на мать. Она была необыкновенно бледна. Джарвис спросил:
– Что случилось?
– Бедный мальчик, ты не должен слышать такие страшные вещи, – ответила она и уселась на его кровать, по-прежнему дрожа и прижимая руки к груди.
Тогда ребенок вернулся к своему поезду, который как раз направлялся из Лондона в Пензанс, корнуолльскую Ривьеру. Он воображал себя одновременно и машинистом, и пассажиром, а доезжая до Плимута, становился еще и станционным смотрителем. Уже в том возрасте малыш испытывал особенную любовь именно к подземным железным дорогам, и когда поезд подходил к туннелю Веллингтон (этим летом во время каникул они с родителями побывали в Корнуолле), Джарвис начинал громко гудеть, подражая паровозу.
Мать зарыдала. Сын издал последний гудок. Будучи по природе чувствительным и отзывчивым мальчиком, он понял, что должен что-то предпринять, поэтому поднялся с пола, подошел к ней и взял ее руки в свои. Элси вела себя точно так же, как в тот день, когда умерла бабушка, и он спросил:
– Дедушка умер, да?
Женщина так удивилась, что перестала плакать и поинтересовалась, откуда он это узнал. Джарвис ответил, что просто догадался. При этом ребенок обратил внимание, что она была не просто грустна, но за ее состоянием крылось что-то еще. Он забрался к ней на колени и позволил себя обнять, решив дать ей пять минут, которых, по его мнению, было более чем достаточно для утешения. Он недавно научился определять время по стрелкам часов и теперь следил по будильнику, стоявшему за спиной матери. По истечении пяти минут мальчик вернулся к своей игре, а миссис Стрингер продолжила сидеть на кровати, пристально глядя на сына. К тому моменту, когда поезд прибыл на первую станцию Эксетера – Сент-Дэвид, домой на такси вернулся его отец и начали собираться другие люди.
Эрнест Джарвис повесился. С сороковых годов дела в его школе шли все хуже и хуже. Количество учениц постоянно сокращалось. Сначала их стало пятнадцать, потом – десять и наконец осталось всего трое. Ушли те времена, когда они с женой могли позволить себе держать четырех преподавателей. Теперь всех троих семнадцатилетних девиц учила сама Элизабет. Она умерла от сердечного приступа в конце июля, когда школу покинула последняя из учениц, – словно позволила себе умереть только после того, как до конца исполнила свой долг. У Эрнеста больше не было ни жены, ни работы – оставалось лишь немного денег и, камнем на шее, слоноподобный домище, на ремонт которого требовалось, по меньшей мере, десять тысяч фунтов.
В «Школе Кембридж» имелся колокол, который никогда не звонил, в который никто никогда не пытался звонить. Висел он в бельведере, который Эрнест гордо именовал колокольней, даже после того, как его сестра Сесилия объяснила ему значение слова «бельведер», то есть «прекрасный вид». Он приобрел колокол на Камденском рынке и повесил его, намереваясь ежедневно звонить, созывая на уроки вечно опаздывающих девочек. Но сестра вскользь заметила, что школы, подобные этой, не имеют никаких колоколов и что колокол сразу понизит класс заведения, отпугнув состоятельных родителей потенциальных учениц. Тем не менее колокол остался, и веревка от него через специальные отверстия спускалась с крыши по всем этажам вплоть до маленькой каморки, служившей одновременно раздевалкой и звонарной. Примерно через год веревку смотали и повесили на «утку»[7], укрепленную на верхнем этаже.
Эрнест Джарвис продумал все, что требовалось, причем это должно было занять у него приличное время. С помощью какого-то инструмента, судя по царапинам – отвертки, он вытащил пробки, тридцать лет закрывавшие отверстия между этажами. Отвертку он затем положил обратно в ящик с инструментами в сарае. Аккуратность была одним из главных достоинств этого человека.
Когда он снимал веревку с «утки», колокол звякнул. Возможно, Эрнест забыл, что колокол может звонить, но не исключено, что колокольный звон был последней проблемой, которая заботила его в тот момент. Сесилия Дарн, проживавшая по соседству, говорила, что услышала одинокий удар колокола где-то в восемь утра. Чуть позже она, естественно, услышала еще несколько, а минут через пятнадцать раздался ужасающий трезвон. В общем-то, колокол слышали многие, но, похоже, одна только Сесилия обратила внимание на самый первый удар, прозвучавший, когда ее брат разматывал веревку и случайно дернул за язык колокола, качнув его.
Эрнест пропустил веревку через открытые им отверстия до самой раздевалки, где когда-то висели светло-коричневые плащики и фетровые шляпки с бледно-голубыми «кембриджскими» ленточками. В ноябре 1958 года каморка пустовала. Там был лишь ряд крючков на одной стене, да такой же ряд на противоположной, находившейся в восьми футах от нее. Маленькое окошко высоко под потолком, прямо напротив двери, было матовым с полосой красного, почти пурпурного стекла в самом верху. Каменный пол покрывал бежевый линолеум с узором в виде королевских лилий. Табурет хозяин школы взял в одной из классных комнат. Это был учительский табурет, стоявший у кафедры. Впрочем, как оказалось, он так его и не использовал. Эрнесту было уже под семьдесят, и он страдал артритом. Возможно, он просто побоялся забираться на табуретку, чтобы совершить то, что задумал. Когда его нашли, табурет стоял рядом. Тут же обнаружился перевернутый стул из гостиной, который Эрнест посчитал более подходящим для своей цели.
Несмотря на то что в доме успели побывать и даже пожить множество людей, табурет со стулом все так же находились в той раздевалке, когда в Школу переехал сам молодой Джарвис. Табурет стоял в одном ее углу, слева от окошка, а стул – в противоположном. Казалось, они были расставлены каким-нибудь уборщиком, наводившим здесь порядок и не знавшим, что в этой комнате повесился хозяин. Впрочем, веревка с потолка уже не свисала. Джарвис, вступивший во владение домом тридцать лет спустя после смерти деда, нашел ее скрученной на «утке». Он еще подумал, не та ли это веревка, но не решился спрашивать об этом свою мать.
Скорее всего, веревка была та же самая, потому что в «Школе» с тех пор, как повесился дед, ничего не изменилось. Другая родственница Джарвиса, тетка Эвелина, сестра Эрнеста и Сесилии, жила в их комнатах до самой своей смерти. Потом Тина Дарн, дочь Сесилии, бывшая на год или два старше Джарвиса, убедила Элси позволить ей поселиться в «Школе» и основать там коммуну. Сама Тина прожила там около шести месяцев, и приглашенные ею коммунары, трудяги и идеалисты, починили оконные рамы и посадили в саду овощи. Но в самой «Школе» никто из этих людей ничего не изменил. Да они и не смогли бы это сделать. Теперь на ремонт старого дома потребовалось бы не десять тысяч фунтов, а все сорок.
Эрнест завещал своей единственной дочери все, чем владел. Под «всем» подразумевалась «Школа Кембридж» и девяносто восемь фунтов в банке. Если подумать о том, что в 1925 году грамотно вложенный семейный капитал приносил весьма приличный годовой доход в тысячу фунтов, можно заключить, что Эрнест был не очень сведущ в финансовых делах. Возможно, это послужило одной из причин, почему он взобрался на тот стул и сделал петлю, завязав на веревке прочный скользящий узел и навернув целых десять витков.
Это сработало. Когда он спрыгнул, оттолкнув стул, зазвонил колокол. Должно быть, несчастный старик долго бился и дергался, потому что колокол звучал и звучал, разнося по округе тревожный набат, прежде чем окончательно затихнуть. Одна соседка, услышавшая трезвон впервые за пятнадцать лет, что жила на этой улице, добрых полчаса гадала, что бы это могло значить, а потом поспешила к «Школе».
Мать сказала маленькому Джарвису, что дедушка ушел к Иисусу. Она ничего не говорила о том, какой «транспорт» тот выбрал для своего путешествия, но немного погодя Джарвис услышал ее разговор о самоубийцах, в котором прозвучало имя «несчастного Эрнеста», и сделал правильный вывод. Когда ему исполнилось пятнадцать, Элси рассказала, что ее отец и его дед повесился. Юноша изводил мать разговорами о том, почему они не переедут жить в «Школу», вместо того чтобы пускать туда посторонних людей, и она была вынуждена наконец все объяснить.
– Я никогда не смогу там жить, – сказала она, а в конце, по своему обыкновению, добавила: – Не говоря уже о том, что нужно потратить тысячи, прежде чем там смогут поселиться цивилизованные люди.
Ни тетю Эвелину, ни двоюродную сестру Тину, ни тех идеалистически настроенных огородников она к таковым явно не относила. Элси, Джарвис и его отец проживали в доме на две семьи в Уимблдоне. Ее сын не выносил этот пригород, но сделать ничего не мог – ему оставалось только ждать, когда он повзрослеет. Иногда, впрочем, он наведывался в Западный Хэмпстед и заглядывал в «Школу», где жили коммунары. Он наслаждался каждой минутой, проведенной там, и размышлял о том, как здорово было бы переселиться туда самому. Изредка он даже оставался в «Школе» на ночь. Засыпая на полу классной комнаты, которая находилась на первом этаже и почему-то звалась «переходный класс», он слышал перестук вагонных колес, доносившийся со стороны сада, и ему казалось, что это самый прекрасный звук на свете. Возвращаясь на следующий день домой и стоя на платформе станции метро в направлении «Бейкер-стрит», он заметил, как поют рельсы при приближении поезда, причем звуки доносились до него куда раньше, чем в поле зрения появлялся сам поезд. А еще молодой человек увидел, как трепещут в ожидании серебристые рельсы Западного Хэмпстеда.
В семидесятых годах произошел бум в сфере недвижимости. Правильнее было бы назвать это мини-бумом, если сравнивать с тем, что случилось лет через десять, но тем не менее цены росли, риелторы потирали руки, засучивали рукава и отправлялись на охоту. Один из них написал матери Джарвиса, предложив выкупить за хорошие деньги «Школу Кембридж». В восьмидесятые годы они уже названивали самому Джарвису, жившему в «Школе», умоляя его продать здание. Можно сказать, что ему писали или звонили, по крайней мере, раз в неделю. В ответ молодой человек твердил одно и то же: «Школа» разрушается, оседает, а в один прекрасный день она просто возьмет и рухнет из-за постоянной вибрации от поездов, поэтому им лучше забыть об этой идее. При этом он повторял слова, сказанные инспектором по недвижимости первому покупателю, которому мать Джарвиса хотела продать здание в 1976 году. Тот собирался превратить «Школу» в многоквартирный дом, но быстро отказался от проекта, так же, как и второй покупатель, сам работавший инспектором.
Тем временем коммуна переехала в Девон, оставив после себя грядки ревеня, который все еще рос в саду, когда Джарвис Стрингер сам перебрался в «Школу». Местные власти грозили Элси снести дом, если она не произведет там должного ремонта. Потом отец Джарвиса умер, а мать через два года снова вышла замуж и уехала жить во Францию. Как никто другой, она отдавала себе отчет в том, что ее сын вырос большим оригиналом. Он очень отличался от нормальных молодых людей, тех, кто поступает на работу, потом находит местечко получше, идет на повышение, женится, заводит двоих детишек – мальчика и девочку, покупает дом, который позже меняет на дом получше, машину и так далее. Джарвис таким не был. Как только у него появлялись хоть какие-то деньги, он тут же покупал самый дешевый билет и отправлялся в Центральную Америку или Таиланд смотреть новое метро. Он собирал материалы для своей книги о метрополитенах, идея которой преследовала его много лет. Возвращаясь в Англию, он жил в «Школе», разбитые окна которой заколотил досками, а трубы прочистил.
– Было бы неплохо, если бы ты все-таки позаботился о «Школе», – сказала ему мать, отправляясь в Бордо. – Просто позор, что наш старый милый дом разваливается буквально на глазах! Ты мог бы сдать половину его и жить на ренту.
Последнюю фразу она произнесла с некоторым сомнением. Незадолго до этого они с Джарвисом ездили в Западный Хэмпстед, и Элси не представляла, что какие-нибудь «цивилизованные люди» захотят там поселиться. Но она очень волновалась за сына, которому практически не на что было жить, хотя сам он, как она ясно видела, ничуть об этом не беспокоился.
Его мать унаследовала дом в Уимблдоне, а ему самому отец оставил немного денег, которые приносили небольшой доход, позволявший выжить, при условии, что он будет ходить пешком, не посещать кино, не чревоугодничать, не курить, не пить, не покупать новую одежду и не пользоваться телефоном. Впрочем, молодой человек не испытывал ни малейшего желания заниматься всеми этими вещами – ему хотелось поехать на север и полюбоваться на PTE старого Глазго, не говоря уже о том, чтобы еще раз прокатиться на BART[8] в Сан-Франциско, глубокие туннели которого были проложены прямо под заливом. Он немного пополнял свои доходы, пописывая статейки о железных дорогах и преподавая в вечерней школе техническое обслуживание автомобилей. Джарвис ничего не смыслил в автомобилях, но как-то выкручивался, готовясь вечерами к очередной лекции по учебнику. Когда же становилось совсем туго, он нанимался маляром.
В тот день, когда его мать уехала, Стрингер сел на поезд на станции «Уимблдон-парк» по линии Дистрикт, приехал на станцию «Виктория» одноименной линии, пересел на Юбилейную в «Грин-парк» и отправился в Западный Хэмпстед. Это было длинное и неудобное путешествие, но молодой человек наслаждался им. Он никогда не уставал от подземки.
Полчаса спустя он поднялся на пешеходный мост, ведущий с южной стороны путей на северную. Рельсы внизу, изготовленные из блестящей стали, напоминали серебряную реку. Эстакада была укреплена металлическими балками, закрывавшими панораму, но в ее центральной части еще сохранились деревянные, покрытые лишайником брусья и такая же старая лестница. Отсюда можно было видеть заднюю стену «Школы», ее суровый красно-фиолетовый цвет и готические окна, больше подходящие для церкви. По сторонам, где когда-то располагались уютные домики, разрушенные во время бомбардировок, теперь высились отвратительные многоэтажки, построенные еще в детские годы Джарвиса.
Прогрохотал, не останавливаясь, поезд линии Метрополитен, идущий в Уэмбли-парк. Более медленный состав линии Юбилейная подъехал к платформе. Джарвис подумал, что неплохо было бы написать историю лондонской подземки, слушая при этом музыку поездов. Он сбежал по лестнице и прошел по узкой дорожке, вымощенной плиткой.
Воздух в «Школе Кембридж» был холодным и затхлым. Стрингер пересек вестибюль – просторное помещение с очень высоким потолком и поддельными консольными балками в средневековом стиле. Стены закрывали желтые сосновые панели, на которых были вырезаны имена учениц, хоть в какой-то мере достойных такой чести. Разлапистая массивная железная люстра свисала с потолка на высоте второго этажа. Лестничные пролеты вели на галерею, огороженную балюстрадой из все той же сосны. Деревянные панели, покрывавшие стены, были дурно отделаны и покрыты темными пятнами, что придавало помещению сходство с храмом. Лестничные пролеты имели оформленные под скамьи выступы, располагавшиеся через каждые несколько ступеней. Джарвис опустил свой чемодан на пол вестибюля, открыл его и достал печатную машинку. Ее он отнес в «переходный класс», где оставил на одной из парт, а свою одежду перетащил на второй этаж.
В «Школе Кембридж» никогда не существовало первых классов начальной школы: девочки начинали учиться с третьего. На двери, перед которой стоял теперь молодой хозяин дома, была выведена черная выцветшая римская цифра III. Четвертый класс, обозначенный, соответственно, цифрой IV, находился справа от него, сразу за углом был «Кабинет рукоделия», а в самом конце, за уборными – кабинет директора школы, напротив которого располагалась учительская. Панели из американской сосны, украшавшие здесь стены, теперь потемнели, сделавшись кое-где темно-коричневыми, а кое-где, напротив, приобретя насыщенный шафранный цвет. Пол был покрыт все теми же сосновыми досками, иногда прикрытыми линолеумом. Все это выглядело древним и ветхим. Джарвис вспомнил, что читал или, может быть, слышал от кого-то, что жучки-древоточцы особенно активны в мае. Но, несмотря на то что уже наступил сентябрь, везде виднелись небольшие конусы опилок, похожих на сухой имбирь, причем выглядели они вполне свежими. Когда молодой человек открыл дверь в третий класс, ему на голову посыпалась древесная труха.
Он решил спать здесь, потому что из этой комнаты открывался самый лучший вид на Юбилейную линию, которую не заслонял сад. Джарвис пересек комнату, подошел к окну и выглянул наружу: за деревьями и буйными зарослями ревеня серебряной стрелой мчался на юг поезд. В комнате имелся камин, так же, как в «переходном классе» и вообще во всех помещениях второго этажа, а именно: в младшем и старшем шестых классах и в учительской. Пока погода стояла теплая, но приближались холода, и хозяин понимал, что скоро ему нужно будет подумать об отоплении. А еще ему был нужен свет. Дом был отключен от электросети уже по крайней мере два года.
Джарвис был, конечно, оригиналом, и большинство знакомых именовали его «очень странным», но и у него имелись свои методы работы. В частности, он никогда не откладывал дело в долгий ящик, так что никто не назвал бы его бездельником. Пообедав тем, что принес с собой (сэндвич с салями, рогалик с джемом и ореховый шоколадный батончик), он направился в Вест-энд, чтобы посетить газовую и электрическую компании, разузнать насчет прочистки каминов и повесить объявление о сдаче в аренду части дома на доске объявлений.
Но прежде, чем он туда добрался, Стрингер повстречал на Фоули-роуд Тину Дарн, свою двоюродную тетю, с маленьким мальчиком и девочкой помладше.
Глава 4
Поезда целыми днями напролет носились туда-сюда: к Финчли-роуд, в Западный Хэмпстед, в Букингемшир. Последние даже не останавливались. Перестук колес и мельканье за деревьями их серебристых тел являлись неотъемлемой частью жизни в «Школе». Так же, как вспышки света по вечерам, пение и гул рельсов. Только глубокой ночью, после полуночи и до рассвета, здесь правили тишина и полумрак.
Впрочем, ко всему этому можно было привыкнуть. Джарвису это даже нравилось, а Тина просто не обращала на шум внимания. Ее вообще мало что тревожило. Две ванные комнаты и кухня считались общими, но у мисс Дарн были еще свои отдельные ванная и кухня. Никто из жильцов пока не соблазнился кабинетами рисования и рукоделия, научной лабораторией, комнатой отдыха преподавателей или кабинетом директора, хотя однажды могло произойти и это. Но уж точно никакой нормальный человек не позарился бы на раздевалку, в которой повесился дедушка Джарвиса.
Там, где это не бросалось в глаза, деревянные полы все еще прикрывал бежевый линолеум с черным узором из французских лилий. Люстра из кованого железа своими лапами и когтями напоминала какой-то средневековый пыточный инструмент. Львиные лапы держали лампочки, сделанные в форме свечей. На всех окнах были шторы из зеленой материи, настолько плотной, что, несмотря на прошедшие годы, с ней ничего не случилось. Во всяком случае, поднимались и опускались они без всяких проблем – а заодно отпадала и надобность в занавесках. Центрального отопления в доме не было, но имелся большой выбор обогревателей – электрических, газовых и керосиновых, оставленных теми, кто в разные годы снимал дом, и найденных Джарвисом в кабинете рукоделия, куда, похоже, сносили все подобные вещи. Большинство этих приборов кое-как работали.
Тине пришлось не по душе объявление о сдаче дома. Она считала, что это неосмотрительно, так как может привлечь внимание всяких бродяг и шалопаев. Сама она, кстати, прибыла в «Школу» вместе с Джаспером и Бьенвидой на одолженном на время старом побитом «Форде». На его крыше красовались набитые одеждой пакеты из прачечной, а в багажнике лежали обломки мебели. В буквальном смысле обломки. Стрингер только усмехнулся, подумав о том, что тетя, в общем, права. Но бродяги бывают разные, взять, к примеру, саму Тину.
Мисс Дарн убеждала его «порасспрашивать соседей». Едва обосновавшись в доме, она сразу же начала наводить справки в округе. Джарвис же считал, что лучше ему самому обо всем позаботиться, так как сомневался в способности Тины найти платежеспособного арендатора. Сама-то она могла ни о чем не беспокоиться, так как получала на содержание детей пятьдесят фунтов в неделю от мужчины, с которым прожила дольше других. Не то чтобы Джарвис заломил высокую цену – напротив, какой-нибудь риелтор, услышав сумму, не поверил бы своим ушам. Он ведь отказывался от части «Школы» только для того, чтобы суметь выжить. Точнее, чтобы раздобыть деньги на поездку в Каир и прокатиться на метро ENR, по всем его сорока двум с половиной километрам и тридцати трем станциям.
Стрингер прогуливался у входов в подземку, присматриваясь к скрючившимся на ступенях бродягам. Предлагать кров всем подряд было совершенно нереально. Как же ему выбрать одного или двоих? На Лейстерской площади, у подножья эскалатора линии Пикадилли, сидел на корточках и распевал гимны пьяный мужчина. Джарвис попытался с ним поговорить, но тот решил, что он – социальный работник, а потом заподозрил в нем журналиста, начал ругаться и даже плюнул в молодого человека, оставив на его пиджаке потек своей слюны.
Время было позднее, но на перронах толпились люди. Когда подъехал поезд, Джарвису даже не досталось сидячего места. На «Чэринг-кросс» он пересел на Юбилейную линию, а на «Бонд-стрит» в вагон зашли четверо. Они выглядели очень уверенно, что заставило Стрингера занервничать. Оглядевшись вокруг, новые пассажиры обменялись несколькими негромкими словами и разделились. Двое пошли в один конец вагона, двое – в другой.
Джарвису уже приходилось сталкиваться с хулиганством в метро. Обычно такое происходило ближе к ночи, но иногда случалось и днем. Один раз, поднимаясь наверх, он видел, как банда девиц напала на еще одну девушку на движущемся вниз эскалаторе. Та стояла одна-одинешенька, и они окружили ее, отобрали сумочку, сорвали цепочку с шеи и серьги из ушей. Доехав до верха, молодой человек метнулся ко второму эскалатору, но банда скрылась в дверях подошедшего поезда, оставив позади плачущую и окровавленную жертву.
В другой раз он видел иностранного туриста, обнаружившего, что у него украли бумажник со всеми деньгами и документами. Это случилось на той же самой линии, на которой Джарвис находился сейчас, на Юбилейной, в поезде, идущем на север. Стрингер совершенно отчетливо помнил его отчаяние и возмущенные вопли на непонятном языке. Впрочем, если зашедшие в вагон люди собирались совершить что-либо противозаконное, они явно никуда не торопились, а спокойно и молча сидели, причем один – прямо рядом с Джарвисом. Невзрачно одетые мужчины среднего возраста, в мышиного цвета плащах, которые так любят эксгибиционисты.
На «Бейкер-стрит» все четверо поднялись, но из поезда не ушли, а всего лишь сменили вагон. Стрингер наблюдал за ними через стекло. Вдруг, подчиняясь внезапному порыву, он вскочил и последовал за этими людьми. То же самое повторилось на станции «Сент-Джонс-Вуд», и молодой человек начал догадываться, что это за типы. Подсказкой послужило то, как они рассматривали пьяницу, который, раскачиваясь и горланя, шатался по вагону. Обычно люди, сталкиваясь с подобным зрелищем, упорно делают вид, что ничего особенного не происходит, утыкаясь в свои газеты или подчеркнуто внимательно изучая рекламные плакаты. Но эти четверо не спускали с гуляки глаз. Казалось, он был чем-то важен для них. Когда тот вышел на станции «Свисс-Коттедж», самый молодой и высокий из четверых подошел к дверям, чтобы проследить за ним.
– Вы – «Ангелы-Хранители»?[9] – спросил Джарвис. Он всегда без стеснения заговаривал с незнакомцами. Если его что-нибудь интересовало, он тут же об этом спрашивал.
Мужчина в плаще повернулся к нему и, чуть поколебавшись, ответил:
– Нет, мы из похожей организации. Мы – «Защитники».
– Дел, наверное, по горло?
– Сегодня ночью тихо. Как и всю последнюю неделю, впрочем. Не к добру это, – сказал мужчина в плаще и добавил с надеждой: – А вы не хотите к нам присоединиться? Правда, денег за это не платят, но такая работа, как говорится, приносит большое моральное удовлетворение.
Джарвис, собиравшийся выходить на следующей станции, поинтересовался, где они проведут эту ночь. Мужчина, представившийся Джедом Лори, ответил, что на линиях Метрополитен и Хаммерсмит. На запущенной и пустынной станции «Лэйтимер-роуд» они снова пересели, и вдруг, неожиданно для самого себя, вместо того чтобы пойти за ними, Джарвис предложил Джеду и его домашнему питомцу, ястребу Абеляру, переночевать в «Школе». Лори, подрабатывавший также в центре занятости, даже побледнел, услышав о мизерной сумме, запрошенной его новым знакомым за жилье.
В итоге ястреба устроили в старом велосипедном сарае, Джед занял кабинет шестого класса, а в пятом классе расположился Питер Блич-Палмер, сын лучшей подруги матери Тины, который поселился в «Школе» в ожидании компаньона, для того чтобы вместе с ним снять квартиру в Килбурне.
Исследования Стрингера, собирающего материалы для своей книги, завели его на самый нижний уровень «Бонд-стрит». Он как раз проводил эксперимент, касающийся движения воздушных потоков в туннелях, когда наткнулся на бродячих музыкантов, игравших шотландские народные мелодии. Их было трое: один играл на волынке, другой на скрипке, а третий на флейте.
Когда они закончили вариацию на тему баллады Бёрнса, флейтист отложил свой инструмент и запел красивым баритоном. Он спел «Scotland the Brave», а потом «So Far from Islay». Он пел об изгнании и утрате, о любви к родине и страданиях вдали от нее. Все это невероятно разнилось с окружающей обстановкой метро, его шумом и толпой. Джарвис пришел в неописуемый восторг. Ему вообще очень нравились песни, все равно какие: оперы или баллады, фолк, рок или кантри, джаз, соул или блюз.
– Это было восхитительно, – сказал он певцу. – Никогда не слышал ничего подобного. Вы исполняете на заказ?
– В смысле? – не понял тот.
– Ну, знаете, как певцы в ресторанах и тому подобное. Если я вас попрошу, вы споете?
– Смотря как попросите.
И певец, симпатичный блондин лет двадцати трех или четырех, выразительно посмотрел на шляпу, лежавшую перед ним на плитках пола. Джарвис покопался в кармане и разыскал среди мелочи монету в один фунт.
– За такую сумму ему придется пропеть всю партию из «Дона Жуана» Моцарта, – сказал волынщик.
Стрингер рассмеялся. Он попросил исполнить ему ирландскую песню о любви и разлуке. Певец спел ее без аккомпанемента. А как бы здорово она звучала под аккомпанемент волынки! Когда он дошел до строфы, в которой говорилось о том, что недолго осталось ждать до дня свадьбы, Джарвиса, как всегда, охватило невыразимое чувство сопереживания, и слезы навернулись ему на глаза, несмотря на то что ни свадьба, ни жена, ни хотя бы стабильные долговременные отношения никогда не входили в число его приоритетов. Он горячо поблагодарил певца и дал ему еще пятьдесят пенни, в итоге потратив сумму, которую едва ли мог позволить себе выкидывать на ветер.
Собралась небольшая толпа, мешавшая пассажирам. Уяснив, что происходит, люди начали поднимать руки, прося спеть то одну, то другую песню. Когда певец затянул балладу и его поддержала, застонав, волынка, раздались аплодисменты. Стрингер выбрался из толпы и пошел к платформе, в надежде ощутить порыв ветра из туннеля, предваряющий появление поезда.
Он знал, что при строительстве Юбилейной линии были сооружены огромные вентиляционные шахты, иначе порывы ветра сдували бы людей с платформы прямо на рельсы.
Да, здесь был ветер. Он трепал волосы стоявших на платформе женщин. Один раз Джарвис видел, как у какой-то девушки юбка задралась выше головы, заставив бедняжку покраснеть от стыда. Одни пассажиры уехали, и на их место пришла следующая партия. Молодой человек развернулся, было, чтобы уйти, когда до него донеслась музыка, в которой он узнал мелодию из Северной Англии. Компания, собравшаяся вокруг музыкантов, все еще не разошлась. Человек в униформе протолкался вперед и стал что-то выговаривать певцу. Тогда Джарвис, бывший самым высоким среди толпящихся людей, произнес поверх голов:
– Они не делают ничего плохого! Просто развлекают людей.
– Это против правил, сэр, – заявил тип в униформе.
Стрингера нечасто называли «сэром», и всякий раз подобное обращение заставляло его расчувствоваться. Он не мог не думать о том, как же это любезно со стороны человека, такого же, как он сам, даровать ему, Джарвису, подобное почтение. Молодому человеку начинало казаться, что собеседник обладает необычайно мягким и благородным характером, раз он обращается к людям с такой любовью и уважением. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы тут же не согласиться со всем, что было сказано до слова «сэр». Но ему это удалось.
– Что же, значит, правила следует изменить, – объявил он. – Они несправедливы.
Служащий метро подошел к нему поближе.
– Это не в моей компетенции, сэр, – сказал он, а потом добавил, довольно бесцеремонно: – И не в вашей.
Поняв, что развлечение закончилось, толпа начала расходиться. Музыканты паковали свои инструменты. Тот из них, который до этого не произнес ни единого слова – во всяком случае, так казалось Джарвису, – тихонько ругался.
– И куда вы сейчас? – спросил их Стрингер.
Волынщик ответил, подражая акценту лондонских аристократов:
– Не желаете ли отобедать в «Гавроше», прежде чем отбыть в наши апартаменты в «Гросвенор Хаус»?
– А вы не захотите пойти ко мне домой и сыграть там для нас? – поинтересовался Джарвис. – Я заплачу. У меня не так много денег, но я заплачу. Мне это нужно для моей книги, для главы об артистах подземки.
Музыканты переглянулись. Казалось, они молчаливо советуются друг с другом. Наконец певец согласился:
– Ладно. Что мы, собственно, теряем? Я – Том, он – Олли, а это – Мак.
– Джарвис Стингер.
Они играли для него, Тины и детишек, пока не выбились из сил. Возвращаться домой было уже поздно, и музыканты остались на ночь. А потом двое из них так и поселились в «Школе». У Мака была девушка и ребенок, с которыми он жил в отеле «Бэйсуотер», в комнате, предоставленной им городским советом Вестминстера. Олли же переехал в бывший кабинет директора, а Том занял помещение четвертого класса.
– Надеюсь, они хоть платить тебе будут, – сказала тетя хозяина.
– У Тома есть работа, – ответил тот, – он дает уроки игры на флейте.
Мисс Дарн пожала плечами:
– Уроки игры на флейте? Я тебя умоляю. Надеюсь, он не собирается давать их тогда, когда я буду укладывать детей спать?
Поскольку Джаспер и Бьенвида никогда не ложились в постель до того, пока сама Тина не отправлялась на боковую, а просто засыпали там, где находились, Джарвис не воспринял ее слова всерьез. Время от времени его родственница выдавала подобные фразочки, стремясь показать, что она – нормальная мать. Иногда она ворчала, впрочем, вполне беззлобно, что Абеляр, ястреб Джеда, сидящий в велосипедном сарае, клекочет днями напролет.
Ее племянник подумал, что, пожалуй, постояльцев в его доме уже более чем достаточно. Теперь у него хватало денег, чтобы поехать в Каир, и он собирался туда на следующей неделе. Интересно, думал он, а что, если, полюбовавшись на самый новый в мире метрополитен, вернуться в Лондон через Будапешт и посмотреть на один из самых старых?
Проект Пирсона, намеревавшегося перевозить людей «как посылки по пневматической трубе», был осмеян известным журналистом и социологом Генри Мейхью. Тот написал четырехтомный опус, озаглавленный «Лондонский труд и лондонская беднота», который в немалой мере повлиял на Диккенса. А еще он основал журнал «Панч».
– Нам оставалось только улыбаться, – писал Мейхью, – когда мы слушали, как Пирсон горячо защищал свой план опоясать Лондон туннелями, напоминающими канализационные.
Иронической статьей Мейхью разразился и в «Панче»:
«Как нам стало известно, множество людей, обитающих неподалеку от линии, заявили, что готовы предоставить в распоряжение так называемой «подземной дороги» подвалы, в которых они держат уголь. Что же, наверняка это поможет существенно уменьшить цену строительства, особенно если не ограничиваться угольными ямами, а использовать также подполы и погреба, где поезда смогут беспрепятственно передвигаться, не создавая особенных проблем хозяевам домов…»
Для того чтобы построить подземку, были изменены течения трех рек и изгнаны с насиженных мест тысячи тех, кто имел несчастье обитать в долине реки Флит. При этом все строительные работы были проведены людьми, не имевшими опыта в такого рода делах. Ни у кого в мире тогда не было подобного опыта. Московское метро, строители которого также столкнулись с проблемой плывунов, было построено много позже.
9 января 1863 года открылась линия Фаррингдон-Пэддингтон. На первом поезде прокатились самые известные деятели викторианской Англии, в том числе чета Гладстонов. На конечной станции пассажиров ждал духовой оркестр и банкет на семьсот персон. Но Пирсона на поезде не было. Он умер за шесть месяцев до этого события.
Когда компания Лондонских Подземных Перевозок предложила ему вознаграждение за проделанную работу, Пирсон отказался со словами: «Я служу муниципалитету Лондона. Мои хозяева – это горожане, именно им принадлежат мое время и моя работа. Если хотите вознаградить меня, перечислите деньги муниципалитету».
Кто из наших современников скажет такое?
Пирсон обладал смелостью и либеральными взглядами. Он одним из первых выступил за отмену расистских законов, запрещающих евреям жить в Лондоне без специального разрешения или работать присяжными биржевыми брокерами. Именно по его требованию с Монумента памяти жертв лондонского пожара были стерты строчки, обвиняющие в поджоге католиков.
Тома Мюррея не привлекала идея иметь кучу девчонок. Он хотел одну-единственную, но с которой можно было бы построить серьезные отношения. Том считал себя человеком, способным на глубокое чувство, а не охотником за юбками. Еще будучи студентом, он с удивлением узнал, что, по крайней мере, половина парней в его группе ни разу в жизни не влюблялась и вообще не представляет, что это такое. Все их душевные порывы сводились к тому, чтобы подцепить в баре какую-нибудь полупьяную девчонку и провести с ней ночь. Ну, может, увидеться с ней еще пару раз, но не более того.
Мюррей же мечтал о большой любви, и ему показалось, что он нашел именно такую, когда ему исполнилось восемнадцать. Диана, так же как и он сам, изучала музыку. Она была прекрасна, нежна, ласкова и, вместе с тем, серьезна. Но ее семья переехала в Соединенные Штаты, она перевелась в американский университет и вскоре перестала отвечать на его письма. Долгое время юноша оставался одиноким, поскольку не желал идти на компромиссы. Потом, совершенно случайно, он встретил девушку, которая чем-то напомнила ему Диану. Она была пианисткой. С Томом они встретились на конкурсе молодых исполнителей, в котором принимали участие. Но затем Мюррей угодил в больницу и потерял ее. Нет, один раз она пришла его проведать, но выглядела крайне смущенной, растерянной и какой-то скованной. Позже он получил от нее письмо, в котором она писала, что будет лучше, если они перестанут встречаться.
За месяцы восстановления после болезни Том вдруг обнаружил, что стал другим человеком – вспыльчивым и раздражительным ипохондриком. Он думал о сексе и любви как о чем-то постороннем, совершенно его не касающемся, о чем даже думать смешно. Он как бы сказал себе, что у него и так довольно проблем. Но, поселившись в «Школе», музыкант начал все чаще размышлять о девушке своей мечты, и рядом с привычным образом Дианы постепенно возникла другая – та, которая смогла бы его спасти, склеив его разбитую душу.
Он не способен был жить так, как Джарвис, сведя общение с другими людьми к случайным контактам. Его пугал легкомысленный образ жизни Тины, менявшей любовников как перчатки. Или Джеда, жившего отдельно от жены и ребенка и выбравшего себе в качестве друга птицу. Том стремился завести семью, хотел отношений, которые длились бы всю жизнь, становясь лишь глубже с каждым годом. Лицо, встававшее перед его внутренним взором, было очень похоже на лицо Дианы: мягкое, круглое, с ямочками на щеках, большими глазами и густыми блестящими каштановыми волосами. Она обязательно должна была быть музыкантом или хотя бы любить музыку. И еще – обладать свойствами, без которых никакая женщина не могла удовлетворить его высокие моральные требования: преданностью, умением сопереживать, материнской нежностью и способностью любить.
Как многие одаренные дети, Мюррей начал знакомство с музыкальными инструментами с блок-флейты. Позанимавшись на ней час или два, он переходил к гитаре, которая принадлежала его матери. Она играла на ней в юности, пришедшейся как раз на шестидесятые годы. У них не было фортепьяно, но в бабушкином доме стоял рояль, и мальчик самостоятельно научился на нем играть, упражняясь всякий раз, когда навещал бабушку. Вскоре он освоил и поперечную флейту.
Том был из тех, кто с легкостью играет на всех инструментах и о ком обычно говорят, что ни на одном из них они толком играть не умеют. Но последнее к нему не относилось. На флейте ребенок играл виртуозно. Никто потом не мог объяснить, как получилось, что Мюррей так и не реализовал свой талант на практике, почему он оставался всего лишь хорошим исполнителем и как вышло, что он провалил прослушивание в Национальный юношеский оркестр. Сам молодой человек объяснял это тем, что слишком много занимался в школе другими предметами, не связанными с флейтой, и не в состоянии был посвятить музыке всего себя. Его бабушка говорила родителям, что у мальчика чрезмерно разносторонние интересы и он зарывает в землю свой талант. У Тома оказался хороший голос, и он начал брать уроки пения, одновременно продолжая забавляться роялем и купленной им самим трубой, перемежая все это игрой на флейте.
Мюррей был единственным сыном и внуком в семье. Однажды, когда ему уже исполнилось пятнадцать, он гостил у бабушки в доме на Рикмэнворт и как раз намеревался поиграть на рояле, когда она провозгласила его своим единственным наследником:
– Я написала завещание и все оставила тебе, Том.
Он не знал, что ответить, и произнес только:
– Большое спасибо.
– Я не ставлю никаких условий, – продолжала старушка, – в моем завещании их нет, но мне хотелось бы попросить тебя об одной вещи. Точнее, о двух. Мне было бы очень приятно, если бы ты поступил в университет и стал изучать музыку. Впрочем, уверена, ты в любом случае это сделаешь. И еще. Оставь в покое рояль и трубу.
– Но они мне вовсе не мешают!
– Сделай это ради меня, Том, я прошу.
Подросток подумал, что это – ужасно дурацкий мотив для того, чтобы что-то делать. Или не делать. Отказываться от чего-то только потому, что кто-то тебя об этом просит? Смешно. Тем не менее он дал бабушке обещание, которое она просила, хотя про себя подумал, что прекратит только играть на рояле в ее доме, а вот игру на трубе и уроки пения продолжит. После этого делать у бабушки в гостях ему, в общем-то, стало нечего, но он не перестал туда ходить. Напротив, юноша приходил даже чаще, чем раньше. Идея любезничать с человеком, который оставил тебе кучу денег, в принципе, не нравилась Тому, но именно по этой причине он и ездил к старушке.
А еще он ей врал. Не только говорил о том, что бросил петь и играть на трубе, но еще и сочинял всякие небылицы, вроде той, что в школе его выдвинули на конкурс юных музыкантов года.
После поступления в Гилдхоллскую школу музыки и театра обманывать стало незачем. Более того, юноша уже думал, что с ложью покончено раз и навсегда, поскольку его в любом случае ждут быстрый успех, слава и богатство. В Гилдхолле, где никто не говорил ему, что он должен прекратить петь, он получал прекрасные оценки, о которых с гордостью рассказывал бабушке. Но однажды, после того как он провел с ней воскресенье, случилось то, что совершенно изменило его жизнь.
Чаще всего, когда Мюррей возвращался домой в Илинг или отправлялся послушать музыку в Центр искусств в Барбикэне, бабушка подбрасывала его до станции «Рикмэнсворт», одной из последних станций на севере линии Метрополитен. Иногда, если позволяла погода, он шел пешком. В тот день погода была отличная, и Том вполне мог бы пройтись до станции, или его, как обычно, отвезла бы туда бабушка. Но пока они сидели в саду, зашел разговор о ее соседе, мотоциклисте, который собирался поехать в Сити в семь вечера. Мюррей никогда прежде не ездил на мотоцикле, а у Энди имелся запасной шлем. По каким-то невнятным причинам он должен был ездить в Сити каждое воскресенье. Том терпеть не мог долгую и утомительную поездку на метро с несколькими пересадками через Харроу, Нортвуд и Уэмбли до Бейкер-стрит и поэтому легко согласился, чтобы Энди его подбросил.
Когда все случилось, они находились на узкой извилистой дороге, идущей вдоль Бэтчворт-Хит, и отъехали от дома бабушки всего лишь милю. Энди обогнал огромный грузовик – один из тех монстров, которым давно следовало бы запретить появляться на дороге, – и врезался в «Вольво», двигавшийся по встречной полосе. Все, кроме водителя мотоцикла, намного превышали скорость, а ему ее как раз не хватило. Том слетел с мотоцикла и ударился головой о дерево. Его спас шлем. Энди же мгновенно умер под колесами «Вольво».
Прежде чем Мюррей смог вернуться в колледж, он полгода провел в больнице. У него были сломаны нога, несколько ребер и ключица, а еще – левая рука в нескольких местах.
– Хорошо, что ты не пианист, – сказал ему хирург-ортопед.
Наверное, этот тип думал, что на флейте играют только ртом.
Тем не менее самое гнетущее впечатление на Тома оказали не многочисленные переломы, пусть и серьезные. Трагедией для него стало то, что произошло внутри его головы. Точнее, то, что, как он думал, произошло, поскольку томография головного мозга, сделанная в больнице, показала, что там нет ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Да, он не проломил череп, его мозг не был поврежден. Но как объяснить им всем, что он совершенно изменился? Например, вспышки гнева из-за совершеннейших пустяков – это было чем-то новеньким. Да и вообще раздражительность. А головные боли? При этом молодой музыкант потерял все свои амбиции, утратил дух соперничества и самое важное – потерял свою музыку, свою любовь и потребность в ней.
Наконец его выписали. Мизинец на левой руке навсегда остался неподвижным, и рука была уже не той, что прежде, хотя в целом – здоровой. Ему советовали сделать другие операции, но Том вовсе не был уверен, что этого хочет. Он не знал, сможет ли играть на флейте, а попробовать боялся.
Отец сказал ему, что нужно вернуться в университет.
– Мне придется заново пройти весь второй курс, – возразил юноша, – они всегда так делают.
– Ты не узнаешь этого наверняка, пока не попробуешь.
– Мне не дадут грант на то, чтобы я заново проходил курс, а в то, что денежки выложишь ты, я не верю.
Отец ответил, чтобы он не смел говорить с ним в подобном тоне. Тогда Том ушел из дома и переехал жить к бабушке в Рикмэнсворт. Она объявила, что, если ему не дадут грант, заплатит сама, но сначала внук должен написать в университет или позвонить туда. Он согласился, но когда сел за письмо, у него началась жуткая мигрень.
Тайком, когда бабушка куда-то ушла из дома, он попробовал играть на флейте. Это был знаменательный день. Мюррей обнаружил не столько то, что может играть, сколько то, что все еще хочет этого. Поэтому его особенно злила собственная беспомощность. Обладай он достаточной силой, он сломал бы флейту пополам, но левая рука была теперь слишком слабой для этого. Поскольку ему нужны были деньги, он пошел работать в закусочную неподалеку от Бейкер-стрит. У бабушкиных знакомых нашлась маленькая дочь, которая очень сильно хотела научиться играть на флейте, и Том начал давать ей уроки. Родителям ребенка было неважно, что у него не имелось диплома и он так и не закончил курс.
Вечерами, после работы, Мюррей отправлялся на метро от Бейкер-стрит до Рикмэнсворта по линии Амершем. Впрочем, иногда он ехал в центр и бродил там по улицам, особенно в хорошую погоду. Ему нравилось слушать уличных музыкантов, играющих на Ковент-Гарден. Один раз он сходил на бесплатный концерт в Альберт-холл.
В те времена еще не было бродячих музыкантов на станции «Бейкер-стрит», хотя один раз он видел таких на «Лестер-сквер». Или это было на «Грин-Парк»? Они играли рок, с точки зрения Тома – бессмысленную какофонию. Как-то раз, на концерте Вивальди в Риджентс-парке, он познакомился с парнем по имени Мак, и они договорились попытаться сбацать что-нибудь в переходе метро на Бейкер-стрит.
Его новый приятель сказал, что ему нравятся духовые инструменты, но не уточнил, на чем именно играет. Мюррей был просто ошеломлен, когда увидел волынку. Мак привел с собой Олли, который кое-как пиликал на скрипке. Том сказал себе, что в его положении не следует быть слишком разборчивым и что если даже не играть на флейте, то уж петь-то в этой компании он всегда сможет. Было здорово узнать, что его пение очень нравилось людям.
Эти трое стали слаженной командой, игравшей на разных станциях подземки всю осень и зиму, пока Мак не нашел себе подходящее жилье где-то на севере. Тогда к Олли и Тому присоединился Питер, с которым они познакомились в «Школе Кембридж», где в то время жили. Питер потерял работу, потому что клуб, где он играл на фортепьяно, закрылся. Ему вроде бы пообещали работу телефониста на коммутаторе в одном хосписе, а пока, в ожидании ответа, он присоединился к бродячим музыкантам. Этот парень умел играть на множестве инструментов – на всех понемногу.
Когда Мюррей сказал бабушке, что уезжает из ее дома, и признался – после аварии он прекратил врать и умалчивать, – что зарабатывает, играя в переходах метро, она ответила, что очень в нем разочаровалась.
– Я тяжело болел, – начал защищаться Том. – Ты понимаешь, что я уже никогда не буду прежним?
– Никто из нас никогда не будет прежним, – возразила она. – Люди постоянно меняются, кое-кто даже к лучшему. Сейчас ты совершенно здоров, а все остальное – только твое воображение.
– Послушай, я никогда не смогу стать концертирующим флейтистом. Из-за левой руки. И я должен как-то зарабатывать себе на жизнь, понимаешь?
– Для этого тебе надо, прежде всего, получить образование, так уж устроен наш мир, – возражала пожилая дама. – Том, прошу тебя, умоляю, одумайся, пока не поздно! Давай сегодня вечером напишем письмо в Гилдхолл. Если они откажут тебе в стипендии, я заплачу.
– Они ни за что не возьмут меня обратно.
– Значит, напишем другим. Мы напишем во все музыкальные школы страны.
– Бабушка, однажды я вернусь туда. Я еще молод, впереди у меня много времени, я смогу вернуться, когда захочу. Мне нужен диплом, знаю. Но сейчас мне, прежде всего, нужны деньги.
Том съехал на следующий же день. Бабушка попрощалась с ним очень холодно. Несмотря на то что последнее время он привык ходить пешком, она подбросила его до станции, но так и не поцеловала внука.
– Ладно, поезжай. Я свяжусь с тобой, – сказал он ей на прощание.
Его левая рука стала почти как прежде. Однажды, думал молодой человек, он, может быть, даже сделает ту операцию, а потом вновь запишется в университет на музыкальный факультет. Но ведь он еще так молод, ему нет и двадцати трех! Он вполне может позволить себе потратить год жизни на то, чтобы подзаработать немного денег.
Втроем с Олли и Маком они отправлялись куда хотели и играли то, что им нравилось. Считалось, что станция «Тоттенхэм-Корт-роуд» на Центральной линии – самое лучшее место для уличных музыкантов. Но Том не знал, что там нужно было заранее резервировать за собой место, записав свое имя и название группы на специальном листе, прикрепленном под табличкой «Не курить». На этой станции всегда хватало шотландцев, пересаживающихся с «Кингс-Кросс» на Северной линии. Троица остановилась и начала играть всякие шотландские мотивы, когда подвалила группа металлистов, грубо потребовав, чтобы они убирались прочь.
Никогда еще Мюррей с друзьями не сталкивались с тем, чтобы их прогоняли не полиция или работники метро, а такие же уличные музыканты, как они сами. Ударник металлистов вплотную приблизился к Тому, выпятив челюсть, и молодой человек наверняка ввязался бы в драку, если бы не Олли, вовремя схвативший его за плечо. До всех дошло, что если они будут продолжать в том же духе, то только развяжут руки полицейским, дав тем повод применить их мерзкие законы.
Именно тогда Том понял, что жизнь уличного музыканта совсем не такая, как думает его бабушка и другие люди. Это отнюдь не способ клянчить милостыню, а возможность на самом деле жить музыкой: нужно продумывать программу и даты, точно так же, как когда организуешь выступления в концертных залах. Ведь в отличие от халтурщиков, играющих поп и кантри, Мюррей играл серьезную музыку.
В тот день он решил навсегда остаться уличным музыкантом и в итоге стал профессиональным флейтистом, концертирующим в подземке.
Глава 5
Это произошло, когда матери Майка пришлось во второй раз приглядывать за внучкой Кэтрин. Свекровь жила на другом конце Челмсфорда, и Алисе пришлось вместе с маленькой дочерью в люльке-переноске поехать туда на автобусе.
Был разгар лета, теплый солнечный денек. Когда они добрались до дома, ребенок, бодрствовавший всю дорогу, наконец заснул. Свекровь Алисы подумала, что ее невестка решила просто прошвырнуться по магазинам, поскольку именно это нравилось ей самой и она полагала, без всяких на то оснований, что молодая женщина мечтает поглазеть на шикарные витрины. Шопинг был именно тем, чего больше всего не хватало свекрови, с тех пор как она стала домохозяйкой.
Алиса передала ей сумку с подгузниками и запасными ползунками для Кэтрин и поставила в холодильник две бутылочки с молочной смесью. Ей вдруг пришло в голову, что она, возможно, никогда больше не увидит ни этой женщины, ни этого дома, ни этой безукоризненно чистой кухни.
– Зачем так много? – спросила мать Майка, посмотрев на бутылочки. – На сколько ты уходишь?
«На всю жизнь. Навсегда».
– Ненадолго. Кстати, у Майка с завтрашнего дня – двухнедельный отпуск.
– Знаю. Сама ты, надеюсь, в отпуск не собираешься? Впрочем, не скажу, что буду сильно возражать против того, чтобы наша сладенькая девочка осталась у меня на пару недель.
«А у тебя не будет другого выбора».
– Майк вернется домой в шесть.
Алиса приказала себе прекратить болтать глупости. Эти несвязные фразы только показывали ее внутренние страхи и надежды. К счастью, свекровь приняла их за проявление невроза, которым ее невестка страдала после родов. Младенец спал. Молодая мать подумала, что не может оставить своего единственного ребенка, свою маленькую дочурку, которую, возможно, больше никогда не увидит, не обняв ее и не поцеловав в последний раз. Она не могла не поступить так, даже если это означало разбудить Кэтрин и вызвать ее плач. А ведь девочка только что уснула в своей колыбельке… Но Алиса была просто обязана взять ее на руки и поцеловать на прощание. Она наклонилась над люлькой, провела пальцем по щеке дочки и быстро отвернулась:
– Все, я пойду.
– Развлекайся и ни о чем не беспокойся, – напутствовала ее свекровь.
На обратном пути автобус проехал мимо дома матери Алисы, но она специально не стала смотреть в окно. Они с Майком жили в маленькой квартирке в доме недалеко от станции, переехав туда полгода назад, после того как поженились. Поднявшись на лифте на второй этаж, молодая женщина зашла к себе и принялась в девятый или в десятый раз перечитывать письмо Майку. Это была не короткая записка, а целое послание, в котором она пыталась все подробно объяснить мужу. По размерам и по времени, которое ушло на письмо, его можно было сравнить с ее курсовой работой, посвященной Верди, Вагнеру и их операм.
В итоге Алиса смяла бумагу и бросила ее в мусорное ведро. Не исключено, что Майк может найти эти листки… Впрочем, Алиса так не думала. Взамен длинного письма она написала на обороте чека из супермаркета:
«Я ухожу. Ты мне не верил, а я всегда тебя об этом предупреждала. Кэтрин у твоей матери.
Алиса».
Написав имя дочери, она заплакала, но подумав, как будет смешно и мелодраматично, если строчки расплывутся от капель ее слез, взяла себя в руки. Вдруг до нее дошло, что еще не поздно остаться. Ведь ей можно никуда не уходить. Она еще не сделала ничего непоправимого. Можно просто поехать в центр, посмотреть эти самые злосчастные витрины, выпить где-нибудь чашечку кофе и к четырем явиться к свекрови. Забрать Кэтрин и вернуться с ней домой.
Собранный чемодан был засунут в недра шкафа в спальне. Самое важное и абсолютно необходимое – ее скрипка – лежала в футляре на полу в гостиной, между телевизором и книжным шкафом. Последний раз она играла на ней за два месяца до рождения ребенка. Повинуясь внезапному порыву, Алиса открыла футляр, достала скрипку и взяла смычок, не касаясь им струн. Она боялась играть после такого большого перерыва и понимала, что если сейчас останется здесь, то играть не будет уже никогда. Сам вид и ощущение инструмента в ее руках придали ей силу и смелость. Она вернула скрипку в футляр.
Деньги, взятые в банке, где она опустошила свой счет, уже лежали в сумочке. Там было меньше ста фунтов, но это было лучше, чем ничего. Погода стояла слишком теплая, чтобы надевать верхнюю одежду, но оставлять зимнее пальто было неосмотрительно, да и ночью могло похолодать. Женщина сняла ситцевое платье, в каких все молодые мамаши Челмсфорда ходили за покупками, и надела джинсы с черной футболкой. Наверное, теперь она всегда будет одеваться именно так. Тяжелое черное драповое пальто не влезало в чемодан. Тогда она набросила его на плечи. С чемоданом в одной руке и скрипкой в другой Алиса прошла двести ярдов до Челмсфордской станции метро и в 15.53 села на поезд в Лондон. Они потому и купили эту квартиру, чтобы Майку удобно было ездить на работу.
Позже мать скажет ей: «Уму непостижимо! Ты бросила новорожденную дочь, а свою скрипку забрать не забыла».
Алиса уже давненько не была в Лондоне. Она жила там, когда училась в Королевской Академии музыки, но с тех пор прошло уже больше года. Между ней и столицей встали беременность и первые недели жизни ребенка. На станции «Ливерпуль-стрит» шел ремонт, она была грязной, шумной и очень большой. «Я боюсь, – подумала молодая скрипачка, разыскивая взглядом указатели. – Боюсь того, что сделала, и не представляю, куда иду». При этом она имела в виду свое непонятное и непредсказуемое будущее, а вовсе не отель «Блумсбери», который должен был стать трамплином для ее прыжка в неизвестность.
Когда-то, как и у многих лондонцев, схема подземки была буквально отпечатана в ее голове, но оказывается, женщина успела основательно ее подзабыть. Если верить схеме, поездом Центральной линии Алиса могла бы приехать сразу в Холборн. «Я выбрала неверный путь, – сказала она себе, бредя к платформе. – Мне следует запомнить, что я должна сесть в поезд, идущий на запад, иначе меня занесет обратно в Эссекс».
Она попала в Лондон в самый час пик. Рассчитывать на сидячее место было глупо. Алиса встала у раздвижных дверей, зажав скрипку и чемодан между ногами. Свекровь, должно быть, уже гадает, куда она подевалась. Конечно, она не уточнила, когда вернется, но, по идее, должна была закончить свои дела где-то к половине пятого – пяти. Стрелки на часах станции «Банк» показывали четверть шестого. Наверное, свекровь сейчас ходит туда-сюда по комнате с Кэтрин на руках, то и дело поглядывая на часы.
На станции «Сент-Пол» в вагон зашло много народа, и когда Алиса уже думала, что никто больше не сможет туда протиснуться, вошло еще пять человек. Кто-то подтолкнул их с платформы ладонью в спину, и двери закрылись. Жесткие края скрипичного футляра врезались хозяйке в лодыжки. Пальто стало невыносимо тяжелым и жарким. Похоже, окружающие веселились, поглядывая на странную пассажирку, но сделать она сейчас все равно ничего не могла. Снять его в такой толпе было совершенно невозможно. А Кэтрин, наверное, уже проснулась и увидела незнакомое лицо бабушки. Вдруг она расплакалась, не найдя рядом своей мамы? Алиса как-то не думала об этом раньше. Что же она наделала? Скрипачка всхлипнула, но сумела подавить подступившие рыдания.
Офис Майка находился недалеко от станции «Ченсери-Лейн». Он должен был сесть в поезд именно здесь. Об этом его жена, кстати, тоже не подумала. Впрочем, Майк уже наверняка сидел в поезде, том, который отправляется в 17.20 и прибывает в Челмсфорд примерно без десяти шесть. Он всегда ездит этим поездом. Майк – человек ответственный и серьезный, хотя они с Алисой и ровесники. Он был рожден, чтобы стать примерным мужем и отцом. Если бы он относился к их дочке равнодушно и не любил ее так, как любила сама Алиса, даже сильнее, она никогда бы не смогла сделать то, что сделала.
Наверное, беглянка должна была бы почувствовать облегчение, вырвавшись из вагонной давки, но, когда она пересекла платформу и стала подниматься по лестнице, ее вдруг охватили паника и замешательство. Наверху она оперлась о стену, дыша как-то странно, словно пыталась сдержать истерический смех или рыдания. Потом женщина сглотнула и приказала себе сделать несколько глубоких вздохов. Ей было так жарко в этом пальто, что по лицу беспрерывно тек пот, напоминавший слезы.
«Все, что произойдет сейчас, определит мою судьбу: места, в которые я попаду, письма, которые я напишу, люди, которых я повстречаю, – все это станет перекрестками, ведущими меня по тому или иному пути. – Алиса поставила на пол скрипичный футляр с чемоданом и вытерла лицо грубым шерстяным рукавом зимнего пальто. – У меня начинается настоящая жизнь, та, которой я была лишена, точнее, которой сама себя лишила из-за собственной глупости и невероятной неосмотрительности. Что бы ни случилось со мной теперь, все это будет новым, неожиданным и прекрасным. Это больше не будет Челмсфордом. Моя остановившаяся было жизнь вновь начинается сначала».
Она вошла в коридор, ведущий к эскалаторам, и до нее донеслись звуки музыки. Скрипачка шла им навстречу.
Во времена учебы в Академии она встречала музыкантов, игравших в подземке в основном рок и изредка – джаз. Сейчас же до нее доносилось то, что люди зовут «классической музыкой». Пусть и банальщина, утратившая свою ценность из-за чрезмерной популярности: «Маленькая ночная серенада» Моцарта.
В конце коридора Алиса увидела музыкантов.
Двое парней. Один играл на флейте, второй – на гитаре. Конечно, гитара не особенно подходила для этой вещи, но женщина заметила, что гитарист только аккомпанирует флейте, перебирая струны. Перед ними лежал открытый гитарный чехол, и на глазах Алисы одна женщина кинула туда мелкую монетку.
Гитарист был смугл, длинноволос, с приятным лицом и чувственным ртом. На вид ему было около сорока. Его товарищ был намного моложе, наверное, ровесник Алисы – светловолосый, голубоглазый, симпатичный, с открытым лицом, которое сразу убеждало тебя, что перед тобой славный малый. Женщина остановилась послушать, потому что этот интересный блондин играл поистине очень неплохо.
Она прислонила чемодан и футляр со скрипкой к стене, а когда пьеса закончилась, зааплодировала. Это всегда кто-то должен сделать первым: рядом с ней тут же захлопал кто-то еще. Какой-то мужчина бросил монету в пять пенсов, а Алиса опустила в гитарный чехол десять. Блондин поблагодарил и начал играть Чайковского. Чуть погодя женщина поняла, что это – знаменитый скрипичный концерт, звучавший очень необычно в переложении для флейты и гитары. Настолько необычно, что ей потребовалось время, чтобы узнать мелодию. Тем не менее эти двое справлялись очень хорошо.
Инстинкт повелевал слушательнице не обращать внимания на то, как пытливо, с надеждой смотрел на нее блондин. Она уже собиралась взять чемодан со скрипкой и идти дальше – подняться по эскалатору, выйти из метро на Стретхэм-стрит и разыскать свой отель – но вдруг заколебалась. Несомненно, столь необычная для подземки музыка исполнялась специально для нее – наверняка блондин заметил скрипичный футляр и тоску в ее взгляде. Именно блондин, потому что ей сразу стало ясно, что гитарист в этом дуэте – на вторых ролях. И она решилась. Хотя решением это назвать было сложно, скорее – спонтанной реакцией.
Алиса присела, открыла футляр, достала скрипку и смычок и, помедлив секунду, шагнула к этим двоим. Флейтист чуть сбился и отошел, освобождая ей место в середине, между собой и гитаристом со впалыми щеками, который ободряюще улыбнулся.
И женщина заиграла.
Когда Алисе было шестнадцать, мать, рассердившись на нее за что-то, закричала:
– Ты думаешь, хорошенькая мордашка даст тебе какие-то преимущества? Так вот, это не так! Она будет только обременять твою жизнь.
Девушка уже тогда понимала, что под «хорошенькой мордашкой» мать подразумевает «красивое лицо», так же, как под «симпатией» обычно имелась в виду «любовь». Алиса знала, что красива, и радовалась этому, сознавая, что мать, которая прежде тоже прекрасно выглядела, ревнует, замечая, как увядает ее собственная красота.
– Ты никогда не будешь знать, ценят ли люди тебя за твою внешность или за то, какая ты есть на самом деле, – заявила она дочери. – Если ты станешь концертирующей скрипачкой, в чем я лично сильно сомневаюсь, ты никогда не сможешь понять, аплодируют ли тебе потому, что ты хорошо играешь, или только потому, что на тебя приятно смотреть.
– Ничего подобного, – надменно ответила тогда Алиса. – Ты в этом ничего не смыслишь.
– Тебе кажется, что увивающиеся вокруг мужчины – это прекрасно, да? Но учти, долго это не продлится. И что останется у тебя, когда все закончится?
– Моя музыка.
Сейчас, играя на скрипке на станции «Холборн», Алиса полностью поверила в себя, не думая ни секунды, что флейтист пригласил ее лишь из-за того, что она была красива. Он хотел, чтобы она осталась с ними, исполняла Вивальди и Генделя, потому что она была хорошей скрипачкой. Она не знала, правильно ли это, – ей это просто подходило. Потребуются, конечно, недели репетиций – собственное исполнение не особо удовлетворило ее. Но, очевидно, как уличный музыкант она была очень даже неплоха. Алиса не могла не заметить, что в чехол для гитары падало теперь куда больше монет, чем до того, как она присоединилась к дуэту.
Скрипачка свернула пальто и положила его поверх чемодана. Музыка как будто сняла с нее оковы. Она внезапно поняла смысл часто произносимой фразы: быть в своей стихии. Как бы нелепо и смешно это ни выглядело здесь, на станции подземки, с неизвестными музыкантами, перед безликими, постоянно меняющимися людьми, вряд ли способными оценить по достоинству исполнение. И тем не менее она была теперь в своей стихии.
– Еще один отрывок, и этот день войдет в историю, – шепнул ей блондин. – Ты знаешь «Прибытие царицы Савской»? Им должно понравиться.
– Я попробую.
– Ты молодчина.
Женщина улыбнулась в ответ. Гитара была здесь практически бесполезна, и гитарист уселся рядом с открытым чехлом, широко улыбаясь и позволяя своим товарищам продолжать без него. Они играли дуэтом, составив идеальную пару, в полном соответствии с быстрым и драматичным темпом музыки. Алиса закончила играть эффектным «росчерком» смычка, взметнувшегося в воздух, и обнаружила, что смеется от восторга.
Раздался гром аплодисментов, как на самом настоящем концерте. Улыбаясь, скрипачка повернулась к флейтисту. На какой-то миг ей показалось, что он собирается ее обнять – она ясно поняла, что он думает об этом, – но парень сдержался, и Алиса отвернулась.
– Ты уже не в первый раз это делаешь, – сказал ей гитарист, выгребая монеты из чехла и пряча их в большой коричневый пакет.
– Только не в метро, – хихикнула она и показала объявление на стене. – Смотрите, что здесь написано: «В метрополитене строго воспрещается попрошайничать, играть на музыкальных инструментах или еще каким-либо иным образом беспокоить пассажиров». Штраф – пятьдесят фунтов.
– Да всем плевать. Меня зовут Питер, а он – Том.
– Алиса.
– За это еще никого не казнили, – продолжал парень, назвавшийся Питером.
– Да и пассажиры отнюдь не против, как ты могла заметить, – произнес Том. – Наоборот, мы привносим нотку радости в их монотонные будни. Между прочим, часть этих денег – твоя. – Он взглянул на своего коллегу и продолжил: – Тебе принадлежит, по крайней мере, треть, если не больше. Своей игрой ты прямо завела толпу!
– И еще ты куда симпатичнее нас обоих, – добавил гитарист.
– Нет-нет, мне ничего не надо! – замотала головой Алиса. – Мне пора идти.
Она посмотрела вверх на эскалатор. Он выглядел как врата в новую жизнь, и внезапно скрипачка поняла, что не хочет через них проходить. Ее охватил страх. Теперь каждый день будет приносить новые страхи и новые тревоги, а она должна будет встречаться с ними лицом к лицу, начиная с этого момента. Алиса убрала скрипку в футляр, сунула свернутое пальто под мышку и взяла чемодан:
– Что же, пока. Мне и вправду понравилось.
– Как насчет того, чтобы присоединиться к нам завтра на «Грин-парк»? – предложил Том.
– Кстати, я завтра не смогу, мне на работу, – сказал Питер.
– А это, значит, не работа? – вспыхнул его товарищ.
– Ты знаешь, что я имею в виду.
– А ты тоже завтра пойдешь на работу? – спросил Том, пристально глядя на Алису.
– Нет, – ответила та, и ей вдруг захотелось рассказать ему все о себе и о том, что она только что сделала. Но вдруг ему будет неинтересно и она своим рассказом только поставит его в неловкое положение? – Делать мне завтра совершенно нечего. То есть, наоборот, начиная с завтрашнего дня, мне надо сделать ужасно много.
Ее новый знакомый кивнул, как будто понял.
– Я должна идти, – повторила Алиса.
– Куда ты сейчас?
– В отель. Есть тут один такой, принадлежит матери девочки, с которой я училась в школе. Вряд ли тебе это будет интересно, скучная история. Хочу остановиться там, пока не найду себе квартиру.
– Пожалуйста, приходи завтра на «Грин-парк», – попросил Том. – Скажи, что ты придешь, ну пожалуйста.
Его горячность немного позабавила молодую женщину.
– Зачем? – усмехнулась она.
– Ты такая красивая. Согласен, Пит? И еще ты прекрасная скрипачка. Тебе на самом деле нужна квартира?
– Ну, положим, – пожала Алиса плечами, стараясь казаться равнодушной.
– Возможно, я смогу помочь. Так что приходи завтра на «Грин-парк».
– Что же, как говорится, от такого предложения сложно отказаться, – ответила она одной из любимых фразочек Майка.
Все трое вышли на улицу вместе. Том нес ее пальто, а Питер – чемодан. На прощание Алиса помахала им, пока парни не исчезли из виду, спустившись обратно на «Бонд-стрит», чтобы потом, как они ей объяснили, поехать по Юбилейной в Западный Хэмпстед.
Прошел уже час с тех пор, когда она последний раз вспоминала о Кэтрин, Майке и о том, что теперь творится дома. И вот эти мысли вернулись. Алисе стало казаться, что встреча с Томом и Питером была всего лишь сном, от которого она внезапно очнулась. Снаружи светило яркое солнце, такое яркое, что оно слепило глаза. В Лондоне было жарко и пыльно. Даже воздух здесь сильно отличался от воздуха Челмсфорда: дизельное топливо, бензин, экзотический табак, восточная еда, а временами даже запах мочи.
Она отыскала отель. Миссис Арчер сказала, что «в наличии только комнаты для туристов», а все остальные зарезервированы муниципалитетом под размещение бездомных, большинство из которых – беженцы из Сомали и Судана. Произнеся это, хозяйка гостиницы шмыгнула носом, пожала плечами и добавила, что деньги есть деньги.
Все это было не совсем тем, что Алиса ожидала обнаружить в отеле «Блумсбери». Нет, она, конечно, догадывалась, что все будет более чем скромно, но не рассчитывала обнаружить здесь такую грязь. В атмосфере витало что-то сомнительное, что безуспешно пытались скрыть. Она спросила, где ее номер. Лифта не было. Поднимаясь по лестнице, Алиса встретила молодую женщину в хиджабе, из-под которого выглядывало прехорошенькое личико. Стайка из четверых детишек спускалась следом за ней. Номер оказался крошечным, с односпальной кроватью. Кроме шкафа, в нем стояло лишь небольшое кресло. Окно было узким и не открывалось. После обеда в дешевой забегаловке на Нью-Оксфорд-стрит скрипачка легла на кровать, укрывшись странными, никогда прежде не виданными ею простынями из фиолетового синтетического трикотажа. Ей казалось, что каждый ее волосок, каждая складка кожи, каждый ноготь так и стремятся зацепиться за эти наэлектризованные лоснящиеся нити. Она ворочалась, и ей представлялась Кэтрин, лежащая в своей кроватке рядом с одиноко спящим Майком.
Около пяти утра Алиса решила бросить свою музыку и вернуться к ним, изобразив свой побег как результат послеродового невроза. С этим она и заснула. Затем, проснувшись в девять утра, женщина обнаружила, что, оказывается, не все отели предлагают постояльцам завтрак. В кафе, где она ужинала накануне, нашлись кофе и пончики. За чашкой слабого, горчащего кофе она вновь вернулась к ночным мыслям о возвращении домой. Так и не допив кофе, Алиса убедила себя упаковать вещи и отправиться на станцию «Холборн», а оттуда на «Ливерпуль-стрит».
Схема лондонской подземки, которую мы можем увидеть в каждом вагоне и на каждой станции, на обороте каждого путеводителя и на салфетках, продающихся в Лондонском музее транспорта, на плакатах, календарях и во множестве других мест, считается своего рода шедевром.
Она была нарисована Генри Беком и впервые напечатана в 1933 году. Компания Лондонских Подземных Перевозок заплатила чертежнику пять гиней, то есть пять фунтов и двадцать пять пенсов. С того времени схема была воспроизведена несколько миллионов раз и послужила образцом для схем метро всего мира. Последняя схема за подписью Генри С. Бека в нижнем левом углу вышла в 1959 году.
Современная версия схемы получила от компании отвратительное название: «Планировщик поездок». Она превратила изящную дорожную паутину в геометрически правильную решетку. Некоторые говорят, что если поместить ее на крышу, то можно перепутать с телеантенной.
А ведь линии подземки совершенно не похожи на идеально прямые улицы Манхэттена. Они не разветвляются под острыми углами, не образуют безупречные овалы. Настоящая схема метро, особенно в центре, напоминает, скорее, плывущего дельфина: Элдгэйт – нос, Олд-стрит – лоб, Кингс-кросс – макушка, Пэддингтон, Уайт-сити и Актон – спина, Илинг-бродвей – хвост, а станции Кенсингтона – подбрюшье. Остальные ответвления похожи на грациозные щупальца, словно морское млекопитающее стремится превратиться в медузу, тянущую свои конечности к графствам Хартфордшир, Эссекс и Суррей. Одно щупальце добралось даже до Хитроу.
Линия Метрополитен, основанная в 1863 году, достраивалась на протяжении всех шестидесятых и семидесятых годов, а потом еще в 1882-м и 1884-м. Строительство линии Дистрикт, начатое в 1865 году, продолжалось до 1902-го. Новые станции Центральной линии, открытой в 1900 году, появились в 1908-м, 1912-м, 1920-м и 1946–1949 годах. Кольцевая строилась с 1860 по 1884 год и позже была названа Внутренним Кольцом.
Северная линия берет свое начало в 1890 году. В двадцатом веке, к 1941 году, на ней появляются новые станции. В 1903–1907 годах удлиняется линия Пикадилли, в том числе строится новая конечная станция. Строительство линии продолжалось в течение сорока лет, с 1933 по 1971 год. Единственная линия, целиком и полностью проложенная в последнее время, – это Виктория, открытая в 1971 году, тогда как, например, Юбилейная, завершенная к 1979 году, только в малой части относится к современности. Все остальное на ней – это старая линия Бейкерлоо, перестроенная еще в 1905–1915 годы.
С конца семидесятых годов двадцатого века Доклендское легкое метро отделилось от основного метрополитена и стало обслуживать восточный берег Темзы.
Около одиннадцати Алиса вместе со скрипкой была на станции «Грин-парк». Она сразу же нашла Тома Мюррея, благодаря звукам флейты, донесшимся до нее еще на эскалаторе.
– Я думал, ты уже не придешь, – улыбнулся флейтист.
– Я и сама так думала, – ответила молодая женщина. – Собиралась вернуться туда, откуда пришла.
Том пытливо посмотрел на нее, но, так и не дождавшись продолжения, представил ей своего нового компаньона. Его звали Олли, и он тоже был гитаристом, но, как объяснил Том, этот музыкант играл в метро в последний раз, так как уезжал жить во Францию.
– Все вечно куда-то уезжают, – пожаловался Мюррей.
– Боюсь, я тоже скоро уеду, – вздохнула скрипачка. – Мне придется. Не могу больше оставаться в этой помойке.
Том запел, и они стали аккомпанировать ему. Алиса посоветовала новому другу спеть серенаду из «Дона Жуана» Моцарта. У них не было мандолины, но гитара Олли отлично ее заменила. Мюррей пел, умоляя возлюбленную не быть жестокой, подойти к окну и позволить ему взглянуть на нее. При этом он смотрел на Алису, а не на слушателей.
Ей было немного неловко, но окружающим спектакль явно понравился. Целый водопад монет хлынул в гитарный чехол, и среди них были даже фунтовые. Алиса была невысокого мнения о собственном голосе – неустойчивом сопрано, но когда Том предложил спеть дуэт Дона Жуана и Церлины, согласилась. На словах «Là ci darem la mano»[10] флейтист протянул ей руку, но его партнерша сделала вид, что не заметила этого. Все яростно захлопали. Олли собрал деньги. Вышло около пятнадцати фунтов.
– Мы обычно приносим поесть с собой и отправляемся перекусить в парк, – сказал Мюррей, – но сегодня решили пойти вместе с тобой в кафе.
– Вы же думали, что я не приду, – удивилась скрипачка.
– Шансы были пятьдесят на пятьдесят. Но я надеялся.
Они отправились в закусочную, наподобие той, в которой когда-то работал сам Том. Играя в метро, он зарабатывал достаточно, чтобы позволить себе бросить подобную работу. Алиса подумала, что жить так, как они, означает жить одним днем. Сама она не работала ни дня, ее всем обеспечивал муж. Когда принесли кофе, Том рассказал ей о «Школе Кембридж» и предложил туда переселиться.
– Школа? – переспросила удивленная женщина.
– Там когда-то была школа, – пояснил ее собеседник. – Сейчас это просто дом, в котором сдаются комнаты, причем очень дешево. Олли уезжает, и одна комната освобождается. Я поговорил с хозяином, он совершенно не против, чтобы ты заняла кабинет директора.
– Интересный будет адрес! – рассмеялась Алиса.
– Скажи, что ты согласна.
– Не приставай к ней, – одернул приятеля Олли. – Пусть сама решит. Сначала она должна посмотреть.
– Ну, конечно, она все посмотрит, мы поедем туда прямо сейчас.
Кабинет директора находился на втором этаже, рядом с помещением четвертого класса. Пока они ехали в метро, Алиса несколько раз поймала восхищенный взгляд Тома. У нее никак не выходило из головы то, как он протягивал ей руку во время исполнения арии. Она спросила себя, действительно ли это хорошая идея – поселиться в соседней с ним комнате? Но больше свободных комнат все равно не было. Джарвис пока не хотел сдавать помещения на третьем этаже. Скрипачка опасалась, что шум поездов может помешать ей спать по ночам, но решила все-таки переехать. Благодаря смешной арендной плате, сто фунтов, которыми она располагала, представлялись ей теперь куда более внушительной суммой. Особенно в сравнении с платой за номер в отеле миссис Арчер.
Том настоял на том, чтобы поехать с ней на Стретхэм-стрит и помочь перевезти чемодан и пальто. На обратном пути он рассказал о себе и показал свою искалеченную левую руку. На взгляд Алисы, рука выглядела точно так же, как и правая, за исключением того, что сустав мизинца был чуть увеличен, а сам палец не так хорошо гнулся.
– По-моему, твоя бабушка права, – сказала она. – Ты должен вернуться в университет.
– И ты туда же?
– Это то, ради чего я приехала в Лондон, – хочу продолжить обучение, собираюсь перебраться в Брюссель, там лучше всего. У нас, к сожалению, нет государственной музыкальной консерватории, а должна бы быть.
– В один прекрасный день я вернусь в университет. Когда? Решу сам. Нужно будет платить за обучение, но я справлюсь. Только торопиться мне некуда.
Скрипачка согласно кивала, не особенно прислушиваясь к тому, что он говорил. Алису пугало ожидавшее ее одиночество в кабинете директора «Школы». Как пить дать, она опять начнет анализировать случившееся. В первый раз после побега женщина осознала, что родила всего месяц назад – ей даже почудилась тянущая боль там, где были наложены швы. Она чувствовала усталость, и все ее тело ныло – возможно, потому, что пришлось несколько часов простоять на ногах, а потом долго идти пешком. Если бы Алиса была одна, она, наверное, заплакала бы.
Ей совершенно не улыбалось, чтобы Том взял ее под опеку и начал думать о ней как о собственном приобретении. Он сказал, что они увидятся позже, что Алиса просто обязана пообедать с ним в его комнате и что он только принесет бутылку вина, после чего ушел. Она осталась одна.
Пытаясь отвлечься от мыслей, молодая женщина начала разглядывать свое новое жилище. В нем не было ничего, говорящего о том, что это – кабинет директора школы, который, наверное, беседовал здесь с отстающими ученицами и награждал отличниц. Не было письменного стола, зато стояла большая кровать, застланная какими-то сомнительного вида простынями, а также кресло, столик и шкаф. Окно выходило на железнодорожные пути, по которым то и дело проносились поезда подземки и вагоны легкого метро или электрички, отправляющиеся в Чилтернс. Скрипачка вспомнила, что в большом холле, который здесь называли вестибюлем, заметила телефон.
В голове была пустота. Алиса села на кровать, и вдруг осознание реальной жизни обрушилось на нее, заполнив этот вакуум. Она вспомнила, что с сегодняшнего дня у Майка начинается отпуск. Наверняка сейчас он вместе с Кэтрин сидит у своей матери. Они разговаривают о ней, об Алисе. О чем же другом им сейчас говорить? Рассуждают о том, что она точно спятила и ее поведение совершенно недопустимо. Свекровь обязательно добавит, что ее невестка не только сумасшедшая, но и безнравственная. А потом они позвонят ее родителям и расскажут им все – если, конечно, уже этого не сделали.
Алиса решила ничего никому не говорить и держать все в себе, так как рядом с ней не было никого, кто бы знал их семью и смог бы понять ее обстоятельства. Решить-то она решила, но три часа спустя, обедая с Томом купленной на вынос индийской едой и выпив немного вина, все ему выложила.
– Зачем же ты вышла замуж? – спросил Мюррей. – И почему не сделала аборт?
Он не понимал, что рассуждать сейчас о том, что нужно было прервать беременность, – это все равно что хладнокровно планировать убийство, ведь Кэтрин была уже живым ребенком, настоящим человеческим существом. Впрочем, раньше Алиса и сама об этом подумывала.
– На меня все давили, – ответила она. – Трудно объяснить. С чего ты взял, что у меня твердый характер?
Именно так ее новый знакомый сказал, когда услышал ее историю: «У тебя, должно быть, очень твердый характер, раз ты решилась воплотить свои планы в жизнь».
– Я тогда только что закончила Королевскую академию и получила результаты последних экзаменов. Майк обрадовался, узнав, что я беременна. Он очень хотел жениться, создать семью. Сказал, что теперь мы с ним должны быть вместе, – попыталась объяснить скрипачка.
– Ты специально забеременела?
– Нет, конечно. Это была просто моя ошибка. Случайность. Я никогда не собиралась выходить за него замуж, считала его просто своим приятелем. А когда забеременела, он меня вообще перестал привлекать. Но на меня насели наши родители. Моя мать сказала, что мир точно сошел с ума, если девушку надо заставлять выходить замуж. В ее время принуждать приходилось парней.
Алиса боялась, что Том снова начнет болтать об аборте, но он сказал только одно:
– Ты не обязана была поступать так, как хотелось им.
– Я сдалась. Знаю, это было малодушно, – развела руками молодая женщина. – Но я оказалась из тех, кто плохо переносит беременность. Меня тошнило не только по утрам, мне было плохо все время, и день ото дня становилось все хуже. Я не могла никуда пойти, не могла ничего делать. А Майк постоянно находился рядом, он был добр со мной и говорил, чтобы я ни о чем не волновалась. Нашел нам квартиру, его мать ее обставила, они начали готовиться к свадьбе. Тогда я сдалась. У меня больше не было сил сопротивляться. За неделю до церемонии мне стало лучше, тошнота прошла, и моя мать сказала, что все это было лишь на нервной почве. Цитирую ее: «В глубине души ты мечтала выйти замуж, поэтому, как только дело со свадьбой решилось, ты и успокоилась».
– А если бы ты не забеременела?
– Я собиралась стать концертирующей скрипачкой, – Алиса посмотрела на собеседника, – и я все еще этого хочу. Именно по этой причине я и сбежала, бросив своего ребенка.
Ее глаза наполнились слезами. Мюррей поднялся, сел рядом, взял ее за руку и прижал к себе. Казалось, скрипачка этого не заметила. Она продолжала всхлипывать.
Глава 6
Линия Метрополитен обозначена на схеме цветом бургундского вина; линия Дистрикт – зеленым; Кольцевая – желтым; Бейкерлоо – коричневым; Пикадилли – синим; Северная – черным. Именно эти цвета использовал Бек, и в них же окрашены стены и скамейки на станциях.
Линия Виктория на схеме голубая. Когда заканчивалось строительство Юбилейной, многие спорили о том, какой цвет для нее выберут: розовый, лимонный, оранжевый или лиловый.
Но компания Лондонских Подземных Перевозок выбрала серый.
В розовый совершенно неожиданно для всех окрасилась линия Хаммерсмит, одна из веток линии Метрополитен.
Шли дни, а Алиса все никак не могла решиться позвонить матери. Каждое утро они с Питером и Томом, а иногда только с Томом ходили в подземку, где она играла на скрипке. Если честно, женщине не слишком это нравилось. Она боялась, что исполнение популярной классики под гул поездов, шарканье ног и болтовню прохожих, да еще под вопли и свист конкурентов унижает ее в собственных глазах.
Но когда она стояла со скрипкой, прижатой к подбородку, и со смычком в руке, тревога и беспокойные мысли о Кэтрин покидали ее. Словно под действием наркотика, Алиса становилась очень далекой от этого мира. Люди сновали туда-сюда, некоторые кидали монетки, но она, Том и Питер были иными, особенными, отличными от других. Их троих объединяла музыка.
Музыка же избавляла ее от забот и от необходимости писать запросы, чтобы добиться того, ради чего она все это затеяла: стать концертирующей скрипачкой. Алиса говорила себе, что торопиться глупо, потому что, помимо послеродового невроза, она страдала от шока, пусть и сама его спровоцировала. Хуже всего было одиночество, а лучше всего – те моменты, когда она была в компании тех, кто любовался и восхищался ею.
Том пел или играл на флейте, а Алиса – на скрипке. Ей не нравилось, как у нее это получалось, и временами она даже рада была тому, что вокруг такой шум, а публика не особенно искушена в искусстве. Но главное – она вновь играла, уже одно это страшно ее радовало. Она вернулась, пусть даже таким странным путем, в тот мир, из которого ее вырвали замужество, родичи Майка и семейный быт.
В ту ночь, когда Алиса, плача, во всем призналась Тому, он успокоил ее, обнял и поцеловал. Если бы она не сказала, что родила всего месяц назад, он наверняка попытался бы заняться с ней любовью. Сама же она не была уверена, что ей это нужно. Захочет ли она вообще когда-нибудь заниматься с кем-то сексом? Ее тело словно заледенело или одеревенело, за исключением того места, где до сих пор временами чувствовалась боль.
Спалось ей плохо. Прошло уже три дня, молчание Майка и ее собственных родителей начинало казаться абсурдным. Хотя как они могли связаться с ней, если она никому не сообщила, где находится? Скрипачка постоянно спрашивала себя: кому из них лучше позвонить? Но при одной мысли о звонке ее охватывала дрожь. Родителям Майка? Бессмысленно, свекровь моментально бросит трубку. В нерешительности стояла она в вестибюле перед памятными досками с выгравированными на них именами лучших учениц «Школы Кембридж», всех этих Дороти, Джоан, Эдит и Хильд. Открылась стеклянная входная дверь, и вошла пожилая женщина. Она пожелала Алисе доброго утра, та ответила. Вошедшая была худощавой, довольно высокой, с тонким изящным лицом и седыми, когда-то светлыми, волосами. Алиса догадалась, что это – миссис Сесилия Дарн, мать Тины, еще до того, как та скрылась в коридоре, ведущем в жилые комнаты директора школы. Она подумала, что в такой ситуации, наверное, правильнее всего позвонить своей собственной матери. Впрочем, скрипачка могла и ошибаться. Мать Майка тоже казалась приятной и умной женщиной, одной из тех, кого люди называют «просто душкой», вот только внешность зачастую обманчива.
Но, как бы там ни было, она обязана была позвонить матери. Кроме всего прочего, сделать это было проще, даже если не принимать в расчет непреодолимые моральные проблемы. Для того чтобы связаться с Майком, нужно было сначала звонить на коммутатор, а если бы она решила поговорить с отцом – то его секретарю. Алиса набрала номер матери и едва не дала отбой, услышав длинные гудки.
Когда Марсия Андерсон взяла трубку, скрипачка выпалила бессмысленную фразу, которой всегда начинала разговор с теми, кого считала своими близкими:
– Это я.
Тишина. Она слышала только тяжелое дыхание, и больше ничего. Мать молчала. Молодая женщина подумала, что та сейчас положит трубку.
– Это я, Алиса, – добавила она.
– Я уже поняла, – ответила ее собеседница.
Скрипачка все ждала, и Марсия наконец не выдержала:
– Похоже, ты потеряла последние остатки разума.
– Ну да, я понимаю, что все так и думают, – ответила Алиса. – Но я просто обязана была уйти. Если бы я не ушла сейчас, то не сделала бы этого никогда.
– Что же, остается только пожалеть, что ты не задержалась подольше. Как ты собираешься ухаживать за своим ребенком? Ты об этом подумала? Может быть, хоть соизволишь сказать, когда вернешься?
– Я не вернусь.
– Нет, ты вернешься, Алиса. У тебя просто временное помутнение рассудка. Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, – это сказать, где находишься, и за тобой приедет папа. Или Майк. Впрочем, нет, лучше, если тебя заберет папа, потому что Майк слишком зол и обижен на тебя. Тебе следует показаться врачу и, возможно, даже лечь в больницу.
Алиса всегда звала мать «мамулечка». Но сейчас об этом не могло быть и речи, поэтому она сказала:
– Мам, я ушла потому, что я – музыкант. Я не хочу быть только чьей-то мамашей или женой. Я не люблю Майка. Он мне вообще больше не нравится…
…Главное – не упоминать Кэтрин, иначе голос дрогнет…
– И я не собираюсь тебе говорить, где нахожусь. Не сейчас. Но кое-что я все-таки тебе скажу: я стала скрипачкой, и я – свободна. Впрочем, не думаю, что тебе это о чем-то говорит.
Миссис Андерсон издала короткий смешок. Такой ее смех всегда заставлял Алису вздрагивать.
– Майк сказал, что ты забрала скрипку, – сказала Марсия жестко. – Бросила новорожденную дочь, а свою скрипку забрать не забыла.
– Пока, мама, – сказала Алиса. – Передай папе, что я его люблю.
– Забудь об этом, – ответила ей мать, – он не собирается с тобой разговаривать.
Скрипачка посмотрела вверх, на люстру, из-за паутины похожую на железного тарантула. Она закинула голову, пытаясь удержать подступившие слезы: «Я не должна больше плакать, это глупо и отвратительно, плакать из-за чего бы то ни было». Она стояла, опершись о телефонный столик, а потом, в надежде, что это удержит ее от слез, начала читать имена, вырезанные на деревянных панелях: Хильда Беванс – два «похвально», три «хорошо» в Дипломе «Школы Оксфорд» за 1944 год; Марджори Грэйс Пикторн – одно «отлично», два «похвально», четыре «хорошо» в Дипломе «Школы Оксфорд» за 1945 год… Из-за двери «переходного класса» доносился стук письменной машинки Джарвиса.
Первые поезда работали на паровой тяге. Туннели были полны дымом и чадом, а ведь пассажирам нужно было хоть как-то дышать. Один чиновник, приехавший в отпуск из Египта, как-то сказал, что запах в подземке напоминает ему дыхание крокодила. В результате стали использовать локомотивы, в которых дым по специальным выхлопным трубам отводился в резервуар, находившийся позади котла. Когда поезд выходил из туннеля, резервуар открывали и дым выпускали.
Место, которое было выбрано для стравливания собранного в туннелях дыма, находилось за станцией Пэддингтон, в Бэйсуотер, рядом со строящимися пятиэтажными «террасными» домами[11]. Для того чтобы не портить вид на Лейнстер Гарденс, фасады будущих домов номер 23 и 24 приподняли относительно соседних так, чтобы это не бросалось в глаза, хотя внимательный наблюдатель все равно мог это заметить.
Когда мне было девять лет, мой отец водил меня смотреть на эти так называемые «дома». Я всегда удивлялся, почему они не стали приманкой для туристов. Если смотреть на них с тротуара Лейнстер Гарденс, эти «дома», зажатые между отелями «Блэйкмур» и «Генрих VIII», имели довольно сильный наклон. Понятно, почему в них никогда никто не жил: жить там было попросту невозможно, хотя имелись входные двери и даже портик, но те места, где должны были быть окна, были закрашены унылой синей краской. Тогда в первый раз мы с отцом прошлись по Крейвен-Хилл Гарденс до Порчестерских Террас, и он показал мне заднюю стену этих двух домов, сложенную из белого кирпича. Отец поднял меня над оградой, чтобы я смог заглянуть в шахту подземки. Я спросил его тогда о людях в соседних домах, живущих в постоянном тумане. Он ответил, что, скорее всего, им сдают квартиры по низкой цене.
Миссис Дарн вышла из комнаты Тины. У нее в руках был список покупок, который она положила в сумку. Завидев Алису, пожилая дама лишь улыбнулась ей, поскольку они уже здоровались. Скрипачка попыталась улыбнуться в ответ, но улыбка вышла бледной. Слова матери до сих пор звучали у нее в ушах, и она не могла удержаться от дрожи. Алиса подумала, что Сесилия, наверное, очень хорошо воспитана, раз делает вид, что ничего не замечает. Пожилая женщина была уже у входной двери, когда до них вдруг донесся отдаленный, но явственный звук взрыва.
– Господи, что это?! – воскликнула миссис Дарн. Голос у нее был точь-в-точь как у Алисиной школьной учительницы истории, старушки, о которой говорили, что она – сестра баронета.
Они вдвоем вышли на улицу. Вокруг снова было тихо, насколько это вообще было здесь возможно. Прогрохотал поезд. Садик «Школы Кембридж» выглядел как дикий луг, заросший высокой травой, кипреем, маргаритками и золотарником. Посередине пышно цвел лабурнум.
– По-моему, это была бомба, – пробормотала Сесилия.
– Похоже на то, – согласилась Алиса.
– Когда-то давно на этой улице стояли коттеджи, – сказала миссис Дарн, – но их разбомбили во время войны. Однажды ночью у нас повылетали все стекла. У нас было «убежище Моррисона»[12], и мы спрятались в нем – я, мой муж и его мать. Естественно, все это происходило задолго до того, как родилась Тина.
– Впрочем, скорее всего, это был автомобильный выхлоп, – сказала ее молодая собеседница. – Ну, или удар грома.
– Да, конечно, это не бомба, – произнесла Сесилия тоном заправского эксперта.
Алиса вернулась в дом и поднялась в кабинет директора. Она хотела записать свою игру на взятый у Джарвиса магнитофон и критически ее разобрать. Она и так уже откладывала это упражнение несколько дней. С привычным страхом женщина достала из футляра скрипку.
Жилище Сесилии Дарн, то самое, в котором во время бомбежки повылетали все стекла, было весьма просторным: прекрасный большой дом из красного кирпича под черепичной крышей, построенный в конце девятнадцатого века.
Впрочем, на взгляд Тины и ее друзей, он был чрезмерно велик. В юности ей делалось стыдно, когда приходилось говорить знакомым, что они с матерью живут там одни, вместо того чтобы отказаться от части дома и поделить ее на квартиры. Но в 1940 году, когда Сесилия, выйдя замуж, переселилась в этот дом, его считали довольно бедным коттеджем, запущенным и к тому же расположенным в нереспектабельном квартале. С учетом того, что дедушка, бывший в викторианские времена фабрикантом, выпускавшим приспособления для туалетных комнат, оставил им приличное наследство, следует признать, что их род явно угасал: школа Эрнеста приходила в упадок, Эвелина свихнулась и уже однажды побывала в специальной лечебнице, а Сесилия выскочила замуж за таможенника.
Официально дом назывался виллой «Сирени», но его так никто не называл, несмотря на то, что в саду еще росли древние кривые сиреневые кусты. Здание было трехэтажным, комнаты – просторными и высокими. Потолки в спальнях, расположенных на верхнем этаже, были чуть скошены, что вместе с мансардными окошками, выглядывавшими из-под фронтонов, придавало им уютный вид. С лицевой стороны имелось несколько гостиных, типичных для Западного Хэмпстеда: красный кирпич, балконы и узкие готические окна, оформленные в манере Берн-Джонса. После того как Брайан выгнал ее из дома, Тина с детьми поселилась наверху. Но ели они внизу, потому что Сесилия прекрасно готовила, да и единственный телевизор находился в гостиной.
Мисс Дарн никогда не испытывала чувства вины. В отличие от матери, которая постоянно упрекала себя за то, что происходило с дочерью. Сесилия терзала себя вопросами, где же она ошиблась, и бранила себя за то, что не удержала Тину, когда та решила перебраться к Джарвису Стрингеру. Как бы она хотела избавить дочь от страданий, которые та испытала в детстве, пусть и не представляла, что же это были за страдания. Но они обязательно должны были быть, ведь люди вырастают подобными, только когда страдают в детстве. Может быть, миссис Дарн была слишком стара, чтобы заводить детей? Или дело было в том, что Тина рано лишилась отца? А вдруг Тине хотелось иметь братика или сестричку? Когда после двенадцати лет бесплодных попыток Сесилия забеременела, ей было уже за сорок, поэтому о других детях не могло быть и речи.
Оглядываясь назад, на детство дочери, она всегда вспоминала тот особенный день, когда повесился Эрнест Джарвис. Тине было семь, она была хорошенькой, как картинка, и с длинными светлыми волосами. Уже в ту пору она с трудом вставала по утрам, умоляя позволить ей поспать еще немного, и часто вновь отправлялась в кровать, что и предвещало, по мнению Сесилии, ее нынешнюю привычку спать до полудня. В тот самый день она уже в третий раз поднималась в комнату дочери, собираясь сказать, чтобы та немедленно вставала, иначе опоздает в школу, и тут услышала удар колокола в «Школе Кембридж».
Странно, но миссис Дарн сразу поняла, что это был тот самый колокол, который она тактично убедила брата никогда не использовать, так как это неприемлемо для школы высокого уровня. Она застыла у открытого окна, ожидая нового удара как сигнала о том, что Эрнест Джарвис окончательно спятил. Директор школы, в которой не осталось ни одной ученицы, вполне мог сойти с ума в ее опустевших классах и начать бить в колокол. Перед глазами Сесилии стоял образ несчастной Эвелины, а также вспоминались семейные сплетни о брате дедушки-мануфактурщика, скончавшемся в «скорбном доме».
Второго удара не последовало. Он раздался лишь через четверть часа, а за ним последовал жуткий трезвон. Сесилия захлопнула окно и, поднявшись по лестнице, обнаружила свою дорогую дочку одетой и пытающейся расчесать спутанные золотистые локоны. Тина всегда была ласковым ребенком. Она часто забиралась к матери на колени и крепко прижималась к ней или, обняв отца за шею, клала голову ему на плечо. Теперь Сесилия спрашивала себя, не должна ли она была заподозрить в этом поведении первые сигналы той сексуальной распущенности, которая проявилась в дочери позже. Она, миссис Дарн, будучи любящей, доброй, но скромной женщиной, всегда, когда это было возможно, избегала любых прикосновений и думала, что именно робость была причиной ее сексуальной холодности. Нет, она, конечно, дотрагивалась до Тины, целовала и ласкала ее, но вот вопрос: слишком часто или слишком редко?
Через два года после смерти отца, когда Тине было семнадцать, она сказала матери ужасную вещь. Это случилось в семидесятые, совершенно кошмарное время, по мнению Сесилии, когда была утрачена мораль и люди болтали все, что приходило им в головы, даже то, что в книгах обычно заменяется точками, а в залах суда, если нужно, пишется на листочке бумаги для передачи судье.
– Если бы ты и Дафна были сейчас молодыми, – сказала тогда Тина, – вы бы наверняка поняли, что влюблены друг в друга, и стали бы жить вместе.
Ее мать утратила дар речи. Она ужасно покраснела, а девушка только потрепала ее по плечу и весело рассмеялась.
– Что ты такое говоришь, дочка? – воскликнула Сесилия. – Как вообще можно говорить такое своей матери?!
– Ладно, не психуй, – ответила Тина, используя принятый в то время сленг. Она взяла горячую, дрожащую руку матери и сжала ее. – Что поделаешь, если вы с ней такие? Во всяком случае, вам еще не поздно, для своего возраста ты очень даже ничего.
Миссис Дарн постаралась напустить на себя как можно более гордый вид, хотя на самом деле чуть не плакала.
– Дафна – просто моя самая близкая подруга, – ответила она. – Мы с ней подружились в тот день, как пошли в школу, нам было по пять лет. Я к ней очень тепло отношусь и уважаю, а она уважает меня.
Тина только захохотала и затрясла головой. Но когда в следующий раз Сесилия виделась с Дафной Блич-Палмер, слова дочери вдруг пришли ей в голову и ей стало стыдно. Если бы две пожилые женщины не имели стойкой привычки встречаться, как минимум, раз в неделю или чаще, а кроме того, каждый день разговаривать по телефону, то, несомненно, инсинуации Тины могли бы поколебать их дружбу, а может быть, даже разрушить ее. Однако отношения с Дафной, удовольствие от ее общества и от того, что она заранее могла предугадать реакцию подруги на любую свою реплику, душевная близость, существующая между ними уже более полувека, одержали верх над внезапным, хотя и неподдельным смущением. Сесилия особенно почувствовала его в тот момент, когда переступила порог дома Блич-Палмеров и хозяйка, как всегда, положила свои пухлые руки ей на плечи и поцеловала гостью в щеку. Кровь прилила к лицу миссис Дарн. Ей показалось даже, что этот жар может обжечь губы Дафны.
Но та лишь улыбнулась и, по своему обыкновению, поинтересовалась, как дела у Тины. Обе они вдовствовали, а следовательно, не могли обменяться новостями о здоровье мужей. Сесилия заставила себя поинтересоваться сыном и садом Дафны, и вскоре напряжение спало. Частые встречи способствовали тому, что впечатление от слов Тины поблекло, хотя ее мать никогда их не забыла, вспоминая всякий раз, когда какая-нибудь случайная фраза наводила ее на эту мысль. Словно лопата вонзалась в унавоженную почву. Например, разговоры о проделках Питера или популярная телевизионная комедия о гомосексуалистах.
Подруги звонили друг другу каждый вечер. Дафна, которая, как подозревала Сесилия, была не так обеспечена, как она сама, звонила ей раз в два дня после шести вечера. В другие дни первой звонила миссис Дарн. Они специально выбрали это время для звонков, поскольку вечером тарифы снижались.
Обычно Сесилия звонила после шести тридцати вечера, потому что смотрела вечерние новости на первом канале Би-би-си, с начала до конца, включая прогноз погоды. Дафна же звонила сразу после шести, что означало потерю пятнадцати-двадцати минут программы, но миссис Дарн никогда ничего не говорила ей об этом, предпочитая лучше пропустить передачу, чем обидеть подругу. В конце концов, она ведь всегда могла посмотреть девятичасовые новости, хотя это было уже не совсем то. Пожилая женщина отдавала себе отчет в том, что ее мысли нелогичны, но ей упорно казалось, что к девяти новости устаревают, а сама она в течение целых трех часов пребывает в прискорбном неведении относительно произошедших за день ужасных катастроф и чудесных спасений. Хотя последние случались очень редко.
Сегодня была ее очередь звонить миссис Блич-Палмер. Сесилия поудобнее устроилась в гостиной на диване-кровати, который всегда использовался как диван и никогда – как кровать. «Мам, у тебя же целых пять спален», – говорила Тина, положившая на него глаз. Итак, миссис Дарн устроилась поудобнее и включила телевизор за двадцать секунд до шести часов. Она делала так для того, чтобы случайно не услышать окончание музыкальной темы отвратительного сериала «Соседи». Несмотря на всю ее ненависть к этому фильму, мелодия каждый раз намертво застревала у нее в голове.
Первая новость сегодня была посвящена бомбе. Потому, что это была именно бомба. Она взорвалась в отеле «Лейнстер Плэйс», хотя в будущем этот случай получил название «Бэйсуотерская бомба». Два человека, горничная и постоялец, погибли на месте, еще пятеро были ранены. Если бы бомба взорвалась на час позже, когда ресторан отеля оказался бы заполнен людьми, все было бы куда хуже. Возможно, это и планировалось, но что-то пошло не так. Впрочем, по мнению Сесилии, вряд ли это могло утешить родственников и друзей погибших. Горничной было всего лишь девятнадцать лет.
На ум сразу пришли другие случаи недавних взрывов в Лондоне. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за них. Наверное, взрыв был очень мощным, раз они с той красивой девушкой услышали его даже в Западном Хэмпстеде. По какой-то неясной причине, возможно потому, что они встретились именно в тот момент, девушка теперь ассоциировалась у Сесилии с погибшей горничной. Она подумала, что, если бы террористы видели своими глазами тех, кого собираются убить, – их молодость, красоту и надежды на будущее, – они бы никогда не совершали подобного.
Она сказала об этом Дафне, связавшись с ней сразу после окончания прогноза погоды.
– Не помогло бы, – возразила та. – Вспомни нацистов и газовые камеры.
Она, похоже, вообще не заинтересовалась взрывом. Питер снова вел себя как идиот. Он познакомил ее с парнем по имени Джей Россини, причем ситуация до ужаса напоминала ту, когда Артур много лет назад водил Дафну знакомиться со своей матерью – ее будущей свекровью. За несколько минут до звонка Сесилии Питер позвонил матери и спросил, понравился ли ей Джей.
– Я ответила ему, что рано или поздно вся эта дурь выветрится у него из головы.
– Уверена, ты совершенно права.
– Все изменится, когда он встретит подходящую девушку.
Фраза миссис Блич-Палмер вызвала в памяти ее подруги тот разговор с Тиной и ужасные слова дочери. Из глубин подсознания выплыла мысль о том, что если бы много лет назад она, Сесилия Дарн, да-да, именно она, встретила «подходящую девушку», которая все объяснила бы, поговорила бы с ней об этом… Ох, кажется, миссис Дарн слишком близко подошла к тому, на что намекала Тина!
После нескольких попыток начать концерт Бетховена Алиса в панике отложила смычок. Ей хотелось зашвырнуть его в угол, но она сдержалась. Что же она наделала? Как сразу не сообразила, насколько это безнадежно? За время беременности она все забыла.
Молодая женщина принялась расхаживать туда-сюда по комнате. А может, она всегда так играла? Ей не удавалось убедить себя, что в ее теперешнем исполнении было хоть что-то хорошее: все было плохо, действительно плохо. Она только впустую потратила деньги на покупку чистой кассеты. У нее никогда не хватит духу прослушать эту запись.
Алиса прижалась лбом к холодному оконному стеклу. По мере того как она обдумывала свои дальнейшие планы, паника отступала. Не имело смысла вспоминать об успехе на экзаменах, о восторгах ее преподавателя по скрипке, утверждавшего, что, по его мнению, она достаточна хороша для брюссельской или пражской консерватории. И что если Алиса хотя бы год проучится там, то будет готова поступить в любой знаменитый оркестр, а может быть, даже начать сольную карьеру. Сегодня бы он так не сказал: скорее всего, его охватил бы стыд за нее.
Ей совершенно необходим учитель. Прежде чем отправиться на прослушивание, нужно взять хоть несколько уроков. А за уроки надо платить. Грохот проезжающего поезда заставил скрипачку посмотреть в окно. Из него были видны платформа, здание станции и железнодорожный мост. Том, Питер и новый приятель Питера – Джей Россини стояли на перроне Юбилейной линии, ожидая прибытия поезда, идущего в южном направлении. Алиса пожалела, что не отправилась сегодня с ними. Нет ничего хуже одиночества. Оставаясь одна, она начинала думать о своем положении, и ей казалось, что все идет очень плохо.
Если Мюррей хочет ее, то, может быть, имеет смысл на это пойти? Просто для того, чтобы быть с кем-то, чтобы было к кому прижаться ночью.
Она помахала ему, но Том не заметил этого. Вероятно, с того места, где он стоял, вообще нельзя было различить окон «Школы». Серебристый поезд, подошедший к станции, скрыл флейтиста от ее глаз, а потом и вовсе увез его. Алиса провожала поезд глазами до Финчли-роуд.
По словам Питера, Джей неплохо играл на тенор-саксофоне, но становился излишне нервным, как только речь заходила о том, чтобы сделать что-то, не одобрявшееся законом. Все дружно рассмеялись, и Питер заявил, что, в таком случае, их отношения также незаконны, поскольку Россини еще нет двадцати одного года.
– Мне говорили, – заметил Том, – что полиция никогда не арестовывает за игру в метро. Таких, как мы, только выгоняют. Нет, могут и арестовать, конечно, но только если назовешь фальшивое имя или если ты законченный бродяга. Я имею в виду тех людей, которые дунут пару раз в губную гармошку и тут же протягивают руку за подаянием. А мы – настоящие музыканты.
Чтобы сменить обстановку, они собрались на станции «Оксфордская площадь», где застолбили за собой местечко. Вход со стороны Арджилл-стрит был заполнен нищими, у которых не было даже губной гармошки. Они протягивали прохожим старые кепки, и Мюррей решил, что никогда не будет использовать кепку для сбора денег. Пусть это будет шляпа, футляр от гитары или, на худой конец, платок с завязанными по углам узлами. Они встали у первого эскалатора. Здесь было шумно и людно, повсюду сновали туристы, школьники и студенты с рюкзачками за спиной.
Том сказал, что играть сейчас не будет, но попозже – споет. И правда, его флейта совсем не сочеталась с гитарой и саксом. К тому же Питер и Джей играли музыку, которая нравилась ему еще меньше, чем рок. Все эти «Жизнь в розовом цвете»[13], «Только не в воскресенье»[14], «Мужчина и женщина»[15], которые сразу напоминают о ресторанах и супермаркетах. Флейтист совсем не удивился, когда выяснилось, что люди не собираются за такое платить.
Ему захотелось, чтобы с ними сейчас была Алиса, захотелось просто ужасно. Он скучал по ней. Ее прекрасное лицо все время стояло перед его глазами, Том вспоминал те разы, когда Алиса была с ним в метро, вспоминал, как великолепно она играла. Если бы сейчас они работали с ней вдвоем, то смогли бы всем показать, что такое настоящая музыка. Людям бы наверняка понравилось. Алиса была послана ему провидением: прекрасная скрипачка, появившаяся, чтобы его спасти. Она не была ни Дианой, ни той, другой, она могла заменить ее, но стала воплощением совершенства, которое он искал. Мечта о женщине, которая придет и спасет его, была не нова для Мюррея, но сейчас она начала претворяться в реальность и переставала быть пустой фантазией.
Значит, он понемногу влюбляется в Алису. Нет, не так. Он полюбил ее с первого взгляда. Ее лицо было лицом Дианы, только еще более прекрасным из-за проступавшей на нем грусти. Девушка только открыла футляр, достала скрипку и начала играть, а его тут же бросило в жар и возбуждение. Том влюбился в свет, горящий в ее глазах, когда она слышала хорошую музыку.
Питер с Джеем закончили играть «Один очаровательный вечер»[16], и Мюррей сказал им, что собирается петь. Джей снова занервничал, но Блич-Палмер уверил его, что все пройдет без сучка и задоринки. Том спел балладу на стихи Бёрнса, поскольку под гитару она шла отлично, а на саксофон он не обращал внимания. Потом настала очередь серенады из «Дон Жуана». В футляр посыпались монеты.
К ним подошел полицейский, показавшийся флейтисту слишком бесцеремонным и крайне недоброжелательным, и стал выпроваживать их из подземки. Они переехали на другую станцию, в сторону Холборна по Центральной линии. Самое лучшее место здесь должно было освободиться после половины четвертого. Питер предложил остаться там до часа пик и поиграть хотя бы минут тридцать. Больше у них все равно бы не вышло, поскольку метро выглядело в тот день особенно переполненным людьми. В футляр им бросили монету в двадцать пенсов и газету «Ивнинг Стандард» – то ли в качестве подаяния, то ли просто для того, чтобы от нее избавиться.
Крупный заголовок на первой полосе сообщал о взрыве бомбы в Лондоне. Том прочел несколько строчек и понял, что это случилось в Западном Хэмпстеде и никто из его знакомых не пострадал. Может быть, это была ИРА. Или арабские террористы. В Лондоне полно всяких. Он огляделся вокруг: толпа народу, а с эскалатора прибывают все новые и новые потоки, люди теснятся на лестницах… Если какой-нибудь поезд задержится, на платформу не сможет протиснуться ни один человек. Странно, почему никому из террористов до сих пор не пришло в голову заложить бомбу в подземке?
Наверное, они это уже делали, просто сведения не просочились в газеты. Молодой человек оторвался от статьи и запел другую арию из «Дон Жуана», ту, которую обычно называют «Ария с шампанским». Она была очень быстрой и игривой, так что Питер и Джей со смехом оставили попытки ему аккомпанировать.
На «Площади Оксфорд», где сходились три линии, были построены четырнадцать эскалаторов. Переходы и платформы этой станции протянулись на четыре с половиной мили, и каждый день она обслуживала около двухсот тысяч человек. В дальней ее части кто-то занимался фотографированием.
Люди не любят, когда их снимают в то время, пока они идут на работу или возвращаются с нее. Они же не на пляже, в самом деле! Большинство из них если и не возмущались прямо, то ускоряли шаг и делали сердитые лица. Какой-то ребенок принялся строить в камеру рожицы, приложив к ушам растопыренные ладошки.
Фотограф был молодым бородатым брюнетом с ярко-голубыми глазами. Одет он был в черные джинсы и черный свитер. Тем из прохожих, которые все же разрешали себя сфотографировать, он протягивал свои визитки. На них не было ничего, кроме странных бессмысленных иероглифов, и люди сразу же выбрасывали их, замусоривая и без того грязный пол.
Вот он направил объектив на мужчину, несшегося огромными шагами по переходу. Воротник куртки этого человека был поднят, а козырек кепки надвинут на глаза, но и они не могли скрыть его на редкость уродливой физиономии, утиного носа и заячьей губы, которую не исправила даже хирургическая операция.
Прохожий подошел к фотографу:
– Я хочу эту пленку.
Фотограф улыбался. Он вообще выглядел веселым и довольным.
– Я сказал, что хочу эту пленку, – повторил незнакомец.
– Вы не желаете получить на память свое прекрасное лицо?
– Не желаю. Пожалуйста, отдайте мне сейчас же пленку.
Прохожие начали оглядываться. Происходящее становилось куда интереснее, чем просто возможность быть сфотографированным и получить на руки дурацкую визитку.
– Я ничуть не слабее вас, – предупредил фотограф и, подумав, добавил: – А может быть, даже и сильнее. Впрочем, я охотно отдам вам ее, но на одном условии: мы с вами отправимся пропустить по стаканчику.
Он открыл камеру, достал пленку и с улыбкой отдал ее обладателю утиного носа.
Глава 7
От кого родились ее дети, Тина Дарн не знала. Знала она только, что отцы у них – разные. Ну, могла еще очертить примерный круг потенциальных кандидатов, а остальное было покрыто мраком. Все это молодая женщина держала в большом секрете. Не то чтобы она руководствовалась какими-то моральными соображениями – ей и в голову не могло прийти, что дети имеют право знать, кто их отец, или хотя бы считать таковым сожителя или мужа своей матери. С ее точки зрения, это был полный вздор. Мисс Дарн хранила тайну, потому что, если бы Брайан узнал, что на самом деле не является отцом Джаспера и Бьенвиды, он перестал бы платить пятьдесят фунтов в неделю на их содержание.
Ни в коем случае не должна была знать об этом и мать Тины. Она рассматривала Сесилию как своего рода страховой полис, а ее дом – как гавань, где при случае можно укрыться от непогоды. Если бы мать узнала правду о Джаспере и Бьенвиде, это могло бы поколебать ее взгляды на право детей рассчитывать, что двери родительского дома будут всегда для них открыты. Тина возвращалась в материнский дом (отец умер, когда ей было пятнадцать лет) всякий раз, когда ей некуда было податься. Последний раз она прожила там три месяца, перед тем как встретила Джарвиса на Фоули-роуд. Брайан выгнал ее, обвинив в какой-то чепухе, которую он, как идиот, назвал «супружеской изменой». Замужем мисс Дарн никогда не была, хотя ее мать не теряла надежды на то, что рано или поздно свадьба дочери состоится. Брайан нравился Сесилии Дарн: он был первым внушающим доверие мужчиной, с которым познакомилась ее девочка. Она считала, что это прекрасно, если неженатый работающий человек, чье имя находится в списке квартиросъемщиков районного совета Ламбета, заинтересовался такой девушкой, как Тина. Это был, можно сказать, первый шаг к замужеству. Сесилии было ясно, что для такой женщины, как ее дочь, на это потребуется время. Ей пришлось пересмотреть точку зрения, которую ей внушили в детстве: мужчины не любят, не уважают и не женятся на женщинах, которые им «легко отдаются». Все, что пожилая дама наблюдала теперь вокруг себя, все, о чем она читала и что видела по телевизору, опровергало эту теорию.
Наступили такие времена, когда всем казалось абсолютно нормальным, что мужчина и женщина, прежде чем пожениться, вступают в сексуальную связь. Брайан обязательно женился бы на Тине, это был только вопрос времени. Может быть, он ждал, пока Тина не забеременеет? Как замечала миссис Дарн, внебрачная беременность, еще недавно считавшаяся законченным бесчестьем, ныне была, скорее, поводом для официального объявления о бракосочетании, и невесты шли к алтарю, с гордостью выставив напоказ округлившийся животик.
Брайан Эльфик состоял в списке съемщиков муниципального жилья Ламбета уже двенадцать лет. Он пролез в этот список, обручившись с женщиной, на которой, само собой, так и не женился. С тех пор он врал в жилищном департаменте, что все это время жил с престарелой тетушкой, на самом деле давным-давно умершей. Брайан подговорил своего дружка, у которого был гараж на тетушкиной улице, подтвердить, что тот ежедневно видит там Эльфика. Квартира, которую ему предложили, находилась в отвратительном блочном доме, и район тоже был не очень, но ни Брайан, ни Тина не придали этому значения. А Сесилия Дарн была очень счастлива за дочь.
Она никогда не слышала ни о Пегги Гугенхайм, ни о том, как та хвасталась, что переспала со всеми мужчинами, попадавшимися ей на пути. Если бы Сесилия знала, что ее дочь может сказать о себе то же самое, то очень бы расстроилась. Тина могла бы поведать об этом матери во время одного из задушевных разговоров, но ей это никогда не приходило в голову, и не потому что она стыдилась, а просто потому, что считала такое поведение нормой.
Отцом Джаспера мог быть маляр, беливший квартиры в их доме и зашедший на чашечку чая. Или один из давнишних любовников мисс Дарн, которого она встретила на Денмарк-Хилл. Или сосед по дому, съезжавший из шестнадцатой квартиры и заглянувший попрощаться, пока его девушка запихивала вещи в нанятый фургон. В любом случае, это не мог быть Брайан, поскольку в благополучные для зачатия дни Тининого месячного цикла он уезжал по работе в Абердин. Эльфик был электриком.
Ему или любому другому мужчине, желающему быть уверенным на сто процентов, что ребенок родится именно от него, потребовалось бы уехать с Тиной на необитаемый остров. Когда была зачата Бьенвида, Брайан никуда не уезжал, но подхватил простуду и поэтому не хотел заниматься любовью. Они оба были приглашены на одну вечеринку, и он попросил ее не отказываться от развлечения из-за его болезни. Тина сделала ему горячего питья, включила телевизор и пообещала, что вернется к утру.
Но на вечеринке она напилась и почти не помнила, что случилось после полуночи. Придя в себя на постели рядом с рыжебородым мужчиной, Тина, по ехидным замечаниям и косым взглядам остальных, заключила, что бородач вряд ли был единственным, с кем она переспала той ночью. Бьенвида родилась с рыжими волосами, но потом они потемнели, так что вопрос о ее отце оставался открытым. Брайан никогда не замечал, что оба ребенка были совершенно не похожи на своих светловолосых, голубоглазых и худощавых родителей. Он не делал соответствующих выводов даже после того, как заставал Тину в постели с другими мужчинами. Но когда такое случилось в третий раз за восемь лет, он объявил, что, по его мнению, мисс Дарн его больше не любит. Именно тогда он и произнес свою знаменитую фразу о «супружеской измене».
И Тина вернулась к своей матери, в единственное место, куда она могла вернуться.
Тина Дарн была единственной женщиной, с которой переспал Питер Блич-Палмер. Точнее, это она переспала с ним. Их дружбу ни Дафна, ни Сесилия никогда не понимали, хотя одно время обе матери надеялись, что за дружбой «последует свадьба». Питер был пианистом, деньги у него вроде бы водились, поэтому в глазах миссис Дарн он выглядел завидным женихом. Она не знала, что молодой человек играл в баре «для гомо– и/или гетеро-» на Фрит-стрит.
Когда Тина с детьми переехала в «Школу», Сесилия испытала одновременно смятение и предательское облегчение. В голове у нее все перемешалось: вдруг это она сама вынудила дочь уйти из дома, не пожелав заплатить за обустройство новой ванной? И как еще поведет себя Джарвис? Нельзя сказать, чтобы внучатый племянник ей не нравился, она ко всем относилась хорошо, но Сесилия не доверяла ему, поскольку он был холостяком без определенных занятий, а его дом – она была в этом совершенно уверена – рано или поздно должен был пойти с молотка.
Невзирая на собственный опыт и наблюдение за другими, в глубине души миссис Дарн полагала, что мужчина и женщина, живущие под одной крышей, даже если дом очень большой, рано или поздно окажутся в одной постели. Она не подозревала, что Тина, в соответствии со своими жизненными принципами, уже переспала с двоюродным племянником, хотя это случилось всего один раз и много лет назад. У обоих не было никакого желания повторять тот опыт. Сесилия еще живо помнила время, когда Тина впервые отправилась жить в «Школу» и основала там коммуну, а также слухи, быстро распространившиеся об этом месте. Тем более что дом Джарвиса находился по соседству – достаточно было вспомнить о случае с колоколом.
Но тогда у Тины еще не было детей. Дети вообще очень беспокоили ее мать, совершенно убежденную, что никакой мужчина по доброй воле не взвалит на себя заботу о чужих отпрысках.
– Я ужасно беспокоюсь о внуках, – как-то сказала она Дафне.
– Знаешь, как зовут таких детей в Америке? – спросила та. – Бабушкины дети.
– Как бы там их ни называли, а я волнуюсь. Они же бегают везде, орут как резаные, ты же понимаешь, какие они в этом возрасте. Боюсь, Джарвису быстро надоест такая жизнь. Да и дом ведь не совсем его, если ты догадываешься, о чем я.
– Конечно, есть ведь еще и его мать, – сообразила разумная миссис Бинч-Палмер. – Но сам Джарвис сделан из другого теста: он вряд ли вообще что-то заметит. Вечно витает в облаках, точнее, в своих туннелях.
– Мне никогда не нравился этот дом, эта «Школа», как они ее зовут. Нужно было снести здание сразу после того, как умер мой брат. Тебе не кажется, что насильственная смерть оставляет в доме некий энергетический отпечаток? То самое, что люди принимают за привидения?
– Нет, не кажется, – покачала головой Дафна.
– Что ж, может быть, ты и права. Но мне там всегда становится не по себе. Так и мерещится, что кто-нибудь вдруг распахнет дверь и прыгнет на меня.
– И этим кем-то непременно будут Джаспер или Бьенвида, – рассмеялась миссис Бинч-Палмер.
– Ну, не люблю я туда ходить, – продолжала Сесилия, – в особенности из-за того колокола. Ты не думаешь, что моей племяннице следовало бы снять его? Сам-то Джарвис ничем не интересуется, кроме своих поездов, но Элси я не могу понять. И еще. Даже из моего дома слышно, как грохочут эти поезда, а «Школа» прямо-таки трясется от них. Похоже на землетрясение, как я его себе представляю.
Тем не менее миссис Дарн продолжила регулярно ходить в ненавистный дом, бывая там даже чаще, чем навещала Дафну в Уиллсдене. Отправляясь за покупками в Вест-Энд-лейн, нужно было миновать «Школу» и железнодорожный мост. Короче говоря, Сесилия проходила мимо «Школы» сотни раз и сотни раз туда заходила, но так и не смогла избавиться от чувства отвращения к дому. Миссис Дарн казалось, что другие прохожие не обращают внимания на колокол, висящий в тени колокольни и скрытый за невысокими колоннами, поддерживающими ее крышу. Снизу он выглядел как чуть более светлое пятно на темном фоне. Пожилая женщина напоминала себе, что если не поднимать глаз и не смотреть на колокол, то можно вообще избавиться от привычки думать о нем, но все-таки каждый раз упорно искала взглядом колокольню.
В тот раз Сесилия, шагая через кварталы, навсегда оставшиеся для нее «новыми домами», заметила Джаспера, шмыгнувшего с тремя мальчиками его возраста в переулок, ведущий к железнодорожному мосту. Девятилетний Джаспер был широкоплечим темноволосым крепышом, притом довольно хорошеньким. Его карие глаза отливали странным фиолетовым цветом.
С точки зрения миссис Дарн, то, что этот ребенок настолько не походил на своих родителей, было лишь странной игрой природы. Ничего другого ей в голову не приходило. С присущей ей добродетельностью бабушка принялась размышлять о том, как это мило, что у внука есть товарищи его возраста, с которыми он может поиграть во время каникул, а то, когда он жил с Тиной в том кошмарном блочном доме в Уолворте, об этом не могло быть и речи. Она предавалась таким размышлениям, пока не поравнялась с просветом в ограде, где прежде были ворота «Школы», и ее взгляд неудержимо не потянуло вверх, к колоколу. Должно быть, именно школьный колокол надоумил ее, что каникулы еще не начались. Почему же Джаспер не на занятиях?
Сесилия собиралась уже войти в дом, когда дверь его распахнулась, и на пороге показалась та самая Алиса, с которой они вместе слышали звук взрыва. Квартирантка Джарвиса была одной из самых красивых женщин, которых когда-либо встречала миссис Дарн. Она напоминала ей портрет Марии Замбако кисти Берн-Джонса, любимой картины ее отца, висевшей в холле их дома в Хендоне. Она досталась Эвелине еще в те времена, когда картины этого художника стоили сущие гроши, и один только бог знает, что сестра с ней сделала. У Алисы была такая же лебединая шея, грациозная фигурка и мягкие полные губы, как у женщины на портрете, только волосы были не рыжими, а каштановыми.
– Здравствуйте, я только загляну в комнату Тины, – сказала она Алисе.
Сейчас в «Школе» было куда чище, чем во времена, когда там располагалась коммуна. Все выглядело, в общем, не так уж и плохо, а неприятный запах исчез. Откуда-то доносился шум, источник которого Сесилия никогда не могла понять, но как-то не хотела никого спрашивать о его происхождении. Это был какой-то скрип, похожий на крик птицы в зоопарке. В этом доме даже во времена коммуны миссис Дарн всегда робела. Пожилая женщина старалась передвигаться как можно тише, не задавать лишних вопросов и ни во что не вмешиваться. Она чувствовала, что буквально не находит здесь себе места. И это еще было мягко сказано! Может быть, отчасти из-за возраста – а она по всем стандартам была уже далеко не молода – или из-за привычной одежды: серой твидовой юбки, зеленой блузки от «Виелла», серо-зеленого кардигана в клеточку, чулок, туфель-лодочек, напудренного носа, тонких напомаженных губ и перманента в волосах.
В коридоре ей навстречу попался мужчина, который вечно вонял каким-то гнилым мясом. Сесилия отлично помнила дни, когда холодильники еще считались роскошью – у них дома он появился только в 1952 году. В те годы она, как сейчас, ощущала запах куска мяса, если его неосмотрительно покупали в пятницу для воскресного обеда. Так вот, этот мужчина пах именно так. Он сказал ей: «Привет», и миссис Дарн пожелала ему доброго утра, подумав, не болеет ли он чем-нибудь опасным.
Она постучала в дверь Тины. Было десять минут первого. Сесилия всегда старалась заходить к дочери уже после полудня, так как не хотела видеть ее в постели. Заставая Тину спящей, миссис Дарн ни словом, ни жестом не выказывала недовольства, а просто присаживалась к ней на кровать и несколько минут болтала о пустяках, как будто они вдвоем сидели на диване. Если же Тина была уже на ногах, то она воображала, что дочь – совершенно нормальный человек, а она сама – хорошая мать.
Сегодня, к ее удовольствию, Тина не только проснулась, но даже хлопотала по хозяйству. На старой грязной кухне, стены которой были выкрашены еще при Эрнесте и Элизабет в далеком 1926 году, она стряпала торт ко дню рождения Бьенвиды. Миссис Дарн на такой кухне не позволила бы себе даже очистить картофелину. Впрочем, она ни за что не призналась бы в подобных мыслях. Сесилия не удивилась бы, увидев дочь в джинсах, свитере или футболке, но сегодня поверх них на ней был лоскутный фартучек, один из тех, которые шила сама миссис Дарн и дарила девушке, в надежде, что та когда-нибудь ими воспользуется. Это зрелище доставило ей огромную радость.
Работало радио. Исполнялось там что-то совершенно непонятное: скорее, это напоминало не песню, а какие-то вопли. Еще откуда-то сверху доносилась музыка – похоже, играли на скрипке. Из подвала время от времени слышались удары молотка. Как только гостья села, то сразу же почувствовала «землетрясение» – прошел поезд.
– Ты куда сейчас? – спросила Тина, дотронувшись испачканными в муке пальцами до рукава Сесилии.
– Мы с Дафной обедаем в «Эвансе», – ответила ее мать, превозмогая стыд при упоминании имени подруги.
– Господи, вы до сих пор туда ходите? А помнишь, когда я была маленькой и мы с тобой пошли туда, меня стошнило в лифте?
Сесилия помнила. Слово «маленькая» навело ее на мысль о внуке. Навещая Тину, она всегда старалась формулировать свои вопросы так, чтобы они не выглядели вопросами.
– Наверное, Джаспер был немного бледен сегодня утром, и ты на всякий случай не отправила его в школу, – сказала она небрежно. – Что же, я рада, что он почувствовал себя лучше и смог отправиться погулять с друзьями.
Едва она договорила, как ей показалось, что слова прозвучали ехидно, обвиняюще и саркастически, хотя ничего такого пожилая дама не хотела. Просто она надеялась узнать кое-что и не выглядеть при этом критиканкой. Но, слава богу, как бы ни прозвучала эта фраза, Тина поняла ее правильно и рассмеялась.
– Может быть, им разрешают уходить на обед? – предположила Сесилия, догадавшись, что внук вовсе не болел и утром был отправлен учиться.
Но стоило ей произнести эти слова, и она тут же сообразила, что видела Джаспера еще до полудня, когда для обеденного перерыва было рановато. В любом случае, как бы там ни было, ее внуки посещали школу на Вест-Энд-лейн, а до нее было добрых пятнадцать минут ходьбы. Впрочем, о своих соображениях по этому поводу Сесилия ничего не сказала, наблюдая, как Тина ставит торт в духовку, настолько грязную и закопченную, что это не укладывалось у миссис Дарн в голове. Гостья молча ожидала ответа на прямой вопрос, которые задавала так редко. Но она уже почти забыла, о чем спрашивала, когда дочь наконец отозвалась:
– Ой, да эта школа просто кошмар! Они там вообще все им позволяют и совершенно не следят за детьми. Джаспер и Бьенвида ненавидят ее, а я… что я могу сделать? Учителя вечно бастуют, но я этих бедняг не виню.
Все эти ужасные, с точки зрения Сесилии, вещи дочь произнесла совершенно безмятежным тоном.
Наверное, на ее лице отразилась тревога. Тина, вновь весело рассмеявшись, положила руки на плечи матери, обняла ее и сказала, назвав ее так, как та особенно любила и втайне всегда надеялась услышать:
– Не волнуйся, мамулечка, с детьми все будет в порядке, они – такие же, как и я. А сейчас иди на обед с тетей Дафной и поцелуй ее за меня.
– Ты всегда можешь вернуться жить ко мне, Тина, – сказала миссис Дарн, поднимаясь. – Ты ведь это знаешь, правда? Ведь это и твой дом тоже.
– Не испытывай судьбу, – ответила молодая женщина, – а то в один прекрасный день я действительно могу вернуться.
Пообещав купить в «Селфриджес» все продукты, которые попросила Тина, весьма, кстати, дорогие, Сесилия шла к станции, думая о том, что ей самой нравится жить независимо, а кроме того, в семьдесят шесть лет ей было бы затруднительно иметь возле себя Джаспера и Бьенвиду, хотя она и была к ним нежно привязана. Это еще если не вспоминать о дружках Тины, ее странном режиме и привычке валяться в кровати до полудня. Ей становилось стыдно, когда все эти мужчины (миссис Дарн всегда добавляла про себя слово «подозрительные») спускались по утрам по лестнице, просовывали головы в двери и говорили ей: «Приветик!» Наверное, ради счастья дочери и будущего ее детишек пожилая женщина смогла бы вытерпеть все это. Сделала бы хорошую мину при плохой игре, улыбалась, приглашала этих заходить еще. И устроила бы гостевую ванную на верхнем этаже.
Но на самом деле существовала одна-единственная персона, которую Сесилия была бы совершенно счастлива видеть у себя в доме: Дафна Блич-Палмер. Однако та проживала в собственном доме в Уиллсдене, и миссис Дарн была уверена, что подруга ни за что не захочет его покидать, хотя он стоял в ряду отвратительных домов из белого кирпича. Нрав Сесилии весьма отличался от характеров большинства людей: она не испытывала злорадства или потаенного удовольствия от своего превосходства над другими. Так что миссис Дарн искренне сожалела о том, что Дафна живет в худших условиях, чем она сама, и имеет меньший доход.
Пожилая дама спустилась по лестнице, ведущей налево к станции «Западный Хэмпстед», и встала на платформе, ожидая поезда из Килбурна. Ей отнюдь не требовался Джарвис, чтобы объяснить феномен вибрации платформы или пения рельсов при приближении поезда. Для нее все это давным-давно стало обыденными вещами, на которые она не обращала внимания. Зато Сесилия заметила полустертые граффити на серебристом боку поезда, уже переставшие казаться делом человеческих рук. Подумав, миссис Дарн решила, что это – ржавчина или следствие усталости металла.
На табличках в подземке можно прочитать: «В случае чрезвычайной ситуации для получения своевременной помощи по прибытии на станцию вы можете нажать красную кнопку. При движении поезда это приведет к его остановке, поэтому нажимайте красную кнопку только в случае действительной необходимости».
В тексте проявляется абсолютное непонимание человеческой психологии, ведь эта кнопка может быть нужна только на перегонах. Случись что в то время, пока поезд находится на станции, первым побуждением людей будет стремление покинуть вагон и как можно скорее избавиться от проблем.
Поезда Юбилейной линии, особенно в центре Лондона, да еще в середине рабочего дня, довольно редко оказывались заполнены людьми, так что вместе с Сесилией в вагоне находилось всего три пассажира. Один мужчина сидел напротив дверей, второй – в левом углу в конце вагона, а в противоположном от него углу устроилась женщина. Тина наверняка плюхнулась бы на первое попавшееся сиденье, даже если бы половина его была уже занята, но миссис Дарн, в соответствии с правилами приличия, выбрала самую пустую часть вагона, усевшись спиной к окну. За неимением книжки или журнала она начала рассматривать рекламу на стенках вагона: магазины дьюти-фри в Хитроу, круиз в Голландию по суперцене, приглашение на какой-то «коучинг для временных сотрудников», почти не поддающееся расшифровке. Наконец поезд подъехал к станции «Финчли-роуд».
В вагон вошли еще два пассажира: человек и медведь.
Увидев зверя, Сесилия в течение нескольких секунд была уверена, что это – галлюцинация. Потом она разглядела в распахнутой пасти человеческое лицо и сразу же отвернулась, сделав вид, что заинтересовалась чем-то за окном. Эксцентрично одетые люди, всякие там типы в масках и вообще все подобное приводило ее в смущение.
Поезд тронулся и въехал в туннель.
За окном не осталось ничего, что можно было бы разглядывать, и миссис Дарн вынуждена была оторваться от его созерцания. Мужчина с «медведем» прошли в конец вагона, туда, где сидела женщина чуть моложе самой Сесилии. «Медведь» встал напротив нее, чуть согнув колени и прижав «передние лапы» к груди, как песик, просящий подачку.
Было заметно, что человек, пришедший вместе с «медведем», держал в руках цепь, намотанную на шею «зверя». Он был молод, темноволос, с короткой темной бородой и одет в длинное чудно́е пальто, доходящее ему чуть ли не до щиколоток. В таких пальто ходил еще отец миссис Дарн, до того как начал свое дело. Она подумала, что неплохо бы выйти на следующей станции, «Свисс-Коттедж», даже если ей в итоге придется опоздать на встречу с Дафной, назначенную на час.
Женщине, которой досаждал парень с «медведем» – по крайней мере, Сесилия воспринимала ситуацию именно так, – посчастливилось иметь при себе журнал, который она упорно читала, пока «хищник» кривлялся перед ней. Разумеется, это было не что иное, как притворство, и миссис Дарн отлично понимала пассажирку. Любой на ее месте при виде такого безобразия тоже испытал бы мучительную неловкость, смешанную со страхом. «Нет, не любой, – тут же поправила пожилая женщина саму себя, – Тина бы не испугалась и не засмущалась. Напротив, она бы начала смеяться, хлопать в ладоши, а то и погладила бы «зверя».
Похоже, этого и добивался парень, водивший по вагонам «медведя». Сейчас они уже приставали к одетому в костюм мужчине среднего возраста, сидевшему у дверей. Тот с натужной улыбкой включился в игру. Потрепал «зверя» по лохматой башке и смущенно почесал его за ухом, поглядывая на его товарища, будто спрашивал: «Ну, что? Этого достаточно? Теперь вы наконец оставите меня в покое?»
«Медведь» с рычанием бросился на него, так же, как делает невоспитанная собака, когда кто-то со страхом пытается ее приласкать. Мужчина от неожиданности вскрикнул и отшатнулся. Сесилия икнула и прикрыла рот ладонью. Водивший «хищника» парень дернул цепь, почти повалив его на спину.
– Просто кошмар, – сказал он пассажирам, по очереди их оглядывая. – Чуяло сердце, что добром это не кончится. Усекли? Добром не кончится! Это ведь мишка!
Наконец, к огромному облегчению миссис Дарн, поезд подошел к «Свисс-Коттедж». Она было приподнялась, но в этот момент человек с «медведем» встал напротив дверей вагона. Это были двери той конструкции, которые открывались, только если кто-то внутри или снаружи нажмет на кнопку. На платформе никого не было, и никто из пассажиров в вагоне также не намеревался выходить. Для того чтобы выйти, необходимо было пройти мимо «медведя», либо попросив того посторониться, либо оттолкнув. Сесилия опустилась обратно на сиденье. Поезд тронулся.
Стыд сменился страхом. Пожилая пассажирка была уверена, что стыд – это тот же страх, только в зачаточном состоянии, примерно так же, как зуд можно с некоторой натяжкой назвать болью. То, что она чувствовала сейчас, было самым настоящим страхом. Она боялась не физического нападения, но унижения, которому могут подвергнуть женщину ее возраста. Миссис Дарн вообще замечала, что в наступившие времена пожилые женщины превратились в объект насмешек. Ее сердце начало биться все сильнее, будто готово было вот-вот выскочить из грудной клетки.
Человек и «медведь», стоявшие сначала спиной к ней, развернулись, и фальшивый «зверь» заковылял к Сесилии. Ее сердце гулко стучало. Она открыла сумочку в отчаянной попытке найти хоть что-нибудь, чем можно было бы занять свои глаза. Там обнаружились только чековая книжка и блокнот в кожаном переплете, подаренный ей Джаспером на Рождество, куда она, чтобы порадовать мальчика, аккуратно переписала все скопившиеся за долгую жизнь адреса и телефоны. Возможно, внук своим подарком спас ей жизнь. Едва она успела водрузить на нос очки, «медведь» подошел к ней, встал рядом и начал кривляться, выпрашивая подачку, так же, как он делал прежде, досаждая женщине в конце вагона. Сесилия открыла маленькую красную книжечку и сразу же увидела имя Блич-Палмер. Строчки расплывались перед ее глазами, сердце продолжало тревожно стучать.
«Хищник» ворчал и рычал, а его жертва медленно переворачивала страницу за страницей, тщательно изучая каждую, как будто там было что-то очень занимательное. Она была решительно настроена ни в коем случае не поднимать глаза, чтобы, не дай бог, не посмотреть на этого «медведя». Остальные пассажиры делали вид, что ничего не замечают. Миссис Дарн их не винила, ведь она и сама вела себя точно так же, когда приставали к ним, и тоже не пришла им на помощь. Даже если «зверь» нападет на нее, скорее всего, никто не вмешается. Ее руки начали дрожать, а затем дрожь постепенно распространилась на все тело. «Медведь» положил «лапу» ей на колено.
Сесилия даже не вскрикнула. Позже она сама себе удивлялась: как ей удалось сдержаться, учитывая то, как колотилось ее сердце. Через твид юбки, нижнюю юбку, отделанную натуральным шелковым кружевом, и чулок она чувствовала эту отвратительную горячую волосатую лапу. Испуганная женщина замерла и даже перестала переворачивать страницы, но глаз так и не подняла. Она чувствовала это прикосновение кожей, а его тяжесть – чуть ли не костью.
Женщина так и не поняла, испытал ли вожатый «медведя» сочувствие к ней или ему просто все окончательно наскучило. Но вместо того, чтобы дернуть «зверя» за поводок, он внезапно со всей силы ударил его по голове, и тот повалился на спину, задрав вверх грязные подошвы «лап». Сесилия так сильно сжала кулаки, что ее ногти впились в ладони. «Хищник» начал приподниматься, а поезд как раз подошел к станции «Сент-Джонс-вуд».
К этому времени миссис Дарн позабыла, что боялась пройти мимо «медведя», нажать кнопку и выйти из вагона. Сейчас она готова была столкнуть со своего пути любого – неважно, медведя, удава, ротвейлера или саблезубого тигра. Она смело переступила через «лапу» валявшегося на полу «зверя». Его товарищ утробно захохотал. Но женщина, лишь сильнее прижав к себе пакет и сумочку, подошла к дверям. Те открылись – кто-то из стоявших на платформе нажал кнопку. Сесилия вышла. В глазах у нее стоял туман, все вокруг казалось нечетким, и только через несколько томительных секунд она сообразила, что очки до сих пор находятся у нее на носу.
Поезд тронулся и отъехал от станции, унося с собой вожатого и его «медведя». По телу миссис Дарн пробежала судорога, она опустилась на одну из серых скамеек, чтобы успокоить дыхание, и вдруг расплакалась.
Глава 8
Вечеринка в честь дня рождения Бьенвиды очень удивила бы Сесилию, если бы ее, конечно, туда пригласили. По окончании праздника для одноклассников девочки, состоявшегося во второй половине дня, в семь вечера началось застолье для взрослых, причем с участием Джаспера и самой виновницы торжества. Никто так и не заметил, как Бьенвида, бывшая больше бабушкиной внучкой, чем маминой дочкой, поднялась в их квартиру на втором этаже и переоделась в комбинезончик, чтобы не испачкать свое белое платье из органзы, купленное в секонд-хэнде благотворительной организации «Оксфэм»[17]. Для своего возраста она была высокой девочкой, худенькой, с темными кудрявыми волосами, тонкими чертами лица и шальными ирландскими глазами. Старший брат Бьенвиды, Джаспер, с самого начала отказался наряжаться и остался в джинсах и клетчатой рубашке, в которых обычно ходил в школу, так и не удостоившейся в тот день его посещения.
Вместе со взрослыми появились бутылки с вином. Часть из них принес Джед, другие, с «Божоле нуво», купил Питер, а еще пару притащил нынешний Тинин бойфренд, работавший в винном магазине «Грог-Блоссом». Никто из детей не соблазнился тортом, который Тина по глупости сделала с фруктами и орехами вместо крема, и его в конце концов съели взрослые.
Был приятный теплый вечер. Алые сполохи заката достигали даже восточного края горизонта. Джарвис поставил раскладной стол на террасе, где прежде собирались ученицы, чтобы сделать групповое фото класса в конце учебного года. За стол уселись Питер Блич-Палмер, Джей Россини, Том, Алиса, тот самый Билли, работавший в «Грог-Блоссом», Тина и сам Джарвис.
У их ног расстилался газон, теперь совершенно одичавший, заросший лютиками, одуванчиками и розовым кукушкиным цветом. Если бы не железнодорожные пути, могло создаться впечатление, что дом находится где-то за городом, поскольку кроны деревьев скрывали от глаз соседние здания. В их ветвях чирикали гнездящиеся там птички. В этом естественном заповеднике в недрах Лондона птиц жило больше, чем в ином деревенском саду, и даже крики ястреба в сарае не отпугивали их. Сами поезда, то и дело проносящиеся из Лондона в Стэнмор и обратно, едва мелькали серебристыми тенями в листве, но вот их нескончаемый грохот создавал постоянный звуковой фон.
Погода стояла безветренная, и можно было зажечь свечи, не боясь, что их задует. В наступающих сумерках Тина в сине-зеленом платье из индийского хлопка и бусах из кораллов и афганской бирюзы, инкрустированных серебром, зажгла желтые восковые свечи, поставив их на блюдца. Как только занялись язычки пламени, от свечей начал распространяться тяжелый сандаловый запах. Но он не мог отогнать мошкару, прилетевшую на свет и вьющуюся вокруг огня. Питер принес гитару, и они с Томом заиграли. Тина и Билли начали танцевать, а Джарвис пригласил Алису, но та лишь улыбнулась и помотала головой. Она уже чувствовала себя связанной с Томом и не хотела танцевать ни с кем, кроме него.
Детей за столом давно уже не было. Детская железная дорога, та самая, от которой хозяина дома много лет назад в день самоубийства деда отвлекло материнское горе, стояла на полу в кабинете младшего шестого класса на верхнем этаже. Джарвис сказал Джасперу, что тот может играть с ней, когда и сколько захочет. Он и сам иногда продолжал играть с дорогой. Хотя его юный кузен смутно понимал, что предложение весьма щедрое, он считал себя слишком взрослым для подобных игрушек. Впрочем, в тот вечер он все-таки поднялся в класс, чувствуя, что должен как-то показать Джарвису, что оценил его жест.
Ему было скучно. Да еще и Бьенвида потащилась за ним. Джаспер знал, что ему разрешено делать все, что заблагорассудится. Впрочем, он знал, что слово «разрешено» не совсем верно: он просто не должен был никому «мешать», а кроме того, за ним никто не присматривал. Обычно это нравилось мальчику, но иногда – пугало, хотя он и не смог бы объяснить почему.
В тот вечер он мог бы отправиться побродить по Северному Лондону, если бы ему пришла в голову такая идея, но ребенок понимал, что это – день рождения его сестры и они с Бьенвидой должны присутствовать на вечеринке. Конечно, праздник получился ужасно дурацкий, как и все праздники, которые Джаспер мог припомнить. Просто для их матери это был очередной повод выпить, потанцевать, потискаться и поцеловаться – в общем, проделать все, что составляло суть ее жизни.
Брат и сестра зашли в «младший шестой» и начали молча разглядывать железную дорогу. Обычная игрушка, и только. К тому же довольно старая… Потом дети стали смотреть в окно на гуляк. Питер забрал у Тома флейту, и тот пошел танцевать с Алисой. Джарвис отплясывал с Джеем, в то время как Тина и Билли почти скрылись под столом, стиснув друг друга так, что казались единым телом.
– Вот дерьмо, – сказал Джаспер. – Она снова нализалась.
Бьенвида, которая была младше брата на два года, с задумчивым видом поинтересовалась, не думает ли он, что мать когда-нибудь вернется к Брайану. Если бы девочка разговаривала со школьными друзьями, то назвала бы Брайана папой, но Джасперу это было не по душе. Он считал это «детскими глупостями».
– Сомневаюсь, – ответил мальчик сестре. – И вообще, выбрось его из головы, Би. Мне нравится тут жить. В этом месте есть кое-что крутое. Не твоего ума дело – что, просто есть, и все. Даже не думай упрашивать маму вернуться на ту помойку!
Бьенвида ничего ему не ответила, но ее диковатые, вечно настороженные глаза вспыхнули.
– Их там всех комары съедят, – заключил Джаспер и, посчитав, что долг чести исполнен, пусть даже Джарвис никогда об этом не узнает, вышел из класса на лестничную площадку. Там было темно. В размытых пятнах тусклого света, падавших из открытых дверей пятого и двух шестых классов, младшего и старшего, с трудом можно было разглядеть коридор. Бьенвида щелкнула выключателем, но лампочка давно перегорела, и никто ее так и не заменил. Световой люк на потолке был словно накрыт темно-фиолетовой тканью. Однажды девочка видела в этом квадратном окошке, как острый край облака отрезал кусок от полной луны, будто происходило затмение. С тех пор она частенько заглядывала в темный люк в надежде увидеть луну, но обычно там были лишь темнота и пустота.
Тем временем ее брат уставился на веревку колокола, свисавшую из небольшого квадратного отверстия, проделанного в полу колокольни. Конец веревки был обмотан вокруг крюка, прикрепленного над дверью лабораторного кабинета. Это было высоковато не только для ребенка, но и для взрослого, но Джаспер полагал, что для него нет ничего невозможного.
– Здесь внизу должна быть дыра, – сказал он своей сестре, водя носком ботинка по потертой красно-серой ковровой дорожке, которую постелил в коридоре кто-то из коммунаров. – А еще одна должна быть в кабинете рукоделия.
– Почему? – удивилась именинница.
Мальчик опустился на колени, сунул руку под ковер и стал ощупывать щели между старыми половицами, пока его пальцы не наткнулись на поперечные доски, обозначавшие края люка. Ноготь указательного пальца царапнул по металлической петле.
– Потому что веревка должна была спускаться отсюда вниз, до самой раздевалки, чтобы можно было звонить в колокол, – объяснил он. – Никто никогда в него не звонил, но идея была именно такой. Хочешь, расскажу, почему никто больше не звонит в этот колокол?
– А где раздевалка? Я не знаю, – спросила Бьенвида.
– Это та самая комната, куда никто никогда не заходит. На первом этаже, между выходом на веранду и сортиром. Рассказать тебе, почему никто туда не заходит?
– Если это очень страшно, то не надо.
Джаспер встал и снова посмотрел на веревку:
– Знаешь, чего мне хочется? Выкурить сигаретку.
– Тогда ты заболеешь раком легких.
– Ты слышала когда-нибудь, чтобы кто-то заболел раком легких в девять лет?
Мальчик открыл дверь в кабинет старшего шестого класса и заглянул внутрь. Зажигать свет было слишком рискованно, но шторы были раздвинуты, а глаза детей уже достаточно привыкли к темноте, чтобы различать очертания мебели и более мелкие предметы – темные пятна с едва поблескивающими краями. В комнате Джеда стоял удушливый животный запах. Джасперу пришло в голову, что так может вонять в логове дикого зверя, пол которого покрыт свернувшейся кровью и устлан обглоданными костями.
Он ощупью прошел к столу, после чего начал шарить в карманах вонючей куртки, в которой Джед тренировал ястреба, висевшей на внутренней стороне двери, а сестре приказал поискать в шкафу. Бьенвида, немного испуганная, открыла дверцу. Она начала хихикать, но смех ее вдруг оборвался, сменившись тонким звуком, похожим на вскрик ястреба.
– Заткнись! – зашипел Джаспер. – Ты что, хочешь, чтобы они нас засекли?
Но музыка, должно быть, заглушила нечаянный возглас сестры. Мальчик выглянул в окно и увидел только огоньки свечей. Ни одно лицо не повернулось в их сторону. Бьенвида схватила его за руку.
– Я дотронулась до чего-то ужасного, – произнесла она глухо. Брат видел белки ее глаз и расширенные зрачки. Они с сестрой часто спрашивали друг друга: «Хочешь, я расскажу тебе?.. Рассказать? Рассказать о том, что случилось? Хочешь?»
– Хочешь, я расскажу тебе, до чего я дотронулась, Джас? – прошептала девочка.
– Ну, давай. Что же это такое?
– Живот мертвеца. Как будто кому-то разрезали живот, и он умер, а я ткнулась рукой прямо в кишки.
– Ой, да брось заливать! – фыркнул Джаспер. Он как раз обнаружил сигареты и спички в углу подоконника, между стопкой книг и цветочным горшком. Сунув сигарету в рот, мальчик чиркнул спичкой и, держа ее огоньком вверх, осветил внутренности шкафа:
– Нет здесь никаких мертвецов, только однодневные цыплята, которыми Джед кормит Абеляра. Они свалены в ведро.
– Фу, гадость! – Бьенвида сделала вид, что ее тошнит. – А они что, дохлые?
– Конечно, дохлые. Ну так рассказать тебе, что произошло в раздевалке, Би?
– Ладно, давай выкладывай.
Дети вернулись на лестничную площадку и сели на ступеньке.
– Когда-нибудь и я позвоню в этот колокол, – сказал Джаспер, выдыхая дым.
– Так что же случилось в раздевалке?
– Один старикан, он приходится нам с тобой вроде как дедушкой, там повесился. Прямо в раздевалке. Я слышал, как Тина рассказывала об этом Тому. И повесился он на этой самой веревке. Она тогда свисала до самого низа.
Джаспер вытянул смуглую шею, на которой еще не было кадыка, обхватил горло загоревшими до черноты руками и, вытаращив глаза, издал сдавленный звук. Сигарета выпала у него изо рта, покатилась по лестнице и пропала.
Им потребовалось некоторое время, чтобы ее отыскать. Линолеум с узором из королевских лилий уже начал тлеть, издавая запах гари. Бьенвида нервно захихикала, прижимаясь к брату. Она была испугана его рассказами о трупах и привидениях и в то же время жаждала узнать как можно больше. Взявшись за руки, дети спустились по лестнице, пародируя танцующих взрослых: они трясли своими тоненькими ножками и размахивали руками из стороны в сторону. Горящий кончик сигареты Джаспера выписывал в темноте круги.
Хотя вестибюль внизу был освещен, там все равно стоял полумрак, потому что в люстре горели всего две лампочки. Наверное, кто-то из взрослых заходил в дом и зажег свет. Джаспер прижал палец к губам и толкнул дверь раздевалки. Она не была заперта на ключ, как он опасался. Взяв Бьенвиду за руку, брат повел ее внутрь. Там было абсолютно темно и чувствовался какой-то незнакомый запах. Не гнилого мяса или горелого линолеума, но чего-то холодного и затхлого. Если бы мокрый камень имел запах, он пах бы именно так.
Не прошло и тридцати секунд с тех пор, как они вошли, и Бьенвида все еще дрожала от страха и восторга, когда до них донеслись голоса Питера, Тома и Алисы, появившихся в вестибюле и поднимающихся по лестнице. Джаспер выплюнул на пол окурок и затушил его носком ботинка.
– Мы будем спать здесь, – произнес он. – Притащим спальные мешки, фонарик и устроимся на ночевку.
– Только не сегодня, – голос девочки был едва слышен, настолько она испугалась. – Не сейчас.
– Ну, конечно, не сейчас, – согласился Джаспер. – Лично я еще не собираюсь ложиться спать.
В поисках новых приключений и интересных открытий они с сестрой, не отстававшей от него ни на шаг, вышли из гардеробной и двинулись по коридору, ведущему к давным-давно заброшенной кухне и дальше, по лестнице, в подвал.
Танцуя с Томом, Алиса едва удержалась, чтобы не рассказать ему обо всем, что случилось с ней в этот день. Том был добрым и понимающим. Он уже как-то предлагал ей поделиться с ним ее переживаниями, но она пока не была к этому готова. Все веселились, Мюррей тоже постоянно смеялся, и скрипачка боялась нарушить атмосферу праздника. Это было неподходящее время для рассказа о том, как она пыталась позвонить матери, но к телефону подошел отец. Набравшись смелости, Алиса назвала себя, а он бросил трубку, чем ужасно ее расстроил. Она позвонила еще раз, когда отца не должно было быть дома, и спросила у матери, как там Майк и Кэтрин и что вообще происходит.
– За девочкой присматривает сестра Майка, – ответила Марсия Андерсон. – Джулия, так, кажется, ее зовут?
– Надеюсь, Майк не собирается позволить ей удочерить Кэтрин?
– А тебе-то какое дело? – спросила Марсия. – Ты ведь ясно дала понять, что дочь тебя не интересует.
– Сказать тебе мой адрес?
– Как хочешь. Лично я не припомню никого, кто собирается с тобой переписываться.
Алиса говорила себе, что заслужила все это, но легче ей не становилось. Она придвинулась поближе к Тому, прижавшись щекой к его щеке, но тут же отстранилась, потому что не хотела показаться слишком навязчивой, и они молча продолжали танцевать. Молодая женщина решила, что они с флейтистом должны стать друзьями, а не любовниками.
Звенящим роем налетели комары, и праздник закончился. Питер сразу сказал, что идет в дом, взял бутылку вина и ушел вместе с Алисой с Томом. Они поднялись в четвертый кабинет на втором этаже, служивший Мюррею пристанищем. Это заставило скрипачку немного занервничать. Из-за недавней пылкости Тома и уступчивости Алисы, Блич-Палмер мог вообразить, что они – любовники и он должен оставить их наедине. Она подумала, что если бы была мужчиной, то Питер повел бы себя куда более свободно. Иногда по его поведению можно было определенно заключить, что гетеросексуальная любовь для него – это что-то неуместное, если не аморальное, так что если его присутствие могло ей помешать, то оно и к лучшему.
Как бы то ни было, любовниками они с Мюрреем не были и никогда ими не станут. Алиса и выпила-то чуть-чуть, всего лишь маленький бокал вина за едой, ну и еще немного перед тем, как они пошли в дом. Однажды Майк сказал, что она – абстинент, одна из тех, кто не может оценить ни вкуса алкоголя, ни производимого им эффекта. Но теперь, когда Питер налил им с Томом вина и она отпила глоток, женщина вдруг поняла, что оно ей нравится: его вкус напомнил о сухих цветах. Поэтому она изменила свое намерение и попросила вновь наполнить ее бокал – так, словно выпитая до этого капля была всего лишь пробой. Это был югославский «Рислинг». Никаких неприятных ощущений у скрипачки не возникло, голова ее все так же оставалась ясной. Они болтали. Питер сидел в кресле, она и Том – на кровати. В закрытое окно заглядывала бледно-желтая луна, ползущая вверх по небосводу. Мюррей выключил лампу, чтобы она не заглушала уютный лунный свет.
Блич-Палмер взял бутылку и вопросительно взглянул на скрипачку. Она и в этот раз не накрыла стакан ладонью. Флейтист сказал, что с него уже достаточно, и его друзья допили бутылку сами. Питер то и дело поглядывал на часы: в полночь должен был идти на работу. С тех пор как клуб в Сохо, где он играл на фортепьяно, закрылся, молодой человек служил на телефонном коммутаторе в каком-то хосписе в Килбурне. Выпив, Питер всегда начинал говорить, что должен срочно сдать кровь на ВИЧ. Сам он, конечно, горячо надеялся, что результат будет негативный, но пока так и не собрался это сделать. Будучи трезвым, он никогда не заговаривал на эту тему.
В одиннадцать с четвертью он ушел. Алиса была пьяна. В ее голове засели две совершенно противоположные идеи. Первая сводилась к тому, что потом она пожалеет, если теперь займется любовью с Томом, а вторая, что это – прекрасная возможность взломать наконец лед и сдвинуть их отношения с мертвой точки. Она была пьяна, и ей было на все плевать, она просто этого хотела, ужасно хотела, и все тут.
Ее друг, похоже, ничего такого не ожидал. Алиса смотрела на него в упор. Он был красив. Наверное, это был самый красивый мужчина, которого она когда-либо встречала: загорелый худощавый блондин, похожий на главного героя вестерна. На самом деле, Мюррей уже потерял надежду на то, что девушка изменит свое отношение к нему и позволит ему приблизиться. Иногда молодой человек думал, что когда-нибудь это, без сомнения, случится и он должен просто подождать. Любовь творит чудеса, повторял он себе, и в один прекрасный день чудо произойдет.
Вот и сейчас флейтист не ожидал ничего, кроме того, что подруга встанет, чмокнет его в щеку и скажет что-нибудь вроде: «Пока, увидимся утром», после чего выйдет, закрыв за собой дверь. Алиса тем временем поднялась с кровати, не очень уверенно держась на ногах. Она все еще продолжала убеждать себя, что не должна этого делать, но в голове у нее стоял сплошной туман.
Она начала раздеваться. Позади нее Том икнул, но больше не издал ни единого звука. Скрипачка сняла одежду и повернулась, стоя в полосе лунного света. Мюррей безмолвно сидел, глядя на нее. Впервые за многие месяцы в Алисе пробудилась волна желания. Ее друг так восхищенно смотрел на нее, чуть приоткрыв губы, что она почувствовала, как будто в животе у нее кто-то задел натянутую струну.
Хуже всего было то, что, проснувшись утром, молодая женщина не помнила абсолютно ничего. Ночью она просыпалась, это точно, но не поняла, где находится. Она лежала на краю кровати, отдельно от Тома, и не догадалась, что это – его кровать, Тома, что они спят в его комнате и вообще, что она не одна. Лежа в темноте, Алиса, как всегда в последнее время, впала в отчаяние, не в силах поверить, что действительно бросила Майка и Кэтрин. Как, ну как она могла так поступить? В это время Том пошевелился, нашел ее руку и облегченно вздохнул. Алиса повернулась и позволила ему обнять себя. Паника и страх как будто растворились в его тепле, его крепкое упругое тело словно впитало их.
Но утром была пустота. Немного болела голова, мысли путались, а воспоминания отсутствовали совершенно. Алисе стало очень неприятно, что она не в состоянии ничего вспомнить о том, как занималась любовью с Томом. Скрипачка догадалась, что они занимались сексом, только потому, что между бедер и на простынях чувствовалась липкая влага.
В саду пели птицы. Наверное, это скворцы, сидящие на грушевом дереве. Комната Алисы находилась рядом с комнатой Мюррея, на той же стороне здания, но она не помнила, чтобы прежде слышала пение птиц. «Рассветный хор», как говорила ее мать, хотя сейчас было почти восемь, и солнце давно уже взошло.
Том тоже проснулся и смотрел на нее. Она повернула к нему лицо и улыбнулась, но почувствовала боль, едва пошевелив головой. Ее густые волосы, которые скрипачка обычно заплетала на ночь в косы, были разбросаны по подушке и по их с Мюрреем плечам. Она ощутила вину. Ей стало ужасно стыдно из-за того, что она не помнила, как все было. Алисе показалось, что она должна как-то компенсировать это своему любимому. Она поцеловала его в губы и погладила по щеке.
В окно подул легкий ветерок. Очевидно, ночью Том встал и открыл его. Именно поэтому она слышала множества птиц: скворцов, дроздов и кукушек.
– Я тебя очень люблю, – нежно сказал флейтист. – Ты сделала меня счастливым.
Алиса пробормотала что-то вроде того, что тоже счастлива. Если бы ей только удалось вспомнить хоть что-нибудь!
– Помнишь, как я сказал, что только ты можешь меня спасти? – спросил Мюррей. – Ну, так вот – это произошло. Я чувствую себя таким, каким был когда-то.
– Не могу я никого спасти, Том. Я даже себя саму спасти не могу.
– Наверное, других спасать проще.
Алиса положила руки ему на плечи, и они снова занялись любовью, медленно и нежно. Она подумала о Майке. Конечно, не следовало бы ей вспоминать о нем сейчас, это было неправильно и даже гадко, но она ничего не могла с собой поделать. Молодая женщина думала о том, какими грубыми, почти дикими они бывали друг с другом, словно хотели закончить все побыстрее, лишь для того, чтобы начать все сначала. Том же занимался любовью, словно играл на флейте, медленными, выверенными движениями. Он был терпелив и сдерживал себя. Алиса постаралась выбросить из головы несправедливую мыслишку, что он занимается сексом так, будто долго упражнялся. Вроде как тогда, когда он изучал аппликатуру и нововведения Баха. Он сам рассказывал ей об этом. Было странно обнаружить, что этот импульсивный мужчина оказался таким вдумчивым и сдержанным любовником.
Но его забота о ней была чрезмерна, и женщина начала терять терпение. Она не стала закрывать глаза и смотрела на Мюррея, в то время как его веки были опущены. Он был очень привлекателен, удивительно красив, нежен и юн. Всего этого было более чем достаточно, и тем не менее ей чего-то не хватало. Когда все закончилось, она смогла только улыбнуться.
Птицы продолжали петь. Том заговорил о птичьих песнях, точнее, о птичьей музыке. Потом он сделал чаю и принес его Алисе в постель. Они говорили так, как она никогда не разговаривала ни с Майком, ни с кем-либо иным: о книге Гарстанга, посвященной пению птиц, о «Птичьем квартете» Гайдна, о том, как пытался имитировать пение птиц Вагнер в своем «Зигфриде». Мюррей имел абсолютный слух и прекрасную музыкальную память, он мог напеть целые пассажи из «Птичника» Боккерини.
Алиса подумала, что именно так и должно быть, когда ты имеешь много общего с любовником, и вновь вспомнила Майка, интересовавшегося только банковским делом, гольфом и тем, что он называл «ведением домашнего хозяйства». Ей показалось, что когда-нибудь они с Томом могли бы поселиться вместе, в собственном доме, наполненном музыкой, и завести детей. Но мысль о детях отравила это видение. Она крепко обняла флейтиста, спрятав лицо у него на груди.
Джед Лори принял бы участие в вечеринке, если бы в тот вечер не ездил с «Защитниками». Их группа, состоявшая из трех мужчин и одной женщины, патрулировала поезда Центральной линии, идущие от «Оксфордской площади» на запад. По мере приближения к «Илинг-бродвей» группа переходила из вагона в вагон, а на обратном пути они таким же манером ехали назад.
С последним поездом их группа должна была прибыть в Илинг, откуда женщина развезла бы их по домам на своей машине. Таким образом, они проверили пять поездов, идущих на запад, и четыре, следующих на восток, наблюдая за тем, как постепенно редеет толпа, особенно в тех составах, которые шли в центр Лондона. Происшествий, кроме драки подростков и человека, курившего в вагоне, не было. Курильщик, впрочем, затушил сигарету, как только ему сделали замечание. Он был чернокожим. Другой чернокожий, находившийся в этом же вагоне, начал обвинять их в расизме. Это возмутило одного из «Защитников», и произошла небольшая свара.
Большинство пассажиров последнего поезда вышли на «Куинсвей» и «Ноттинг-Хилл-гейт», еще пятеро – на «Шеперд-Буш», последний – на «Уайт-сити».
– Похоже, мы здесь единственные, – сказал Джед, когда поезд остановился на «Ист-Эктон», маленькой и темной станции, выглядевшей так, словно она находилась далеко за городом.
На «Илинг-бродвей» они поняли, что действительно остались одни. Маленькая группа шла по пустынной платформе, удаляясь от станции, и им стало казаться, что, кроме них, никого нет на всем свете.
Глава 9
Лондонское метро электрифицировал американец – финансист из Чикаго Чарльз Тайзон Йеркс[18]. Вообще-то его фамилия должна была произноситься как Йоркс, но такое банальное звучание не устраивало нашего героя. В 1900 году он получил контроль над линией Дистрикт, хотя ни поезда, ни туннели как таковые его особо не интересовали. Куда больше его занимали деньги.
В Штатах Йеркс был обвинен в растрате и приговорен к тюремному заключению. Его, можно сказать, вышвырнули из Чикаго, он перебрался в Нью-Йорк и построил там галерею, заполнив ее картинами старых европейских мастеров. В Лондоне же он постепенно прибрал к рукам сеть подземных железных дорог, за исключением линии Метрополитен. Но еще прежде он построил электростанции на Лотс-роуд и в Низдене, электрифицировав линию Дистрикт.
Компания Лондонских Подземных Перевозок до сих пор подключена к большой электростанции на Лотс-роуд, отравляющей своим присутствием квартал Челси Харбор.
Ни в одном другом отделении британских железных дорог части состава не называются вагонами[19]. Они могут именоваться каретами, экипажами или даже отделениями. Вагонами их называют только в лондонском метро, точно так же, как и в Америке. Может быть, это название дал им сам Йеркс, вороватый чикагский «Прометей»?
Когда Йеркс умер в номере гостиницы «Уолдорф-Астория», его империя перешла к Альберту Генри Стэнли, сыну вагоностроителя из Дербишира. Во время Первой мировой войны он был президентом Торговой Палаты, а позже получил титул лорда Эшфилда. Кроме того, он стал крестным отцом девочки, родившейся в поезде на линии Бейкерлоо, а когда ребенка крестили, назвав Тельмой Урсулой Беатрис Эленор[20], он, по обычаю, подарил ей серебряную чашку.
– Надеюсь, у людей не войдет в привычку рожать в метро, – пошутил тогда лорд Эшфилд, – потому что я – весьма занятой человек.
Когда Джарвис Стрингер впервые проехался в метро Сан-Франциско, в вагонах на полу лежали ковры и работало собственное телевидение. Никогда в жизни он не видел ничего подобного и был просто потрясен. Это случилось в начале семидесятых, когда он был еще очень юным.
Вагоны отличались тяжеловесностью, прочностью и имели двадцать пять ярдов в длину. Вся система BART была сооружена в расчете на то, чтобы выдержать сильное землетрясение. Но самое большое наслаждение Джарвису доставил следующий факт: из-за того, что линия проходила под самым глубоким заливом в мире, строители должны были работать при повышенном давлении воздуха под морским дном.
В те дни Стрингер еще курил. Когда поезд отъезжал от станции «Пауэлл-стрит», он зажег сигарету. Но едва он это сделал, раздался бесплотный голос, приказывающий потушить ее и на следующей станции выкинуть из вагона. Джарвис подчинился. Он был в таком восторге от всей этой технологии, что не удивился бы, если бы его поблагодарили, когда он это сделал.
На самом деле курил Джаспер для виду. Особой радости он от этого не получал, но удовольствие здесь было ни при чем. Достаточно было уже того, что курение – это то, чего не разрешается делать детям. Еще одним крамольным поступком стали татуировки. Он сделал их прошлой зимой в Харлсдене у одного китайца, специализировавшегося на постоянных наколках, светящихся красках и рисунках аэрографом.
Никто никогда не видел Джаспера полностью обнаженным. В школе он избегал походов с классом в бассейн, и даже Тина не присутствовала в ванной, когда он принимал душ. Мальчик решил, что однажды покажет тату Бьенвиде, словно это была некая награда или свидетельство особого расположения. Татуировка была у него на спине, между лопатками. Китаец предлагал ему кельтский торк черного цвета, бывший чрезвычайно популярным в то время, но Джаспер хотел чего-нибудь не столь аскетичного. Он выбрал льва – рыжевато-коричневого льва, охотящегося среди голубых и фиолетовых цветов под бирюзовыми пальмами. Чтобы полюбоваться результатом, ему приходилось вставать спиной к одному зеркалу, держа другое перед собой. Джасперу было интересно, вырастет ли татуировка вместе с ним, и ему иногда казалось, что он замечает, что она немного увеличивается. Набивание тату оказалось болезненной и довольно дорогой процедурой. Ребенок надеялся, что, когда придет время получать паспорт, если, конечно, к тому времени она сохранится такой же, какую он видел у Джарвиса, в графе «Особые приметы» он сможет написать: «Татуировка на спине, изображающая льва».
Джаспер ходил в школу так же часто, как и пропускал. Его школа представляла собой викторианское краснокирпичное здание на востоке Килбурна. Там вечно не хватало учителей, а те, кто работал, имели невообразимую нагрузку и бегали как заведенные из класса в класс. В итоге мало кто из них знал, что это за Джаспер такой, и даже имени его часто толком не помнили. Ученики в школе говорили на самых разных языках, а многие вообще молчали, потому что никто их не понимал.
Хитрый ребенок постарался подружиться с мальчиком по имени Деймон, который записывал в журнал отсутствующих по болезни. Он умел подделывать любые почерки. Одна из преподавательниц как-то сказала в сердцах, что он явно далеко пойдет – по крайней мере, до тюрьмы в Скрабсе доберется точно. Но, похоже, женщина так и не заметила связи между этой его способностью и записками от родителей «заболевших» учеников, которые они приносили после двух– или трехнедельного отсутствия. Ведь она вечно была измотана, а платили ей очень мало.
После Пасхи Джаспер «переболел»: корью, инфекционным мононуклеозом, два раза гриппом и еще два раза подхватывал простуду. Деймон, Джаспер, их школьные товарищи и другие знакомые мальчики проводили время, болтаясь по городу или катаясь на метро. Сначала – потому что в подземке было тепло, а потом у них появились и иные мотивы. В частности, Джаспер изобрел способ безнаказанного курения в вагонах.
В тот раз они толкались и пихались, пока со смехом не попадали на пол. Джаспер так смеялся, что ему стало плохо. Они осмотрительно выбрали поезд Юбилейной линии на Финчли-роуд, так как в Западном Хэмпстеде могли попасться на глаза кому-нибудь из знакомых. Помимо них в вагоне были еще два пассажира, две женщины. Джаспер достал сигарету, стараясь держать ее в том самом месте, где должны были сойтись створки дверей. Сигарета застряла между ними, высовываясь наружу так, что фильтр оставался в вагоне. Когда поезд поехал, мальчик взял сигарету в рот, и тут до него дошло, что он не может ее зажечь. Он вновь начал хохотать.
Их было пятеро. Они продолжали смеяться и толкаться. Мальчик, которого звали Ли, шлепнулся на пол ногами вверх, как собака. Деймон «почесал» ему живот носком ботинка, будто щенку, и Ли завизжал, потому что ему стало щекотно. Все это время, до самого «Свисс-Коттеджа», сигарета так и оставалась торчать между дверями.
Джаспер совершенно забыл, что эти двери открываются, только если нажмешь кнопку. Он держал сигарету в зубах, потому что не хотел, чтобы она упала на пол перрона, или, еще хуже – на рельсы. Наконец Деймон нажал кнопку, двери разошлись, и Джаспер, убедившись, что рядом нет нежелательных свидетелей, зажег сигарету. Он держал ее в руках до тех пор, пока двери не закрылись. Чтобы сигарета не потухла, мальчик глубоко затянулся и выдохнул в вагон целое облако дыма.
Его приятели уже начали икать от истеричного смеха. Одна из женщин обернулась и бросила на них неодобрительный взгляд, вторая же притворялась, что ничего не замечает. Джаспер был уверен, что она притворяется, хотя и не смог бы объяснить, откуда он это знает. Когда поезд прибыл на «Сент-Джонс-вуд», Деймон и Ли тоже зажгли по сигарете, точно так же сунув их между створками дверей, а на «Бейкер-стрит» пришла очередь Криса и Кевина, но тут в вагон зашел взрослый мужчина и, заметив, чем они занимаются, заставил их выйти.
У всех пятерых были билеты. В Западном Хэмпстеде еще можно было прошмыгнуть «зайцем», но турникет на Финчли-роуд являлся почти непреодолимым препятствием. Джаспер и его товарищи были худыми и могли бы под ним пролезть. Так они, собственно, прежде и делали, до тех пор, пока их не засекли.
Выйдя на платформу, компания отправилась на линию Метрополитен. Мальчики сами не заметили, как оказались в старейшей части Лондонского метро.
Лондонская подземка занимает второе место в мире по протяженности. Длина ее лишь немного уступает Нью-Йоркскому метро и составляет 422 километра.
Быстрее всего линия Метрополитен росла в 60-70-х годах девятнадцатого века. Потом к ней присоединилась линия Дистрикт, протянувшаяся к северо-западным пригородам Лондона. До самого начала нового века поезда еще ходили на паровой тяге.
Первое время строительство туннелей велось открытым способом. Однако примерно с 1890 года начал применяться другой: галереи в форме трубы прокапывались под землей в глинистой лондонской почве, а извлеченная зеленая и желтая глина использовалась для производства миллионов и миллионов кирпичей. Именно так была построена первая ветка, проходящая под Темзой, от Кинг-Уилльям-стрит до Стоквелла. Она-то и получила американское название «сабвей», хотя позже была переименована в Железную дорогу Сити и Южного Лондона, став первой в мире линией метро с туннелями круглого сечения.
Другим примечательным событием стали сами поезда, работавшие на электричестве. Пассажиры в этих «банках с сардинами» сидели лицом друг к другу на длинных лавках, расположенных одна против другой вдоль стен. И пусть освещение в вагонах оказалось настолько тусклым, что не удавалось даже почитать газету, в таком поезде можно было, по крайней мере, спокойно дышать. Миновали те дни, когда пассажиры боялись задохнуться под землей, хотя пока только на линиях Южного Лондона.
Уличные музыканты стояли на станции «Лейстерская площадь», в самом ее низу, на линии Пикадилли. Питер выпросил у одного из умирающих пациентов хосписа ксилофон, у Алисы была ее скрипка, а у Тома – труба. Они пытались сыграть фокстрот из первой «Джазовой сюиты» Шостаковича.
Алиса, не научившаяся пока делать подходящее вместилище для сбора монет из шарфа, сложила что-то вроде берета из квадратного лоскута дешевого шелка. Первые монетки посыпались туда, еще когда их компания играла популярную в народе «Маленькую ночную серенаду». Странный русский джаз, да еще и исполненный на совершенно неподходящих инструментах, тоже, как ни странно, имел успех. Алиса не могла сообразить, сколько денег было в платке, но догадывалась, что немало: там явно попадались и фунтовые монеты.
Том ликовал. Он то и дело повторял, что в день, когда Алиса решила присоединиться к их группе, им улыбнулась сама фортуна.
– Это все только благодаря тебе, ты – наш талисман.
Скрипачка улыбнулась ему, но отстранилась, когда Мюррей попытался ее поцеловать. Алиса не приветствовала даже держание друг друга за руки, не говоря уже о поцелуях и объятиях на публике. Она уже начинала подумывать, что жизнь уличного музыканта, в конечном счете, не так уж и плоха, особенно в сравнении с определенного рода компромиссами, на которые ей приходилось идти прежде. И тут случилось одно неприятное происшествие.
Люди кидали монеты и шли дальше, не останавливаясь, но, когда Том начал петь арии из опер Моцарта, вокруг собралась небольшая толпа. В ней был и подросток лет пятнадцати. Вдруг он быстро наклонился, схватил платок с монетами и убежал.
Алиса прекратила играть. Смычок дрожал в ее руке. Она услышала свой собственный вскрик. Флейтист кинулся за мальчишкой по коридору, увертываясь от одних прохожих и наталкиваясь на других. Через пару секунд за ним побежал и Питер. Но вернулись они с пустыми руками. Случилось то, чего и следовало ожидать: подошел поезд и в мгновение ока увез воришку. Как заметил по этому поводу Блич-Палмер, нормальному человеку вечно приходится ждать поезда минут по десять, а вот ворам и хулиганам везет.
Скрипачка начала всхлипывать и ничего не могла с собой поделать. Впрочем, и она сама, и, наверное, Том понимали, что плачет женщина не только из-за кражи, которая была всего лишь единичной неудачей.
– Нам нужны деньги, – сказала она Мюррею, когда они вместе возвращались домой по Юбилейной линии. – Нам нужны деньги на образование.
Алиса сама удивилась своим словам, ведь прежде она об этом совсем не думала и уж тем более не говорила вслух. Но произнеся их, скрипачка тут же поняла, что права. Они с Томом должны сделать это.
– Какое еще образование? – переспросил ее друг.
– Мы с тобой должны идти вперед. Ты мне твердишь, что я могу тебя спасти. Именно это я и хочу сделать. Я хочу, чтобы ты продолжил учиться. Мне тоже необходимы уроки игры на скрипке. Я должна найти себе учителя, потому что из-за отсутствия практики многое забыла и мне требуется помощь. А ты, Том, должен закончить курс и получить диплом. Сам знаешь, что единственным препятствием для нас является лишь нехватка денег.
– Мы заработаем их, играя в подземке.
– Мы только что потеряли все, что получили.
– Больше этого не случится.
– Так мы никогда не заработаем столько, сколько нужно.
Флейтист воспринял ее слова как упрек. Алиса увидела, что он покраснел. Точно так же краснел Майк, когда кто-нибудь говорил ему, что он маловато зарабатывает. И в точности как у Майка, в гневном ответе Мюррея прозвучали оборонительные нотки:
– Все будет хорошо. Я этим занимаюсь.
– Нет, нам нужны настоящие деньги, – отрезала молодая женщина. – Думаю, мне надо найти работу. Точнее, нам обоим надо найти работу. Я пойду на все, Том. Слишком многим я пожертвовала, чтобы так просто упустить свой шанс.
– Ты можешь стать, кем захочешь, – сказал ее любимый. – Кем угодно. Как бы я хотел иметь кучу денег, чтобы подарить их тебе! Я так тебя люблю…
Скрипачка до сих пор не знала, что ему отвечать, когда он это говорил. Почувствовав себя не в своей тарелке, она отвела взгляд.
Линии Метрополитен и Дистрикт, имевшие уже немалую протяженность, до 1895 года работали на паровой тяге. В тот год был опубликован рассказ Конан Дойля «Чертежи Брюса-Партингтона». Эта история интересна тем, что ее сюжет выстроен вокруг линии Дистрикт.
Сегодня уже невозможно сделать так, как сделали Оберштейн и полковник Уолтер, то есть сбросить труп на крышу вагона из окна дома в Западном Лондоне. Поезд, который вез тело Кадогена Уэста, качнуло на стрелке у поворота к станции Олдгейт. Труп упал с крыши на рельсы, и все, за исключением Шерлока Холмса, поверили, что человек выпал из вагона. Сейчас повторить подобное уже не удалось бы. В районе Глочестер-роуд, где разворачивалась та история, уже нет домов, расположенных настолько близко к железнодорожным путям.
Платформа на Бейкер-стрит украшена изображениями, иллюстрирующими рассказы о Шерлоке Холмсе, но «Чертежей Брюса-Партингтона» среди них вы не найдете. Может быть, потому, что компания Лондонских Подземных Перевозок боялась подсказать своим пассажирам кое-какие идеи?
Помимо одиночных и двойных дверей, которыми пользовались пассажиры, в вагонах были две дверцы с окошками, расположенные в торцах вагона. Они не предназначались для публики, как можно было прочитать на табличках. Когда состав находился в движении, открывать их было нельзя.
Эти дверцы находились там, где вагоны соединялись один с другим. Соединение было настолько плотным, что между ними оставалось всего лишь несколько дюймов. Снаружи под каждой дверью была ступенька или подножка, шириной чуть более дюйма. С каждой стороны двери и там, где находилось то, что можно назвать архитравом, располагались поручни. Крыши вагонов имели форму эллипса и были чуть менее покатыми, чем во времена Чарльза Тайзона Йеркса или того же Шерлока Холмса.
На Лэдбрук Гроув, а точнее, на станции «Ройал Оук», к Джасперу и компании присоединился знакомый им мальчик по имени Дин Миллер, который открыл дверцу в конце вагона и забрался на крышу.
Он сделал это просто так. Если у Дина и была на это какая-то причина, то он никому о ней не сказал. Впрочем, этим мальчикам вообще не нужны были особые мотивы для того или иного действия, достаточно было одного желания.
Это произошло в старой части метрополитена, на линии Хаммерсмит, построенной около ста тридцати лет назад. Там поезд выходит на поверхность в районе станции «Лейтимер-роуд» и проходит мимо «Шепердс-Буш» и «Голдхоук-роуд», прежде чем прибывает в Хаммерсмит. Так что после «Лейтимер-роуд» нет ни туннелей, ни эстакад. Проехав «Лэдбрук Гроув», можно увидеть трубы старого кирпичного завода, расположенного в квартале Растон-Мьюз недалеко от ныне снесенных малоэтажных домов с гаражами, так называемых «конюшен». Здесь, на улице, которая прежде называлась Риллингтон-Плэйс, жил маньяк Джон Кристи[21], убивавший женщин и замуровывавший их тела в своем доме.
Дин Миллер ничего о нем не знал: эти страшные события происходили за двадцать семь лет до его рождения. Распластавшись на крыше вагона и раскинув руки и ноги в форме андреевского креста, он сосредоточился на том, чтобы не свалиться с вагона, пока поезд набирал скорость в тени эстакады Вествэй, проносясь мимо заброшенных «террасных» домов в Северном Кенсингтоне. Он уже проделывал это раньше, но не здесь, а на западной ветке Центральной линии, между Северным Эктоном и Илинг-Бродвеем. Та поездка была несравнима с сегодняшней. Во-первых, как только он тогда забрался на крышу, пошел дождь. Во-вторых, на станции «Западный Эктон» состав простоял добрых пять минут, и Дину пришлось неподвижно лежать на вагоне все это время. Потом он слышал рассказы, что в тот день на рельсы бросился самоубийца.
В этот же раз дождя не было, и поезд без задержек доехал до «Лейтимер-роуд». Миллер слез с крыши и зашел в вагон тем же манером, что и выбрался из него. Мальчики плотно окружили героя, скрывая его от взглядов других пассажиров, пока он отряхивал одежду.
– Ну, и как? – первым задал ему вопрос Джаспер.
– Отлично, – ответил Дин.
– А в туннелях ты бы смог такое проделать?
– А ты?
Приведя в порядок свою одежду, Миллер сел. В качестве награды за смелость Кевин дал ему шоколадку «Минт-Крисп», которую купил в автомате на станции. Дин отломил кусочек и сунул в рот.
– Там, где туннель имеет форму трубы, это сделать невозможно, понял? Голову снесет. Расстояние до крыши всего дюймов девять, если не меньше, – объяснил он своим товарищам.
Крис тут же начал измерять толщину туловища и головы у каждого из них. Поскольку мерной ленты у него не было, он прикидывал размер лишь приблизительно. Вышло, что у Ли – самого худого – могло бы получиться. Ли шутливо ткнул Криса кулаком, и они все начали пихаться и тузить друг дружку, пока Кевин не шлепнулся на колени к Дину. Какая-то женщина с другого конца вагона закричала, что если они сами не успокоятся, то на ближайшей станции она найдет тех, кто их успокоит.
Лучше всего было перейти в другой вагон, что мальчики и сделали через дверь в торце. Они еще перелезали туда, один за другим, когда поезд прибыл в Хаммерсмит. Поезда линий Метрополитен, Дистрикт и Пикадилли останавливались там на разных платформах. Компания перешла на линию Дистрикт и отправилась обратно в Лондон на поезде, шедшем из Ричмонда. На станции «Западный Кенсингтон» Ли предложил всем забраться на крышу и прокатиться до «Глочестер-роуд», но Дин как главный эксперт в подобного рода делах заявил, что совершенно не уверен насчет здешних туннелей. По его мнению, при въезде в туннель на «Глочестер-роуд» потребовалось бы переместиться на одну сторону крыши, чтобы избежать удара о свод арки.
Но вот на левый или правый край нужно было сдвинуться? Этого он вспомнить не мог. Они вышли на «Глочестер-роуд» и попытались рассмотреть въезд в туннель. Крис сказал, что нужно держаться справа. Но Кевин возразил, что, когда поезд едет по Кольцевой, надо перебираться налево.
Ни один из них на отрезке Глочестер – Южный Кенсингтон так и не решился рискнуть. Потом дети пересели на Кольцевую, в поезд, шедший по часовой стрелке. Миллер заверил, что здесь путь безопасен, и Крис с Деймоном вылезли на крышу вагона. На станции «Глочестер-роуд» поезд почему-то стоял очень долго. Пассажиры выглядывали в открытые двери на платформу, пытаясь понять причину задержки. Никому из них не пришло в голову посмотреть вверх. Да и зачем бы им было это делать?
Прежде чем поезд тронулся, Деймон спустился вниз. Он ничего не объяснил, только помотал головой.
– Заяц трусливый, – сказал Дин.
– Неправда!
– Нет, правда.
– Я не испугался! Просто замерз. Наверху жуткая холодрыга.
Джаспер подумал, что вполне мог бы подняться вместо него. Сначала мальчика восхитила эта мысль, но ему тут же стало худо. Когда ему в голову приходила какая-нибудь идея, он уже знал, что рано или поздно претворит ее в жизнь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так на следующей неделе. Но сделает обязательно. Сейчас он подниматься на крышу не собирался, так как не был уверен, что не встретится с какой-либо проблемой, вроде слишком низкого потолка туннеля. Тогда бы ему пришлось, как Деймону, спускаться вниз и выслушивать насмешки «специалиста».
Джаспер всей душой желал, чтобы поезд поскорее тронулся с места, тогда подняться наверх было бы уже невозможно. Но состав все не двигался. Начало казаться, что поезд всеми забыт, заброшен и стоит здесь с незапамятных времен. И когда неожиданно моторы утробно взвыли, он ощутил такое же облегчение, как какой-нибудь сорокалетний мужчина, опаздывающий на работу. Двери вздохнули и закрылись. Джаспер встал коленями на сиденье и, пока они ехали до «Кенсингтон-Хай-стрит», смотрел в окно. Остальные мальчики последовали его примеру.
Смотреть там было, в общем-то, не на что. Поезд почти сразу нырнул в галерею, построенную почти под самой улицей, а не в настоящий туннель подземки. Между крышей вагона и потолком галереи было около восемнадцати дюймов, то есть явно больше, чем в туннелях. Там было не так темно, и удавалось разглядеть грязные коричневые кабели, протянутые по стенам. Там, где Кольцевую линию проложили открытым способом, то есть почти на всем ее протяжении, имелись вентиляционные шахты. На перегоне с «Глочестер-роуд» на «Кенсингтон-Хай-стрит» их было две. Когда поезд проходил под первой, мальчики одобрительно закричали. Совершенно внезапно над ними вспыхнул солнечный свет, на мгновенье мелькнуло голубое небо в белых пятнах облаков и какое-то высокое светлое здание.
Из-за темноты этот участок дороги был куда опаснее, чем тот, который выбрал Дин Миллер. Ну, если и не более опасным, то, безусловно, куда более пугающим. «Стрррашным», – сказал Кевин, подражая американцам, и все согласились: действительно, «стрррашно».
«Нельзя быть абсолютно уверенным, – думал Джаспер, – что там, в галерее, нет какой-нибудь железной балки или трубы, высовывающейся из потолка и уменьшающей расстояние до крыши вагона на пару дюймов. Увидеть такое невозможно. А если даже и увидишь, все равно уклониться не успеешь».
Когда поезд проехал под следующей шахтой, они опять заорали. Она была куда больше первой. Солнечные лучи вновь заполнили галерею, показалось небо, кирпичные дома и даже деревья. На несколько секунд вновь наступил мрак, а потом состав въехал на станцию «Кенсингтон-Хай-стрит». Пользуясь темнотой, Крис спустился обратно в вагон, держась так, как будто ничего особенного не произошло, не преминув, впрочем, бросить на Деймона презрительный взгляд.
– Ты чего ушел-то? Струсил, что ли?
– Ничего я не струсил, – вновь ответил Деймон.
– Ты сдрейфил, – объявил Крис. – А там было совсем не страшно. Наоборот – здорово.
– Да не испугался я!
– Сдрейфил, сдрейфил, сдрейфил! – заорал Дин.
Деймон его ударил, и они покатились по полу. Женщина, сидевшая в другом конце вагона, посетовала, что такие длинные школьные каникулы – просто позор, а кто-то ответил ей, что несчастных учителей тоже надо пожалеть. Компания собиралась выйти на «Ноттинг-Хилл-гейт», но путь ей преградил служащий метро в униформе Лондонских Подземных Перевозок, которому нажаловалась на малолетних нарушителей порядка та самая тетка, возмущавшаяся длиной каникул.
– Ну-ка, погодите минуточку, – сказал он мальчикам и загородил рукой дверной проход. Джаспер поднырнул под его руку и побежал. Друзья знали, что там нет камер видеонаблюдения. Если бы такое случилось, к примеру, на «Оксфордской площади», все могло бы обернуться гораздо хуже. Деймон и Крис последовали за ним. Не оглядываясь, они припустились к платформе Центральной линии.
Для этого им следовало спуститься на эскалаторе. Вместо того чтобы чинно стоять и ждать, товарищи побежали вниз по ступенькам. Джаспер спросил себя, заметил ли служащий на крыше вагона Криса или ему позвонили со станции «Кенсингтон-Хай-стрит». А может быть, он знал только то, что рассказала та женщина? У нижних ступенек эскалатора стояли уличные музыканты. Не Алиса с Томом и Питером, а двое каких-то парней с саксофоном и электрогитарой, игравшие рок. Джаспер оглянулся. Эскалатор был пуст.
На восточной платформе их с Крисом и Деймоном ждали Дин и Ли, которым тоже удалось выскочить из вагона через одинарную дверь в его конце. Теперь не хватало только Кевина. Он подбежал к ним в последний момент, когда уже подошел поезд на Дебден. Оказалось, ничего особенного ему не сделали – только прочитали нотацию, вот и все. Компания вошла в вагон, хотя Дин предлагал отправиться в Эппинг – но это было бы слишком рискованно.
Едва ребята оказались внутри поезда, в котором не нашлось ни одного свободного сидячего места, Джаспер понял, что сделает это. Прямо сейчас. Как только состав выйдет из последней галереи Центральной линии между Стрэтфордом и Лейтоном. Там, где казалось, что поезд выдавливается из туннеля, словно зубная паста из тюбика, настолько тесным он был. Мальчик только не знал пока толком, где именно собирается выбраться на крышу.
Он стоял между Кевином и Деймоном, держась за поручень, и молчал. Он не собирался никому ничего рассказывать, просто хотел это сделать – и все. Толпа в вагоне не рассасывалась до самого Холборна, но потом начала понемногу редеть. Джаспер опустился на освободившееся сиденье. Он еще не достиг того возраста, когда начинают проявлять альтруизм по отношению к друзьям, отказываясь от удобств ради них. Подобные идеи никому из их компании даже не приходили в голову. Место освободилось – и он сел.
В заднем кармане джинсов мальчик чувствовал смятую пачку сигарет. После поездки на крыше вагона, когда страх сменится триумфом, он позволит себе выкурить одну. Просунет ее между закрывающимися дверями вагона и выкурит, точно так же, как курил на пути сюда на «Финчли-роуд».
Высокий парень в длинном пальто и другой тип, чье лицо было почти полностью скрыто поднятым воротником и надвинутой на глаза шляпой, возвращались по Северной линии. Поезд, в котором они ехали, направлялся в Восточный Милл-Хилл, и, следовательно, им нужно было пересесть, что они и сделали на станции «Эустон». Но вместо того, чтобы на той же платформе дождаться поезда на Эджвейр, мужчины поднялись на железнодорожный вокзал. Там, в мужском туалете, один из них обрядился в костюм медведя. Его товарищ надел на него цепь и повел «дикого зверя» обратно в подземку.
На самом деле деньги у него водились. Он ходил с «медведем», забавляя пассажиров, отнюдь не для того, чтобы заработать. Он даже не попытался пролезть в метро без билета, а спокойно купил два в автомате, пока «зверь» смиренно ждал, опустив башку. Спускаясь на эскалаторе, напарники, как всегда, оказались в центре внимания публики. Окружающие не обращали внимания ни на рекламные плакаты, ни друг на друга, ни на схему метро: они во все глаза смотрели на странного человека с «медведем».
Парочка остановилась на углу коридора, ведущего к платформе Северной линии. Парень достал из кармана пальто губную гармошку и заиграл. «Медведь» начал плясать. Богатые не соображают простых вещей, необходимых для того, чтобы заработать: как раздобыть денег, сохранить и позаботиться о них. Вожатому «хищника» не пришло в голову положить перед собой что-нибудь, куда прохожие могли бы кидать им монетки. У него не было ни шляпы, ни платка, зато имелась сумка с «Семтексом»[22], а вокруг шеи «медведя», скрытый маскарадным костюмом, был обернут квадратный платок.
Это выяснилось, когда первый из прохожих решил дать им денег. Это был один из тех, кто подает всем бродячим артистам, даже не глядя на них. Он бросил монетку в пять пенсов прямо на пол. Подпрыгнув, она перевернулась и укатилась куда-то в угол.
– Поставь перед нами сумку и приоткрой ее, – сказал «медведь» своему товарищу.
– А ты не забыл, что находится внутри? – отозвался тот.
– Неважно. Туда можно бросать что угодно, хоть непотушенный окурок или зажженную спичку. Для взрыва нужен детонатор. Это тебе не порох, тут все иначе.
– Запомню, – ответил парень с губной гармошкой.
Они все-таки отправились в Эппинг, потому что там жил Дин. Взяв на себя роль лидера, мальчик устанавливал свои правила, не заботясь о том, что думают остальные. Он даже не затруднялся объяснениями. Миллер хотел поехать домой, следовательно, другие должны были ехать с ним. Что с ними случится после того, как они оставят его в Эппинге – самой последней станции на востоке Центральной линии, – целиком и полностью было их проблемой.
Вагоны Лондонского метрополитена никогда не бывали совершенно пустыми. Даже в моменты затишья между часами пик и даже на самых отдаленных станциях в каждом вагоне обычно ехало по нескольку человек. В их же вагоне после станции «Снейрсбрук» остались только они сами – шестеро мальчишек. Время обеда давно миновало, и Джаспер чувствовал, что проголодался. У него было что-то около фунта мелкими монетками. Хватило бы разве что на шоколадный батончик или пару пакетиков чипсов. Кевин был известен как умелый воришка, и у него могли водиться деньги. В голову Джаспера закралась мысль о том, что Кевин вполне может угостить голодного товарища нормальным обедом в знак признания его смелости. Впрочем, не нужно ему никакого признания! Мальчик был собран, решителен и готов ко всему.
На станции «Вудфорд» в вагон заглянула пожилая женщина, но, увидев Ли, раскачивавшегося на поручне, боровшихся на полу Деймона с Кевином и Криса, разрисовывающего красным фломастером рекламу агентства паромных перевозок, тут же вышла.
Виды за окном постепенно становились все зеленее. Не то чтобы поезд уже выехал за город, но между домами росло много деревьев, кустов и сочной травы. Если друзья собирались провожать Дина, то в Деббене им нужно будет пересесть, но Джаспер решил, что туда не поедет. Он намеревался выйти в Лоутоне и чем-нибудь перекусить. Вдруг он увидел солнце, яркие лучи которого хлынули в окна вагона.
На платформе «Бакхерст-Хилл» никого не было, по крайней мере, там, где остановился их вагон. Станция выглядела пустынной и мрачной. Джаспер подумал, что все здесь выглядит словно кадр фильма, поставленного на паузу. Ему вспомнился вестерн, который он смотрел по телевизору: о двух вооруженных бандитах, прятавшихся в заброшенных землях, чтобы напасть на почтовый поезд из Санта-Фе и ограбить его. В этот момент он уже открывал дверь в торце вагона. Позади раздался голос Дина:
– Смотрите, он собирается «зацепиться»!
Но Джаспер даже не обернулся.
Хватаясь за поручни у двери соседнего вагона и упираясь ногами в оконную раму, он выбрался наверх. Это оказалось легко. Но мальчик не ожидал, что крыша будет такой гладкой и покатой. Нет, он догадывался, что она не совсем плоская, но надеялся найти что-нибудь, за что можно будет ухватиться: какие-нибудь выступы, трубы или кабели. Но ничего подобного там не оказалось, кроме едва выступающих фланцев над тем местом, где находились двойные двери. Все остальное было сплошной гладкой поверхностью. Впрочем, ничто не могло заставить Джаспера отступить и повести себя так, как Деймон. Он припал к крыше, распластался по ней и потихоньку, ползком продвинулся вперед, приклеившись ладонями к покатой поверхности. Поезд тронулся.
Вагон слегка накренился, и малолетний «зацепер» почувствовал, что съезжает на сторону. Его сердце ушло в пятки. Пытаясь удержаться, он вцепился пальцами в крышу, словно она была не из металла, а из чего-нибудь мягкого и податливого. Поезд наращивал скорость, направляясь в Лоутон и проносясь мимо зеленых долин реки Родинг. Поверхность крыши под лежащим ничком телом ребенка была горячей. Сентябрьское солнце нагревало ее с самого Лейтона. Сейчас его лучи ласкали спину Джаспера, его затылок и шею. Мальчик раскинул ноги и напрягся. В этот миг он чувствовал, что контролирует все, что стал хозяином этой крыши и этого поезда, что он держит их в кулаке.
Несмотря на жару, он понял, почему «зацеперство» часто сравнивают с катанием на санках. Именно так должен чувствовать себя тот, кто на полной скорости несется вниз с заснеженного склона. Джаспера охватил исступленный восторг. Поезд все набирал скорость, летел вперед, и его громыханье звучало как музыка. Тело юного экстремала слегка подпрыгивало, но не опасно – это было, скорее, приятно. Почему никто не рассказывал ему о таком прежде? Не объяснил, как это здорово?
Мальчику хотелось смеяться, петь и кричать одновременно, и он так бы и сделал, если бы мог приподнять голову. Ему захотелось встать во весь рост и прыгать с вагона на вагон, как это делают бандиты в вестернах. Но он не осмеливался даже пошевелиться. Не сейчас, пока еще – нет. Он лежал, замерев, остро чувствуя себя тем не менее в десять раз более живым, чем когда бы то ни было.
Великая радость владела им, а поезд нес его к Лоутону, сквозь солнечный свет, все дальше, дальше, дальше…
Глава 10
Елена Донская жила неподалеку от «Школы», на другой стороне Финчли-роуд, точнее, на Неверхолл-вэй. Алиса могла бы отправиться к ней пешком, захватив лишь скрипку, но от ста фунтов, которые были у нее первоначально, остались жалкие гроши. Их не хватило бы даже на оплату первого урока.
– Я дам тебе денег, – сказал Том. – Ты же знаешь, все, что мое – то твое.
Они сидели в саду, расстелив на траве одеяло Джарвиса. Мюррей наигрывал разные мелодии на игрушечном ксилофоне, подаренном кем-то Бьенвиде. Алиса коснулась его руки.
– Знаю. Ты хорошо ко мне относишься, Том. Но мне надо найти работу.
Он же мог думать только о музыке. Для него было немыслимо, чтобы Алиса, да и вообще кто-либо с подобной подготовкой и устремлениями, стала искать работу, разве что самую незначительную. На его взгляд, для этого вполне подходила работа в закусочной: она была чем-то вроде «передышки творца».
– Рассчитываешь давать частные уроки? – спросил он. Его собственный опыт преподавания закончился неудачно: маленькая ученица провалила экзамен, и ее родители посчитали, что виноват в этом он.
– Нет, хочу устроиться секретаршей.
Молодой человек сыграл длинную трель на окрашенных во все цвета радуги пластинках ксилофона:
– Ты, должно быть, шутишь!
– Вовсе нет, я думаю, у меня получится. У меня ведь есть высшее образование. Говорят, неважно, какой именно у тебя диплом, главное, чтобы он был. Один раз, во время каникул, я работала в фирме отца и вполне успешно справлялась с компьютером.
Эти ее разговоры о высшем образовании начинали понемногу злить флейтиста. Они словно подчеркивали его ущербность. Алиса уже узнавала этот взгляд – саркастический и обиженный: брови – подняты, голова – склонена набок.
– Но зачем? – спросил он.
Прогрохотал поезд с «Финчли-роуд». Скрипачка подождала, пока он проедет.
– Том, мне нечем платить мадам Донской за уроки, – заговорила она затем. – Знаю, ты дашь мне денег, но ты не можешь платить за меня все время, правда? У тебя у самого ничего нет. Думаю, я смогу немного подзаработать. В конце концов, это же не навсегда, всего на год. Кроме того, мне будет удобно отсюда ездить на службу, подземка совсем рядом.
– Просто не верю своим ушам! Но мы же зарабатываем, играя в метро, и вообще отлично проводим время, разве не так? Мы играем настоящую музыку, и у нас есть публика. Вчера заработали двадцать один фунт!
«Которые разделили на троих», – подумала Алиса, но вслух ничего не сказала. Том сыграл на ксилофоне одну-единственную ноту. Иногда он казался ей маленьким мальчиком с обиженно надутыми губами.
– Я думал, тебе нравится играть на скрипке, – проворчал он сердито.
И говорил он временами совсем как мальчишка Джаспер…
– Очень нравится, именно поэтому я хочу делать это как можно лучше. – Молодая женщина старалась говорить беспечным тоном. – Ладно, сдаюсь: я не просто думаю подыскать работу, я уже это сделала. В пятницу ходила на собеседование.
Мюррей резко выпрямился. Она никогда не видела его таким взбешенным. Размахнувшись, он с силой запустил молоточком ксилофона через весь сад.
Алиса сделала вид, что не обратила на это внимания. Спокойным голосом она стала рассказывать ему, как рассчитывает заполучить рекомендацию от партнера отца. Сам папа до сих пор отказывался с ней разговаривать, но через мать ей удалось кое-что разузнать. Отец заявил, что, если бы это зависело от него, его дочь никогда в жизни не получила бы никакой работы. Тогда она написала его партнеру. А еще Джарвис тоже готов был дать ей рекомендации. Он, правда, ничего не понимает в секретарской работе, но Тина уверила квартирантку, что напишет он все как надо, – Джарвис, по ее словам, вообще был очень славным.
Том не смотрел на нее и, казалось, вообще не слушал, что она говорит. Когда Алиса попыталась взять друга за руку, он отдернул ее. Она встала и пошла искать молоточек от ксилофона, затерявшийся где-то в живой изгороди, отделявшей двор от железной дороги.
Тут-то кое-что и случилось. Найдя молоточек, скрипачка вынуждена была вернуться к Тому. Она осторожно села рядом с ним. Тот стоял на коленях, и она подумала, что он собирается встать, но флейтист неожиданно обнял ее, да так, что ей стало трудно дышать. Это было открытое место, и их мог увидеть кто угодно. Алисе сделалось неприятно, но она сдержалась и не стала вырываться.
– Я очень сильно тебя люблю, дорогая, – зашептал ей молодой человек. – Давай не будем ссориться, мы никогда не должны с тобой ссориться.
В классе, где училась Бьенвида Дарн, никто не пил чай. Возвращаясь домой, дети получали все, что угодно, от картофеля фри до шоколадного печенья, но только не чай и не то, что Бьенвиде готовила бабушка. Девочка ничего не знала о традиции пить чай между четырьмя и пятью часами: хлеб, масло, сэндвичи, печенье и кексы. Она была еще слишком маленькой, чтобы где-нибудь прочитать об этом, а рассказать ей никто не рассказывал, но, когда Бьенвида пила чай на вилле «Сирени», она чувствовала, что именно так все и должно быть, что так было всегда и что это – самая подходящая еда для детей, возвращающихся из школы в четыре часа пополудни.
И еще одно в доме Сесилии ужасно нравилось девочке. Она обожала мыть руки перед едой, наверное, потому, что дома ей об этом никогда не напоминали. Ей нравилось устроиться в чисто убранной комнате за накрытым скатертью столом или на обитом ситцем диване и смотреть по телевизору «Соседей». Любила она и болтать с бабушкой Сесилией, хотя по большей части рассказывала ей всякие враки.
Бьенвиде приходилось врать не для того, чтобы выгородить себя, а, скорее, для того, чтобы представить в лучшем свете свою мать. И еще она хотела доставить бабушке удовольствие, дав ей возможность думать, что в «Школе Кембридж» все в полном порядке или, как говорила сама Сесилия, «вполне прилично». Поэтому, когда бабушка спрашивала ее, ходит ли Джаспер в школу, в ее голосе было столько надежды, что внучка просто не решалась сказать правду.
– Ведь он посещает школу, правда, Бьенвида?
– Конечно правда! – отвечала девочка, изо всех сил стараясь, чтобы слова звучали искренне.
– Он такой умный мальчик, ему просто необходимо получить образование, – говорила Сесилия, а потом неуверенно добавляла: – То есть если бы он не был таким умным, оно ему требовалось бы даже сильнее, но, думаю, ты понимаешь, что я имею в виду.
– Понимаю, – кивала Бьенвида, уписывая домашний бисквитный торт с кремом и шоколадной крошкой. Чистые руки приятно пахли мылом.
– Скажи еще, вы с Джаспером ложитесь спать всегда в одно и то же время, не правда ли, милая? Хотя, конечно, он на два года старше тебя…
Здесь особенного вранья не требовалось. Девочка честно ответила, что да, они ложатся всегда в одно и то же время, не упомянув только, что происходит это между одиннадцатью вечера и полуночью. Затем Бьенвида ловко сменила тему разговора, попросив еще один кусочек этого восхитительного торта. Слово «восхитительный» в устах маленькой девочки заставило бабушку улыбнуться.
Хотя миссис Дарн и улыбалась, чувствовала она себя жалко и пристыженно. Она всегда считала, что нехорошо расспрашивать невинных деток тайком от родителей о том, как они живут. Если бы Сесилия узнала, что так поступает кто-то чужой, она осудила бы это. Но сейчас пожилая дама ничего не могла с собой поделать. Не могла она поступать по-другому, пусть даже наивная ложь Бьенвиды не особенно вводила ее в заблуждение. Она понимала, что девочка просто пытается защитить свою мать и успокоить ее саму, сделать их обеих счастливыми и довольными друг другом. И за это намерение она еще больше любила внучку.
Сознание того, что ей лгут, должно было бы предостеречь Сесилию от новых вопросов, но она, преодолевая некоторую скованность, упорно продолжала их задавать. Миссис Дарн ходила вокруг да около главного вопроса, который никак не решалась затронуть из страха получить ужасный ответ. Она подлила Бьенвиде еще чаю, сладкого и некрепкого, потом начала настойчиво предлагать ей шоколадное печенье, интересуясь, живет ли еще с ними Джед и на самом ли деле он держит в доме хищную птицу, которая так страшно кричит.
– Я видела, как его ястреб поймал сороку, – сказала Бьенвида. – И убил ее.
К ужасу Сесилии, глаза ребенка, и без того вечно имевшие трагическое выражение, наполнились слезами. Надо было как-то успокоить внучку, подобрать какие-то слова. Но что тут можно было сказать? Ничего. Тогда бабушка упомянула о том, что, кажется, в морозилке у нее осталось мороженое, которое называется «Дракула», и слезы девочки тут же высохли. Миссис Дарн сходила на кухню и принесла красно-черный стаканчик с мороженым, поставив его на стеклянное блюдечко. Она застала Бьенвиду тихо и грустно сидящей, сложив руки, и снова не решилась задать ей тот самый главный вопрос, который мучил ее сильнее всего. Пожилая женщина просто не могла заставить себя это сделать. Совершенно невозможно было расспрашивать это невинное, доброе дитя с грустными, настороженными глазами, живет ли еще с ее матерью Билли и спят ли они в одной постели. Как бы бабушка это ни сформулировала и к каким бы иносказаниям ни прибегала, задав этот вопрос, она уронила бы себя в собственных глазах. Сесилия заранее чувствовала кислый привкус отвращения к самой себе.
От виллы «Сирени» до «Школы» было не более двухсот ярдов, но миссис Дарн все равно проводила девочку домой. Пусть было еще светло и их квартал считался вполне приличным, а сама Бьенвида казалась Сесилии послушным ребенком, который не будет вступать в разговоры с незнакомцами, она все равно довела внучку до дома. Пожилая дама делала так всегда. Слишком часто в газетах писали о похищенных и убитых детях, а по телевизору то и дело показывали передачи об опасностях, подстерегающих их на улице.
У ворот «Школы» она оставила Бьенвиду, проследив за тем, как девочка ушла куда-то на задний двор. Она могла бы пойти вместе с ней – ребенок даже просил ее об этом – но миссис Дарн никогда не заходила в «Школу» по вечерам. И не только потому, что ей не нравился этот дом. Она боялась того, что может там увидеть. Дафна всегда убеждала ее, что она навоображала себе разных ужасов, вроде пьянок, наркотиков и прочего беспорядка, например, Тину с кучей мужчин, возможно, даже в постели. «Нет-нет, что за чепуха? – возражала ей Сесилия. – Ничего такого я не воображала!» Но на самом деле ее подруга была права.
Вернувшись домой, Сесилия поднялась по лестнице и заглянула во все комнаты. Сердце у нее защемило, когда она вспомнила о том, как заставляла Тину спать наверху, а «жить» – внизу. Пусть она сделала это только потому, что хотела проводить как можно больше времени с внуками, но это отнюдь ее не извиняло. Да, она вела себя слишком эгоистично. Комнаты наверху были очень милы, и из их окон открывался прекрасный вид на Луг[23]. Там были спальни каждого из детей, гостиная и помещения, которые давно следовало переделать в ванные и кухню. Тине можно было бы выделить большую спальню внизу. Мысли о спальне напомнили миссис Дарн о том, что ее дочь, скорее всего, спит не одна и вообще, вероятно, одна ночевать не собирается. Пожилая женщина призналась себе, что не сможет вытерпеть присутствия в своем доме Тининых бойфрендов, какими бы они ни были.
Сесилия всегда упиралась в эту неразрешимую проблему: она очень любила Тину и ее детишек, но совершенно не могла жить с дочерью в одном доме. Почему у людей всегда все так сложно? Почему они не хотят постоянно жить с теми, кого любят больше всего на свете? Разве что влюбленные составляют исключение…
Миссис Дарн закрыла окно, из которого повеяло вечерним холодком, и принялась убирать со стола. Она вспомнила о том времени, когда сама была влюблена. О том, как танцевала с Фрэнком Дарном и на ней было черное платье с вырезом на спине, которое ее собственная мать решительно не одобряла. Пришлось пришить шелковую вставочку, чтобы уменьшить вырез. Это случилось задолго до того, как они с Фрэнком поженились. Их обручение растянулось на несколько лет, и ко дню свадьбы Сесилия очень хорошо знала своего жениха, испытывая к нему глубокую привязанность и чувствуя себя в его обществе спокойно и уверенно. Что же касается постельных вопросов, то особого значения она им не придавала, и все оказалось достаточно терпимо, особенно в тех случаях, когда она не испытывала боли. Но во время того танца, когда Фрэнк положил руку на ее обнаженное плечо и до странности мечтательно посмотрел на нее, Сесилии пришла в голову неожиданная мысль. «Будь же моим, – думала она, – приди ко мне, и я стану тобой, а ты – мной, так, что мы растворимся друг в друге».
Уж сколько лет прошло, а она до сих пор помнила об этом. Она вообще часто вспоминала тот танец. Но та мысль исчезла так же быстро, как появилась, и никогда почему-то больше не возвращалась. Естественно, миссис Дарн ни разу не произнесла подобное вслух. Она считала, что, наверное, их брак не был слишком страстным, хотя сравнивать ей было не с чем. Но Фрэнк тепло к ней относился, был хорошим мужем и хорошим отцом.
Сесилия взглянула на напольные часы с маятником, так называемые «дедушкины часы», которые когда-то принадлежали матери Фрэнка. Без четверти шесть. Сегодня была очередь Дафны звонить. Она переключила телевизор, чтобы успеть увидеть хотя бы анонс новостей, но, как всегда, неотвратимо, словно судьба, и пунктуально, как будильник, ровно в две минуты седьмого раздалась телефонная трель. Миссис Дарн чуть помедлила, думая о том, что сказали бы люди, если бы она оставила дом Тине, а сама переехала жить к Дафне, в Уиллсден.
Горящая над галереей люстра отбрасывала на пол вестибюля тень своих паучьих лап, оставляя лестницы в полутьме. Похоже, где-то было открыто окно, люстра слегка покачивалась на цепях от легкого сквозняка, и казалось, что паук на полу шевелит лапками, пытается заползти между половицами, а иногда по-рачьи пятится назад.
Бьенвида побаивалась «паука», ей не нравилось проходить по вестибюлю там, где его лапы могли касаться ее ступней. Она предпочитала подождать кого-нибудь в раздевалке, несмотря на то что там, без сомнения, жило привидение.
Малышка уже решила, как оно выглядит: старик с белой бородой, вроде Санта-Клауса, только в трауре, он обязательно будет бледным и одетым в темное. На шее у него болтается оборванная петля, а в руке должна быть коса, хотя девочка и не смогла бы объяснить, как ей пришла в голову подобная идея. Она сидела на спальном мешке Джаспера, завернувшись в одеяло, ждала брата и дрожала от страха. Впрочем, совершенно неприятным это ощущение назвать было нельзя.
Сквозь маленькое окошко с белыми и одним красным стеклышками, находящееся под самым потолком, видно было, что снаружи темно. Темно было и в каморке. С потолка свисал оборванный электрический провод, поэтому вкрутить лампочку было некуда. Еще раньше Бьенвида принесла сюда подушки, две свечи, коробок спичек, пару шоколадок и куклу по имени Каролина. Она хотела бы, чтобы ее саму так звали, но поскольку ей не удалось никого в этом убедить, пришлось дать это имя кукле.
Было уже поздно, почти без четверти одиннадцать, а Джаспер обещал ей, что вернется в десять тридцать. Сегодня они собирались впервые переночевать в раздевалке, благоразумно дождавшись вечера, когда Тины не будет дома. Скорее всего, она вернется за полночь, тихонько пройдет в свою комнату и даже не подойдет к их спальням, опасаясь разбудить. Бьенвида говорила бабушке, что мама всегда заходит к ним перед сном, но Сесилия не слишком ей верила, хотя пожилой женщине очень этого хотелось.
Девочка не видела брата уже несколько часов. Еще засветло он отправился в Вест-Энд-лейн в индийский магазинчик на мосту, чтобы купить пару банок колы и комикс. Бьенвида надеялась, что хозяева магазина не продадут Джасперу сигареты – ей не нравилось, когда в спальне пахло дымом. В помещении была бы кромешная тьма, если бы не луна, заглядывавшая в окошко. От ее лучей на полу белел квадрат света. Девочка зажгла одну свечу, вставив ее в горлышко молочной бутылки, но тусклый свет сделал комнату лишь еще более пугающей. Раньше она не видела темноты, а сейчас стало заметно, насколько тьма уплотнилась, стала густой, похожей на что-то большое, мохнатое, шевелящееся в углах – там, куда не доставал свет свечи.
Джаспер успел явиться до того, как она пожалела, что вообще сюда пришла. У него был фонарь, который он «взял взаймы» в комнате Тома, пока тот отсутствовал, а также фотоаппарат Джарвиса. И брат, и сестра уже приобрели привычку приворовывать как в «Школе», так и вне ее. До сих пор их никто не засек, и это толкало детей на все новые кражи. К примеру, Джаспер честно заплатил за колу, но, едва стоящий за кассой хозяин-индус отвернулся, он тут же стащил с прилавка пакетик шоколадного драже «Смартиз».
Мальчик подумал, что сейчас как раз подходящая ситуация, чтобы показать сестре татуировку, но, с другой стороны, в каморке было слишком темно и к тому же холодно, и он нырнул в спальный мешок, открыл банки с колой и протянул одну Бьенвиде.
– Если мы и можем увидеть что-нибудь, – сказал он, – то это случится в полночь. Наверное, это будет что-то вроде мешка, болтающегося на веревке прямо посреди комнаты.
– Не хочу такое видеть, – отозвалась его сестра.
– Шутишь? Конечно же, ты хочешь! Я собираюсь сфотографировать привидение. Со вспышкой должно получиться. Рассказать тебе, что я сегодня делал?
– Ага, давай рассказывай.
– Я проехался на крыше вагона от Западного Хэмпстеда до Финчли-роуд.
Бьенвида ничего не ответила. Идея кататься на крышах поездов не слишком привлекала ее, а кроме того, девочка не была уверена, что можно верить всему, что рассказывает Джаспер. Она взяла себе несколько драже, выбрав четыре оранжевые конфетки. Ей нравились только такие. Бьенвида уже давно заметила, что оранжевые драже сделаны из молочного шоколада и чуть-чуть отдают апельсином, в то время как остальные, несмотря на разные цвета – красный, зеленый, лиловый, желтый, коричневый, имеют один и тот же вкус и к тому же сделаны из темного шоколада. Она уже давно пыталась разрешить эту великую тайну.
– Я тренируюсь перед тем, как «зацепиться» в настоящем туннеле, – похвастался ее брат.
– Но ты же можешь убиться. Тебе там голову снесет!
– Ну я же тебе объяснил, что тренируюсь! Тут важно не терять головы, – Джаспер расхохотался над собственной шуткой и повторил: – Не терять головы, поняла, Бьенвида?
Она не поняла, но ничего не сказала, лишь покорно улыбнулась брату. Они ели шоколадные батончики и пили колу. Вдруг мальчик сказал, что уже без двух минут двенадцать, и пришло время задуть свечи, иначе они ничего не увидят. Он приготовил фотоаппарат. Однако единственным событием, которое произошло в полночь, было возвращение домой Джарвиса, Тины и какого-то ее старинного приятеля.
К тому времени, когда хозяин дома ушел в свою комнату, намереваясь сделать чашку чая, вскипятив воду в электрическом чайнике, а Тина с дружком пожелали ему спокойной ночи и отправились к ней, дети уже спали. Мисс Дарн старалась не шуметь и не заглянула в их спальни.
Церковь Святой Марии Вулнотской на Кинг-Уилльям-стрит была построена в 1727 году. Когда-то на этом месте стоял римский храм, посвященный богине Конкордии. Несмотря на то что в названии церкви фигурирует шерсть[24], к последней оно не имеет никакого отношения. Это – искаженное имя саксонского принца Вульфнота, соорудившего здесь деревянную часовню, посвященную Богородице.
Здание, которое возвели там позднее, сгорело во время Великого Пожара 1666 года. Современный храм был построен Николасом Хоксмуром. Свод выкрасили в синий цвет и нарисовали на нем звезды, чтобы напомнить прихожанам о ночном небе, которое видели из атриума еще римляне.
Первый туннель круглого сечения на линии, называвшейся в то время «Сити и Южный Лондон», был проложен прямо под этой церковью. Компания получила разрешение от Парламента на снос, но на защиту здания встала общественность, под давлением которой строители были вынуждены проложить туннель под фундаментом церкви, использовав его в итоге для оборудования лифтовой шахты станции «Банк».
В честь спасения церкви на входе в станцию установили голову ангела.
Когда поезда Центральной линии подъезжают к платформе, включается запись, повторяющая: «Внимание – провал! Внимание – провал! Внимание – провал! Внимание – провал! Пожалуйста, будьте внимательны при выходе!» И действительно, когда выходишь из вагона, провал открывается прямо под вашими ногами. Но это не единственная станция, на которой имеется большой зазор между вагоном и платформой. В Холборне, на линии Пикадилли, он также довольно велик, но никакого объявления об этом не делают.
На станции «Банк» этот зазор появился из-за того, что строители метрополитена постарались несколько сместить линию, чтобы она не проходила под хранилищами Банка Англии.
Три часа назад Тина и Джарвис отправились вместе в бар на Сент-Джонс-вуд. Джарвис собирался встретиться с одним типом, русским, работавшим в агентстве «Интурист» и пообещавшим ему похлопотать о поездке в Советский Союз, где, по слухам, происходил бум строительства метрополитенов: было уже сдано или планировали ввести в эксплуатацию целых восемь! А мисс Дарн хотела просто развлечься.
Русский опаздывал. Пока они его ждали, Тина заметила своего старого знакомого – опрятного темноволосого человека среднего роста, где-то сорока лет. Она представила его племяннику как Дэниэла, пояснив, что они не виделись уже лет десять, с тех самых пор, как случайно познакомились в Денмарк-Хилл. Стрингер обратил внимание на необычные глаза этого Дэниэла: темные с фиолетовым отливом, словно лепестки анютиных глазок. Но он никак не мог вспомнить, у кого видел такие же.
Выпив пару стопок водки и выбранив качество предлагаемой баром марки, интуристовский сотрудник принялся соблазнять Джарвиса рассказами о новом метро в Куйбышеве и перспективой посещения сейсмоустойчивого метрополитена в Ташкенте.
– У нас, в СССР, самые лучшие метро в мире, – рассказывал он. – Все наши линии построены в соответствии с высокими техническими стандартами, по которым сооружался Московский метрополитен.
Джарвису с трудом верилось в эти «высокие технические стандарты», причем ему показалось, что и сам русский не особенно в них верит. И молодому человеку захотелось во всем убедиться самому.
– А, например, в Ереване, – продолжал интуристовец, – туннели спроектированы так, чтобы выдержать землетрясения силой десять баллов по шкале Рихтера.
Стрингеру подумалось, что все это верно и для системы BART в Сан-Франциско. Его взгляд упал на Тину, которая как раз погрузилась в своеобразный ритуал ухаживания. Он уже видел ее пару раз за подобным занятием. Они с Дэниэлом сидели друг против друга за маленьким столиком, держась за руки так, словно намереваясь немедленно заняться армрестлингом. Но ничем подобным они, разумеется, заниматься не собирались. Никакого напряжения в их позах не было: руки были расслаблены, глаза каждого, не мигая, смотрели в глаза партнера, а рты были слегка приоткрыты. Пока Джарвис их разглядывал, Тина с Дэниэлом обменялись быстрым поцелуем, тут же, впрочем, отпрянув друг от друга.
Русский ушел, паб закрылся, и они втроем вернулись домой последним поездом, идущим в северном направлении. Причем компания потратила бездну времени на то, чтобы добраться до станции «Сент-Джонс-вуд», потому что Дэниэл с Тиной то и дело останавливались под уличными фонарями и принимались лизаться.
Пока они ждали поезда на платформе, Стрингеру припомнилась сказка о ковре-самолете царя Соломона. Этот волшебный ковер зеленого шелка был таким большим, что на нем помещалось множество народа. Соломон просто объявлял, куда они желают отправиться, ковер взмывал в воздух и приземлялся точно в назначенном месте. Совсем как метро. Джарвис попытался изложить эти свои соображения своим спутникам, но им было не до него.
Едва усевшись, эти двое приникли друг к другу и обжимались всю дорогу от Сент-Джонс-вуда до Свисс-Коттедж и от Финчли-роуд до самого Западного Хэмстеда. Так, в обнимку, они и пришли в «Школу». Что же до Джарвиса, то плотские желания посещали его редко. В принципе, он мог обходиться без женщины не то что месяцами, а годами. Он смотрел на них доброжелательно и примерно с таким же интересом, который вызывали у него фотографии метро. Снимки бразильской подземки возбуждали его куда больше.
Он предложил тете и ее знакомому чаю, но они ничего ему не ответили, полностью поглощенные друг другом. Тогда хозяин дома зажег свет в своей комнате, но почти сразу же снова его выключил. При свете луны он налил воду в чайник и стал смотреть сквозь приоткрытую дверь на танцующую тень люстры в вестибюле. Потом тень застыла – наверное, кто-то закрыл окно.
Прошел последний поезд в сторону «Финчли-роуд», потом еще один – на Килбурн, и все стихло. Джарвис размышлял о том, что, если ему улыбнется удача, вскоре он будет уже в Ленинграде, где туннели метро, выкопанные в болотистой почве, столь же глубоки, как и те, что под Хэмпстедским Лугом.
Глава 11
Во время Второй мировой войны Лондонское метро превратили в бомбоубежище.
7 сентября 1940 года начались масштабные воздушные налеты. Лондонцы покупали самые дешевые билеты и сидели в подземке до тех пор, пока сирены не объявляли об окончании воздушной тревоги. В октябре этого года на станциях метрополитена от бомбежек пряталось в общей сложности сто тридцать восемь тысяч человек. Тогда было принято официальное решение использовать в качестве бомбоубежищ все семьдесят девять станций метро.
Станция «Арквей» тогда называлась «Хайгейт». Новая глубокая станция, построенная в конце Арквей-роуд, была готова к открытию, но церемонию отложили до окончания войны. До этого она использовалась только как бомбоубежище. «Хайгейт» – одна из самых глубоких станций. Отрезок между Арквеем и Восточным Финчли на Северной линии поезда проезжали без остановки, и пассажиры могли видеть целые семьи, спавшие прямо на платформе.
Те, кто прятался на станции «Рассел-сквер», рассказывали: по ночам слышался приглушенный рокот, доносившийся из туннеля, – храп тех, кто спал на станции «Холборн», следующей по линии Пикадилли.
В туннелях между Холборном и Олдвичем хранил свои сокровища Британский музей.
Самая большая за всю войну трагедия в метро случилась на станции «Белхэм» 14 октября 1940 года: одна из бомб угодила в туннель и разрушила водопроводные и канализационные трубы. Вода и нечистоты быстро затопили погруженную в темноту станцию.
Выживших эвакуировали через запасные выходы, но шестьдесят восемь человек, из которых четверо были работниками метро, погибли. Позже, когда налет прекратился, через проделанную бомбой дыру было выкачано около семи миллионов галлонов воды.
Днем раньше девятнадцать человек погибли и пятьдесят два получили ранения при взрыве бомбы на «Баундс-Грин», линия Пикадилли. А за два дня перед этим бомба убила семь человек на «Трафальгарской площади», линия Бейкерлоо, еще один человек погиб на «Кэмден-таун», Северная линия.
На станции «Банк» вечером 11 января 1941 года бомба взорвалась в туннеле, проходившем прямо под мостовой. Были убиты пятьдесят шесть человек и шестьдесят девять получили ранения. Станция оказалась совершенно разрушена и три месяца не работала. Ходили слухи, что около ста человек остались тогда засыпанными землей и их тела так никогда и не были подняты на поверхность. Впрочем, почти наверняка это только домыслы.
Юридическая фирма занимала два последних этажа в здании на севере Линкольн-Инн-филдс. Медная табличка на фасаде извещала, что там располагалась адвокатско-нотариальная контора «Энджелл, Шеррер и Кристиансон». Стрелка на табличке указывала на узкий переулок, где находилась входная дверь.
Ближайшей от этого места станцией была «Холборн» – буквально в пяти минутах ходьбы. Алиса поехала сначала по Юбилейной линии до «Бонд-стрит», а потом пересела на Центральную до «Холборна». В тот день она должна была приступить к работе в качестве секретаря Джеймса Кристиансона, кабинет которого располагался на верхнем этаже здания.
Ее любимый очень разозлился, когда она объявила, что все-таки поступила на службу.
– Я надеялся, ты шутишь, – буркнул он.
– Какие еще шутки? – отозвалась скрипачка. – Мне нужны деньги, Том. Как и тебе, кстати. Мы ведь собирались помогать друг другу! Ты уже это делал, и я тебе очень благодарна за то, что ты тогда выручил меня и заплатил за мои уроки. Сейчас пришла моя очередь.
Они сидели в ее комнате, бывшем кабинете директора, и заканчивали ужин. Мюррей купил бутылку вина, что Алиса посчитала напрасной тратой денег. Ей было совершенно ясно, что они не могут позволить себе такого рода вещи. Тем не менее Том покупал вино каждый день. Он опустошил третий стакан и вдруг со злостью швырнул его в стену. Алисе стало очень не по себе. В первый раз она видела своего друга настолько взбешенным.
– Не нужна мне твоя гребаная благодарность! – заорал он.
– Извини, я всего лишь имела в виду, что мы договорились делиться и вообще все делать вместе.
– И поэтому ты тайком нашла себе работу? По-твоему, это называется «все делать вместе»?! Нет, «делать вместе» – означает вместе заниматься музыкой, делать то, чем мы всегда занимались с тех пор, как встретились. Ты вообще помнишь, как мы встретились?
То, как он это сказал, заставило Алису покраснеть.
– Конечно, я помню, Том, – ответила она тихо.
– Это случилось в Холборне. На станции. Я никогда не забуду того дня. Я буду помнить его всю мою жизнь. А теперь ты будешь проходить там по пути на работу и наверняка ни разу даже не вспомнишь обо всем этом.
Скрипачка собрала осколки разбитого стакана, а потом сходила в ванную и принесла воды, чтобы попытаться хоть как-то смыть потеки вина со старых обоев. Когда она зашла обратно в комнату, Мюррей, испуганный и растерянный, упал перед ней на колени и начал просить прощения:
– Я очень, очень тебя люблю!
– Знаю.
– Я хочу сделать все для тебя. Но я ничего не могу и от этого схожу с ума. Чувствую себя ненужным и беспомощным.
– Не выдумывай, – сказала Алиса и тут же пожалела, настолько это прозвучало фальшиво и похоже на обычные фразочки Майка.
Флейтист схватил ее за руки и стал настаивать немедленно заняться любовью. Живя с Майком, Алиса часто соглашалась на такое только для того, чтобы сохранить мир в семье, даже если ей самой не хотелось и она знала, что не получит никакого удовольствия. Когда она уходила из дома, то решила, что никогда больше не будет так поступать, но сейчас покорно снимала одежду, чтобы отправиться с Томом в постель, целовать его в ответ на его поцелуи, ласкать его тело, а потом делать вид, что получает наслаждение.
Если она откажется, то рискует остаться ночью в одиночестве, без него, держащего ее в объятиях. До сих пор молодая женщина часто в ужасе просыпалась среди ночи с мыслями о Кэтрин и о том, что она может потерпеть фиаско как музыкант. Алиса спрашивала себя, что с ней будет, если выяснится, что она годна лишь на то, чтобы давать частные уроки музыки детям, только начинающим играть на скрипке.
Ее собственные занятия с мадам Донской не приносили ей удовлетворения и не придавали решимости. Наоборот, они приводили Алису в расстройство. Скрипачка поймала себя на том, что постоянно ждет похвалы от своей русской учительницы. Она преданно смотрела в ее широкоскулое жесткое лицо, ища малейшие признаки если не удовольствия, то хотя бы приятия. Наверное, Елена Донская не испытывала особенного отвращения к ее игре. Очень может быть, что это время сделало ее лицо строгим, а щеки учительницы обвисли с возрастом, обрисовав суровые складки в уголках рта.
Однако с ее губ никогда не срывалось ни единого слова одобрения – лишь невнятное бурчанье. Она была чрезвычайно озабочена постановкой пальцев при игре. Иногда Алиса думала, что это просто глупо – уделять столько внимания тому, как именно она держит скрипку. Никто из ее преподавателей не заботился об этом с тех самых пор, как она в двенадцать лет впервые взяла в руки смычок.
Однажды мадам Донская произнесла фразу, которая заставила ее ученицу похолодеть:
– Просто смешно, что в этой стране взрослые люди испытывают проблемы, которые дети в остальной Европе решают уже к десяти годам.
– Вы говорите о скрипачах? – уточнила Алиса.
Она тут же пожалела о своем вопросе. Елена одарила ее жуткой улыбкой и отвернулась. Молодая женщина не могла избавиться от ощущения, что, по мнению преподавательницы, она и скрипачкой-то называться недостойна. Впрочем, как и любой другой ученик, приходивший в этот темный, мрачный и душный дом.
Иногда они пили чай. Готовили ли его в самоваре, Алиса не знала. Чай подавался уже налитым в фарфоровый чайник, был остывшим и мутным, и к нему не полагалось молоко. Они пили его в комнате, где кресла и столы были сплошь покрыты какими-то тяжелыми драпировками и яркими шалями и повсюду стояло красное и голубовато-зеленое венецианское стекло. Хозяйка рассказывала о немецкой скрипачке Анне-Софи Муттер, которую обожала, или об Йегуди Менухине, которого называла своим другом.
Том настоял, что будет встречать Алису после занятий. Поводом послужило то, что заканчивались они поздно, а идти по Фрогналу и Кэнфилд-Гарденс в темноте небезопасно. Скрипачка была вынуждена подчиниться. Уроки проходили раз в неделю, и она подумала, что если позволит это своему другу, то потом сможет отказаться от того, чтобы он ездил за ней в контору «Энджелл, Шеррер и Кристиансон».
Брайан Эльфик забирал детей каждое воскресенье, всегда при этом спрашивая, чем бы они хотели заняться.
– Пойдем в Ковент-Гарден? В Музей транспорта, – предложил Джаспер.
Брайан охотно согласился. Он-то ожидал, что его попросят отправиться в луна-парк. Ему подумалось, что Джаспер наконец-то перестает интересоваться одними лишь привидениями, комиксами и вредной едой. Сидя в поезде, идущем в сторону Бейкер-стрит, они решили, что вначале посетят музей, потом прокатятся по Темзе, перекусят в «Макдоналдсе» и напоследок сходят в кино, где можно было за один билет посмотреть сразу два любимых фильма Бьенвиды – «Дамбо» и «Белстоунский лис».
В музее Брайан заметил, что Джаспер, осматривая модели поездов, уделяет особое внимание крышам вагонов. Мальчик сейчас напоминал какого-то иностранного инженера на экскурсии по обмену опытом.
Бьенвида основной своей задачей считала изображать все в как можно более выгодном свете и создать впечатление, что наш мир – лучший из возможных миров. В полном соответствии с этими своими идеями она сказала:
– Знаешь, Дэниэл работает поваром в ресторане. Он нам готовит всякие вкусные штуки.
– Он женат? – спросил Эльфик.
– Не-а, – помотала головой девочка, хотя, честно говоря, не была в этом уверена. – Я просто жду не дождусь, что они с мамой поженятся и мы переедем в новый дом на Милл-Хилл.
Без Алисы игра в метро во многом утратила свое очарование. Да и заработки резко упали. Молодая скрипачка ненавидела такие намеки, но Том считал, что большинство людей, проходя мимо них к эскалатору, опускали монетки только потому, что с ними играла красивая девушка.
Питер по-прежнему ходил играть с Мюрреем, но уже далеко не каждый день. Если его дежурство в хосписе выпадало на ночь, то на следующее утро он был не в состоянии отправляться работать в метро. К тому же Блич-Палмер неважно себя чувствовал: он отощал, а его лицо и шея покрылись сыпью. Джей так и не смог преодолеть свою робость и стеснялся выступать с Томом без Питера. Терри же куда-то пропал, как, впрочем, один за другим постепенно пропадали все их друзья-музыканты.
Когда Мюррей в первый раз отправился со своей флейтой в подземку один, он немного испугался, почувствовав себя беззащитным. И каким-то неуклюжим, что ли? День близился к вечеру, совсем скоро должен был начаться час пик. Молодой человек остановился на углу в переходе, ведущем на «Оксфорд-стрит», бросив у ног куртку – ему всегда казалось, что так он словно заявляет о своих правах на этот пятачок метрополитена. Вместо шляпы или завязанного платка, которые зарекомендовали себя не с лучшей стороны, Том поставил перед собой открытый футляр флейты и приказал себе успокоиться. Разве он не играл здесь уже десятки раз? Сегодня все отличие состояло только в отсутствии компании. Приложив инструмент к губам, флейтист заиграл.
Сначала – арию из «Волшебной флейты», в которой Тамино призывает к себе лесных животных. Музыканту пришло в голову, что он тоже, подобно Тамино, пытается привлечь диких зверей, настолько нечеловеческими, свирепыми или, наоборот, затравленными выглядели лица людей в этом подземелье. Лишь немногие казались счастливыми и довольными собой. И он, Том, еще пытается убедить их поделиться с ним, пусть совсем чуть-чуть, заплатив за его музыку.
Кто-то кинул ему двухпенсовик, кто-то расщедрился на пять. Мюррей начал играть партию из концерта для флейты Моцарта, но обнаружил, что ему теперь приходится соперничать с целым трио, «вооруженным» электрическими инструментами, включая сиплый саксофон. Они встали не более чем в пятидесяти ярдах от Тома.
В нескольких шагах от него, там, где коридор сворачивал направо, в стене имелась двойная дверь. Ее тусклый серый металл контрастировал с яркими разноцветными плакатами, которыми были оклеены стены туннеля. Когда флейтист заиграл популярные народные английские песенки в аранжировке, сделанной для него Алисой, эта дверь открылась. Створки распахнулись внутрь, и Мюррей успел заметить темную пещеру, похожую на склеп, пол которой вроде бы уходил вниз. Но практически сразу оттуда появился тип в униформе и захлопнул дверь за собой.
До этого Тома никогда не посещала мысль, что подземка на самом деле куда больше, чем кажется непосвященным, что тут могут быть тайные комнаты и секретные коридоры. Эта идея взволновала музыканта: в нем проснулся маленький мальчик. Мужчина, вышедший из загадочной комнаты, внимательно посмотрел на него и быстро удалился.
Не прошло и пяти минут, во время которых флейтист снова сыграл арию Тамино и песенку птицелова Папагено, опять же аранжированную Алисой, когда прибыла железнодорожная полиция. Сначала они довольно доброжелательно поинтересовались, что он тут делает и известно ли ему, что играть на музыкальных инструментах в Лондонском метро запрещено? Том вдруг почувствовал, что внутри него поднимается опасная волна гнева. Полицейские распугали всю его публику, которая наконец начала собираться, привлеченная прекрасной музыкой, и кидать монетки в футляр. Но хуже всего было то, что рок-группа за углом продолжала свой долбеж.
Один из полицейских спросил имя и адрес Мюррея.
– А с чего это я должен вам докладывать? – огрызнулся тот.
– Уверен, что у вас нет особенных причин скрывать ваше имя, сэр.
Обращение «сэр» не производило на Тома такого же впечатления, как на Джарвиса.
– Вольфганг Амадей Моцарт из Зальцбурга, – буркнул он.
Стражи порядка приказали ему следовать за ними, обыскали и отпустили, заставив, впрочем, заплатить штраф. Музыкант их недооценил.
В итоге его сегодняшний заработок уменьшился на фунт. Проклиная полицию и строя планы жестокой мести, Том спрятал в карман оставшиеся деньги. Внезапно у него заболела голова. Полицейские вывели его за турникет и теперь, если он хотел вернуться назад, то должен был купить новый билет. Флейтист решил поехать домой на автобусе и начал подниматься наверх, к солнцу. Как и большинство людей, толпившихся в билетном зале на «Оксфордской площади», он не обратил внимания на комнату видеонаблюдения с шестью экранами внутри, хотя заглянуть туда сквозь стеклянные стены мог кто угодно.
Внутри сидел помощник начальника станции и смотрел на экраны. Два из них показывали Центральную линию: один – восточную платформу, второй – западную. Еще два – линию Бейкерлоо. Остальные – Викторию, где от северной платформы как раз отходил поезд. Все экраны, кроме одного, показывали пустые пути. Помощник начальника станции проводил глазами уходящий поезд и краем глаза заметил другой, как раз прибывающий на Центральную линию с «Тоттенхэм-Корт-роуд». Он переключил внимание на соответствующий экран и увидел человека с медведем, стоящих на платформе.
Работник метро уже видел их прежде на этих экранах. Однажды он наблюдал, как они попрошайничали на платформе линии Виктория: «медведь» плясал, а «вожатый» наигрывал на губной гармошке. Помощник начальника показал пальцем на экран коллеге, заглянувшему в комнату видеонаблюдения.
– Я был в отпуске в Греции и видел там танцующего медведя. Тот, правда, скорее, просто подпрыгивал, чем танцевал, – сказал этот служащий.
– Это же не настоящий медведь! – возразил помощник начальника станции.
– Знаешь, как они их дрессируют? Кладут под ноги медведю горячие листы железа. Тут поневоле запрыгаешь. Жуть, короче. У нас бы такого никогда не допустили.
– Говорю тебе, это – человек. Лучше пойди посмотри, как бы они чего не натворили.
Служащий вышел. Человек и «зверь», закончив свое представление, направились к переходу на северную платформу Бейкерлоо, возникнув на другом экране. Помощник начальника станции решил, что его коллега сделал им внушение. Он наблюдал за этой парочкой до тех пор, пока те не сели в поезд. Эти типы внушали ему подозрения с тех самых пор, когда он впервые заметил их, хотя были всего-навсего побирушками, бродягами, хиппи, как звали таких в дни его молодости.
Тремя днями позже, в период затишья, наступавший после обеда, Джаспер, Деймон и Кевин приехали по Юбилейной линии в Лондон. На «Бейкер-стрит» они пересели на Бейкерлоо, а потом на Кольцевой – в поезд, идущий по часовой стрелке до Набережной. На станции «Западный Хэмпстед» не было автоматических турникетов: там стоял только контролер, мимо которого можно было прошмыгнуть, если народу проходило достаточно много или если он куда-нибудь отлучался. Сегодня контролер был на месте. Он уставился на мальчиков орлиным взором, едва те появились на станции, и не сводил с них глаз. Пришлось купить самые дешевые билеты, опустив монетки в автомат. Джаспер был на мели, и чтобы набрать хотя бы пятьдесят пенсов, ему пришлось выудить из карманов всю имевшуюся у него в наличии мелочь. Деньги, полученные в субботу от Брайана, были давно потрачены, а от пяти фунтов, которые сунул ему в прошлый понедельник Дэниэл Корн в обмен на обещание держаться от них с Тиной подальше, тоже почти ничего не осталось, кроме этих последних монеток. Если вместо того, чтобы торчать в школе, ты целый день раскатываешь по Лондону, деньги в карманах не залеживаются.
Денег Джаспер никогда не крал – только вещи. Однако иногда он об этом подумывал. На Риджентс-парк в вагон вошла женщина, которая села напротив него и поставила сумку на соседнее сиденье. Мальчик с жадностью смотрел на эту сумку, причем заметил, что то же самое делал и Кевин. Но в вагоне, помимо них, находились еще двое мужчин. Если бы друзья попытались украсть сумку, один из пассажиров наверняка бы нажал на оранжевую кнопку тревоги.
В поезде на Кольцевой Джаспер забеспокоился. На днях он слышал, как бабушка говорила Тине что-то насчет сомнительных дел, которыми, по ее мнению (естественно, ошибочному), он мог заниматься.
– В этом возрасте они ничего не боятся, – сказала она.
Тогда ее внук не стал выступать, хотя и был не согласен. Он много чего боялся, причем не мог справится со своими страхами. Хотя он даже не представлял, сколько новых страхов появится у него к тому времени, когда он вырастет. Сейчас, например, он тоже боялся. Но не праздновать же труса? Раз решил, значит, нужно идти до конца!
Крис прокатился на крыше от «Глочестер-роуд» до «Кенсингтон-Хай-стрит», и Джаспер собирался отправиться наверх следующим. «Зацепиться» на «Кенсингтон-Хай-стрит» и проехаться не только до «Ноттинг-Хилла», а до самого «Бэйсуотера». Никто из них, исключая Дина Миллера, не решался пока оставаться на крыше так долго. Джаспер уже начал потихоньку приноравливаться цепляться за крышу, хотя это до сих пор оставалось для него самой насущной проблемой. Крыши вагонов были такими гладкими и покатыми, что казалось, это было сделано преднамеренно. «Точно, – думал мальчик, – наверняка они сделали их такими нарочно». Он с сожалением вспомнил о старых вагонах, виденных им в музее, сейчас, увы, не использующихся нигде, кроме острова Уайт. Вот где можно было цепляться в свое удовольствие – хоть руками, хоть ногами, столько там было всяких выступов, фланцев и перегородок!
Основная масса пассажиров вышла на «Южном Кенсингтоне». После этого поезд почему-то долго не трогался с места, хотя никто в него так и не зашел. Деймон нудил, что хочет выскочить на перрон и купить шоколадку «Дейри-Милк», но боится, что поезд тронется и уедет без него. За это время он бы уже давно успел смотаться и купить сто шоколадок, а может быть, даже сбегать наружу и вернуться.
Джаспер немного струхнул, когда через дверь в торце в вагон зашел то ли железнодорожник, то ли охранник. Он уже привык думать об этих дверях, как о принадлежащих только ему и его друзьям. Мужчина прошелся по вагону, испытующе посмотрев на мальчиков, и скрылся в дверях на противоположном его конце. Джаспер давно заметил, что все взрослые, особенно мужчины, всегда смотрят на детей его возраста подозрительно, сурово и угрожающе. «Когда же это закончится? – спрашивал он себя. – Похоже, только когда я сам стану взрослым, потому что к подросткам они относятся еще хуже».
Когда железнодорожник скрылся из глаз, Кевин сказал:
– Прикинь, что было бы, если бы он вошел в тот самый момент, когда ты полез на крышу?
– Но я же еще никуда не полез, так? – возразил его приятель. – Значит, нечего об этом и гадать.
– Почему это нечего?
– Потому.
– А может, я хочу?
– Заткнись, а? – буркнул Джаспер. – На следующей станции я все равно туда поднимусь. Кто со мной?
Деймон явно не хотел на крышу. Именно у него в последний раз сдали нервы, и он вынужден был спуститься. Их с Джаспером взгляды встретились. Тот увидел страх в глазах друга и подумал о том, как странно, что такой смелый парень, не побоявшийся подделать подпись своей тетки на чеке, боится залезть на крышу вагона. Но он не собирался ничего говорить, хотя Кевин не преминул бы обозвать Деймона трусливым зайцем.
Из вежливости Джаспер спросил еще раз. Вообще-то, на крыше в одиночку было куда удобнее, и он был только доволен, когда Кевин тоже отказался, объявив, что поднимется потом. Отлично, что они все оставили его в покое! В конце концов поезд подъехал к «Кенсингтон-Хай-стрит». Джаспер открыл дверку и поднялся на крышу.
Он видел головы людей, заходивших в вагон, но никто из них не посмотрел в его сторону. Ни один человек не поднял головы. Мальчик вытянулся, изо всех сил вжавшись в металл и уцепившись пальцами за едва видный выступ над двойными дверями. Станция находилась под открытым небом. Оно было облачным и каким-то выцветшим. Справа маячило приземистое здание из красного кирпича. Прямо перед собой Джаспер видел зев туннеля, вроде бы достаточно высокий. Все выглядело так, что между ним и крышей туннеля будет не меньше ярда или даже больше.
Он предвкушал момент, когда поезд наконец тронется. На платформу прибывали все новые и новые пассажиры – станция была крупной, – но в стоящие вагоны никто больше не заходил. Все они ожидали других поездов, идущих по линии Дистрикт на Уимблдон или по Кольцевой в восточном направлении. Джаспер чувствовал, как пересохло у него в горле. Кажется, страх начинал брать свое. Лучше бы он сейчас был уже в туннеле! Когда двери закрывались, он почувствовал легкую вибрацию, похожую на слабое покалывание. Поезд мягко тронулся с места и нырнул в зев туннеля.
Сразу же наступила темнота. Запах внутри был резкий, маслянистый, напоминающий бензиновую вонь. Юный зацепер повернул голову и посмотрел сначала вправо, затем влево, но ровным счетом ничего не увидел. Свет из окон не достигал верхней части туннеля, так что кирпичная кладка и кабели, хорошо видимые из вагонов, скрывались во мраке. Путь здесь был прямым, без поворотов, поэтому удерживаться на крыше оказалось легче, чем предполагал Джаспер.
А вот темнота была ужасна. Мальчик не подозревал, что она может быть такой глубокой, густой, какой-то мохнатой. Учитель в школе объяснял, что темнота – это всего лишь отсутствие света, но его определение оказалось неверным. Темнота была сплошной, будто сделанной не из воздуха, а из плотной ткани, накрывшей Джаспера с головой, словно вонючее толстое одеяло. Ему захотелось поднять голову и поискать хоть лучик света, но он хорошо помнил, что потолок туннеля мог быть ниже, чем ему казалось. А о всяких штуках, которые могли торчать из потолка, лучше было и вовсе не вспоминать. Хотя там могли быть какие-нибудь металлические прутья или балки, свисающие вниз, словно сталактиты в пещерах. Да уж, о таком лучше было вообще не думать!
Вдруг над головой мальчика промелькнул свет, настолько яркий, что в это почти невозможно было поверить: поезд прошел под одним из вентиляционных колодцев. Но светлый миг был слишком краток, и Джаспера снова поглотила тьма. Дин рассказывал ему, что тут должен быть другой колодец, куда больше первого. И действительно, далеко впереди уже показалось тусклое свечение. Поезд ворвался в яркую белизну неба, отороченную зеленью – похоже, наверху находился сад. Но тут туннель закончился, поезд начал тормозить, и ребенок вновь почувствовал снижение скорости как дрожь, пробегающую по его ногам.
«Ноттинг-Хилл-гейт».
Арки из желтого кирпича с обеих сторон напоминали пролеты моста. На платформы вели обыкновенные лестницы – станция была не настолько глубока, чтобы сооружать здесь эскалаторы. Когда вагон подъехал к платформе, Джаспер приподнял голову и оглянулся. Потолок в туннеле казался ему пугающе низким, но с того места, где он сейчас находился, кирпичная арка выглядела довольно высокой. Мальчик приободрился. Все оказалось легче легкого и просто замечательно. Он доедет до Бэйсуотера, а может быть, даже до Пэддингтона. Потом надо будет подумать о куда более длинном участке от «Бейкер-стрит» до «Финчли-роуд», где поезда линии Метрополитен на полной скорости проносятся мимо старых заброшенных призрачных станций.
Двери закрылись. Поезд вздрогнул и плавно тронулся с места. Джаспер вцепился пальцами во фланец над дверью. Он почувствовал, что поезд начал покачиваться, набирая скорость, приподнял голову и взглянул на зев туннеля впереди.
Здесь не было кирпичной арки, вроде той, которую он проехал: вместо нее имелось металлическое перекрытие. Свод туннеля не был выгнут, и казалось, что металл едва не задевал крышу первого вагона. Этот зеленый металлический занавес был похож на полуопущенную гильотину, смертельный барьер, готовый снести все, что окажется на его пути, например чью-нибудь голову. И это была только первая ловушка, изготовленная из окрашенного в зеленый цвет металла. Впереди ждали еще пять или шесть.
Мальчик зажмурился. Перегородка медленно, но верно приближалась по мере того, как поезд наращивал скорость. «Сейчас мне отрубит голову», – подумал ребенок и замер, словно парализованный. Он как будто приклеился к крыше и окаменел: спина выгнута, голова приподнята, руки онемели. Зеленый барьер поджидал его. Он не поднимется, не исчезнет с его пути, подобно двери в супермаркете. Это не была мягкая зеленая губка, вроде той, в которую его бабушка втыкала срезанные цветы, это был твердый металл, готовый смахнуть Джаспера с крыши, швырнуть его о кирпичную стену, размазать по рекламным плакатам, разбить вдребезги. Но первым делом будет удар по голове, словно огромным молотом.
От ужаса по телу ребенка прошла нервная судорога. Он напряг ноги, встал на четвереньки, словно бегун на старте, закричал и прыгнул. И приземлился прямо в мешанину поднятых лиц и раззявленных ртов, круглых, словно множество букв «О».
Но он не разбил голову, не переломал ноги, не свалился кому-нибудь на спину и не шлепнулся на платформу. Джаспер упал прямо в мохнатые объятия медведя. Вагон, на крыше которого он находился всего мгновение назад, скрылся под зеленым ножом гильотины.
Глава 12
Позже, когда Джаспер рассказывал о случившемся Бьенвиде, он говорил, что был уверен, что умер. И что медведь – это один из обитателей тех мест, где бы они ни находились, куда попадают все мертвые. Прежде мальчик сам рассказывал сестренке истории о загробном мире, населенном медведями, волками и птеродактилями.
Впрочем, в тот момент он не мог вообще ни о чем думать. В нем боролись страх, удивление, облегчение и снова – страх. Сначала его испугали медвежьи объятия, но потом он разглядел между оскаленными челюстями хищника улыбающееся человеческое лицо. Когда «медведь» опустил Джаспера на пол, инстинкт приказал ему убираться как можно быстрее. Взбежать вверх по лестнице и со всех ног удирать с этой самой станции «Ноттинг-Хилл». Прежде всего, он боялся наказания, которое могло последовать со стороны служащих метрополитена, и ожидал, что его сцапает какой-нибудь тип в форме железнодорожника. В эпоху королевы Виктории шалун, попытавшийся забраться, к примеру, в фальшивые дома на Лейнстер-Гарденс, рисковал быть схваченным за ухо. В нынешние времена Джаспер мог ждать, что его возьмут за плечо и без всяких сантиментов препроводят в какой-нибудь офис, может быть, даже в полицейский участок, а потом он предстанет перед судьей.
Его действительно задержали, но это был не человек в форме, а самый обычный мужчина – по крайней мере, так казалось на первый взгляд. Это был товарищ «медведя», сказавший ему что-то, пока тот держал юного экстремала на руках. Этот тип и схватил мальчика за руку. Джаспер попытался вырваться, но человек держал его крепко, сказав ему:
– Я хочу с тобой побеседовать.
Ничего необычного в таких словах не было. Именно так разговаривала определенная категория взрослых. Джаспер давно заметил, что если таким людям случается столкнуться с неправильным поведением себе подобных, то со взрослыми они обычно ведут себя сдержанно, но когда дело касается детей, от их робости не остается и следа. Для того чтобы сделать выговор маленькому нарушителю, им не обязательно быть чьими-то матерью, отцом или учителем. Поэтому мальчик решил, что высокий бородач с глазками-буравчиками и волосами, связанными в хвост, сейчас заведет волынку о том, понимает ли он, Джаспер, как опасно «зацеперство», и о том, что он мог погибнуть, после чего препроводит его к начальнику станции или сдаст полицейским, патрулирующим подземку. Подумав об этом, мальчик вновь попытался вырваться:
– Отпустите меня, сэр!
Толпа, собравшаяся вокруг них, начала терять интерес к случившемуся, ведь никто не умер, не пострадал и даже не понес заслуженной кары. Только одна женщина сказала:
– Надо бы его примерно наказать.
По толпе пробежал одобрительный ропот, и кто-то добавил что-то вроде: «Кто знает, куда его заведет подобное поведение?» А мужчина, державший Джаспера, произнес:
– По крайней мере, ты должен хотя бы поблагодарить мишку.
В толпе засмеялись. Мальчик пробурчал:
– Ладно. Спасибо вам. Теперь мне можно уйти?
Но человек и не подумал ослабить хватку. Кольцо на одном из его пальцев больно врезалось ребенку в ладонь. Втроем они продолжали стоять на платформе, словно ожидая поезда. Люди вокруг начали расходиться, на их место прибывали другие.
– Ты не слышал? Я хочу побеседовать с тобой, – повторил незнакомец.
– Вы делаете мне больно! – заныл Джаспер.
– Может быть, но если я тебя теперь отпущу, ты тут же смотаешься, а нам обязательно надо поговорить. Не бойся, нотации о твоем поведении я тебе читать не собираюсь.
– Ничего я не боюсь! – возмутился малолетний нарушитель порядка. – Просто не хочу угодить в полицейский участок, вот и все.
– Так же, как и я, – усмехнулся дылда. – Да, так же, как и я. Похоже, мы с тобой придерживаемся единого мнения по этому вопросу, прямо как братья-близнецы.
– Меня не забудьте включить в ваше братство, – встрял в их разговор «медведь».
Подошел поезд. Вагоны опустели и снова заполнились пассажирами. Высокий тип показал Джасперу на зеленый «занавес».
– У тебя бы все получилось, – сказал он. – Никакой опасности не было. Это кажется, что потолок низкий, а на самом деле расстояние там больше двух футов.
Джаспер, уже начавший приходить в себя, посмотрел на уходящий поезд. Сам он не был так уж уверен в полном отсутствии опасности.
– Вам-то откуда знать? – огрызнулся мальчик. – Вас там не было.
На этот раз тип не ограничился улыбкой, а принялся хохотать.
– Ладно, – сказал он сквозь смех, – пойдем.
Когда они взошли на эскалатор, хватка незнакомца чуть ослабела. Наверху же Джаспер и вовсе был отпущен. Если до этого он хотел во что бы то ни стало удрать, то сейчас передумал. Живя в мире, где дети могут подвергнуться всяческому насилию, он прекрасно понимал, как в глазах окружающих выглядит взрослый мужчина, силой удерживающий ребенка его возраста. Очевидно, высокий тип исходил из тех же соображений и именно поэтому и отпустил своего «пленника», и мальчик чувствовал, что тот сейчас всецело в его власти. Когда они вошли в билетный зал, маленький «зацепер» напустил на себя независимый и важный вид. В подземном переходе, лестницы которого вели на северную платформу «Ноттинг-Хилл-гейт», толпились бродяги. «Медведь» зашел в мужской туалет и вышел оттуда уже в человеческом обличье. Нижнюю часть его лица скрывал шарф, а верхнюю – низко надвинутая шляпа. В руке он держал полиэтиленовый пакет с костюмом медведя.
Напарники отвели малолетнего экстремала в пиццерию. Только оказавшись там, он почувствовал, насколько же голоден. «Медведь», который не был больше медведем, занял очередь, а Джаспер с высоким человеком сели за столик в углу. В помещении было жарко, так что мальчик снял курточку и повесил ее на спинку стула. Мужчина напротив него был чернобород и черноус, а его губы казались тонкими и красными. На пальце поблескивало кольцо, сделанное из двух разных металлов. Одет он был в черные джинсы и черно-желтую полосатую футболку, делающую его похожим на осу. На плечи у него было накинуто длинное, черное же пальто, доходящее почти до щиколоток.
Пока они ожидали заказа, он представился:
– Меня зовут Аксель Джонас, а тебя?
– Джаспер, – мальчик немного помедлил, раздумывая, называть ли свою фамилию.
На самом деле, он не был уверен в том, какая у него фамилия. Вроде бы – Эльфик, но в последнее время все называли его Дарн, потому что именно так обычно представлялась его мать. Но потом он вспомнил о Музее транспорта, карманных деньгах и вообще о том, как хорошо относится к нему Брайан, и сказал:
– Джаспер Эльфик.
– Ты можешь звать меня Акселем. А медведя зовут Айвен. Фамилия у него, конечно, имеется, но есть и веские причины ее скрывать.
– А почему он одевается медведем? – поинтересовался мальчик.
– Это его забавляет, – ответил Аксель. – Меня, кстати, тоже.
Джаспер подумал, что тон его собеседника очень похож на ледяной голос какого-нибудь следователя из фильма про шпионов. Но страшно ему нисколечко не было. В пиццерии было много посетителей, на улице тоже полно народу… Стоял яркий, прохладный, свежий осенний денек. Чего ему бояться?
Вернулся Айвен с нагруженным подносом. Он так и не снял ни шарфа, ни шляпы. Джаспер с удивлением обнаружил, что новый знакомый взял всем одинаковую еду и одинаковые напитки. На его памяти такое случилось впервые. Когда ему доводилось посещать с кем-либо из взрослых рестораны или кафе, те всегда заказывали себе пиво, вино, салаты, кофе и тому подобную несъедобную гадость. Айвен же с Акселем взяли пиццы с грибами и пепси-колу, причем у всех троих пицца была одинакового размера.
До сих пор Айвен не произнес ни слова, за исключением шутливой просьбы принять его в их братство. Во время еды он поправил шарф и немного сдвинул шляпу и оказался самым уродливым человеком, какого Джаспер когда-либо видел, а кроме того, еще и самым необычным. Черты его лица вообще не выглядели человеческими, до того они были искажены. Глазки – крошечные, запавшие, широко расставленные. Нос – прямой, но самый его кончик сплющен, как утиный клюв. Расстояние между ним и верхней губой было вдвое больше, чем у нормальных людей, причем посередине красовался вертикальный шрам. Выглядело это так, словно прежде там находился разрез, который потом зашили. Джаспер никогда в жизни не видел ничего подобного. Если Аксель стягивал свои черные волосы в хвост, то жесткие кудри Айвена торчали из-под шляпы во все стороны и цветом действительно смахивали на шерсть бурого медведя.
Мальчик постарался как можно точнее запомнить его внешность, чтобы потом подробно описать ее Бьенвиде. Он ждал, что рано или поздно новые знакомые раскроют свои карты. Раз уж они не собирались читать ему нотации, значит, им что-нибудь от него нужно. Улица воспитала Джаспера и невинным, и циничным. Нередко становясь свидетелем сцен секса, насилия и горя, он, одновременно, знал все и ничего. Ребенок предполагал, что Аксель с Айвеном намереваются заманить его к себе домой и сделать с ним что-нибудь нехорошее. Что-нибудь вроде того, чем занимались Дэниэл Корн и Тина, за которыми он, случалось, подглядывал. Или сфотографировать его голым. Джаспер слышал о таком. Но в пиццерии толпятся посетители, а бегает он быстро. Главное – успеть проглотить пиццу.
И Аксель добродушно позволил ему это сделать. Каждый из них съел по половине, когда он, наконец, поинтересовался:
– И часто ты это делаешь? Я имею в виду катание на крышах поездов.
– Иногда, – осторожно ответил его юный собеседник.
– А где ты обычно этим занимаешься?
– В смысле?
Вместо ответа Аксель продолжил спрашивать:
– В подземке полно старых станций, правда? Тех, которые больше не используются?
– Ага, призрачные станции, – кивнул Джаспер, принимаясь за вторую половину пиццы.
– Так их называют? Ты их когда-нибудь видел?
– Есть несколько таких между «Бейкер-стрит» и «Финчли-роуд». На линии Метрополитен. Наверное, когда-то у них были названия, но я их не знаю.
– Но ты их видел? Ведь ты должен был видеть эти станции с крыши поезда!
Мальчик ничего такого не видел. Скорее, эти угрюмые пустынные платформы можно было рассмотреть изнутри вагонов, а не с крыши, но об этом он решил не говорить Акселю и лаконично ответил:
– Да.
– Скажи мне, Джаспер, как ты думаешь, можно ли попасть на эти станции? И можно ли потом выбраться оттуда наружу?
Джонас вдруг заговорил, как школьный учитель, хотя до этого разговаривал как нормальный человек, вроде Тининых приятелей. Действительно, последние фразы он произнес точь-в-точь как преподаватель, бывший у Джаспера в прошлом году, из-за холодных и властных манер которого мальчику приходилось частенько прогуливать занятия.
– Не знаю, – ответил маленький экстремал.
– Ладно. А поезда, случайно, не замедляют ход, подъезжая к таким станциям?
– Наоборот, проносятся на полной скорости до самой «Финчли-роуд», – снова соврал Джаспер, стараясь говорить так, чтобы его хвастовство выглядело правдоподобно. – А почему вы об этом спрашиваете?
Понятно, что Аксель не собирался ничего ему объяснять – его лицо было абсолютно непроницаемым, словно у мертвеца. Это бесстрастное каменное выражение совсем не понравилось мальчику. Он перевел взгляд на Айвена, и тот произнес своим комичным свистящим голосом, подчеркивая каждое слово:
– Он имеет в виду, нет ли какого-нибудь способа выбраться с такой станции на улицу. Через канализационный люк, например?
– Не знаю, – повторил Джаспер.
– Может быть, можно как-то спрыгнуть с поезда на одной из этих – как ты их там называешь? – призрачных станций, а потом снова забраться на поезд?
– Говорю же вам! – воскликнул ребенок. – Они там не останавливаются!
Он уже начинал злиться. Многочисленные телефильмы и комиксы учили его, что он должен отказаться отвечать на вопросы, пока ему не предложат еще одну пиццу. Он должен потребовать плату за предоставляемые сведения, вот. Но как только мальчик подумал об этом, горло его пересохло, а аппетит мгновенно пропал. Его смелость испарялась буквально на глазах. Вдруг ему в голову пришла спасительная идея:
– Вам может помочь Джарвис.
– Что еще за Джарвис? – резко спросил Аксель.
– Один человек, – осторожно сказал Джаспер. Никакой пиццы ему больше не хотелось. – Могу я теперь уйти?
– Подожди минутку, – вышел из своего странного замороженного состояния Джонас. Его лицо вновь ожило, и он заулыбался. Зубы у него были очень белыми, чистыми и ровными. Джаспер подумал, что обязательно должен описать все это Бьенвиде: черная борода, красные губы, белые зубы и волосы, связанные в хвост шнурком от ботинок.
Конечно, множество мужчин связывают волосы в хвост, но чаще всего их хвостики похожи на крысиные или на макушке у них красуется лысина. Прическа же Акселя напоминала Джасперу голову статуи XVIII века, виденную им в Музее мадам Тюссо, куда они ходили вместе с Брайаном. Волосы у этого типа были густы и блестели, как вороново крыло. Мальчик не удивился бы, если бы у этого человека обнаружились острые клыки, как у Дракулы. Может быть, он даже скажет Бьенвиде, что они были.
– Так кто такой этот Джарвис? – не отвязывался от него новый знакомый.
Джаспер сделал глубокий вздох и сказал:
– У меня нет денег, чтобы добраться до дома.
– А пешком ты дойти не можешь?
– В Западный Хэмпстед?!
– Ага! – воскликнул Джонас. – Значит, ты живешь в Западном Хэмпстеде? А Джарвис тоже там живет?
Мальчик промолчал. Ему стало казаться, что он вместе со всей пиццерией попал в детективный фильм. Он подумал, что был полным дураком, когда подозревал этих типов в намерении сделать с ним что-то такое, что делают мужчины с женщинами. Он бы обозвал себя наивным, если бы знал это слово. Нет, здесь речь шла о самом настоящем, серьезном преступлении.
– Так кто такой Джарвис? Он живет с вами? – снова спросил Аксель.
– Может быть, – ответил Джаспер так, как обычно отвечают в кино.
– Все ясно, это приятель твоей матери, – как бы между прочим произнес Айвен.
– Неправда! – воскликнул ребенок с негодованием, какое обычно возникает, когда собеседник абсолютно неправильно понимает ваши слова.
– Ладно, неважно. Так почему именно он может нам помочь?
– Джарвис знает все о подземке. Он писатель, – Джаспер, лихорадочно взвешивавший различные варианты, выдал часть информации, казавшуюся ему бесполезной, решив потянуть кота за хвост. – Он наш кузен.
– Я бы хотел потолковать с ним. Где конкретно ты живешь в этом вашем Западном Хэмпстеде?
План мальчика придерживать информацию до тех пор, пока ему не дадут денег, трещал по швам. Он просто боялся это делать. Боялся, несмотря на то, что был окружен толпой народа. Он поднял курточку, упавшую со стула на пол. После его поездки на крыше вагона она вся была в грязных пятнах. Пробормотав что-то о холоде, ребенок надел ее. Аксель Джонас внимательно наблюдал за ним.
– Странная у тебя манера выражать благодарность своим спасителям, – проворчал он.
– Вы же сами сказали, что никакой опасности не было, – торжествующе возразил Джаспер. – Раз там было достаточно места, значит, ни от чего вы меня не спасли.
Он перевел взгляд с одного соседа по столу на другого, а потом вдруг вскочил и бросился вон из пиццерии. Мальчик летел как ветер, лавируя между прохожими и подныривая под чьи-то локти, потом перебежал на другую сторону улицы, пренебрегая светофорами и проезжающими машинами, и нырнул в подземный переход, скатившись вниз по лестнице мимо расположившихся на ней чумазых бродяг.
Наверняка те двое за ним погнались. По каким-то причинам он был им нужен, знал что-то, что их интересовало. Но у него оказалась хорошая фора, а подземка была для него открытой книгой. Отсутствие денег представляло, конечно, определенную проблему, но, в принципе, не слишком серьезную: Джаспер просто подлез под турникет. Достаточно было подождать, пока законопослушные граждане сунут в прорезь билет, а потом успеть прошмыгнуть под его отделанными кожей захлопывающимися челюстями.
Куда теперь? Налево или направо? Направо – Кольцевая, откуда он прибыл. Они наверняка решат, что именно туда он и направится. А ведь ему, в общем-то, совершенно все равно, куда ехать: по Кольцевой до «Бейкер-стрит» и потом по Юбилейной до станции «Западный Хэмпстед» или по Центральной до «Бонд-стрит», а уже затем – по Юбилейной. Что так, что эдак. Джаспер проскочил два эскалатора, движущихся в глубь туннелей Центральной линии – поезда там ходили чаще, а это ему и было нужно.
Но если он опоздает и странная парочка будет ждать его на платформе, скрыться ему не удастся. Джаспер бежал так, как не бегал никогда в жизни, от входа на станцию его уже отделяла куча народу. Едва он подскочил к платформе, как подошел поезд на «Ливерпуль-стрит». Если они успеют сесть в вагон одновременно с Джаспером, то он окажется беззащитен. Может, выйти на «Квинсуэй»? Попытаться запутать следы? Нет, плохая идея, там нет эскалаторов, только лифты, и если они разгадают его маневр и тоже выйдут на этой станции, он окажется в ловушке.
Это если они успеют на поезд. Что, конечно, маловероятно. На «Бонд-стрит» мальчик выскочил из последнего вагона, чувствуя себя так, словно на него поставили клеймо. Одинокий ребенок сразу бросается всем в глаза, он не может скрыть ни свой возраст, ни свой рост. Джаспер чувствовал себя маленьким затравленным зверьком. Его сердце колотилось, как сумасшедшее. Но отдохнуть он не мог, ему нужно было бежать. На «Бонд-стрит» гулял ветер, да такой, что на эскалаторе его чуть не сбило с ног.
Похоже, никто его не преследовал. Джаспер стоял, ждал поезда, следующего по Юбилейной линии до «Грин-парк», и думал: «А вдруг они уже добрались туда и поджидают его? Нет, невозможно. Им никак не успеть. Может быть, ранним воскресным утром, если на такси, но не на метро теперь. Никак не по Кольцевой до «Глочестер-роуд», да потом еще по Пикадилли до «Грин-парк», а иначе им сюда не добраться».
Он зашел в вагон, чувствуя себя разведчиком времен войны, заброшенным в Берлин. В его голове разворачивался фильм – полувымышленный, полуреальный, о беглеце, спасшемся в последнюю секунду. Герой с облегчением садится в присланный за ним лимузин, а в нем его уже поджидают ухмыляющиеся враги. В вагоне было только два пассажира – чернокожий мужчина и белая женщина. Оба выглядели уставшими и подавленными. Вслед за Джаспером в вагон ввалилась целая толпа. Он подумал: «Я в порядке, со мной все хорошо. Интересно, что они предпримут? Да ничего! Ничего они не смогут теперь поделать!»
По приезде в Западный Хэмпстед у него мелькнула мысль, не пробраться ли домой окружным путем. Еще не было и трех часов – слишком рано, чтобы возвращаться с занятий. Мальчик мог бы пройти через Вестхэмпстедские «Конюшни», вместо того чтобы прямо отправляться туда, где находилась «Школа», или идти через мост. Почему-то он был уверен, что ему ни в коем случае нельзя привести тех двоих в дом Джарвиса.
Но никто его не преследовал. Он совершенно свободно вышел из поезда и спрятался за стендом со схемой метро и какими-то афишами. Вышло довольно много людей, но ни Акселя Джонаса, ни Айвена, у которого «имелись причины скрывать фамилию», среди них не было.
Хотя они могли приехать и на следующем поезде… Джаспер поднялся по ступенькам. На выходе стоял контролер, а у него не было ни билета, ни денег. К счастью, у турникета выстроилась очередь, и когда мальчик встал в ее конец, то с облегчением заметил, что и позади него тоже скопилась целая толпа. Он от всей души надеялся, что кто-нибудь начнет перепалку с контролером и отвлечет внимание последнего. Удача ему улыбнулась. Женщина, стоявшая за пару человек от него, предъявила просроченный проездной, и, пока контролер тщательно его рассматривал, Джаспер проскользнул мимо стоящего впереди мужчины, поднырнул под рукой женщины и бросился бежать. Вслед ему донесся крик: «Стой! А ну-ка вернись!»
Он свернул в индийский магазинчик. Вряд ли контролер за ним погнался – ведь он не мог оставить свой пост. Джаспер начал разглядывать полки с кукурузными хлопьями и кошачьим кормом. От прилавка до него донесся запах шоколада, и рот наполнился слюной. Хозяин-индус буравил маленького посетителя взглядом, полным ненависти и жажды мщения, подозревая, что он – один из воришек, которого пока не удалось поймать на горячем.
Джаспер прогулочным шагом покинул лавочку. Со стороны станции шло множество людей. Приехали ли они из Стэнмора или с «Набережной»? По крайней мере, Акселя Джонаса и «бесфамильного» Айвена среди прохожих не было. А вдруг он их пропустил? Вдруг они сошли с какого-нибудь другого поезда, пока он торчал в индийском магазинчике? Мальчик был почти уверен, что это не так, что никакого другого поезда не было. Но тут, впервые в жизни, его охватило то иррациональное чувство, когда точно знаешь, что какое-то событие совершенно невозможно, вернее, невозможно на девяносто девять процентов, что оно немыслимо и вообще противоречит всякой логике, но этот один-единственный процент никак не дает тебе покоя, заставляя трепетать от страха.
Джаспер свернул на Блэкберн-роуд и поднялся на мост. Оттуда открывался прекрасный вид на обе платформы. Проехал поезд из Килбурна, а потом еще один со стороны Финчли-роуд. Среди вышедших пассажиров тех двоих видно не было, но ребенок все равно напрягся. Он спустился на мощенную кирпичами улочку и окольным путем пошел домой через Прайори-роуд и Компэйн-гарденс.
До сих пор он как-то не задумывался, что дом бабушки вполне может стать для него убежищем. Эта идея не нашла воплощения ни в словах, ни даже в мыслях – мальчика вел инстинкт, та животная часть его натуры, доставшаяся нам от тех, кто когда-то прятался в норах или дуплах. Джасперу внезапно стукнуло в голову, что у бабушки он будет в полной безопасности и к тому же там наверняка найдется что-нибудь вкусненькое.
Когда Джед Лори вернулся из Кента с курсов для сокольников, никто даже не упомянул, что ястреб весь день пронзительно кричал. Крики прекратились только после того, как он покормил своего питомца. Ночью, когда Джед уходил с «Защитниками», птица молчала. Молчала она и тогда, когда хозяин выгуливал ее на Лугу, спутав ей лапки и посадив себе на запястье. Однажды он даже съездил с ястребом на охоту в окрестности Барнета. Но когда эту птицу, голодную – а иначе она отказалась бы охотиться, – возвращали на насест, она начинала истошно вопить.
Лори не беспокоило то, что ястребиные крики могут помешать его соседям по дому. Он был глубоко убежден, что они, в отличие от него самого, не обращают на ястреба ни малейшего внимания. Когда-то, пятнадцать лет назад, Джеда можно было назвать уважаемым домовладельцем и отцом семейства. Тогда плач маленькой дочки по ночам казался ему невыносимым. Он просто не мог спокойно слушать, как она рыдает, сразу же брал ее на руки, начинал ходить с ней по комнате и давал ей бутылочку, к неудовольствию и раздражению своей жены. Плач ребенка разрывал ему сердце. При этом умом молодой отец понимал, что всех остальных ее плач нисколько не трогает. В одну такую кошмарную ночь в их доме гостила его мать, которая, несмотря на крики младенца, преспокойно проспала до утра, так ничего и не услышав. Она проснулась довольная и веселая и с удивлением узнала, что ее внучка всю ночь напролет не сомкнула глаз.
Так было с ними со всеми, Лори в этом не сомневался. Они просто ничего не слышат. Слышит только он один. Когда он возвращался в пять вечера с работы, то, приближаясь к «Школе», молил о том, чтобы его встретила тишина, которая бы показала, что ястреб наконец все понял и примирился со своим положением. Но этого никогда не случалось. Еще издали до Джеда доносились пронзительные вопли, похожие на завывание ветра. Тогда он думал, сознавая, впрочем, абсурдность и мелодраматичность этой мысли: «Это плачет моя душа».
С какой жадностью его птица ела! Хозяину казалось, что ястреб умирает с голоду, что он постоянно лишает своего любимца единственной радости в жизни. Но несколько минут спустя, после того, как за Лори закрывалась дверь, крики возобновлялись. Так и не сняв куртку, карманы и подкладка которой были запятнаны кровью, Джед сидел в своей комнате, бывшем старшем шестом классе. В ней не было холодильника, поэтому вся она провоняла однодневными цыплятами, желтыми и скользкими, гниющими в ведре. Он сидел и думал, как любит своего ястреба – ему казалось, что он не любил никого на свете, кроме Абеляра. И вот ему приходится мучить и морить голодом того, кого он любит…
А в теряющем осеннюю листву саду ястреб продолжал свой безутешный плач.
Сидя в «переходном классе», Джарвис напечатал последнюю строку первой половины своей «Истории лондонской подземки». Теперь можно отложить книгу и вернуться к ней месяца через три. А через две недели он будет уже в России. Не слишком удачное время года для путешествия, поскольку приближалась зима. Но Стрингера, не побоявшегося ради изучения систем метрополитенов отправиться в августе в Вашингтон, а в январе в – Хельсинки, не пугали ожидавшие его снег и морозы.
Он предвкушал, как побывает, например, в Москве на станции «Пушкинская» с ее свисающими с потолка подземного вестибюля хрустальными люстрами. Беспокоило его лишь то, что ему могут отказать в посещении строящегося метро в Омске, и, сидя за печатной машинкой в своей комнате, пол которой немного дрожал от проходящих поездов, Джарвис сам начинал дрожать от этой ужасной мысли. Он должен это увидеть! Правда, у него не было доказательств, что в Омске на самом деле строят метрополитен. Может быть, это были только слухи, которые его приятель из «Интуриста» не мог – или не хотел – подтвердить или опровергнуть. Что ж, по крайней мере, он должен попытаться разузнать все на месте.
Бьенвида, вернувшаяся из школы, зашла в дом через заднюю дверь. Во дворе орал Абеляр. Девочка знала, что Джед уже вернулся, поскольку до нее донесся запах сигаретного дыма. В окне «переходного класса» она заметила Джарвиса. И все же она чувствовала себя одиноко в огромном пустом пространстве «Школы», абсолютно равнодушном к тому, существует Бьенвида или нет.
Девочка переоделась в платье. Все дети носили в школе джинсы или тренировочные штаны, и Тина заявила, что если дочь нацепит юбку, то будет выглядеть белой вороной. Поэтому на занятия Бьенвида тоже надевала джинсы. Но нравились ей только платья, в них она чувствовала себя куда удобнее. Сейчас она надела платье в сине-зеленую клеточку с беленьким воротничком. Они купили его с бабушкой и тетей Дафной в «Маркс-энд-Спенсер» на Оксфорд-стрит. Потом девочка накинула на плечи школьный пиджачок и взяла розовую пластиковую сумочку, которую ей подарил на день рождения Джаспер, стащив в торговом центре на Брент-Кросс. Бьенвида собиралась к бабушке.
Придя к ней, внучка с порога объявила, что Тина сидит дома и гладит. Она придумала это по пути на виллу: сначала у нее была мысль рассказать о том, что «мама пьет чай вместе с двумя леди», но потом эта выдумка показалась ей совсем уж неправдоподобной для того, кто отлично знает, что собой представляет ее мать. Девочка обрадовалась, застав на вилле своего старшего брата. Пока Сесилия готовила для них с братом сэндвичи, тот спросил:
– Рассказать, что со мной сегодня случилось?
– Ну, давай.
– Предупреждаю, это будет ужасно.
– Ничего, иногда мне нравится пугаться.
– Я думал, что умру, – объявил Джаспер.
– Но ты же не умер!
Тогда мальчик рассказал ей о том, как ездил на крыше поезда, об Акселе Джонасе и о медведе, оказавшемся Айвеном, который должен скрывать свою фамилию. Дети видели фильм «Призрак оперы», и Джаспер сказал, что лицо Айвена выглядело точь-в-точь как у призрака, когда тот снял маску. Еще он сказал, что Аксель наверняка самый настоящий вампир, с такими-то подозрительными зубищами.
– А что такое вампир? – заинтересовалась его сестра.
– Ну, Дракула.
– То есть он как Дракула кусает людей за шеи и ест их кровь?
– Точно! – кивнул Джаспер. – Только вампиры кровь не едят, правильно говорить «пьют» или «сосут».
Бьенвида вскрикнула, словно Абеляр. Ее брат, вполне пришедший в себя после приключения, захохотал от удовольствия. Сесилия, услышав его смех, подумала о том, как счастливы и радостны дети, и сказала себе, что все в их жизни идет хорошо, просто замечательно. Тина понемногу остепеняется, становится нормальной женщиной и даже хорошей матерью. Все устраивается как нельзя лучше.
В половине седьмого, посмотрев выпуск новостей, она позвонит Дафне и расскажет ей о визите внуков. Надо будет упомянуть и о том, что Тина не забывает о глажке – главное, суметь ввернуть это как бы между прочим. А потом выслушать жалобы несчастной Дафны на последние проделки Питера, который наверняка «выкинул очередную глупость».
Дети находились в бывшей раздевалке, когда прозвенел звонок в дверь. Тины дома еще не было. Ее сын и дочь использовали раздевалку как свое «тайное убежище». Они натащили туда подушек и одеял, а кроме того, Джаспер принес еще и радиоприемник – что-то вроде мини-бумбокса, который подарил ему Брайан, несколько упаковок японских рисовых крекеров (которые им не нравились, но именно их мальчику удалось украсть в индийском магазинчике), свечи, спички, сигареты и полбутылки энергетика «Люкозейд», выкинутого Джедом в мусорное ведро. Бьенвида ее нашла и преподнесла брату. Одна девочка в классе сказала ей, что в этом напитке содержится кокаин.
– Да не кокаин, а кофеин, – поправил Джаспер. – Объясни это своей подружке, чтобы она больше не садилась в лужу. Но я все равно его выпью, мне он нравится.
Бьенвида и сама прекрасно умела читать, тем не менее она ужасно любила, когда брат читал вслух. Сейчас Джаспер читал книжку, найденную под кроватью матери, с той стороны, где спал Дэниэл Корн, – это был «Граф Окстьерн» Донатьена Альфонса Франсуа маркиза де Сада. Рассмотрев картинку на обложке, они решили, что это – книжка о вампирах.
Итак, они услышали дверной звонок и то, что кто-то пошел открывать. Судя по звуку шагов, это была Алиса. Из раздевалки не очень хорошо было слышно, о чем говорят у порога или в вестибюле. Джаспер глотнул «Люкозейда» и продолжил чтение.
Наконец кто-то вошел в дом. Джаспер услышал голос Алисы. Прозвучало имя Тины. Потом заговорил мужчина, и он узнал голос Акселя Джонаса. Мальчик мгновенно умолк, ему показалось, будто его кости внезапно размякли, а ноги стали мягкими, словно масло.
Глава 13
Том ждал ее в билетном зале станции «Хаммерсмит». Он хотел, чтобы они поиграли там с часок, поэтому захватил Алисину скрипку. Он просто протянул ей инструмент так, словно они обо всем заранее договорились.
Алиса была возмущена тем, что он посмел это сделать. Она восприняла его поведение как попытку предъявить на нее права собственности. Представила, как Мюррей зашел в ее комнату, открыл шкаф в поисках скрипки, трогал ее вещи, копался в них, пока не обнаружил инструмент, а потом таскал скрипку с собой, клал на грязный пол подземки, рядом с курткой Питера и своим собственным футляром для флейты. Ее возмутило предположение Тома, что она просто не хочет больше играть в метро.
– Зачем я тебе вообще нужна? – спросила скрипачка. – Все равно мы ничего не заработаем. Разве что на обратный билет.
– Раньше тебе нравилось.
– Знаешь, не то чтобы мне это нравилось, просто нечем было больше заниматься.
Они шли и продолжали ругаться. Алиса думала, что ее друг должен найти настоящую работу, но вслух этого не говорила. Однако она все же намекнула, что ей бы не понравилось, если бы кто-нибудь из сотрудников адвокатской конторы увидел ее музицирующей в метро. Том на это лишь расхохотался:
– Ты стала вдруг такой чопорной, дорогая!
Алиса терпеть не могла, когда ее называли «дорогой». Именно так отец иногда обращался к матери. Скрипачка всегда считала это словом собственника, хозяйским словом, используемым исключительно для жен или невест, а кроме того, ужасно старомодным. Но она опять промолчала, и ей подумалось, что накопилось множество вещей, которые она не решается сказать Тому, причем их количество постоянно возрастает. А ведь когда они с ним встретились, Алиса рассказывала ему все…
Она поступила так, как он хотел, и пошла за ним в подземный переход. Использовать скрипичный футляр для сбора подаяний казалось ей недостойным, даже кощунственным, но флейтист ободряюще кивнул, и подруга поставила футляр у ног. В переходе было темно, грязно, а когда она нагнулась, то увидела, что пол покрыт пятнами машинного масла. Отовсюду слышалось эхо шагов.
– Сейчас я тебе объясню, почему это самое подходящее место для того, чтобы играть, – сказал Мюррей. – Женщины боятся здесь ходить, но когда видят нас, успокаиваются, начинают чувствовать себя увереннее и их благодарность выражается в более щедрой плате.
Только вот никаких женщин вокруг не было. Мимо них шли одни только молодые мужчины, которые делали вид, что Алисы и Тома вообще не существует, словно они двое растворились в окружающем пейзаже, став чем-то вроде цементных опор или облупившихся стен. Прошло уже довольно много времени, а в скрипичном футляре по-прежнему лежала всего лишь одна одинокая монетка. Присмотревшись, скрипачка обнаружила, что это – голландский гульден.
Она никогда не верила, что можно опознать руку: все мужские руки похожи одна на другую. Но та единственная рука, которая опустила монету в скрипичный футляр, показалась ей знакомой: левая рука с обручальным кольцом на пальце.
Том пел песни о любви. После арии из «Фальстафа» последовала «Ein Mádchen oder Weibchen» из «Волшебной флейты». Его партнерша подняла глаза, и смычок замер в ее руке. Мужчина, бросивший монетку, уходил. На его спине виднелись ремешки «кенгуру» для переноски ребенка. Это был Майк.
Алисе показалось, что ее сердце остановилось. Она поняла, что оно все-таки бьется только тогда, когда в груди прорезалось какое-то странное чувство, похожее на тошноту. Муж ее даже не заметил. Может быть, он кинул монетку в футляр просто потому, что всегда давал деньги уличным музыкантам? Она не знала. Алиса вообще не очень хорошо знала Майка.
Куда он идет? Что делает в Хаммерсмите? Она жадно смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. На секунду она почувствовала облегчение от того, что не увидела Кэтрин, но оно тут же сменилось непреодолимым желанием побежать за ним и взглянуть на свою дочь.
Том прекратил петь.
– Что случилось с моим аккомпаниатором? – спросил он.
Надо бы ему рассказать…
– Ничего, – ответила Алиса.
Майк ушел, стихло даже эхо его шагов. Наверное, у него сейчас отпуск и он отправился навестить какого-нибудь знакомого с работы.
– Уйдем отсюда, – попросила молодая женщина.
– Но мы же всего двадцать минут как пришли!
– Это дурное место. Никто не собирается нам ничего давать. Пойдем лучше домой.
В поезде флейтист взял ее за руку:
– Тебя что-то расстроило. Что случилось, дорогая?
– Я больше не хочу играть в метро. Никогда, – сказала Алиса. – И нигде. Это мне вредит. С каждым разом я играю все хуже.
– А когда-то ты говорила, что это – твоя стихия.
Мюррей разозлился на нее, и, вернувшись домой, они разошлись по своим комнатам. Алиса пыталась выкинуть из головы встречу с Майком и сосредоточиться на Брюсселе, на том, как она поедет туда учиться, заработав достаточно денег. Потом она перешла к мыслям о Томе. Деньги, которые она зарабатывала, должны были пойти и на оплату его последнего курса в университете. Она отправится в Брюссель, а он – получать диплом о высшем образовании. Сама того не сознавая, скрипачка рассматривала свой заработок как возможность откупиться от Тома, как своего рода выходное пособие по завершении романа.
Когда прозвенел дверной звонок, она сначала не собиралась спускаться вниз. Наверняка в доме был еще кто-то. Может быть, Джарвис и, несомненно, Тина и ее дети. В конце концов, в бывшем кабинете директора дверной звонок можно и не услышать. Но в дверь позвонили еще, и Алиса подумала, как случалось уже неоднократно, когда она слышала дверной звонок: «Это Майк. Он пришел за мной». Быстрое воображение нарисовало ей мужа, узнавшего ее в переходе и проследовавшего за ней до самого дома.
Хотела ли она, чтобы он пришел? Исходя из какой-то извращенной логики, Алиса чувствовала себя уязвленной тем, что Майк больше не интересовался ею, пусть даже она первой оставила его. От него не было ни письма, ни телефонного звонка, вообще ничего. Ее очень задевало это равнодушие, равное ее собственному равнодушию по отношению к нему. Хуже всего было то, что сегодня вечером он прошел совсем близко и не узнал ни ее саму, ни ее манеру игры, ни руки, ни фигуру, ни склоненную голову.
В дверь снова позвонили.
Алиса спустилась на первый этаж. Через цветные стекла входной двери можно было разглядеть силуэт пришедшего. Это был не Майк. Она почувствовала внезапное разочарование, и ее сердце неожиданно упало. Как это вообще возможно – испытывать разочарование оттого, что не встретила мужа, которого сама же с радостью бросила?
Женщина открыла дверь. У порога стоял высокий худощавый брюнет. Его лицо напоминало лицо монаха с одной из картин Эль Греко. Алиса, которая ничего не знала о живописи, сказала однажды своему знакомому с факультета искусств, что все молодые мужчины на портретах Эль Греко на одно лицо. Тот рассвирепел и заявил, что это – полнейшая глупость и невежество. Но что поделать, если Алиса так видела. На всех портретах – одно и то же: узколицые бледные бородачи, темноволосые, голубоглазые и все будто заморенные голодом.
Визитер был таким же. Они с Алисой молча смотрели друг на друга. Ей почему-то показалось, что он вполне способен внезапно напасть на нее. Но нападать он не стал, а вместо этого осведомился:
– А Тина дома?
– Не знаю, – ответила скрипачка. – Сейчас гляну.
Она оставила гостя стоять, где стоял, а сама направилась к бывшим апартаментам директора школы. Не было ни звонка, ни дверного молоточка, и ей пришлось постучать кулаком. Алиса стояла и ждала ответа. Ей вдруг пришло в голову, что все это могло быть только поводом для того, чтобы проникнуть в дом и что-нибудь стащить. Она быстро вернулась, так и не дождавшись Тины. Незнакомец стоял в вестибюле и читал имена, выгравированные на сосновых панелях. Всех этих Эдит и Дороти, вместе с их жалкими успехами на выпускных экзаменах.
Он обернулся к ней и спросил:
– Вы работаете здесь учительницей?
Молодая женщина мотнула головой:
– Школы больше нет, – она чувствовала себя немного неуютно из-за того, что впустила его в дом. – А Тины нет дома. Могу ли я ей что-нибудь передать?
Почему-то это насмешило гостя:
– Вы можете передать ей это.
Он протянул Алисе незапечатанный конверт – наверное, письмо.
– Джарвиса тоже нет? – снова спросил он и добавил: – Меня зовут Аксель Джонас.
Скрипачка немного успокоилась. Не был он никаким чужаком, обманным путем вторгшимся в дом, – это был просто друг хозяина. Который знал Тину. Хотя и не знал, что «Школа» больше не является школой. Аксель, похоже, угадал ее мысли:
– Я никогда здесь не был, – пояснил он.
Алиса кивнула:
– Подождите Джарвиса, если хотите, но он может вернуться поздно.
– Где он? – Голос Акселя прозвучал неожиданно резко.
– Откуда мне знать?
– Вы его подруга или жена?
– Я просто здесь живу, – ответила Алиса. – Снимаю комнату. Пара-тройка человек снимает по комнате, а Тина с детьми – несколько.
Джонас снова поразил ее своим шестым чувством, посмотрев в сторону кабинета, на котором значилось: «переходный класс».
– Могу я подождать Джарвиса там? – спросил он.
– Вообще-то, это и есть его комната…
Скрипачка сама не понимала, зачем ему это объясняет. Ведь он все знает и так. Наверное, слышал от самого Стрингера.
– Так к кому вы пришли? К Джарвису или к Тине? – уточнила она.
Мужчина не ответил. Он молча открыл дверь «переходного класса» и шагнул внутрь. Алиса вернулась к комнате Тины и просунула конверт под дверь. Она не представляла, что ей делать. Наверное, надо бы пойти к Тому и посоветоваться с ним насчет этого Акселя Джонаса, незваного гостя, который проник к Джарвису и сидит там теперь запершись. Подумав о флейтисте, она ощутила раздражение. Не хотелось ей обращаться к нему. Не хотелось, чтобы Том опять начал вести себя с ней покровительственно и в присутствии Акселя по-хозяйски называть ее «моя дорогая».
Алиса не стала ничего делать. Интересно, как она поступит, если, заглянув в комнату Джарвиса, обнаружит этого типа копающимся в ящиках стола или просматривающим бумаги? Она не знала. Лучше всего сделать вид, что все это ее не касается. Женщина спустилась в кухню. Она еще не ужинала, а в обед лишь немного перекусила. В холодильнике нашлись только кусочек заветрившегося сыра и откупоренная бутылка болгарского красного вина. Она сжевала немного сыра с белым хлебом. Дом был тих, словно обезлюдел.
Джаспер напряженно прислушивался к тишине. Уже минут десять не было слышно ни звука. Мальчик осторожно выбрался из каморки. Бьенвида последовала за ним. Они крались, как воры. В вестибюле никого не было: ни «Призрака», ни «Дракулы». Наверное, они приходили, но, не найдя мальчика, убрались подобру-поздорову.
Последние полчаса Джаспером все сильнее завладевали мысли о собственной безопасности. Еще в раздевалке он постарался придумать какой-то план. Если обнаружится, что Аксель Джонас рыщет по дому, разыскивая его, а на первый взгляд именно так все и было, особенно если судить по его вопросу «Где он?», то они проскользнут по лестнице на третий этаж, и Джаспер позвонит в колокол, созывая себе на помощь весь Западный Хэмпстед.
– А по-моему, лучше позвонить в полицию, – сказала Бьенвида.
Ее брат лишь отмахнулся, хотя видел, что сестренка вся дрожит и, похоже, собирается зареветь. Когда они остановились перед своей дверью, она повторила:
– Давай позвоним в полицию, Джас.
– Никогда! Никогда в жизни я не позвоню в полицию! – довольно опрометчиво заявил мальчик.
Шмыгая носом, Бьенвида достала свой ключ, и дети вошли в комнату. На коврике перед дверью лежал конверт. Джаспер мгновенно узнал его. Это было одно из фальшивых писем, изготовленных Деймоном, в котором «Тина» просила школьную учительницу ее сына, мисс Финч, извинить его за отсутствие по причине мононуклеоза, сопровождавшегося приступом горячки. Джаспер сообразил, что произошло. Должно быть, конверт выпал у него из кармана в пиццерии, а Аксель Джонас подобрал его и принес. Это значит, что они знают его адрес. И звонить в колокол смысла пока нет. Нет, лучше им вдвоем закрыться в комнате на ключ и так спастись.
– Не реви, – сказал мальчик сестре. – Все будет хорошо.
– Откуда ты знаешь?
– Слушай, Бьенвида, если ты сейчас же замолчишь, я тебе кое-что покажу. Я покажу тебе свою татуировку.
– Нет у тебя никакой татуировки.
– На что спорим?
Джаспер рывком стянул свитер с футболкой. Сестра в благоговении уставилась на его спину.
– Джас, это восхитительно! – Она подняла пальчик. – Можно я поглажу львеночка?
– С ума сошла? – отшатнулся ее брат. – Даже не смей! Можно только смотреть. И не вздумай никому рассказать о моей татуировке!
Том хотел сделать Алисе сюрприз, что-нибудь такое, что искупило бы его поведение. Он чувствовал себя виноватым. Действительно, не надо было вести ее в то гнусное место, где на нее могли напасть, а он не смог бы ничего сделать. Неудивительно, что она расстроилась.
Всему виной были перепады его настроения, но сейчас он не хотел об этом думать. В комнате было холодно, электрообогреватель грел паршиво. Придя к выводу, что неплохо было бы зажечь камин, флейтист отправился на поиски угля.
Исходя из возраста и размеров дома, в нем определенно должен был быть подвал, хотя Мюррей никогда его здесь не видел и ни от кого о нем не слышал. А если удастся найти подвал, то в нем наверняка найдется и уголь – пожилые люди, вроде его бабушки, обычно там его и держат. Молодой человек спустился в ту часть дома, где находилась кухня и тому подобные «подсобные помещения» – чуланы, кладовые и посудомоечная – по очереди открывая двери. Четвертой оказалась дверь, ведущая на лестницу. Том спустился вниз и повернул выключатель. Загорелась тусклая лампочка.
Да, когда-то здесь действительно держали уголь. В одном углу сохранилась деревянная загородка, внутри которой все было черно от угольной пыли и даже валялись несколько камешков, похожих на кокс. Но ни угля, ни дров в подвале уже давно не было.
Поскольку пришлось отказаться от идеи разжечь камин, Том отправился на улицу, купил горячей китайской еды и бутылку белого вина и отнес все это в кабинет четвертого класса. Потом он тихонько постучал в дверь комнаты своей подруги. Улыбаясь с заговорщицким видом, он провел ее к себе. Теперь можно было обойтись и без камина.
Алиса есть не хотела. Она не могла избавиться от мысли о деньгах, которые Мюррей потратил, чтобы купить еду и вино. В этом своем метро Том зарабатывал гроши, она же получала настоящую зарплату. Можно было сказать, что вся эта никчемная еда куплена была на ее деньги, но скрипачка промолчала. Она повторяла себе, что не должна ранить этого парня, как прежде часто поступала с другими, – нет, Тома она ни в коем случае не должна обижать!
Вдруг перед ее глазами возникло лицо пришедшего к ним недавно мужчины, несомненно ожидающего в этот момент где-то внизу. Как будто изображение, оставшееся на сетчатке глаз после того, как посмотришь на что-то яркое. Действительно, можно было подумать, что это бледное лицо с живыми, теплыми глазами оттиснуто на каком-то экране внутри головы молодой женщины. Непреодолимое желание немедленно увидеть его снова, посмотреть, чем он сейчас занят, охватило ее и мешало расслабиться. Ей захотелось побыть в тишине и спокойно о нем подумать, а Том выводил ее из себя бесконечными вопросами: понравилось ли ей вино? Предпочитает ли она китайскую или индийскую кухню? Не надо ли им почаще ужинать так или лучше ходить куда-нибудь в кафе?
– Мы должны экономнее относиться к деньгам, – заметила скрипачка.
Мюррей пожал плечами. Гримаса боли, отразившаяся на его лице, должна была заставить Алису сдержаться, но вместо этого лишь подхлестнула ее раздражение. До этого момента она как-то не обращала внимания на его руку, сейчас же слегка деформированные суставы и неподвижный мизинец буквально бросились ей в глаза. Ее передернуло, хотя в руке Тома не было ничего уродливого – последствия аварии были почти незаметны.
– Я ведь рассказывал тебе о своей бабушке? – чуть похолодевшим тоном поинтересовался флейтист.
– Не совсем, ты говорил только, что у тебя есть бабушка.
– Есть, и она богата. Когда она умрет, я унаследую все ее состояние. Наверняка ты сейчас думаешь, что говорить так – значит каркать, правда? Но я просто реалистично смотрю на вещи: моей бабушке уже восемьдесят.
«И она может легко прожить еще лет пятнадцать, как случается со многими бабушками», – подумала Алиса, но вслух опять ничего не сказала. Только повторила его собственные слова:
– Да, я думаю, ты не должен так говорить.
– Я сегодня только и делаю, что расстраиваю тебя, да, дорогая?
– Том, я ни в чем тебя не обвиняю. Кто я, собственно, такая, чтобы кого-то судить?
– Меня ты судить можешь. Ты можешь говорить мне абсолютно все.
Это была ложь. Но едва Алиса подумала о том, чтобы углубиться в эту тему, как ей сделалось тоскливо и скучно.
– Извини, Том, но не мог бы ты прекратить свой допрос? У меня есть дела внизу, – сказала она.
– Что значит «дела внизу»? – тут же задал он вопрос.
На первый взгляд, голос его вроде бы не изменился, но Алиса почувствовала в нем нарастающую ярость. Она уже достаточно хорошо знала своего друга.
– Я тебе позже объясню. Ну, пожалуйста, Том! – попросила она.
Он расстроенно пожал плечами. Алиса сбежала вниз по лестнице в темный вестибюль. Свет она зажигать не стала. Скрипачка сказала себе, что, скорее всего, в «переходном классе» будет светло, Джарвис – уже там, а этот Аксель Джонас давно ушел. Постучав в дверь, Алиса открыла ее.
Пришелец сидел в кресле хозяина и читал книгу, а может быть, только делал вид, что читает. На столе горела лампа. Увидев Алису, он отложил книгу и поднялся ей навстречу. Женщина прикрыла за собой дверь. Спускаясь по лестнице, она про себя репетировала свою речь. Она скажет этому человеку, что он должен уйти, что она ни в коем случае не должна была позволять ему заходить в комнату Джарвиса, какими бы друзьями они с ним ни были, и что это – неправильно.
– Я надеялся, что вы вернетесь, – сказал мужчина.
– Да?
– Но вы задержались. Я уже должен идти. Как вас зовут?
– Алиса.
Ее имя произвело на него странное впечатление. Даже в полумраке она заметила, как изменилось лицо Акселя. Его исказила гримаса боли и недоверия, впрочем, мгновенно исчезнувшая. А глаза оказались не темно-серыми, как она думала, а голубыми.
– Алиса, – пробормотал он и повторил: – Алиса.
После этого Джонас подошел к ней почти вплотную, и она вдруг поняла, что не в силах пошевелиться. Но он не обнял ее. Только приподнял ее лицо за подбородок и приблизил свои губы к ее рту. Скрипачка чувствовала, что он улыбается, а потом эта улыбка перелилась в поцелуй. При этом рука Акселя продолжала крепко удерживать ее подбородок.
Алиса стояла опустив руки. Она застыла, пока он ее целовал, объединенная с ним лишь прикосновением губ, потому что его рука тоже опустилась, но губ он не отнял – напротив, его язык раздвинул ее губы и вошел ей в рот, исследуя его. Шли секунды, и сознание женщины затянуло красной пеленой. И когда все неожиданно закончилось, она почувствовала, что потрясена. Алиса вся задрожала, и ей показалось, что она сейчас упадет в обморок. Словно издалека, до нее донесся голос Джонаса. Глаза Алисы оказались закрытыми, и чтобы их открыть, ей пришлось сделать над собой усилие, как будто заново научиться этому простому действию.
– Мы скоро встретимся, – пообещал мужчина.
Скрипачке страстно захотелось проводить его хотя бы до двери, поговорить с ним, выяснить, что означают эти слова о скорой встрече. Но вместо этого она осталась стоять в полутемной комнате, широко раскрыв глаза. Дверь, кажется, захлопнулась, но она ничего не услышала. Затем женщина медленно вышла из класса в пустой вестибюль и вернулась в комнату Джарвиса, чтобы выключить лампу.
Она ни о чем не думала – только чувствовала, но не решалась спросить себя, что же она сделала и сделала ли вообще хоть что-нибудь. Дверь в комнату Тома была закрыта. Алиса взмолилась о том, чтобы он не открыл ее и не выглянул наружу как раз тогда, когда она будет проходить мимо. Он не выглянул. Зайдя к себе, скрипачка услышала голоса. Она прислушалась повнимательнее: пришли Тина и Дэниэл Корн. Если бы она не спускалась вниз к Акселю Джонасу и не целовалась бы с ним, сама не зная зачем, стоя в полумраке, то обязательно пошла бы теперь к Тине и рассказала о нем, а позже, может быть, завтра, упомянула бы о нем в разговоре с Джарвисом. Но после того, что произошло, сделать этого она уже не могла.
В своей кровати на вилле «Сирени» посреди ночи проснулась Сесилия. Это было необычно. Она всегда засыпала быстро, просыпалась в четыре утра и после этого уже не засыпала. Дафна как-то сказала, а ей самой об этом рассказал Питер, что, если человек плохо засыпает, значит, он испытывает подсознательную тревогу, а если рано просыпается, то находится в депрессии.
Миссис Дарн не считала себя хронически депрессивной натурой – напротив, она думала о себе как о человеке, всегда способном отыскать в событиях что-нибудь хорошее и светлое. Сегодняшним светлым моментом стали рассказы детей: Джаспера и особенно Бьенвиды. Например, то, что на выходных они снова отправятся на прогулку с Брайаном. Что Брайан, раньше встречавшийся с ними где-нибудь в условленном месте в городе, теперь просто звонит в «Школу» и даже заходит к Тине выпить чашечку кофе и вообще, похоже, снова находится в прекрасных отношениях с ее дочерью. Бьенвида ясно дала ей понять, что, когда они в воскресенье отправятся на экскурсию по Тауэрскому мосту, Тина к ним присоединится.
Сесилия вынуждена была откровенно признать, что на дочь это было совсем не похоже. Она не верила и половине того, что рассказывала внучка, но ее самым горячим желанием было, чтобы Брайан и Тина вновь сошлись и поженились. Уже в который раз пожилая женщина задумалась о своем доме. Наверное, она могла бы оставить его Тине, с условием, чтобы та жила здесь с Брайаном. А она, миссис Дарн, отправится тогда к Дафне.
Но она сознавала, что ставить такие условия было отнюдь не в ее духе, даже если это было вполне законно и могло бы сработать. Она давным-давно уже написала завещание, по которому все оставляла своей единственной дочери, Тине, причем безо всяких условий. Тина никогда не примет никаких ограничений, мать точно это знала, как и то, что манипулировать людьми – гнусно. Да и внуки в последнее время ни словом не упоминали о наличии других мужчин в жизни Тины.
Миссис Дарн стала представлять свадьбу своей дочери с Брайаном и детишек, одетых пажом и фрейлиной. Когда-то подобное шокировало бы ее до глубины души, но с тех пор утекло много воды, и она приспособилась. Привыкла, что теперь множество людей сначала долго живут друг с другом, заводят детей и только потом женятся, причем дети присутствуют на таких свадьбах. Они часто разговаривали об этом с Дафной, обсуждая своих детей. Так же, как и Сесилия, мечтавшая о том, чтобы Тина взялась за ум, так и миссис Блич-Палмер грезила, что Питер прекратит путаться с мужчинами, встретит хорошую девушку и женится на ней.
Мысли о Питере привели миссис Дарн в ужас. Ее охватило ощущение надвигающейся грозы, когда она подумала о боли, которую должна испытывать ее подруга из-за своего злосчастного сына. Она попыталась направить свои мысли в другое русло. Лежа в постели в огромном пустом темном доме, Сесилия погрузилась в приятные воспоминания о свадьбе самой Дафны, на которой она была подружкой невесты. Это было очень давно, но пожилая дама помнила все совершенно отчетливо.
Как было тогда принято, жених сделал Сесилии подарок, хотя выбрала его, конечно, сама Дафна: камею из темного и бледно-розового коралла. Несколько раз за последние годы миссис Дарн подумывала о том, чтобы подарить камею Тине, но так этого и не сделала. Камея была не во вкусе дочери, предпочитавшей индийские или африканские украшения. Когда-нибудь, возможно, Сесилия подарит эту камею Бьенвиде.
Спохватившись, она вдруг забеспокоилась: где же украшение сейчас? Пришлось встать, зажечь свет и начать поиски. Камея обнаружилась в коробочке, в одном из ящиков туалетного столика в гостевой комнате – в точности там, где и должна была быть. Она лежала, аккуратно обернутая розовой ватой, чистенькая, как и все вещи в этом доме. Хозяйка упрекнула себя за то, что давно не брала ее в руки, возможно, уже больше десяти лет.
Она забрала камею в спальню и поместила ее в шкатулку для хранения драгоценностей, приколов к бархатной подкладке. Это полночное действие подарило Сесилии чувство глубокого удовлетворения. Она привела вещи в порядок и исправила свое упущение. После этого она мгновенно уснула.
Глава 14
В клобучке и опутенках Абеляр сидел на запястье у Джеда, ехавшего в поезде по линии Пикадилли. Лори стоял в торце вагона. Была суббота, а ехать ему и его питомцу предстояло до Кокфостера – конечной станции.
Джед решил, что глупо снова ехать на Хэмпстедский Луг. Когда он в прошлый раз выпускал Абеляра там, за госпиталем Святой Колумбы, все на них пялились. Прежде Лори думал, что на Луг никто не ходит, а оказалось – там полно народу. Какая-то женщина прокурорским тоном поинтересовалась: знает ли он, что на Лугу обитает более ста пятидесяти видов диких птиц, причем все они – охраняемые?
Хозяин ястреба не собирался позволять ему охотиться на кого-либо, кроме голубей или кроликов, но он далеко не всегда мог контролировать птицу. Недавно, например, произошел неприятный инцидент с сорокой, так расстроивший маленькую Бьенвиду. Ничего, зато на просторах Энфилд-чейза Абеляр наверняка будет чувствовать себя более свободно и раскованно!
До самого «Вуд-Грина» в вагоне оставалось много пассажиров, но затем все они постепенно вышли, и Джед остался наедине с чернокожим мужчиной в форме служащего метро. Тот сидел за два места от него. Он с любопытством поглядывал на ястреба, но потом отвернулся и стал упорно смотреть в противоположную сторону. Лори подозревал, что дело было в вони, которую издавала его сокольничья куртка. На людей этот запах производил отталкивающее впечатление, а Абеляра, напротив, успокаивал.
В Кокфостере Джед вышел. Абеляр все так же тихо сидел на его руке. Когда ястреб был спокоен, хозяин испытывал к нему глубокое теплое чувство, которое можно было назвать и любовью – потому что, по его мнению, оно не отличалось от его прежнего чувства к той женщине и ребенку. Теперь ему не требовались общество и привязанность ни от кого, кроме птицы, доверчиво сидящей у него на руке.
Но прошедшая неделя выдалась ужасной. Не в большей степени, чем предыдущая, конечно, но и не в меньшей. Душераздирающие вопли начинались сразу после восхода и заканчивались лишь после кормежки, когда Абеляр наконец получал свою скудную, по мнению Джеда, порцию. Но как только Лори уходил на работу, крики возобновлялись. Они встречали хозяина птицы и по возвращении домой. Он боялся спрашивать других обитателей «Школы», прекращались крики днем или нет. Боялся услышать то, что ему ответят.
Лори регулярно взвешивал ястреба. Он знал, что, если вес птицы превысит положенный, нужно будет уменьшить рацион: обычную унцию придется сокращать наполовину. Джед от всего сердца надеялся, что Абеляр сбросит вес настолько, что можно будет кормить его вволю и избавиться от его воплей. Вчера был отличный денек, можно даже сказать – счастливый: вес ястреба заметно снизился. О, с каким удовольствием хозяин удвоил ему порцию мяса, с какой радостью он смотрел, как ярко вспыхнули желтые ястребиные глаза и как рвал пищу ненасытный клюв хищника! Поев, Абеляр сразу превратился в мирную, сытую птицу, дремлющую на своем насесте. Тогда Джед со спокойной душой покинул сарай и присоединился к «Защитникам», дежурившим на линии Виктория.
Они с Абеляром вошли в так называемый Треугольный Лес[25]. Там водились кролики. Лори снял опутенки с ястреба и залюбовался, как тот парил, пикировал, ходил кругами, а потом, услышав звук свистка, стремительно возвращался на его запястье, получая в награду цыпленка.
Стоял теплый, но сырой и пасмурный день. Листва, уже совсем пожухлая, сохранилась только на дубах. Зато трава была ярко-зеленой после осенних дождей. Абеляр взлетел в сизое небо, преследуя голубя, а потом, подчиняясь команде хозяина, полетел к купе высоких деревьев в конце луга. Точнее, он попытался подчиниться. Джед заметил, как ястреб на мгновение запнулся, словно наткнувшись на невидимую преграду, прежде чем сесть на нижнюю ветку.
Обеспокоенный Лори позвал ястреба и сам направился к деревьям. По пути туда он пришел в полное смятение, уверенный, что с птицей что-то случилось. Но когда Абеляр взлетел ему навстречу и уверенно сел на его руку, Джед с облегчением увидел, что его любимец бодр и активен, как и положено молодому, сильному самцу.
Каждый раз, когда звонил телефон, Алиса надеялась, что это – Аксель Джонас. Он ведь знал Джарвиса, следовательно, должен был знать номер телефона «Школы». И он пообещал, что они снова встретятся. Женщина старалась первой успеть к телефону, сбегая по лестнице, едва заслышав звонок. Но Аксель не звонил. Единственной, кто ей позвонил, стала ее мать.
Марсия «ненадолго заскочила» в Лондон за покупками к Рождеству и хотела повидаться с дочерью.
Алиса заподозрила какую-то ловушку. Мать могла прийти не одна, она вполне способна была взять с собой Майка или Кэтрин. Сейчас скрипачка была счастлива, что тогда, в подземке на станции «Хаммерсмит», муж ее не узнал. Как глупо было думать, что она скучает по Майку и может к нему вернуться! Музыка – вот единственное, что имеет значение! Даже Том не так уж и важен, ну а Аксель Джонас – вообще пустое место. Просто мужчина, с которым Алиса случайно поцеловалась, потому что на нее нашло затмение и она ничего не соображала.
За день до встречи с матерью она видела Джонаса по пути на работу в толпе на станции «Холборн». Алиса могла поклясться, что это был он. Но когда она попыталась рассмотреть мужчину повнимательнее, того уже не было, и скрипачка подумала, что все-таки ошиблась. В тот вечер у нее был назначен урок музыки в доме на Неверхолл-вэй. Алиса нервничала и никак не могла сосредоточиться. Когда они сели пить чай, мадам Донская стала снова рассказывать об Анне-Софи Муттер, а потом произнесла:
– Забавно, что некоторые люди упорно претендуют на успех, не имея ни малейших способностей.
Елена всегда говорила «забавно» о вещах, которые другие люди находили, скорее, прискорбными.
– Вы имеете в виду меня? – спросила Алиса.
– В России есть пословица: по одежке протягивай ножки.
– В Англии тоже есть похожая.
Урок должен был уже закончиться, но звонить в дверь Мюррей не стал. Алиса не говорила ему, что пойдет сегодня на занятия, однако он ждал ее под деревьями у ворот дома. Она подпрыгнула от неожиданности, когда перед ней внезапно выросла мужская фигура:
– Можно мне понести вашу скрипку, моя леди?
– Ох, Том!
– Мне не нравится, что ты бродишь одна в темноте.
Алиса не стала напоминать, что совсем скоро она и с работы будет уходить в темноте – не хотелось вновь начинать спор на эту тему. Они возвращались по сумрачным, угрюмым улицам Хэмпстеда, под нависающими ветвями деревьями, а в тусклом свете фонарей кружилась осенняя листва. Флейтист обнимал ее за талию.
– Я завтра встречаюсь с матерью, – сказала Алиса. – В парфюмерном отделе универмага «Диккинс-энд-Джонс» на Оксфорд-стрит.
– Быть этого не может.
Эту фразу Том произносил так часто, что скрипачке начало это надоедать.
– Она хочет поговорить, – пояснила она холодно.
– Алиса! – воскликнул он. – Прошу, только не позволяй ей заставить тебя вернуться! Не поддавайся!
Горячность, с которой молодой человек произнес эту тираду, заставила его подругу поморщиться. Его слова давили на нее тяжким грузом.
– Да кому я нужна? – делано-шутливым тоном возразила она.
– Всем.
Ни Алисе, ни ее матери встреча удовольствия не доставила. Они пообедали в ресторанчике универмага. Какая-то молодая женщина, сидящая на невысоком помосте, играла на скрипке. Алисе показалось, что играет та здорово, просто потрясающе, и ей захотелось заткнуть уши руками и сделать вид, что это не так. Она рассказала матери об уроках игры на скрипке, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Ей хотелось соврать что-нибудь вроде того, что мадам Донская посоветовала ей отправиться на двухнедельный мастер-класс какого-нибудь знаменитого виртуоза в Бриттен-Пирс в Олдебурге, но потом передумала. Не хотелось врать ни матери, ни Тому.
– Выходит, у тебя все прекрасно? – спросила миссис Андерсон.
– В общем, да.
– И ты не хочешь ничего спросить о том, как там твоя дочь?
– Лучше мне этого не знать, ты согласна? Правильнее, если я буду держаться от нее подальше.
– А ты не думаешь, что поступаешь просто отвратительно, вот так исчезая из ее жизни? Почему ты не объяснилась, не рассказала нам о том, что чувствовала?
– Если бы я попыталась это сделать, то никогда бы не ушла. У меня не хватило бы смелости.
– Мы с Майком несколько раз встречались, – рассказала мать. – Он даже не упоминает о тебе, так сильно ты его обидела. Хочет продать вашу квартиру и переехать жить к Джулии и ее мужу. Кэтрин практически одного возраста с их ребенком. Очень скоро она забудет, что когда-то у нее была другая мать, если уже не забыла. Джулия – прекрасная девушка и заботливая мама. Может, она не так красива, как ты, но погляди, до чего ты докатилась, при всей своей красоте.
«До Оксфорд-стрит, – хотелось ответить Алисе. – Сижу вот с тобой и слушаю скрипачку, которая исполняет Чайковского куда лучше меня».
Марсия сказала, что при ее внешности она наверняка уже нашла себе другого мужчину. А может, этот кто-то был у нее еще до того, как она ушла?
– Я бы хотела заключить с тобой пари, – заявила вдруг миссис Андерсон.
Молодая женщина удивилась: мать никогда не участвовала ни в каких спорах!
– Давай поспорим на тысячу фунтов, что ты никогда не станешь концертирующей скрипачкой. Нет, не так. Что ты никогда даже не сможешь поступить в какой-нибудь оркестр. Ну же, Алиса! Тысяча фунтов – это отличная сумма.
Алиса была на работе, когда Аксель Джонас наконец позвонил ей. Она сидела в своей комнате, рядом с кабинетом Джеймса Кристиансона. Когда он назвался, она едва поверила своим ушам. Во рту сразу пересохло, но она смогла спросить, откуда он узнал ее номер. Аксель ответил, что ему его сказал один их общий знакомый. Наверное, Джарвис, предположила скрипачка, но уточнять ее новый знакомый отказался. Он предложил встретиться в каком-нибудь пабе в Западном Хэмпстеде, в «Железнодорожном» или в «Черном Льве». Похоже, он знал все об этом районе.
– Слишком близко к дому, – торопливо сказала Алиса, ступив на скользкий путь обмана.
Похоже, Акселя рассмешил ее ответ. Это чувствовалось, несмотря на его молчание, в котором явственно ощущалось доброжелательное веселье. Потом тем же веселым голосом он предложил пойти в паб в Кенсингтоне, где жил сам.
– Я не разделяю твоей страсти ходить на длинные дистанции только для того, чтобы глотнуть бренди, – добавил он.
Почему ей так хочется увидеться с мужчиной, который заставляет ее чувствовать себя полной дурой? Объяснить ему, что она не хочет, чтобы об их встрече узнал Том, было совершенно невозможно, ведь это означало бы дать Джонасу понять, как это для нее важно. А Аксель? Для него-то их встреча что-нибудь значит? По крайней мере, надо было выяснить, зачем он хочет с ней встретиться – что скрипачка и попыталась сделать.
– Мужчине, приглашающему женщину, подобных вопросов обычно не задают, – холодно ответил тот. В его тоне сквозила укоризна, словно Алиса нарушила неписаный этикет. После того как он положил трубку, молодая женщина твердо решила, что никуда не пойдет. В конце концов, она совершенно не знает этого человека. Так, обменялись парой слов. Что значит один поцелуй? Может, раньше, для поколения ее матери, это и имело значение, но не теперь.
Было ужасно трудно отделаться от Мюррея, который постоянно стремился быть рядом с ней. Пришлось соврать, что ей надо поехать в Челмсфорд к родителям, чтобы попытаться уладить отношения.
– Хорошо, я поеду с тобой, – заявил флейтист. – Мне хочется с ними познакомиться.
– Знаешь, с них хватит и того, что я бросила Майка, – возразила Алиса. – Сам подумай, что с ними будет, если я приведу другого мужчину?
– Рано или поздно им придется с этим смириться, ведь так?
– Возможно, но сейчас неподходящий момент, – отрезала молодая женщина, сама точно не зная, что подразумевает под этими словами.
В ответ Том, как всегда, психанул. На сей раз он расколотил тарелку, а когда Алиса вскрикнула и отшатнулась, смахнул со стола всю посуду. Скрипачка попыталась выбежать из комнаты, но молодой человек преградил ей путь и начал обвинять в том, что она пренебрегает его чувствами и вообще относится к нему так же, как к своему муженьку. Алиса принялась убеждать друга, что он ей совсем не безразличен. В каком-то смысле это была чистая правда. Но Том настаивал, что все это не так, и продолжал неистовствовать, а потом разрыдался у нее на руках, чего раньше никогда не происходило.
Алиса умирала от желания поговорить с кем-нибудь об Акселе Джонасе. Разговор с Мюрреем, естественно, был исключен. Стоит хотя бы заикнуться ему об Акселе, и не будет больше ни пабов в Кенсингтоне, ни длинных прогулок ради глотка бренди. Но если Джонас дружит с Джарвисом, может быть, поговорить с ним? Однако, вернувшись вечером с работы и столкнувшись с хозяином дома в вестибюле, Алиса поняла, что придется рассказывать, при каких обстоятельствах она с Акселем познакомилась, признаваться, что позволила ему зайти в комнату Стрингера в его отсутствие. А что самое неприятное – объяснять, почему она молчала прежде. Поэтому, когда Джарвис поинтересовался, как она добралась из Холборна в час пик, женщина ответила:
– Вот уж не думала, что ты знаешь, где я работаю.
Стрингер взглянул на нее необычным для него пытливым взглядом:
– Мне сказала Тина.
– Ах да, конечно…
– Меня это заинтересовало, потому что рядом с твоей работой находится здание, в котором располагается вентиляционная шахта. Когда-то в этой огромной шахте была лестница, ведущая на Центральную линию. Потом соорудили эскалаторы, а шахту приспособили для вентиляции. Если ты поднимешься на крышу вашего офиса, то увидишь вход в нее.
Скрипачка вспомнила о маниакальной страсти Джарвиса к поездам метро и полном его равнодушии ко всему остальному. Он и сам не ведал, что невольно ответил на незаданный вопрос о том, откуда Аксель узнал телефон конторы «Энджелл, Шеррер и Кристиансон». Алиса поднялась по лестнице. Люстра в вестибюле была выключена, и свет горел только на галереях. Глянув вниз, она увидела Стрингера, словно схваченного чудовищным пауком – так падала на него тень от люстры.
В конце концов Алиса окончательно решила не встречаться с Джонасом. Ее жизнь и без него была сложна. Она никуда не пойдет, а на случай, если тот позвонит в контору, следует попросить девушку на коммутаторе не соединять его с ней. Вряд ли он снова заявится в «Школу», и, следовательно, она с ним никогда больше не увидится. А через неделю-две и думать о нем забудет.
Но в субботу скрипачка пришла в паб на Шеваль-плейс, причем явилась туда раньше Акселя. Ей пришлось ждать его минут пятнадцать. Она взяла себе бокал вина, выпила и уже собиралась уходить, придя к выводу, что этот таинственный человек не придет. Пожалуй, так даже лучше, решила она, не надо будет хитрить, принимать какие-то решения, сомневаться, подозревать и анализировать.
Джонас пришел. И даже не подумал извиниться.
– Привет, – сказал он, как будто они были знакомы всю жизнь и виделись, по меньшей мере, раз в неделю.
Он снова был в поношенном узком пальто, доходящем почти до щиколоток. Борода его была тщательно подстрижена, лицо было очень бледным, а густые черные вьющиеся волосы он связал в хвост тонкой черной ленточкой. Алиса подумала, что он выглядит как второстепенный персонаж из телесериала о Фрейде. Он заказал ей еще вина, а себе взял бренди. Женщина обратила внимание, что на указательном пальце левой руки у него было надето массивное кольцо из переплетенных полос белого и червонного золота. В прошлый раз кольца у него не было, Алиса была уверена. Почему-то это ей показалось странным. В принципе, она ничего не имела против мужчин, носящих украшения. Просто показалось необычным, что он то снимает, то надевает кольцо, да еще и на указательный палец.
К ее удивлению, Аксель поинтересовался, как там Джарвис. Она не знала, что сказать.
– Собирается на следующей неделе в Россию, – в конце концов ответила скрипачка.
– Да ну? Прямо шпион!
– Он хочет всего лишь осмотреть там метро.
– Человек, который смотрел, как проезжают поезда?[26]
– Ага, что-то в этом вроде. В общем, он будет в отъезде довольно долгое время. Намеревается посетить несколько новых подземок.
– Старина Джарвис!..
Алиса отпила немного вина.
– А сам ты кто? – спросила она. – Чем занимаешься?
– Я – фотограф. А еще – вожатый медведя.
– Быть этого не может, – сказала скрипачка, в точности как Том. Ну почему она вечно подражает своим мужчинам?
Аксель расхохотался:
– Чего именно? Первого или второго? Ну, вообще-то я – психолог. Точнее, учился на психолога, хотя по специальности никогда не работал. Мне не приходится зарабатывать себе на хлеб насущный, что правда, то правда.
– В это как раз поверить легко. А что ты имел в виду, когда говорил о вожатом медведя?
– Хожу с пляшущим медведем и развлекаю народ в подземке. Не с настоящим медведем, конечно. Просто человеком в медвежьей шкуре.
– Да я же вас видела! – воскликнула его собеседница. – Когда с друзьями играла в метро.
– Думаю, нас видели тысячи людей, – сухо сказал Джонас. – Знаешь, может быть, я сумасшедший.
В его голосе снова зазвучал металл. Он был низким и бархатистым, но тон его мог быть и теплым, и ледяным.
– Мне тоже так кажется, – сказала Алиса.
– Я не шучу. Совершенно серьезно – я сумасшедший. Я нездоров.
– Говорят, – весело ответила скрипачка, – что, если человек осознает это, значит, он – совершенно нормален.
– Боюсь, это не совсем так. Нет ничего хуже, чем осознавать, что ты – псих.
Аксель мрачно смотрел на нее, и Алиса с ужасом подумала, что так оно и есть: он действительно самый настоящий псих. «Надо сматываться», – мелькнула у нее мысль, – немедленно бежать отсюда». Мужчина же рассмеялся. Смех у него оказался приятным, совсем непохожим на хохот сумасшедшего.
– Идем, я хочу угостить тебя обедом, – внезапно предложил он.
Алиса подумала, что они отправятся в какой-нибудь бар или, на крайний случай, в кафе. Вместо этого Джонас повел ее в дорогой ресторан на Уолтон-стрит. Прежде чем проводить их к столику, администратор церемонно предложил Акселю выбрать галстук. Тот не без раздражения, хотя и с вежливой улыбкой взял первый попавшийся. Его спутница, одетая в джинсы, старенькую блузку и кардиган, почувствовала себя неловко.
Сначала ее новый приятель заказал шампанского, потом – вина. Через некоторое время до Алисы дошло, что это самый дорогой обед в ее жизни. Она вспомнила о том, как постоянно упрекала Тома за покупку дешевой китайской еды.
Аксель рассказал, что с Джарвисом его познакомил Айвен, его «медведь», с которым на пару снимает квартиру. Айвен, в свою очередь, учился вместе со Стрингером в университете. Джонас оказался разговорчивым, любопытным и вежливым. Он расспрашивал Алису о «Школе Кембридж», о том, как долго она там живет и кто там обитает еще. Он сказал, что понятия не имел, что Джарвис заделался хозяином пансиона.
– Он таким образом пытается поддержать на плаву свои финансы, – пояснила скрипачка.
Она рассказала Акселю о комнатах со всеми их названиями и номерами, оставшимися от бывших в них когда-то классов и кабинетов. Сначала он слушал внимательно, но потом начал терять интерес к этой теме и перешел к вопросам о ней самой. Пришлось рассказать о музыке и своих амбициях.
Пока Алиса говорила, ее спутник пристально смотрел на нее. Она подумала, что, наверное, так смотрят на своих клиентов психоаналитики. Казалось, собеседник ловит каждое ее слово. Время от времени он слегка улыбался, а порой становился необычайно серьезным. Женщина вдруг поразилась его сходству с пастором. Все дело было в его созерцательном виде и мечтательных глазах. Его слова о сумасшествии казались ей сейчас полной чепухой. Когда они покончили с едой, Аксель расплатился золотой карточкой «Америкэн Экспресс». Ничего себе! Алиса задумалась о той совсем не пасторской холодности, которая временами проскальзывала в его тоне. Интересно, что теперь? Чего он ждет от нее?
Джонас сказал, что его квартира совсем рядом, «только за угол завернуть», а вышеупомянутый Айвен хоть и живет там, но сейчас, скорее всего, отсутствует. Алиса, которая всегда полагала, что знает, как реагировать в подобных случаях, не имела ни малейшего представления о том, что ответит, если он, по-особенному посмотрев на нее, поинтересуется, не хочет ли она подняться к нему. Она вспомнила поцелуй. Но человек, шедший сейчас рядом с ней по Бичем-плейс, был совсем не похож на того, который тогда взял ее за подбородок и приник к ее губам своими.
Скрипачка была совершенно уверена, что они идут к нему домой. По дороге Аксель молчал. Когда они дошли до Бромптон-роуд, он остановился и посмотрел ей в глаза. Алису словно загипнотизировали. Ноги вдруг стали ватными, и она не могла оторвать взгляда от его зрачков, а рука сама потянулась к губам.
Дальше все произошло очень быстро. Она с трудом отдавала себе отчет в событиях. Он подозвал такси, открыл ей дверцу, она села, но ее спутник, вместо того чтобы присоединиться, дал распоряжение шоферу отвезти ее в Западный Хэмпстед к «Школе Кембридж» и сунул ему пять фунтов. Скрипачка сидела в машине совершенно ошеломленная. Наверное, он попрощался, но она вряд ли ему ответила. Какой-то бред… А чего она, собственно, ожидала?
Ясно чего. Какого-нибудь намека на продолжение, на новую встречу. Джонас шел прочь от машины и даже ни разу не оглянулся. Алиса подумала, что никогда больше его не увидит.
Но он позвонил ей на работу в следующий четверг. Все это время она прикидывала, что скажет, если это произойдет, однако к четвергу рассталась с последними надеждами и со страхами. Алиса хотела сказать, что их встреча абсолютно невозможна и что он должен ее извинить, а вместо этого ее губы произнесли: «Да, конечно». Они договорились встретиться в том же пабе, что и в прошлый раз.
Вторую субботу подряд ей пришлось вставать ужасно рано. На улице было совершенно темно. Ее разбудил легкий, почти неслышный стук входной двери: Джарвис отправился в свое путешествие по России. Такси он, конечно, не заказывал. Наверняка поедет на поезде по Юбилейной линии до Грин-парка, а потом пересядет на Пикадилли и так доберется до Хитроу. Рейс 872 Британских Авиалиний отправлялся на Москву в 9.15.
Алиса задумалась, что ей надеть на встречу с Акселем. У нее практически ничего не было, ни одной более или менее приличной вещи. Лучший свой наряд она носила на работу. Для нее было унизительно думать, что она старается выглядеть как можно лучше в глазах мужчины, который постоянно ее поддразнивал и вообще странно с ней обращался. Уж он-то, наверное, придет без галстука и опять в пальто, которое больше бы подошло нищему попрошайке из метро. А вдобавок еще и опоздает.
Том мирно спал рядом. Он был так красив – одно удовольствие было на него смотреть. Никакая нормальная женщина, имея рядом с собой такого мужчину, как Мюррей, на Акселя и не взглянула бы. Алиса поднялась и потихоньку раздвинула шторы, впустив в комнату серое зимнее утро. Ее друг спал. Свет его не разбудил. Она принялась рыться в своем скудном гардеробе, разыскивая что-нибудь, что понравится Джонасу.
В этот раз он пришел раньше нее. Перед ним стоял бокал бренди, а Алису ждало шампанское. Новый знакомый поднялся ей навстречу и сжал ее руки своими. Массивное кольцо из белого и червонного золота на его указательном пальце царапнуло ладонь.
Первыми его словами были:
– Хотел бы я, чтобы мы встретились сегодня попозже. Мне совсем не нравится заниматься любовью днем.
Алиса вспыхнула. Кровь не просто прилила к ее щекам: она почувствовала, что жар бьется и пульсирует в каждой ее жилке. Она быстро отняла у него свои руки и села за стол.
Джонас, по своему обыкновению, рассмеялся, и его спутница почувствовала себя полной дурой.
Том обещал Алисе написать письма в разные консерватории. Она даже подготовила для него соответствующий список. Пообещал он это уже неделю назад, но так ничего и не сделал. Флейтист совершенно не мог представить себя снова ходящим на лекции вместе с двадцатилетними студентами. Для его подруги все было куда проще, она уже свое отучилась, у нее имелся диплом, и можно было спокойно записываться на прослушивание в какой-нибудь оркестр. В свое время Мюррей бросил учиться из-за того, что был болен: его мучили головные боли, и он не мог сосредоточиться, а стоило кому-то рядом резко или невежливо заговорить, как он выходил из себя. Изменилось ли что-то сейчас? Головные боли его больше не беспокоили, но он был уверен, что остался таким же рассеянным, как и прежде. Доказательства этому молодой человек получал каждый день.
И еще Том постоянно злился. Сейчас – из-за того, что Алиса снова пошла к своим родителям, уже второй раз за неделю, и опять отказалась взять его с собой. Ее постоянные визиты в Челмсфорд действовали ему на нервы. Флейтист опасался, что родители если и не убедят ее вернуться к Майку, то, по крайней мере, вынудят отказаться от сумасшедшей идеи отправиться на учебу в Брюссель. Они могли подкупить дочь, предложив ей денег. Значит, он сам должен раздобыть наличные.
Никогда из него не выйдет ни новый Джеймс Голуэй[27], ни Томас Аллен[28]. Том даже немного гордился тем, что трезво осознает пределы своих возможностей, умеет противостоять судьбе и научился с этим жить. Главные его таланты, игра на флейте и пение, пошли прахом на той темной дороге в вечернем Рикмэнсворте. Он посмотрел на свою изувеченную руку, попытался согнуть мизинец – бесполезно. На него накатила жалость к самому себе.
Вот если бы умерла бабушка! Даже без сентенций Алисы Мюррей знал, что о таком нельзя и помышлять. Когда-то он любил ее и до сих пор испытывал к ней нежные чувства. Ожидая прихода Питера и Джея, Том подумал, что вместо того, чтобы отправиться в подземку, он мог бы сегодня навестить бабушку. Пойти к ней и сказать: «Когда-то ты мне пообещала денег. Не мог бы я получить немного уже сейчас?» Конечно, она может и отказать, но ведь, может быть, и не откажет!
Тогда он купил бы для них с Алисой дом и, если бы она захотела, поехал бы с ней на год в Брюссель. Если бы он сумел устроить это для нее, она бы его точно полюбила. А потом они бы вернулись, и Мюррей начал бы заниматься бизнесом. Он продолжал бы играть в метро, потому что ему это нравится, нравится больше всего на свете, но и делом тоже занялся бы. Чем-нибудь таким, связанным с музыкой. Еще в школе у него отлично получались разные поделки из дерева, у него вообще были умелые руки. Например, он мог бы научиться делать скрипки. Флейтист с удовольствием представлял их будущую жизнь лет через десять: дом – полный скрипок, уже законченных и еще находящихся в работе, Алису – служащую второй скрипкой в каком-нибудь оркестре. А может быть, она захочет все бросить и они заведут детишек? Поселятся в маленьком городке на севере, а перед домом он установит деревянную вывеску, на которой нарисует скрипку. Рисовал он в свое время тоже неплохо.
Вместо того чтобы повести ее в ресторан, тот же самый или какой-нибудь другой, Аксель заказал в баре сэндвичи. Сказал, что очень устал. Что поднялся в шесть, чтобы поехать в Хитроу и попрощаться с Джарвисом. Там сегодня собрались все его старые друзья, даже Айвен, и они выпили по чашечке кофе. Только Айвен поступил умнее Джонаса и потом пошел домой спать.
– Я хотел бы кое-что тебе сообщить, – сказал он Алисе, но не уточнил, что именно.
В пабе было довольно скверно: сильно накурено и толпился народ. Они с Акселем сидели в темном углу на стальных стульчиках за крошечным столом с мраморной столешницей. Пересесть не было никакой возможности. Джонас принес сэндвичи с сыром и маринованными огурчиками, новый бокал бренди для себя и шампанское для Алисы.
Из головы молодой женщины не выходили его слова о том, что ему не нравится заниматься любовью днем. Это была самая необычная фраза, которую ей когда-либо говорили. Интересно, в шутку он это произнес или на самом деле об этом думал? Когда Алиса подняла на него взгляд, ей почудилось, что Аксель знает, что у нее сейчас на уме. Этого не могло быть, но она могла поклясться, что он знает все.
– Так о чем ты хотел со мной поговорить? – спросила она наконец.
– В каком смысле? – Ее друг, похоже, изумился.
– Ты же сам сказал, что хочешь кое-что мне сообщить.
– Ах да, конечно! Просто не знаю, как ты на это отреагируешь…
Его взгляд напомнил Алисе биолога, разглядывающего предназначенную для вивисекции зверюшку: холодный, оценивающий и безучастный. Впрочем, он тут же изменился, вновь став нежным и внимательным. Аксель протянул руку с кольцом и коснулся ее ладони. Но вместо того, чтобы сжать ее пальцы, он их только погладил. Улыбка у него сделалась немного удрученной.
– Мне хотелось бы, чтобы тебе понравилось, – сказал он. – Давай, ты скажешь, что тебе нравится, даже если это будет не так? Договорились?
– Я не знаю, – ответила скрипачка, словно маленькая девочка.
– Ну, конечно же знаешь, ты должна знать! Ну что, согласна или нет?
– Согласна.
– Я переезжаю жить в твой дом.
Алиса ничего не ответила. На миг ей показалось, что она ослышалась, что это какой-то сленг или что ее друг сказал это в переносном смысле. Его фраза звучала как какая-то поговорка, что-то наподобие: свой дом – не чужой, из него не уйдешь. Или: вот тебе бог, а вот порог.
– Извини. Я что-то не поняла, – пробормотала скрипачка.
– Я переезжаю жить в твой дом, – с нарочитым терпением повторил Аксель. – В дом, где ты живешь. Я снял там комнату. Точнее, две комнаты.
– Но ты не можешь! Это же дом Джарвиса.
– Ай-яй-яй, Алиса, – пальцы мужчины снова погладили ее ладонь. – За кого ты меня держишь?
Его собеседница мотнула головой.
– Что ты обо мне подумала, Алиса? Ты подумала, что я – сквоттер? Естественно, я договорился с Джарвисом. Скажу тебе больше, он сам попросил меня об этом.
– Зачем тебе это нужно? У тебя же есть квартира.
– Не могу больше жить с медведем, – усмехнулся Джонас.
Алиса, не отрываясь, смотрела на него. Ее рука словно плавилась под его легкими, как перышко, прикосновениями.
– Я ни с кем не могу ужиться, – продолжал Аксель. – А ты обещала сделать вид, что тебе понравилась моя идея.
Обещала? Слова собеседника сильно озадачили женщину. Она сама не могла понять, что чувствует.
– Я снял кабинет пятого класса и еще кабинет рисования. Джарвис сказал, что там свободно.
Значит, он будет жить прямо над ней и Томом, на третьем этаже, там, где обитает Джед и находится комната с поездами, а еще колокол. И он будет там не только днем. Скрипачка снова покраснела, и это не укрылось от ее друга. Алиса догадалась об этом по улыбке, мелькнувшей у него на губах. Она уже забыла, что в помещении полно народу, воняет сигаретным дымом и стоит дикий гвалт. Они были вдвоем, и она почувствовала себя слабой и беззащитной. Аксель сжал ее пальцы:
– Во что ты веришь, Алиса?
– Что ты имеешь в виду? Бога? Жизненные принципы? – отважилась она уточнить.
– Решай сама.
– Тогда в музыку…
– Ага, так и думал, что ты это скажешь.
– А ты сам? – прошептала женщина.
– Я? Ну, я верю в любовь. В вечную и безграничную. В любовь мстительную и карающую.
Он поднес ее пальцы к губам и медленно поцеловал:
– А сейчас я вынужден перед тобой извиниться. Мне пора уходить.
– Нет, останься, пожалуйста, – прошептала скрипачка, не в силах поверить, что произнесла это.
– Увы, дорогая, у меня назначена встреча, которую я не могу пропустить.
Он произнес это странным наигранным тоном. И расхохотался, заметив, как она расстроилась.
– Алиса, ну не делай, пожалуйста, такое лицо, – попросил он. – Я уж было совсем поверил, что тебе понравилась моя идея переезда в «Школу».
– Понравилась, – тупо ответила она.
Джонас опять вызвал такси, открыл дверцу и заботливо усадил Алису в машину.
Глава 15
Как-то бабушка заметила о соседском коте, сбитом машиной, но выжившем, что теперь животное, несомненно, усвоило урок и больше на дорогу не полезет. Бьенвида повторила ее слова Джасперу.
– Я тебе кот, что ли?! – возмутился мальчик.
Сестра просто не понимала, что с ним происходит. Почему-то она решила, что раз он тогда испугался, то больше никогда не будет заниматься «зацеперством».
– А коты вовсе не ездят на крышах поездов, – возразила девочка, похоже, уже и сама понимая, что ее аналогия не работает.
– Нет, зато там есть крысы, – сказал ее брат. – И я нисколько не удивлюсь, если окажется, что они выползают из своих нор на крыши вагонов и так путешествуют от станции к станции. На многие-многие мили.
Они немного поговорили о крысах, а потом еще о мышах. Бьенвида недавно открыла, что если на полу в раздевалке оставить хлеб, а потом потихоньку вернуться, то можно увидеть не меньше десятка мышек, подъедающих крошки. Одна мышь даже пробежала по руке Джаспера, когда они с сестрой спали внизу, и он с воплем проснулся. Хорошо еще, что никто его не услышал. Несколько недель мальчик держался подальше от подземки и даже начал снова ходить в школу, не пропуская занятий. Ну, почти не пропуская… Но однажды ему приснилась его последняя поездка на крыше. В том сне он не смог вовремя спрыгнуть, никто, одетый медведем, его не ловил, а зеленая металлическая перегородка, про которую Аксель Джонас сказал, что под ней полно места, оказалась всего в дюйме от крыши вагона. Джаспер проснулся в тот самый миг, когда железяка должна была снести ему голову. В другом сне на крыше рядом с ним оказался сам Аксель, столкнувший его прямо на контактный рельс. Мальчик решил, что никогда больше туда не вернется и не станет рисковать.
Но время шло, и страх забывался. Наверняка даже кот у бабушкиных соседей снова начал перебегать через дорогу. Джаспер ничего не рассказал о случившемся Деймону. А прочие из их компании посещали другую школу, и он не виделся с ними с того самого злополучного дня. Да он и не стремился ни с кем об этом разговаривать. Юный экстремал должен был все обдумать сам. Тот длинный участок пути между Бейкер-стрит и Финчли-роуд никак не выходил у него из головы, причем выглядел все более и более соблазнительно. Длина участка была приблизительно равной тому, который он проезжал по Юбилейной линии, разве что без двух промежуточных остановок. А мальчик сказал Акселю Джонасу, что уже ездил там…
Если бы он тогда не соврал, это не беспокоило бы его так сильно – это вообще не имело бы никакого значения, и Джаспер смог бы обо всем забыть. Но теперь он просто обязан был сделать свою позорную ложь былью. Он исполнит это, а потом, может быть, совсем прекратит заниматься «зацеперством». Как тот теннисист, который больше всего на свете хотел выиграть Уимблдонский турнир, а как только ему это удалось, ушел из спорта.
Как всегда, в районе полудня, то есть в выверенное время, Сесилия направилась проведать Тину и увидела у «Школы» молодого мужчину – высокого, темноволосого и бородатого. Вместе с другим – пониже, в шляпе и шарфе – они выгружали из фургона мебель. Какую-то металлическую конструкцию, вроде кровати, еще одну вещь, которую миссис Дарн назвала бы матрасом-футоном, а также множество фотокамер и прочего фотографического оборудования. У входной двери «Школы» сгрудились коробки и чемоданы.
Сесилия узнала бородача: это был тот самый человек, который изводил ее тогда в поезде. Другой, очевидно, был «медведем». Придя в ужас, пожилая женщина еле сдержала инстинктивный порыв спастись бегством. Сердце ее сильно забилось, но Сесилия не подала виду, хотя и не спускала с этих двоих глаз, пока не оказалась в безопасном месте на веранде «Школы». Они ее не узнали – в этом она была совершенно уверена. Оба не обратили на нее никакого внимания, будто миссис Дарн там и вовсе не было. Впрочем, она давно привыкла к тому, что ее не замечают, и не придавала этому особенного значения. Она знала, что пожилые женщины – это самые незаметные, невидимые для прочих существа.
А через пару минут она подумала, что могла и ошибиться. Все бородатые мужчины похожи друг на друга. В Лондоне, должно быть, тысячи молодых бородачей. А «медведя» она даже в лицо толком не видела, лишь то, что виднелось между челюстями маски. Сесилия была довольна, что не поддалась глупой панике и так хорошо обо всем рассудила. Бросив на мужчин последний взгляд, она окончательно уверилась, что это – не ее бывшие мучители, и пошла в дом. Заметив, что они тащат по дорожке раму кровати, она оставила входную дверь открытой.
Внуки были в школе. По крайней мере, дома их не было, а миссис Дарн предпочитала считать, что они именно в школе. То, что в этот тихий полдень она нашла Тину сидящей на кухне с чашечкой кофе и читающей «Гардиан», окончательно убедило ее, что дела у дочери обстоят прекрасно. А та подняла на гостью глаза и произнесла:
– Привет, мам. Как жизнь?
Сесилия бы совершенно не удивилась, если бы услышала в продолжение что-нибудь вроде: «Мне нужно кое-что тебе сказать». А потом бы последовала фраза, на которую миссис Дарн так надеялась: «На следующей неделе мы с Брайаном поженимся».
Но ничего такого Тина не сказала. Как всегда, безмятежная и принимающая жизнь такой, какая она есть, дочь поднялась и налила матери кофе. Она как-то невнятно сказала, что ей пообещали работу и что она, наверное, согласится. Уже много лет мисс Дарн говорила о намечающейся работе, иногда даже с энтузиазмом, но так никуда и не устроилась. Это было семейной чертой, проявившейся в Тине и, возможно, в Джарвисе, которая заключалась в философическом спокойствии и беспечности. Черта эта никак не проявилась в Сесилии и ее предках. Похоже, миновала она и Бьенвиду.
– Тина, я бы очень хотела, чтобы вы пришли ко мне на Рождество, – сказала гостья, после того как дочь закончила расписывать сомнительные преимущества работы на полставки в открытом недавно магазине поношенной одежды. – Вы ведь можете прийти в Сочельник и переночевать у меня, а утром дети получат свои чулочки с подарками.
– Ага, нормально, – кивнула молодая женщина. – В смысле, на Рождество мы, конечно, придем. Но нам же не нужно решать все это прямо сейчас, правда?
Тина никогда не хотела ничего решать «прямо сейчас». Непредсказуемость и сюрпризы нравились дочери куда больше. Сесилия не стала упорствовать. Ей очень хотелось задать один вопрос, который Дафна, маниакальная любительница телевикторин, назвала бы вопросом на 64 тысячи долларов. Но миссис Дарн продолжала ходить вокруг да около.
– Будет Дафна, конечно, как обычно, – сказала она. – И Питер тоже попытается выкроить время и забежать на обед.
Тина упорно молчала. Она сосредоточенно сдирала с ногтей старый лак, поддевая его ногтем большого пальца, а потом кидала красные чешуйки в чашку с кофейной гущей. Миссис Дарн делала вид, что ничего особенного не происходит, стараясь не смотреть прямо на дочь, но и не отворачиваться от нее. Однако ей все же не удавалось вполне отстраниться от этого малопривлекательного зрелища, и поэтому она сказала себе, что это совершенно нормально, что здесь ничего противного и тем более непристойного. Тысячи молодых женщин делают так, а она – просто капризная старая перечница, если раздувает трагедию из такого пустяка. Пожилая дама глубоко вздохнула и продолжила:
– Я сейчас подумала, не спросить ли и Брайана?
– О чем? – поинтересовалась ее собеседница.
Да уж, не в обычаях Тины было сглаживать ситуацию! Она и не замечает, что кому-то нелегко. Для нее самой всегда все просто.
– Не придет ли он на Рождество, – вздохнула миссис Дарн.
– И в чем проблема?
– Как ты думаешь, он согласится?
– Понятия не имею. Спроси лучше у него.
Сесилия решила не усугублять ситуацию. Она собиралась встретиться с Дафной в торговом центре на Брент-кросс и закупить там все к Рождеству. Отправилась женщина на автобусе. На Брент-кросс была станция Северной линии, но для того, чтобы попасть туда из Западного Хэмпстеда, ей пришлось бы на «Бейкер-стрит» пересесть на Кольцевую, выйти на «Кингс-кросс» и пересесть на Северную (ветка Эджвейр), и только потом, проехав восемь станций, она бы попала на Брент-кросс. И все это при том, что от Западного Хэмпстеда туда было всего-то около двух миль! В юности Джарвис начертил план ветки между «Голдерс-Грин» и «Вест-Энд-лейн», но это было только мечтой, сном, который он, кстати, видел сейчас, лежа в кровати в гостинице Днепропетровска. Он часто видел во сне несуществующие, воображаемые линии подземок и даже целые системы метрополитенов.
Аксель Джонас уже два дня прожил в «Школе», когда Алиса наконец это заметила.
Она ничего не рассказала Тому о его намечающемся прибытии. Она никому об этом не сказала. Как только Том вышел, чтобы купить еды, Алиса заглянула в комнаты, которые снял новый жилец. Его не было ни в одной, ни в другой. Окна везде были закрыты темно-зелеными шторами, висевшими по всей «Школе». В «пятом классе» стояли стол и деревянный стул, а в кабинете рисования до сих пор сохранились мольберты и длинный стол с расставленными вокруг него стульями. На стенах были развешаны картины в рамах. Алиса узнала несколько репродукций, хотя познания в живописи у нее были весьма смутными: рыжеволосая девочка в белом платье и с ангелом, держащем лилию, портрет бледной молодой длинношеей женщины, церковь с невероятно высоким шпилем и деревьями вокруг…
Из окон пятого класса можно было видеть сад, фабричные здания, расположенные за железнодорожными путями, серебристые поезда, исчерченные граффити – в общем, все то же самое, что и из окон ее комнаты. Кабинет рисования смотрел на улицу, где выстроились в ряд безлистые уже платаны и дома, в окнах которых висели бумажные гирлянды, и разложен был ватный «снег». Снаружи было сухо и морозно, холодный ветерок гнал вдоль водосточной канавы мусор и опавшие листья.
Алиса ждала телефонного звонка. Уже две недели она не разговаривала с Акселем. Каждый раз, когда звонил телефон, она думала, что это он, и спешила схватить трубку прежде Тома. Но это были то Дэниэл Корн, то мать Тины, то Питер. Тина снимала трубку, только если в доме никого больше не было. Она была убеждена, что, если кто-то желает с ней поговорить, ее обязательно позовут, а если никто не ответит, то желающий может перезвонить потом. А вот Мюррей всегда поднимал трубку. Ему частенько звонили по поводу его так называемой «работы». Алиса с неудовольствием отметила, что флейтист начинает вести себя как менеджер, считая свою игру в подземке важным и прибыльным бизнесом.
– Джей знаком с прекрасным гитаристом и уверен, что сумеет убедить его присоединиться к нам, – сказал он ей как-то вечером, за два дня до Рождества. – Если удастся его привлечь, это будет ценным приобретением.
Алиса приподняла брови.
– Мне нужно серьезно поработать над тем, как победить в конкурентной борьбе, – добавил ее друг. – У этих примитивных, с точки зрения музыки, рок-групп обычно прекрасное оборудование. В настоящий момент нам просто нечего им противопоставить.
Они находились в бывшем кабинете директора. Том сидел, уперев локти в стол и положив подбородок на кулаки. Его нахмуренные брови показывали высшую степень сосредоточенности. Прядь волос упала ему на глаза, и он смахнул ее за ухо.
– Чья музыка лучше – вопроса нет, – добавил молодой человек. – Люди хотят нашу музыку, она им нравится, ты и сама это знаешь. Глупо и ошибочно полагать, что народу неинтересно настоящее искусство, хорошая музыка. Нет, очень даже интересно. Но что делать, если профессиональную музыку заглушает сотня децибел саксофона? Сразу после Рождества я займусь проблемой усиления нашего звука.
Алиса напомнила ему, что в доме нечего есть и надо пойти за покупками.
– Ну, можно сходить в китайский ресторанчик, – равнодушно ответил флейтист.
Таким тоном мог бы говорить успешный бизнесмен, сделавший блестящую карьеру и зарабатывающий уйму денег. Подруга не стала напоминать ему, что она получает восемьсот фунтов в месяц, а Том – дай бог, если восемьдесят. Полученные им конверты с анкетами, которые он должен был заполнить и отослать в консерватории, так и валялись нераспечатанными.
– Между прочим, – продолжил Мюррей, – я намереваюсь попросить свою бабушку ссудить меня деньгами для покупки необходимого нам оборудования.
Они вышли из комнаты на галерею, которой заканчивалась лестница. Для такой теплой зимы это был довольно холодный день. Том был одним из тех, кто никогда не одевается по погоде, обходясь неизменным пиджаком. Зимой он всего лишь поднимал воротник. Алиса надела зимнее пальто, весьма довольная тем, что предусмотрительно захватила его с собой из дома. Еще на ней были джинсы, ботинки, вязаная шапочка и перчатки. На плечи она накинула красно-голубую шаль, которую купила из чистого сумасбродства. Ее блестящие каштановые кудри рассыпались поверх шали, образуя еще один покров вроде пелерины или фаты.
Ее спутник принялся разглагольствовать о том, что он довольно неостроумно называл запасной тетивой в своем луке. Он разузнал, что в Кембридже читают курс по изготовлению скрипок. Якобы это будет прибыльным делом, а кроме того, послужит ему своеобразной терапией. Том предлагал скрипачке представить, какой мир, безмятежность и удовлетворение от неторопливой тонкой работы снизойдут на него, когда он займется таким замечательно полезным ремеслом.
Алиса взяла было его за локоть, но тут же резко отдернула руку, увидев, кто поднимается по лестнице им навстречу. Сердце молодой женщины ухнуло куда-то вниз. Такого ощущения она еще не испытывала. Это была не боль, но что-то очень близкое к ней. А потом, когда сердце возвратилось на положенное место, оно начало стучать так, словно в груди у скрипачки били в там-там.
Аксель шел неторопливо, и его глаза смотрели прямо ей в лицо. Одет он был во все то же долгополое черное пальто и черный шарф, длиной в два роста своего хозяина. Этот шарф был небрежно обмотан вокруг шеи Джонаса, и его концы опускались до самых ступней, подобно столе священника.
Алиса не знала, как быть. У нее мелькнула мысль, что он пришел навестить ее, а может быть, даже и забрать отсюда. Или, что гораздо хуже, что он, наоборот, не собирался ее забирать. Она задумалась о том, что будет делать, если этот мужчина сейчас подойдет к ней и поцелует ее прямо на глазах у Тома. Аксель же, прежде чем подняться по следующему пролету лестницы, остановился и внимательно посмотрел на них с Мюрреем. Он просто стоял и смотрел. Так, словно видел Алису впервые в жизни.
Потом он произнес:
– Меня зовут Аксель Джонас. Я друг Джарвиса и теперь здесь живу.
Том шагнул ему навстречу, протянув ладонь. Он назвал свое имя, а затем, кивнув через плечо на Алису, представил ее. Они пожали друг другу руки. Аксель держался безразлично, ни единым взглядом не выдавая их знакомства.
Женщина тоже пожала ему руку, настолько холодную, что она ощутила это даже через перчатку. Она вздрогнула, словно от электрического разряда, и Джонас, несомненно, почувствовал это, пока держал ее пальцы в своих. Тогда Алиса выпустила его руку. Ей казалось, что Мюррей должен был сообразить, что происходит, заметить эту маленькую молчаливую драму, ведь даже воздух вокруг них в тот момент будто сгустился от напряжения, от фальшивого безразличия Акселя и ее подавленного страха и, что уж там скрывать, страстного желания.
Но флейтист дружелюбно улыбался.
– Мы вот собрались пойти перекусить, – сказал он новому знакомому.
Джонас кивнул.
– Если тебе что-нибудь нужно узнать, спрашивай, не стесняйся. Я имею в виду, об этом доме. Да и вообще, если будут проблемы, тебе нужно только сказать, – предложил ему Мюррей.
– Хорошо, я не буду стесняться, – ответил Аксель, и Алисе показалось, что эта фраза прозвучала очень многозначительно, как бы с некоторым намеком, предназначенным только для ее ушей. Что он не будет ни стесняться, ни медлить.
Между тем новый жилец стал подниматься дальше по лестнице. Когда Алиса с Томом спустились в вестибюль, флейтист оглянулся и посмотрел, куда именно тот направился, какую дверь открыл. Молодой женщине расхотелось покидать дом. Ее страх и нервозность ушли, уступив место возбуждению. Скрипачку все не оставляла мысль о том, что Аксель пришел за ней, переехал сюда ради нее, чтобы всегда быть рядом и жить с ней под одной крышей.
Аппетит у нее совершенно пропал. Алиса не могла дождаться, когда вернется домой. Пока они сидели в ресторанчике и потом, когда шли назад, она все надеялась, что Том заговорит о Джонасе – например, скажет, что не ожидал увидеть нового жильца или еще что-нибудь. Заговорить первой она боялась. Но ее спутник, кажется, и думать забыл о нем: он хотел обсуждать лишь свои планы на их совместное будущее.
– О чем ты вообще? Какое будущее может быть у уличных музыкантов? – раздраженно оборвала его подруга.
Мюррей только усмехнулся:
– Но мы же не будем ими всю жизнь! То есть это будет не так, как ты думаешь. Когда мы прославимся в подземке, то выйдем на свет. Джей хорошо знает одного журналиста, и тот собирается написать о нас статью в «Ивнинг Стандарт». Что ты скажешь, если через год наше трио будет выступать в Ковент-Гарден?
Алиса ничего не ответила, и лишь на обратном пути, уже перед входной дверью, она спросила:
– Кстати, что ты думаешь о том человеке, которого мы сегодня встретили?
– Каком-таком человеке? – удивился флейтист.
Или он действительно успел уже забыть нового знакомого, или просто не придавал случившемуся никакого значения.
Алиса же долго не могла уснуть, думая об Акселе и о том, на самом ли деле он переехал из-за нее или нет. Одна из его комнат находилась прямо над их с Томом жильем, другая – немного в стороне, над вестибюлем. Женщина прислушалась. Наверху было тихо.
На следующее утро дом встретил ее пустотой и безмолвием. Была пятница – последний рабочий день перед Рождеством.
Теперь, когда Джонас переехал и они встретились, Алиса ждала, что он снова позвонит ей на работу, но он этого почему-то не сделал. Когда после работы она спустилась на станцию «Холборн», Том уже ждал ее там, и они вместе поехали домой. У флейтиста сегодня выдался отличный денек – он привлек внимание взыскательной публики редко исполняемыми рождественскими хоралами: Ковентрийским, «Слава в вышних Богу» и «Святками». Его часть заработка составила больше десяти фунтов.
Алиса уговаривала себя, что, когда она вернется, Аксель будет ждать в вестибюле. Он будет стоять, как тогда, в первый день, и читать старомодные девичьи имена на сосновых панелях. Но в холле, как и во всем доме, никого не было. Они с Томом поели в ее комнате, слушая купленную скрипачкой запись концерта Брамса. Они вообще часто слушали вместе музыку, стараясь при этом сделать звук потише – хотя после одиннадцати вечера проигрыватель не включали. Алиса не боялась помешать обитателям этого дома, но сейчас она думала о Джонасе и немножко надеялась, что он появится в дверях и попросит их уменьшить громкость. С этого вечера она думала об Акселе не переставая, он присутствовал в каждой ее мысли. Он был в воздухе, которым она дышала, в каждом звуке, который она слышала, каждое лицо, которое она видела, превращалось в его лицо, а когда она засыпала, он приходил в ее сны.
Скрипачка ничего не могла с этим поделать. Этот мужчина, как гвоздь, засел в ее голове. Из-за того, что его не было рядом с ней наяву, она постоянно пребывала в лихорадочном смятении и тревоге. Неважно, находился ли он в доме или его там не было. Ее мысли все время вращались вокруг одной и той же идеи: подойти к двери пятого класса или кабинета рисования, постучать, войти внутрь и увидеть его. Она все никак не могла на это решиться, но думала на эту тему безостановочно.
Среди вещей, забытых когда-либо в метро были: корзина с фазанами, несколько рождественских индюшек, полторы тысячи фунтов и бархатный футляр с полным набором масонских регалий.
Особенно часто пассажиры забывают свое имущество под Рождество. В прошлом году на склад забытых вещей станции «Ливерпуль-стрит» были переданы четыре сумки с рождественскими припасами и целый деревянный поднос с сэндвичами из булочной.
В вагонах наводят порядок по ночам. Поезда Центральной линии в конце каждой смены завалены мусором. С «Оксфордской площади» каждую ночь выносят восемьдесят мешков мусора, большая часть которого – это упаковки из-под еды и бесплатные газеты. А вот туннели, как ни странно, заполняются человеческими волосами, которые накапливаются там незаметно, выпадая из голов миллионов пассажиров метро.
Уборщики спускаются в туннели по ночам, когда обесточивают контактный рельс. Их работа – собирать все, что упало на железнодорожные пути. Занятие само по себе не столько опасное, сколько скучное и зловещее, если не пугающее. Поскольку электричество выключено, поезда не могут ездить по рельсам, и вы абсолютно точно знаете, что это – невозможно. Но если поезд все-таки появится, расстояние между вагоном и стенами туннеля будет не более девяти дюймов.
Представьте, что произойдет, если в этот миг вы окажетесь там. Ни спрятаться, ни убежать. При этом вы слышите, как проезжают поезда. Но на самом деле, это автоматические поезда британской почты, идущие по туннелям, параллельным пассажирским. Вы знаете это, но можете ли вы быть уверены хоть в чем-то, находясь глубоко под землей ночью?
В Токийском метро есть специальный персонал, чьим единственным занятием является сбор в специальные корзины рукавов, оторванных в часы пик, и обуви, машинально снятой пассажирами и оставленной на перронах.
Вечером перед Сочельником Джед повез Абеляра к ветеринару. Он рассказал о том, что у ястреба трудности с полетом: похоже, что он не всегда может долететь до веток, расположенных на высоте, и еще у него выпадают перья на правом крыле. Его выслушали, записали птицу на прием к орнитологу в институт ветеринарии и настоятельно посоветовали держать ее в тепле.
Лори отнес ястреба к себе в «старший шестой класс», усадил на насест, включил масляный обогреватель и ушел. На платформе «Тоттенхэм-Корт-роуд» Северной линии он встретился с тремя другими «Защитниками» – двумя женщинами и мужчиной. Они проехали до Хай-Барнета и обратно – все было спокойно. Но во время их второй поездки группа подростков «под газом» принялась носиться по вагонам. Пробегая, они пнули сумку одной из пассажирок, разбросали по полу ее содержимое, а когда какой-то пожилой мужчина попытался их остановить – толкнули и его. Джед вышел из поезда и предупредил машиниста, а тот позвонил в полицию. Когда поезд подъехал к «Кентиш-таун», то хулиганов уже ждала машина с двумя полицейскими.
Мир был восстановлен. Потом одна из «защитниц», Мария, обнаружила подозрительную сумку, стоявшую в углу второго вагона. Они подумали, что там вполне может оказаться бомба, и разговоры об этом длились до самой «Тоттенхэм-Корт-роуд», но Лори полагал, что это не более чем очередная позабытая в метро рождественская индейка.
Вернувшись домой, он нашел Абеляра мирно спящим в теплой и уютной комнате.
Тина с детьми пришла к матери поздним утром 25 декабря. Сочельник она отпраздновала с Дэвидом Корном и вернулась домой лишь на рассвете. На обеде у Сесилии, кроме ее дочери с внуками, присутствовали еще Брайан Эльфик, Дафна и Питер Блич-Палмеры, а также Джей Россини.
Брайану пришлось даже пожертвовать приглашением от своей девушки провести день в доме ее сестры, жившей с мужем в Чингвелле. Но он был порядочным мужчиной с несколько старомодными представлениями о своем отцовском долге и обязанностях. Дети Тины знали о его подруге и даже несколько раз встречались с ней, но никому о ней не рассказывали. Джасперу было все равно, с кем встречается его отец, и к тому же он, как и большинство представителей мужского пола, не распространялся о своих знакомствах. Бьенвиду же девушка очень заинтересовала, но она была известна как девочка скромная и стремящаяся никогда не говорить о том, что может спровоцировать проблемы. Поэтому она ни словом не упомянула при бабушке о подруге Брайана и была готова отрицать наличие этой женщины, если та вдруг спросит.
Тина, мучившаяся от похмелья и простуды, была мрачна и замкнута. Именно ее болезнь доставила больше всего проблем, потому что Джей все время суетливо беспокоился о том, как бы не заразился Питер, а под конец договорился до того, что было бы куда лучше, если бы они вообще ушли с праздника.
– Поверь мне, это не будет первой простудой в его жизни, – беспечно заметила Дафна. – Когда Питер был маленьким, он не вылезал из простуд. Лучше бы вы побеспокоились о Сесилии, у нее слабые легкие.
Но Россини не успокаивался. Питер сел как можно дальше от Тины, и все равно каждый ее чих сопровождался тревожными охами и ахами его друга. Всем вокруг, исключая саму виновницу переполоха, стало чрезвычайно неловко. Как только обед закончился, Джей усадил Блич-Палмера в такси и они уехали.
По случаю Рождества лондонская подземка не работала. Брайан на своей машине отвез бывшую подругу с детьми домой. До «Школы» было недалеко, но все были нагружены подарками, а из-за похмелья и простуды у Тины раскалывалась голова. Они встретили Акселя, выходящего из дома вместе с другим мужчиной, чье лицо почти полностью скрывал капюшон, но поскольку их никто не знал, все решили, что это – друзья Алисы и Тома.
Сесилия и Дафна собрали бумагу, оставшуюся после распаковки подарков, и аккуратно сложили ее, чтобы использовать на следующий год ту, которая была не слишком порвана. «Если он, конечно, будет, этот самый следующий год», – думали при этом старушки. Потом они завернули остаток индюшки в целлофан и отправили в холодильник. Переделав все дела, подруги сели рядышком на диване и стали смотреть фильм. Показывали «Поездку в Индию». Пожилые дамы почти и не разговаривали. Словно старая супружеская пара, они уже давным-давно все друг другу сказали. Оставались лишь мелочи вроде приятных незначительных слов и маленьких комплиментов, которые они говорили друг другу при каждой встрече. Поэтому на реплику Дафны о том, какой хорошенькой растет Бьенвида, Сесилия отвечала, что Питер, похоже, исправляется, если судить по внешним признакам.
Миссис Дарн прежде читала книгу, по которой был снят фильм, и вскоре перестала следить за сюжетом. В целом, она была очень счастлива. Сесилия радовалась тому, что Дафна остается у нее ночевать и что утром она принесет подруге чай в постель, приготовив его в точности, как та любит – капелька молока и ложечка сахара, а потом раздвинет шторы и, поинтересовавшись, как Дафна спала этой ночью, получит в ответ традиционную шутку:
– На левом боку, дорогая, под твоим миленьким теплым пледом.
Подумав обо всем этом, Сесилия вернулась к приключениям мистера Мура в Марабарских пещерах.
Глава 16
Единственным, кто заразился простудой от Тины, стал Том. Алиса после рождественских каникул вернулась на работу. Она чувствовала себя свободной, когда, возвращаясь вечером домой, не обнаруживала Мюррея на станции «Холборн». Теперь там какая-то девушка пела песни Тэмми Вайнет под аккомпанемент барабана и гитары.
Как обычно, скрипачка думала об Акселе Джонасе. Он мерещился ей повсюду: в толпе пассажиров на платформе, на фотографиях в газете, которую она пыталась читать по пути… Она не видела Акселя с той самой встречи на лестнице, зато часто слышала над головой его шаги, а вчера вечером – какой-то шум из-за закрытой двери «переходного класса». Том лежал в постели у себя в «четвертом» и лечился от простуды. Было уже довольно поздно, но на Вест-Энд-лейн работал круглосуточный магазин. Алиса купила там аспирин, а когда возвращалась, увидела в окне эркера проблеск, похожий на луч фонарика.
Он сразу же исчез, и она не была уверена, что ей не показалось. Зайдя в дом, молодая женщина подкралась к двери «переходного» и прислушалась. Оттуда доносилась негромкая возня, но не звук шагов, а другой шум, словно там что-то перебирали и двигали – то ли шуршали пачками бумаг по деревянной поверхности, то ли открывали и закрывали ящики стола. Впрочем, может быть, все это было только игрой воображения.
Она подозревала, что там был Джонас. Ни Тина, ни Джед никакого интереса к комнате Джарвиса не проявляли. Если бы Алиса точно знала, что это они, то спокойно открыла бы дверь и поинтересовалась, чем они тут занимаются. Но при одной мысли, что в темной комнате находится Аксель, ей стало страшно. Она боялась того, что после этого может случиться. Поэтому женщина быстро поднялась по лестнице и выключила за собой свет. Пока она готовила для Тома горячее питье и растворяла в стакане воды аспирин, Алиса все время пыталась убедить себя, что ничего особенного не происходит: в конце концов, Джонас – друг Стрингера и, безусловно, обо всем с ним договорился. Впрочем, она отлично понимала, что ее беспокойство вызвано отнюдь не только этим.
Позже скрипачка услышала на лестнице его шаги. Для того чтобы подняться на третий этаж, Акселю не нужно было проходить мимо Алисиной комнаты, но, судя по звукам, он прошел по галерее и остановился за ее дверью. Алиса знала, что если он сейчас повернет ручку, то войдет: дверь была не заперта. Она ждала, затаив дыхание и замерев от ужаса. Никогда еще в своей жизни она так не боялась. И никогда так ни на что не надеялась.
Он простоял долго, наверное – целую минуту, которая показалась Алисе вечностью. Потом послышался звук удаляющихся шагов, и у нее над головой хлопнула дверь. Напряжение спало. Скрипачка сама не могла сказать, что испытала – облегчение или горькое разочарование, – так же, как она не могла бы объяснить, чего так испугалась.
Множество раз она обдумывала тот их разговор, когда Аксель заявил, что он – сумасшедший. Он произнес это совершенно серьезно и спокойно, как будто говорил о том, что страдает астмой или обмороками. И сейчас Алиса все больше склонялась к мысли, которая в тот момент почему-то не пришла ей в голову: Джонас использовал слово «сумасшедший» как иносказание, подразумевая свою взбалмошность, эксцентричность, а может быть, и донкихотство.
Ведь еще он сказал, что верит в любовь. Ей тогда показалось, что произнес он это довольно зло, но не исключено, что это ей именно показалось. Зачем ему было говорить Алисе о своей вере в вечную и безграничную любовь, если он сам в нее не влюблен?
В противоположность бытующему мнению, преступления в лондонской подземке довольно редки.
К примеру, в Брикстонскую полицию заявлений о кражах поступает в три раза больше, чем в Лондонскую Транспортную.
Самое распространенное преступление в метро – «щипачество», то есть кража бумажников и других вещей пассажиров.
В 1957 году на станции «Глочестер-роуд» в опускающемся лифте была заколота семидесятитрехлетняя польская графиня Тереза Любенская. Это случилось летом, поздним вечером в пятницу. В 1983 году из обреза застрелили билетера в Белхэме. При этом его убило не пулей, а отлетевшим пыжом. Двадцать три человека были тогда допрошены по подозрению в убийстве, но преступника так и не нашли.
В том же году бродяга по имени Кьернан Келли попытался столкнуть под поезд одного из пассажиров. Его задержали по обвинению в покушении на убийство. В камере он задушил одного из своих соседей его же собственным шнурком. Этот Келли признался в нескольких убийствах и в 1984 году был приговорен к пожизненному заключению.
Причиной большинства драк, происходящих в метро, является алкоголь. Иногда просьба потушить сигарету может дорого вам обойтись – в следующую секунду вы без чувств будете лежать на полу.
Тип, который бросался в толпу на платформе и пытался сталкивать людей на рельсы, получил от полицейских не слишком остроумное прозвище Дикарь с Борнео. У него были длинные спутанные волосы и грязная одежда. Одного пассажира ему удалось сбросить, но, к счастью, тот остался невредим. Контактный рельс, по которому бежит «кровь», питающая поезда, то есть электричество, пролегает у стены под платформой.
Никто и никогда еще не был убит в поезде лондонской подземки. Так же, как ни разу не было заявлено ни об одном изнасиловании.
А вот непристойное поведение встречается частенько. Полиция называет таких «щупальщиками». При этом довольно сложно сказать, какая часть подобных правонарушений совершается намеренно, а какая – просто случайные прикосновения в давке, обычной в часы пик.
Впрочем, можно не сомневаться, что в метро ездит достаточно мужчин, которые используют представившуюся возможность, чтобы воплотить в жизнь свои фантазии.
Алиса вошла на станцию «Холборн» и встала на эскалатор. Донесшаяся снизу музыка заставила ее насторожиться. Она была из репертуара «популярной классики» Тома – «Маленькая ночная серенада». Пока скрипачка спускалась, Моцарт сменился вальсом Штрауса. Но это не мог быть ее друг, разве что он каким-то чудом внезапно выздоровел. Она свернула за угол и увидела за поворотом стоящих у стенки Питера с гитарой, Джея с тенор-саксофоном, пляшущего «медведя» и Акселя с самодельным «варганом» из расчески и полоски бумаги.
– Это не удивительное совпадение, как ты, наверное, думаешь, – сказал Алисе Блич-Палмер. – Мы же знаем, что ты возвращаешься с работы этим путем.
Играть они не прекратили, а человек в костюме медведя продолжил танцевать. Только Джонас разобрал свой «инструмент»: скатал в трубочку бумажку и сунул расческу в карман длиннополого пальто. Он смотрел на скрипачку и слегка улыбался. Она встала рядом у стены, чтобы не мешать прохожим. У нее возникло мимолетное ощущение, что эти люди знают друг друга уже многие годы, а сейчас сговорились и втихомолку смеются над ее наивным конфузом.
Но Питер, закончив вальс лихим тремоло, прошептал ей:
– Они предложили поиграть с нами вместо Тома. Мы повстречали их, когда пришли за ним. «Медведь» имеет просто оглушительный успех.
Мужчина, изображающий медведя, услышав его слова, помахал молодой женщине лапой и поклонился. Между челюстями мелькнуло уродливое, перекошенное лицо с носом-«уточкой». Поймав ее взгляд, он быстро отвернулся. Она попыталась улыбнуться, но теперь ужимки «зверя» смешили ее не больше, чем в свое время Сесилию. Аксель рывком подтянул его к себе, назвав «мишкой», и приказал вести себя прилично. Россини подобрал с пола шляпу, ссыпал монеты в сумку и сказал Блич-Палмеру, что он устал и на сегодня хватит.
Питер с Джеем пошли на линию Пикадилли. «Медведь» снял свой костюм, под которым оказалась куртка с капюшоном. Он застегнул ее так, чтобы надежно прикрыть нижнюю часть лица, и тоже направился к ведущей на север линии, косолапя, как самый настоящий медведь. Алиса с Акселем остались вдвоем, пусть даже посреди огромной толпы людей. Они прошли на платформу Центральной линии и остановились у стены с фотографиями экспонатов Британского Музея.
– Я тут немного поболтал с твоим любовником, – сказал Джонас. – С твоим Томом.
В его тоне Алисе почудился легкий упрек, осуждение. Она подняла на него взгляд. Лицо ее собеседника было серьезно, проницательные глаза – грустны, и он снова напомнил ей пастора, сурового и аскетичного. Впечатление усиливалось одеждой, которая была на Акселе: белая футболка выглядывала из-под черного свитера, как колоратка священника, а с шеи опять свисал длинный темный шарф. Первым побуждением скрипачки было отречься от Мюррея, сказать, что никаких отношений между ними давно уже нет, но она произнесла только одно:
– Я так и поняла.
– У нас с ним была чрезвычайно интересная беседа.
Сейчас Джонас говорил, словно шантажист. В его голосе Алисе явственно послышалась угроза, и она довольно резко сказала:
– Что ты имеешь в виду?
Губы Акселя растянулись в улыбке:
– А как ты сама думаешь? Ах, Алиса, Алиса! Видимо, ты решила, что я рассказал ему о том, что произошло за стенами «Школы»? О наших маленьких тайных свиданиях и одном ночном поцелуе? Я прав?
Ничто не могло бы заставить молодую женщина покраснеть сильнее, чем такие слова. Она просто ненавидела сейчас этого нахала. Лицо ее горело, кровь стучала в висках. А Джонас стоял перед ней в отвратительно наглой позе, наихудшей позе, в которой, по мнению Алисы, только может стоять мужчина с женщиной. Он упер руки в стену по обе стороны от нее, не давая ей пошевелиться, но и не прикасаясь к ней.
Потом он вдруг склонил голову набок, словно прислушиваясь к чему-то:
– Поезд подходит.
Сама скрипачка ничего не слышала – ни звука, ни вибрации.
– Становится холоднее, – пояснил ее собеседник. – Чувствуешь? Это движение воздуха. Кровяное давление сразу падает.
– Откуда ты это знаешь?
– Мне рассказал Джарвис, – руки мужчины безвольно упали. – Ненавижу подземку. Она – мой злейший враг.
– Неодушевленный предмет не может быть врагом.
– Еще как может, если ведет себя как враг и причиняет тебе боль.
Его глаза блестели все ярче, по мере того как со скрежетом и громыханием приближался состав, заставляя рельсы вибрировать. Наконец поезд с шумом вырвался из туннеля. В вагонах было полно народу, но никто не вышел. Алиса едва протолкалась внутрь. Похоже, это была одна из тех поездок, во время которых служители вынуждены утрамбовывать пассажиров, чтобы двери могли закрыться.
Скрипачка протиснулась к стеклянной перегородке. Акселя прижало к ней. В принципе, он сделал это не нарочно, и если бы Алиса ехала одна, на его месте был бы кто-нибудь другой. Она чувствовала его тело, эту вынужденную близость, которая все усиливалась по мере того, как толпа в вагоне уплотнялась: никто не выходил на остановках, зато заходили все новые и новые пассажиры.
В туннеле между «Тоттенхэм-Корт-роуд» и «Оксфордской площадью» поезд замедлил ход и остановился. Кто-то толкнул Алису слева, потом еще кто-то справа, но она не особенно этим обеспокоилась. Молодая женщина воспринимала окружающих как неодушевленные предметы вроде мебели. Единственным живым человеческим существом для нее сейчас был Аксель, чья грудь упиралась в ее, чьи бедра касались ее бедер. Она чувствовала даже биение его сердца, и ей казалось, что оно бьется все быстрее – пульс мужчины стучал как барабанная дробь. Алиса попыталась успокоиться, насколько это возможно, когда испытываешь такую сильную тревогу или страх, но вздохнуть полной грудью ей никак не удавалось.
Джонас был заметно выше своей спутницы, и ее глаза оказались напротив его губ. Она догадывалась, что он смотрит на нее, но поднять взгляд не решалась, а потом и вовсе сомкнула веки. Ему нужно было лишь слегка наклониться, чтобы поцеловать ее. Поезд тронулся. Скрипачка сказала себе, что хотя Аксель и находится сейчас так близко, как это только возможно для совершенно одетых людей, но не потому, что ему этого хочется. Его просто прижало к ней в давке, как могло бы прижать любого другого постороннего человека.
Наконец она подняла лицо, и их взгляды встретились. Джонас стоял склонив голову. Он мгновенно прикрыл глаза. Его лицо было исполнено страдания. Не раздражения, не скуки, не недовольства, а именно страдания, даже отчаяния.
Алиса вздрогнула. На «Бонд-стрит» они начали пробиваться к выходу. Поезд Юбилейной линии, идущий на север, тоже был сильно переполнен, но теперь между ней и Акселем стояли другие люди. На платформе «Западного Хэмпстеда» оказалось ветрено, и после духоты вагона скрипачке стало холодно. Том обязательно обнял бы ее за плечи, чтобы согреть. Но он не был ей больше нужен. Она уже сейчас с тоской думала, как придется весь вечер сидеть у его постели, утешая, поднося ему то поесть, то попить горяченького, а он будет распространяться о том, как станет королем всех бродяг, величайшим уличным музыкантом и великим скрипичным мастером-ломастером, Страдивариусом из Западного Хэмпстеда.
– Может, сходим куда-нибудь выпить? – спросила она Акселя замирающим голосом.
Ее спутник промолчал. Алиса увидела, что он стоит закрыв глаза и на его лице по-прежнему отражается боль.
– Не люблю местных пабов, – наконец произнес он холодно и безразлично, как будто речь шла о пабе, а не о возможности побыть вместе. Его слова просто убили молодую женщину, но она попыталась ответить ему в тон:
– Понятное дело.
– Мне вообще не стоит заходить в метро, – сказал Джонас. – Не понимаю, зачем я это делаю. Наверное, я мазохист.
– Иногда у нас нет выбора, – вздохнула скрипачка.
Но Аксель, не обращая внимания на ее слова, продолжил:
– На самом деле, мне нужно оживить все это в памяти. Я должен все время об этом помнить. Я не могу забыть, мне нельзя. Мне нужно знать, на что это все похоже, – он повернулся к Алисе: – А выпить мы можем и в кабинете рисования.
Это прозвучало так неожиданно, что ее лицо снова вспыхнуло. Она была рада темноте, тому, что он не может этого увидеть. К тому же стоял густой туман, лизавший кожу, словно холодным языком. Асфальт стал влажным и липким. Они пересекли мост и спустились по ступенькам. На улицах было полно машин, но тротуары опустели, едва скрипачка и ее друг удалились от станции. Казалось, Аксель забыл о ее существовании, словно они были двумя одинокими незнакомцами, случайно идущими домой одним и тем же маршрутом. Когда они подошли к воротам «Школы», он уже обогнал Алису на несколько ярдов. Она вдруг испугалась, что он может зайти в дом и захлопнуть дверь прямо у нее перед носом. Но вместо этого он пропустил ее вперед, придержав дверь, пока скрипачка не зашла внутрь.
Скорее всего, план Джаспера был заранее обречен на неудачу. Он собирался открыть давно забитые отверстия в полах, размотать веревку колокола и вновь спустить ее в раздевалку. Пока на верхнем этаже жил только Джед со своим Абеляром, это казалось вполне решаемой задачей. Сейчас, к примеру, Лори вообще отсутствовал. В «третьем классе» проживал Джарвис, и операция по спуску веревки рядом с дверью его спальни могла превратиться в опасное приключение. Но хозяин дома уехал, а комнаты Тома и Алисы находились в другом крыле здания. Правда, веревка свисала бы довольно близко от двери Джеда, но в том углу было темно, а кроме того, Джаспер был совершенно уверен, что Лори никогда туда не заглядывает.
Но накануне Тина рассказала сыну, что в доме появился новый жилец, снявший кабинет рисования и бывший пятый класс. Она упомянула об этом между прочим, просто для поддержания разговора. Мальчику эта новость не понравилась. То, что наверху появился еще какой-то тип, совершенно не входило в его планы. Впрочем, как разумно заметила Бьенвида, все зависит от характера человека. Если он такой, как их мать, то нипочем не увидит веревки, а вот если как бабушка – не только увидит, но и поднимет шум. Точно так же поступили бы Джарвис, Брайан или Дэниэл Корна. А такой человек, как Том, – ни в жисть.
Теперь Бьенвида со своей Каролиной и Джаспер с фонариком стояли в коридоре перед дверью в бывшую школьную лабораторию, слева от последнего лестничного пролета. На нижних этажах горел свет, поэтому здесь было пусть и сумрачно, но не совсем темно. Они скатали часть ковровой дорожки и с помощью отвертки, забытой у них Дэниэлом, вешавшим Тине полку на кухне, открыли люк. На деньги, подаренные ему Сесилией на Рождество, Джаспер купил новый фонарик. Теперь он посветил им в темную дыру. Внизу была лишь древесная труха и паучьи гнезда.
– Видишь, в потолке следующий люк? – сказал мальчик сестре. – Открыть его будет легче легкого, если, конечно, никто нам не помешает.
Как только он это произнес, они услышали, как открылась и закрылась входная дверь. Второй целью их визита на верхний этаж было подглядеть, что это за новый жилец объявился в их доме. Джед был в саду с Абеляром, их мать ушла, а Алиса, насколько дети знали, сидела с Томом в его комнате, так что это мог быть только он. Джаспер торопливо закрыл люк, Бьенвида раскатала дорожку, и оба они шмыгнули в самый темный угол коридора.
Мальчик полагал, что таинственный пришелец, ступив на лестницу, зажжет свет на своем этаже. Тогда они с сестрой спрячутся за дверью лаборатории и подсмотрят за ним в щелку. Но свет не зажегся. Слышались только шаги двух пар ног.
В коридоре появилась Алиса, первой поднявшаяся по лестнице, и быстро пошла к кабинету рисования. Потом показался мужчина: высокий, темноволосый, бородатый, в черном длинном пальто. Джаспер узнал в нем Акселя Джонаса и прикрыл рот ладонью, чтобы удержать рвущийся наружу крик.
В кабинете рисования была раковина. Аксель достал из шкафчика под ней бутылку виски и три стакана, в один из которых набрал воду. С потолка в центре свешивалась тусклая лампочка без абажура. В комнате было холодно и пахло сыростью. Носком ботинка мужчина ткнул в выключатель тепловентилятора.
Один стакан он протянул Алисе, плеснул туда на два пальца виски и добавил воды. Его гостья не любила виски и сама никогда не стала бы его пить. Себе он приготовил такой же напиток – то же количество и в таком же стакане. Присесть здесь можно было только на стулья из полированной сосны с жесткими прямыми спинками. Джонас показал пальцем на один из стульев, а сам опустился на другой с противоположной стороны стола. Обстановка была до крайности неуютной: холод, шум вентилятора и подслеповатая лампочка, покачивающаяся от сквозняка.
Верхнюю одежду они не сняли. Алиса поднесла стакан к губам, но Аксель удержал ее руку.
– Погоди. Давай выпьем за нас, – сказал он.
Они чокнулись. Звук вышел неожиданно чистым и мелодичным для дешевых стаканов. Лицо Джонаса оставалось серьезным, почти грустным.
– За чьего-то любовника.
– За тебя, – ответила скрипачка – ничего другого ей в голову не пришло.
Виски, казавшийся таким ледяным в стакане, обжег рот и прокатился по горлу струйкой пламени. Алиса не сумела подавить дрожь, как не смогла и удержаться от оправданий:
– Но я же не говорила, что у меня никого нет. Значит, я не врала.
Она надеялась, что ее друг улыбнется, но он этого не сделал. Виски ударил ей в голову, которая начала кружиться, и молодая женщина почувствовала, что становится безрассудной.
– С чего ты вообще взял, что я все должна тебе рассказывать? О себе ты ничего не говоришь, – начала она сердито, но затем немного опомнилась. – Ну, ладно, кое-что говоришь. Но я не могу в это поверить, да и никто бы не поверил.
– Во что именно?
– В то, что ты – сумасшедший. И в то, что ты ненавидишь метро. Кстати, ты на самом деле фотограф?
– Посмотри, здесь везде мои фотоаппараты.
Под портретом молодой женщины стоял стол, на котором лежали две камеры и еще какое-то фотографическое оборудование. Алиса посмотрела туда и покачала головой.
– Ладно, хорошо. Ну, а твой «медведь»? – попыталась отшутиться она. Ей вдруг вспомнились слова Сесилии, пересказанные Тиной, и она кивнула на портрет. – Как ты думаешь, я на нее похожа?
Джонас разозлился – это было заметно, на его лице остался лишь мертвый, остекленевший взгляд.
– Нет, – ответил он. – Ни капли. А тебе что, сказали, что между вами есть сходство?
Алиса кивнула. Возможно, кротость в ее глазах смягчила ее собеседника.
– Это портрет Марии Замбако кисти Берн-Джонса. Он любил ее, и это сразу заметно, правда? Ну, может быть, немножечко ты на нее и похожа, – лицо Акселя чуть оттаяло, глаза просветлели. – Есть что-то общее. Кто знает, может быть, именно поэтому ты мне и нравишься?
Последнюю фразу он произнес так, словно спрашивал самого себя.
Скрипачка была ужасно довольна. Даже больше: она вдруг почувствовала безмерное счастье. Ей больше не хотелось спрашивать ни о медведе, ни о том, почему он сюда переехал, ни о его праздном, бездельном образе жизни – все стало совершенно неважным. Наверное, он понял это по ее взгляду.
– Я ведь говорил тебе, что был психологом. Знаешь, они все сумасшедшие. Если бы ты прочитала о Фрейде, что он вытворял что-то подобное, например, разгуливал по Вене с человеком, одетым медведем, ты бы не удивилась, ведь так? Почему же мне ты не веришь?
– Я верю, – промямлила Алиса. – Просто мне кажется это странным.
– Все правильно.
Он встал и взял бутылку с виски. Скрипачка протестующе забормотала и попыталась даже прикрыть свой стакан, но Аксель механически, словно поворачивал ручку двери, взял ее за запястье и отодвинул ее ладонь. В стакан полилась вторая порция. Алиса смотрела на него снизу вверх, захваченная его темно-голубым гипнотическим взглядом, как уже случалось в предыдущие их встречи.
– Можно тебя спросить кое о чем? – затаив дыхание произнесла она.
– А если я не отвечу?
– Не думаю. Где ты взял номер моего рабочего телефона? Джарвис не мог тебе его сказать, у него у самого его не было. Названия конторы он тоже не знал, только то, что она находится рядом со зданием, в котором проходит вентиляционная шахта подземки. Ты же знаешь, он с ума сходит по всяким поездам и метрополитенам. И с Томом ты тогда еще не был знаком. Ты ведь даже не знал, что Джарвис сдает комнаты.
Джонас не опустился обратно на стул, а остался стоять, опершись руками о стол. Когда она назвала имя Тома, то заметила, что его пальцы сильнее вдавились в деревянную столешницу и костяшки побелели. Он молчал.
– Извини, Аксель, но я хочу знать, – настаивала молодая женщина.
– Я проследил за тобой, – его голос казался теперь мягким, хрипловатым и задумчивым. – Проследил за тобой от «Школы».
Значит, в метро тогда действительно был он.
– Ты следил за мной?
– А почему бы и нет? – мужчина чуть улыбнулся. – Чем ты, собственно, недовольна?
Голова кружилась. Алиса отставила стакан:
– Не хочу больше пить.
– Ты сердишься на меня? – спросил он беззаботным тоном, в котором звучало только любопытство.
– Нет-нет, я не сержусь! Просто я тебя не понимаю. Не знаю, чего ты хочешь, не представляю даже, что ты сделаешь в следующий момент.
– Я хочу тебя, – ответил Джонас.
Он пододвинул свой стул, сел, протянул руки к своей подруге и начал поглаживать ее предплечья, слегка сжимая их сквозь толстую зимнюю одежду. Было глупо по-прежнему оставаться в этом наряде, но в комнате, несмотря на включенный вентилятор, до сих пор было холодно. Скрипачка немного отвернулась от Акселя, склонив голову. Тогда он сделал то же, что и в первый раз, когда поцеловал ее: взял рукой ее лицо, проведя пальцами по коже, ощупывая каждую косточку, словно был слепым. Его собственное лицо приближалось к ней, все ближе и ближе, пока губы не прикоснулись к ее губам, пока еще не целуя, а только дотрагиваясь.
Алиса не могла больше терпеть эту тяжелую одежду, она развязала шарф и расстегнула пальто. Язык Джонаса прикоснулся к ее губам и раздвинул их. Он оказался шершавым, как у кота. Аксель удерживал ее за шею, легко и мягко, его пальцы ласкали тонкую нежную кожу у нее за ухом. Женщина почувствовала нарастающую слабость, и ее кости стали похожи на ненатянутые струны. Поцелуй был медленным, изучающим, почти без нажима, как бы бестелесным, а их губы были словно сделанными из шелка. Алиса вдруг обнаружила, что сползла вниз на этом дурацком жестком деревянном стуле.
Аксель распахнул ее пальто, расстегнул кардиган, а потом – блузку и чутко, нежно, не прикасаясь к коже, начал раздевать ее, как профессиональная горничная. Когда она почувствовала наконец его пальцы, они оказались волшебно теплыми в этой холодной комнате. Он целовал ее грудь, скользил губами по коже, а затем взял ее груди в ладони – нежно, будто прикасаясь к цветам. Алиса нашла в себе силы произнести:
– Пойдем в твою комнату.
Позже она подумала, что все было похоже на сказку или на миф, в котором чары разрушаются единственным неверным словом или запретным действием. Психея смотрит на спящего Эроса и проливает из лампы раскаленное масло. Юная принцесса спрашивает у мужа, куда он уходит по ночам. Всего лишь слова, но их оказалось достаточно, чтобы момент был упущен, наваждение разрушено.
Она не проливала масла, не нарушала запретов, она просто заговорила о том, что ей представлялось разумным и необходимым. Она не могла не произнести этих слов. И Аксель поднял голову и застыл. Потом он запахнул ей одежду на груди и коротко обнял ее за плечи, прижавшись на миг щекой к ее щеке. Небрежность и скупость этого жеста должны были бы сразу все объяснить ей. Но она находилась в ином мире, унесенная туда на крыльях желания, и не могла ни о чем думать, не способна была даже глубоко вздохнуть. Пока Джонас вел Алису к двери, она приникла к нему. Его рука лежала на ее плечах, обнимая, но рядом с дверью он убрал руку. Провел пальцем по ее губам и открыл дверь.
Там до сих пор было темно. Дети ушли. Дом был тих, может быть, даже пуст, но Алису это не интересовало. Напротив них находилась дверь «пятого класса» – другая комната Акселя. Он взял ее за руку. Женщина заметила, будучи не в силах поверить своим глазам, что он улыбается ей и качает головой. Он гладил ее руку, как делают, когда утешают ребенка.
– Не здесь, – сказал он. – Мы не можем здесь. Ведь внизу Том.
Скрипачка могла только смотреть на него.
– Подумай сама. Будь ответственной. Это не может сейчас произойти, только не в этом доме, – шептал он. – Ты сама поймешь, если хорошенько подумаешь.
К женщине вернулся дрожащий голос:
– Как я могу думать?
– Не при твоем болящем Томе, Алиса.
Мужчина снова слегка погладил ей руку и отпустил ее. Они уже не касались друг друга – кажется, он отступил на шаг.
– Так все станет грязным. Все очень легко может стать грязным, а мне бы этого не хотелось. Мы найдем другой путь.
– Как? – прошептала она.
– Мы все преодолеем, – сказал Аксель, глядя вдаль, как если бы говорил о каком-то благородном подвиге.
И оставил ее стоять там одну. Она не в силах была поверить, что он вот так уйдет, бросит ее, но он это сделал. Пересек коридор, подошел к двери пятого класса, повернул ручку. На краткий миг Алиса понадеялась, что Джонас передумал, что сейчас он обнимет ее и увлечет внутрь. Но он, не оглянувшись, шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. Призрак улыбки на его лице скрипачка, вернее всего, только вообразила.
Ей хотелось стучать в эту дверь и вопить во все горло. Но вместо этого она спустилась по лестнице. Алиса знала, что через несколько минут должна идти к Тому – по крайней мере, не позже чем через полчаса. Но не сейчас, сейчас она не могла. Она пошла в «кабинет директора» и упала на кровать.
Глава 17
Это была одна из призрачных станций, «Мальборо-роуд», а может быть – «Лордс», находившаяся в конце линии Метрополитен, если двигаться в северном направлении. Кроме платформы и стен, от нее давно ничего не осталось. Стены, впрочем, когда с них сняли карты, таблички, разноцветные афиши и рекламные объявления, ничем больше не напоминали о метро. Вялое январское солнце едва освещало рельсы, а грязные бетонные конструкции приняли в его лучах благородный серый оттенок.
Джаспер лежал на крыше вагона третьего от головы поезда, раскинув руки и ноги как бывалый «зацепер». Он размышлял об Акселе Джонасе. Тот спрашивал его как раз о таких станциях и о том, останавливаются ли на них поезда. Мальчик сказал тогда, что не останавливаются, но сегодняшний случай явился исключением из этого правила. Однако он не собирался рассказывать об этом Акселю – он вообще не хотел с ним разговаривать. Пусть Аксель и переехал жить в «Школу», но переехал он не ради него, Джаспер это точно знал.
После той встречи на верхнем этаже, когда они с Бьенвидой решали, как быть с веревкой колокола, мальчик видел нового жильца еще три раза: на лестнице, в саду за домом, где бородач разглядывал ястреба, орущего в клетке, и на Финчли-роуд, идущим к «Школе». Сам Джонас, похоже, ни разу его не заметил. То есть не просто не узнал, но даже не понял, что Джаспер был совсем рядом. Благодаря Тине, мальчик за время своей короткой, но насыщенной жизни знавал много странных людей, поэтому он сразу понял, что этот Аксель – чокнутый, и решил держаться от него подальше.
Поезд вздрогнул и тронулся с места. Джаспер, заранее предвкушавший поездку на полной скорости до самой Финчли-роуд, был немного расстроен из-за этой ненужной остановки. Впрочем, у него было о чем подумать, пока он лежал на крыше вагона. В поезде находились Деймон, Кевин и Крис. Дина Миллера они не видели с той самой поездки в Эппинг. Кто-то из мальчиков собирался на обратном пути тоже «зацепиться». Не возвращаясь в вагон, Джаспер спрыгнул на платформу и встретился с ними у автомата с шоколадками.
Он уже был близок к тому, чтобы покинуть их и отправиться домой, срезав путь по тропинке, идущей параллельно железной дороге из Фрогнала на Вест-Энд-лейн. Бабушка советовала ему не ходить там в одиночку, особенно в темноте – якобы там было опасно. Вечер был близок, но Джаспер не придавал особого значения бабушкиным советам, тем более когда они касались вопросов безопасности. Он подумал, что сегодня у него будет прекрасная возможность побыть дома одному – Бьенвида не в счет, – а следовательно, есть шанс продвинуться в решении проблемы колокола.
Его приятели расшумелись: они не то чтобы ссорились, а скорее спорили, кто из них проедет на крыше до Бейкер-стрит. Крис заявил, что Деймон вечно только наблюдает, а сам так ни разу и не «зацепился».
– Я не трус, – возразил на это Деймон. – Просто не хочу, и все.
– Все этого хотят, – объявил Кевин.
– А я нет.
– Зачем ты тогда катаешься с нами, если не хочешь «цепляться»?
Деймон ничего не ответил, а Джаспер сказал, что идет домой. Он сделал то, что собирался: проехался с ветерком по длинному перегону – и мог теперь со спокойной душой прекратить «зацеперство». Что же, все хорошее рано или поздно заканчивается. Так им с Бьенвидой сказал Брайан, после того как они в воскресенье два раза подряд посмотрели «Грязного Гарри».
– Чем же ты теперь займешься? – спросил Крис так, будто в мире не было больше ничего, чем можно заняться, а «зацеперство» являлось единственным мыслимым хобби, развлечением, спортом и отдыхом. – Ну, вот чем?
«Буду каждый день звонить в колокол, – мог бы ответить его друг. – Это будет только мой колокол, знаменитый хэмпстедский колокол Джаспера Эльфика, который звонит каждое утро ровно в восемь, день за днем, не пропуская ни единого раза». Но, конечно, он этого не сказал. Он был еще в том возрасте, когда не принято объявлять о своих планах, придумывать оправдания, объяснять, устанавливать дату следующей встречи, прежде чем попрощаться, желать всего наилучшего, просить передавать приветы дражайшим родственникам, жать руку или целовать в щеку, а потом оборачиваться и махать рукой на прощание. Не надо было даже говорить: «Ну, что же, пойду, пожалуй…» Можно было просто уйти.
Джаспер шел, обдумывая, как бы половчее миновать турникет, не имея билета – на «Финчли-роуд» вечно торчали контролеры, – как вдруг раздался голос из громкоговорителей. Говорили с ужасным индийским акцентом, и к тому же громкий звук из репродуктора был таким, что казалось – у говорящего каша во рту. Впрочем, смысл объявления был ясен: на отрезке между «Финчли-роуд» и «Парк Уэмбли» произошел «несчастный случай», возможны задержки, поэтому всех пассажиров, направляющихся в южном направлении, просят воспользоваться Юбилейной линией.
Каждый год около двухсот человек пытаются покончить жизнь самоубийством в Лондонском метро. Примерно половине это удается.
Даже те из них, кто не умеет плавать и ни за что не стали бы нырять в воду, под приближающийся поезд именно ныряют, а не прыгают.
Королевская Лондонская больница исследует возможность обучения персонала метрополитена, как распознать потенциальных самоубийц путем отслеживания необычного поведения людей – тех, кто долго остается на платформе, пропуская поезд за поездом, задает слишком много вопросов о маршрутах или останавливается сразу перед выходом из туннеля.
Джаспер подумал, что, если Деймон и остальные поедут по Юбилейной, он мог бы вернуться вместе с ними. Тот поезд останавливается на «Свисс-Коттедж», где намного проще было проскользнуть без билета, да и до дома рукой подать. К тому же с ним мог пойти Деймон, живущий где-то в районе Белсайз-лейн.
Мальчишки до сих пор продолжали дразнить Деймона, и Джасперу это не нравилось. Конечно, подобные ехидные словечки звучали постоянно, каждый день, и к такому привыкаешь. Это одна из составных частей подросткового мира, обязательно кто-нибудь обнаружит твое больное место, неважно какое: ты слишком низенький или слишком высокий, слишком толстый или слишком тощий, прыщавый или рыжий, чернокожий или индус, имеешь смешной акцент, у тебя чудаковатая мать или странный отец, ты слишком бедный или слишком богатый. Но на сей раз все было иначе. Похоже, его друзья били по самому сокровенному, что имелось в Деймоне, по чему-то невидимому, похороненному глубоко внутри. И если со всеми другими особенностями, вроде жира или рыжих волос, их обладатель не мог ничего поделать, то Деймон мог. Он должен был отвечать за недостаток смелости, но недостаток чего-то еще делал его неспособным перебороть свою трусость.
Джаспер, конечно, не думал об этом в подобных словах, ведь ему было всего лишь десять лет. Но чувствовал он именно так. Ему не нравилось выражение лица Деймона – затравленное, смущенное, слишком детское, как будто он превратился в малыша и собирается сотворить совершенно немыслимую вещь – заплакать. Даже кожа на его щеках покраснела и опухла.
Несмотря на объявленные задержки на других линиях, лишь немногие пассажиры перешли на Юбилейную. В вагоне, помимо мальчиков, находились всего два человека: пожилые мужчина и женщина. Джаспер еще прежде заметил, что люди стараются не заходить в вагон, когда там едет их компания. Ему это нравилось. В пачке оставалось еще три сигареты. Джаспер вытряс одну и зажал ее между закрывающимися дверями.
Кевин, ненадолго притихший, сказал Деймону:
– Эй, ссыкун! Глянь, у тебя джинсы на заднице мокрые!
– Неправда! – буркнул обиженный мальчик. Он машинально глянул на свои джинсы, с ходу не уловив подколку. Но потом все понял – и покраснел.
Крис захохотал:
– Тебе памперсы нужно надевать!
Джаспер догадался, что памперсы – это такие подгузники для малышей, он видел как-то по телевизору их рекламу. Сделав затяжку, он сказал разошедшимся приятелям:
– Отвалите, а? Отстаньте от него.
Поезд продолжал стоять.
– Младенчик, – сказал Кевин. – Младенчик и к тому же заяц. Значит, заячий младенец. Уси-пуси, масенький!
– Уси-пуси, уси-пуси! – подхватил Крис и, вскочив с сиденья, запрыгал по-заячьи, размахивая руками. К нему присоединился и Кевин. Неожиданно двери вагона открылись, и сигарета упала на рельсы. Джаспер выругался. Он всегда приберегал ядреные словечки для моментов вроде этого.
– Пошли на хрен, вы, двое! – завопил он. – Пошли на хрен, я вам говорю!
Это подтолкнуло пожилого мужчину к вмешательству. Тяжело ступая, тот прошел по вагону, схватил одной рукой Кевина, другой – Криса и начал орать на Джаспера. Двери закрылись, и поезд тронулся. Никто из них не заметил, как Деймон прошмыгнул к дверце в торце вагона, открыл ее и вышел.
«Несчастным случаем», вызвавшим задержку поездов на линии Метрополитен, оказалась смерть мужчины, бросившегося под поезд на станции «Престон-роуд» в южном направлении. Это происшествие задержало Тома, когда он возвращался от бабушки. Ему пришлось брать такси, иначе уехать из Рикмэнсворта было невозможно. Впрочем, особых проблем он в этом не видел.
Последнее время продукты для них двоих покупала Алиса. Кроме того, она перечисляла деньги Джарвису со своего банковского счета не только за свою комнату, но и за комнату Мюррея. Когда они ходили в кафе, платила тоже она. Том заметил, что в последнее время его любимая делала все это без возражений и жалоб. В глубине души он был уверен, что это – правильно, что она обязана платить. Она нашла свою работу, невзирая на его протесты, настояла на том, чтобы туда устроиться, хотя прекрасно знала, что ему это не нравится, она буквально выводила его из себя, делая все, что было ему не по нутру. Значит, скрипачка должна была за это заплатить. А деньги, которые зарабатывал он, принадлежали только ему, и он мог делать с ними все, что хотел. Например, потратить пять фунтов на такси.
Может, случайно, а может, и потому, что из этого района вела одна-единственная дорога, таксист проехал именно там, где сосед бабушки флейтиста слишком далеко выехал на встречную полосу, врезался в машину и погиб, а Том вылетел из седла его мотоцикла и ударился головой о дерево. Дерево это было на месте. На гладком сероватом стволе не осталось даже царапины. Из-за увиденного у Мюррея разболелась голова. Хотя, возможно, она заболела сама по себе. Молодой человек не был уверен, что здесь имелась связь…
Он начал думать о том, какой была бы его жизнь, если бы он тогда не поехал с Энди в Лондон, а позволил бабушке отвезти его на станцию. Наверняка Энди все равно бы погиб, сделав жену вдовой, а трех своих детей – сиротами. Но вдруг мотоцикл вынесло на встречку только потому, что там находился дополнительный вес, то есть сам Том? Теперь уже бесполезно было об этом гадать, даже вспоминать не стоило. Сейчас Мюррей бы уже получил диплом и прошел прослушивание в какой-нибудь знаменитый оркестр. И никогда бы не встретился с Алисой.
А вдруг бы встретился? Что, если это было их предназначение, их судьба? И если не туннель метро, то какие-нибудь другие события привели бы их друг к другу, например, зал в Снейпе или любая другая концертная площадка. Алиса спасла ему жизнь, в этом он был уверен целиком и полностью. Так же, как и в том, что если не добудет денег, то потеряет ее. Она не говорила этого прямо, но музыкант понимал, что рано или поздно так и случится. Когда-нибудь его подруга бросит свою работу и попросит у него денег. Успех и деньги – вот что ему требуется. Слава-то у него будет, совсем скоро, как только выйдет та газетная статья. Как раз сегодня журналист брал у него интервью.
Точнее, это оказалась журналистка, старинная подруга Джея. Она явилась в сопровождении фотографа. Том хотел, чтобы Алиса взяла отгул и тоже сфотографировалась со скрипкой в руках, но та категорически отказалась.
– Не хочу, чтобы люди видели меня в таком положении, – отрезала она.
– В каком еще «таком положении»? – мгновенно взвился флейтист. – Почему ты не хочешь? Кто не должен видеть тебя играющей на скрипке с теми, кто через несколько лет станет самым знаменитым уличным оркестром?
– Да хотя бы мои родители. Это так, для начала, – ответила скрипачка. – И Майк, как ты сам должен понимать. И мои работодатели. Я – серьезный музыкант. Я и так уже достаточно повредила своей карьере. Как я поеду в Брюссель, если мое фото напечатают в газете рядом с Питером и Джеем?
– Джей – отличный музыкант!
– Ну и прекрасно. Можешь так и сказать своему газетчику.
Журналистка спросила Тома о его образовании, и он рассказал про аварию, особенно упирая на повреждения головного мозга. Сейчас он был всецело уверен, что эти повреждения у него были. Он сказал, что несчастный случай направил его талант по новому руслу, заставил его понять, что классическая музыка отнюдь не исчерпывается той, которую исполняет Королевский филармонический оркестр или покупают меломаны на компакт-дисках. Люди могут вживую слушать и рок, и джаз, но они соскучились по настоящей музыке. И у него есть мечта. Мечта о городе, где на каждой площади будет выступать оркестр, а на ступенях каждого общественного здания – трио.
Том не был уверен, что на самом деле мечтал о таком – эта идея пришла ему в голову прямо во время интервью. Журналистка записывала все в блокнот, а вдобавок еще и на диктофон. Он рассказал ей об игре в метро. Когда его собеседница спросила, знает ли он, что это запрещено законом, Мюррей ответил с саркастической усмешкой:
– Законом? Каким законом? Инструкцией Лондонской Транспортной?
Женщина процитировала на память:
– «В метрополитене запрещается петь, играть на музыкальных или любых других инструментах, включать граммофоны, проигрыватели, магнитофоны, переносную беспроводную аппаратуру».
– Тогда вот решающий довод, – торжествующе объявил флейтист. – Говорите, нельзя «никоим образом беспокоить пассажиров»? А мы никого и не беспокоим. Люди любят нашу музыку.
Он рассказал о своей идее усиления звука. Поведал о проводных и беспроводных системах, разнообразии ресиверов и о проблеме потери сигнала при передаче. Журналистка сказала, что усилители подходят только для рока.
– Почему? – поинтересовался Том. – Разве нельзя представить, что музыка Бетховена звучит из новейшей беспроводной УКВ-системы?
Женщина спросила его о хобби, каких-то иных интересах, и Мюррей рассказал об изготовлении скрипок. При этом немного увлекся, и она, возможно, могла решить, что он уже освоил это искусство.
Сначала фотограф снял их троих с музыкальными инструментами в руках, а потом одного Тома. Журналистка сказала:
– А вы довольно симпатичный. Надеюсь, я вас не смутила такими словами?
Питер, в последнее время начавший острить в какой-то чудно́й мрачной манере, заявил: желает сфотографироваться в белом плаще с косой в руках. Журналистка нервно хохотнула, похоже, не зная, что на это сказать. Блич-Палмер сейчас действительно смахивал на ходячий скелет – кожа да кости.
Бабушка Тома выглядела теперь даже моложе, чем два года назад при их последней встрече. Когда он позвонил ей и сказал, что заедет, особой радости она не выказала. И внук, вместо того чтобы поцеловать ее, лишь коснулся щекой ее напудренной запавшей щеки.
Она поинтересовалась, не голоден ли он, предупредив, впрочем, чтобы на многое не рассчитывал – ничего особенного она не готовила, только самую обычную еду. Молодой человек легкомысленно решил, что это всего лишь лицемерие, присущее ее поколению, но вскоре ему пришлось изменить свое мнение: на кухонном столе его ждали только сыр и крекеры, а на «десерт» – пара бананов и чашка растворимого кофе.
Особенностью мигрени музыканта было то, что голова у него болела не постоянно. Точнее, временами непрерывная боль резко усиливалась. Эти приступы, никому не понятные и не похожие на обычную мигрень, обрушивались на него словно удар молнии, бьющей в затылок, а потом боль начинала метаться по черепной коробке. Он попросил аспирина, и бабушка подала ему две таблетки, растворенные в чашке воды.
Первые полчаса они говорили о ней самой, о ее доме, саде, занятиях и подругах. Том спрашивал, она отвечала. Где-то к середине обеда ей наскучили вопросы внука, и она сухо спросила, вернулся ли он в университет.
– Мне потребовался год, чтобы восстановиться после аварии, – ответил флейтист. – Я не мог вернуться. Не смог бы учиться.
– Я знаю, – сказала старая женщина. – Ты ведь жил тогда у меня. Ты не забыл, что жил в этом доме?
Он забыл. До него вдруг дошло, что бабушка на него обижена.
– После аварии прошло уже много больше года, Том. Ты же обещал мне, что, как только почувствуешь себя лучше, вернешься в университет, – упрекнула она молодого человека.
– Но как? – он постарался произнести это со всей горечью, на которую был способен. – Знаешь, что произойдет? Я ведь уже заканчивал второй курс. А сейчас мне придется проходить его заново. И учти, на этот раз стипендии мне не дадут.
Он недооценивал старушку и подумать не мог, что она в состоянии самостоятельно разобраться в подобных материях.
– Естественно, я это прекрасно знаю, – отозвалась она. – И сейчас объясню тебе, как надо действовать: ты пишешь заявление, после чего тебе дают грант на последний курс. Как только тебя принимают обратно, ты пишешь другое заявление на имя ректора. Ректор напишет им, что ты был болен, но что ты – прекрасный студент. Есть шанс, и весьма неплохой, что тебе дадут стипендию и на прохождение второго курса. Я все это выяснила, после того как ты ушел. Все ждала, когда ты вернешься, но ты не возвращался.
Том пробормотал, что ему очень жаль. Потом он набрался смелости, поднял глаза на бабушку и выразился, весьма туманно, что надеется на ее «спонсорство».
– Но тебе это не потребуется, – возразила она, – тебе дадут стипендию.
– Я имел в виду немного другое. Я не собираюсь возвращаться в университет, уже слишком поздно.
Несмотря на то что бабушкин взгляд посуровел, он горячо поведал ей о своем уличном оркестре и о том, что ему необходимы усилители и звукозаписывающая аппаратура для студии, в которой можно будет прослушивать и нанимать музыкантов. По мере рассказа недоверие на ее лице росло. Он поведал ей и об Алисе, будущей великой скрипачке, которой нужны деньги на обучение в Европе.
Пожилая женщина молчала. Ее внуку внезапно показалось, что она многое бы хотела ему сказать. В ее голове, похоже, вертелся целый ворох вопросов, упреков и сомнений. Но она была в замешательстве, понимая, что высказывать ему все это бесполезно. Когда долго живешь на свете, устаешь повторять одно и то же. И только одну вещь необходимо было сейчас прояснить, очень важную для них обоих.
– Скажи, Том, а с чего ты вдруг решил, что у меня много денег? – спросила она. – У меня их нет. Лишь на самое необходимое, но не более.
– Ты же сама говорила! – выпалил Мюррей. – Говорила, что завещала мне все!
– Я имела в виду дом.
– Но ты тогда дала мне понять… У меня сложилось такое впечатление… то есть я всегда думал, ты – богатая, обеспеченная, состоятельная, называй, как хочешь.
Старушка встала и начала убирать со стола. Она относила посуду в раковину, не пользуясь подносом – предмет за предметом, и когда вернулась к столу в третий раз за доской для сыра, то произнесла:
– Я действительно оставила тебе дом. Видишь ли, я не одобряю изменение завещаний. Ты обошелся со мной очень скверно, воспользовался моим домом как гостиницей, а в один прекрасный день пришел и заявил, что забираешь свои вещи и уходишь, но со мной свяжешься попозже. Вот только так и не связался. Мне восемьдесят три года, я не знаю, сколько мне еще осталось, и все же не хочу менять завещание, потому что сомневаюсь, что найду наследника лучше тебя. Хотя, положа руку на сердце, скажу, что на самом деле найти кого-нибудь хуже, чем ты, Том, было бы затруднительно.
Музыкант покраснел. Он понимал, что вел себя по отношению к бабушке отвратительно, и начал бормотать извинения, какие-то нелепые оправдания насчет того, что плохо себя чувствовал, ничего не соображал, да и сейчас ему очень плохо.
– Тем не менее у тебя хватило сил явиться ко мне в надежде, что я продам дом, чтобы спонсировать твой уличный оркестр, – сказала пожилая дама.
Мюррей принялся все опровергать. Он по-настоящему расстроился и преисполнился непривычными муками совести. Как же он раньше не понимал, что ведет себя так дурно? Молодой человек не находил себе оправданий. Бабушка права, права целиком и полностью, и ему нечего сказать, кроме как попросить у нее прощения. Если бы можно было отмотать время назад, он бы действовал иначе. Его редко посещали подобные мысли. В самом деле, к нам нечасто приходит понимание того, что нам нет прощения и оправдания, а все доводы в нашу защиту – неубедительны, то есть, что мы – абсолютно неправы. Отказ от самодовольного эгоизма – это крайне неприятное ощущение. Начинает казаться, что заглядываешь в черную яму, полную скверны, в которую очень легко упасть, присоединившись к корчащимся там грешникам.
Бабушка сказала Тому, что ему незачем брать такси до станции: она отвезет его сама. Вела машину она медленно, надолго останавливаясь на перекрестках и несколько теряясь при возможных опасностях – в общем, именно так, как водят пожилые. Внук поцеловал ее, но она осталась бесстрастной, хотя кивнула и даже слегка улыбнулась, когда он пообещал звонить. Похоже, оба они понимали, что никогда больше не увидятся.
В переулке ждал Аксель. Увидев его, Алиса дернулась. Она пришла в возбуждение и при этом испугалась, так как давно уже не видела его и только слышала шаги над головой, отправляясь спать. Услышав стук входной двери, он повернулся и пронзительно посмотрел на молодую женщину. На его лице медленно проявилась улыбка. Переулок освещал единственный фонарь в самом его конце.
– Значит, вот где ты работаешь…
– Действительно, не очень интересно, – произнесла скрипачка, тут же подумав, что сморозила какую-то глупость.
– Все зависит от интересов.
«Это он о себе говорит?»
– Давай возьмем такси, – предложил Джонас.
– Прямо до дома? – удивилась его собеседница, вспомнив, сколько это стоит.
– Ну, я не настолько привязан к подземке, как твой Том. По-моему, я уже упоминал, что спускаюсь туда только по необходимости.
Женщина не понимала, что он имеет в виду. Когда она уже решила, что ждать бесполезно, подъехало такси. Алиса отчетливо представила, как она будет сидеть в одном углу, а сам Аксель – в другом, и между ними останется чуть ли не метр пространства. Она была настолько в этом уверена, что, когда он сел рядом с ней и взял ее за руку, начала дрожать.
– Ты замерзла? – тут же спросил мужчина.
Она мотнула головой.
Аксель поднял стекло в перегородке, отделяющей их от водителя, и прижался к ней. Строгое, матовое, несколько славянское лицо этого человека и его темные волосы подчеркивали голубизну глаз, больше подошедших бы светловолосой девушке. Его глазам следовало быть карими, сумрачными и задумчивыми, а не голубыми, как васильки.
– А кто-нибудь остается по ночам в здании, где ваша контора? – спросил он.
Скрипачка была потрясена. Возникла мысль: «Так вот оно что! Оказывается, меня использовали, унизили, подстрелили как дичь. Кажется, я наконец-то узнала его тайну, узнала, зачем он познакомился со мной и переехал в «Школу». Ему нужно что-то, что находится в здании конторы, какой-то документ или, может быть, вещь, поэтому он и свел со мной знакомство, просто для того, чтобы подобраться сюда».
– У тебя есть ключи? – продолжил тем временем расспрашивать ее Джонас.
– Зачем?
– Тебе не понятно, зачем я спрашиваю?
– Да. Значит, тебе были нужны только ключи от моей конторы?
Мужчина рассмеялся. Его спутница холодно смотрела на него.
– Ох, Алиса, Алиса! О чем ты только думаешь? – сказал он. – В каких заговорах и страшных тайнах подозреваешь! На твоем лице просто написана уверенность в том, что я таким вот дурацким способом пытаюсь наложить лапу на какие-то важные бумаги.
Его догадка заставила скрипачку залиться краской. Она отвернулась, словно обиженная маленькая девочка, но Аксель взял ее за подбородок, как делал уже не раз, и повернул ее лицо к себе:
– Я только хочу быть с тобой, хочу любить тебя, ты это понимаешь?
Водитель сидел спокойно, отгороженный от них толстым стеклом. Молодая женщина где-то читала, что таксистам запрещено смотреть, что происходит на заднем сиденье.
– А ты хочешь заняться любовью со мной? – спросил Джонас.
– Да, – ответила его подруга едва слышно.
Он снова приподнял ее подбородок:
– Нам больше некуда пойти.
И Алиса сделала то, чего прежде никогда не делала: она взяла его руку, поднесла к губам и начала целовать.
Человек, который сцапал Криса с Кевином и сделал замечание Джасперу, похоже, не придал значения тому, куда и зачем удрал из вагона Деймон. Что подумали Крис с Кевином – неизвестно. Они могли решить, что тот просто сбежал от них в следующий вагон. Но Джаспер точно знал: Деймон полез на крышу.
И это было лучшим, что он мог сделать, по его мнению. Деймон проедется до «Свисс-Коттеджа», преодолеет свой страх перед «зацеперством» и положит конец насмешкам мальчишек. Единственная неприятность заключалась в том, что, если он не успеет спуститься в вагон на «Свисс-Коттедж», им вдвоем придется ехать до «Сент-Джонс-Вуда».
Джаспер встал около дверцы и посмотрел через стекло на крышу соседнего вагона. Ничего. Даже ног Деймона не видно. Поезд начал притормаживать – до «Финчли-роуд» оставалось минут пять. На станции двери открылись, и с полдюжины человек вошли в вагон, избегая, впрочем, заходить в ту его часть, где находились трое мальчишек.
– Видите, никакой он не трус, – сказал Джаспер своим товарищам.
– Ладно, согласен, – буркнул Крис.
Кевин промолчал, вытащил из кармана большую плитку шоколада «Дэйри-милк», который вечно жевал для того, чтобы успокоиться, и начал разворачивать обертку.
Двери закрылись. Поезд покинул станцию и тут же нырнул в туннель, который шел до самой Набережной. Джарвис Стрингер много чего мог бы рассказать кузену о метро в этой части Лондона: о линиях – Метрополитен, Юбилейной и бывшей Бейкерлоо, о гениальных технических решениях, о хитросплетениях туннелей, о расположении подземных путей и их сочленении с другими… Но Джарвис никогда ему этого не рассказывал: он просто не предполагал, что мальчику это может быть интересно. Поэтому ни Джаспер, много раз ездивший по Юбилейной линии в Лондон, ни другие пассажиры не замечали того, что давным-давно приметил Стрингер: начиная с этого места, поезд двигался под уклон, так как туннель должен был пройти под линией Метрополитен.
Джаспер сел, бросив на Кевина презрительный взгляд. Он был невысокого мнения о людях, лопающих шоколадки, даже не подумав угостить своих приятелей. Поезд тронулся. Мальчик знал, что свод туннеля здесь довольно высок, но, как ни крути, это был настоящий круглый туннель, а не просто галерея. Он был уверен, что с Деймоном все будет в порядке, по крайней мере, до самой реки, однако надеялся, что тот спустится раньше и можно будет наконец отправиться домой.
Когда зев туннеля поглотил их, Джаспер впервые обратил внимание на уклон, на то, что поезд едет вниз. Может быть, он заметил это только потому, что полностью сосредоточился на происходящем, волновался за неумелого и наверняка испуганного Деймона, лежащего сейчас на крыше вагона.
Но несмотря на всю свою собранность, мальчик не был готов к тому, что произошло потом. Никто в вагоне не был к этому готов. Поезд затормозил и так сильно накренился, что если бы кто-нибудь в вагоне стоял, то наверняка бы свалился. Пассажирам повезло: все они сидели, но после того, как состав накренился второй раз, им пришлось схватиться за сиденья, чтобы не упасть на пол. Какая-то женщина вскрикнула.
Время остановилось. Наступила тишина. Нельзя было понять, сколько она длилась. Может быть, десять секунд, а может – десять часов. Позже Джаспер не мог сказать, сколько все-таки прошло времени, хотя первое предположение выглядело более правдоподобным. Он словно окаменел от этой тишины – казалось, она поглотила и время, и пространство. Мальчик не чувствовал, что вцепился в поручни сиденья, не ощущал больше своего тела, но мозг его работал вовсю.
И вдруг снаружи, откуда-то спереди донесся визг, подобного которому он не слышал ни разу в жизни. Казалось, в этом визге сосредоточился весь ужас, вся боль этого мира, а он все длился и длился. Люди вскочили со своих мест, и только Джаспер остался сидеть. Он все видел. Он видел в окне темную, перекрученную тень, пытавшуюся удержаться на вагоне и визжащую. Он видел ступню, прижатую к стеклу за мгновение до того, как поезд оторвал ее прочь и канул вниз, в глубину, оставляя замирающий визг позади.
Глава 18
На последнем этаже, под плоской крышей, находилась маленькая комнатка с одним окошком, односпальной кроватью, раскладным диваном, электрическим камином, небольшим зеркалом на стене и потертым ковром, прибитым к полу. В шкафу лежали: плед, пара подушек и два одеяла в пододеяльниках из магазина «Теско». Помещение было известно в конторе как «аварийная комната». В конце коридора располагалась кухонька, в которой помещались только чайник, газовая плита и несколько кастрюль, сковородок и тарелок. Холодильник, видимо, ее устроители посчитали ненужной роскошью.
В лондонских конторах очень часто устраивают подобные комнаты. Они предназначены для тех сотрудников, которые живут за городом и не могут добраться домой, в тех случаях, когда поезда отменяются из-за забастовок или непогоды. В конце января, когда на Лондон обрушился шторм и поезда на Суррей и Сассекс не ходили, двое директоров Алисиной конторы вынуждены были переночевать в «аварийке». Мартин Энджелл спал на матрасе, положенном на пол, а Джеймс Кристиансон – на голой кроватной сетке. Поздно вечером, когда Джеймс отправился купить хлеба и кофе, Мартин вынужден был открывать ему дверь, потому что у того не было ключей. Оказалось, что существуют всего два полных комплекта ключей от конторы. Поэтому Джеймс Кристиансон, предвидя, что «аварийка» может понадобиться еще не раз, поручил своей секретарше заказать пару комплектов.
Но Алиса сделала три.
Вообще-то, это было не в ее правилах и до этого она никогда в жизни не совершала ничего подобного. Наверное, на нее нашло какое-то затмение. Присущие ей рассудительность, мораль и этические нормы – все куда-то делось, рассеялось как дым. Ее пугало то новое, что она каждый день открывала в себе, то, на что оказывалась способна. Изготовление дополнительного набора ключей было едва ли не преступлением, обманом доверившихся ей людей. Она спрашивала саму себя, где находятся границы, за которые она не посмеет выйти, и есть ли они вообще.
Если Аксель прикажет украсть – она украдет. А вдруг он скажет, чтобы она убила Тома? Как она тогда поступит? Нет, он никогда такого не потребует! Алиса цеплялась за эту последнюю мысль. Наверное, именно так происходит с теми, кто, подпадая под влияние убийцы, помогает совершить преступление, просто потому, что ему велят. Это не было так называемым folie à deux[29], потому что в этом случае предполагается взаимное влияние партнеров. А Алиса не верила, что ее собственные идеи и желания могут иметь хоть какое-то влияние на Акселя.
О Майке и Кэтрин она уже почти забыла. Они стали просто тенями из ее прошлого, оставшегося где-то позади. Место постылого мужа занял Том. Сейчас молодая женщина воспринимала его именно так. Сам же он был уверен, что она отвергает его из-за несостоятельности, отказа вернуться в университет и найти работу, из-за неспособности выпросить у бабушки денег, из-за его бедности, наконец. Что же, пусть лучше так и думает, чем встретится с правдой лицом к лицу, решила скрипачка.
Влюблена ли она теперь? Действительно ли это любовь или только одержимость? И в чем разница? Во всяком случае, один положительный результат от всего этого был: она стала лучше играть.
В отличие от иностранных учительниц из романов, изрекающих что-то вроде: «Я научила тебя всему, что знаю! Теперь все в твоих руках!» или: «Это я должна теперь у тебя учиться», мадам Донская ничего такого не заявила. Но она не стала и брать в руки скрипку, чтобы своей игрой заставить ученицу устыдиться и понять, сколь многому ей еще надо научиться. Наверное, Елена была не в курсе предписанных романами сценариев поведения. Она сказала лишь:
– Что же, неплохо.
В ее устах это было высшей похвалой. Не исключено, что на Алису повлияла эта похвала, а может быть, с ней произошло нечто обратное тому, что случилось с Сибилой Вэйн, потерявшей актерский талант, влюбившись в Дориана Грея. Как бы то ни было, она считала, что играет безупречно. Впрочем, когда занятие закончилось – а этот урок был предпоследним, – учительница снова взялась твердить о Йегуди Менухине, а еще немного о записи музыки двадцатых-тридцатых годов, сделанной им совместно со Стефаном Граппелли. Вернувшись домой, Алиса написала в Бриттен-Пирс, чтобы узнать, не примут ли ее на двухнедельный мастер-класс.
В день, когда разразился шторм и метро остановилось, Том со своей флейтой застрял на внезапно застывшем эскалаторе, и ему пришлось возвращаться домой пешком. А Алиса в это время играла для Акселя на скрипке в кабинете рисования. Он сам ее пригласил. Было холодно, и за окном завывал ветер: он бился в окна, ломал ветви деревьев. В «переходном классе» разбилось стекло, и Тина, зайдя туда утром, обнаружила, что в него попал кусок черепицы, сорванный с дома напротив. Но Джонас не обращал на ветер внимания. Он вел себя совершенно обычно, так, словно был обыкновенный тихий вечер.
Подойдя к двери его комнаты, Алиса, прежде чем постучать, на мгновение замешкалась. Аксель потом посмеялся над ее щепетильностью:
– Чем, ты думала, я здесь занимаюсь?
При встречах с ним молодая женщина никогда много не говорила. Обнаружилось, что ей сложно общаться с ним. Джонас обнял ее, а точнее, схватил. В первый раз Алиса увидела его без пальто, и ее поразила его худоба. Когда он прижался к ней, она почувствовала, как костлявы его руки, а затем ощутила его эрекцию – как еще одну кость, упершуюся ей в живот. Что до нее, то она уже почти привыкла к своему постоянному желанию, такому сильному, что ей становилось дурно.
Почему же он так спокоен, так будничен? Как он может теперь просто улыбаться? Скрипачка всегда была уверена, что мужчины куда хуже женщин держат себя в руках, а ведь он явно был возбужден! Но Аксель только рассмеялся, отстранил ее от себя, сам открыл футляр и достал скрипку:
– Давай, сыграй мне.
– Не знаю, что тебе сыграть, – нерешительно пробормотала его подруга.
Джонас как-то странно, искоса глянул на нее. Его голубые глаза сверкнули.
– Что-нибудь такое, романтичное, – попросил он.
Когда-то она переложила для скрипки знаменитый вальс из «Кавалера розы» и помнила его наизусть. Ее друг знал этот отрывок. Алиса видела, как он шевелит губами, беззвучно проговаривая слова о том, что с ним все ночи будут слишком коротки: «Mit mir, mit mir, keine nacht ist zu lang». Подходящие слова. Пальцы скрипачки неуверенно дернулись, и она сфальшивила. Ее слушатель вздрогнул, а ей потребовалось все ее самообладание, чтобы не разреветься. Но играть она перестала:
– Боюсь, я сегодня не в форме.
– Да, – односложно буркнул мужчина уничижающим тоном.
Потом они ласкали друг друга. Он целовал ее тело, после чего, смеясь, заявил, что ей надо уходить, вновь повторив, что они находятся под одной крышей с Томом, пусть даже его и нет дома.
Она отдала ему ключи.
При этом женщина нервничала из-за убожества комнаты, пошлости всей этой затеи, всяческих недомолвок и нечестным способом добытых ключей. Алиса снова и снова спрашивала себя: почему снять комнату в гостинице было бы неприлично, а провести ночь здесь – нет? Она не верила, что Аксель не может себе позволить таких трат – скорее, наоборот, она была уверена, что он богат, но не хочет этого показывать.
Кое-кто сказал бы, что налет постыдности придает всей этой истории некоторую пикантность, Алиса читала о подобном. Она не знала, был ли Аксель из таких людей, но нисколько не удивилась бы, если бы так оно и оказалось. Может быть, его возбуждает привкус опасности? Сама скрипачка полагала, что их прятки в офисном здании, безмолвные молитвы о том, чтобы все наконец убрались домой, выглядывание в окна и перестилание грязных простыней, должны были убить всякое желание. Но не убили.
Он опаздывал. Она заранее знала, что так и будет, но все равно нервничала. Алиса уже давно поняла, что ее любимому нравится заставлять людей ждать. Вот ей, когда ее ждал Том, это было безразлично, никакого садистского удовольствия она не испытывала.
Молодая женщина спустилась вниз на лифте, а потом поднялась пешком по лестнице, чтобы, зайдя внутрь, ее гость мог сразу сесть в лифт. Это был просто способ убить время ожидания. Наверху, в комнатке, где она уже поменяла простыни, ей вдруг вспомнилась Кэтрин. Ребенок показался ей ужасно далеким – маленькой куколкой в конце длинного туннеля. Неужели это ее дочь? Невозможно. Это был только сон, весь ее коротенький брак был сном.
Алиса подтянула простыню и поправила одеяло. Грубое приглашение, исходящее от раскрытой постели, смущало ее. С другой стороны, стоит ей привести постель в порядок и закрыть за собой дверь, потеряв всякую надежду, как появится Аксель. Скрипачка снова спустилась вниз, посмотрела на ожидающий его открытый лифт и двинулась обратно наверх. «Я не хочу вечно его ждать, – думала она, – я больше не буду его ждать, еще полчаса – и все». Но она понимала, что это неправда. Она будет ждать его всю ночь.
Поднявшись, женщина услышала наверху шаги. Там кто-то был. Ей не пришло в голову, что это мог быть Аксель, что он просто решил подняться по другой лестнице. Она знала только, что никто не сел в лифт, по-прежнему стоявший на первом этаже.
Алиса замерла у двери комнаты и прислушалась. Свет на лестнице был выключен, она сама выключила его, когда поднималась. «Любовь не должна быть такой, – подумалось ей, – запланированной, рассчитанной, продуманной. Все должно происходить спонтанно, просто потому, что двое любят друг друга. Как бы там ни было, он уже не придет, я больше его не увижу».
И тут из темного коридора навстречу ей вышел Джонас. Оттуда, откуда Алиса совершенно не ожидала увидеть его.
– Я уж думал, что мы с тобой разминулись, – сказал он. – И это после всего, что нам пришлось предпринять!
Он был не из тех мужчин, кто целует женщину при встрече. «И никогда им не станет», – подумала Алиса. Она закрыла за ними дверь «аварийки» и повернула ключ. Говорить было не о чем, и скрипачка молчала. Она ожидала, что ее друг будет серьезен, настойчив и пылок, как в прошлый раз, а он все смеялся и болтал, словно не предвкушал долгожданного счастья, словно все между ними уже произошло.
Оказывается, он видел Тома Мюррея в окне кафе, когда шел с Ковент-Гарден. Может быть, Том тоже собирался сюда?
– Он никогда здесь не бывал. Он даже не знает, где я работаю, – покачала головой Алиса.
– Если потребуется, я готов с ним драться. Надеюсь, впрочем, что до этого не дойдет.
Она хотела сказать, что не понимает этого и что Джонас, как она думала, уважает Тома. Разве не по этой причине они сейчас здесь, а не в его или ее комнате? Но скрипачка промолчала. Аксель уселся рядом с ней на кровать. Он больше не смеялся и не дурачился, он сделался сосредоточенным и задумчивым. Взял ее лицо в ладони.
И Алиса произнесла слова, которые, как казалось ей еще совсем недавно, она больше никогда не произнесет:
– Я тебя люблю.
Он погладил ее по густым волосам, провел холодным пальцем по ее щеке, а потом вниз – по шее, до ложбинки между грудями. Расстегнул и стянул с ее плеч блузку.
– Это только слова, – сказал он. – Хочешь доказать их?
Лондонская подземка – это не закрытая система, в которую можно попасть только через станции. Кроме станций, которых около 300, существует множество других входов и выходов.
Прежде всего, это – вентиляционные шахты, через которые уходит загрязненный воздух и попадает внутрь свежий. Если бы в туннелях не было вентиляционных шахт, которые уменьшают давление, то у пассажиров закладывало бы уши, как в самолете.
Когда-то, чтобы удалить из подземки серные пары, использовались специальные колодцы, закрытые решетками. На Центральной линии были установлены так называемые «озонаторы», которые гнали внутрь воздух, но в результате острая соленая вонь, исходившая от одежды пассажиров, создавала впечатление, что они только что прибыли с пляжа Саутенда, а не с Оксфордской площади.
В наше время смена воздуха производится через станционные входы и лестничные пролеты. Свежий воздух закачивают через трубы, устроенные в лестничных пролетах, и через специальные скважины. На перегоне между «Майл-Эндом» и «Стрэдфордом» Центральной линии, в Олд-Фордской вентиляционной шахте устроена спиральная лестница. Если отключится электричество, а поезд будет находиться слишком далеко от станции, люди смогут выбраться на поверхность через эту шахту.
Она выходит прямо на улицу. Однажды, поздним вечером 1969 года, шестьдесят человек этим путем вырвались на свободу после отказа электросети.
В Риджент-парке, над станцией «Бейкерлоо», имеется круглая башня, которая является завершением аварийной шахты. На другом перегоне, на линии Виктория между станциями «Тоттеннхем-Хэйл» и «Семь сестер», на улице Небон-роуд, есть еще одна вентиляционная шахта со спиральной лестницей.
Кроме того, лестничный пролет, не используемый по прямому назначению, выходит на крышу офисного здания в Ноттинг-Хилл-гейт. Такие шахты находятся во многих зданиях, принадлежащих Лондонской Транспортной.
Покинутые туннели и шахты есть на каждой станции в центре Лондона. Действительно, ярко освещенные вестибюли с толпами народа, разноцветными рекламными плакатами и гулом проезжающих поездов окружены темными заброшенными туннелями и множеством никому не известных шахт.
В некоторых из них прежде были устроены лифты, а теперь их заменили эскалаторы. В других находились обычные лестницы. Если снизу заглянуть в эти циклопические трубы, то можно увидеть в полумраке старую желто-коричневую плитку времен Эдуарда VII, выложенную спиралью, повторяющей линию, по которой когда-то вела лестница.
В переходах размещаются диспетчерские. Автоматическая коммуникационная система надежна и эффективна. Пассажиры лондонской подземки защищены куда лучше пассажиров всех других видов транспорта.
По крайней мере, так утверждает Компания Лондонских Подземных Перевозок.
Факт смерти Деймона скрыть от Сесилии было невозможно: информация о происшествии размещалась на первых полосах всех газет. А кроме того, пожилая женщина смотрела телевизор. Но от нее утаили то, что он был другом Джаспера и что Джаспер находился в том поезде, с которого упал мальчик.
К Тине приходили двое сотрудников лондонской подземки. Один из них был начальником той самой станции Юбилейной линии. Оба были крайне возмущены тем, что мать Кевина, которой они позвонили сначала, обвинила во всем их самих, заявив, что это администрация метрополитена должна была устроить все так, чтобы дети не могли забраться на крыши вагонов. Тина, в отличие от нее, никого не обвиняла. Ей не пришло даже в голову ругать Джаспера или саму себя. Она заявила служащим, что мальчишки есть мальчишки, и этим все сказано. Мисс Дарн понимала, что это дурно по отношению к несчастной матери Деймона, но она чувствовала лишь облегчение оттого, что на его месте не оказался ее сын.
Было назначено расследование. Проводились допросы. Бьенвида спросила, напечатают ли имя Джаспера в газетах, если его вызовут как свидетеля. Однако, когда она с куклой Каролиной на коленях пила чай на вилле Сесилии, то сказала бабушке, хотя та ни о чем таком ее не спрашивала, что Деймон вовсе не был другом ее брата:
– Джас вообще никогда не ездит на метро. И никогда не забирается на крыши вагонов, и не знаком ни с кем, кто этим занимается.
Бабушка с ужасом поняла, что все обстоит с точностью до наоборот.
Шторм разрушил крышу велосипедного сарая, и Джед забрал ястреба в дом. Абеляр больше не мог летать, даже на самые короткие дистанции. Его хозяин понятия не имел, что с ним делать. Его все сильнее волновал вес птицы. Если ястреб разжиреет, то уже не сможет подняться в воздух, поэтому Лори снова урезал ему рацион, и Абеляр кричал днями напролет. Джеду мерещилось, что в глазах птицы он видит боль, страдание и отчаянный голод, что в ограниченном птичьем мозгу сидит уверенность, что смысл жизни ястреба – в еде и если он не получает еды или получает ее недостаточно, то его существование становится годами томительных мучений.
Наконец наступил день поездки к орнитологу в ветеринарный колледж, и Джед с Абеляром отправились в Кембридж. Ястреб со спутанными лапами сидел на запястье хозяина. Во всем облике птицы было столько благородства, что сердце Лори наполнилось гордостью за своего питомца. Никто из пассажиров, ехавших с ними сначала в метро до Ливерпуль-стрит, а потом по железной дороге, не догадывался, что ястреб не мог летать, что крылья не держали его. Через некоторое время Джед надел ему на голову клобучок, опасаясь, что птица опять начнет кричать.
Сделали рентген крыла. При этом знаменитый орнитолог держал его очень бережно. Правда, потом он еще раз исследовал крыло, на этот раз Лори показалось, что тот был слишком груб. Он с силой раздвигал пальцами пестрые коричневые перья, ощупывая кости, но ястреб не протестовал. А когда Абеляр снова вернулся на запястье к Джеду и ему надели клобучок, ветеринар сказал:
– Боюсь, у меня для вас плохие новости.
– Он не сможет больше летать?
– Я в этом сомневаюсь.
Он объяснил, что причиной болезни стал вирус, необратимо повредивший мускулы и нервные окончания крыла.
– Это не ваша вина. Вы тут совершенно ни при чем, просто так сложились обстоятельства, – объяснил орнитолог.
Он поразил Джеда тем, что совершенно не понимал ситуации.
– Такие птицы весьма дороги. Наверное, вы выложили кучу денег за этот экземпляр? – спросил орнитолог. – Фунтов семьсот-восемьсот? Вот уж действительно, деньги, выброшенные на ветер.
– Неужели совсем ничего нельзя сделать? Ну хоть что-нибудь? Операцию, например? – в отчаянии воскликнул хозяин ястреба.
– Слишком поздно. Впрочем, сомневаюсь, что, даже приди вы раньше, это бы помогло. Остается лишь одно… Чтобы вам было легче, я все сделаю сам. Вы можете оставить его у нас.
– Спасибо, но я заберу его с собой, – Джед подумал, что если немедленно не уйдет, то расплачется. – Я еще покажу его своему ветеринару.
– Что же, как вам будет угодно. Я имею в виду, что нет ничего плохого в том, чтобы оставить его еще немного в живых. Он не страдает, ему не больно, просто он никогда больше не сможет летать.
Лори выписал чек, молясь про себя, чтобы на счете нашлось достаточно денег для оплаты, и вышел из здания. На улице он снял с Абеляра клобучок, и они пошли на остановку, чтобы сесть на автобус до метро.
Так смерть нанесла Джасперу визит, прошла совсем рядом и заглянула ему в глаза. До этого мальчик в нее не верил. Думал, что смерти не существует, что это – всего лишь отвлеченная идея, далекая и эфемерная, как призрак, и куда менее объяснимая, чем идея Бога.
Он был в курсе, что люди становятся мертвецами, но лично он не был знаком ни с одним человеком, который бы умер. Родители Брайана были живы и даже еще не слишком стары, а его дедушка Дарн хотя и умер, но задолго до рождения Джаспера. Ребенок не думал, что люди вообще не умирают – нет, он знал, что изредка это случается, по крайней мере, ему об этом говорили, но это всегда были незнакомые и чужие. Свои же умереть не могли. Они вполне могли встретиться с тем, что люди зовут смертью, но в решительный миг она бы отступила, как всегда происходит в кино или во сне. Неведомая сила протянула бы руку и вытащила их из жуткой бездны. Так представлялось Джасперу.
Он, конечно, боялся тогда за Деймона, но при этом сам не понимал, что боялся того, что его друг может погибнуть. Это была слишком абстрактная мысль. Теперь он уже не понимал, о чем вместо этого думал. Может быть, что Деймон рискует пораниться или что его накажут. И когда Джаспер мысленно с трусливым ужасом возвращался в те несколько минут перед трагедией, то казался себе дураком из-за того, что не смог ничего этого предвидеть. Что-то похожее он чувствовал лишь однажды, когда, думая, что разговаривает с Бьенвидой, понял вдруг, что это была совсем другая девочка.
Поговорить об этом ему было не с кем. Сразу после трагедии в «Школу» явилась женщина, чтобы побеседовать с Тиной. Она была из лондонской социальной службы или чего-то вроде этого – точно Джаспер так и не понял. Женщина говорила его матери о том, что ему нужны «советы специалиста». Мальчик не решился спросить, о чем речь, но мисс Дарн легко согласилась:
– Конечно, почему бы нет? Думаю, это неплохая идея.
– Это совершенно нормальная практика в случаях, когда люди становятся свидетелями трагедии, – сказала гостья.
Джаспер вообразил, что слова «советы специалиста» означают, что его теперь передадут под опеку городского совета. В его классе был один такой мальчик: его отец ушел из семьи, мать не справилась с ситуацией, а брат – погиб. Собственное положение юного «зацепера» казалось почти таким же безнадежным. Но когда он спросил об этом Тину, та ответила:
– Никогда не слышала большей чепухи! Как тебе в голову пришла подобная ерунда?
А ему не с кем было посоветоваться. Он сомневался, что имеет смысл делиться своими переживаниями с Кевином или Крисом, даже если бы он с ними увиделся. Но в любом случае, они не виделись. Случайно так вышло или это были происки взрослых – неизвестно. К тому же Джаспер не знал ни их фамилий, ни адресов. Они пропали, исчезли где-то в недрах Лондона, и он понимал, что никогда больше их не встретит.
А также, что никогда больше не спустится в метро. Может, когда-нибудь, спустя годы, став взрослым… Сейчас же он просто видеть не мог серебристые тела поездов, мелькавших за окнами на пути Лондон-Стэнмор. Его бесило то, как при этом вибрировал весь дом. Кроме того, как ни смешно это было, но мальчику разонравилось курить. Может быть, из-за того, что сигарета, которую он курил незадолго до того, как все случилось, упала на рельсы? Что же, значит, ему предназначено было бросить дымить еще до того, как это стало его привычкой. К тому же все говорили, что детям курить вредно.
Он много времени начал проводить в раздевалке – просто сидел там и думал. Тина полагала, что сын в это время был в школе. Однако он не ходил в школу в те дни недели, в которые прежде занимался «зацеперством». Зябко завернувшись в плед, мальчик сидел в каморке перед электрообогревателем. И с колоколом все было по-старому, хотя оставалось только привязать веревку и пропустить ее через люк в темном углу бывшего лабораторного кабинета, где никто никогда не ходил. Разве что Джарвис, но Джарвис путешествовал по России. От него Тине пришла открытка с видом Кремля, судя по штемпелю, опущенная в почтовый ящик пять недель назад. Она посмотрела на нее и сказала, что на всех открытках, которые она когда-либо получала из России, изображен Кремль – такое впечатление, что там больше ничего нет.
Про себя Джаспер обычно называл смерть Деймона «тем случаем». Перед сном он заставлял себя вспоминать о кричащих и прыгающих Кевине с Крисом, о трясущем их за плечи пожилом мужчине и неслышном бегстве затравленного ими товарища. О туннеле и, под конец, о визге и «той штуке», промелькнувшей за окном. Мальчик заметил, что если упорно думать обо всем этом перед сном, то ничего такого ему не приснится. Если же ему это снилось, он просыпался от собственного крика. Непонятно, слышала ли его мать. В любом случае, она никогда к нему не заходила, и он был ей за это очень благодарен, иначе ему было бы стыдно. Но вот рассказать все это было совершенно некому.
Бьенвида затыкала руками уши и повторяла, что если Джаспер снова начнет это рассказывать, то она завизжит, чтобы ничего не слышать. Она теперь постоянно крутилась вокруг бабушки, без зазрения совести рассказывая ей, что у Тины сейчас нет ни одного дружка, из чего Сесилия автоматически делала вывод, что у той их, по крайней мере, двое.
Когда долгожданная статья в газете была опубликована, Том не просто расстроился – он был потрясен.
– А чего ты еще ожидал? – пожала плечами Алиса.
– Чего угодно, только не такого. Я не думал, что надо мной просто издеваются. Мне казалось, что журналистка, бравшая интервью, собирается написать серьезный репортаж.
– Говорят же, что лучше дурная слава, чем никакой.
– Не представляю, как такое может прославить. Все эти намеки на то, что играть в подземке или на улице может только человек, не способный ни на что другое, замечания о низкой квалификации и чуть ли не оскорбления. Кстати, кто такой «автодидакт»?
– Самоучка.
– Вот видишь! Но это же неправда! Я никакой не самоучка, я просто не получил диплом. И к чему все эти дурацкие шпильки насчет того, что Питер и Джей – геи? Прямо какой-то возврат к дискриминации! Кому какая разница, геи они или гетеро? Смотри-ка, похоже, она и меня подозревает в гомосексуализме, раз я с ними связался. Интересно, нельзя ли ее обвинить в клевете и подать в суд?
– Если ты думаешь, что быть геем – это нормально, то за что собираешься подавать в суд?
Похоже, прежде Мюррей всерьез полагал, что статья поможет ему добыть денег. Журналистка предприняла определенные усилия, чтобы помочь ему в этом: подсчитала, сколько стоит беспроводное оборудование, о котором он мечтает, и добросовестно перечислила все в статье. Алиса с опаской наблюдала, как ее друг каждый день ждет почту, надеясь обнаружить там чеки, присланные читателями статьи. Его паранойя становилась все заметнее. Он думал, что весь мир ополчился против него. Все – кроме Питера, Джея и… Акселя. С удивлением и возрастающей тревогой скрипачка следила за его задушевной дружбой с Джонасом.
Все началось в один вечер, после очередной ее ссоры с Томом. Поводом к ней, как обычно, стало настойчивое напоминание Алисы, что он должен вернуться в университет, а сама она – поступить в консерваторию. Флейтист на это ответил, что у нее достаточно подготовки, чтобы записаться на прослушивание в какой-нибудь оркестр на севере страны, а лично он в самое ближайшее время найдет способ добыть кучу денег. Потом он стал повторять, что она его совсем не любит, потому что если бы любила, то вернулась бы играть в метро, вернулась бы туда, где он чувствует себя счастливым. Его подруга не нашлась, что на это ответить. Тогда Том вскочил и объявил, что пойдет к этому новому парню, тот наверняка скучает в одиночестве, и они отправятся куда-нибудь выпить.
Алиса испугалась.
– Я никуда не пойду, – заявила она.
– Ну, и не ходи! Я и сам предпочитаю, чтобы ты не ходила. Не хочу, чтобы ты сидела и проезжалась по поводу моей необразованности, лени и всех остальных недостатков, которые ты во мне находишь.
Это было ложью – Алиса никогда не осуждала Мюррея на людях, но она произнесла только:
– Ты даже не знаешь, пойдет ли он с тобой пить.
Сама она была совершенно уверена, что Аксель никуда не пойдет. Трудно было вообразить, что мужчина, отказывающийся заниматься с ней сексом, потому что находится под одной крышей с ее «официальным» любовником, может отправиться с ним в бар пропустить по стаканчику. Поэтому она сильно удивилась, услышав их голоса, когда эти двое спускались вниз по лестнице. Удивилась и огорчилась. Если Джонас отправился выпить с Томом, не заглянет ли он к ней, чего доброго, чтобы поприветствовать? Она этого не вынесет! Едва прозвучал стук входной двери, молодая женщина выскочила из комнаты, перебежала коридор, вошла в большую гулкую учительскую и выглянула в окно, пытаясь отыскать глазами спины обоих своих бойфрендов.
Но на улице было уже слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть. В свете уличного фонаря она заметила только, как они выходили через ворота. Скрипачка, не отрываясь, смотрела на Акселя, словно хотела навеки запечатлеть его образ в своей памяти. Мужчины исчезли в темноте, а с ними – и отпечаток силуэта Джонаса на сетчатке ее глаз. Оставшись в одиночестве, она, как обычно, принялась думать о нем, вспоминать его лицо и слова, которые он ей говорил. Но не о том, как они занимались любовью – думать об этом она была совершенно не в состоянии. Это было все равно что вновь пережить тот момент, и ей казалось, что если она это сделает, то внутри нее начнет разбухать, раздуваться нечто огромное, а потом это нечто взорвется и она потеряет сознание или начнет кричать, как когда-то кричал ястреб.
После этого случая Том и Аксель начали общаться постоянно.
Алиса подозревала, что Мюррей, при всей своей любви к ней – причем любви того сорта, которая сделала бы его подкаблучником, если бы они поженились, – на самом деле был настоящим «мачо». Он предпочитал мужское общество и мужские посиделки в пабах и никогда бы ей не изменил, просто потому, что проводил бы время исключительно в компании парней. Но она не верила, что Джонас подружился с ним по-настоящему. Наверное, можно было бы спросить обо всем самого Акселя, но она не спрашивала. Она молча смотрела, как они уходят вместе из дома, в паб или в клуб, в котором Джонас состоял. Алиса ревновала Акселя и завидовала Тому.
Другой странностью было то, что Джонас, похоже, совершенно позабыл о своем принципиальном нежелании заниматься любовью в доме, где живет его соперник. Они со скрипачкой еще дважды встречались в конторской «аварийке», а потом, когда их везло домой такси, неожиданно произнес:
– Не надо нам больше этим заниматься.
– Что ты имеешь в виду? – Голос его спутницы внезапно стал скрипучим, как у старухи.
– А сама как ты думаешь?
Алиса решила, что сейчас он заставит ее объяснять свои сокровенные мысли. Она вздрогнула, как от удара, а Аксель рассмеялся, взял, как обычно, ее лицо в ладони, заглянул ей в глаза и потерся носом о ее нос:
– Да не пугайся ты так, Алиса! Я всего-навсего имел в виду, что дома – оно лучше.
– Но ты же говорил…
Джонас кивнул головой на водителя, сидящего за стеклянной панелью, и, пожав плечами, сказал:
– А что еще остается, если нас везет сам дьявол.
Женщина не поняла, о чем он.
– Как-то не хочется, чтобы меня застукали в твоей конторе, – добавил ее любимый.
Алиса удивилась. До сих пор она считала, что Аксель вообще ничего не боится. Но возражать она не стала – напротив, почувствовала себя необыкновенно счастливой оттого, что ее страхи оказались ложными. Он ее хотел, все еще хотел. Они только что занимались любовью, даже два раза, и мысль о том, что теперь они смогут делать это дома, в ее ли комнате или в его, крайне возбудила скрипачку. Ведь это означало, что свидания будут происходить чаще, более непринужденно и импульсивно. И из тайного постыдного секса вырастет настоящая история любви.
Казалось, ее спутник совершенно забыл о водителе – а может, он беспокоился только о том, что тот может их услышать, – потому что обнял ее и начал страстно целовать. После всего произошедшего недавно, после их безумного, изумительного секса у женщины возникло какое-то странное чувство: ей начало казаться, что это – первый его настоящий поцелуй, самый первый их пылкий поцелуй. Но именно так дело и обстояло. Этот поцелуй сильно отличался от тех чувственных, похотливых, дразнящих прикосновений языка и губ, к которым она уже привыкла. Алиса растворилась в нем, совершенно потерялась, словно они стали единым целым. Она чувствовала, что слабеет, что ею завладевает его неукротимая энергия и сила.
В «Школе» телевизор имелся у одной Тины. Это был древний черно-белый аппарат, поэтому даже дети включали его редко. Том с Алисой телевизор никогда не смотрели и не покупали газет. Джеду тоже не приходило это в голову. Поэтому они ничего не узнали о бомбе, взорвавшейся под капотом машины и убившей управлявшего ею члена парламента. Бьенвида и Джаспер могли бы увидеть это в теленовостях в доме бабушки, и в этом случае мальчик, без сомнения, опознал бы мужчину, задержанного по подозрению в устройстве взрыва на улице Мэлл, но Сесилия в тот день как раз гостила у Дафны в Уиллсдене.
– Нехорошо так говорить, – заметила однажды миссис Дарн в период, когда они с подругой только начали останавливаться друг у друга, – но я бы хотела, чтобы наши дома находились подальше один от другого. В этом случае у нас была бы причина куда-нибудь вместе поехать.
Это произошло вскоре после того, как Тина высказала свои соображения насчет нее и Дафны. Сесилия тогда ужасно нервничала, решив, что все вокруг думают то же самое.
– Не беспокойся ты так, – ответила ей миссис Блич-Палмер, – глянь лучше на молодежь, они тоже вечно ночуют друг у друга. Питер чаще гостит у кого-то, чем бывает дома, причем его друзья могут при этом жить чуть ли не на нашей улице.
Сесилия немного успокоилась, несмотря на то что их-то с Дафной трудно было назвать юными, а следовательно, вести себя они должны были иначе. Но она продолжала останавливаться у подруги, так же как та время от времени ночевала на вилле «Сирени». Это было так мило – миссис Дарн очень не хватало бы их встреч, что бы там ни придумывала Тина. Они заботились друг о друге. Дафна ухаживала за Сесилией, когда она гостила в Уиллсдене, а Сесилия – за Дафной, когда та приезжала в Западный Хэмпстед. По прошествии многих лет эта дружеская опека становилась для нее все важнее, куда важнее простого пребывания в доме подруги. Питер, застав однажды Сесилию у матери, назвал их отношения «интенсивной терапией».
Миссис Блич-Палмер тогда как раз сидела перед телевизором. Гостья только что положила ей под голову подушку и принесла чашечку чаю и тарелочку с бисквитами. Она пододвинула поближе столик, на котором уже стояло кофейное блюдечко с таблетками Дафны от давления и небольшой стаканчик с водой – Сесилия где-то читала, что никогда не следует запивать таблетки ничем, кроме чистой воды. Посмотрев на все это, Питер сказал:
– Вот уж не знал, что мама у нас в интенсивной терапии.
– Ты еще не видел, что происходит, когда я гощу в ее доме, – рассмеялась Дафна.
Миссис Дарн находилась в Уиллсдене с прошлой субботы и намеревалась вернуться домой в среду. Они с подругой называли это «долгим уикендом». У нее была здесь «своя» спальня, так же как и у Дафны на вилле «Сирени». Миссис Блич-Палмер купила тепличные нарциссы на длинных ножках и поставила их в вазу у изголовья ее кровати. Другой ее привычкой было потихонечку заходить в комнату Сесилии перед тем, как они обе усаживались смотреть девятичасовые новости, откидывать одеяло и раскладывать на кровати ночную рубашку подруги, расправляя рукава и присобирая ее в талии, а кроме того, она оставляла на подушке бумажный пакетик с шоколадными конфетками. Обычно это был белый шоколад – как-то раз ее подруга обмолвилась, что предпочитает именно такой с того самого момента, как она его впервые попробовала: ее очень удивило то, что шоколад белого цвета имеет вкус шоколада.
Они всегда с вниманием относились к тому, что говорили друг другу о своих вкусах и предпочтениях, с тем чтобы потом сделать подруге сюрприз, купив подарок. Сидя перед телевизором во время вечерних новостей, они пили не чай, а понемножечку виски с водой, потому что Сесилия сказала, что виски помогает заснуть. Рядом лежали журналы «Она» и «Деревенская жизнь», для первого они были слишком старыми, а для второго – слишком городскими. Там же находился роман «Куда боятся ступать ангелы», который читала миссис Дарн. Правда, он нравился ей куда меньше, чем «Поездка в Индию».
Первой новостью шел арест подозреваемого во взрыве бомбы на Мэлл. Во вчерашнем выпуске говорили, что бомба была изготовлена не из «Семтекса», как та, что взорвалась на Бэйсуотер, а из чего-то наподобие пороха. В новостях это назвали «магнезией для фотовспышки». Она была плотно набита в жестянку, которую взорвали с помощью запала из спичечных головок. Жестянка была прицеплена к бензобаку, что и стало причиной не только взрыва, но и ужасного пожара. Дафна заявила, что совершенно не понимает ни полицию, ни Би-би-си. Ведь даже она, полная профанка как в науке, так и в кулинарии, уже почти что выучилась по всем этим картинкам, как изготовить бомбу. Человека, который установил взрывное устройство, точнее, подозреваемого в ее установке, вывели из здания суда в сопровождении двух полицейских. Его имя ничего не сказало обеим пожилым дамам.
– Мне кажется, я уже где-то видела это лицо, – заметила Сесилия.
– Знаешь, чем старше я становлюсь, – усмехнулась Дафна, – тем больше мне кажется, что все люди на одно лицо. В молодости я не обращала на это внимания, а сейчас мне то и дело кажется, я уже где-то видела каждую физиономию.
– Я не знаю никого, на кого был бы похож этот человек, и все же уверена, что видела его. Не так уж много людей имеют плохо прооперированную верхнюю губу и нос уточкой, не правда ли? – возразила ее подруга.
– И это прекрасно, – ответила миссис Блич-Палмер.
Глава 19
Комната была холодной, да и кровать не теплее. Алиса проводила здесь так много времени, что почти во всех подробностях запомнила вид, который открывался с подушки. Фотокамеры Акселя, перенесенные из кабинета рисования, громоздились на подоконнике. На прикроватной полке всегда стояла какая-нибудь книга. Сейчас – «Так говорил Заратустра», а в прошлый раз были «Встречи с замечательными людьми» Гурджиева. Она не читала ни первой, ни второй и не имела никакого представления, были ли это романы или нечто другое.
Джонас, похоже, жил на чемоданах: они так и стояли на полу неразобранные, с открытыми крышками. Хотя, возможно, он положил какую-то одежду в комод – Алиса этого не знала, она ни разу туда не заглядывала. Несколько дней назад ее друг перенес сюда из кабинета рисования и портрет Марии Замбако. Скрипачка помнила его слова о том, что между ней и портретом есть некоторое сходство, и, может быть, именно поэтому она, Алиса, ему нравится. Он не сказал тогда «люблю» или «хочу», он сказал «нравишься» – довольно-таки размытое определение, и это пугало ее.
Сейчас она лежала и смотрела на картину, повешенную Акселем на место меркаторовой карты. Внутренняя честность, из-за которой она чувствовала себя столь жалкой на уроках мадам Донской, заставила Алису признать, что между ней и женщиной, изображенной на картине Берн-Джонса, сходства очень мало. Она понимала, что если не впадать в самообман, то совершенно очевидно – Джонас перенес сюда картину вовсе не потому, что портрет напоминал ему Алису.
Дверь открылась, и он вошел. Его лицо было таким мрачным, что он как будто постарел. Его рука сжимала газету так, что побелели костяшки пальцев. Он молчал.
Половину первой страницы занимало фото какого-то урода с широким, сплющенным к низу носом. Заметив взгляд подруги, мужчина разорвал газету надвое, одну часть свернул в трубочку, а на оставшуюся накинул пальто. Потом он повернулся к Алисе, и выражение его лица изменилось. У нее возникло неприятное чувство, что он только что освободился от своих важных дел и решил выкроить немного времени на нее. Его рот искривила усмешка. Женщина поняла, о чем он подумал. О том, как сильно она, Алиса, жаждет его, насколько нетерпелива, раз уже разделась и приготовилась.
На этот раз Джонас не стал даже раздеваться, а только стянул джинсы.
– Надеюсь, ты на меня не обидишься? Я замерз, – пояснил он.
Когда все закончилось, он отослал скрипачку в ее комнату. Часом позже он вновь заглянул к ней, причем с ним был Том. Они втроем отправились в паб. В последнее время флейтист всегда ужинал в пабах, как, впрочем, и сама Алиса. Они словно забыли о необходимости экономить – все равно по счету почти всегда платил Аксель. Он поинтересовался, не пришли ли Мюррею какие-нибудь пожертвования после выхода той статьи. Тот ответил отрицательно, и его новый друг заявил:
– Нужно было позвать меня сделать несколько фотографий. У меня бы это получилось куда лучше любого их фоторепортера!
Вечер был промозглым, напоминающим больше апрель, чем февраль, – та самая погода, когда люди говорят, что на улице теплее, чем дома. Зима, бесснежная, безморозная, сухая, похоже, миновала. Мерз один лишь Аксель: узкое пальто обтягивало его фигуру, как черный кокон. Он пил бренди, причем довольно много, но казалось, совершенно не пьянел. Алиса, сидевшая напротив, почувствовала, что ей нужно постоянно держать себя в руках и контролировать каждое движение, просто для того, чтобы невзначай не протянуть руку и не коснуться его руки. Она просунула ногу между его ног, чтобы чувствовать тепло его лодыжек, но Джонас быстро отодвинул свой стул и отстранился.
Его ладони были испачканы какой-то черной пылью – видимо, он не вымыл руки перед тем, как выйти из дома. Интересно, чем он занимался в своей комнате после того, как выпроводил ее? От взгляда на его руки Алиса почувствовала сильное возбуждение.
– Что это у тебя на пальцах? – спросил Том.
Аксель повертел руками, рассматривая ладони. Похоже, он был удивлен.
– Это такая штука, которую используют для вспышки в старинных фотоаппаратах, – ответил он наконец.
– А они у тебя что, старинные? – удивился Мюррей.
Джонас промолчал. Если какой-то вопрос был ему неприятен, он просто не отвечал на него, словно внезапно делался глухим. Скрипачка почувствовала, что Аксель продолжает считать их с Томом парой, что он отстранился и закрылся от них. Но глядя на него, она вдруг осознала, что он по-настоящему расстроен: похоже, произошло нечто, что потрясло его и причинило ему душевное страдание.
Сама она тут была явно ни при чем. Случившееся никак не было с ней связано. Внезапное понимание того, что она не в состоянии даже его огорчить, ни сейчас, ни когда-либо в будущем, заставило молодую женщину содрогнуться. Но Алиса тут же вспомнила, как всего два часа назад они занимались любовью, и вновь воспрянула духом. Ведь ее любимого никто не заставлял это делать, значит, он действительно хочет ее!
Пока Аксель ходил за выпивкой, флейтист сказал:
– Вот уж не думал, что он может быть таким унылым.
Алиса пожала плечами. Она смотрела на Джонаса, ждущего у стойки бара, – на его руки, на то, как он держит стаканы, как двигаются его плечи, – и заметила, какой тяжелый у него взгляд.
– Пропускаешь свою реплику, – едко прокомментировал Том. – Ты должна была ответить, что уныние – это моя прерогатива.
Аксель поставил перед ними стаканы и вернулся к бару за своим. Потом он спросил у Мюррея:
– Слушай, ты не хочешь стать моим помощником?
– В смысле?
– Наверняка, когда приходили брать у тебя интервью, у фотографа был помощник, правда? Кто-то носил за ним камеры и штативы. Ассистент. Хотя правильнее было бы назвать его учеником.
– Да вроде бы был, – кивнул флейтист. – Нет, точно был!
Вместо того чтобы повторить свою просьбу, Аксель вдруг осторожно сказал, глядя мимо Алисы, сквозь наполненный сигаретным дымом воздух в сторону окна:
– Видите ли, у меня случилось горе. Можно сказать, я понес потерю.
– Ну, если хочешь, я тебе помогу, – смущенно пробормотал Том.
– На этом можно даже заработать, – холодно произнес его друг. – Много денег.
В 1955 году один контролер на станции «Ковент-Гарден» увидел привидение. Призрак был шести футов ростом, тощий, одет в светло-серый костюм и белые перчатки. Слова контролера подтвердили и другие очевидцы. Почему они все вдруг решили, что это не был обычный живой человек в светло-сером костюме и белых перчатках, неизвестно.
Во время прокладки линии Виктория проходчики утверждали, что время от времени видят в туннеле черный силуэт. Хотя массовое издание трилогии «Властелин Колец» вышло только в 1968 году, книгу уже лет десять как можно было найти в библиотеках. Возможно, тенью, которую видели проходчики, был Балрог? Или, может быть, кто-то из них прочитал Толкиена и вообразил, что видел Балрога?
Балрог в описании Дж. Р.Р. Толкиена – громадная тень, появляющаяся в подземельях.
Сесилия принадлежала к тому поколению, представительницы которого надевают «воскресное» платье, когда отправляются за покупками на Оксфорд-стрит. Она переоделась в твидовую юбку, новый кашемировый джемпер, коричневое драповое пальто, которое даже Тина признавала модным, кофейного цвета перчатки и лакированные туфли-лодочки каштанового цвета. С собой она взяла коричневую же кожаную сумочку, а также красивую сумку для покупок, изготовленную из рогожи с красным рисунком, а не обычный пластиковый пакет.
Была суббота. Еще в Уиллсдене они с Дафной договорились встретиться на станции «Бонд-стрит», чтобы приобрести той весенний костюм в торговом центре «Селфридж». Миссис Блич-Палмер покупала себе одежду только там. Она утверждала, что юбку с пиджаком следует называть «комплектом», тогда как Сесилия пару раз поправляла ее, что это – самый обыкновенный костюм. Впрочем, особо она не настаивала, так как понимала: подруга подразумевает, что слово «костюм» подходит только к мужской одежде. Она имела сходное мнение о значениях слов, и, пусть это мнение не всегда совпадало с мнением Дафны, оно тем не менее было очень близким, словно между подругами существовала эмпатическая связь.
По пути миссис Дарн собиралась зайти к Тине. Было уже позднее утро, и пожилая дама не опасалась никаких неприятных открытий. Она не думала, что застанет дома внуков, которые так и так приходили к ней на чай за день перед этим. Сегодня они должны были отправиться на прогулку с Брайаном. Сесилия собиралась спросить дочь, что ей купить, а на обратном пути занести чего-нибудь «вкусненького», как выражалась Тина. По дороге она вспоминала о том погибшем ребенке. Подозрительное молчание Джаспера его бабушка приписывала тому, что он тоже прочитал в газетах о своем ровеснике.
У ворот «Школы» стоял автомобиль Брайана. Дети, а точнее, один Джаспер, категорически отказывались спускаться в метро после той трагедии с мальчиком, упавшим с крыши вагона. Сзади был припаркован фургон, но Сесилия не обратила на него особого внимания, рассматривая рано зацветшие кусты, посаженные еще ее братом и до сих пор росшие в школьном саду среди сорняков, разросшейся бузины и побегов платана. Это были крупные, красные, похожие на розы цветы камелии, «эффектные», как было написано в каталоге. Она помнила, как много лет назад приобрела куст для Эрнеста, а потом, спустя год, – еще одно растеньице с розовато-лиловыми цветами, названия которого она никогда не смогла бы забыть – дафна. Они с подругой покупали саженец вместе, найдя подобное совпадение занимательным. Открыв ворота, миссис Дарн пошла по дорожке. Едва она приблизилась к входной двери, как та распахнулась, и на пороге показались Брайан, Джаспер и Бьенвида.
Бабушка немного поговорила с ними, не сводя глаз с мальчика. Волнуясь за внука, она пыталась отыскать малейший признак того, что к нему вернулась обычная деловитость, неважно, серьезная или веселая. Может быть, именно из-за этого особенного внимания лицо Джаспера словно отпечаталось у нее в памяти. Оно стояло у Сесилии перед глазами, пока она шла по вестибюлю, мимо двери раздевалки. Пусть она уже и не вздрагивала каждый раз, но не могла заставить себя делать вид, будто там ничего не произошло.
Затем пожилая женщина постучала в дверь Тины.
– Привет, мам, – открыла ей дочь, а потом добавила: – Познакомься, это Дэниэл. Он пришел за своими шмотками.
И это было чистой правдой, а не уловкой, чтобы заставить Сесилию поверить, что дела обстоят именно так, а не иначе. На словах Тина никогда не врала – только в делах. Дэниэл Корн оставил у нее CD-плеер, кое-какую одежду, тостер и решетку для барбекю. Сейчас он снимал целую квартиру, а не одну-единственную комнату, как прежде, поэтому взял напрокат фургон и приехал забрать свои вещи. А мисс Дарн по-дружески предложила ему чашечку кофе.
– Привет, – поздоровался Корн с пожилой гостьей.
– Приятно познакомиться, – церемонно ответила Сесилия и подняла взгляд.
Перед ней было то же лицо, которое только что запечатлели ее глаза, только крупнее и старше. Словно она вновь увидела Джаспера, точнее, выросшего Джаспера: невысокого коренастого опрятного мужчину с мягкими чертами лица, с хорошей кожей, как говорили во времена ее молодости, с черными, как у китайца, волосами, яркими, четко прорисованными черными глазами и бровями вразлет.
– Мам! – окликнула гостью Тина и, не получив ответа, позвала громче: – Эй, мам! С тобой все в порядке? Что-то ты побледнела…
– Со мной-то все хорошо, – ответила наконец Сесилия и даже повторила для пущей убедительности: – Все хорошо.
Беседа вновь пошла по накатанной колее: что купить Тине в «Селфридж»? Будет ли она дома, если мать зайдет к ней, ну, скажем, в пять? Но Сесилия говорила медленно и как-то рассеянно. Каждый раз, прежде чем она произносила какую-нибудь очередную фразу, у нее мелькала мысль: «Этого не может быть». Но подобные мысли не помогали, и миссис Дарн замолчала. «Мне нужно побыть одной, мне нужно все обдумать», – вертелось у нее в голове.
Потрясение принудило ее сесть – она словно была сбита с ног неожиданным ударом. Потом Сесилия снова встала, продолжая тем не менее держаться за стол.
– Ты разве не выпьешь кофе? – спросила ее дочь.
– Не хочется опоздать на встречу с Дафной, – ответила та.
От нее не ускользнуло то, как переглянулись Тина с Дэниэлом. Точнее, она заметила многозначительный и ласковый взгляд дочери, обращенный на ее приятеля. Это нисколько не тронуло миссис Дарн: она не испытала ни гнева, ни стыда, ни смущения. Она была выше всего этого. Но в ее голове что-то монотонно стучало. Это не было привычными уличными звуками. Благодаря недавно прочитанной книге и увиденному фильму, этот гул напомнил Сесилии звук взрыва, который миссис Мур слышала в Марабарских пещерах. В ее случае, конечно, это был самый банальный шум крови, но ее реакция на него оказалась весьма сходной. Миссис Дарн посетило совершенно четкое понимание того, что жизнь не имеет никакого смысла, раз в мире больше нет ни морали, ни этики, ни нравственных ценностей. Да и существовало ли все это когда-нибудь?
В том, что Дэниэл Корн является отцом Джаспера, у пожилой женщины не было ни малейшего сомнения. А Тина все эти годы получала деньги от Брайана, наивно верившего, что это его ребенок… Его обманули, точно так же, как и детей, и саму Сесилию. Теперь она не сомневалась, что и Бьенвида тоже родилась от другого мужчины. Сама же мисс Дарн, похоже, ничуть насчет этого не волновалась. Если бы ее мать позволила себе сказать что-нибудь по этому поводу, Тина бы только улыбнулась, пожала плечами и спросила: «А какая, собственно, разница?»
Никакой разницы не было. Теперь уже – никакой. По дороге к станции Сесилия, механически переставляя ноги и, не глядя, куда ступает, пересекла железнодорожный мост. Она проделывала этот путь десятки тысяч раз и сейчас шла как автомат, вспоминая свою юность и все свое прошлое и размышляя о том, что в действительности имеет значение в этой жизни. Неужели правда ни в чем нет никакого смысла? В годы ее молодости такую женщину, как Тина, затравили бы, а во времена ее собственной матери женщина, ведущая себя подобным образом, стала бы презираемым всеми изгоем. Теперь же те, кто знал мисс Дарн, только улыбались. Не то чтобы они ее прощали – нет, никто просто не видел в ее поведении ничего предосудительного. Совершенно ничего.
Апрельским вечером 1951 года на перегоне Центральной линии между станциями «Лейтонстоун» и «Снейрсбрук» были сброшены на пути три велосипеда. Возникло короткое замыкание, в результате которого движение задержалось где-то на полчаса.
За полвека до этого происшествия из поезда, направляющегося из Сити в Южный Лондон по Северной линии, выпал пассажир. Поезд как раз проходил по туннелю на полной скорости, и мужчина погиб.
В ноябре 1927 года на станции «Пикадилли» один из контролеров хотел закрыть дверь движущего поезда. Его затянуло в туннель, и он тоже разбился насмерть. Двадцать лет спустя между станциями «Ливерпуль-стрит» и «Банк» один из охранников погиб, упав с шедшего на восток поезда. В том же году на «Ланкастер-гейт» лишился жизни еще один мужчина: его рука застряла в дверях, когда он попытался их закрыть, и его утащило в туннель.
Поднявшись по чуть скользким, покрытым плесенью деревянным ступеням на мост, Сесилия замерла на секунду, глядя невидящим взором вниз, на паутину серых проводов и серебряные линии рельсов, уходящих в сторону Финчли-роуд. Что станет с детьми, когда Брайан все узнает? Кто будет их содержать? Тина – ее единственная наследница. Дом, естественно, отойдет ей. Хотя теперь миссис Дарн подумала, что обязана позаботиться о Джаспере и Бьенвиде, оставив дом им. Не для того, чтобы наказать дочь, а чтобы защитить внуков от нищеты. В ближайший понедельник нужно пойти к адвокату и переписать завещание.
Очнувшись, пожилая женщина спустилась на другую сторону станции и, предъявив пенсионный проездной, прошла на платформу. В ее в голову закралась ужасная мысль. Если даже мораль времен ее молодости, столь жесткая, прочная и неотвратимая, что люди уверены были в ее вечности и неизменности, если даже она исчезла, то что же останется, скажем, лет через двадцать от морали нынешней? Неужели тоже ничего?
То, как ведет себя Тина, во времена Сесилии считалось худшим поведением для женщины. Теперь же это расценивается как абсолютно нормальный образ жизни. Раньше печать «незаконнорожденного» оставалась на тебе всю жизнь, пусть люди и признавали, что твоей собственной вины в этом нет. А теперь? Разве это кого-нибудь волнует? И еще: то, чем занимается сейчас Питер, практически в порядке вещей, а отец миссис Дарн полагал это величайшим грехом, о котором в их доме нельзя было не то что упоминать напрямую, но даже намекать. Таким образом, вполне может статься, что вещи, считающиеся сегодня преступлениями, например насилие над детьми или детская порнография, завтра тоже могут стать нормой? И когда-нибудь потом, когда ее самой уже не будет в живых, люди будут со снисходительной улыбкой смотреть на то, что для Сесилии было худшим из грехов?!
Кто знает? Она больше ничего не понимала. Тина, используя современный оборот, назвала бы ее обалдевшей. Но пожилая дама вовсе не обалдела, не растерялась и даже не была в замешательстве. Для нее было очевидным, что стерлась, размылась и свелась на нет сама грань между добром и злом. Она никогда не верила в Бога, только в правила, которые до сих пор вроде бы неплохо служили людям, но вдруг были признаны недействительными. И мир не рухнул, он просто стал пустым и ничтожным. Шум в голове миссис Дарн все продолжался. Некоторое время она с интересом слушала его, а потом ощутила вибрацию и певучий звук, сопровождающий прибытие поезда.
Она чувствовала себя как бы расколотой – так вернее всего можно было обозначить ее состояние. У нее имелось тело, выполняющее определенные действия: вот оно шагнуло в вагон, проследовало к сиденью, уселось… И была та часть ее, которую она называла сознанием, отстраненно наблюдавшая за телом с некоторого расстояния, паря в воздухе, словно Сесилия уже умерла. На нее навалилось беспредельное одиночество.
Конечно, в поезде были другие люди – времена, когда можно было зайти в вагон на их станции и не обнаружить там ни единого человека, давно прошли. Но миссис Дарн казалось, что к человеческим телам приделаны козлиные и обезьяньи головы, настолько эти лица были лишены признаков рассудка, человечности и цивилизованности. На «Свисс-Коттедж» вагон начал быстро заполняться народом. Сесилия закрыла глаза, отступая в свой персональный Малабар – темный, пустой, всеми заброшенный, полный лишь далеким монотонным грохотом.
Первый раз за последнее время она ехала в этом катящемся под уклон поезде, не вспоминая о погибшем малыше и o том ужасе, который он должен был испытать, не ощущая сочувствия и жалости к его родителям. Его смерть не имела больше никакого значения, размышлять о ней было бессмысленно, в этом мире вообще все потеряло смысл. Старая женщина думала о сумбуре и стуке крови в собственной голове.
Вагон начал пустеть. Хождение пассажиров туда-сюда вернуло ее к действительности, и она, открыв глаза, увидела обычный бейкерстритовский «массовый исход». Внезапно миссис Дарн почувствовала слабость, похожую на сосущий голод, тошноту от пустого желудка. Рот ее наполнился слюной. Она попыталась нащупать свою сумочку и не обнаружила ее. Сумочка исчезла.
Временами случалось, что, назначив друг другу встречу, подруги приезжали на одном и том же поезде, сами об этом не зная. Дафна садилась в поезд в Уиллсдене, а двумя остановками позже, в Западном Хэмпстеде, в него же попадала Сесилия. Так могло быть и на этот раз. Но сегодня миссис Дарн даже не вспомнила о том, что можно поделиться с Дафной всем произошедшим, не пожалела, как это всегда случалось в прошлом, об ее отсутствии. После открытия, так потрясшего пожилую женщину, все ее мысли вращались вокруг общечеловеческих взаимоотношений, а о каких-то конкретных людях она не думала. Те, кто находился с ней в одном вагоне, казались ей химерами со звериными головами, не способными отличить добро от зла, не могущими ни помочь ей, ни навредить.
Тем не менее кто-то из них украл ее сумочку.
Сесилия испытала чувство, которое посещает всех нас, когда мы обнаруживаем, что потеряли нечто ценное и важное. Оно тяжело ворочалось и шевелилось внутри нее, словно чудовищный эмбрион в странно-безболезненных родовых схватках. Вдруг миссис Дарн показалось, что ее голова отделилась от тела и невесомо парит в воздухе. И неожиданно все закончилось. На какое-то мгновение она исчезла из вагона, из этого мира, ее затянуло во тьму, на секунду она словно умерла, а потом опять обнаружила себя на сиденье, завалившейся на бок, словно вытащенная на берег лодка.
Она сидела рядом с дверью, и около ее места имелся металлический поручень, за который держались стоящие пассажиры. Сесилия тоже держалась за него правой рукой, и с этой рукой все было в порядке. Женщина встала на ноги. Точнее, на одну ногу – правую. Ее левая нога, как и левая рука, были мертвы. Никто не обращал на нее внимания. Говорили, что именно так оно и происходит, и пожилая дама, исходя из своего нового ви́дения мира, ничему не удивилась. «Что же, я всегда была выносливой», – подумалось ей. Она стояла прямо, то есть почти прямо, вцепившись в металлическую трубу. Поезд прибыл на «Бонд-стрит», кто-то нажал кнопку, и дверь открылась.
Сесилия попыталась шагнуть из вагона и упала. И тут люди ее, конечно, заметили. К ней потянулись руки, ей пытались помочь, ее подняли, и внезапно рядом оказалась Дафна, которая тоже ее поддерживала. Она чувствовала свое лицо так, будто бы только что побывала у зубного врача, сделавшего ей в десну укол обезболивающего – левая его сторона совершенно онемела. Подруга, сидящая рядом на станционной скамейке, поддерживала ее с правой стороны. Сесилия хотела поднять левую руку и пощупать замороженный рот, но не смогла ею пошевелить, словно отлежала ее во сне. Только это был не сон – когда просыпаешься, в конечности возвращается чувствительность, и кожу начинает покалывать.
– Очевидно, у меня был удар, – сказала она Дафне. – Слава богу, что кровоизлияние произошло в правом полушарии мозга, иначе последствия могли бы быть серьезнее. Как ты наверняка знаешь, левое полушарие намного важнее.
Она старалась говорить как можно более разборчиво, но, похоже, для миссис Блич-Палмер ее речь так и осталась невнятным бормотанием на каком-то чужом языке.
Визит к ветеринару был назначен на утро понедельника. Джед размышлял, сумеет ли специалист общего направления, не орнитолог, подарить Абеляру безболезненную смерть. Тот сказал, что все будет хорошо, и даже предложил прийти на дом, однако Лори пожелал приехать в клинику.
Абеляр сидел на насесте в саду. Джед продолжал регулярно взвешивать ястреба и кормить его, исходя из веса птицы. Но его любимец все тяжелел, потому что уже не летал. Приходилось урезать ему порции, а потом слушать крики несчастной птицы. Тина утверждала, что, когда окна закрыты, лично она ничего не слышит, но Лори слышал все. Словно принцесса, которая почувствовала горошину через двадцать перин. Двадцать закрытых окон между Джедом и ястребом не смогли бы заглушить его крики. Если, конечно, это не были слуховые галлюцинации…
В субботу, после полудня, до Лори неожиданно дошло, насколько глупо он поступает. В понедельник ястреб умрет, а он все носится с его весом и беспокоится о количестве еды. Можно, по крайней мере, сделать счастливыми последние дни Абеляра. Когда Джед проходил через вестибюль, зазвонил телефон. Он снял трубку. Звонивший просил передать Тине, что ее мать заболела. Хозяин птицы постучал в дверь бывшей комнаты директора и позвал мисс Дарн к телефону. Молодая женщина внезапно побледнела, и обычная улыбка сползла с ее лица.
Джед подумал о том, какой странной бывает порой любовь. Вот он любил других. Любил жену и дочь. Иногда он уверял себя, пусть и подозревая в лицемерии, что стал «Защитником» из любви к человечеству. Но он никого не любил больше, чем эту птицу, чьи пронзительные призывы о помощи доносились до него из сада, отзываясь в его душе горечью и ужасом.
Как только он спутал ястребу лапы и посадил себе на запястье, тот затих. Хозяин погладил его по голове. Волна любви поднялась у него в душе и захватила его целиком. Джед заплакал. Он забрал Абеляра к себе в комнату, посадил на насест и скормил ему несколько порций мяса. Ястреб с жадностью все съел, и его глаза счастливо заблестели. Жаль только, что у Лори не было однодневных цыплят – после того, как птица перестала летать, незачем стало вознаграждать ее за успехи.
«В понедельник я принесу ему несколько», – подумал хозяин, а потом вспомнил, что в понедельник Абеляра уже не будет. Его питомец умрет. По щекам мужчины вновь потекли слезы. А у ястреба глаза были закрыты. Джед вытер слезы, глядя из-под опухших век на гордо сидящую птицу. Абеляр был прекрасен, полон достоинства и грациозен.
Лори рывком встал, спустился в вестибюль, позвонил ветеринару и отменил визит.
Как же он сразу не понял простой вещи! Ему вовсе не нужно ничего делать, можно просто оставить Абеляра в живых. И это было единственным, чего он действительно хотел. Почему-то с самого начала он не увидел такого очевидного решения. Однако теперь Джед все осознавал – постепенно, словно со скоростью морского прилива. Он просто будет держать ястреба в своей комнате и кормить его сколько влезет. Он сделает счастливым любимое существо. И все будет длиться еще долго, очень долго, ведь Абеляр может прожить двадцать и даже тридцать лет. Так, бок о бок, день за днем, они будут тихо жить вместе в этой комнате, а может быть, еще где-нибудь. И ястреб никогда больше не будет кричать.
Путь к счастью оказался таким простым. Лори сидел, смотрел на птицу и смаковал принятое решение. По прошествии довольно долгого времени Абеляр открыл один глаз. Тогда Джед встал, подошел к шкафу и достал мясо, которое собирался сам съесть на ужин.
В школу Олдебурга Алису не приняли. Ей это сообщили, даже не дослушав до конца ее выступление. Сотрудники школы вели себя вежливо, но довольно холодно.
С чего ей вообще пришло в голову, что любовь сделала ее игру лучше? Теперь это казалось забавной иллюзией, возникшей в момент умопомешательства. Скрипачка попыталась также поступить на мастер-класс в Бриттен-Пирс, но во время исполнения вдруг позабыла все технические приемы и в какой-то момент сфальшивила так, что почувствовала, как кровь прилила к лицу.
Она стыдилась себя, стыдилась того, что размечталась о несбыточном, совсем как Том. Алиса представила себя ученицей Макса Росталя[30], на творческом вечере в концертном зале Снейпа. Вообразила Акселя, сидящего в первом ряду, увидела, как скептическое выражение на его лице сменяется гордостью за нее.
И скрипачка подумала, что ради его улыбки, ради удовольствия играть для него она вытерпит все замечания, которые сделает ей великий маэстро.
Глава 20
– Мне сообщат.
Том уже привык слышать от Алисы эти слова. Она говорила их каждый раз, возвращаясь с очередного прослушивания. А потом безжизненным голосом признавалась, что ее не приняли. Или отказали ей в стипендии. Или не намеревались содействовать ей в получении места.
Молодой человек ничего не мог с собой поделать – он радовался. Теперь-то любимая вернется к нему и будет снова играть в его уличном оркестре! Когда все ее бесчисленные попытки провалятся, она бросит свою ненужную работу. Жестокость экзаменаторов только к лучшему, пора уже ей прекратить тратить впустую время и деньги. Ведь всем известно: если ты хочешь сделать карьеру в музыке, надо начинать учиться еще в раннем детстве. Поступить в Гетхэм или в школу Йегуди Менухина и упражняться день и ночь.
И нужно трезво смотреть на вещи. Не каждый может достичь вершины, большинство эту дорогу осилить не способны. Удобнее всего было бы представлять себя исполнителем второй категории. Мюррей именно так и предпочитал думать о себе с Алисой: они – исполнители среднего уровня. По его мнению, это было здорово – такое положение позволяло извлечь из игры максимум удовольствия. И то, что подруга воспринимала это все так болезненно и трагично, приводило флейтиста в ярость, хотя любить ее он не переставал. Поэтому и теперь он обнял ее, прижал к себе, шепча какие-то ласковые глупости и гладя по голове. Скрипачка приникла к нему как потерявшийся ребенок, и Том подумал: «Амбиции оттолкнули ее от меня, но совсем скоро она вернется».
Позже, когда он сказал, что идет с Акселем в паб, Алиса так яростно замотала головой, что ему не понадобилась заранее подготовленная речь о том, почему ей лучше остаться дома. Она вечно таскалась с ними, из-за чего Мюррею никак не удавалось поговорить о ней с Акселем, а ему этого очень хотелось.
– Знаешь, как только у Алисы пройдет это разочарование, она сама поймет, что все к лучшему, – сказал он своему новому другу, когда они оказались в пабе.
– Почему? – не понял тот.
– Куча людей была бы просто счастлива играть в моем оркестре. А Алиса никогда не станет концертирующей солисткой. Смешно, но, видишь ли, люди у нас в Британии, заканчивая музыкальную школу, умеют исполнять сольные партии в концертах Моцарта, но понятия не имеют о самодисциплине, необходимой для работы в оркестре. Алиса же сможет этому научиться, точнее, мы с ней научимся вместе.
Заметив безучастное выражение на лице Акселя, Том вздохнул:
– Извини, я тебе надоел.
– Ничего подобного, – возразил его собеседник. – Что будешь пить?
– Как обычно, – ответил Мюррей. – Пинту светлого.
Он специально позволил Джонасу оплатить первую пару и тем самым – третью. Таким образом, на его долю осталась только оплата второй пары. Разговаривать с Акселем было на удивление легко. Наверное, потому, что он мог по-мужски молчать и только слушать, глядя прямо в глаза и время от времени кивая.
– Что ты вообще думаешь об Алисе? – задал флейтист новый вопрос. – Давно хотел спросить тебя об этом, но она все время была с нами.
– Что я о ней думаю?
– Да.
– Очень красивая девушка, – безразлично произнес Джонас, и пренебрежительный тон его голоса странно контрастировал со словами. – Думаю, ты совершенно прав.
– В каком смысле?
– В таком, что не одобряешь ее… как бы это сказать… Ее чрезмерные музыкальные претензии. Особенных способностей у нее нет.
– Откуда ты знаешь? – изумился Том.
– Да ничего я не знаю. Я не знаток. Просто один раз слышал ее игру. Попросил ее, она и сыграла для меня. Я тогда совершенно разочаровался. Ничего, что я так откровенен?
– Ничего, – ответил Мюррей.
– Именно поэтому я и думаю, что для вас двоих будет лучше, если вы создадите, ну, что-то вроде собственного оркестра. Если тебе это нравится, конечно. Ну, и если понравится ей. Почему нет?.. Хотя лично я больше представляю Алису в качестве хранительницы вашего семейного очага. Ты должен увезти ее отсюда и подыскать какой-нибудь дом, чтобы ей было чем заняться.
Аксель держал бокал с бренди обеими руками и, улыбаясь, смотрел поверх его края на собеседника. Тому вспомнилась одна реклама. То ли какого-то ликера, то ли бокалов, а может быть, таких вещей, которые вообще не продаются: хитрости, или даже коварства, или умения читать в человеческих сердцах. Но через мгновение его друг снова глядел на него весело и дружелюбно.
– Но как я это сделаю? – спросил музыкант.
– Попробуй получить государственную субсидию на развитие малого бизнеса. Разве оркестр нельзя считать бизнесом?
– Всего сорок фунтов в неделю. Какой же это бизнес? – горько протянул флейтист.
– Да я шучу.
Выражение лица Акселя внезапно изменилось: оно посуровело, сделалось жестким и деловым, а зубоскальство и хитринка исчезли.
– Том, – спросил он, – ты не хочешь подзаработать?
В январе 1902 года на Северной линии между станциями «Слон и замок» и «Бюро» в поезде вспыхнул пожар, и оттуда пришлось эвакуировать всех пассажиров.
В августе 1910 года в поезде на перегоне между «Бейкер-стрит» и «Свисс-Коттедж» стреляли в мужчину. Однако он выжил. Следствием этого происшествия стала установка в вагонах устройств, позволяющих пассажирам сигнализировать о чрезвычайных ситуациях.
Двадцать четыре года спустя груженный щебнем состав сошел с рельсов и разрушил здание поста электроцентрализации около станции «Рейнерс-лейн» линии Пикадилли. В следующем году самолет Королевских Вспомогательных ВВС упал на пути Северной линии близ Колиндейла, что спровоцировало короткое замыкание. Возникший пожар также полностью уничтожил здание поста электроцентрализации.
В 1944 году, прямо в Сочельник, на станции «Пэддингтон» возник серьезный пожар в эскалаторной шахте, но жертв не было.
В январе 1917 года полностью сгорела станция «Стоунбридж-Парк» линии Бейкерлоо. Двадцать восемь лет спустя она сгорела снова. В 1958 году один пассажир задохнулся, когда загорелся поезд на станции «Холланд-Парк» Центральной линии.
В 1985-м в подземке запретили курить. Однако это не защитило метро от самой страшной, за исключением взрыва бомбы в Белхэме, трагедии, когда в ноябре 1987 года вспыхнул пожар на станции «Кингс-Кросс».
Мысль о том, что она должна вернуться на виллу «Сирени» и ухаживать за Сесилией, ужасала Тину. Она утратила свои обычные спокойствие и безмятежность. В тот миг, когда она узнала от Дафны печальную новость, исчезли главные черты ее характера: флегматичность, беззаботность и умение принимать жизнь такой, какая она есть.
Она этого не хотела. Просто не могла. В ее голове теснились многочисленные отговорки. Молодая женщина пыталась отобрать самые убедительные, чтобы высказать их миссис Блич-Палмер, как вдруг та, словно по мановению волшебной палочки, произнесла:
– Тина, если ты не против, я бы хотела поухаживать за твоей матерью. Если она сама согласится, естественно. Доктор сказал, что в больницу ей не надо, она ведь не полностью парализована.
– Боже, конечно же, я не против! – воскликнула мисс Дарн. – Дафна, вы просто чудо!
Облегчение сделало ее великодушной.
– Вы не возражаете, если мы с детьми завтра приедем ее навестить? – спросила она. – Можно?
Сесилия лежала на диване-кровати в гостиной. Лестницы на вилле были крутыми, и ей не стоило даже пытаться карабкаться по ним. Опираясь на руку Дафны и палку, ей удавалось кое-как дотащиться до уборной. Через день-два она уже могла сидеть в кресле, и физиотерапевт начал учить ее делать упражнения, рассчитанные на то, чтобы восстановить левую половину тела.
Миссис Дарн была очень счастлива со своей подругой. Она испытывала к ней признательность, но это отнюдь не было слепой благодарностью. Скорее, она ощущала, что Дафна оказалась на высоте и делала то, что было должно, по мнению больной. Все происходило так, словно они были старой, преданной друг другу семейной парой. Дезертирство, сдача позиций, неспособность выдержать испытание – все это в их случае было абсолютно невозможно. Миссис Блич-Палмер поступила так, как поступила бы на ее месте сама Сесилия. Дафна любила ее, а она любила Дафну. Странным было лишь то, что с тех пор, как миссис Дарн заболела, она, говоря об отношениях с подругой, могла с легкостью и даже с удовольствием произносить слово «люблю», как про себя, так и вслух, пусть и не при Дафне. Заменить ее кем-то было совершенно немыслимо. И больной нравилось шепотом, уже в полудреме, повторять: «Да, мы с Дафной любим друг друга».
В тот день, когда все случилось, она сидела на серой станционной скамье рядом с миссис Блич-Палмер, а вокруг толпились люди. Среди пассажиров, сошедших с поезда, чудом оказался врач. Он поднялся по эскалатору и сообщил о случившемся работникам метро. Привезли кресло, усадили в него Сесилию и подняли ее на поверхность. Именно в этот момент Дафна показала, чего она стоит. Она отвезла подругу домой на такси и вызвала ее лечащего врача. Таким образом, миссис Дарн избежала отправки в больницу и осталась в собственном доме, пусть и полупарализованная и с перекошенным лицом.
Она не повредилась в уме, но страдала от легкой амнезии. Между тем моментом, когда она увидела Брайана с детьми, и следующим, когда обнаружила себя на платформе «Бонд-стрит» рядом с Дафной, была пустота. Сесилия ничего не помнила, однако никак не могла избавиться от чувства, что за это время произошло что-то очень нехорошее. И именно оно спровоцировало удар. Было непривычно осознавать, что тот самый час, в течение которого она оказалась поражена болезнью, возможно, даже смертельной – во всяком случае, непоправимой, пусть даже физиотерапевт твердил ей что-то ободряющее, – этот самый час оказался потерян, вычеркнут из ее жизни, смыт, минута за минутой, прорвавшейся кровью, вместе с кусочком ее мозга.
«Должно быть, я испытала какое-то ужасное потрясение, спровоцировавшее скачок давления», – думала Сесилия. Врач уверяла, что теперь давление у нее в норме, и она очень довольна течением болезни. Дафна готовила все ее любимые блюда и носила ей книги из библиотеки. Вечерами миссис Дарн сидела на своем диване-кровати, и они вместе смотрели телевизор. И держали друг друга за руки, чего раньше никогда себе не позволяли. Миссис Блич-Палмер пододвигала свое кресло к дивану, брала свою подопечную за парализованную руку и сжимала ее в своих ладонях. Рука не двигалась, но чувствительность в ней сохранилась.
По прошествии нескольких дней Сесилия заметила улучшение в области лица. Когда Тина с детьми навестила ее во второй раз, она смогла понять все, что говорила мать. Дафна же понимала ее с самого начала. Питер, возвращаясь домой после работы в хосписе, заглянул ее проведать и рассказал им грустную историю о двадцатилетнем парне, умершем ночью у него на руках.
– Не думаю, что кто-нибудь на самом деле умирает на руках у другого человека, – сказала миссис Блич-Палмер, когда ее сын ушел. – Не хотелось ему этого говорить, бедный мальчик так расстроен… Но это было бы чрезвычайно неудобно для пациентов. Да и как можно угадать необходимый момент? Если ты понимаешь, о чем я.
– Полагаю, это означает, что ты просто обнимаешь другого человека, когда видишь, что он уходит, – предположила больная.
– Да, возможно, и так.
– Дафна, а ты веришь в загробную жизнь? Что в момент смерти наши души покидают тело и отправляются в блаженный край? – спросила Сесилия.
– Нет, – ответила ее сиделка.
А потом, помолчав немного, добавила:
– Ты уже очень хорошо разговариваешь. Ты вообще уже почти такая, как была.
– Наверное, ты скажешь, что это глупо, но я хочу увидеть свое лицо, – попросила ее миссис Дарн. – Я смогу это вынести, правда. К тому же не думаю, что в моем возрасте у меня осталось еще какое-то тщеславие. Не найдешь ли ты мою сумочку? Там есть пудреница с зеркальцем.
Дафна сделала вид, что поискала сумочку, но особенно не усердствовала. Она действительно считала, что подруге нечего смотреть на свой перекошенный рот, и Сесилия это поняла. Но она не забыла о своей просьбе, как надеялась ее помощница, а просто не стала больше напоминать ей об этом, чтобы ее не расстраивать.
Старуха явно дрыхла, и ее сумочка прямо-таки сама просилась в руки. И безработный Николас Манн – ловкий смекалистый парень, вынужденный из-за отсутствия деньжат проживать в одной квартире с сестрой и ее друганом, прихватил сумку. Никто его не засек, а может, все сделали вид, что ничего не заметили. На «Бейкер-стрит» он благополучно слинял из вагона.
Первым делом Николас вытащил бумажник, в котором, помимо наличных, лежала пара кредиток, карточка для банкомата и чековая книжка. Выкинув сумочку вместе с оставшимся содержимым в ближайшую урну, он направился по Мэрилебон-роуд.
Там он обнаружил, что старуха не подписывалась полным именем, а ставила инициалы «С.М.». Точно такая же подпись была и на карточках. На обороте чековой книжки были написаны четыре цифры, и Манн сделал логичный вывод, что это – пин-код к дебетовке. Он оказался прав. В банкомате отеля Брайтона код подошел. В оставшиеся до вечера часы Николас потратил кучу денег на еду, выпивку, одежду и всякие нужные вещи. Потом, опасаясь того, что хозяйка уже заявила в полицию о краже, он снял в банкомате со счета все оставшиеся деньги и провел вечер в казино. Удача по-прежнему была на его стороне: он утроил свой капиталец и поехал в отель с тысячью четырьмястами фунтами в кармане.
На следующий день он, между делом, звякнул сестре и объявил, что не вернется. Та очень обрадовалась, так как ее любимый без памяти дружок уже заявил: или он, или ее брат. Она была до того счастлива, что, когда любовник буркнул, что должен сходить купить презервативы, ответила в том смысле, что нечего больше возиться с этой ерундой. Они первый раз занимались сексом без контрацептивов, и она тут же забеременела.
Едва Алиса ушла на работу, Том отправился в кабинет рисования к Акселю, чтобы поговорить с ним. Первое, что он увидел в комнате, была веревка. Длинная, тонкая, но явно крепкая веревка, смотанная в бухту. К одному ее концу был привязан болт с кольцом. Сам хозяин находился за письменным столом. В кабинете было довольно холодно, поэтому он сидел в своем долгополом пальто и чертил на листке бумаги то ли какой-то план, то ли схему.
– Ну, как? Ты готов стать моим ассистентом? – спросил он соседа.
– Если ты хорошо мне заплатишь, – поколебавшись, ответил тот.
– А если для этого придется преступить закон?
– Только если речь не идет о насилии.
– Ну, что ты! Никакого насилия! – воскликнул Джонас так, словно его насмешили слова Тома, будто бы тот сказал что-то вроде: «Только если мне не придется отправиться в космос».
– Так в чем заключается твое дело? – поинтересовался флейтист. – Я имею в виду, что от меня-то требуется? Или ты рассуждал чисто теоретически?
Аксель снова расхохотался:
– Видишь веревку? Это ведь не теоретическая веревка, правда? Самая что ни на есть настоящая веревка, с ней нельзя показывать индийские фокусы.
– Что-что показывать?
– Неважно, – Джонас по своему обыкновению резко сменил тему. – Насколько хорошо ты знаешь Джарвиса?
– Ну, не так чтобы очень. Мне он нравится… да он вообще всем нравится. Но я просто снимаю комнату в его доме, и не более того.
– А он никогда не рассказывал тебе, скажем так, о тайнах метро?
– Боюсь, я тебя не понимаю.
– Он не говорил о заброшенных участках подземки? Например, о старых вертикальных шахтах, которые размещаются в различных зданиях Лондона.
– Да я никогда особенно ничем таким не интересовался, ни поездами, ни подземкой, – ответил Том. – Просто исполняю там музыку.
– То есть ты не знаешь, что такое диспетчерская?
– Думаю, в принципе могу представить.
Аксель протянул Мюррею листок, на котором чертил. Это точно был план, вот только чего? Похоже, линии обозначали контур какого-то здания, и еще там было нарисовано что-то вроде здоровенного вытянутого горшка. Пока музыкант рассматривал картинку, его друг сказал:
– Я хочу кое-что сфотографировать в диспетчерской. Она обозначена на схеме крестом.
Том увидел небольшой значок, напомнивший ему паука, сидящего в центре своей паутины.
– А они тебе разрешат?
– Если под «ними» ты подразумеваешь Компанию Лондонских Подземных Перевозок, то их я спрашивать не собираюсь. Не буду тратить время на попытки получить разрешение – мне все равно откажут. Я просто хочу это сделать, и мне требуется твоя помощь. Это то, что мне от тебя нужно.
– Да, – медленно произнес флейтист, – да, я понимаю.
– Не думаю, – сказал Аксель. – Это вряд ли. Речь не идет ни о каком взломе, даже если нам придется войти туда без разрешения. Я не собираюсь ничего красть или вскрывать замки. В нужный момент я все тебе объясню, и то, что собираюсь сделать сам, и то, что должен будешь сделать ты.
– Могу я задать вопрос? – спросил Мюррей, и его голос прозвучал тонко, как у маленького мальчика, не надеющегося на ответ. – Зачем тебе это нужно?
– Я фотограф.
– Это не ответ, – необычно для себя твердо заявил Том. – Фотографировать то, что запрещено, – это, знаешь ли, смахивает на шпионаж.
Его собеседник опять рассмеялся. Он забрал свой план, написал на листке несколько слов и поставил новый крестик.
– Если ты в деле, то тебя ждет кругленькая сумма, – заявил он.
– По-моему, я уже сказал, что согласен.
– Но ты так не спросил, сколько тебе заплатят.
– Не спросил.
– Как тебе десять штук?
– Десять тысяч фунтов? – Музыканту показалось, что он ослышался. – Ты сказал, десять тысяч фунтов?
– Думаю, что смогу заплатить даже несколько больше.
– Ты? Хочешь сказать, твои заказчики, твои хозяева?
– Ну, если тебе так больше нравится…
Том сверлил товарища взглядом.
– Ты должен довериться мне, – сказал Аксель, – а я – тебе. Что касается меня, то я уже выказал тебе свое доверие, рассказав о своем плане. Сжег за собой мосты, открыл свои карты, называй, как хочешь. Рассказал тебе, что за фотографию я намереваюсь сделать. Точнее, фотографии. Можешь хоть сейчас анонимно позвонить в Лондонскую Транспортную и положить всему конец. Я целиком и полностью в твоих руках. А теперь я хочу, чтобы ты тоже отдался в мои руки и спросил о деньгах. Если ты согласен, то я заплачу тебе тысячу авансом, а остальные – когда все будет закончено. Согласен?
– Я должен подумать.
– Только не раздумывай слишком долго.
– Хорошо, вечером дам ответ.
Пожар возник из-за непогашенной спички, брошенной на эскалатор и провалившейся в шахту. Эскалатор вел с платформы линии Пикадилли в главный билетный зал и проходил под выходом со станции. Было 19 часов 25 минут 18 ноября 1987 года.
Коридоры сразу заполнились густым дымом. Позже рассказывали, что это был ад кромешный. Пассажиры, прибывавшие на станцию, почувствовав запах дыма, пытались вернуться обратно в вагоны, но места хватило не всем. Некоторые вынуждены были оставаться на платформе, а мимо них проходили без остановки поезда. Оказавшиеся в ловушке люди стучали в их окна. Один из свидетелей утверждал: «В вагонах была куча места, а они не дали нам войти!»
С точки зрения одних, поезда, проносясь по туннелям, только раздували пожар, по мнению других, напротив, стали барьером на пути огненного смерча.
В пожаре на «Кингс-Кросс» погиб тридцать один человек.
Самой большой трагедией, произошедшей в метро, считается крушение поезда, врезавшегося в тупик на станции «Мургейт» 28 февраля 1975 года. Тогда погибли сорок три человека.
В этот же день, только позже, Том должен был встретиться на «Тоттенхэм-Корт-роуд» с Джеем Россини и его другом по имени Марк. Они спустились на эскалаторе и встали на место, которое «застолбили» заранее. Это было в круглом вестибюле, отделанном мелкой разноцветной плиткой. Джей объяснил, что Питер заболел и не сможет простоять на ногах несколько часов.
Марк играл на саксофоне, помимо которого принес новейший беспроводной микрофон. Мюррей потерял дар речи, когда услышал, сколько такой стоит. Они расположились в мозаичном холле, и его новый знакомый со смехом сказал, что все здесь выглядит так, словно это – концертный зал, придуманный специально для них. Он положил открытый футляр саксофона на пол. Том отметил, что микрофон маленький и удобный, а когда запел, то звук ошеломил его своей громкостью. Словно бы пел не он, не его горло и легкие, а сами стены наполняли звуками пространство высокого зала и близлежащих коридоров. Флейтист спел несколько народных песен, закончив балладой «Ярмарка в Скарборо» – ему очень нравились слова о бывшей любимой, «той, которая там живет».
Несколько человек, проходя мимо, поморщились – очевидно, им не понравился такой громкий звук, а одна женщина даже резко развернулась и пошла в другую сторону, но в целом люди были, похоже, довольны. Том запел «Auprès de ma Blonde». Их сразу окружила группа молодых людей, наверное, французских студентов, начавших подпевать. Голоса и звуки гитары с саксофоном, усиленные аппаратурой Марка, заставили одного из работников метрополитена спуститься на эскалаторе в вестибюль. Дежурный и рад был бы прогнать их, но даже он не решился бы утверждать, что музыка мешает пассажирам. Они лишь отошли немного подальше в коридор, и Мюррей спел в честь своих французских поклонников арию тореадора из «Кармен».
С того места, где они сейчас находились, видны были серые двери, ведущие, по словам Акселя, в неэксплуатируемую часть подземки: полутемные туннели, узкие мрачные коридоры, старые лифтовые шахты и лестничные клетки. Флейтист продолжал думать о том, что хотел от него Джонас и на что именно он уже практически согласился. Еще не поздно было повернуть назад, но, честно говоря, Том не видел в желании Акселя ничего криминального. Ему очень хотелось посоветоваться с Алисой. Несмотря на то что она довольно по-свински обошлась с мужем и ребенком, Мюррей всегда чувствовал, что эта женщина, возможно, самый высокоморальный человек, с которым он когда-нибудь имел дело. Но Аксель взял с него слово, что он никому ничего не расскажет, даже Алисе.
Играть закончили сразу после пяти, то есть довольно рано, но сегодня выпал удачный день: они заработали больше двадцати фунтов. Том заставил Марка пообещать, что тот, равно как и его микрофон, присоединится к ним как-нибудь еще, и отправился встречать любимую с работы.
Он более или менее знал, где находится ее контора и как называется ее компания, но никогда еще там не был. Знал название улицы, но не номер дома. Если бы он отправился туда пешком, наверняка бы опоздал, поэтому Мюррей пошел на поезд Центральной линии, идущий в восточном направлении. Платформа была забита народом. Голос из громкоговорителя бормотал извинения за задержки, объясняя, что на линии произошел «несчастный случай». Скорее всего, еще один самоубийца, еще один труп на рельсах.
На платформу прибывали все новые пассажиры. Не начнет ли толпа напирать так, что вытолкнет стоящих впереди за желтую линию? Том представил заполненный до отказа эскалатор. На ум ему пришло сравнение с водой: эскалатор – это труба, заполняющая и без того полный бассейн. Через некоторое время бассейн переполнится, и вода хлынет через край, заливая все вокруг. Джарвис рассказывал ему, что на некоторых станциях установлены специальные сигналы, для того чтобы останавливать эскалаторы в подобных случаях. У музыканта вдруг начался приступ клаустрофобии. Голова заболела. Он протолкался сквозь толпу и пошел на западную платформу. Было десять минут шестого. Алиса должна была уже выйти из офиса.
Так рано он вернулся домой впервые за многие месяцы. Его подруги не было ни в «кабинете директора», ни в «четвертом классе». Впрочем, даже если бы она уже вернулась, Том все равно не смог бы посоветоваться с ней насчет планов Акселя. Но ведь он так и так собирался помочь ему, правда? Они вдвоем заберутся в заброшенные туннели, и Джонас сделает там свои фото. Он не объяснил Мюррею, ни как они туда попадут, ни зачем ему нужны эти снимки.
Может быть, для русских? Да ну, это смешно! С того времени, как Джарвис уехал в Россию, международная обстановка непрерывно улучшалась, а связи между странами Восточной Европы и матушкой-Россией рвались. Тогда остается Ближний Восток? Но зачем вообще какой-либо стране могли понадобиться фотографии лондонской подземки? Том вспомнил, как еще в бытность студентом попытался вытащить фотоаппарат в итальянском метро, и тут же был остановлен служащим, который даже конфисковал камеру. Может, это аналог запрета некоторых стран снимать свои территории с самолета? Тогда получается, что запрет фотографировать диспетчерскую – вовсе не глупость, а стремление скрыть от врага (ну, или потенциального врага) свои секреты?
Размышляя обо всем этом, флейтист никак не мог избавиться от ощущения, что его водят за нос. Впрочем, больше всего его волновали деньги. Том решил, что если не получит тысячу фунтов сразу же, как только объявит о своем согласии, то даст задний ход. И все же дело было не в одних только деньгах. Ему чертовски не хотелось, чтобы Аксель держал его за простачка, которому можно навешать лапшу на уши. Но как только эта идея пришла ему в голову, Мюррей сразу же отверг ее. У него не было никаких причин подозревать, что Джонас не уважает его и не доверяет ему. Кто-то мог бы назвать Тома параноиком. Он и сам считал себя параноиком, нисколько не обольщаясь на свой счет, но здесь была совершенно другая ситуация. Он был явно симпатичен Акселю, который не мог ничего иметь против него.
Том лег на кровать и уснул. Сегодня он устал. Пусть прохожие иногда бурчали что-то насчет бездельников, предпочитающих просить милостыню, вместо того, чтобы подыскать работу, но чтобы они все ни говорили, а играть в метро было именно работой, причем тяжелой. Вечерами музыкант буквально валился с ног.
Проснулся он около семи. Левая рука затекла, как это часто с ним случалось, когда он спал. Алисы нигде не было. Мюррей заглянул в «директорский кабинет», но и там было пусто. Сквозь приоткрытую дверь в комнату Джеда он увидел ястреба, дремлющего на своем насесте. Оттуда несло, как из клетки хищной птицы, в которую комната, собственно, и превратилась.
Флейтист поднялся в кабинет рисования и постучал. Никто не ответил. Он постучал еще раз, а потом заглянул внутрь. Похоже, сюда давно никто не заходил: пустая бутылка из-под виски выглядела так, словно стояла на письменном столе уже несколько дней, а на дне одного из стаканов лежала зимняя муха, утонувшая в остатках выпивки. Том постучал в бывший пятый класс и открыл дверь. С кровати вскочила Алиса и замерла, уставившись на него.
В комнате было холодно, обогреватель не работал. Женщина была в верхней одежде: старой синей куртке и толстой шали.
– Ты ждешь Акселя? Ты его искала, да? – несколько невпопад спросил Мюррей.
– Наверное, я что-то задремала…
– А я еще удивлялся, куда ты пропала!
Ему показалось, что Алиса выглядит странно, какой-то изнуренной и потрепанной.
– Я замерзла, – пожаловалась она, прижав ладонь ко рту. – Не понимаю, зачем я сюда пришла.
Ее друг рассмеялся:
– А я тем более. Пойдем-ка отсюда. Ты вечно мерзнешь, когда просыпаешься, сама знаешь. А еще ты, наверное, голодна.
– Я не голодна, – запротестовала скрипачка, но безропотно позволила ему вывести себя из комнаты.
Они спустились по лестнице и прошли в «четвертый класс», где было тепло, а на столе стояли принесенные Томом коробочки с индийской едой и уже открытая бутылка красного вина. Он галантно помог Алисе снять ее куртку, а потом снова накинул ей на плечи шаль. Было невооруженным взглядом видно, что молодая женщина смертельно устала. У флейтиста так и вертелся на языке совет бросить наконец свою работу. За стенами «Школы» прогрохотал поезд, и молодой человек задвинул шторы. Алиса повернулась к нему и позвала:
– Том! Том, послушай!
– Что, моя дорогая? Что случилось? – забеспокоился тот. – Ты можешь все мне рассказать.
Скрипачка упала к нему в объятия. Они прижались друг к другу.
– Я устала от такой жизни, устала от всего, – пожаловалась она.
– Нам недолго осталось здесь жить, – твердо ответил ее друг. – Совсем скоро у нас появится собственный дом.
После ужина Алиса сидела с закрытыми глазами и слушала симфонию Гайдна. Вдруг Том различил шаги Акселя, поднимающегося по лестнице. Он сказал подруге, что выйдет на минуточку и сразу же вернется, но та, похоже, его даже не услышала. Мюррей взбежал по лестнице – дверь «пятого класса» была приоткрыта. Он объявил соседу, что возьмется за работу, если, конечно, тот ему заплатит.
Джонас улыбнулся, ответил, что очень рад, и тут же выдал Тому тысячу фунтов пятидесятифунтовыми купюрами. Музыкант отметил про себя, что деньги были приготовлены заранее. Как только бумажки оказались в его руке, он успокоился, решив, что все его волнение происходило исключительно из боязни не получить денег.
Глава 21
Каждый вечер, возвращаясь с работы, она приходила в комнату Акселя и ждала его. Но уже пятый день подряд это ожидание заканчивалось ничем. Пробило половину седьмого, потом – без пятнадцати семь. Алиса прекрасно сознавала, что он просто ненавидит такие ее преследования, но ничего не могла с собой поделать.
Том предупредил, что его всю ночь не будет дома. Он уехал в Бристоль повидаться с каким-то типом, продававшим подержанный микрофон. Музыкант не объяснил, почему не вернется тем же вечером – до Бристоля было всего лишь два часа на поезде, – а сама Алиса как-то не поинтересовалась. Она мгновенно подумала о том, что они с Джонасом смогут провести ночь вместе. Ей пришло даже в голову, что целая ночь с ним станет замечательной возможностью вновь обрести вдохновение. Все, что ей было нужно, – это одна ночь с ним. Ну, а потом, потом – вся жизнь.
Завернувшись в свою шаль и набросив на плечи пальто, она ждала Акселя в выстуженной комнате. Когда скрипачка ждала его так в первый раз, она сразу же включила обогреватель, но теперь Алиса запретила себе не то что готовиться к его приходу и ложиться в постель, а даже снимать пальто. Это было вроде как попыткой обмануть судьбу: если она будет слишком сильно ждать, он точно не придет. Так она и сидела в своих пальто и шали, не способных согреть ее.
Время от времени молодая женщина вставала и прохаживалась туда-сюда. Она попыталась даже заглянуть в чемоданы своего возлюбленного, выдумывая всякие глупости. Например, то, что в тот момент, когда она делает что-то запретное, она совсем не желает прихода Акселя. То есть в те десять минут или полчаса она его совсем не хочет. А если она не будет хотеть, чтобы он пришел, то очень может быть, именно тогда он и придет. Но готова ли она ради этого выдержать его гнев?
Алиса прислушалась. Дом был тих. Вдруг на лестнице раздались шаги. Застыв на месте, скрипачка ждала. Но на втором этаже шаги затихли: пришел или Том, или Джед. Она подумала, что теперь испытывает одинаковые чувства и к первому, и ко второму – дружеское равнодушие. Женщина совершенно одинаково могла бы обнять обоих – разница была лишь в том, что Мюррей был чистюлей, а Джед вечно вонял тухлым мясом. На этом месте своих размышлений она начала истерически хохотать. Стояла в пустой комнате и хохотала сама над собой.
Последнее время Том служил ей жилеткой. Она обнимала его и плакала, точно так же, как обняла бы своего отца, если бы он был именно таким. Алису переполняло чувство вины, из-за которой она еще больше ненавидела флейтиста, но это не мешало ей кидаться к нему в объятия и спать с ним. Если бы ее спросили, она бы ответила, что не испытывает к нему никакого влечения, но, как ни парадоксально, ее чувства к Мюррею были совершенно плотскими: она желала тепла, прикосновения обнимающих рук, просто ощущения живого тела рядом с собой в темноте. Раньше она оправдывалась тем, что у них было много общего, о чем они могли поговорить, чем могли поделиться друг с другом. Но сейчас она совершенно не хотела с ним разговаривать и не желала, чтобы он говорил с ней. Ей хотелось только, чтобы он был рядом.
Чемоданы Джонаса, без сомнения, содержали множество тайн его жизни, его прошлое, его историю, то есть все то, о чем скрипачка не имела ни малейшего понятия. Бывая в его комнате, она часто заглядывалась на портрет Марии Замбако, висящий на стене, и в ее душе поднималась ревность по отношению к этой картине. Ей казалось, что если бы она действительно была похожа на этот портрет, то Аксель полюбил бы ее.
Крышки чемоданов были приглашающе откинуты. Сверху в них лежала свернутая одежда, скрывая манящие Алису секреты. Если она сейчас дотронется до чего-нибудь, хозяин чемоданов может заметить. Он мог нарочно положить все в определенном порядке, как раз для того, чтобы подловить подругу. Например, он мог аккуратно вложить между одеждой и листком бумаги волосок или пушинку, не видимую на белом хлопке.
Женщина прислушалась. В направлении Финчли-роуд прогрохотал поезд. Вещи в чемоданах пахли телом ее любимого, его руками, волосами, его по́том и дыханием. Они неодолимо влекли Алису. Сейчас она была молодой женой из сказки о Синей Бороде, страстно желающей пробраться в запретное место и узнать тайну, пусть и заплатив за это самой дорогой ценой.
Снова наступила тишина. Скрипачка приняла окончательное решение ничего не трогать в этой комнате, уселась на кровать и плотно сцепила руки. Сколько подобных решений она уже приняла за прошедший год, чтобы потом тут же нарушить их? Сначала – вернуться к Майку, потом – не становиться любовницей Тома, ставить музыку превыше всего на свете, не ездить на свидание к Акселю в Кенсингтон…
Она с натугой, словно поворачивая ржавый ключ, отвернулась от чемоданов и уставилась на шкаф, а затем вскочила и, затаив дыхание, распахнула дверцу. Внутри висели кожаная куртка, пара джинсов на проволочной вешалке из прачечной, темный свитер на другой такой же и ярко-белое длинное женское платье, чуть искрящееся в темноте шкафа.
Наряды Алису никогда особенно не интересовали. Она как будто понимала, что не сможет себе позволить такую дорогую одежду ни сейчас, ни в будущем. Но это платье… Оно было настоящим произведением искусства, снежным совершенством, украшенным вышивкой, кружевами и изящными складочками по батистовому полю. Скрипачке вспомнилось ее собственное свадебное платье, куда более простое, хотя тоже белое, со сборками и высокой талией – жалкая попытка скрыть беременность.
Интересно, почему у Акселя в шкафу висит это платье? А вдруг оно предназначено для нее? Алиса смотрела на наряд, не решаясь протянуть руку. Она словно была уверена, что, если дотронется до ткани, на ней останутся отпечатки, пусть даже ее пальцы были абсолютно чистыми. И все же, вдруг это подарок для нее? Она гнала от себя мысли о других женщинах, которые могли бы надевать это платье. Не притрагиваясь, она приблизила к наряду лицо, лаская взглядом батист, и увидела этикетку на белом шнурке, свисающем с длинного кружевного манжета. Это платье никто никогда не надевал. Оно было новым.
Не успела она закрыть шкаф, как заскрипела дверь, и показалась рука хозяина с серебристо-золотым кольцом на пальце. Он вошел.
– Почему ты торчишь тут в холоде? – удивился мужчина.
– Тебя жду.
– Включила бы обогреватель, – он ткнул в кнопку тепловентилятора. – Хорошо, что я скоро уберусь из этого холодильника!
Алису охватил ужас:
– Что ты имеешь в виду? Ты съезжаешь?
– Ну, не прямо сейчас, – улыбнулся ее друг. – По крайней мере не раньше пятницы. Да, думаю, в пятницу я уеду.
Женщина утратила дар речи и молча смотрела, как спираль старомодного электрического обогревателя из серой становится сначала розовой, а потом оранжевой. Нагреваясь, спираль чуть потрескивала. Джонас тяжело опустился на стул напротив нее. Из рукавов его черного пальто торчали кисти рук на тонких запястьях. Они казались скрипачке озябшими, чуть синеватыми, а кольцо свободно болталось на его тонком пальце. Алисе очень захотелось взять его за руку, но она не осмеливалась. Как не решалась и заговорить о том, что услышала. Она онемела от ледяной паники и, казалось, вообще разучилась произносить слова.
Аксель повернулся к обогревателю и принялся греть руки. Постепенно Алиса вновь обрела дар речи.
– Куда же ты поедешь? – спросила она далеким, похожим на шепот голосом.
– Забрать тебя, что ли, с собой? – насмешливо поинтересовался он.
– Ты шутишь? – Голос молодой женщины задрожал.
– Разве ты еще не поняла, что я никогда не говорю того, чего не думаю на самом деле? Я могу, конечно, соврать, но того, в чем я не уверен, я ни за что не скажу.
Это выглядело как откровение. Наконец-то Алиса почувствовала, что она видит вещи именно такими, какие они есть, освободившись от вечных своих подозрений и недоверия: ее любимый всегда смеялся искренне, без издевки, он может действительно любить ее и хотеть, быть хорошим и добрым, несмотря на всю свою эксцентричность. Правда, Аксель как-то говорил, что он – сумасшедший. Что же он тогда имел в виду?
– Ты хочешь сказать, что мы можем уехать вместе? – уточнила она.
– Почему нет?
– А куда мы отправимся?
– «Через холмы и дальше прочь»[31]. Я всё устрою.
Алиса почувствовала, что уже может дотронуться до него. Она положила руку ему на колено. Джонас отвернулся от обогревателя и накрыл ладонью ее пальцы. Их лица оказались вдруг очень близко друг к другу.
– Я хотела тебе сказать, – прошептала женщина, – в четверг Тома всю ночь не будет дома.
Она запнулась. Напомнила себе, что ошиблась, думая, что ему нравится ставить ее в дурацкое положение. Что все это – только ее фантазии.
– И я подумала… – продолжила скрипачка. – Ну, в смысле, мы могли бы провести эту ночь вместе. Но если мы с тобой уедем, это все уже не имеет значения.
– В любом случае, меня тоже не будет здесь в четверг ночью, – деловым тоном произнес Аксель. – Я же говорил тебе, что мне нужно кое-что уладить.
– Я должна сказать об этом Тому?
– О чем?
– Ну, о нас с тобой.
– Черт возьми! Конечно же, нет! – резко произнес ее собеседник. Алиса отпрянула. Она никогда не слышала, чтобы он говорил так грубо. Наверное, потому, что еще никогда не разговаривала с ним всерьез.
– Не говори ничего Тому. По крайней мере до пятницы. А может, и потом не надо. Он и сам все прекрасно поймет. Пообещай мне, Алиса! – велел ей мужчина.
– Мне потребуется написать на работу, но я ничего не скажу Тому до пятницы, обещаю.
Аксель поднял ее на ноги и мягко поцеловал. Скрипачка уже совсем согрелась, и на верхней губе у нее выступили капельки пота. Он распахнул ее шаль и начал расстегивать пальто. Ей показалось, что она видит нежность в его взгляде, нежность и признательность, а потом, когда она была уже обнаженной, – безмолвное, едва контролируемое восхищение. Ей хотелось сказать, что он для нее – все, что он – в каждом биении ее сердца, но Алиса побоялась, что любимый снова начнет смеяться.
– Я люблю тебя, – просто сказала скрипачка.
Она повторяла это при каждой их встрече.
Поскольку о краже кредиток так никто и не заявил, Николас Манн продолжал безнаказанно ими пользоваться. Он знал, что уже опустошил текущий счет, но это отнюдь не помешало ему выписать чек на пятьсот фунтов и, предъявив в виде обеспечения кредитные карты, всучить его торговцу подержанными автомобилями в качестве аванса за пятилетний «Форд-Фиесту». На остальную сумму был оформлен кредитный договор, который Николас, не задумываясь, подмахнул.
Приехав на машине в Лондон, он поселился в отеле на Эджвейр-роуд. Ни он, ни его сестра не горели желанием вновь оказаться вместе. Манн понятия не имел, почему ограбленная им старуха не заявила в полицию о пропаже сумочки, и даже иногда подумывал об этом, хотя не сказать, чтобы очень часто. Ему было не до того. Он уже купил билет на смертельные «американские горки» исполнения желаний, хотя и убеждал себя в том, что совершенно счастлив.
Он напивался, а кроме того, прикупил кокаина у какого-то типа в баре на Ноэль-стрит, а потому постоянно находился в эйфории. Единственное, о чем он жалел, если вообще жалел хоть о чем-то, – это о том, что украденные документы принадлежали женщине, а не мужчине. Тогда он мог бы не опасаться, что продавцы магазинов, позвонив в банк для проверки личности владельца карты, заявят вдруг: «Но это же дама!» На практике это означало, что он не мог покупать ничего дороже ста фунтов.
Везение все еще было на его стороне: дурацкое, ничем не объяснимое везение игрока. Он выигрывал даже на «одноруких бандитах» и проводил в залах игровых автоматов долгие головокружительные часы. Потом Манн пошел на собачьи бега, поставил сто фунтов на борзую – и тут же выиграл, причем при ставках семь к одному. Наличные он тащил к себе в отель, постоянно считая и пересчитывая, как скупой рыцарь. Вся его комната была завалена купленными вещами. Он покупал их не потому, что ему хотелось, а просто потому, что мог. Электробритвы, фены, флаконы одеколона, шелковые галстуки, солнечные очки, видеокассеты с сериалами, серебряные зажигалки и агатовые яйца. Николас даже прикупил себе автоответчик – потому только, что тот стоил всего 79 фунтов 99 пенсов. Растянувшись в кресле посреди своего богатства, он пил водку и смотрел итальянское порно.
Наличными он пользовался только в такси и играя в азартные игры. Через две недели после того, как началась его эпопея, в пятницу вечером в казино «Формоза» Николас сначала немного выиграл в блэк-джек, но затем просадил почти все. Когда у него оставалось уже меньше шестисот фунтов, он заставил себя остановиться. Перед уходом Манн выпил «на посошок» двойную порцию водки-кир, представлявшую собой смесь водки «Столичная-Империал», шампанского и черносмородинного сиропа – это было его собственным изобретением.
Такси у казино не наблюдалось, но отель был недалеко. Он прошел по Кастеллейн-роуд до моста на Уорвик-авеню, потом на юг, по набережной канала Гранд-Юнион, а затем побрел, немного пошатываясь, по Мэйда-авеню. Когда он проходил по темной улице недалеко от церкви, на него напали. Эта троица «вела» Манна от самой Формоза-стрит. Они повалили его на землю, избили и забрали у него бумажник с шестьюстами фунтами и кредитки Сесилии. Николас стонал, и нападавшие поняли, что он еще жив. Убивать его они не собирались – просто хотели, чтобы он заткнулся, – и поэтому перекинули его тело через парапет канала. Они думали, что дамба шире, чем она была на самом деле, – но она была всего лишь узкой насыпью между набережной и водой.
На вилле «Сирени» Сесилия, Джаспер и Бьенвида пили чай и смотрели телевизор. Сейчас, когда Дафна постоянно находилась рядом, им незачем было звонить друг другу, поэтому миссис Дарн могла спокойно посмотреть шестичасовой выпуск новостей. Она сидела на диване-кровати, с приподнятыми на скамеечку ногами, укрытыми пледом. Диван обычно раскладывали в девять вечера и складывали в девять утра. На воротничок больная теперь всегда прикалывала камею, подаренную ей Артуром Блич-Палмером. Дети сидели за столом – так, чтобы видеть телеэкран без проблем. Дафна же обслуживала всех троих. Она приготовила шоколадный торт с глазурью из белого шоколада и купила карамельное мороженое.
Первым шел репортаж из Румынии, а потом журналисты рассказали о ВИЧ-инфицированных – на этом месте Сесилия взмолилась про себя, чтобы ее подруга не вошла в комнату. Затем сообщили о трупе мужчины, выловленном в канале Маленькой Венеции. Это был безработный Николас Манн без определенного места жительства. Никто из смотревших телевизор особенно им не заинтересовался, даже когда ведущий сказал, что, по мнению полиции, речь идет об убийстве. Все трое ожидали новостей о ребенке герцогини Йоркской, особенно Бьенвида, невзирая на презрительные усмешки Джаспера.
Сесилия больше не могла провожать детей до дома. Но в конце концов, как правильно рассудила Дафна, им нужно было только свернуть за угол, а Джаспер, судя по всему, привык бродить один по Лондону. Миссис Дарн неудобно было просить ее об этом, а сама она могла проводить их разве что до двери, опираясь на палку и поддерживаемая с парализованной стороны своей верной сиделкой. На полпути ей пришла в голову идея подарить каждому внуку немного денег, хотя бы по фунту, и она во второй раз попросила Дафну поискать ее сумочку.
Миссис Блич-Палмер усадила ее на стул рядом с дверью и отправилась на поиски. Вернулась она с пустыми руками, сказав, что ничего не нашла, а деньги детишкам даст из собственного кармана. После того как Джаспер с Бьенвидой ушли, она отвела Сесилию обратно на диван. Та пожелала еще один кусочек торта.
– Этот белый шоколад меня когда-нибудь погубит, – сказала она.
– Не понимаю, как он может тебе повредить, – пожала плечами Дафна.
В следующие несколько месяцев она еще часто будет вспоминать эти слова.
– Прекрасный торт, – похвалила ее больная. – Знаю, сейчас ты из скромности начнешь утверждать, что не умеешь готовить, но ты действительно готовишь куда лучше меня. Но я удивлена, почему ты никак не можешь отыскать мою сумочку.
– Сейчас посмотрю повнимательнее.
– Кажется, я не видела ее целую вечность. С того самого дня, как заболела. Никак не вспомню, где же я видела ее последний раз. Ты поняла, о какой сумочке я говорю, да? О той, из темно-коричневой кожи. Если бы я только могла вспомнить, что случилось до того, как почувствовала себя плохо!
Дафна все помнила. Она помнила, что на платформе в метро у Сесилии не было при себе никакой сумочки. Миссис Блич-Палмер постаралась вспомнить как можно точнее ту сцену: вот она сама сидит на серой скамье рядом с подругой, склонившийся над ними доктор и толпящиеся вокруг зеваки… Почему она тогда сразу же не поискала сумочку? Почему не спросила, где она? Ведь невозможно было даже представить миссис Дарн, выходящей из дома без своей сумочки, словно современная девица в джинсах, которая распихивает все по карманам.
У Сесилии была при себе только сумка для покупок, кстати, довольно элегантная, из рогожи с красным узором. Наверное, именно поэтому в тот момент Дафна и не подумала про ее маленькую сумочку. Решила, что подруга положила кошелек и ключи в эту большую сумку. Ох, ведь ей тогда о стольком пришлось думать, и прежде всего о том, чтобы успеть увезти Сесилию домой до того, как ее упекут в больницу!
– Я поищу ее, Сисси. Наверняка она где-то здесь, – сказала миссис Блич-Палмер.
Если сумочка потерялась, а точнее, была украдена, не должна ли она скрыть это от больной? Дафна знала, что там должны были лежать не только деньги, но и кредитки, ключи и даже водительское удостоверение подруги, которым та, впрочем, давным-давно не пользовалась. А может быть, и чековая книжка. Ее накрыла волна паники. Она обошла весь дом, старательно делая вид, что ищет сумочку. Нужно было выиграть время, чтобы как следует поразмыслить, пока Сисси, слыша ее шаги наверху, думает, что она занимается поисками.
Несмотря на старинную дружбу, они никогда не были полностью откровенны друг с другом. Обе принадлежали к поколению, приученному скрывать свои чувства, превыше всего ставить вежливость, не говорить о неприятных вещах и думать не о себе, а о других, чего бы это ни стоило. И все же между этими двумя женщинами имелась какая-то внутренняя открытость, негласное доверие, уверенность в том, что они могут рассчитывать на взаимную поддержку. Они старались ставить себя на место другого, или, как говорила Сесилия, которая из них двоих одна была завзятой читательницей, старались стать миссис «Не-делай-другим-того-чего-не-хочешь-себе»[32]. Сама Дафна, будь она на месте подруги, предпочла бы все знать. Хотя бы для того, чтобы заблокировать кредитные карточки и поменять в доме замки. Рассудив так, она сказала себе, что не нужно тянуть кота за хвост, спустилась к больной и все той рассказала.
Подруга отреагировала так же, как сама миссис Блич-Палмер. Она была в шоке и панике, разве что еще явственнее и сильнее. Впрочем, оно и понятно, ведь это ее вещи пропали. Она откинулась на подушки, закрыла глаза, а потом открыла их и спросила:
– Сколько дней уже прошло?
– Боюсь, уже около трех недель.
– Значит, кто-то украл сумочку, пока мы сидели на платформе.
– Нет! Что ты! – вскричала Дафна. – Ведь все видели, как ты больна! Уверена, никто бы не смог так поступить, люди не настолько плохи!
– Милая, наверное, это звучит глупо и вообще мне не свойственно, но не могла бы ты налить мне капельку?
– Ну, конечно! Уверена, сейчас это тебе не повредит. Чего бы ты хотела? Шерри? Капельку виски?
Сесилия предпочла сухой шерри. Дафна тоже налила себе стопочку. Она сказала, что утром сама позвонит в банк, и миссис Дарн благодарно сжала руку подруги.
Три часа спустя миссис Блич-Палмер говорила врачу, что потрясение из-за украденной сумочки с кредитками спровоцировало второй удар ее подруги. Та, желая успокоить Дафну, утверждала, что она, скорее всего, ошибается, а про себя с облегчением думала, что благодаря этой доброй старушке, ухаживающей за своей подругой на дому, не придется в одиннадцать вечера искать для Сесилии место в больнице. Врач предположила, что, скорее всего, причиной нового инсульта стала какая-нибудь еда или алкоголь, вызвавшие скачок давления.
Миссис Дарн спала на своем диване, вновь превращенном в кровать.
Последние часы Том прятался в кабинете рисования. Это нужно было для того, чтобы Алиса поверила, будто он отправился в Бристоль. Они с Акселем поужинали, но пить не стали. Джонас сказал, что это было бы неразумно. Ближе к ночи они перебрались в «пятый класс». Аксель уже упаковал в рюкзак фотоаппарат, фонарик, пару кожаных перчаток, кое-какие инструменты и связку ключей.
Мюррей, правда, не знал, что же еще находится в рюкзаке. Молодой человек видел только здоровенный рюкзак цвета хаки, лежащий на кровати. Он попытался приподнять его, просто чтобы прикинуть, сколько же он весит, но его друг резко сказал:
– Не трожь!
В собственном рюкзаке флейтиста лежала длинная веревка. На его взгляд, она была куда длиннее, чем им нужно, но Джонас считал, что лучше перестраховаться. Он уже и так отрезал половину мотка, сунув ее в дальний угол велосипедного сарая, туда, где еще сохранилась крыша. В какой-то момент со второго этажа донеслась музыка, это в своей комнате играла на скрипке Алиса. Том не узнал произведение, но мелодия очень напоминала один из концертов Моцарта, она звучала грустно и тревожно.
Аксель вел себя так, словно ничего не происходило. Рассматривая в зеркальце свое лицо, он произнес:
– «Мистер Верлок, вследствие мистического единства своего темперамента и внешних обстоятельств, был рожден, чтобы всю жизнь прослужить тайным агентом».
– Откуда это?
– Из Конрада[33].
Музыка стихла еще до того, как они спустились вниз. Дом был совершенно тих, люстра выключена. Пока напарники шли от «Школы» по улочке, которая вела к железнодорожному мосту, им повстречалось лишь несколько прохожих – всего трое мужчин, спешивших домой.
Ночь стояла сырая и мутная. Силуэт бледной луны был размыт, словно ее вымочили в воде. Деревянные ступени станционной лестницы казались еще более осклизлыми, чем обычно. Капельки воды блестели на серой металлической решетке, как роса. Было уже слишком поздно, чтобы дожидаться поезда, поэтому они пошли на Вест-Энд-лейн, чтобы поймать такси. Каждый нес свой рюкзак, и Аксель шел чуть сгорбившись из-за веса груза. Сейчас они смахивали на студентов, отправляющихся в путешествие по Европе. Мюррей впервые видел друга не в том своеобразном длинном темном пальто, а в толстом черном свитере.
Ждать пришлось долго. Проехали два такси, оба с выключенными спецсигналами, хотя в одном сидел пассажир. Третье такси остановилось. Аксель попросил отвезти их куда-нибудь на Оксфордскую площадь – все равно куда, – а потом прикрыл окошко в перегородке между ними и водителем и тихо сказал своему спутнику:
– Так будет лучше. Там немного пройдемся.
Флейтист взглянул на него и отвернулся. Он чувствовал себя скованно, словно кто-то держал его в кулаке. Впервые с начала этой истории было недвусмысленно сказано вслух, что они собираются сделать нечто противозаконное, наказуемое и могут из-за этого попасть в беду. Впрочем, он уже давно должен был понять, что это не было приключением или шалостью, вроде игры на музыкальных инструментах в метро, за которую грозил разве что выговор от полицейского.
– Ты же только сделаешь фото, да? – спросил Том.
– Лучше не думай об этом! – хохотнул Аксель.
Он еще может повернуть назад, еще не поздно, думал музыкант. Деньги, которые он получил, так и лежат нетронутыми, и он может вернуть их. Ерзая на сиденье, Мюррей думал, что дело вовсе не в этой тысяче фунтов и даже не в оставшихся девяти тысячах, а в его страхе перед реакцией Джонаса. То есть не в страхе, а в опасении, что тот заподозрит его в трусости. Флейтисту не хотелось, чтобы другой мужчина разочаровался в нем и перестал ему доверять. «Какой же я все-таки слабак», – подумал он.
Таксист высадил их неподалеку от площади, и они двинулись дальше. Том поинтересовался у Акселя, далеко ли им идти, но вместо ответа тот указал на свой рюкзак, весивший в несколько раз больше, чем у его напарника. Они топали по Нью-Оксфорд-стрит. Джонас направился на Хай-Холборн, свернул направо к проулку Литтл-Тернстайл и дальше к Гейт-стрит и Твайфорд-плейс.
Мюррей никогда еще здесь не был. Площадь была неярко освещена и выглядела пустынной. Обогнув какое-то здание, они свернули на улицу. Аксель сказал, что это – музей Соуна. Район представлял собой мешанину домов викторианской эпохи, в основном превращенных в офисы, и построенных для тех же целей бетонных коробок. Узкий переулок, открывшийся между последним рядом викторианских зданий и первым рядом бетонных, похоже, был именно тем, куда Джонас и направлялся. Они прошли его до конца и остановились перед солидно выглядящей дверью. Аксель достал ключи и открыл сначала верхний замок, а потом – нижний. За этой дверью оказалась еще одна – Джонас открыл и ее. Войдя в небольшой холл, они зажгли свои фонарики. Лучи высветили конторку с двумя телефонами, небольшой компьютер сзади на полке и какие-то таблички, прочитать которые в тусклом свете фонариков было невозможно.
– Не хочу пользоваться лифтом, – сказал Аксель. – Поднимемся по лестнице.
Лестница была крутой, но довольно широкой. Первый раз в жизни Том попал туда, где не имел права находиться. Он вломился в чужой дом. Они поднялись по семидесяти двум ступенькам, миновав три этажа. Первый – элегантно обставленный, с обоями и подобранными в тон коврами в черно-синих тонах. Потом, поднявшись на четырнадцать ступенек, они попали в какую-то металлическую пещеру – панели на стенах, прежде позолоченные, теперь потемнели и облупились. На стене блеснуло название издательства, о котором Мюррей никогда не слышал.
На самом верху находился коридор. Этот этаж выглядел, по сравнению с другими, скорее служебным помещением. Вместо ковра на полу лежала керамическая плитка. Двери здесь были открыты, и флейтисту показалось, что это чья-то квартира. В одной комнате фонарик высветил кровать, в другой – кухонную мебель.
Впоследствии Том уверил себя, что именно в этот момент почувствовал себя плохо. Он явственно ощутил приближение беды. В то же время молодой человек вынужден был признать, что не осознавал тогда всего до конца и не мог предвидеть что-либо нехорошее, поскольку не случилось ровным счетом ничего, что могло бы всерьез его насторожить. Название издательства ничего ему не говорило, черно-синие ковры и легкий, немного искусственный цитрусовый запах моющего средства, которым пропахли все помещения, ни о чем не напоминали.
Конечно, притворяться, что ничего особенного не происходит, было уже невозможно, но Мюррей достиг того психологического состояния, когда его естественная наивность граничила уже со слабоумием.
Когда они проходили мимо лифта, фонарик Тома случайно высветил на стене табличку: яркий круг со стрелкой, указывающей вправо, и выгравированной надписью «Энджелл, Шеррер и Кристиансон».
Он мгновенно отдернул руку. Свет от фонарика Акселя лужицей плескался у их ног. Музыкант снова украдкой посветил на ту стену и едва не закричал, что это та самая контора, где работает Алиса, но его остановило какое-то шестое чувство. Он ощутил, что стоит на краю пропасти. Потом, вспоминая о своих предчувствиях, Том решил, что закричать ему помешала связка ключей, болтающаяся в руке его спутника и поблескивающая в свете фонарика.
Он продолжал, как робот, идти за Джонасом. Наконец они вышли на тесную лестничную клетку. Наверху имелась дверь. Ключи им не понадобились: в замке уже торчал ключ. Аксель повернул его, открыл замок и шагнул в проем. Пахнуло сыростью. Флейтисту показалось даже, что, по сравнению с теплым воздухом внутри, там было морозно. Он шагнул в ночь вслед за своим предводителем.
Они были на крыше. Там было темно: свет исходил только от едва проступавшей сквозь облачную дымку луны. Внизу расстилалась панорама улиц, таинственно освещенных желтыми фонарями. Крыша казалась плотом, плывущим по светящемуся морю. На ее покрытой гудроном поверхности тут и там виднелись разнообразные выступы и наросты: мачты, каминные трубы, вытяжки и дымоходы. На верхушке какого-то бака торчали две телеантенны, одна – параболическая. Аксель пересек крышу, стараясь держаться ближе к центру и подальше от перил, которые едва ли смогли бы удержать от падения даже маленького ребенка.
Том был совершенно ошеломлен. У него словно отказали все эмоции. Он был в состоянии думать лишь о конкретных вещах, а все остальное как будто отключилось. Он сознавал, что они идут по крышам тех самых викторианских домов и что дом, где находилась адвокатская контора, был последним в их ряду. Его глаза почти привыкли к темноте, тем более что она была не абсолютной, и со временем молодому человеку даже стало казаться, что там довольно светло. Слева, на крыше одного из бетонных домов на главной улице, виднелась какая-то башенка. Она находилась на расстоянии десяти футов от края крыши, огороженного невысоким кирпичным парапетом с бетонным покрытием. Все это регистрировало сознание Мюррея, причем даже более четко, чем обычно.
Аксель перелез через парапет, Том последовал за ним. Он все время смотрел в спину этого нового Джонаса в необычной одежде, высокого, с тяжелым рюкзаком за плечами. Похоже, его товарищ уже бывал здесь и точно знал, куда идти. Может быть, даже бывал не один раз. И у него есть ключи от конторы Алисы. Здание, через которое они выбрались на крышу, не могло быть ничем иным, кроме этой конторы.
Флейтист повторял себе все это раз за разом. Если Аксель останавливался, он тоже замирал, если Аксель снимал рюкзак, он тоже его снимал. Мысленно молодой человек повторял весь пройденный путь, вспоминал тот верхний этаж и комнаты, похожие на чью-то убогую квартиру. Там внутри была еще кровать. Картинка в воображении Мюррея вдруг резко переменилась, и в голове у него возник образ Алисы, сидящей в ожидании на этой кровати. В ожидании Джонаса.
Тут он почувствовал, что его спутник смотрит на него. Смотрит долгим пристальным взглядом. Было достаточно светло, чтобы распознать этот взгляд.
– Что с тобой? – спросил Аксель.
– Ничего.
– Ладно. Тогда за дело. Или ты собираешься торчать здесь, наслаждаясь панорамой?
«Я должен ему сказать, – подумал Мюррей, – должен что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, пока не стало слишком поздно, пока мы с ним что-нибудь не натворили». После шока, испытанного его телом и мозгом, всем его существом, к нему вернулись эмоции. Молодой человек, не отрываясь, смотрел на связку ключей, которую его друг безразлично положил рядом с собой, усевшись на металлическую поверхность бака. Очевидно, он не придавал им никакого значения, поскольку свою роль они уже сыграли. Джонас перехватил взгляд Тома и вдруг сделал нечто совершенно неожиданное, чего тот никак не ожидал бы даже от заклятого врага, а ведь Аксель не был ему врагом.
Длинные пальцы Джонаса схватили ключи. Он подбросил их и поймал, словно мальчишка, играющий в «Пять камушков». При этом он широко улыбался, почти что смеялся. В его взгляде сквозило понимание и презрение. И флейтист тоже все понял. Никаких вопросов не потребовалось, он теперь все знал, и Аксель знал, что он знает, но ему было на это плевать. На мгновение Тому показалось, что напарник сейчас толкнет его. И он действительно собирался это сделать, но Мюррей успел вскочить на ноги, открыть рюкзак, вытащить веревку – и начал ее разматывать.
– Собираешься туда спуститься? – спросил он своего спутника.
Аксель кивнул. Он подошел к башенке, высота которой составляла где-то четыре фута, и заглянул внутрь.
– Там темно? – задал музыкант еще один вопрос.
– Естественно, в колодце темно. В туннелях не очень. Разве что в самых узких. Там, внизу, все давным-давно законсервировано, но не заброшено, они их регулярно проверяют и охраняют. Проблема в том, что этой рухляди уже около девяноста лет, всем этим старым плиткам, древним кирпичам, шахтам, где когда-то были лестницы или лифты… Исключение составляет диспетчерская, она вполне современна и до сих пор используется. Можно сказать, что эта комната – сердце или мозг всей системы.
– И ты собираешься ее фотографировать? Ты будешь снимать со вспышкой? А дежурные там будут? Я имею в виду, какой-нибудь электрик или оператор – в общем, кто-то в этом роде?
– Ты задаешь слишком много вопросов, – Аксель достал из рюкзака небольшой ящик с инструментами. Там имелись отвертка, молоток и гаечный ключ. – На первый вопрос мой ответ – да. На второй – тоже. Я бы взял вспышку, даже если бы там было светло как днем. Людей там не будет. Что им там делать ночью? Поезда начинают ходить в шесть утра, забыл, что ли?
Он говорил с напарником, как будто с недоразвитым, но при этом без всякого раздражения, словно его глупость лишь утомляла Джонаса. Наверняка он говорил так и раньше, просто Том этого не замечал. В душе у него поднялась волна гнева, но он усмирил ее и стал помогать Акселю крепить веревку к металлическому брусу, который неизвестно зачем отгораживал эту часть крыши, оставляя снаружи периметр в десять футов. Один конец бруса был прикреплен к парапету, другой – к небольшой будочке из гофрированного металла. Конструкция выглядела надежной, как скала или брусья в гимнастическом зале.
Две части металлического крепежа были соединены друг с другом и закреплены на брусе, после чего Джонас затянул гайку ключом. Потом он взял молоток и ударил по ней пару раз, чтобы затянуть еще крепче. Мюррей светил ему фонариком и размышлял над тем, зачем он вообще понадобился Акселю, ведь он здесь абсолютно бесполезен, он вообще лишний. Всего-то дел – подержать фонарик!
Аксель надел перчатки, сложил инструменты в ящичек и убрал его в рюкзак.
– Внизу может пригодиться, – пояснил он, заметив взгляд своего помощника, и сбросил конец веревки в шахту.
«А ведь он действительно собирается спуститься туда, во тьму», – подумал Том. Злость спорила в нем с восхищением. Аксель собирался спуститься на шестьдесят футов вниз в шахту только для того, чтобы сделать какое-то фото!
Джонас перекинул через парапет башенки одну ногу, потом другую и нащупал упор в стене, вцепившись руками в его край. Веревка проходила между его руками и ногами. Когда он примеривался, в его рюкзаке что-то булькнуло. Мюррей мог бы поклясться, что этот человек уже не в первый раз проделывает подобные штуки. Он выглядел сейчас сильным, уверенным в себе и возбужденным. В глазах его горел ликующий огонь, словно он едва сдерживал торжествующий смех. Поднятое к небу лицо было лицом счастливца, только что получившего отличную новость, например, о продвижении по службе или о согласии любимой женщины. «Алисы», – подумал флейтист. Демонстрируя полное спокойствие и невозмутимость, Аксель поправил лямки рюкзака сначала на одном плече, потом на другом и произнес:
– Увидимся минут через двадцать. Максимум – через двадцать пять. Больше времени это не займет.
Том подошел ближе, наклонился и заглянул вниз. Джонас коротко и серьезно глянул на него и опустил голову. Он начал перебирать по веревке руками. Ноги его спускались все ниже и ниже, отталкиваясь от стенки шахты, и отбрасываемая им тень становилась все меньше, пока не исчезла в темноте. Мюррей убрал фонарик и отошел подальше. Он стоял в одиночестве на крыше, подняв глаза к небу.
Глава 22
Без двадцати три ночи.
На крыше почти тихо, даже шум улиц внизу почти смолк. Лишь редкие машины проезжают где-то далеко по Хай-Холборн. Что же, все сходится. Теперь понятно и Алисино охлаждение к нему, и ее внезапные проявления симпатии, скорее, сестринской или дочерней, очевидно возникавшие в те моменты, когда любовник ею пренебрегал. Том припомнил ее необъяснимые отлучки и тоскливые взгляды, которые она бросала на Акселя, когда они втроем бывали в кафе. И ту их первую встречу на лестнице. Первую ли? Сейчас флейтист вспомнил, что почувствовал тогда какую-то неловкость и театральность ситуации и то, что между этими двумя словно проскочила искра. Несомненно, они уже знали друг друга и тайно встречались в этой ее конторе.
Лицо Мюррея исказила гримаса боли. До сих пор все его эмоции были направлены на Акселя, но теперь, когда он подумал об Алисе, его тело словно сжали острые когти и боль пронзила его голову и грудь. Музыкант скрючился, прижав руки к груди, вытянул шею, а потом начал тереть виски. Ему казалось, что Джонас его ударил. Том был совершенно уверен, что они с его любимой спали на той самой кровати, которую он заметил за полуоткрытой дверью. И еще он знал, что с Акселем Алиса была совсем другой, не пассивной, удовлетворенно-улыбающейся, а… Молодой человек вдруг сообразил, что не может определить то, какой она могла быть с его соперником. Он представил невыносимую картину: обнаженная Алиса стоит перед Джонасом. Из его горла вырвался не то всхлип, не то стон. Мюррей стоял вцепившись в металлический брус и раскачивался взад-вперед.
Ему на глаза попалось кольцо, крепившее веревку к брусу. Можно было бы открутить его и сбросить вниз. Достойная месть человеку, отнявшему у него Алису и втянувшему его в темную историю. Том оглянулся в поисках инструментов, но вспомнил, что Аксель забрал их с собой. Наверное, предвидел, что у помощника могут возникнуть подобные идеи. Впрочем, можно ведь просто вытянуть веревку, лишив Джонаса возможности выбраться из старых туннелей.
Он вдруг заметил, что дрожит. Даже если сейчас там, внизу, нет никого из служащих метро, они все равно придут в шесть, обнаружат незваного гостя, арестуют его, а может быть, и посадят в тюрьму, обвинив в шпионаже. «Мистер Как-вас-там, вследствие мистического единства своего темперамента и внешних обстоятельств, был рожден, чтобы всю жизнь прослужить тайным агентом».
Флейтисту всегда плохо давалось заучивание текстов на память, но эту цитату он почему-то запомнил от и до, всю, кроме имени. Теперь она зазвучала у него в голове как пророчество. Обуреваемый сомнениями, Том стоял рядом с башенкой, сжимая в руках веревку, и думал об Акселе. Он представлял, как тот подбирается в темноте к диспетчерской с фонариком, фотоаппаратом и инструментами.
Интересно, есть ли там свет? Оставляют ли служащие включенными лампы в тех дальних неиспользуемых ответвлениях туннелей? Сколько нужно будет пройти Акселю? Полмили, сто ярдов или меньше? Мюррей попытался представить помещение диспетчерской, и у него в голове возник образ аппарата, напоминающего огромный CD-плеер с многими рядами кнопок.
Нет, этот способ мести ему не нравился. Ему нужна была совсем другая месть, точнее, не одна только месть. Ему представилась Алиса, дожидающаяся Акселя из тюрьмы, доверительные разговоры, которые они будут вести об этом человеке, о ее любви к нему, о том, чем они с ним займутся, когда его выпустят… Именно так все и закончится, он был в этом уверен. Нельзя было делать из Джонаса мученика.
«В ней – вся моя жизнь, – думал флейтист, – я не могу без нее жить, она спасла меня, но ее миссия еще не завершена, меня нужно спасать всю мою жизнь. И она – единственное мое убежище».
– Алиса, Алиса!
Том выкрикнул ее имя в ночи. Утихший немного гнев начал разгораться в нем вновь. Он чувствовал его в своих венах, в кровь словно попал крепкий алкоголь. В их с Алисой мире нет места для Акселя. Он представил их жизнь без Джонаса. Это были безмятежные видения двух счастливых и опять ставших невинными людей, и для этого нужно было всего лишь выгнать змея из их райского сада. Они с любимой вновь станут играть дуэтом, во всех смыслах этого слова, пусть даже Аксель и смог на время отравить их музыку. Нет, Мюррею не нужна простая месть, он должен избавиться от соперника раз и навсегда, уничтожить его!
Как только он сформулировал свое желание, то сразу понял, что именно надо сделать. Вот только как? Музыкант посмотрел на часы, поднеся запястье к самым глазам: без двенадцати три. Если он собирается что-то предпринять, действовать надо быстро. Он подергал за кольцо – бесполезно, здесь требовались инструменты, а взять их было неоткуда. Что же, если инструментов нет, значит, надо поискать какое-нибудь оружие.
Том пошарил лучом фонарика по крыше. Ничего. Лишь трубы, какие-то дымоходы, вытяжки с негромко гудящими даже ночью вентиляторами и еще будочка, вернее всего, скрывающая люк и лестницу, ведущую с крыши внутрь этого здания, что бы в нем ни располагалось. А чего он, собственно, ожидал? Обнаружить здесь сарайчик с инструментами, которыми пользуется какой-нибудь конторский работник, вылезающий поплотничать в обеденное время на крышу?
Аксель – крепкий и сильный парень, вполне возможно, получивший что-то вроде психологической подготовки бойцов спецназа, «рожденный, чтобы всю жизнь прослужить тайным агентом». Значит, идея дождаться у зева шахты, когда он будет выбираться на поверхность, и бить его по голове, пока его руки не разожмутся, может не сработать. Джонас все равно вылезет, вмажет ему как следует, а потом уже сам ему отомстит.
Если только Мюррей не раздобудет себе оружие. Точнее, «тупое орудие», как выражаются полицейские. А можно и «колющее». Молодой человек вспомнил о той кухне в конторе Алисы. Перед глазами у него промелькнул образ Акселя и его любимой женщины, в обнимку направляющихся туда выпить по бокалу вина или – мелькнула вдруг у него немного нелепая мысль – по чашке чая. Значит, кухня. Он поищет там тяжелую сковородку или скалку. Но успеет ли он сбегать туда и вернуться? Том сверился со временем – без девяти три. Джонас должен подняться минут через восемь или около того.
Он метнулся по крыше туда, откуда они пришли, перелез через парапет на «плот», плывущий по морю тусклых огней, пробежал мимо антенн и каминных труб. Луны не было, она то ли уже зашла, то ли спряталась за облаками. Небо отливало темно-красным, отражая искусственное городское освещение. Флейтист отыскал дверь, вошел внутрь и стал спускаться по лестнице. Заметив выключатель, он зажег свет. Чего ему теперь бояться? Да и времени на блуждания с фонариком нет.
Он пробежал мимо лифта, около которого находилась та самая знаменательная табличка, и вошел в кухню. Зажег свет и здесь тоже. Совсем недавно, проходя тут с Акселем, музыкант еще был уверен в любви Алисы. Предчувствия возникли у него уже после. Тома охватило дикое желание разбить тут все, разнести на кусочки, перевернуть стол или схватить с полки большой китайский чайник и грохнуть его об пол. Он сдавленно дышал, сжимая кулаки.
Кухонька оказалась крошечной. Что за идиот! Навоображал себе тяжелых сковородок и каминных щипцов. В кухонном шкафчике было только три ящика: первый – вообще пустой, во втором лежали бумажки с какими-то схемами, похожими на инструкции по пользованию чем-то, в третьем – столовые приборы. Ничего подходящего не было, а время шло. Мюррей схватил длинный хлебный нож.
У двери на крышу он глянул на часы: без четырех три. Выключив за собой свет, флейтист перебежал крышу и перепрыгнул через парапет. Он бы не удивился, застав у башенки поджидающего его Акселя, но там было пусто. Взгляд его метнулся к веревке: та висела неподвижно. Когда Джонас начнет взбираться наверх, она задергается.
Никогда еще на памяти Тома время не шло так медленно. Он подошел к шахте, перегнулся через ограду и заглянул внутрь. Включив фонарик, он вытянул руку так далеко вниз, как только смог. Луч уходил далеко в глубь шахты, но рассмотреть ничего не удавалось: через каких-нибудь несколько футов свет превращался в мутный желтоватый туман. Мюррею представлялось, что кирпичная кладка, смахивающая на колодезную, окажется покрыта лишайниками или даже папоротником. Но на самом деле стенки шахты оказались гладкими, коричневыми, с какими-то темными пятнами. Музыкант убрал фонарик и посмотрел на небо. Оно было похоже на дымный красноватый саван, рябой, словно пропитанная кровью тряпка.
Внезапно до Тома дошло, что Аксель может и не вернуться. Совершенно просто: он мог отыскать другой путь, какую-нибудь незапертую дверь, подходящую шахту или исправную лестницу. Флейтист прекрасно понимал, что Джонас не будет корить себя за то, что бросил его на крыше. Мысль о том, что тот сбежал и, вернувшись домой, Мюррей найдет своего ухмыляющегося соперника там, была совершенно невыносимой. Том вдруг вспомнил его блестящие ярко-голубые глаза. Пока он в отчаянии размышлял о своей несостоявшейся мести, веревка зашевелилась. Он не только увидел ее подергивание, но и услышал скрежет кольца о металлический брус, всякий раз, когда веревка натягивалась под весом поднимающегося по ней тела. Флейтист сжал свой нож. Его кончик выглядел достаточно острым, чтобы нанести Акселю удар, как только тот покажется над парапетом.
Но ведь есть гораздо лучший способ! Том чуть не задохнулся от волнения. Как это ему сразу не пришло в голову?! А сейчас, чего доброго, не хватит времени, чтобы все обмозговать. Он взялся своей левой, слабой рукой за веревку. Нет, еще не поздно. Наоборот, слишком рано. Нужно только выбрать правильный момент, подождать, пока Аксель заберется как можно выше, долезет до того места, куда достает свет фонарика.
Мюррей начал резать веревку.
Через некоторое время он прервался, чтобы заглянуть внутрь и осветить шахту. Потом молодой человек снова посмотрел на веревку: рывок, провисание, новый рывок, новое провисание… Невидимый Аксель взбирался молча. Вдруг он окликнет Тома? А неплохо бы, можно будет с ним поговорить! Было бы здорово заорать сейчас, объяснить, что он собирается сделать, какую судьбу ему уготовил. Он уже перерезал веревку где-то наполовину, но нож быстро затупился и теперь резал волокна с трудом. Флейтист испугался, что лезвие может согнуться или даже сломаться.
Рывок, провисание, еще рывок, еще провисание… Все случилось ужасно быстро. Ему оставалось перепилить где-то треть веревки, которая дергалась и натягивалась, в то время как кольцо скрежетало и звякало. Том со всей силы схватился за веревку обеими руками и дернул ее. Вес Джонаса тут же потянул его вниз, в колодец. Он упал бы, если бы не парапет.
Это было похоже на перетягивание каната из последних сил. Левая рука Мюррея горела от боли. Он уперся носками ботинок в стенку, выгнулся, пытаясь удержаться. Он хотел посмотреть, как там Аксель, заглянуть ему в глаза и только потом отпустить веревку.
Но это было никак невозможно, он бы свалился сам, если бы сделал это. Теперь у него уже болели обе руки, сердце гулко бухало в груди, и все тело стало одним огромным пульсирующим сердцем. Изо рта вырвалось рычание, и музыканту показалось, что звук эхом отразился от стенок колодца и ушел в небо. И с этим звуком, в котором выплеснулись вся его ненависть и гнев, Мюррей отпустил веревку и воздел руки к небу.
Он не видел, как обрывок веревки исчез в колодце. Глаза его были закрыты. Вопль Акселя прозвучал громче его собственного. Это был самый кошмарный звук, который Том когда-либо слышал, и ему подумалось, что этот крик будет теперь звучать в его ушах всю жизнь: нескончаемый вопль ужаса и безысходности, который отражался и пульсировал в колодце, замирая безнадежными нотами, пока не завершился тонким взвизгом боли.
Флейтист обхватил себя руками за плечи, словно боялся, что сейчас развалится на части, и стал качаться из стороны в сторону, перестав дышать в ожидании звука падения тела на камни. Он ничего не услышал – там было слишком глубоко. Но молодой человек продолжал ждать и открыл глаза только тогда, когда окончательно понял, что все уже давно случилось.
Тишина стояла мертвая. Смолк даже далекий гул машин, даже тихое шуршание лопастей вентиляторов.
После того как все закончилось, Том еще долго сидел на крышке бака, скорчившись и положив голову на руки. Его била дрожь, а сердце вело себя как-то странно. В какой-то момент оно вообще, кажется, остановилось, а потом снова начало стучать, но словно бы накренившись, и Мюррею казалось, что оно задевает за ребра.
Он просидел целую вечность, ожидая, когда пройдет дрожь, и понял, что приходит в себя, только начав замерзать. Ночь была теплой для этого времени года, и все же холод давал о себе знать, забираясь под одежду. Флейтист поднялся, чувствуя, что возвращается к жизни, осмотрелся, и его взгляд упал на кольцо.
Молодой человек задумался. Вид этой штуковины заставил заработать его мозг. Необходимо было все осмыслить, пусть даже это до сих пор причиняло ему боль. Он начал тереть пальцами виски, будто хотел помассировать мозг. Он просто обязан был продумать все как следует.
Рано или поздно, возможно всего через один-два дня, тело Акселя обнаружат, рядом найдут рюкзак с разбитым вдребезги фотоаппаратом и веревку. Конечно, они могут предположить, что Джонас принес с собой веревку для каких-то иных целей, а в туннель попал через одну из дверей – например, ему помог сообщник. Но главной версией, естественно, будет та, что он свалился в шахту, и полицейские полезут на крышу.
«Я совершил убийство, – подумал Том, – я убил человека, значит, я – убийца». От этой мысли у него начала кружиться голова. Он вдруг почувствовал себя особенным, и теперь, когда первый шок прошел, даже воодушевился. Слабак бы такого не сумел! Мюррей же сумел доказать, что на пути таких, как он, вставать не следует, что не следует уводить у него любимую. Но не успел он так подумать, как перед глазами встало лицо Алисы, и это оборвало поток его самовосхвалений. «Алиса! – воскликнул музыкант. – Алиса!» Он закрыл глаза, отгоняя видение, а потом, снова открыв их, уставился на кольцо.
Если бы он нашел какой-то способ раскрутить гайку, он бы так и сделал. Это было бы лучше, чем обрезать веревку. Но у него не было для этого никаких приспособлений. С другой стороны, у него просто не имелось времени поискать хорошенько. Однако две вещи были несомненны: если кольцо найдут, станет очевидным, что Аксель проник в метро по веревке и что его сообщник эту веревку обрезал. Останется только выяснить, где и с кем жил убитый – это полиция делает быстро, – и выйдут на него, Тома. А что самое паршивое, Алиса обо всем узнает. Если же кольца с обрезанной веревкой не найдут, то, обнаружив труп Акселя и его разлетевшиеся от удара о землю вещи, следователи вполне могут заключить, что тот просто принес с собой веревку – мало ли для чего?
Флейтист вернулся в контору Алисы и спустился по лестнице. На этот раз он боялся включать свет. Он убил человека, и мир для него стал другим. Теперь мир объявит на него охоту. Зайдя на кухню, он обыскал все ящики и полки, но гаечного ключа нигде не было. Да и с чего бы кому-то держать гаечные ключи на кухне?
А тем более в спальне. Мюррей никак не мог заставить себя туда войти. Подсвечивая путь фонариком, он спустился на один лестничный пролет. Там были сплошные кабинеты. В одном из них, без сомнения, работала Алиса. В нос молодому человеку шибанул запах цитрусового моющего средства. Около лифта он снова заметил табличку с надписью «Энджелл, Шеррер и Кристиансон». Один за другим он обыскал все кабинеты, но гаечного ключа нигде не обнаружилось. Да даже если он и найдет какой-нибудь – наверняка это будет не разводной ключ или он окажется не того размера.
За последней дверью оказался туалет с двумя кабинками, парой раковин и сушилкой для рук. На каждой раковине лежал кусок оранжевого мыла, и Том сообразил, что этот цитрусовый запах распространяется именно оттуда. На сушилке лежал молоток, должно быть, забытый водопроводчиком. Музыкант зажег свет – все равно в комнате не было окон, она находилась в самом центре здания. Неожиданно заработавшая в автоматическом режиме вытяжка заставила его вздрогнуть, настолько громким показался ему ее звук.
При свете стало очевидно, что больше никаких инструментов здесь нет. Том взял молоток и отправился обратно. Прошло уже много времени – он сам не понял, как это случилось, но время пролетело совершенно незаметно, тогда как минуты, когда он напряженно ожидал шевеления веревки, тянулись бесконечно долго. Сейчас его часы показывали четверть пятого.
Когда-то, целую вечность назад, он видел, как его отец ослабил упрямую гайку с помощью молотка. Это был такой хитрый трюк, когда ты постукиваешь по одному и тому же ребру шестиугольника. Кстати, именно так Аксель и затянул гайку потуже… Мюррей пристроил фонарик на ограждение башенки, направив его луч прямо на кольцо, и начал атаку на гайку. Ничего не получалось. Том подумал, что мог бы добиться какого-то результата, если бы оставалась веревка, за которую можно было бы ухватиться. С другой стороны, если бы веревка до сих пор была на месте, ему вообще не нужно было бы ничем таким заниматься.
Молодой человек немного отдохнул, а потом возобновил попытки. Пока он без всякого результата стучал по гайке, ему пришла в голову мысль, что Аксель мог и не разбиться насмерть, а только покалечиться. Конечно, до дна было не меньше шестидесяти футов, но Том когда-то от кого-то слышал или читал в газете о людях, которые падали с еще большей высоты и оставались живыми. Даже тот леденящий душу крик ничего не значил. Джонас мог остаться в живых после того, как упал и заорал. То, что он был жив до сих пор, было маловероятно, но, в принципе, возможно. Что же, это еще один довод в пользу того, что надо во что бы то ни стало убрать отсюда это кольцо. Флейтист представил, как Аксель выходит из комы в больнице и рассказывает, что с ним был один парень и что полицейские должны залезть на крышу и все там осмотреть.
Время летело. Похоже, оно окончательно изменило свою природу с того момента, как музыкант перерезал веревку, поскольку за те минуты, если не секунды, когда он ждал своего соперника, прошла целая вечность. А сейчас, как в том гимне, который они распевали в школе, тысячелетия пролетели за одну ночь[34]. Мюррей посмотрел на часы: пошел шестой час.
Около шести на станции «Холборн» появится первый поезд. А вдруг служащие метро по утрам первым делом проверяют эти неиспользуемые туннели? С другой стороны, может быть, они делают это через день или даже пару раз в неделю, и сегодня никакой инспекции не будет. Он может спуститься с крыши, подождать до девяти, когда откроются первые магазины, и купить гаечный ключ. Но ведь к тому времени откроется контора этих самых Энджелла, Шеррера и Кристиансона и на работу придет Алиса.
Тогда до самой ночи крыша будет для него недоступна. Том снова принялся размышлять. Он понял, что, спустившись однажды, уже не найдет в себе смелости подняться обратно, неважно, днем или ночью. И не сможет пойти домой. Алиса думает, что он сейчас в Бристоле. Впрочем, у него есть еще примерно час, так как совершенно невероятно, что Акселя обнаружат раньше половины седьмого.
Нравится ему или нет, но придется вновь обыскать все здание и найти ключ. Надо спуститься и не прекращать поиски только потому, что обнаружил в туалете молоток, а обыскать все шкафы, посмотреть, нет ли в здании подвала или, наоборот, чердака. Следует также спуститься в то издательство и в черно-синий офис – короче, обследовать все.
Флейтист поднялся и пересек крышу. Проходя мимо будочки, к которой был прикреплен один конец бруса, он внимательно осмотрел угол. Бесполезно, нечего было даже и думать о том, чтобы выломать брус из стены – она была слишком крепкой. А если попытаться пробраться в то здание, над которым он сейчас находится? В его случае лучше уж неизвестность. Ему представлялось, что комнаты внизу набиты различным инструментом, может быть, там даже находятся какие-нибудь автомастерские или инженерная компания.
Мюррей дернул за ручку дверцу. Она оказалась незапертой. Как Том и ожидал, за ней находился люк, ведущий в здание. Он потянул за крышку люка, но она была заблокирована изнутри. Пришлось попрощаться с райскими видениями автомастерских. Музыкант оглядел будочку изнутри. Две стены были увешаны полками, на которых стояли грязные жестянки, запачканные смазкой, пустые банки из-под колы, треугольный пластиковый контейнер для сэндвичей и стеклянная банка с гвоздями и торчащим среди них разводным ключом.
Увидев это в какой-нибудь комедии, молодой человек рассмеялся бы. Спуститься вниз, без толку обыскать комнаты, собираться переться туда во второй раз, наверняка опять впустую, подумывать о том, чтобы вломиться в неизвестное помещение, тогда как все это время вожделенный ключ был у него под самым носом! Он неуверенно протянул руку, словно боялся, что ключ исчезнет у него на глазах. Пальцы сомкнулись на холодной, тяжелой и совершенно реальной вещи. За ключом ухаживали, на нем даже сохранились следы смазки.
На то, чтобы снять кольцо, у флейтиста ушло меньше минуты. Уже достаточно рассвело, так что он прекрасно мог все рассмотреть и примериться, хотя стрелок часов еще не было видно. Пришлось зажечь фонарик, и Мюррей заметил, что его свет сделался тусклым: должно быть, садились батарейки. На часах было без двадцати пяти шесть.
Он не знал еще, что будет делать, дожидаясь, пока Алиса не уйдет из дома. Прежде всего, конечно, ему надо как можно быстрее убраться с крыши, сесть в первый попавшийся поезд и уехать, неважно куда – все равно. Музыкант выключил фонарик, чтобы сберечь свет для того момента, когда он будет спускаться по лестнице. Сунув кольцо, нож и молоток в рюкзак, он вытер ключ и положил его на место, а потом, подумав, вытер и металлический брус, на котором висело кольцо.
Убедившись, что ничего не забыл, Том пошел по крыше мимо антенн и вытяжек к двери. Холодало, поднялся легкий ветерок. Молодой человек закрыл за собой дверь, постоял секунду в абсолютной темноте и включил фонарик. Свет оказался совсем тусклым. Мюррей глянул на часы: без пятнадцати шесть. Больше он на них не смотрел.
Первым делом флейтист зашел на кухню и положил в ящик нож, тщательно протерев рукоятку. В смутном свете фонарика он отыскал выход на лестницу и прошел в коридор, где находилась пропахшая оранжевым мылом комната с туалетными кабинками и раковинами. Там молодой человек выключил фонарик и зажег свет. Это было безопасно, но заработавшая вытяжка снова заставила его подскочить от неожиданности. Он вытер молоток и, держа его через ткань рукава, аккуратно положил на сушилку. Тот упал с легким металлическим стуком. Всякий посторонний звук сейчас напрягал Тома, поэтому он быстро выключил свет, но вытяжка продолжала работать. Потребовалось несколько минут, чтобы она тоже отключилась. Мюррей вышел в коридор и зашагал к лестнице, но едва он занес ногу над первой ступенькой, как случились сразу два события.
Фонарик потух, а откуда-то снизу донесся грохот.
Звук был ужасно громким и напоминал длинный раскат грома. Лестница и все здание закачалось у него под ногами. Звук волнами распространялся из-под земли, словно там что-то ломалось и раскалывалось. Это было похоже на то, будто с крыши падали целые вагоны с мебелью, или старинные пушки стреляли чугунными ядрами в нескончаемой артиллерийской баталии, или с горы сходила каменная лавина. Том вцепился в перила, а грохот все звучал и звучал в его ушах бесконечным эхом, оглушительным, раздражающим, громыхающим и раскатистым. А потом дом вздрогнул в последний раз, и звук наконец стих.
Во время толчков здание жалобно скрипело и трещало, словно тоже испытывало страх. Флейтист, стоявший на лестнице, понял, что все еще жив и даже невредим. Пока дом дрожал, он и сам трясся вместе с ним и, похоже, даже не дышал, пока длился этот раскат – так ему во всяком случае показалось. Теперь музыкант решился легонько вздохнуть. Дом тоже словно вздохнул, успокаиваясь. Том нащупал одну ступеньку, затем вторую и вслепую пошел в темноту.
Глава 23
Однажды, в тот день, когда «Арсенал» играл на своем поле, в проходящем по линии Пикадилли поезде взорвалась бомба.
Взрывное устройство было оставлено в вагоне под сиденьем. Взрыв произошел в девять вечера на конечной станции «Вуд-Грин». Вагон не был разрушен, хотя его стенки и выгнулись.
Внутри в тот момент никого не было. Вернее всего, террорист не сообразил, что большинство пассажиров этой линии выходят около футбольного стадиона. Так было и на сей раз.
Это случилось в 1976 году. Спустя непродолжительное время в Западном Хэме в поезд сел какой-то мужчина. Не успел он зайти в вагон, как из спортивной сумки за его спиной повалил дым. Никто не пострадал, за исключением самого преступника, застреленного при попытке к бегству.
Таким образом, покушений на то, чтобы взорвать бомбу, в Лондонском метро было немного.
Джаспер, находившийся дома на совершенно законных основаниях, поскольку начались пасхальные каникулы, понемногу приходил в себя после той трагедии в подземке. Предыдущий вечер он провел с Джедом. Сначала они отправились в барнетский инкубатор, где «подготавливали» однодневных цыплят, которыми Лори баловал Абеляра, а затем кормили полусонную и уже довольно жирную птицу. Мальчика заворожили эти желтые, крошечные, жалкие тельца, которые появились на свет только для того, чтобы сразу же стать чьей-то едой. Они совсем не походили на те пушистые шарики, символ Пасхи, нарисованные сейчас на витринах всех магазинов. Джаспер надеялся, что когда-нибудь поймет мир взрослых, в котором сосуществовали два типа цыплят: одни – всеми любимые и обожаемые и другие, которых убивают, чтобы скармливать птицам и зверям. Интересно, кстати, а как именно они их убивают? В общем, этот мир был пока совершенно не понятен ребенку.
До сих пор Джасперу как-то не приходило в голову, что Абеляр постоянно живет в «старшем шестом классе». То есть он, конечно, заметил, что ястреб больше не орет, но думал, что тот просто вырос. Ведь взрослые постоянно твердят, что когда ты вырастаешь, то перестаешь интересоваться вещами, которые тебе прежде чертовски нравились. Выходит, велосипедный сарай, где раньше сидел пернатый хищник, теперь освободился. Джаспер положил на него глаз с того самого дня, когда они переехали в «Школу», но тогда там жил Абеляр.
Летом из этого сарая выйдет прекрасное логово. Хотя сначала надо было все хорошенько обследовать. Сарай наверняка провонял птицей, следовательно, там придется устраивать уборку, а Джаспера подобное занятие не слишком привлекало. Утром, подождав с таинственным видом, который он напускал на себя по поводу и без повода, пока Тина с Бьенвидой не уйдут на виллу «Сирени», мальчик кинулся в сарай. На улице лил дождь, так что бежать пришлось, втянув голову в плечи.
Сарай оказался куда просторнее, чем он думал. Кто-то, возможно, сам Джед, попытался даже залатать его крышу. Ястребом, конечно, пованивало, но не слишком сильно и не особенно противно. Даже пол вроде как подмели. На стеллажах у дальней стены были сложены всякие интересные штуки: старые чемоданы, пара здоровенных туристических ботинок без шнурков, что-то похожее на свернутую палатку и, наконец, моток веревки.
Обрадованный Джаспер схватил ее и с удовольствием обнаружил, что она куда длиннее, чем казалась на первый взгляд – просто-таки замечательно длинная. Именно то, что ему требовалось.
Солнце уже взошло.
Выскочив на улицу, Том сообразил, что ему надо бежать отсюда со всех ног. Что-то случилось совсем близко, по крайней мере, не дальше Холборна. Но никакое, конечно, это было не землетрясение. Взорвалась бомба.
Рвануло, видимо, под тем самым зданием, где находился Мюррей. Впрочем, первое впечатление часто обманчиво. Нигде не было видно ни разрушений, ни паники. Улица оставалась тихой и безлюдной. Стараясь не сорваться на бег, музыкант направился к Кингвэю. У тротуаров стояли припаркованные машины – впрочем, несколько автомобилей проехали мимо Тома. Город только пробуждался для нового дня. Единственным человеком, встретившимся ему на пути, был какой-то бродяга с пустой бутылкой в руке. Флейтист оглянулся на него и увидел, что нищий опустил бутылку в мусорку.
Где же сирены, где полицейские машины, где «Скорая помощь», наконец? И, кстати, где же это все-таки произошло? Молодой человек подошел к станции «Холборн», но та оказалась закрыта. Странно, ведь уже двадцать минут седьмого! Начал накрапывать дождь. Пока – всего лишь морось, скорее, густой туман, чем настоящий дождь. Том вспомнил слова Акселя о такси, но стоило ему подумать о своей жертве, как его снова бросило в дрожь.
Если он в такое раннее утро пойдет по Хай-Холборну со своим рюкзаком, это может привлечь внимание полицейских. А с другой стороны, даже если его остановят, что они найдут? Ну, рюкзак с фонариком и болтом, что дальше? Том бросил болт в мусорку, приделанную к уличному фонарю. Остается фонарик – вещь совершенно невинная, которую каждый может носить с собой. Дождевые капли начали затекать за воротник Мюррея, волосы его промокли.
Станция на Ченсери-лейн работала. Подошел поезд на Илинг-Бродвей, и Том в него сел. Во всем вагоне был один-единственный пассажир. Когда они подъезжали к Холборну, объявили, что поезд здесь не остановится по причине «проблем со связью».
И тут флейтиста словно что-то ударило. Он впал в ступор и весь затрясся от ужаса, услышав слово «связь». Ведь Аксель собирался сфотографировать как раз диспетчерскую! То есть он так сказал, что хочет ее сфотографировать, где-то там, в старых туннелях под Холборном. Том нервно провел ладонью по мокрым волосам, а потом прижал холодные пальцы ко лбу, который почему-то горел огнем. Он не хотел, просто не осмеливался больше ни о чем думать.
Вместо того чтобы, как обычно, пересесть на Юбилейную линию на «Бонд-стрит», молодой человек поехал в Килбурн. Одна мысль о возвращении домой приводила его в панику. Он зашел к Питеру, но того не было дома, и Том, стараясь вообще ни о чем таком не думать, а просто мысленно проигрывать в голове любимую музыку, побрел в хоспис, где его напарник по игре часто работал по ночам.
Блич-Палмер был на месте, за конторкой. Рядом никого не было видно, и он слушал радио, установив громкость на минимум.
– Что случилось? – изумился он, увидев Мюррея. – Ты выглядишь просто отвратительно!
Поскольку лицо самого Питера казалось черепом, обтянутым кожей, в его устах эта фраза прозвучала довольно дико. Посмотрев на изнуренного друга, Том вдруг понял, до чего же устал: он буквально валился с ног.
– Могу я немного здесь побыть? Посидеть где-нибудь? – попросил он своего друга.
Блич-Палмер никогда не задавал лишних вопросов, на собственном опыте зная, что это такое, когда тебе лезут в душу, и стараясь не поступать так с другими.
– Конечно можешь, – согласился он. – Пойди в комнату, где стоит телевизор. В ближайшее время там никого не будет.
И он показал Тому, куда идти. В комнате стояла застарелая сигаретная вонь. Многие обитатели хосписа курили, как паровозы, по пятьдесят-шестьдесят сигарет в день, но в их ситуации это уже не имело никакого значения. Музыкант упал в кресло. Потом он перебрался на диван, лег ничком и обхватил голову руками.
Через некоторое время в комнату заглянул его друг. Шел он медленно, опустив голову, как ходил теперь всегда.
– Все в порядке? – спросил он.
Том кивнул.
– Я заканчиваю в восемь, то есть где-то через час, – сказал Блич-Палмер. – Ты можешь пока побыть здесь. Сейчас слушал новости – представляешь, кто-то заложил бомбу в метро! Рвануло в шесть утра, когда пошли первые поезда.
– Кто-нибудь… Кого-нибудь ранило? – прошептал Мюррей. – Убитые есть?
– Пока неизвестно. Там внизу, наверное, сейчас ужасная суматоха.
В поисках Акселя Алиса сначала заглянула в кабинет рисования, а потом в «пятый класс». Но было еще рано, и, не найдя его нигде, она не слишком обеспокоилась. Джонас совершенно непредсказуем и всегда таким будет, так что ожидать иного ей не приходится. Она не могла даже понять, спал ли он в своей постели или нет, потому что он никогда на ней не спал.
Алиса посмотрела в окно на ветвящуюся реку железнодорожных путей и увидела, как со стороны Финчли-роуд к станции подошел серебристый поезд, весь покрытый черными и красными граффити. Может быть, ее любимый приехал на нем? В принципе, на нем мог приехать и Том, хотя вряд ли. В историю с Бристолем молодая женщина ни секунды не поверила, но ей было все равно. В любом случае, что бы он ни выкинул, с другой женщиной он встречаться не будет. Скорее всего, он готовит ей какой-нибудь сюрприз, изобретает что-нибудь неуклюжее, чтобы ее утешить. Так сказать, открывает ей дверь в уютный мир компромиссов и вторых ролей.
Монотонно шумел дождь. Вода собиралась в лужи на платформе. Алиса стояла у окна кабинета рисования и смотрела на идущих по ней прохожих с зонтиками. Машины медленно проезжали по мокрому асфальту. Скрипачка вернулась в свою комнату и написала Тому записку, такую же короткую, как и та, что она когда-то оставила мужу. Потом она перечитала ее и порвала. Женщину охватило суеверное чувство – она не хотела искушать судьбу. Если она заранее напишет Мюррею записку, то Аксель не придет. Или придет, но изменит свое решение. Если же она вообще не будет готовиться к отъезду и у нее останутся какие-то неисполненные дела, то он тут же явится, горя желанием поскорее уехать вместе с ней.
Время этим утром почему-то текло ужасно медленно. В обед зазвонил телефон. Скрипачка сняла трубку, думая, что это Джонас, но звонила ее мать.
– Ты слышала, что случилось? – не здороваясь, сразу же спросила она.
– Что? – отозвалась Алиса.
– ИРА попыталась взорвать метро. То есть пока, конечно, не сообщили, что это именно ИРА, но кто еще, кроме них, на такое способен? Ты что, даже радио никогда не слушаешь?
– Иногда слушаю.
– Террорист погиб. Оно и к лучшему, больше он такого не сотворит! Говорят, его прямо на куски разорвало. То есть по радио прямо этого не сказали, но наверняка так и есть. Сообщили только, что опознать его невозможно. Только подумай, даже разрушений особых не было! А он, наверное, надеялся, что взрыв будет куда сильнее, понимаешь? Надеялся, что там вообще все взорвется.
– Ты мне позвонила, чтобы рассказать о бомбе в метро?
– Я что, не могу просто поговорить со своей дочерью? На самом деле, я хотела рассказать, что у Майка появилась девушка. Ей двадцать пять, работает программисткой, живет где-то в Лондоне. И что самое замечательное, она просто обожает Кэтрин. Я думаю, это хорошо, что он начал с кем-то встречаться еще до того, как получит развод. В конце концов, ему осталось подождать всего год и три месяца, не так ли?
Около четырех Алиса услышала, что кто-то зашел в дом. Она подошла к двери комнаты: этот кто-то яростно вытирал мокрые ботинки о коврик. Приоткрыв дверь, женщина увидела Тома, поднимающегося по лестнице. Наверное, щель была слишком узкой, потому что он даже не посмотрел в ее сторону, а сразу прошел в «четвертый класс».
Через некоторое время скрипачка услышала шаги над головой и решила, что Аксель вернулся. Но она тут же поняла, что ошиблась: шум доносился из другого крыла дома. Ходили где-то рядом с лабораторией. Это просто играли Бьенвида и Джаспер.
Дождь прекратился, и небо стало похожим на бетонный купол – серый и тяжелый. Алиса никогда раньше не жила в таком месте, откуда можно было исподтишка наблюдать за людьми с близкого расстояния. Когда кто-то выходил из поезда и поднимался по мосту, можно было видеть, как этот человек идет поверху и спускается по деревянным ступеням, чтобы через пять минут показаться перед самым домом. Джонас ничего ей не объяснил, и она понятия не имела, где он может сейчас находиться. Но он обязательно должен был вернуться, поскольку здесь оставались его вещи.
То есть она думала, что оставались – последний раз она заходила к нему в восемь утра. Но теперь у нее вдруг мелькнула ужасная мысль: что, если Аксель потихоньку вошел в дом и забрал чемоданы, пока она находилась в бывшем кабинете директора после разговора с матерью? Ведь она, несмотря на тревогу и взвинченное состояние, задремала тогда минут на пять… Всю предыдущую ночь Алиса не смыкала глаз. Вдруг пока она спала, ее друг вернулся, забрал свои вещи и, не простившись, ушел?
Скрипачка взбежала на верхний этаж. Дети уже ушли, и везде пахло сигаретным дымом. Женщина распахнула дверь в «пятый класс». Все лежало на своих местах. Неубранная кровать со смятыми простынями напомнила ей о часах, которые она пролежала на ней, ожидая Джонаса. Алиса легла, чувствуя, что успокаивается. Это было единственным местом, где она могла сейчас находиться и ждать. Она все время повторяла себе, что должна доверять любимому. Он сам позвал ее с собой, и она держалась за эту мысль как за соломинку.
Когда она проснулась, уже стемнело. Алиса встала и выглянула в окно. Серебристая гусеница поезда ползла от Западного Хэмпстеда к Финчли-роуд. По мосту шли три женщины. Три черных силуэта, бредущие по мостику, сделанному словно из деталек конструктора «Лего». Скрипачка опустила штору. В комнате все оставалось по-прежнему. Два открытых чемодана на полу, фотоаппараты на столе, «Так говорил Заратустра» на полке у кровати. Она взглянула, на каком месте книги ее владелец остановился. Оказалось, что Аксель прочитал всего несколько страниц. Алиса пробежала глазами строчки: «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что до́лжно превзойти»[35].
Последний раз скрипачка что-то ела и пила несколько часов назад. Она вышла из комнаты и начала спускаться на нижний этаж, но замерла на четвертой ступеньке, увидев Тома, ждавшего ее у подножия лестницы.
– Он не вернется, – тихо сказал молодой человек.
Она не стала спрашивать, что он имеет в виду – это и так было ясно. Все было написано на его оскорбленной физиономии.
– Почему же тогда он оставил все свои вещи? – прошептала молодая женщина.
Лицо ее друга стало лукавым. Поколебавшись мгновение, он сказал:
– Там, где он сейчас находится, они ему без надобности. Вещи пролежат здесь год.
– Я тебе не верю.
– Пойдем-ка.
Мюррей открыл дверь «четвертого класса» и, как только Алиса подошла ближе, схватил ее за руку и затащил внутрь. Скрипачка остановилась, потирая предплечье, так сильно он его сжал. На столе стояла полупустая бутылка дешевого красного вина. Она чувствовала, что сейчас произойдет, и у нее появилась кое-какая идея. Алиса наполнила стакан Тома и залпом выпила.
– Я все знаю о вас, – начал флейтист. – Но ты ему не нужна, вообще не нужна, ты для него не то, что для меня. Он просил тебе передать, что уехал… За границу. Вот.
Алиса заметила, как он запнулся, прежде чем произнести последние, явно только что пришедшие ему в голову слова.
– Ты его больше не увидишь. – Музыкант выжидательно смотрел на нее, но лицо его подруги оставалось непроницаемо-спокойным. – Когда я все узнал, то сначала подумал, что после того, как он уедет, у нас все снова будет хорошо. Но это не так. Все закончилось. И ты тоже закончилась.
Он чуть отвернулся от нее и продолжил:
– Ты мне больше не нужна, я тебя больше не люблю. Ты мне не нравишься, ты все сломала.
Он говорил как ребенок, словно был младше Джаспера.
– Я не хочу тебя больше видеть, – добавил молодой человек после паузы.
– Ну, и отлично, – ответила его собеседница. – Я тоже не хочу тебя видеть.
– Но я хочу, чтобы ты это знала: с ним у тебя все равно ничего не выйдет.
– Я тебе не верю, – повторила Алиса. Она действительно не верила ни единому его слову. Аксель ни за что не рассказал бы обо всем этом Тому. Это просто уловка, попытка наказать ее за неверность. Она внезапно поняла, как глупо себя вела, сразу заподозрив худшее только потому, что Джонас еще не вернулся. Завтра он вернется, если она, конечно, доживет до этого завтра.
Существовала вероятность того, что она уже не выйдет из этой комнаты. У Мюррея был тот взгляд, каким он всегда смотрел вокруг, перед тем как он что-нибудь разбивал. Скрипачка вдруг почувствовала, что сама находится в полубессознательном состоянии. Вино, выпитое на пустой желудок, ударило ей в голову. Под пристальным взглядом музыканта Алиса подошла к двери, открыла ее, вышла и закрыла за собой. Он ничего не сделал.
Пустота, которую женщина почувствовала на полпути к кухне, не имела никакого отношения к голоду или алкоголю. Это вытекала из нее душа. Казалось, что все исчезает: все, что ее поддерживало, все, что утешало, все ее надежды. А то, что осталось в итоге, было чем-то ничтожным, голым и хрупким. Правда, есть еще Аксель. Алиса ухватилась за эту мысль. В холодильнике нашлось немного салями и несколько помидоров, а в жестянке из-под печенья лежал недавно открытый пакет с крекерами. Аппетит у скрипачки пропал, но она все-же сгрызла пару крекеров с помидором.
Немного побаиваясь встретить Тома, который мог ее избить, Алиса вернулась наверх. Кто его знает, не перешел ли он от битья тарелок к избиению людей? Затаив дыхание, она на цыпочках прокралась мимо его комнаты, поднялась в «пятый класс» и, подумав, что флейтист может вломиться и туда, заперла дверь на ключ. Потом она опустилась на колени и начала обыскивать чемоданы Акселя.
В первом под футболками, носками и какими-то брошюрами она нашла фотографию в серебряной, сильно потускневшей рамке. Девушка на студийном фото была копией того портрета на стене, тем более что на черно-белом снимке было непонятно, какого цвета у нее волосы, рыжие или просто темные. Белая лебединая шея, большие выразительные глаза… В уголке портрета четким почерком было выведено: «Акселю с любовью. Алиса».
Кровь прилила к лицу скрипачки. Неизвестную девушку звали так же, как и ее. Она вспомнила их первую встречу с Джонасом, то, как с запинкой он повторил ее имя. Закрыв ледяными руками горящее лицо, она стала думать об этой красавице, с которой, вполне возможно, сейчас был ее возлюбленный. Потом женщина лихорадочно продолжила свои поиски. В коробке с надписью «Диазопленка. Готова к употреблению»[36] обнаружилась связка писем. При всем своем возбуждении и ревности Алиса не считала, что произошло нечто, дающее ей право прочитать письма Акселя. Вот если он и завтра не вернется, тогда – да, она их прочтет. Под письмами лежала вырезанная из журнала репродукция картины, но не той, которая висела у него на стене. Надпись под репродукцией гласила: «Эдвард Берн-Джонс «Зачарованный Мерлин» (Натурщица: Мария Замбако)».
Девушка на картине смотрела сверху вниз на полулежащего мужчину в черном плаще. Она была чрезмерно высока, у нее были непропорционально длинные конечности и маленькая голова. Ее тело обволакивало полупрозрачное одеяние, а в волосы были вплетены змеи. Картина неизъяснимо тревожила и беспокоила Алису. Она перевернула репродукцию, положила поверх портрет в рамке, захлопнула крышку чемодана и вдруг заметила, что дышит с трудом, словно пережила удар.
В другом чемодане нашлось только немного книг. По крайней мере, так скрипачке показалось на первый взгляд. Она открыла одну из них, и это оказался художественный альбом с фотографиями Скребневски. Женщина перелистала его, почти уверенная, что и здесь найдет портрет той девушки. И в каком-то смысле оказалась права, обнаружив вложенное между страницами фото.
Безбородый и куда более юный Аксель и та самая девушка в саду в итальянском стиле опирались на каменную балюстраду с кипарисами на заднем плане. Алиса чуть не задохнулась, увидев, насколько похожи эти двое: одинаковые очертания бледных лиц, высоких лбов, больших темных глаз и ярких ртов. Оба были высокими и тонкими, девушка всего на несколько дюймов ниже Джонаса.
На ее руке, лежащей на плече Акселя, было то самое кольцо, которое теперь носил он сам. Алиса посмотрела на оборот, хотя уже и сама все поняла. Там было написано: «Близнецы в саду Стивен-Темпл». Почерк был дрожащим, старческим – наверное, фото подписал кто-то из их родителей или, что еще более вероятно, бабушка или дедушка.
Значит, она – его сестра. Скрипачке стало легко, словно она долго страдала от жажды и ей дали наконец стакан воды. Она освободилась от ревности и вновь почувствовала себя светло и беззаботно. Наверное, и то платье принадлежит сестре Джонаса. Она открыла шкаф и посмотрела на сверкающий в темноте наряд. Он мог купить его сестре в подарок. Женщина подумала, что ей совершенно неважно, насколько сильно Аксель любит свою сестру по имени Алиса.
На этот раз она осмотрела весь шкаф. Темного свитера там уже не было – наверное, ее друг надел его. На месте свитера в левом углу висело его длинное черное пальто с длинным же и черным шарфом, накинутым поверх. А под ним, на дне шкафа, в самой глубине, обнаружился большой прямоугольный сверток, вроде того, что она видела в чемодане, только в целлофановом пакете.
После того как исчезли ее ревность и страх, в Алисе снова проснулась любопытная жена Синей Бороды. Она тщательно исследовала сверток. Вытащила его из пакета, ослабила уголок коричневой оберточной бумаги и аккуратно, стараясь ее не порвать, отклеила ленту скотча. В свертке была картонная коробка с надписью «Магнезия для вспышки. Осторожно, огнеопасно!». Всего-навсего еще одна коробка с фотографическими реактивами, наверное, давно пустая и набитая какими-нибудь письмами.
Этот сверток стал первой вещью в комнате, по которой определенно было видно, что ее трогали. В чемоданах Алиса сложила все вещи так, как они лежали прежде. Теперь же, она была в этом уверена, Аксель обязательно заметит, что коробку вскрывали. Она обыскала всю комнату и обнаружила в одном из выдвижных ящиков стола скотч. Тщательно завернув коробку в оберточную бумагу, женщина заклеила ее и сунула обратно в целлофановый пакет.
Только сейчас Алиса вдруг заметила, что в комнате воняет бензином. Она не могла понять, был ли этот запах чем-то новым или так здесь пахло и раньше. От этого бензина, вдыхаемого через ноздри и рот, у скрипачки разболелась голова. Она бы хотела провести здесь всю ночь, но с таким запахом это было совершенно невозможно.
По-видимому, ночью Джонас вернется. Алиса спустилась в свою комнату, разделась и легла в постель. Заметив футляр со скрипкой, она крепко зажмурилась и открыла глаза только в темноте, потушив ночник. Теперь скрипки больше видно не было. Последнее время один взгляд на инструмент заставлял его хозяйку морщиться, как от удара. Музыка ушла из жизни Алисы, ее место занял Аксель.
Еще не было и десяти. Она была не уверена, что заснет, но просто не знала, чем еще заняться. В соседней комнате было тихо, как будто Том ушел. Она лежала в темноте, слушая звуки проходящих поездов и все собираясь встать, накинуть пальто, пойти к Тине и попросить у нее снотворного, и сама не заметила, как провалилась в глубокий тяжелый сон.
Теперь Сесилия спала почти все время. Врач сказала, что так для нее будет лучше, а она пока подыщет место в больнице, потому что уход за подругой будет Дафне не по силам. Внуки больше не приходили – это уже было не по силам самой больной.
Она все еще любила смотреть новости, обложенная со всех сторон подушками и вложив мертвую руку в ладонь своей сиделки. Они вместе смотрели репортаж о галереях подземки, покрытых ямами и трещинами от взрыва. Показали и какую-то комнату, полную оборудования, но не слишком, впрочем, пострадавшую. Полы галерей были в пятнах, похожих на потеки крови, но Дафна сказала, что это всего лишь масло.
Восстановительные работы шли вовсю – не сегодня завтра поезда должны были снова пойти на Холборн. Личность преступника осталась неустановленной. Диктор произнес это так сдержанно и осторожно, что создавалось впечатление, будто он знает куда больше, чем говорит. Старушки решили, что лично они ничего об этом знать не хотят. Когда репортаж был продолжен, Сесилия пробормотала, что там, на полу, валяется нечто, напоминающее волосы. Говорила она теперь с большим трудом, и никто, кроме Дафны, не понимал ее нечеткой речи.
– Это просто волокно, – объяснила ей миссис Блич-Палмер. – Что-нибудь вроде веревки или кокосовой кожуры.
Хотя обе они не могли представить, каким образом кокосовая кожура оказалась в метро. ИРА, кстати, заявила о своей непричастности к взрыву.
– Они же никогда еще такого не делали, правда? – спросила миссис Дарн.
– Да вроде бы нет, впрочем, не уверена. Я же не такая ярая поклонница теленовостей, как ты, Сисси, – пожала плечами ее подруга.
– Ты знаешь, как только найдется место, меня заберут в больницу, – сказала больная.
Дафна ответила, что это случится только через ее труп.
Алиса проспала всю ночь. Перед тем как проснуться – во всяком случае, ей так показалось, – она увидела во сне, что Аксель вернулся и уничтожил ее скрипку, переломил смычок о колено, а сам инструмент разбил молотком. Она же просто стояла и смотрела, не пытаясь его остановить.
Потом не то в полусне, не то в полуяви ей мерещились какие-то звуки, и она то выплывала из сна, то опять в него погружалась. Вроде бы наверху кто-то ходил, потом снова наступала тишина, потом – новые звуки, похожие на танец, и снова – обычные шаги. Проснулась скрипачка в тишине. За окном пронесся поезд. Алиса сама не знала, приснились ли ей эти шаги или они были в реальности.
Через мгновение до нее дошло, что шаги означали возвращение Джонаса.
Вот только когда она их слышала? Минуту назад? Час? Или это было вообще ночью? Женщина прислушалась – ничего. Если бы дело касалось Майка или Тома, она подождала бы, когда они сами к ней войдут, но ждать Акселя она была не способна и могла разве что потратить минутку, чтобы привести себя в порядок. Алиса не ревновала, конечно, любимого к его сестре, но та была очень красивой, и Джонас волей-неволей сравнивал бы их. Она причесалась, умылась и посмотрела в зеркало: ее лицо выглядело слишком измученным для двадцатичетырехлетней женщины.
Было позднее утро, одиннадцатый час. Скрипачка взбежала по ступенькам, уверенная, что обнаружит своего друга еще в постели. Уверенная настолько, что даже постучалась. А потом открыла дверь, удивленная, что та не заперта на ключ.
Он возвращался. Чемоданы пропали. Фотокамеры исчезли. Молодая женщина прижала руку ко рту, чтобы не закричать. Дверцы шкафа были распахнуты, он стоял пустой, и все, в том числе белое платье, испарилось без следа.
Где записка? Он должен был оставить ей записку. Скрипачка оглядела пустую покинутую комнату, заглянула в шкаф, осмотрела незастеленную кровать, стены, окно и блеклое выцветшее небо за ним. Мария Замбако следила за ней со стены своим таинственным потусторонним взглядом.
Впрочем, писать записки, прощальные послания или письма с извинениями было не в натуре Акселя. Откуда-то его подруга это знала. «Он приехал сюда, чтобы сделать что-то, что связано с его сестрой, – думала Алиса, – а теперь он все сделал, закончил то, что должен был, чем бы это ни было, и уехал. Я тут была совершенно ни при чем, я – случайность, я просто попалась ему на пути, помогла добиться желаемого. Вот и все».
Она прикрыла дверь и спустилась по ступенькам. Так плохо, как сейчас, ей не было еще никогда в жизни. Время остановилось, будущее опустело. Когда-то люди верили, что можно достичь границы этого мира, за которой находится пропасть. А если шагнуть в эту пропасть, упадешь в первозданный хаос. Но это было не тем, что ощущала молодая женщина, – напротив, хаос бы она встретила как долгожданного друга. Алиса не могла ничего делать, потому что делать ей было совершенно нечего, вокруг нее была пустота. Не получалось даже остаться наедине со своими мыслями, потому что мыслей не было тоже. Эти ощущения распространялись и на окружающую реальность, словно парализуя скрипачку: спуститься по ступенькам стало все равно что брести по болоту – приходилось обдумывать каждый шаг, а поднести руку к голове значило то же, что поднять гору.
Том ушел, музыка исчезла, а теперь и Аксель ее покинул. Свою дочь, единственное ее по-настоящему собственное творение, она бросила сама. Но когда Алиса думала об этом, в ее мозгу словно захлопывались ставни, скрывая от нее образы. Пустота затопила все вокруг и смыла все мысли начисто.
Зазвонил телефон. Не ожидая, что это Джонас – да и вообще ничего не ожидая, – Алиса сняла трубку. Звонила какая-то женщина. Скрипачка слушала ноющий женский голос, который что-то спрашивал, восклицал… Наконец вопрос – почему она молчит – пробился к ее сознанию, и Алиса поняла, что звонит ее мать.
– Извини, – сказала она и добавила: – Я тебя слушаю.
– Я просто подумала, что тебе будет интересно узнать, что Шелли переехала к Майку. И это действительно прекрасно, потому что они наконец смогут забрать Кэтрин у Джулии, – сообщила ей Марсия.
Алисе потребовалось некоторое время, чтобы привести в порядок имена и разобраться, о ком толкует ее собеседница. Мать стала превозносить достоинства Шелли, то, какая она прекрасная хозяйка, первоклассный кулинар и даже дипломированная няня. Кэтрин ее обожает. Кстати, она уже упоминала о том, что Кэтрин пошла?
– Ты должна мне тысячу фунтов, – произнесла Алиса каким-то чужим, хриплым и басовитым голосом.
– Что? Что ты сказала?
– Ты поставила тысячу фунтов на то, что я никогда не поступлю в оркестр. Что ж, ты оказалась права. Всё кончено. Всё.
– Хочешь сказать, что это ты мне должна тысячу? – хохотнула ее мать. – Ну ты даешь, Алиса! Я дала бы тебе деньги, если бы ты добилась успеха, а не провалилась. Нет, ну это же надо!
Скрипачка аккуратно положила трубку. Телефон вновь начал звонить. В доме, скорее всего, никого больше не было, кроме ястреба. Том ушел играть свою музыку. В другое время она бы улыбнулась такому определению его занятий, но сейчас ей было все равно. Пока молодая женщина шла по лестнице, она заметила Тину, выходящую с детьми из дома, хотя осознала увиденное лишь через какое-то время.
Телефон все звонил. Она больше никогда не заговорит со своей матерью. Возможно, она вообще ни с кем больше никогда не заговорит. Итак, Джонас вернулся за полночь, собрал свои вещи и ушел.
Пять минут назад Алиса думала, что надежды больше нет. Но надежда вернулась и вновь поманила ее тонким, похожим на детский, пальчиком. Вчера Мюррей наговорил ей достаточно много о ней и об Акселе – так, словно он что-то знал. А вдруг это Том забрал его вещи и спрятал, чтобы создать впечатление, что их сосед уехал? Алиса принялась осматривать «Школу», комнату за комнатой, начав с верхнего этажа. Лаборатория, кабинет рисования, кабинет рукоделия, учительская, переходный класс и, наконец, раздевалка. Она проходила мимо этой двери сотни раз и никогда не интересовалась, что за ней находится.
Это вообще было бы в характере флейтиста: спрятать вещи Акселя, чтобы ее наказать, заставить почувствовать то, что она сейчас чувствует. Женщина толкнула дверь. Комнатка оказалась отнюдь не пустой: на полу валялись подушки, пледы и пустая банка из-под колы. Вещей Джонаса в ней не было. Но она даже не почувствовала разочарования – лишь на мгновенье представила, что ощутила бы, если бы нашла их.
Из люка в потолке свисала веревка. В самом центре комнаты, не доставая дюймов шести до пола. Алиса вроде бы слышала прежде, что здесь повесился какой-то старик. Еще она слышала, что это – быстрая смерть. Если у нее нет будущего и впереди – только пропасть, если она не знает, чем заполнить свою жизнь, возможно, именно поэтому что-то привело ее сюда, к такому вот концу?
Скрипачка осторожно подняла веревку – с опаской, словно та была живой и могла прыгнуть и укусить. Но веревка легко лежала у нее на ладони. Сделать скользящий узел будет несложно, ведь это получается даже у тех, кто выбирает такие неподходящие средства, как ремни или галстуки. Какие-то силы привели ее сюда и дали ей в руки эту веревку.
Для того чтобы сделать петлю, оказалось достаточно обернуть веревку вокруг нее самой и завязать обычным узлом. Чтобы затянуть узел, Алиса дернула за веревку, и откуда-то сверху, с крыши, раздался одинокий удар колокола.
Она не удивилась и не стала колебаться ни секунды. Ее охватило огромное отчаяние и вместе с тем дикое возбуждение. Больше ничего не имело никакого значения, кроме веревки в ее руках.
Настал судный день. Конец мира, и этим миром была она сама. Глядя на этот свой мир, Алиса ухватилась за веревку обеими руками, со всей силы потянула ее, стараясь держаться как можно выше, повисла на ней и упала вниз. Она начала звонить в колокол «Школы Кембридж».
Глава 24
Проходя по мосту, Джарвис услышал звон колокола. Его самолет из Москвы приземлился в аэропорту Хитроу в 9.25, на десять минут раньше расписания. Получение багажа и прохождение таможни тоже не доставили ему никаких проблем. Даже поезд линии Пикадилли тронулся сразу, как только Джарвис зашел в вагон. Ему показалось, что граффити стало куда больше, чем было до того, как он уехал. Разноцветные надписи красовались повсюду, не только снаружи, но и внутри вагона. Так в его ковер-самолет оказались впрядены грязные нити.
Доехав до «Грин-парка», путешественник пересел на Юбилейную линию и прибыл в Западный Хэмпстед всего через час после прилета в Хитроу. Выбрав южный выход, можно было бы добраться до дома быстрее, но Стрингер пошел по мосту. Он просто хотел посмотреть сверху на рельсы, почувствовать, что все на месте, пусть даже поврежденное бомбой, о которой он прочитал в газете в самолете. Немного поврежденное, но все равно непобедимое.
Дойдя до середины моста, он стал смотреть на поезд, как раз идущий в сторону Финчли-роуд – серебряные вагоны так и мелькали между планками, – как вдруг зазвонил колокол. Путешественнику потребовалась секунда или две, чтобы сообразить, что это именно его колокол. Джарвис попытался разглядеть колокольню между металлическими прутьями ограждения моста, но оттуда ничего не было видно, и он бросился вниз по ступенькам.
Колокол звонил не переставая. Его звон разносился над Западным Хэмпстедом, как тревожный набат, возвещающий о пожаре, нападении врагов или другой неминучей беде. Люди появились на балконах, выходили в садики перед домом. Как заметил Стрингер, большинство из них никак не могли сообразить, откуда раздается этот звон, но некоторые знали, где находится колокол, и с тревогой смотрели в сторону «Школы Кембридж». Вот и колокольня. Там было пусто, но колокол бешено качался туда-сюда, и его язык издавал гулкий медный звон.
Джарвис побежал. У него было два чемодана и рюкзак, но он все равно помчался домой со всех ног. Входная дверь оказалась незапертой. Он бросил чемоданы, скинул рюкзак и распахнул дверь в раздевалку. Алиса вцепилась в веревку колокола, словно героиня старинного романа, какая-нибудь дочь звонаря, предсказывающая пришествие Бонапарта и приближение вражеской армии. Она повернулась к хозяину дома с белым лицом, на котором бешено сверкали глаза. Стрингер шагнул вперед. По телу женщины прокатилась долгая судорога, она отпустила веревку и с рыданиями упала ему на руки.
Тина услышала звон колокола, как только свернула на Прайори-роуд с Килбурн-Хай-роуд, где покупала носочки детям на распродаже по случаю закрытия магазина. Из-за этого ей в кои-то веки пришлось подняться ни свет ни заря и потащиться туда с сыном и дочерью. В отличие от Джаспера и Бьенвиды, она не сразу сообразила, что это за звук и откуда он доносится. А вот ее сын затрепетал. На долю секунды он подумал, что колокол звякнул сам по себе или от ветра. Но звон не прекращался, и Джаспер почувствовал себя оскорбленным. Это был его колокол, кто бы сейчас в него ни звонил. Мальчик быстро сообразил, что причиной трезвона не могли быть ни влажный воздух, ни сверхъестественные силы, поэтому, кто бы там ни был, он не имел права этого делать.
Бьенвида сверлила его обвиняющим взглядом, как будто во всем виноват был он сам.
– Откуда это? – спросила Тина.
– Это наш колокол, – ответил Джаспер.
– Старый школьный колокол?! – удивилась его мать. Она что-то такое слышала, когда ей было столько же лет, сколько сейчас Бьенвиде. Почему-то у нее всплыло в памяти, как она расчесывала свои длинные спутанные светлые волосы, а потом приходила мама и помогала ей…
– Вот черт! – воскликнула молодая женщина. – Она сейчас тоже услышит звон и вспомнит эту старую историю с ее братом!
Сорвавшись с места, мисс Дарн побежала в направлении виллы «Сирени». Дети переглянулись, Джаспер пожал плечами, и они бросились вдогонку.
Но Сесилия колокола не услышала: она умерла незадолго до его первого удара.
Пожилая женщина полулежала, обложенная четырьмя подушками, на своем диване-кровати, остававшемся теперь постоянно разложенным. Дафна сидела рядом на стуле и спрашивала, чего бы Сисси хотела на обед. До обеда было еще далеко, но жизнь на вилле стала очень неторопливой, и сиделке нравилось заблаговременно интересоваться тем, что приготовить подруге, даже если в последнее время это был омлет из одного яйца, который они делили на двоих, или чашечка супа – единственное, что теперь ела больная.
В этот раз миссис Дарн выбрала омлет. Вернее, Дафне показалось, что она произнесла слово «омлет», настолько невнятной стала речь ее подруги. Понимать ее с каждым днем становилось все труднее. В голове Сесилии теснились смутные образы прошлого, все ее мысли превратились в какой-то сонный сумбур, где властвовали не видения, а звуки. Она не видела тех, кого вызывала к жизни, с кем жила и разговаривала. Единственным ясным зрительным образом была ее собственная гостиная, с окном, за которым было видно одно только белесое небо, и миссис Блич-Палмер, сидящая рядом, такая же молодая, как в тот день, когда она выходила замуж за Артура. За Артура, который подарил Сесилии камею из розового коралла. Дафна каждое утро прикалывала камею к воротничку ее одежды, потому что ей казалось, что это доставляет Сисси удовольствие.
За две минуты перед тем, как начал звонить колокол, больная внезапно почувствовала острую боль в боку. Как будто в нее воткнули дрель, и в то же время это было похоже на усталость от работы – ощущение, уже почти ею позабытое. Она ничего не сказала Дафне о боли, только сжала руку подруги и произнесла:
– Дорогая, я любила тебя всем сердцем всю свою жизнь.
Сиделке показалось, что та бормочет что-то об омлете. Наклонившись поближе, она переспросила:
– Я не расслышала, Сисси.
Пожатие Сесилии ослабло, и Дафна положила руку подруги обратно на простыни. Вдруг из горла миссис Дарн вырвался звук, которого миссис Блич-Палмер никогда прежде не слышала: какой-то странный хрип. Она подумала, что Сисси хочет откашляться, поэтому обняла ее, стараясь приподнять повыше. Больная широко распахнула глаза, ее голова откинулась, и она мягко осела в руках подруги.
– Сисси! О, Сисси! – произнесла Дафна. – Моя дорогая Сисси!
Где-то снаружи начал звонить колокол: звуки доносились со стороны «Школы». Он зазвучал, словно специально, как похоронный звон по Сесилии. Ее сиделка не выдержала и расплакалась. Она поднялась, закрыв лицо руками и с ужасом вслушиваясь в этот резкий нервный трезвон.
Зазвенел другой колокольчик: звонили во входную дверь.
Пойти туда сейчас и открыть ее казалось Дафне совершенно лишним и ненужным. Она продолжала неподвижно стоять и слушать колокол, а между ее прижатыми к лицу пальцами струились слезы. Дверной колокольчик зазвонил снова – было ясно, что кто-то нажал кнопку и не отпускал палец. Миссис Блич-Палмер пришлось идти открывать. В каком-то оцепенении она смотрела, как в дом входят Тина, Джаспер и Бьенвида.
Опомнилась она лишь тогда, когда девочка подошла к двери в гостиную.
– Нет! Не входи туда! – закричала пожилая женщина. – Туда нельзя! О боже, этот кошмарный колокол!!! Когда же он замолчит?!
– Почему мне нельзя заходить туда, тетя Дафна? – удивилась мисс Дарн.
Сиделка полагала, что в присутствии детей говорить о смерти не следует. Что же делать? Все трое смотрели на нее с невинным удивлением, но потом на лице дочери Сесилии наконец отразилось понимание того, что произошло.
– Ах, Тина, Тина… – проговорила миссис Блич-Палмер. Она должна была это сказать. – Твоя мать нас покинула. Она только что умерла у меня на руках.
Мгновенно, не издав ни единого всхлипа, Бьенвида зашлась в истерическом плаче. Колокол звякнул еще пару раз, издал несколько последних коротких звуков и в конце концов смолк.
После похорон Дафна вернулась домой в Уиллсден. Приехал Дэниэл Корн на своем фургончике и помог Тине перевезти вещи на виллу «Сирени». Она собиралась поступить так же, как Джарвис: сдавать комнаты внаем. В самую большую комнату на верхнем этаже въехал Джед, который хотел жилье попросторнее. Новую хозяйку это устраивало, потому что ястреб гадостно вонял, а ей казалось, что вонь, как и горячий воздух, поднимается вверх.
Издатель Джарвиса благосклонно принял идею книги о метрополитенах СССР и Восточной Европы. Работа над историей лондонской подземки подходила к концу. Том Мюррей намеревался остаться в «Школе». Парень по имени Арчи, игравший в его группе на ударных инструментах, собирался въехать в бывший кабинет пятого класса, как только закончится его нынешний договор с другим домовладельцем. Джарвис понимал, что трудностей и со сдачей внаем бывших комнат директора школы не возникнет – скорее, наоборот, ему придется отказать многим вполне достойным претендентам.
Флейтист ничего не сказал ему об Акселе – он вообще никогда и ни с кем о нем не разговаривал. Алиса же просто не могла этого сделать. В результате первой о пропавшем жильце с Джарвисом заговорила Тина, когда они с ним пили чай на ее вилле. Она поинтересовалась, заплатил ли ему Джонас, перед тем как съехать.
– Какой еще Джонас? – изумился Стрингер.
– Ну, Аксель Джонас, тот бородатый тип, который провожал тебя в Хитроу и снимал в «Школе» «пятый класс» и «кабинет рисования».
– Не знаю я никакого Акселя. Наверное, это был сквоттер. Странно, что он был только один!
– Он водил с собой медведя, – встрял Джаспер, но никто не обратил на него внимания.
Джарвис рассказал, что собирается писать книжку о России и Восточной Европе и поэтому должен будет поехать в Берлин и прокатиться на Ю-бане[37], чтобы своими глазами увидеть, что происходит, когда линия пересекает Берлинскую Стену. А еще ему бы хотелось, когда Стену все-таки сломают, проехаться на первом поезде, который пройдет отрезок между Фридрихштрассе и площадью Маркса и Энгельса, то есть из Западного Берлина в Восточный, без остановки. Он с удовольствием рассуждал о датах поездок и своих планах, не придав значения информации о мужчине, который прожил в его доме и не заплатил ни пенса.
А вот Джаспер забыть страшного соседа не мог. Мальчик ничего о нем не говорил, но зато много думал. Он часто сидел на подоконнике в своей новой комнате, той самой, которая раньше служила спальней Дафне и откуда прекрасно были видны деревья, растущие на Лугу, но нельзя было заметить никаких серебряных поездов. Сидел и вспоминал человека с медведем. В их новом доме был здоровенный цветной телик, и они с Бьенвидой смотрели много всяких передач. Однажды вечером в новостях он увидел рожу Айвена с его зашитой губой и носом-уточкой. Диктор говорил, что того будут судить по обвинению в убийствах и взрывах бомб.
Джаспер вспомнил, как в их первую встречу Аксель расспрашивал его о призрачных станциях и секретных путях в подземку, а Айвен – человек-медведь – сказал тогда, что все они – как три брата-близнеца. Очевидно, этот человек был профессиональным террористом, и, несомненно, это он научил Джонаса, как пользоваться взрывчаткой. Теперь Джаспер был совершенно уверен, что именно Аксель, отыскав один из тайных ходов, проник в метро и устроил там взрыв. Точнее, попытался устроить, поскольку у него все равно ничего не вышло. Ребенок полагал, что журналисты немного увлекаются, когда говорят, что преступник собирался уничтожить буквально все метро из-за своего сумасшествия или из мести, а может быть – по причине иррациональной ненависти.
Иногда он задумывался о том, что именно случилось с Акселем. Что с тобой происходит, когда ты взрываешь сам себя? По телевизору никогда ни о чем таком не упоминали, хотя постоянно твердили о бомбах. Джаспер представлял, как кусочки Джонаса разлетаются по туннелям: его волосы, зубы, обломки кольца, которое он носил… Его так и не опознали, никто до сих пор не имел ни малейшего представления, кто это был, и возможно, об этом так никто никогда и не узнает. Джаспер решил, что будет молчать и не скажет об этом даже Бьенвиде, – это станет вторым Самым Главным Секретом его жизни. Первый заключался в том, что он один ездил на крышах вагонов по самым длинным перегонам.
Книга Джарвиса кончалась на пессимистической ноте:
Еще совсем недавно Лондонская Транспортная завершала финансовый год с небольшой прибылью, но времена изменились из-за частых забастовок железнодорожных служащих, непредвиденных восстановительных работ и роста расходов на обеспечение безопасности. Приведу несколько примеров. Все семьдесят пять поездов линии Дистрикт были отправлены в ремонт, потому что у них начали отваливаться электромоторы. Было зафиксировано несколько случаев, когда двери открывались не с той стороны, и компании пришлось потратить многие тысячи фунтов только на то, чтобы обнаружить ошибку в системе безопасности. Реконструкция моста Блэкфрайерс, проходящего над линиями Дистрикт и Кольцевая, обошлась на три миллиона фунтов стерлингов дороже, чем было предусмотрено сметой.
Один из проектов по уменьшению расходов предусматривает остановку метро в День Подарков. Сейчас компания вынуждена платить работникам в этот день, 26 декабря, двойную плату.
Количество пассажиров метро неуклонно сокращается: в этом году их было всего лишь 765 миллионов, а в следующем эта цифра наверняка еще уменьшится. Результатом стала потеря 10 миллионов фунтов из-за непроданных билетов. Пока я писал эту книгу, Лондонский метрополитен закончил год с дефицитом в 40 миллионов фунтов стерлингов.
Всё это не внушало особых надежд на будущее, и Джарвис решил добавить несколько строк, которые, впрочем, наверняка были впоследствии вычеркнуты издателем:
Перед лицом этих фактов на первый взгляд становится очевидным, что сейчас явно неуместно строительство новых станций. И все же, только решившись на сопряженные с этим огромные расходы, Лондонское метро сможет окупить свои потери и вместо медленной позорной смерти триумфально встретить наступающий двадцать первый век.
Том тратил деньги Акселя без малейшего зазрения совести. В одном из почтовых каталогов он нашел рекламу прекрасного синтезатора и заказал его. Это был «Voconverter 5000». Достаточно было спеть в микрофон арию, и аппарат сам подбирал мелодию и проигрывал ее на одном из тридцати запрограммированных музыкальных инструментов. Потом, на записанную таким образом дорожку, можно было наложить еще четыре инструмента. Стоила эта штука четыреста фунтов, но Мюррей мог себе ее позволить. Он предвкушал, как будет играть на синтезаторе в метро и перевернет представление людей об уличных музыкантах.
Спустившись в подвал, молодой человек проверил вещи Акселя. Он сунул фотоаппараты в два пластиковых пакета, а все остальное сложил в чемоданы. Все это флейтист спрятал за запачканную сажей загородку, где прежний хозяин, Эрнест, когда-то хранил уголь, и накрыл брезентом, вроде того, который прежде использовали маляры.
Том не мог представить, что кто-то сможет опознать эти фотокамеры, «Никон» и «Олимпус» с большими телеобъективами. Они выглядели ужасно дорогими, и музыкант, решив их присвоить, отнес в свою новую комнату, бывший кабинет директора школы, и положил в шкаф. Он переехал туда, где раньше жила Алиса, после того, как ее забрали. Комната была куда больше и светлее, чем его прежний «четвертый класс».
Он подумывал о том, чтобы со временем забрать к себе Алису. Никто лучше него самого не знал, что Аксель действительно мертв. Посещая любимую в психиатрической лечебнице, Мюррей пытался объяснить, что простил ее, но она ни разу не задала ни единого вопроса и, похоже, вообще не понимала, кто он такой. Врачи утверждали, что ей становится лучше и ее выздоровление – только вопрос времени. Ей просто надо дать это время, а лекарства, которые ей прописаны, потрясающе эффективны в подобных случаях. Том планировал, когда Алиса поправится, попросить Джарвиса сдать им двоим бывшее жилье директора, но поскольку сейчас о выздоровлении говорить было еще рано, он был рад тому, что хозяин дома уезжает в Берлин. Это означало, что у них с Алисой действительно есть еще время.
Наконец он остался в «Школе» один. Стоял теплый сухой вечер – именно то, что ему было нужно. На прошлой неделе кто-то из соседей зажег костер рядом со своим домом неподалеку от железнодорожных путей. Поднялся огромный столб дыма, но никто даже не подумал жаловаться, хотя воздух в их районе считался довольно чистым. Если это можно другим, почему нельзя Мюррею?
С того самого дня, как он снес вещи Акселя в подвал, он не знал ни минуты покоя из-за того, что они все еще находились в «Школе». Тогда флейтист не предполагал, что Джарвис так внезапно вернется. Впрочем, даже если бы хозяин и предупредил о своем приезде кого-нибудь, то точно не Тома. С тех пор музыкант пребывал в постоянном страхе, что тот спустится в подвал, обнаружит чемоданы с фотоаппаратами, и начнутся расспросы.
Молодой человек перебирал всевозможные способы того, как избавиться от этих вещей. Он даже подумывал выкинуть их на какой-нибудь станции метро или отвезти в Хитроу, где чемоданы непременно бы украли. Но почти все вещи в них были подписаны, так что установить владельца было легко. Метки стояли даже на книгах и коллекциях фотографий, которые Том не стал рассматривать. Были еще два тяжелых пакета, завернутых в коричневую оберточную бумагу. В одном находились письма от какой-то родственницы Акселя, похоже сестры. Второй, очень похожий на первый, был упакован в пластиковый пакет, и флейтист не стал его открывать. Он мог бы попробовать удалить метки Джонаса, но вдруг какая-нибудь из них да ускользнет от его внимания? Отпечатки пальцев Акселя наверняка есть в полиции, а все эти вещи, несомненно, были ими покрыты. Причем теперь к ним добавились и отпечатки пальцев Тома.
Огонь был лучшим способом. Музыкант вернулся в подвал, перетащил чемоданы в вестибюль и принялся за поиски керосина. Это напомнило ему, как он разыскивал гаечный ключ или какое-нибудь оружие в конторе «Энджелл, Шеррер и Кристиансон». В «Школе» было с полдюжины обогревателей, следовательно, где-то должен был быть и керосин, если только к весне его весь не сожгли. В шкафу на кухне обнаружились две канистры с бензином, но Мюррей побоялся его использовать, опасаясь, что огонь перекинется на него самого. В конце концов в «переходном классе» у Джарвиса нашлась и канистра с керосином, стоявшая рядом с камином.
Взяв чемоданы, флейтист вышел во двор. Для его целей лучше всего подходил луг за домом, поближе к забору. Судьба книг, писем и фотографий девушки Тому была безразлична, а вот белого платья стало жаль. Впрочем, он решил сжечь и его. Да и к чему ему это платье? Он горько усмехнулся, представив, как дарит его Алисе, после чего подготовил растопку из газет и собранных в саду веточек и плеснул на них керосину.
Погода стояла безветренная, на небе – ни облачка. Апрель в этом году был прекрасным, напоминая, скорее, о разгаре лета. Прогрохотал поезд, мелькнув серебристой рыбкой за кустами живой изгороди. Молодой человек вытащил из кармана коробок спичек, вывалил содержимое чемоданов на землю, положил в приготовленную растопку платье и одежду Джонаса – джинсы, кроссовки и черное пальто.
Затем он поднес зажженную спичку к газетам и веткам. Благодаря керосину, огонь занялся мгновенно и взметнулся, пожирая белое платье и пальто. Они сгорели очень быстро. Музыкант подложил в костер длинный сухой сук, упавший с дерева, и начал кидать туда книги, удовлетворенно наблюдая, как они горят. Ему сразу полегчало от мысли, что все метки, все отпечатки пальцев его жертвы исчезают, слизанные языками пламени.
Из-за густого белого дыма становилось трудно дышать. Впрочем, еще немного, и все будет кончено: останутся только несколько пригоршней серого пепла. Мюррей разотрет его ногой по земле, по ровной земле, где горел костер. Том взял связку писем и кинул в огонь, который охватил их в два счета, а потом туда же отправился следующий пакет – последняя, предназначенная к сожжению вещь.
Флейтист пододвинулся поближе, с любопытством глядя, как пламя охватывает аккуратно завернутую в пластик коробку – единственное, что осталось теперь от Акселя.
Для того чтобы присоединиться к «Защитникам», дежурившим этим вечером на Центральной линии, Джед сел на поезд, отправлявшийся в южном направлении со станции «Западный Хэмпстед». Последний вагон как раз проезжал мимо школьного сада, когда плотно упакованная в коробку магнезия загорелась и взорвалась.
Черный порошок, мгновенно превратившись в газ, произвел ослепительную вспышку и гигантский взрыв. Взрывная волна с грохотом пронеслась над рельсами, волоча за собой камни, сучья и кирпичи, захватывая своим свирепым химическим выдохом все, что было в саду живого и мертвого, и расшвыривая схваченное в стороны. Огонь с пронзительным свистом взметнулся к самому небу.
Поезд, не получив ни единого повреждения, проследовал дальше, к Финчли-роуд.
Примечания
1
Цит. по пер. Н.Л. Трауберг.
(обратно)2
Фешенебельный квартал Лондона, вотчина привилегированной плутократии.
(обратно)3
Все названия станций даны в кавычках, чтобы отличать их от одноименных улиц и районов.
(обратно)4
Станция «Хэмпстед» залегает на глубине 59 м ниже уровня улицы.
(обратно)5
18 ноября 1987 года на линии Пикадилли вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб 31 человек.
(обратно)6
«Зацепинг» – экстремальное развлечение: катание на поездах снаружи, зацепившись за не предназначенные для этого детали.
(обратно)7
«У т к а» – двурогая металлическая деталь, укрепленная на палубе или иной части судна, для закрепления на ней бегучего такелажа.
(обратно)8
BART (Bay Area Rapid Transit) – близкая к метрополитену система скоростных электропоездов на западном побережье США, соединяющая агломерацию городов Сан-Франциско, Окленд, Беркли и т. д.
(обратно)9
«Ангелы-Хранители» (Guardian Angels) – добровольная некоммерческая негосударственная организация по охране правопорядка.
(обратно)10
Там мы дадим друг другу руки (итал.).
(обратно)11
Блокированная застройка (terraced house) – тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет отдельный вход, небольшой палисадник и иногда гараж.
(обратно)12
«Убежище Моррисона» (кровать Моррисона) – названная по имени изобретателя прочная конструкция, верхняя и нижняя стенки которой были выполнены из толстых металлических листов, а боковые представляли собой металлическую сетку.
(обратно)13
«La Vie en rose» («Жизнь в розовом цвете», «Жизнь сквозь розовые очки») – песня каталонца Луиги, ставшая визитной карточкой французской певицы Эдит Пиаф, которая написала к ней слова.
(обратно)14
«Never on Sunday», также известная как «Ta Paidia Tou Piraia» («Дети Пирея»), популярная песня греческого композитора Маноса Хадзидакиса. В 1960 году он получил премию «Оскар» за музыку, написанную к фильму Жюля Дассена «Никогда в воскресенье». В дальнейшем эта песня вошла в десятку самых коммерческих песен века.
(обратно)15
«Un Homme et une Femme» – песня из кинофильма «Мужчина и женщина» (режиссер Клод Лелуш).
(обратно)16
«Some Enchanted Evening» – песня из мюзикла 1949 года «Юг Тихого океана».
(обратно)17
«Оксфэм» (Oxfam) – международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах. Целью объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире. «Оксфэм» содержит большое количество магазинов по всему миру, которые осуществляют продажи, основываясь на принципах справедливой торговли и жертвовании товаров. Денежные поступления из таких магазинов используются на благотворительные дела и на другие программы «Оксфэма» по оказанию помощи во всем мире.
(обратно)18
Чарльз Тайзон Йеркс (Charles Tyson Yerkes; 25 июня 1837 – 29 декабря 1905) – американский финансист, сыгравший значительную роль в разработке системы общественного транспорта в Чикаго и Лондоне. История его жизни легла в основу «Трилогии желания» Теодора Драйзера (романы «Финансист», «Титан», «Стоик»).
(обратно)19
В оригинале cars, машины.
(обратно)20
Thelma Ursula Beatrice Eleanor – T.U.B.E., т. е. «труба», «подземка».
(обратно)21
Джон Реджинальд Халлидей Кристи (1899–1953) – британский серийный убийца. За убийства, совершенные Кристи, был повешен один невиновный человек.
(обратно)22
«Семтекс» – один из видов пластичной взрывчатки. До 1991 года, когда производитель начал помечать «Семтекс» высоколетучими веществами, его было трудно обнаружить портативными газоанализаторами.
(обратно)23
Луг Хэмпстед (местные называют его просто Луг) – самый крупный лондонский старый луг, покрывающий территорию в 790 акров. Считается одним из самых красивых мест Лондона.
(обратно)24
Church of St Mary Woolnoth in King William Street: wool в переводе с английского означает «шерсть».
(обратно)25
Треугольник Ганнерсбери – небольшой заповедный лес, в котором обитают разнообразные виды птиц, растений и прочей живности. Вход в заповедник свободный и расположен с южного конца улицы Болло-лейн, в нескольких метрах от станции метро «Чизуик-парк».
(обратно)26
«Человек, который смотрел, как проезжают поезда» – английский фильм 1953 года.
(обратно)27
Сэр Джеймс Голуэй, известный как «Человек с золотой флейтой», – британский флейтист североирландского происхождения, наиболее влиятельный флейтист нашего времени.
(обратно)28
Томас Аллен – английский оперный певец (баритон). Рыцарь Британской империи.
(обратно)29
Folie à deux (от фр. «сумасшествие на двоих») – редкий психический синдром, при котором симптомы психоза передаются от одного человека к другому.
(обратно)30
Макс Росталь – польско-британский скрипач, альтист, педагог.
(обратно)31
«Over the hills and far away» – английская народная песня XVII века.
(обратно)32
Mrs Doasyouwouldbedoneby, персонаж сказки Чарльза Кингсли «Дети воды».
(обратно)33
Дж. Конрад. «Тайный агент».
(обратно)34
Слова из гимна Исаака Уоттса, парафразирующего 90-й Псалом «Живый в помощь».
(обратно)35
Цит. по пер. Ю.М. Антоновского.
(обратно)36
Диазопленка применяется для микрофильмирования.
(обратно)37
U-bahn, от Untergrundbahn – название метрополитена в Германии.
(обратно)


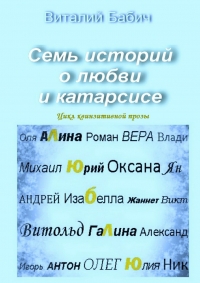




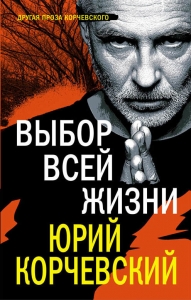



Комментарии к книге «Ковер царя Соломона», Рут Ренделл
Всего 0 комментариев