Маркус Зусак Против Рубена Волфа
Посвящается Скаут
1
Собака, на которую мы ставим, похожа, скорее, на крысу.
– Зато помчится пулей, – говорит Руб.
Весь из фланелевых улыбок и крученых кед. Сплюнет и улыбнется. Сплюнет. Улыбнется. Милейший он парень, без вопросов, мой брат. Рубен Волф. На дворе обычная зима тревоги нашей.
Мы сидим на нижнем ярусе пыльной открытой трибуны.
Мимо проходит девица.
«Боже мой», – думаю я.
– Боже мой, – говорит Руб, и вот она разница, как мы с ним смотрим на девчонку, томимся, дышим, существуем. Такие вот девчонки – не самые частые гости на собачьих бегах. Те, к которым мы тут привыкли, – или мышки, прикуривающие одну от другой, или кобылы, без конца жующие пирожки. Или шлюховатые с пивком. Однако та, на которую мы глядим, – редкая птица. Я б поставил на нее, если бы она могла участвовать в забеге. Великолепная.
Ну а так лишь тоска у меня от вида ног, которых мне не коснуться, или губ, которые мне не улыбнутся. Или бедер, которые не льнут ко мне. И сердец, что бьются не для меня.
Лезу в карман и вынимаю десятку. Пора переключиться. В смысле я люблю попялиться на девчонок, но это обязательно кончается расстройством. Если смотреть издалека, глаза щиплет. В общем, остается только спросить что-нибудь вроде «Ну так ставим мы, или как, Руб?», что я и делаю в этот тусклый день в этом шикарном и распутном городе, где живу.
– Руб?
Тишина.
– Руб?
Ветер. Катится пивная жестянка. Сзади курит и кашляет какой-то чувак.
– Руб, мы ставим или как?
Я шлепаю его.
Тыльной стороной ладони.
По руке, брата.
Он смотрит на меня и опять лыбится.
– Давай, – говорит он, и мы озираемся, кого бы попросить за нас поставить. Кому по возрасту уже можно. Найти всегда нетрудно. Какой-нибудь старикан с полуспущенными штанами обязательно согласится. Он даже может затребовать долю в выигрыше: ну в смысле, если собака, на которую ты ставишь, победит. Вот только он нас нипочем не найдет – хотя мы по-любому его не обманем. Таким старым «не-дай-бог-мне-до-такого-дойти» пьянчугам надо пособлять. Пару бумажек с выигрыша им не повредит. Фокус в том, чтобы выиграть хоть сколько-нибудь. Такого пока не бывало.
– Пошли.
Руб подымается, мы шагаем, а я еще вижу вдали ноги той девицы.
«Боже», – думаю я.
– Боже, – говорит Руб.
У окошек тотализатора нас ждет небольшое затруднение.
Копы.
«Какого хрена они сюда приперлись?» – думаю я.
– Какого хрена они сюда приперлись? – спрашивает Руб.
Вообще-то, меня копы не бесят. По правде сказать, мне их немного жаль. Эти шляпы. Вся эта дурацкая ковбойская снасть на поясе. И надо выглядеть одновременно суровым и дружелюбно-располагающим. И отпускать усы (хоть мужикам, хоть, случается, и теткам), типа они добавляют солидности. А все эти отжимания, подтягивания, приседания в полицейской академии, прежде чем выдадут лицензию на поедание пончиков. А сообщать людям, что кого-то из их семьи покалечило в дорожной аварии… И тут еще много чего можно вспомнить, так что я уж лучше помолчу.
– Глянь на того легавого с булкой.
Руб показывает. Его явно не волнует, что копы решили тут зависнуть. Ни капли. И вообще-то даже наоборот: Руб направляется прямиком к усатому копу, который жует булку с сосиской и соусом. Копов, вообще-то, двое. Один с сосиской, а второй – женщина. Брюнетка, волосы убраны под шляпу. (Только челка кокетливо падает на глаза.)
Мы подходим, и начинается.
Рубен Л. Волф:
– Как поживаете, констебль?
Коп с булкой:
– Я ничего, братан, а ты?
Руб:
– Нравится сосиска, а?
Коп, смачно откусывая:
– Еще, блин, как. А тебе чего, смотреть нравится?
Руб:
– А то. Почем они?
Коп, проглатывая:
– Бакс восемьдесят.
Руб, с улыбкой:
– Ну, вас ограбили.
Коп, откусывая:
– Я в курсе.
Руб, уже явно увлекшись игрой:
– Думаю, сосисочника надо за это свинтить, а?
Коп, с соусом на губе:
– А может, тебя свинтить?
Руб, жестом показывая копу, что тот испачкался:
– За что?
Коп, обнаруживая и вытирая соус на губе:
– За особо дерзкое умничанье.
Руб, в открытую почесывая яйца и бросая взгляд на напарницу копа:
– А ее вы где подцепили?
Коп, тоже увлекшись:
– В кафе.
Руб, бросая на нее новый взгляд и не прекращая чесаться:
– Почем?
Коп, приканчивая булку:
– Бакс шестьдесят.
Руб, перестав чесаться:
– Да вас ограбили.
Коп, опомнившись:
– Эй, ты смотри у меня.
Руб, одергивая затрепанную фланельку и штаны:
– А за соус накидывают? В смысле, у булки.
Коп, переступая с ноги на ногу, молчит.
Руб, подступая ближе:
– А?
Коп, не умея соврать:
– Двадцать центов.
Руб, остолбенело:
– Двадцать центов! За соус?
Коп, явно недовольный собой:
– Знаю-знаю.
Руб, искренне и всерьез или по крайней мере всерьез:
– Надо было не брать, из принципа. У вас что, нет силы воли?
Коп:
– Ты ищешь неприятностей?
Руб:
– Конечно, нет.
Коп:
– Уверен?
В этот момент мы смущенно переглядываемся с его напарницей-брюнеткой, и я представляю ее без формы. Лично я вижу ее в одном белье.
Руб, отвечая на вопрос:
– Да, сэр. Я уверен. Я не ищу никаких неприятностей. Мы просто гуляем с братом по городу в этот прекрасный серый денек, восхищаемся шустрыми животными, как они носятся по кругу. – Прямо мешок с подарками. Набитый мусором. – Это преступление?
Коп, теряя терпение:
– Тебе вообще что от нас надо?
Мы с напарницей переглядываемся. Вновь. На ней красивое белье. Я его представляю.
Руб:
– Ну, мы просто…
Коп, сердито:
– Просто что? Чего ты хочешь?
Напарница офигенно красивая. Звезда. Она лежит в ванне. В пене. Поднимается. Улыбается. Мне. Я дрожу.
Рубен, громко скалясь:
– Ну, мы думали, может вы за нас сделаете ставку…
Напарница, из ванны:
– Издеваешься?
Я, пробивая головой толщу воды:
– Ты, блин, шутишь, Руб?
Руб, резко:
– Меня зовут не Руб.
Я, возвращаясь в реальность:
– Ой, прости, Джеймс, онанист ты.
Коп, со смятым пакетом от сосиски в руке, изнутри все в соусе:
– Онанист – это как?
Руб, огорченно:
– Господи Иисусе, такое бывает? Можно быть таким тормозом?
Коп, заинтересованно:
– Кто это – онанист?
Напарница, пяти футов и девяти дюймов росту и, не меньше, я бы сказал, четырех раз в неделю бывающая в полицейском спортзале:
– Ты его видишь каждое утро в зеркале.
Она высокая, поджарая и классная. Подмигивает мне.
Я: немею.
Руб:
– Вот именно, милочка.
Напарница, неимоверно притягательная:
– Ты кого милочкой назвал, милый?
Руб, не отвечая и вновь обращаясь к дремучему «знать-не-знаю-кто-такой-онанист» копу:
– Так вы за нас поставите или нет?
Коп-онанист:
– Что?
Я как бы всем, но, в общем, себе под нос:
– Ну это, блин, прямо смех один.
Люди толкутся вокруг, спешат мимо – делать ставки.
Напарница, мне:
– Не хочешь меня лизнуть?
Я:
– Умираю, как.
Все это, ясно, моя фантазия.
Коп-онанист:
– Давай.
Руб, потрясенно:
– Что?
Коп-онанист:
– Ладно.
Руб, ошалело:
– Правда?
Коп-онанист, рисуясь:
– Ну да, я за всех ставлю, правда, Кэсси?
Стопроцентная женщина-коп явно не впечатлена:
– Как скажешь.
Я:
– А это разве этично?
Руб, недоуменно, мне:
– Ты что, альтернативно одаренный? – (Руб в последнее время надоело слово «больной на голову». Ему кажется, что новое выражение звучит изощреннее. Ну или как-то, в общем.)
Я:
– Не, я нет. Но…
Все трое, мне:
– Заткнись.
Гады.
Онанист:
– Номер собаки?
Руб, довольный собой:
– Три.
Онанист:
– Кличка?
Руб:
– Ты-Сволочь.
Онанист:
– Не понял?
Руб:
– Клянусь, не вру. Вот смотрите, в программке.
Мы все глядим в программку.
Я:
– Как это им разрешили такую кличку?
Руб:
– Просто сегодня здесь много любителей. Бежит все, что на четырех лапах. Прям удивляюсь, что пуделей не привели. – Руб бросает на меня серьезный взгляд. – Но наша псина еще как шпарит. Точно говорю.
Онанист:
– Это та, что на крысу больше смахивает?
Роскошная напарница:
– Но, они говорят, носится, как оглашенные.
Во всяком случае, пока коп-онанист берет наши деньги, удаляется, выбрасывает в урну пакет от сосиски и делает ставку, происходит следующее: Руб непрерывно лыбится сам себе, леди-полицейская стоит, положив руки на свои медовые бедра, а я, Кэмерон Волф, представляю, как занимаюсь с ней любовью – и не где-нибудь, а в кровати моей сестры.
Это ведь неприемлемо?
А вот.
Ничего не поделаешь.
Вернувшись, коп говорит:
– Я тоже поставил на него десятку.
– Не пожалеете, – Руб кивает ему, забирая билетик. А потом говорит: – Эй, а я на вас настучу – ставите в тотализаторе за малолетних. Это по-зор. (Сколько я знаю своего брата, он никогда не говорил просто «позор». Ему обязательно надо рвать на две части. «По» и «зор». «По-зор»).
– И что? – говорит коп. – И потом, кому ты собираешься рассказать?
– Копам, – отвечает Руб, и мы все, поухмылявшись немного, идем занимать места на трибуне.
Садимся, ждем начала забега.
– Ну смотрите, чтоб ваш Ты-Сволочь не оплошал, – объявляет коп, но его никто не слушает.
Воздух сгустился в студень, все тренеры, игроки, воры, букмекеры, толстяки, толстухи, безостановочные смолильщики, алкаши, продажные копы и малолетние завсегдатаи тотализатора – все ждут, и их рассыпавшиеся мысли сыплются к дорожке стадиона.
– И впрямь похож на крысу, – говорю я, глядя, как мимо нас по-хорячьи и щупленько трусит гончая, на которую мы поставили.
– И вообще, оглашенный – это как?
– Без понятия, – отвечает мне коп.
Руб:
– Да какая разница, главное быстро носятся.
– Ага.
Коп с Рубом теперь не разлей вода. Закадычные друганы. Один в форме, с темным ежиком волос. Второй в лохмотьях, воняет потом и одеколоном «Безымянный», со светло-русой волнистой, свисающей до плеч копной волос. У него глаза как затоптанное пламя, мокрый шмыгающий нос, а вместо ногтей – обгрызенные когти. Ни к чему пояснять, что второй – это мой брат. Волф, пес, полнейший.
Еще леди-полицейская.
Ну и я.
Исхожу слюной.
– Погнали!
Какой-то, не побоюсь этого слова, полудурок орет в динамики и пускается сыпать кличками собак с такой скоростью, что я едва разбираю слова. Там бегут Жвачка-на-Подметке, Словарь, Без-Добычи, Злюка и Просто-Пес, и все они впереди Ты-Сволочи, который взбрыкивает на ходу, будто крыса с мышеловкой на заднице.
Толпа вскакивает.
Орут.
Напарница восхитительна.
Кругом вопят.
– Давай, Главарь! Главарь!
Поправляют:
– Он Словарь!
– Чего?
– Словарь!
– А… Давай, Главарь!
– Ай, ладно!
Толпа бьет в ладоши и орет.
Роскошно, говорю вам. Роскошно она выглядит. Темноволосая.
Тут, наконец, наш крыс отделывается от мышеловки и немного нагоняет.
Руб и коп ликуют.
Они орут, едва не поют от восторга.
– Давай, Ты-Сволочь, жми, Ты-Сволочь!
Собаки, как одна, мчатся по дорожке за смешным механическим кроликом, а толпа на трибунах – чисто сбежавший каторжник.
Бегут.
Надеются.
Понимая, что мир настигает.
Цепляются.
Цепляются, спасаясь от смерти, за этот момент освобождения, настолько грустный, что он вечно ускользает. Это мираж чего-то настоящего внутри абсолютно явной пустоты.
Визжат.
– Вперед, Злюка!
– Рви, Без-добычи!
Руб и коп:
– Давай, Ты-Сволочь! Вперед!
И мы все наблюдаем, как наш крыс стрелой мчится по внешней дорожке, вырывается на первое место, но, оступившись, откатывается на четвертое.
– Ы-ы, сволочь!
Руб морщится и в этот раз использует это слово не как кличку, а собачка рвет жилы, пытаясь вновь выйти вперед.
Рвет.
Он хорошо бежит, наш Сволочь.
И приходит вторым, что дает Рубу повод, глянув на билетик, задать копу вопрос. Он спрашивает:
– Ты поставил на победу и место или вчистую?
По лицу копа нам ясно, что он поставил вчистую. Все или ничего.
– Ну, что, чувак, толку с тебя примерно никакого, так? – Руб смеется и хлопает копа по спине.
– Ага, – отвечает тот.
Он больше не онанист. Просто парень, который про все на свете забыл на несколько мгновений, пока свора собак мчалась по дорожке стадиона. Звать его Гэри – имя, в общем, дрищовское, но что нам за дело?..
Мы прощаемся, и я напоследок еще разок мечтаю о Кэссиполисменше и сравниваю ее с другими воображаемыми женщинами в своей развратной, по юности, душе.
Я думаю о ней всю дорогу до дому, где нас ждет обычный субботний вечер:
Сестра – за порог. Брат у себя, и там тихо. Отец с газетой. Миссис Волф, наша мамочка, – пораньше спать. Мы с Рубом – поболтать чуток через комнату и баиньки.
– Она мне понравилась, – говорю я на крыльце.
– Я знаю. – Руби отворяет входную дверь и лыбится.
– Эй, Руб, не спишь?
– А ты как думаешь? Я, блин, две минуты как залег.
– Да подольше.
– Ни фига.
– Фига, педик несчастный. И вообще – ты че, а? Ты че? Че те надо-то?
– Свет выруби, вот что.
– Обломись.
– Все честно – я пришел первым, да и ты к выключателю ближе.
– И че? Я старше. Ты должен уважать старших и выключишь свет сам.
– Че за фигня…
– Значит, пусть горит.
Свет горит еще десять минут, а потом – угадайте. Выключаю его, конечно, я.
– Чмо ты, – говорю я брату.
– Спасибо.
2
Часа в три ночи какой-то шум. Это Сара в ванной, рыгает. Я иду глянуть, как она там, и вот: обнимает унитаз, льнет к нему, жмется. Стекает в него.
Волосы у Сары густые, как у всей нашей семьи, у Волфов, я смотрю на нее, в глазах у меня жжется и чешется, я замечаю рвоту в жесткой пряди рассыпанных косм. Отрываю туалетную бумагу, выуживаю, потом вытираю остатки влажным полотенцем. Рвота воняет. Ненавижу запах блевотины.
– Па?
– Пап?
Она вскидывает голову.
– Пап, ты?
И тут моя сестра принимается рыдать. Подуспокоившись, тянет меня опуститься на колени и внимательно смотрит на меня. Ладони мне на плечи – и еле слышно воет. Воет так:
– Прости, пап. Прости, я…
– Это я, – говорю я ей, – Кэмерон.
– Не ври, – отвечает Сара, – не ври, папа.
И слюна капает ей на голое тело над красной майкой, прожигая сердце. Джинсы впиваются ей в бедра, разрезая плоть. Даже удивительно, что нет крови. И то же самое с туфлями. Они оставляют глубокие укусы на лодыжках. Моя сестра.
– Не ври, – еще раз говорит она, и я замолкаю.
Я больше не вру.
– Ладно, Сара, это я, папа, – говорю я. – Мы тебя отведем в постель.
И, к моему удивлению, Саре удается встать на ноги и доковылять до комнаты. Я снимаю с нее туфли: еще секунда, и они отрезали бы ей ступни.
Сара что-то бормочет.
Слова барахтаются у нее на языке, а я сижу на полу, привалившись к ее кровати.
– Так достало, – говорит Сара, – убиваться.
Бормочет и бормочет, пока наконец медленно не проваливается.
В сон.
«Сон, – думаю я. – Он ей поможет».
Последние слова Сары:
– Спасибо, па… В смысле спасибо, Кэм.
На этом ее рука бредет на мое плечо. И остается там. Я улыбаюсь: слабенько, как улыбается всякий, кто сидит и мерзнет, съежившись и скукожившись в комнате сестры, которая только что явилась домой с проспиртованными венами, костями и дыханием.
Сидя у Сариной кровати, я размышляю, что с ней происходит. Зачем она так себя истязает. «От одиночества? – спрашиваю я. – От тоски? От страха?» Славно было бы сказать, что я понял, но вышло бы неправильно. Конечно, потому что я просто не понимаю. Все равно что спросить, зачем мы с Рубом ходим на собачьи бега. Мы ходим не затем, что не приспособленные или не вписываемся, или как-то там еще. Так есть, и все. Мы ходим на бега. Сара надирается. У нее был парень, но больше нету.
«Хорош! – говорю я себе. – Завязывай про все это думать». Но почему-то не могу. Даже пытаясь думать о посторонних вещах, я все равно переползаю на мысли о других членах нашей семьи.
Отец – сантехник, с которым несколько месяцев назад произошел несчастный случай, и теперь прекратились все заказы. Конечно, страховку ему за увечье выплатили, но зато он теперь сидит без работы вообще.
Миссис Волф – убивается на уборке чужих домов, а еще нашла недавно работу в больнице.
Стив – работает и до смерти хочет съехать из дому.
Ну и мы с Рубом – малолетки.
– Кэм?
Голос Сары плывет ко мне на волнах бурбона, колы и еще какой-то смеси, затопляющих комнату.
– Кэм.
– Кэм'рон.
И сон.
И Руб.
Он входит и тихо бормочет:
– Ха!
– Можешь смыть в туалете? – спрашиваю я.
Руб смывает. Я слышу, вода вскипает и опадает, как вода в том дыхало[1] на южном побережье.
В шесть утра я поднимаюсь и иду в свою комнату.
Я мог бы, уходя, чмокнуть Сару в щеку, но нет. Вместо этого я пытаюсь пригладить свои вихры и в конце концов сдаюсь – им суждено торчать. Во все стороны.
Когда я встаю уже на самом деле, время около семи, я еще разок заглядываю к Саре, убедиться, что она не возомнила себя суперзвездой и не захлебнулась в собственной блевотине. Сара жива, но ее комната – это мрак. Воняет там:
Бухлом.
Куревом.
Похмельем.
И Сара лежит, облепленная этим всем.
Солнце бьет ей в окно.
Я выхожу.
За дверь.
Воскресенье.
Я завтракаю в трениках и футболке. И босиком. Досматриваю конец «Тусы» с завинченной громкостью. Потом начинается какая-то деловая передача, застегнутая в костюм с галстуком и фальшивым платочком в кармане.
– Кэм.
Это Стив.
– Стив.
Я киваю, и за целый день мы вряд ли скажем друг другу что-то еще. Называя друг друга по имени, мы с ним как бы здороваемся. Стив всегда уходит рано – и по воскресеньям тоже. Он здесь, но и не здесь. Отправится к друзьям или на рыбалку, или просто исчезнет. Захочет, так и из города уедет. На юг, где чистая вода, а прохожие с тобой здороваются. Не то чтобы Стиву нужно, чтобы здоровались. Он работает и ждет. Вот и все. Таков Стив. Он предлагает родителям деньги: за еду и сверх того, чтобы они немножко сводили концы с концами, но они не соглашаются.
Слишком гордые.
Слишком упрямые.
Отец говорит, что справится, что заказы вот-вот пойдут. Но «вот-вот», похоже, бесконечно. Оно тянется, не кончается, и мама убивается на двух работах.
– Спасибо.
День отлетает отзвуком, и это слово сказала мне Сара вечером, когда я наконец увидал ее вновь. Она вылезла в гостиную перед самым ужином.
– Серьезно, – добавляет она тихо, и в ее глазах что-то такое – приводит мне на ум «Старика и море», как там залатанный парус у старика выглядел будто флаг вечного поражения. Вот так же и Сарины глаза. Цвет беды душит ей зрачки, хотя ее кивок, улыбка и неуютная посадка на диване показывают, что она еще хорохорится. Она еще побарахтается, как и мы все.
Улыбайся упрямо.
Улыбайся на инстинкте, потом зализывай раны в самом темном из темных углов. Проследи линии шрамов до своих же пальцев и запомни их.
Руб появляется поздно, прямо перед Стивом.
Вот как семья Волфов выглядит за столом:
Наша мама: ест культурно.
Отец: отправляет в рот горелую сосиску, но чувствует только вкус безработицы. Лицо от лопнувшей трубы, что раздробила ему челюсть и распорола мясо, он залечил. Да, его ловко подлатали, во всяком случае с фасада.
Сара: старается все удержать внутри.
Я: наблюдаю за остальными.
Руб: заглатывает кусок за куском и чему-то улыбается, хотя и знает, что нам прямо сейчас предстоит кое-какая особо пакостная работенка.
И вытаскивает ее на свет отец.
– Ну? – говорит он, едва мы покончили с едой.
Смотрит на нас.
Что «Ну»?
– Что «Ну»? – спрашивает Руб, хотя мы оба знаем, что должны сейчас делать.
Штука в том, что у нас договор с соседом, что мы будем выгуливать его собачку вместо него два раза в неделю. По воскресеньям и средам. Тут надо сказать, что большинство соседей считают нас с Рубом какими-то хулиганами. И вот решили: мы, чтобы подольститься к Кейту, соседу слева (которому больше всех досаждаем), будем выгуливать его собачонку: у него самого не всегда хватает времени. Идея была, само собой, мамина, а мы покорились. Мы с Рубом, конечно, и такие, и сякие, но уж вряд ли вредные или ленивые.
В общем, строго по заведенному ритуалу, мы берем куртки и шагаем за дверь.
Засада в том, что собачка – козявка в космах по кличке Пушок. Пушок, Боже ты мой. Ну и кличка. Он шпиц, и гулять с ним – полное позорище. Так что мы ждем, пока стемнеет. Потом идем к соседям, где Руб тонюсеньким голоском зовет:
– Пушок, Пушо-ок! – Скалится. – Выйди к дяде Рубу.
И эта ходячая лохматая срамота скачками мчит к нам, будто клятая балерина. Уверяю вас: когда мы с ним гуляем и замечаем знакомого, сразу нахлобучиваем капюшоны и смотрим в другую сторону. Я к тому, что пацанам вроде нас далеко не все сходит с рук. Прогулка со шпицем, которого кличут Пушком, точно не сойдет. Вот представьте себе. Улица. Мусор. Машины. Люди орут друг на друга, перекрикивая телевизоры. Шатаются металлюги и шпана бандитского вида… и тут два юных дебила ведут на поводке комок шерсти.
И ничего не поделаешь.
Вот так.
Стыдоба.
– По-зорище, – говорит Руб.
Даже сегодня, хотя Пушок в хорошем настроении.
Пушок.
Пушок.
Я повторяю это про себя, и с каждым разом меня все больше разбирает смех. Сатанинский шпиц – собака из преисподней. Гляди, а то Пушок тебя утащит. Ну, нас он успешно утащил.
Мы идем.
Мы его выгуливаем.
Обсуждаем его.
– Рабы, вот мы кто, чувак, – таково заключение Руба. – Мы останавливаемся. Разглядываем пса. И дальше: – Ты погляди на нас. Ты, я и вот Пушок, и…
Он замолк, не договорив.
– Что?
– Ничего.
– Что?
Он легко сдается, потому что этого и хотел.
У калитки, когда мы уже возвращаемся домой, Руб говорит, глядя мне в глаза:
– Я сегодня разговаривал со своим друганом Джеффом, и он говорит, что про Сару болтают всякое.
– Что болтают?
– Что шляется. Напивается и шляется помаленьку.
То ли я слышу, что он сказал?
Шляется?
То.
Так он и сказал, и скоро эти слова перевернут жизнь моего брата. Они поставят его на боксерский ринг.
Они заставят кучу девчонок любоваться им.
Принесут ему успех.
Они и меня потянут за ним, и все это начнет раскручиваться с одного происшествия. С того случая, когда мой брат в школе вырубил на хрен чувака, который что-то вполне безобидное вякнул про Сару.
Ну, а пока-то мы стоим у своих ворот. Руб, Пушок и я.
– Мы волки, – его последняя реплика в разговоре. – А волки всяко выше на пищевой пирамиде. Они шпицев жрать должны, а не выгуливать.
И все же мы его выгуливаем.
Не соглашайтесь выгуливать соседских карманных собачек. Верьте моему слову.
Вы пожалеете.
– Эй, Руб.
– Ну что тебе? Свет-то выключен.
– Ты думаешь, это правда, что болтают?
– Думаю, правда что?
– Ну, ты понял – про Сару.
– Не знаю. Но если кто-нибудь хоть что-нибудь вякнет про нее, я его пришибу, я его убью.
– Правда?
– А то бы я стал трепаться?
Не сомневайтесь, он почти и убил.
3
Руб с кровавыми кулаками и сметающим взглядом мочит чувака, но сначала вот что.
Наш старик уже почти пять месяцев без работы. Я помню, что уже говорил, но сейчас нужно объяснить, как это все вышло. Случилось вот что: он работал в пригороде, в чьем-то доме, и кто-то раньше времени пустил воду под давлением. Труба лопнула, и отец словил град шрапнели. Взрыв прямо в лицо.
Разбитая голова.
Сломанная челюсть.
Швы, швы.
Скобки.
Конечно, он – как все отцы, мой батя. Мой старик.
Он справился.
Кремень.
Он как бы слегка садист. Ну в смысле, когда в настроении. Ну а так-то он обычный человек, парень с песьей фамилией, и я ему сейчас сочувствую. Он сейчас наполовину мужик: ведь, похоже, если ты не можешь работать, и все деньги в дом приносят жена и дети, ты превращаешься в полмужика. Так оно есть в жизни. Руки опускаются. Сердце бьется вяло.
Но тут я должен опять-таки сказать, что отец ни Стиву, ни даже Саре не позволяет ни за что платить. Только обычные взносы на еду. Но когда он говорит свое обычное: «Нет, нет, все нормально», – прямо видно, где он рвется пополам. Заметно глазом, как тень взрезает его плоть и хватает за горло душу. Я частенько вспоминаю, как мы работали по субботам. Он бранил меня и отчитывал, если я где-то портачил, но он и хвалил, если у меня выходило прилично. Немногословно, по делу.
Мы рабочие люди.
Работать.
Ныть.
Смеяться над собой.
Кроме Стива, у нас нет победителей. Мы просто бьемся.
Мы волки, то есть дикие псы, и таково наше место в жизни города. Мы люди невеликие, и дом у нас небольшой, на маленькой городской улочке. Нам видно город и железнодорожную линию, и они красивы особой опасной красотой. Опасной, потому что она поделена, разобрана и вызывает раздоры.
Точнее это выразить я не могу, и, думая об этом, когда прохожу мимо тесных домиков на нашей улице, я размышляю о том, что за истории происходят там внутри. Размышляю увлеченно, ведь крыши и стены у домов неспроста. Только про окна я не понимаю. Зачем придуманы окна? Чтобы мир мог кинуть взгляд в дом? Или чтобы мы смотрели наружу? Вот наш дом пусть невелик, но, когда твоего отца пожирает собственная тень, ты понимаешь, что, наверное, в каждом доме встает что-нибудь такое же свирепое и печальное, такое же прекрасное, – но мир ничего этого не видит.
Может быть, эти страницы, эти слова как раз для того, чтобы подозвать мир к окну.
– Ладно, – однажды вечером говорит мать.
Я слышу из кровати, что они с отцом говорят про оплату счетов. Я представляю, как они сидят за столом на кухне: в нашем доме кухня – это место многих битв, побед и поражений.
Отец отвечает:
– Не понимаю. Я привык, что у меня заказов на три месяца вперед, но после…
Голос обрывается.
Я представляю отцовские ступни, ноги в джинсах и шрам, косо рассекший скулу и щеку до самого горла. Пальцы мягко сплетены, сцеплены в один кулак на столе.
Отец уязвлен.
И он в отчаянии – и поэтому его следующий шаг вполне можно понять, пусть и не одобрить.
Идти по домам.
От двери – к следующей глухой двери.
– Рекламу в газетах я уже пробовал. – Его голос вновь раздается на кухне. Это следующая суббота. – Все пробовал, так что я решил пойти по домам и работать задешево. Ремонтировать, что понадобится.
Мать ставит перед ним щербатую кружку с кофе. И молча стоит рядом, а все мы, с Рубом и с Сарой смотрим на это.
А на следующие выходные дело совсем плохо, потому что мы с Рубом видим это своими глазами. Мы видим, как отец идет от чьих-то ворот, и по нему ясно, что он получил очередной отказ. Странно. Странно на него смотреть, ведь каких-то пару месяцев назад папаша был суровым и крутым и не давал нам малейшей поблажки. (Нет, он и сейчас не дает. Но чувство совсем другое, вот я о чем.) Безжалостно справедливым. Жестоким в суждениях. Слишком суровым, на нашу беду. У него были грязные руки, потные подмышки и деньги в кармане.
Мы стоим на улице, стараясь, чтобы отец нас не заметил, и Руб напоминает мне кое о чем.
– Помнишь, как мы были детями? – спрашивает он.
– Детьми.
– Не умничай, а?
– Ну.
Мы шагаем к заброшенному облезлому магазину на Элизбет-стрит, уже не первый год закрытому. Руб продолжает мысль. Небо опять серое, с голубыми дырами, простреленными в одеяле туч. Мы садимся у стены под забитым наглухо окном.
Руб говорит:
– Помню, когда мы были детьми, батя ставил новый забор, потому что старый уже совсем завалился. Мне было лет десять, тебе девять, и вот старик впахивал от рассвета до заката.
Руб подтягивает ноги к груди. Его подбородок покоится на джинсовых коленях, а голубые дыры в небе расползаются. Я смотрю сквозь них – на то, о чем говорит Руб.
Я помню то время довольно отчетливо – как под конец дня, когда солнце вплавлялось обратно в горизонт, отец повернулся к нам и сказал, показывая в ладони несколько гвоздей:
– Эти гвозди, ребятки, волшебные. Волшебные гвозди.
И назавтра, проснувшись от стука молотка, мы ему поверили. Мы поверили, что те гвозди были волшебными, а может, они и доныне такие, потому что теперь возвращают нас к тому стуку. К тому утреннему молоту. К отцу, каким он был: образ высокой, склоненной мощи, с суровой и упрямой улыбкой и жестко-курчавыми волосами. Плечи, легкая сутулость, засаленная рубаха. Глаза в вышине… В нем было довольство – веяло твердостью и правотой, которая усаживалась и махала молотком на пороге мандаринового неба или в постепенных сумерках легкого дождика, капли которого падали из облаков тончайшими щепочками. Он был нашим отцом, а не просто человеком.
– Он теперь какой-то слишком настоящий, – отвечаю я Рубу, – понимаешь?
Много ли еще скажешь, если только что видел, как человек топчется под чужими дверями.
Настоящий.
От этого не стоящий.
Полмужика, но.
Все равно человек.
– Вот скотина, – Руб смеется, и я тоже, и ничего логичнее не придумаешь вроде.
– Из-за него придется в школе ныкаться, слышь.
– Точно.
Вы поймите: мы знаем, что отец ходит по домам в нашем районе, а это значит, что народ в школе вот-вот начнет доставать нас шуточками. Они, конечно, все узнают, и нам с Рубом мало не покажется. Так уж оно устроено.
Отец, глухие двери, стыд, а Сара опять болтается где-то и приходит домой далеко за полночь.
Три вечера.
Три пьяных угара.
Два с блевом.
Тут-то все и стряслось.
В школе.
– Эй, Волф! Волф!
– Чего?
– Твой старик к нам приходил на выходных, просил работу. Маманя говорит, он такой бестолковый, что лучше к трубам близко не подпускать.
Руб смеется.
– Эй, Волф, если хочешь, могу твоего папашу взять газеты разносить. Карманные деньги появятся, слышь.
Руб улыбается.
– Эй, Волф, когда там твой старик пойдет на пособие?
Руб стоит и смотрит.
– Эй, Волф, тебе надо бросать школу и идти работать, пацан. Какие-никакие деньги в семью.
Руб стискивает зубы.
И тут.
Все и происходит.
Вот какая шуточка становится последней каплей:
– Эй, Волф, если ваша семья так нуждается, твоей сестре надо податься в путаны. Тем более она и так, я слыхал, потихоньку шляется…
Руб.
Руб.
– Руб! – заорав, я бросаюсь к нему. Но поздно. Слишком поздно: Руб уже его уделал.
Костяшки у Руба в крови – от зубов того парня. Кулак просто прошиб чувака насквозь. Первый удар – левой, но парень готов сразу, без шансов. Никто ничего не заметил. Никто ничего не понял, но Руб – вот он, стоит. Удары так и летят от его плеч в рожу тому чуваку. И, прилетая, они его рвут. Размазывают. У него подгибаются ноги. Он валится. Грохается на бетон.
Руб стоит и окидывает лежащего взглядом.
Я стою рядом.
Руб заговаривает:
– Как-то мне этот чувак не нравится. – Вздох. – Он не поднимется. Не бегом. – Руб еще медлит над избитым и напоследок заявляет: – Никто не скажет про мою сестру ни «проститутка», ни «шлюха», ни «путана», ни какое там еще слово.
Волосы у него ветром взметены вверх, а от лица отражается солнце. Его жесткий, мосластый костяк в секунду обрастает крепкой плотью, и Руб улыбается. Несколько человек видели, что сейчас произошло, и молва пойдет.
Появляются еще какие-то ребята.
– Кто? – спрашивают. – Рубен Волф? Да он же…
«Что он?» – мне вот интересно.
– И не хотел его так вырубить, – говорит Руб, посасывая разбитый кулак, – так славно обслужить…
Не знаю, как он, а мне сразу вспомнились все наши боксерские схватки на заднем дворе, когда у каждого по одной перчатке. (Так получается, если есть всего одна пара перчаток.)
Но в этот раз все по-другому.
В этот раз по-настоящему.
– На этот раз я стучал обеими.
Руб улыбается, и я понимаю, что мы подумали об одном и том же. Мне интересно, каково это – по-настоящему бить человека: бесповоротно решиться голым кулаком ткнуть кому-то в лицо, без шуток. Это не то что возиться с братом во дворе, забавы ради друг друга лупцевать, да в перчатках.
Вечером дома мы спрашиваем Сару, что вообще происходит.
Она говорит, что за последнее время совершила несколько глупостей.
Мы просим ее больше их не совершать.
Сара молчит, но кивает в ответ.
А мне все хочется спросить Руба, каково это было – без шуток размазать чувака, но я все не спрашиваю. Дрейфлю.
А еще, если вдруг вам интересно, в нашей комнате что-то завоняло. И что это, мы не знаем.
– Что это за хреновина? – вопрошает Руб. С угрозой в голосе. – Ноги твои?
– Нет.
– Носки?
– Ага, щас.
– Тапки? Трусы?
– Твои вопросы, – намекаю я.
– Ты не умничай давай.
– Ладно, ладно!
– А то отхватишь.
– Ладно, ладно.
– Мелкий у…
– Ладно, ладно!
– У вас вечно чем-нибудь воняет, – вмешивается отец, заглядывая к нам в комнату. Он удивленно качает головой, и мне кажется, что все у нас пойдет на лад. Ну хотя бы на половинный лад, уж точно.
– Эй, Руб.
– Разбудил, мерзавец.
– Извини.
– Да черта лысого.
– Ну и то правда. Так тебе и надо. Поделом.
– Ну что теперь-то надо?
– Слышишь их?
– Кого?
– Мать с батей. Они опять на кухне толкуют. Счета и все такое.
– Ага. Платить-то не очень выходит.
– Они…
– Да чтоб его! Откуда вонь? По-зор, слышь. Уверен, что не носки?
– Уверен, уверен.
Я замолкаю, перевожу дух.
Думаю вопрос и задаю его вслух. В конце концов.
– Клево тебе было, когда ты бил того пацана?
Руб:
– Ну, так-то да, но не особенно.
– А почему?
– Потому что… – Руб на мгновение задумывается. – Я знал, что урою его, и он меня нисколечко не волновал. А вот Сара волновала. – Я чувствую, что он смотрит в потолок. – Понимаешь, Кэмерон. В жизни меня не волнует ничего, кроме меня самого, тебя, мамы, отца, Стива и Сары. Ну, и, может, Пушка. Остальной мир для меня ничего не значит. Хоть он провались.
– А я такой же?
– Ты? Ни фига. – Узкий просвет в словах. – В этом твоя беда. Тебя все заботит.
Это правда.
Меня – да.
4
Мама варит гороховый суп. Его нам хватит где-то на неделю, и это неплохо. Я знаю еду и похуже.
– Знатный супец, – говорит ей Руб, заглотив свою порцию. Вечер среды. Вечер Пушка.
– Ну, там еще есть, – отвечает мама.
– Ага, – смеется Руб, но за столом как-то тихо.
Отец со Стивом только что спорили про пособие. Тишина коварная. Опасная, если вспомнить, что они друг другу сказали:
– Я не пойду.
– Почему?
– Это ниже моего достоинства.
– Да уж, блин. Ты лучше пойдешь по домам, как жалкий бойскаут, предлагать уборку пылесосом за полдоллара. – Стив буровит отца взглядом. – А счета-то неплохо бы оплачивать вовремя.
Вот тут-то отцовский кулак грохает об стол.
– Нет.
В общем, точка.
Видите ли, моего отца легко не согнуть. Если понадобится, он будет биться до смерти.
Стив пробует другую тактику.
– Мам?
– Нет.
Таков ее ответ, и теперь уже все решено.
Никаких касс.
Весь сказ.
Позже, когда мы ведем на прогулку Пушка, мне хочется обо всем этом высказаться, но наши с Рубом головы слишком заняты тем, как бы нас кто не заметил, и мы не разговариваем. И даже позже, в комнате, никаких разговоров. Мы оба спим как убитые и просыпаемся, не ведая, что на дворе – день Руба, день, который все изменит. Мгновенно и чудесно.
Все будет после школы.
Оно ждет.
У нашего дома, у калитки.
Какой-то резкий тип спрашивает нас:
– Зайдем поговорить?
Он привалился к калитке, ему невдомек, что она в любой момент может рассыпаться на части (хотя по его виду не сказать, чтобы это его хоть каплю заботило). Тип небрит и одет в джинсовую куртку. На руке наколка. Он снова вопрошает, на этот раз просто:
– Ну?
Мы с Рубом глядим.
На этого типа.
Друг на друга.
– Ну, для начала, – говорит Руб посреди ветреной улицы, – ты что за хрен?
– Ой, прошу прощения, – отвечает тип с сильным центровым акцентом, – я – тот, кто может преобразить твою жизнь или втоптать ее в грязь – если будешь умничать.
Мы решаем поговорить.
И думать нечего.
Тип продолжает:
– Ходят слухи, ты умеешь драться. – И кивает на Руба. – У меня есть источники, которым я доверяю, так вот они сообщают, ты кого-то здорово отделал.
– И?
Теперь к делу.
– И я предлагаю тебе драться у меня. Полсотни баксов за победу. А проиграл – зрители подкидывают, прилично.
– Давай-ка лучше зайдем.
Руб знает.
Это может быть интересно.
Дома никого, так что мы садимся на кухне, и я наливаю типу кофе, хотя он и сказал, что хочет пива. Даже если бы пиво у нас было, я бы не отдал его этому типу. Больно наглый. Больно резкий, а хуже всего – обаятельный, а с обаятельными всегда трудно иметь дело. Ну, понимаете, если чувак без вопросов гнусная личность, от такого легко отделаться. А вот когда он тебе поневоле нравится, тут уж трудно отбиваться. Где обаяние, там все может случиться. Смертельная комбинация.
– Перри Коул.
Так его зовут. Что-то знакомое, но я не вдаюсь.
– Рубен Волф, – представляется Руб. Показывает на меня: – Кэмерон Волф.
Мы оба жмем Перри Коулу руку.
На татухе у него ястреб. Оригинально, да.
Одного не отнять у этого типа – он без церемоний. Говорит с тобой и не боится наклониться поближе, даже если от кофе у него изо рта несет помойкой. И все выкладывает сразу. Это рассказ о регулярном насилии, подпольных боксерских матчах, полицейских облавах и всем, из чего складывается бизнес этого Перри.
– Гляди, – поясняет он таким плотным злым голосом, – я работаю в подпольном боксе. Всю зиму у нас каждое воскресенье проходят матчи, устраиваем в четырех местах по городу. Или на складе в Глибе, я сам там живу поблизости. Или на мясокомбинате в Марубре. Или на складе в Эшфилде, и еще есть довольно приличный ринг за городом, в Хеленсберге, у одного чувака на ферме. – Он говорит, а у самого слюни летят с языка и набираются в углах рта. – Как я говорил, если побеждаешь, получаешь пятьдесят долларов. Если проигрываешь, можешь рассчитывать на чаевые. Зрители кидают столько, что не поверишь. В смысле, казалось бы, можно придумать занятие получше на воскресный послеобед и вечер, но нет. Футбол и прочая эта шелуха у них уже в печенках сидит. Платят по пять баксов за вход и за вечер смотрят до шести поединков. Каждый по пять раундов, и бывают красивые бои. Сезон уже идет не первую неделю, но, думаю, найду для вас местечко… Если захотите пойти к какому другому парню, который тоже выставляет команду, условия будут те же. Если хорошо дерешься, с голоду не помрешь, а я с твоих кулаков разбогатею. Вот так. Идешь?
Руб сегодня не брился, он задумчиво скребет колючую щетину.
– Ну, а как, блин, я на все эти бои доберусь? Как выколупываться из Хелленсберга в воскресенье вечером?
– У меня микроавтобус. – Просто. – У меня микрач, туда я пихаю всех своих бойцов. Если тебя поломают, к доктору я не везу. Это не входит в контракт. А если убьют, хоронить тебя будут родные, не я.
– Ну, хорош нудить, – говорит Руб, и мы все смеемся, особенно Перри. Руб ему нравится. Это точно. Людям нравится, когда говоришь, что думаешь. – Если убьют… – передразнивает мой брат.
– Один чуть не того, – заверяет его Перри, – просто ночь была жарче обычного. Тепловой удар, хотя не сильный. Тяжеловес.
– О.
– Так что, – улыбается Перри, – идешь?
– Не знаю. Мне надо поговорить с менеджером.
– Кто твой менеджер? – Пери лыбится и кивает в мою сторону: – Не этот цветочек?
– Никакой он не цветочек. – Руб наставляет на него палец. – Он неженка. – Потом серьезно: – Вообще-то он, может, и тощеват, но, говорю тебе, держать удар умеет.
И я обалдеваю. Рубен Л. Волф, мой брат, заступается за меня.
– Правда?
– Правда… Хочешь, проверь. Мы пойдем во двор и поиграем в «один кулак». – Руб смотрит на меня. – Перелезем и заберем Пушка, чтоб не брехал. Ему нравится смотреть с нашего двора, так ведь?
– Он любит, да.
Мне остается лишь подтвердить. Старика Пушка сердит как раз то, что он по другую сторону изгороди. Ему надо быть рядом, чтобы хорошо видно. Тогда все в ажуре. Он или наблюдает с интересом, или ему становится скучно, и он засыпает.
– Что еще за Пушок? – спрашивает Перри оторопело.
– Увидишь.
Мы с Рубом и Перри встаем и идем на задний двор. Мы надеваем по перчатке, Руб лезет к соседям и через забор подает мне Пушка, и «один кулак» сейчас начнется. По лицу Перри я понимаю, что ему нравится.
У нас по одной боксерской перчатке, но шпиц Пушок требует внимания и поглажки. Мы наклоняемся и гладим шавку-малявку. Перри смотрит. По виду он из тех, кто одним пинком отправит собачку вроде Пушка отсюда на Луну. А оказывается, не такой.
– Псина – позорище, – объясняет ему Руб, – но мы должны за ним присматривать.
– Иди сюда, парень.
Перри протягивает руку Пушку понюхать и сразу нравится ему. Пушок садится рядом с Перри, а мы с Рубом тем временем начинаем нашу игру в «один кулак».
Перии доволен.
Он смеется.
Лыбится.
Смотрит с любопытством, как я первый раз лечу на землю.
И радостно треплет Пушка, когда второй.
Хлопает в ладоши, когда я крепко угощаю Руба в челюсть. Славно так втыкаю.
Минут через пятнадцать мы останавливаемся.
– Ну, говорил я тебе? – спрашивает Руб, и Перри кивает.
– Покажитесь нам еще немного, – спокойно распоряжается он, – только поменяйтесь перчатками.
Похоже, он напряженно думает. Потом наблюдает, как мы с Рубом вновь тузим друг друга.
С не той перчаткой труднее. Мы оба пропускаем больше ударов, но мало-помалу входим в ритм. Описываем круги. Руби выбрасывает кулак. Я подныриваю. Отскакиваю. Прохожу на ближнюю. Хлесь! Достаю в подбородок. И еще по ребрам. Он отвечает. Дыхание у него жесткое, его кулак обдирает мне скулу, потом попадает в горло.
– Прости.
– Норм.
Мы продолжаем.
Руб приваривает мне под ребра, вышибает дух. У меня вырывается беззвучный подвизг.
Руб стоит.
Я тоже, но сломавшись пополам.
– Прикончи его, – командует Перри.
Руб выполняет.
Первым, придя в себя, я вижу уткнувшуюся мне в лицо собачьежуткую морду Пушка. Потом я вижу Перри, он лыбится. Потом вижу Руба, он встревожен.
– Я нормально, – говорю ему.
– Молодец.
Они подымают меня, и мы возвращаемся на кухню, Руб с Перри садятся. Я валюсь на стул. Такое чувство, что сейчас отдам концы. По краям поля зрения какая-то зеленая кайма. В ушах шелест помех.
Перри показывает на холодильник.
– Точно пива нет?
– Ты что, алкаш, или кто?
– Просто люблю иногда хлопнуть пивка.
– Ну… – говорит Руб прямо, – у нас нет.
Ему слегка не по себе, что он меня вырубил, я вижу. Я вспоминаю, как он говорил: «В жизни меня не волнует ничего, кроме…»
Перри решает вернуться к делу.
Его слова как гром среди ясного неба.
Слова такие:
– Я бы взял вас обоих.
Руб удивленно сопит и трет нос.
Перри переводит взгляд на Руба и поясняет:
– Ты… – и лыбится. – Ты умеешь драться. Факт. – Потом смотрит на меня – А у тебя есть стержень… Глядите, о чем я еще не рассказал – чаевые. Люди бросают деньги тебе в угол, если видят, что у тебя есть стержень, а… Кэмерон, правильно?
– Угу.
– Вот, у тебя он железобетонный.
Силясь сдержаться, улыбаюсь. Горе с чуваками вроде этого Перри. Ты их ненавидишь, а все равно им улыбаешься.
– Ну и вот как все будет. – Он смотрит на Руба. – Ты будешь выигрывать бои и станешь звездой, потому что ты проворный, молодой, и у тебя корявый, но почему-то симпатичный череп.
Теперь и я смотрю на своего брата. Оглядываю его, и это все правда. Он хорош собой, но на странный манер. Какой-то внезапный, грубый, зазубренный. Какая-то пролетная красота, которая больше вокруг Руба, чем на нем. Скорее, ощущение, ореол, что ли.
Перри смотрит на меня.
– А ты? Тебе, скорее всего, придется огребать, но если драться будешь честно, не липнуть к канатам, то баксов до двадцати будешь собирать: публика увидит твой стержень.
– Спасибо.
– Не за что благодарить. Я говорю, как есть. – Дальше без обиняков: – Так соглашаетесь, нет?
– Не знаю, как вот с братом, – признается Руб осторожно, – он, конечно, держит удар у себя за домом, но это не то, что получать каждую неделю от какого-то чела, который хочет тебя убить.
– У него каждый раз будет новый противник.
– И что?
– Большинство там хорошие бойцы, но есть и полное ни рыба ни мясо. Просто сильно нуждаются в деньгах. – Перри жмет плечами. – Как знать. Малыш может и победить раз-другой.
– Какие другие опасности?
– Вообще?
– Угу.
– Вообще, такие, – он перечисляет, – крутые ребята смотрят матч, и, если ты сливаешь поединок, они могут тебя порешить. С этими ребятами приходят классные девчонки, и, если ты до них дотронешься, тебя могут порешить. В прошлом году копы чуть не накрыли старую фабрику в Петершэме, где мы проводили бои. Если они тебя поймают – порешат. Поэтому в такой ситуации – беги.
Перри ужасно доволен собой, особенно последним замечанием:
– Но самая страшная опасность – это кинуть меня. Если так сделаете, я вас порешу, а я – это хуже, чем все остальные вместе взятые.
– В общем, справедливо.
– Ну что, подумаешь?
– Да.
Ко мне:
– А ты?
– Я тоже.
– Лады. – Он встает и протягивает свой телефонный номер. Он записан на обрывке картона. – У вас четыре дня. Позвоните мне в понедельник вечером, ровно в семь. Я буду дома.
У Руба еще два вопроса.
Первый:
– Что если мы согласимся, а потом захотим уйти?
– До августа вы должны предупредить меня за две недели или найти кого-то себе на замену. Всё. Люди все время уходят – это жесткая игра. Я все понимаю. Предупреди за две недели или три серьезных имени тех, кто хорошо умеет драться. Таких везде полно. Незаменимых нет. Если дотянешь до августа, надо завершить сезон, остаться до сентября, когда полуфиналы пойдут. Гляди, у нас ведь жеребьевка, турнирная таблица, все дела. Бывают финалы и все такое, там растут ставки.
Второй вопрос:
– В какой весовой категории мы будем драться?
– Вы оба легковесы.
Это вызывает вопрос у меня.
– А придется нам драться друг с другом?
– Может, но вероятность слабая. Время от времени ребятам из одной команды приходится драться друг с другом. Такое случается. А что, у вас с этим сложности?
– Да, в общем, нет, – это говорит Руб.
– Тоже нет.
– А чего спросил тогда?
– Просто интересно.
– Остались вопросы?
Мы соображаем.
– Нет.
– Отлично.
Мы провожаем Перри Коула за дверь. На крыльце он нам напоминает:
– Не забудьте, четыре дня. В понедельник в семь вечера вы мне звоните: да или нет. Если вы не позвоните, я буду недоволен, – а вам не понравится, если я буду недоволен.
– Договорились.
Он уходит.
Мы смотрим, как он садится в машину. У него старый «холден», хорошо заделанный, и, наверное, стоит прилично. Поди, этот Перри купается в деньгах, раз у него и микроавтобус, и эта тачка. А деньги делаются на таких вот оторвах, как мы.
Вернувшись домой, мы занимаемся с Пушком, скармливаем ему сало из бекона. Ничего не говорим. Ничего. Что сейчас говорить? Пушок катается на спине, мы чешем ему пузо. Я иду в комнату с намерением выяснить окончательно, что же там воняет. Приятного будет мало.
– Нет, не сплю.
– Как ты догадался, что я спрошу?
– Ты всегда спрашиваешь.
– Я нашел, что воняло.
– И что?
– Помнишь тот мешок лука из лавки?
– Что? Который мои друганы сперли? На Рождество?
– Ага.
– Это ж, блин, полгода назад!
– Несколько штук, видно, укатились. Они были у меня под кроватью, в углу, дрянь и гниль.
– Мрак.
– Уж точно. Я их вынес в компостную кучу, к ограде.
– Хорошо придумал.
– Хотел тебе показать, но они так воняли, что я бегом с ними.
– Еще лучше… А я где был?
– У соседей, Пушка отводил.
– Вон оно что.
Смена темы.
– Ты думаешь, – спрашиваю я, – про этого чудика Перри?
– Ну.
– Думаешь, мы сможем?
– Трудно сказать.
– С виду оно…
– Что?
– Ну, не знаю… Страшновато.
– Но это шанс.
…Ага, но шанс на что, интересно. Нынче в нашей комнате как-то особо темно. Тяжко темно. Я вновь задумываюсь. Шанс на что?
5
Вечер пятницы, и мы смотрим «Колесо Фортуны». Обычно мы не особо пялимся в телек, потому что или деремся, или творим какие-нибудь глупости на заднем дворе, или околачиваемся перед домом. Ну и к тому же все равно хрень, которую там показывают, мы, по большей части, терпеть не можем. Есть только одна польза от нее: иногда за просмотром может прийти в голову какая-нибудь классная идея. Идеи, которые пришли нам в голову за просмотром телика до сего дня:
Ограбить зубную клинику.
Поставить журнальный столик в гостиной на диван, чтобы играть в футбол свернутыми носками.
Впервые пойти на собачьи бега.
Продать соседям за пятнадцать баксов Сарин сломанный фен.
Продать Рубов испорченный кассетник пареньку с нашей улицы.
Продать телик.
Ясно, не все из этих идей мы смогли воплотить.
У зубного была катастрофа (мы, естественно, сдали назад). Футбол носками закончился разбитой губой у Сары, проходившей через гостиную. (Клянусь, это был локоть Руба, не мой.) На собачьих бегах было весело (хотя мы и вернулись с них на двенадцать баксов беднее, чем уходили). Фен прилетел к нам через забор с прицепленной запиской: «Верните наши пятнадцать баксов, не то порвем, жулье паршивое». (Деньги мы вернули на следующий день.) Кассетник так и не нашелся (да и парнишка все равно изрядно прижимистый, не думаю, что удалось бы с него много получить). Наконец, последнее: продать телик нечего было и думать, даже при том, что я составил список из одиннадцати причин с ним распрощаться. (Причины такие:
Первое. В девяноста девяти процентах фильмов в конце побеждают хорошие, а это прямое вранье. Ну, то есть давайте признаем. В настоящей жизни побеждают гады. Им достаются все девчонки, все бабло и вообще все. Второе. Если постельная сцена, то все идет как по маслу, а на самом деле люди на экране должны быть перепуганы так же, как я. Третье. Тыщи реклам. Четвертое. Реклама всегда гораздо громче самой передачи. Пятое. От новостей всегда как-то погано. Шестое. По телику все люди красавцы и красавицы. Седьмое. Все самые лучшие сериалы закрываются. Например, «Северная сторона». Слышали? Нет? Именно – ее зарубили несколько лет назад. Восьмое. Все телеканалы принадлежат богачам. Девятое. Богачам принадлежат, кроме того, прекрасные женщины. Десятое. Сигнал у нас все равно что-то адское, потому как антенна плохо ловит. Одиннадцатое. Постоянно повторяют шоу под названием «Гладиаторы».)
Сейчас вопрос один: какая нынче идея? Но на самом деле, это скорее решение, которое надо было принять вчера вечером, как ясно из слов Руба. Он начинает с «Эй».
– Эй! – говорит он.
– Да?
– Твои какие соображения?
– О чем?
– Ты знаешь, о чем. Перри.
– Денег-то надо.
– Надо, да вот предки нипочем нам не разрешат платить по счетам.
– Ну да, но за себя-то мы сможем платить – покупать еду и вещи, тогда всего хватит на дольше.
– Да, наверное.
Потом Руб подводит итог.
Решено.
Сказано.
Конец.
Руб произносит:
– Мы пойдем.
– Лады.
Правда, мы знаем, что не будем платить за свою еду. Не. Не собираемся вообще. Мы идем на это по другой причине. По другой причине, которая вынуждает нас изнутри.
Теперь остается дождаться понедельника и позвонить Перри Коулу, но нам уже сейчас надо задуматься – обо всем. О кулаках других ребят. Об опасностях. И если узнают родители. И как выживать. Нам на ум пришел новый мир, и надо с ним как-то обращаться. Мы решили, и теперь не пристало удирать, поджав хвост. Мы решили перед теликом, а это значит: надо попробовать. Получится – ура. Пролетим – не привыкать.
Руб думает об этом, я вижу.
Сам же я стараюсь не думать.
Я стараюсь сосредоточиться на роскошных ногах дамочки в «Колесе». Вот она открывает буквы, и ног видно больше, и тут же она оборачивается и улыбается мне. У нее милая улыбка, и я на долю секунды забываю. Забываю о Перри Коуле и всех предстоящих тумаках. И от этого задаюсь вопросом: тратим ли мы большую часть своих дней, стараясь запомнить или стараясь забыть? Тратим ли свое время в основном на то, чтобы бежать навстречу своей жизни или прочь от нее? Не знаю.
– Ты за кого? – прерывает мои размышления Руб, уставившись на экран.
– Да не знаю.
– Ну?
– Ладно, давай. – Показываю пальцем. – Я за дурищу посередке.
– Это ведущая, придурок.
– Да? Тогда вон за ту беленькую с краю. Похоже, соображает.
– А я за чувака с другого краю. У него такой вид, будто только что смылся из Лонг-Бэя[2]. Костюмчик дичайший. По-зорник.
В конце концов выигрывает как раз чувак из Лонг-Бэя. Он заграбастывает пылесос и уже заполучил поездку на Великую Китайскую стену, еще вчера, судя по всему. Неплохо. Поездка, в смысле. В суперигре он чуть не выигрывает дурацкую кровать с дистанционным управлением. Вот честное слово, единственное, из-за чего мы смотрим, – это тетка, открывающая буквы. Мне нравятся ее ноги, и они нравятся Рубу.
Мы смотрим.
Мы забываем.
Мы знаем.
Мы знаем, что в понедельник будем звонить Перри Коулу: сказать, что согласны.
– Тогда надо бы начать тренироваться, – говорю я Рубу.
– Ясное дело.
Домой приходит мама. Где отец, мы не знаем.
Мама выносит пищеотходы в компостную кучу.
Вернувшись, она говорит:
– Под забором что-то прям воняет. Кто-нибудь из вас в курсе, что там?
Мы переглядываемся.
– Нет.
– Точно?
– Ну-у… – Я прогибаюсь под давлением. – Там несколько луковиц, которые валялись у нас в комнате, и мы про них забыли. Вот и все.
Мама не удивляется. Она вообще перестала удивляться. Думаю, она просто принимает нашу глупость как явление, на которое нельзя повлиять. Но она все же задает еще вопрос.
– Что они делали в вашей комнате?
Но она тут же уходит. Думаю, ей не очень-то хочется знать ответ.
Появляется отец, и мы не спрашиваем, где он был.
Заглядывает Стив и потрясает нас – удостаивает вопроса:
– Как дела, пацаны?
– Норм. У тебя?
– Все хорошо.
Хотя он по-прежнему смотрит на отца с презрением, досадуя, что тот не согласился на пособие, или на выплату трудоустраивающимся, или как там еще это называется. Стив по-быстрому переодевается и исчезает.
Приходит Сара с банановым мороженым в руке. Улыбается и дает нам с Рубом откусить. Мы не просим, но она знает и так. Она видит, как у нас шевелятся рыла на упоительную бледную снежность фруктового льда среди зимы.
На следующий день мы с Рубом начинаем тренироваться.
Встаем пораньше и отправляемся на пробежку. Будильник звенит еще в темноте, минуту-другую мы валяемся в постелях, но, вставши, уже не томимся. Мы бежим плечом к плечу, в трениках и старых фуфайках, а город бодрствует в морозной дымке, и наше сердцебиение катится вдоль улиц. Мы живые. Наши шаги аккуратно подворачиваются один за другим. Кудрявая шевелюра Руба сталкивается с солнечным светом. Между зданий свет ступает по нам. Нитки рельс свежи и хороши, а с травы в Белмор-парке еще не сбиты отзвуки росы. Руки у нас мерзнут. В венах у нас тепло. Наши глотки всасывают зимнее дыхание города, а я представляю людей в постелях, они еще смотрят сны. И это, по-моему, здорово. Здоровский город. Здоровский мир, и два волка бегут сквозь него, высматривая свежее мясо своих жизней. Гонятся за ним. Упорно гонятся, несмотря на страх перед ним. Все равно бегут.
– Руб, не спишь?
– Не.
– Блин, побаливает, слышь. Эти утренние пробежки не сахар для ножищ.
– Знаю – у меня тоже болят.
– Но это приятно.
– Да, очень.
– Похоже не знаю, на что. Будто у нас наконец что-то появилось. Что даст нам – не знаю… Вообще не знаю.
– Цель.
– Чего?
– Цель, – продолжает Руб, – у нас наконец-то есть причина быть. Причина выходить на улицу. Мы не болтаемся просто так.
– Точно. Вот именно так я и чувствую.
– Я знаю.
– Но, блин, ноет все адски.
– У меня тоже.
– Нуи мы все равно бегаем завтра утром?
– Без вопросов.
– Отлично.
И в темноте комнаты мои губы растягивает улыбка. Я ее чувствую.
6
– Черт бы драл!
Телефон отключен – у нас же нет денег за него платить. Вернее, у родителей нет денег. Стив или Сара могли бы заплатить, но ни в жисть. Не дозволено. Такое даже не обсуждается.
– Ну тогда с меня хватит, – взрывается Стив посреди кухни. – Я переезжаю. Как только смогу.
– Но тогда у них не будет твоих денег за харчи, – вмешивается Сара.
– Ну и что? Если они хотят страдать, пусть не у меня перед носом.
В принципе, справедливо.
Помимо того что справедливо, сегодня понедельник, уже вечер, и скоро семь. Это нехорошо. Совсем нехорошо. Очень нехорошо.
– Ой, нет, – обращаюсь я к Рубу. Он греет руки над тостером. Позвонить Перри из Сариной комнаты нам не светит. – Эй, Руб.
– Ну?
Его тост выскакивает.
– Телефон.
До него доходит.
– Как положено, блин, – говорит он, – этот дом вообще на что-нибудь годится?
Про тост забыто.
Идем к соседям, в кармане у Руба номер Перри Коула. Никого. Идем к другим. Та же история.
Тогда Руб бросается домой, стреляет сорок центов у Стива из бумажника, и мы выскакиваем за ворота. Без десяти семь.
– Знаешь, где тут будка? – Руб разговаривает на рысях. Мы пыхтим. Похоже на спринтерский забег.
– А то, – уверяю я его. Я знаю все телефоны в районе.
Вспоминаю один, и вот он – горбится в сумраке переулка.
Мы звоним минута в минуту в семь.
– Вы опоздали, – это первые слова Перри. – Не люблю, когда меня заставляют ждать.
– Не пыли, – останавливает его Руб, – у нас телефон отрубили, и мы чуть не три километра сюда бежали. К тому же на моих ровно семь.
– Ладно, ладно. Это ты так пыхтишь, что ли?
– Говорю же, бежали целых…
– Ладно. – К делу. – Вы согласны или нет?
Руб.
Я.
Пульс.
Дыхание.
Пульс.
Голос.
– Согласны.
– Оба?
Кивок.
– Ага, – подтверждает Руб, и мы чувствуем через телефонные провода, как Перри лыбится.
– Отлично, – говорит он, – тогда слушайте. Начинаете драться не в это воскресенье. Ваши первые схватки в Марубре, на следующей неделе. Но сперва надо кой-чего организовать. Ща скажу, что вам надо, а нам надо вас чуток раскрутить. Вам нужны имена. Вам нужны перчатки. Про это потолкуем. Приеду к вам или хотите встретиться в другом месте?
– На Центральном. – Предложение Руба. – У нас, наверное, старик будет дома, и это не с руки.
– Лады. На Центральном. Завтра в четыре. На Эдди-авеню.
– Забились. На дальнем конце?
– Давай. – Все оговорено. – Приветствую на борту. – Это последние слова – телефон смолкает. Мы в деле.
Мы в деле, и обратного хода нет.
Мы в деле, и обратного хода нет, потому что если мы отступимся сейчас, то окажемся, наверное, на дне бухты. Где-то под нефтяным пятном, в мусорных мешках. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но как тут знать? Кто знает, в какой злачный мир мы только что вступили? Мы знаем лишь, что здесь есть шанс поиметь денег, ну и, может, как-то добавить самоуважения.
На обратном пути я чувствую, будто город обволакивает нас. Адреналин еще бежит по венам. Искорки несутся до самых пальцев. Мы все так же бегаем по утрам, но город теперь иной. Он весь – надежда и колючки зимнего солнца. Вечером он как будто умирает, нацеливаясь на новое рождение утром. На пробежке я замечаю мертвого скворца. Он лежит в канаве рядом с пивной бутылкой. Ни в том, ни в другой не осталось души, и мы можем лишь молча протрусить мимо, глядя на прохожих, которые смотрят на нас, не замечая тех, кто не замечают нас; и Руб рычит на тех, кто пытается вытеснить нас с тротуара. Глаза у нас широко распахнуты и оправлены в пробужденность. Уши ловят каждый вскрытый звук. Мы обоняем соударение машин и людского потока. Людей и машин. Туда и обратно. Мы пробуем мгновение на вкус, глотаем его, постигаем. Чувствуем, как нервы подергиваются в животе и изнутри щекочут нам кожу.
На следующий день, когда утро прорезает горизонт, мы уже какое-то время бежим. За этим занятием Руб обсуждает со мной то-сё. Он хочет боксерскую грушу. Он хочет скакалку. Он хочет больше темпа и вторую пару перчаток, чтобы мы могли нормально тренироваться. Он хочет шлем, чтобы мы, тренируясь, не поубивали друг друга. Он хочет.
Хочет крепко.
Он бежит, и в ступнях у него намерение, в глазах – голод, а в голосе – стремление. Я еще не видел его таким. Чтобы он так свирепо хотел кем-то быть и драться за это.
Когда мы приходим домой, солнечный свет разбрызгивается по его лицу.
Как тогда. Разбивается об него.
Руб говорит:
– У нас получится, Кэм. – Он серьезен и суров. – Мы там будем и на этот раз выиграем. Мы не уйдем без победы.
Он наваливается на калитку. Наклоняется. Утыкается лицом в горизонтальную рейку. Пальцами за проволоку. И тут – до оторопи: он оборачивается и смотрит на меня, а в углу его глаза дрожит слеза. И стекает по щеке, а голос у Руба сдавленный от его жажды. Он говорит:
– Мы не можем дальше оставаться просто собой, такими. Мы должны вырасти. Быть больше… В смысле, вот посмотри на маму. Убивает себя. Батя не у дел. Стив вот-вот уедет и пропадет. Сару называют шлюхой. – Он крепче сжимает в кулаке жилы ограды и продолжает сквозь полустиснутые зубы. – Остались мы. Все просто. Надо подняться. Зауважать, блин, себя.
– А сможем? – спрашиваю я.
– Должны. Сможем. – Он выпрямляется и хватает меня за фуфайку, прямо где сердце. Говорит: – Я – Рубен Волф, – и говорит это твердо. Бросает слова мне в лицо: – А ты – Камерон Волф. Это должно что-то значить, пацан, пора уже. Это должно что-то значить для нас, пихать нас изнутри, заставлять нас, чтобы мы хотели кем-то быть под этими именами, не просто двумя какими-то ребятами, которые собой ничего не представляют, а лишь то, что скажут о них другие. Ни хрена! Мы вырвемся. Мы должны. Мы будем ползти и стонать, бить, грызть, лаять на любого, кто вздумает помешать или попытается загнать нас за флажки. Будем?
– Будем. – Я киваю.
– Отлично.
И, к моему смущению, Руб опирается на мое плечо локтем, и мы молча смотрим на утреннюю улицу, на черный свет и лоснящиеся машины. Я понимаю: все, что выпадет, мы будем принимать вместе, и на миг поражаюсь, что Руб-то повзрослел (хотя он всего на год меня старше). Поражаюсь, что он так сильно чего-то хочет и рвется. Его последняя реплика:
– Если мы не справимся, винить нам некого.
Скоро мы возвращаемся в дом, и оба понимаем, что Руб прав. Винить мы сможем только себя, потому что полагаться нам предстоит только на себя самих. Мы понимаем, и это знание все время будет шагать рядом с нами, на заре каждого дня, на окраинах каждого сердечного удара. Мы завтракаем, но не можем утолить голод. Он нарастает.
И он еще сильнее, когда в парке мы встречаемся, как договорились, с Перри. Четыре часа.
– Парни, – приветствует он нас на Авеню.
При нем какой-то чемоданчик.
– Перри.
– Здорово, Перри.
Мы находим скамейку ближе к середине парка. Она густо зашлепана голубями, так что сидеть на ней – хитрое занятие. И все-таки она почище других: птицы тут, похоже, считают скамейки общественными сортирами.
– Поглядите вокруг, – морщится Перри. Он из тех, кому нравится посидеть в загаженном парке за деловой беседой. – Позорище.
Меж тем, его гримаса уже превратилась в широкую улыбку. Улыбку злобного ехидства, дружелюбия и довольства, слитых в убийственную смесь. На нем фланелька, потертые джинсы, обшарпанные боты, и, конечно, эта его коварная ухмылка. Он ищет место на столе – пристроить чемоданчик, но решает поставить его на землю.
Повисает пауза.
К нам подходит какой-то старик стрельнуть мелочи.
Перри дает ему, но сперва кое-что спрашивает у бедолаги.
Он говорит:
– Чувак, а какая столица у Швейцарии, знаешь?
– Берн, – отвечает старик, подумав.
– Отлично. Так вот я что хочу сказать. – Перри опять улыбается. Черт бы драл эту улыбку. – В Швейцарии однажды собрали всех цыган, проституток и бродяг-алкашей вроде тебя и вышвырнули за границу. Избавились от всех грязных свиней, украшавших их чудесную страну.
– Ну?
– Ну и ты невероятно везучий бродяга-алкаш, а? Ты не только спокойно живешь на нашей прекрасной земле, ты еще и на жизнь себе собираешь с таких жалостливых, как я и мои коллеги.
– А они мне ничего не дали.
(Все бабки мы спустили накануне на собачьих бегах.)
– Конечно, но они и не швырнули тебя в Тихий океан, правда? – Перри скалится недобро. – Не бросили в воду и не скомандовали плыть. – И добавляет для верности: – Как должны были.
– Ты псих.
Бродяга подается прочь.
– Конечно, псих, – кричит ему вслед Перри, – я только что отдал тебе доллар из своих кровно заработанных.
«Да, точно, – думаю я. – Эти деньги он заработал на бойцах».
Дед уже пристает к следующим – ободранной парочке в черном и с фиолетовыми волосами. Лица у них повсюду прошиты сережками, на ногах «мартенсы».
– Он должен им отдать этот доллар, – комментирует Руб, и я смеюсь.
Руб точно заметил. И пока дед топчется возле парочки, я наблюдаю. Человек разменял свою жизнь на чужие медяки. Грустно.
Грустно, но Перри уже напрочь забыл о бродяге. Он получил удовольствие и теперь целиком сосредоточен на деле.
– Так. – Указывает на меня. – Сначала разберемся с тобой. Вот твои перчатки и трусы. Я думал про тапки, но обойдетесь. Никто из вас не заслуживает тапок, потому что я не знаю, сколько вы продержитесь. Позже, может, выдам, а пока, значит, ну, в своих кроссах.
– Ну, все по-честному.
Я забираю перчатки и трусы, и мне они нравятся.
Дешевые, но мне очень по душе. Кроваво-красные перчатки и темно-синие трусы.
– Теперь. – Он закуривает и вынимает из чемоданчика теплое пиво. Курево и пивные банки. Эта дрянь меня злит, но я слушаю. – Нужно придумать тебе имя, под каким тебя будут объявлять зрителям перед боем. Есть мысли?
– Человек-волк? – предлагает Руб.
Я качаю головой.
Думаю.
Вдруг осеняет.
Я улыбаюсь.
Я знаю. Киваю головой. Объявляю.
– Подпёсок.
Я все улыбаюсь, и Перри светлеет лицом, и я наблюдаю, как бродяги, и чудики, и городские голуби в борьбе за выживание обшаривают дно города.
Да, Перри за клубами дыма оживляется и говорит:
– Блеск. Мне нравится. За Подпёска все будут болеть. За него переживают, и даже если ты проиграешь, что-то тебе все равно набросают. – Смешок. – Не, просто блеск. Идеальное имя.
Но хватит терять время.
– Ты, – продолжает Перри. Опять указывает пальцем, теперь на Руба. – С тобой все улажено. Держи перчатки и трусы. – Серо-голубые перчатки. Дешевые. Без шнуровки. Точно как у меня. Трусы черные с золотой каемкой. Покрасивее моих. – Хочешь знать, какое имя будет у тебя?
– А я выбрать не могу?
– Нет.
– А почему?
– Все решено, вот почему. Не спорь, узнаешь, когда выйдешь драться, лады?
– Ну, наверное.
– Скажи «Да». – С нажимом.
– Да.
– И скажи спасибо, потому что, когда я тебя объявлю, тетки будут вокруг тебя в штабеля складываться.
Штабеля. Ну и остолоп.
Руб покоряется.
– Спасибо.
– То-то же.
Перри встает и идет прочь, чемоданчик в руке.
Оборачивается.
И говорит:
– Напоминаю, ребятки, первый бой в следующее воскресенье, в Марубре. Туда я вас отвезу на своем микраче. Будьте здесь же, на Эдди-авеню, ровно в три. Да чтоб я вас не ждал, не то меня там подожмет автобус, и я тогда подожму вас. Ясно?
Мы киваем.
Он уходит.
– Спасибо за снарягу, – кричу я, но Перри Коула уже нет.
Мы сидим.
Перчатки.
Трусы.
Парк.
Город.
Жажда.
Мы.
– Черт.
– Ты чего, Руб?
– Не могу успокоиться никак.
– Да что?
– Хотел спросить Перри, не может ли он пособить нам с грушей и еще кой-какими штуками для тренировок.
– Груша тебе не нужна.
– Как это?
– Ну я же есть.
– Хы.
– Ты не обязан был соглашаться.
– Я хотел.
Долгое молчание…
– Губ, ты боишься?
– Нет. Сначала боялся, теперь нет. А ты?
– Я – да.
Врать нет смысла. Мне страшно до чертиков. Жуть как страшно. Страшно до психушки. До смирительной рубашки. Да, по-моему, все в принципе решено.
Я боюсь.
7
Время пролетело, и вот воскресное утро. День боя, и мне до смерти хочется в туалет. Это нервное. Мы тренировались, как следует. Бег, отжимания, приседания, все, что надо. И даже прыгали, через поводок Пушка. Каждый день «один кулак», но и двурукие бои тоже – в новых перчатках. Руб постоянно уверяет меня, что мы в форме, но все равно мне нужно в туалет. Невтерпеж.
– Кто там? – я кричу через дверь. – Я не могу, слышишь?
Из-за двери грохочет голос.
– Я.
«Я» – как «отец». «Я» – как «батя». «Я» – то есть мужик, который, допустим, и сидит без работы, но все еще может отвесить нам хорошего пинка под зад, чтобы не умничали.
– Обожди две минуты.
Две минуты!
Как я эти две минуты выживу?
Когда он наконец выходит, мне кажется, я пулей залечу на толчок, но лишь ступив на порог, я замираю. «Почему?» – может, спросите вы, но, скажу вам, окажись вы в то утро поблизости от нашей ванной, вы бы почуяли самую страшную вонь, какую только случалось глотать в жизни. Смрад перекрученный. Злой. Да что там, просто бешеный.
Я вдыхаю, давлюсь, вдыхаю еще, разворачиваюсь и едва ли не бегу прочь. Теперь, однако, я ко всему прочему почти вою от смеха.
– Что такое? – спрашивает Руб, когда я вваливаюсь в комнату.
– Ой, чувак.
– Что?
– Идем, – зову я, и мы вместе топаем в туалет.
Вонь опять оглоушивает меня.
И наваливается на Руба.
– Йо-ома, – это все, что он может сказать.
– Кошмар, а? – спрашиваю я.
– Да уж, не очень-то весело, запашок какой, – соглашается Руб. – Что старик такое ест?
– Без понятия, – говорю я, – Но говорю тебе – эта вонь материальная.
– Еще какая. – Руб пятится от смрада. – Беспощадная, ну, жесть. Гремлин, чудище… – Он не может подобрать слово.
Я набираюсь храбрости и говорю:
– Иду туда.
– Зачем?
– Уже невтерпеж!
– Ладно, удачи.
– Она мне понадобится.
Но куда больше она мне понадобится потом, и на Эбби-авеню, пока ждем Перри, меня потряхивает. Пальцы страха и неуверенности скребут изнанку желудка. Мне кажется, что внутри я истекаю кровью, но все это, конечно, просто мандраж. А вот Руб сидит себе вытянув ноги. Руки спокойно лежат на бедрах. Лицо заливают волосы, рассыпанные ветром. На губах зарождается улыбочка. Рот открывается.
– Вон он, – говорит мой брат. – Пошли.
Подъезжает микроавтобус – реально здоровый. Фургон. Внутри уже сидят четверо. Мы забираемся через сдвижную дверь.
– Рад, что вы смогли прийти. – Перри скалится нам в зеркальце. Сегодня на нем пиджак. Кровавого цвета, лютый. Красиво.
– Мне пришлось отменить свою репетицию по скрипке, – говорит ему Руб, – но мы успели.
Он садится, и какой-то чувак, реальная будка, захлопывает сдвижную дверь. Его прозвище Бугай. Сухощавый рядом с ним – Лист. Жирноватый перец – Эрролл. Чувак без особенностей – Бен. Все старше нас. Грозные. Сучковатые. Обточенные кулаками.
– Руб и Кэмерон, – представляет нас Перри, тоже через зеркало.
– Привет.
Молчание.
Яростные глаза.
Сломанные носы.
Не все зубы.
В тревоге я смотрю на Руба. Он не отзывается, но сжимает кулак, как бы говоря: «Будь начеку!»
Текут минуты.
Молчаливые минуты. Начеку. Едем. Будто на иголках; думаю, как выжить, надеюсь, эта поездка никогда не кончится. Хорошо бы никогда не доехать…
Останавливаемся на задах скотобойни в Марубре, на улице холодно, ветрено, солоно.
Толчется народ.
Вокруг нас в рокотливом южном воздухе я чую свирепость. Она ножом врубается мне в нос, но не кровь хлещет с меня. Это хлещет страх. Он заливает мне губы. Я торопливо стираю его.
– Пошли. – Руб тянет меня за собой. – Сюда, малыш, или хочешь поиграть с местными?
– Нет уж.
Перри ведет нас через какую-то тесную комнатушку в холодильную камеру, где с потолка, будто мученики, свисает несколько мертвых замороженных свиней. Просто ужас. Я пару секунд не могу оторвать от них взгляд. Сгущающийся воздух и жуткий вид раскромсанного мяса ломятся мне в горло.
– Как «Бальбоа», – шепчу я Рубу, – висячее мясо[3].
– Ага, – отвечает он. Понимает, о чем я.
Я спрашиваю себя, что мы тут вообще делаем. Остальные ждут спокойно, даже сидя, кто-то курит, кто-то потягивает спиртное – успокоить нервы. Унять страх. Замедлить кулаки, но ускорить храбрость. Чувак-будка, Бугай, подмигивает мне, веселится от моего ужаса.
Сам он сидит как ни в чем не бывало, и его невозмутимый голос между делом течет ко мне.
– Первый бой самый трудный. – Улыбка. – Про победу не думай. Сначала выстоять, а там уже как получится. Смекаешь?
Я киваю, но отвечает ему Руб.
– Не переживай, друг, – говорит он, – мой брат умеет подниматься на ноги.
– Молодец, – это он искренне. Потом: – А сам?
– Я?
Руб улыбается. Он дерзкий, нахальный, будто ни капли не боится. Страха он точно не выкажет. Он говорит просто:
– Мне вставать не придется.
И вся штука в том, что он это точно знает. И Бугай знает. И я знаю. Это просто нюхом чувствуется, как у того парня в «Апокалипсисе сегодня», про которого все знали, что его не убьют. Он слишком любит войну и силу. Он не то что не боится смерти, он о ней вообще не помнит. И точно так же Руб. Он выйдет отсюда с полтинником и с усмешкой. Никак иначе. Нечего и говорить.
Заходят незнакомые люди.
– А у тебя новые ребята, а? – Какой-то мерзкий старикан лыбится Перри – улыбка у него, будто пятно какое. Он оглядывает нас и тычет пальцем. – У мелкого шансов нет, но пацан постарше, кажись, что надо. Чуток красавчик, может, но это ничего. Драться умеет?
– Умеет, – заверяет его Перри, – а у мелкого есть стержень.
– Хорошо. – По подбородку старика вверх-вниз ползает шрам. – Если он не устанет вставать, может, у нас тут будет бойня. Уж сколько недель не было бойни, – он говорит мне прямо в лицо, куражится. – Можем и подвесить его тут, со свиньями.
– Может, ты свалишь, дед? – Руб подходит к нему. – А то, гляди, тебя самого подвесим.
Дед.
Руб.
Они смотрят друг другу в лицо, и, клянусь, у старика руки чешутся размазать Руба по стенке, но что-то его останавливает. Вместо этого он делает краткое объявление.
– Правила вы, парни, знаете, – объявляет он, – пять раундов, или покуда один из вас не останется на полу. Толпа сегодня егозливая. Хотят крови, так что глядите. У меня тоже есть резкие ребята, ретивые, не хуже вашего. Увидимся там.
Едва он уходит, тут Перри и прижимает Руба к стене. И предупреждает:
– Еще раз так выступишь, и он тебя порешит. Сечешь?
– Ну.
– Скажи «Да».
Руб улыбается.
– Ну. – пожимает плечами. – Да.
Перри отпускает его и одергивает пиджак.
– Ладно.
Он ведет нас по коридору в следующую комнату. В приотворенную дверь мы видим толпу зрителей. Там человек триста, не меньше. Может, и больше, полон цех.
Пьют пиво.
Смолят.
Треплются.
Улыбаются.
Гогочут.
Кашляют.
Толпа дураков, молодых и старых. Серферы, футболисты, шпана с западных окраин, вот такое…
На них олимпийки и черные джинсы, толстые куртки, кое-кто – с девчонками или с женщинами, которые на них виснут. Эти девицы – безмозглые куры, иначе бы они сюда и на выстрел не подошли. Они все милашки, с гадкими зазывными улыбками, с разговорами, которых нам не слышно. Они вдыхают дым и выдувают его, а слова падают с губ и разбиваются об пол. Или, осыпавшись, еще минуту остывают, светясь, а потом на них кто-нибудь наступает.
Слова.
Всего-то слова.
Всего-то липко-блондинские слова, и, увидев ринг, залитый светом и пустой, я представляю, как эти женщины радуются, когда я валюсь на брезентовый пол, лицо разбито и в крови.
Да.
Они, думаю, будут радоваться.
С сигаретой в одной руке.
И с теплой потной ладонью бандита в другой.
Визг, светлые волосы, затопленные пивом рты.
Все это и кружащиеся стены.
Чего я больше всего и боюсь.
– Слышь, Руб, что мы тут вообще делаем?
– Заткнись.
– В голове не помещается, что мы в это впутались!
– Кончай шептать.
– Почему?
– Если не заткнешься, придется мне тебя и вырубить.
– Да ну?
– Ты мне на нервы действуешь, понял?
– Прости.
– Мы готовы к бою.
– Да?
– Да. Ты разве не чувствуешь?
Я спрашиваю себя.
Ты готов, Кэмерон?
Еще раз.
Ты готов, Кэмерон?
Время покажет.
Забавно, правда, как время столько всего делает? Петит, показывает, но хуже всего – истекает.
8
Я включаюсь от звука своего дыхания, что набегает в легкие. Только что вошел Перри и сказал. Пора.
– Ты первый, – говорит он.
Пора, а я все сижу на месте, не сняв старой, великоватой ветровки. (На Рубе заношенная куртка с капюшоном, со Стивова плеча.) Все одеревенело. Руки, пальцы, ступни. Пора.
Я поднимаюсь.
И жду.
Перри уходит обратно на ринг, и когда дверь откроется в следующий раз, туда пойду я. Времени на раздумья больше нет, дверь отворяется. Дверь открыта, и я делаю шаг на выход. Выход на.
Ринг.
Внутри меня дрожит агрессия. Меня окутывает страх. Ноги несут вперед.
И вот зрители.
Они ободряют меня, ведь я первым сегодня выхожу на ринг.
Оборачиваются, глядят на меня, в старой ветровке. Я прохожу сквозь них. Капюшон накинут. Зрители шумят. Хлопают, свистят, и это лишь начало. Воют, скандируют и на минуту забывают про пиво. Даже не чувствуют, как оно течет в глотку. Есть только я и бесспорная близость насилия. Я – вестник. Я – ступни и руки. Я несу им. Доставляю.
– ПОДПЁСОК!
Это Перри, на ринге, с микрофоном.
– Да, это Кэмерон Волф, Подпёсок! – кричит он в микрофон.
– Пособите пареньку – это наш самый юный боксер! Самый юный боец! Самый юный буян! Он будет стоять до конца, ребята, и поднимется на ноги, сколько придется!
Капюшон у меня все еще накинут, хотя никаких шнурков, и ничто вообще его не держит. Боксерские трусы сидят удобно. И кроссы ступают сквозь горячую густую толпу.
А она уже в ожидании.
В готовности.
В нетерпении.
На меня смотрят, оценивают, они все жесткие и злые – и вдруг почему-то уважительные.
– Подпёсок, – шелестит по толпе до самого ринга, пока я туда карабкаюсь. Позади меня Руб. Он будет в моем углу ринга, точно так же, как я буду в его.
– Дыши, – это я себе.
Смотрю.
Вокруг.
Шагаю.
От края ринга до края.
Приседаю.
В своем углу.
Руб полыхает мне взглядом. «Обязательно подымайся», – говорят его глаза, и я киваю и тут же вскакиваю на ноги. Скидываю ветровку. Кожа теплая. Волчьи патлы, как всегда, торчат, густые, клевые. Теперь я готов. Готов вставать, что б там ни было. Готов поверить, что не боюсь боли, жду ее и даже хочу ее так, что буду к ней рваться. Стремиться к ней. Нарываться на нее, бросаться на. Я встану перед ней в слепом ужасе, и пусть сбивает и сбивает меня с ног, пока моя храбрость не повиснет на мне лохмотьями. Потом боль сорвет ее с меня, поставит меня голого и снова будет бить, и кровь бойни полетит с губ, и боль выпьет ее, ощутит ее, украдет и спрячет в карманах своей утробы – попробует меня на вкус. Вновь и вновь будет подымать меня на ноги, и я не подам виду. Я не покажу, что чувствую ее. Не дождется. Нет, боли придется меня убить.
Вот чего я хочу сейчас, стоя посреди ринга и дожидаясь, пока дверь снова распахнется. Я хочу, чтобы боль убила меня, прежде чем я сдамся…
– А противник…
Я стою, уставившись в брезентовый пол.
– Вы знаете его!
Я закрываю глаза и опираюсь перчатками на канаты.
– Да! – объявляет тот самый мерзкий дед. – Это Коварный Карл Юингз! Коварный Карл! Коварный Карл!
Дверь распахивается пинком, и мой противник трусит сквозь публику, и толпа впадает в настоящее буйство. Громче в пять раз, чем когда вышел я, это сто процентов.
Коварный Карл.
– Смотри, да ему под тридцатник! – кричу я Рубу.
Он меня едва слышит.
– Да, – отвечает Руб, – зато какой-то недомерок.
И все равно, даже если так, он с виду выше, сильнее и проворнее меня. С виду он провел сотню боев и сломал пятьдесят носов. И вообще, в целом он выглядит крепким.
– Девятнадцать лет, – продолжает дед в микрофон, – двадцать восемь боев, двадцать четыре победы. – И вот гвоздь: – Двадцать две нокаутом.
– Иисусе.
Это слово произнес Руб, а Коварный Карл Юингз прыгает через канаты и кружит по рингу, будто выискивая, кого убить. И угадайте, кто оказывается к нему ближе всех. Понятно, это я, который повторяет про себя: «Двадцать две нокаутом. Двадцать две нокаутом». Мне крышка. Мне крышка – ясно как день.
Он подходит.
– Здоров, малый.
– Здорово, – отвечаю, хотя не уверен, что он этого ждет. Просто стараюсь быть дружелюбным, правда. Что тут дурного.
Как бы там ни было, похоже, у меня получилось: Карл улыбается. А потом заявляет с предельной ясностью.
– Я тебя прикончу, – говорит он.
– Ладно.
Это я сейчас сказал?
– Ты боишься. – Новое заявление.
– Как скажешь.
– Ага, скажу, чувак, особенно когда тебя отсюда потащат на носилках.
– Да ну?
– Не сомневайся.
Под конец он снова улыбается и уходит к себе в угол. Правду сказать, я уже не сомневаюсь, что он сделает из меня котлету. Коварный Карл. Конченный идиот, и я бы это ему сообщил, если бы не трясся так перед ним. И все, теперь только я, и страх, и поджатые шаги в центр ринга. Руб стоит позади.
Я вдруг чувствую себя голым – в этих своих синих трусах, кроссах и перчатках. Таким ледащим, нараспашку. И каждому виден мой страх. Теплая комната всасывается мне в спину. К коже липнет сигаретный дым. Он пахнет раковыми опухолями.
Прожекторы светят на нас.
Слепят.
Публика в темноте.
Ее спрятали.
От нее остались только голоса. Ни имен, ни блондинок, ни пивных банок, ничего. Только голоса, притягиваемые светом, и их не с чем сравнить. Это именно звуки толпы, собравшейся вокруг драки. Вот и все. Это именно такие звуки, и похожи они только на это.
Мы с Карлом оба потеем. Над его пристальным взглядом блестит вазелин, вгрызаясь мне в глаза. Я тут же понимаю, что Карл и вправду задумал меня прикончить.
– Боритесь честно, – напутствует рефери, лишь два слова.
И расходимся по углам.
Ноги у меня бесятся от предвкушения.
Сердце кувыркается.
Голова кивками отмечает два указания от Руба.
Первое:
– Не падай.
И второе:
– Упадешь – обязательно вставай.
– Ладно.
Ладно.
Ладно.
Ну и слово, а? Ну и слово, потому что не всякий раз веришь в него, когда произносишь. «Все уладится». Да, конечно, только нет. Все зависит строго от тебя самого, а в моем случае – от меня.
– Ладно, – повторяю я, теперь уже понимая всю иронию слова; бьет гонг, и вот оно.
«Вот оно? – спрашиваю я себя. – Уже? Правда?»
Ответ приходит не от меня, а от Коварного Карла, который предельно явно показывает свои намерения. Он подскакивает ко мне и выбрасывает вперед левую. Я подныриваю, разворачиваюсь и бегу из угла.
Он смеется и гонится за мной.
По кругу.
Нагоняет, я ныряю.
Он бьет боковой, не дотягивается, кричит, что я трушу.
Ближе к концу раунда его левая приходит в цель, сотрясая мне челюсть. И тут же правая, и еще раз. И гонг.
Первый раунд позади, а я не нанес ни одного удара.
У Руба есть что мне сказать.
– Даю подсказку, – говорит он, – невозможно победить, если не бьешь сам.
– Знаю.
– Ну?
– Что «ну»?
– Ну так попробуй бить.
– Конечно. – Хотя лично я рад уже тому, что целый раунд устоял на ногах. Я ликую, что еще держусь.
Второй раунд. Я все еще не бью, но на этот раз, в конце, я впечатываюсь в брезент, и толпа ревет. Карл стоит надо мной и зовет:
– Эй, пацан! Пацан!
Это все, что он говорит, а я встаю на колени, потом на ноги. Вскоре после этого – гонг. Все видят, что я трушу.
Теперь Руб напускается на меня.
– Если собираешься так и дальше, то какого хера вообще выходить?! Помнишь, что мы говорили в то утро? Это шанс. Наш единственный шанс, и ты его упустишь, потому что боишься чуток потерпеть! – На лице Руба оскал. Он рычит. – Если бы я дрался с этим парнем, я бы его вырубил в первом раунде, и ты это отлично понимаешь. А чтобы уделать тебя, мне надо двадцать минут, так что давай просыпайся и начинай шевелиться или иди домой!
Но я все равно не бью.
В публике раздается улюлюканье. Трусы никому не нравятся.
Раунды три и четыре – без ударов.
Наконец, последний, пятый, раунд.
Что происходит?
Я выхожу, сердце молотит, выламываясь из ребер. Ныряю, уклоняюсь, и Коварный Карл несколько раз крепко достает меня. Он все уговаривает меня не убегать, но я не слушаю. Я убегаю и так переживаю свой первый бой. Я проигрываю его, поскольку не нанес ни одного удара, и публика жаждет меня линчевать. Пока я иду с ринга, мне орут в лицо, плюют в меня, а один тип даже нехило врезает по ребрам. Поделом мне.
В раздевалке остальные ребята только качают головами.
Перри меня не замечает.
Руб не может себя заставить смотреть на меня.
Вместо этого он валтузит туши, подвешенные вокруг нас, а я снимаю перчатки, и мне стыдно. Перед Рубом еще один бой. Он злобно колотит туши и ждет, и мы знаем. Руб победит. Это просто видно по нему. Не знаю, откуда это в нем, – может, с той драки на школьном дворе. Не знаю, но прямо чую это носом, и вот уже второй бой окончен.
Перри командует: «Пора». Руб вмазывает последней свинье, мы идем к дверям. Как и в прошлый раз, ждем, и когда раздается голос Перри, Руб выскакивает за порог. Перри опять вопит:
– А теперь вы увидите такое, о чем будете вспоминать до конца своих дней! Будете хвастаться, что видели его! – Толпа затихает. В тишине Перри приглушает голос. Серьезный тон: – Вы еще скажете: «Я там был. Я был там в тот вечер, когда на ринг впервые вышел Рубен Волф. Я видел первый бой Рубаки Рубена Волфа». Так вы будете говорить.
Рубака Рубен Волф.
Вот, значит, имя.
Рубака Рубен Волф, и сейчас публика видит, как он идет к рингу, в куртке старшего брата. И зрители, как и все другие люди до сих пор, носом чуют. Уверенность.
Видят ее в глазах, что глядят из-под капюшона.
Походка у Руба не прыгучая и не нахальная.
Он не машет руками, изображая удары.
Но притом ни шагу не делает невпопад.
Не колеблется, не сомневается, прямой и твердый, готовый к бою.
– Надеюсь, ты получше братца, – выкрикивают из толпы.
Это меня ранит. Язвит.
– Я – да.
Но не так, как эти слова. Не так, как эти два слова из уст моего собственного брата, походя, не поморщившись.
– Сегодня я готов, – продолжает он, и я понимаю, что сейчас он беседует только с самим собой. Публика, Перри, я – мы все где-то там, фоном. Сейчас только Руб, схватка и победа. Никакого мира вокруг не существует.
Его противник, как заведено, выпрыгивает на ринг, но на этом всё. В первом раунде Руб два раза сшибает его с ног. Парня спасает гонг. В перерыве я лишь подаю брату воды, а он сидит, смотрит перед собой и ждет. Ждет боя с легкой улыбкой, будто именно здесь ему больше всего и хочется быть. Он едва заметно и часто-часто пружинит ногами. Еще-еще-еще, а потом вскакивает и идет, изготовив кулаки. Рубиться.
Второй раунд оказывается последним.
Руб мощно достает его правой. Просто вышибает легкие.
Потом под ребра.
Потом точно в шею. В плечо.
В руку.
Повсюду, где по правилам и открыто.
И наконец прямо в лицо. Три раза, пока изо рта у парня не брызжет кровь.
– Остановите, – Руб обращается к судье.
Толпа ревет.
– Остановите бой.
Но судья и не думает ничего останавливать, и Рубу приходится обрушить последний удар – в подбородок Умелого Уолтера Брайтона, и тот без чувств валится на брезент.
Кругом рев и буйство.
Бьются пивные стаканы.
Люди орут.
Новая капля крови падает на ковер.
Руб глядит.
И новый вопль делает круг по цеху.
– Ну, вот так, – говорит Руб, вернувшись в угол. – Я просил остановить бой, но, похоже, они любят кровь. За это, наверное, и платят.
Он спускается с ринга и немедленно окунается в обожание толпы. На него льют пиво, трясут руку в перчатке, орут, какой он молодец. Руб ни на что не отзывается.
В конце вечера мы все опять грузимся к Перри в фургон. Бугай победил после пяти раундов, но все остальные ребята проиграли, включая, естественно, меня. Обратный путь в тишине. Только двое сжимают в руке по пятидесятидолларовой банкноте.
У других в карманах какая-то мелочь, чаевые, которые им бросили в угол после боя. Ну, у всех то есть, кроме меня. Как я уже сказал, ясно, что трус никому не понравится.
Перри сначала довозит всех остальных, нас высаживает у Центрального вокзала.
– Эй, Руб, – окликает он.
– Да?
– А ты, парень, молоток, могешь. Увидимся через неделю.
– Время то же?
– Угу.
Перри, мне:
– Кэмерон, если ты в следующий раз устроишь то же, что сегодня, я тебя порешу.
Я:
– Ладно.
Сердце у меня падает до самых щиколоток, фургон отваливает, и мы с Рубом шагаем домой. Я пинаю свое сердце впереди себя. Хочется плакать, но я не плачу. Я хочу быть Рубом. Быть Рубакой Рубеном Волфом, а не Подпёском. Хочу быть своим братом.
Поезд проходит над нами, пока мы идем по тоннелю на Элизабет-стрит. Грохот оглушает, потом стихает.
Опять слышны наши шаги.
По другую сторону тоннеля, на улице, я снова чую запах страха. Улавливаю его в воздухе. Его легко почуять, и Руб, я вижу, тоже чует его. Но не знает его. Не ощущает.
Самое ужасное – понимать, что все изменилось. Ну вот мы с Рубом всегда держались вместе. Мы оба были никто. Оба отбросы. С обоих никакого толку.
А теперь Руб – победитель. Он как Стив, а я теперь сам по себе Волф. Подпёсок, одиночка.
Проходим к себе в калитку, и Руб треплет меня по плечу, два раза. Его былой гнев прошел – может быть, благодаря его собственной красивой победе. Мы собираемся с духом, готовясь к расспросам, почему мы так опоздали на ужин. Но расспросов нет, потому что у мамы вечерняя смена в больнице, а батя пошел прогуляться. Первым делом Руб на заднем дворе смывает кровь с перчаток.
Войдя в нашу комнату, он говорит:
– Поужинаем и поведем Пушка, ага?
– Угу.
Мои перчатки отправляются прямиком под кровать.
На них ни пятнышка. Чистые как стеклышко.
– Руб?
– Ну?
– Ты мне должен рассказать, как оно. Что чувствуешь, когда побеждаешь.
Тишина.
Молчание.
С кухни доносятся голоса матери и отца. Родители говорят со Стивом: его голос я тоже слышу. Сара, думаю, спит у себя в комнате.
– Что чувствуешь? – переспрашивает Руб, – Точно не знаю, но хотелось завыть.
9
– Возьми вон ту сумку, – говорит мне Стив.
Как и обещал, он переезжает. Все его вещи вынесены из подвала, он уходит из дому, поселится на квартире со своей девушкой. Думаю, квартиру он какое-то время поснимает, а потом, наверное, и купит. Стив у нас уже давно работает. У него хорошая работа, а недавно он поступил в университет на заочное. Хорошие костюмы. Неплохо, да? Всего несколько лет после школы. Он говорит, что должен съехать, раз мать с отцом стараются сами за все платить, и отец отказывается от пособия.
Стив не выпендривается.
Не бросает на свою комнату теплого ностальгического взгляда.
Только улыбается, обнимает мать, трясет руку отцу и шагает прочь.
На крыльце мать плачет, отец на прощанье подымает руку. Сара прижимает к груди последнее тепло объятия. Сын и брат уезжает. Мы с Рубом едем с ним, помочь выгрузить оставшиеся вещи. Квартира, где он будет жить, всего в километре от нас, но Стив говорит, что хочет перебраться подальше на юг.
– Куда-нибудь к Национальному парку.
– Хорошая мысль.
– Свежий воздух, пляжи.
– Да, классно.
Мы отъезжаем, и только я оглядываюсь на оставшуюся часть семьи Волфов на крыльце. Они будут провожать машину взглядом, пока та не исчезнет из виду. Потом, один за другим, вернутся в дом. За сетку. За деревянную дверь. За стены. В свой мир внутри большого мира.
– Пока, Стив, – прощаемся мы, затащив вещи.
– Я пока просто чуть дальше по улице, – говорит Стив, и я ищу в этом голосе хоть какое-то подобие одобрения. Ну чтобы как будто: «Все нормально, ребята. У нас все наладится. У всех нас». Однако в голосе Стива ничего такого нет. Мы все знаем, что у Стива все наладится. Для него в этом выражении иронии не припасено. У Стива всегда все будет ладно. Так уж заведено.
Мы не обнимаемся.
Стив жмет руку Рубу.
Стив жмет руку мне.
Его последние слова:
– Берегите маму, ладно?
– Ладно.
Домой мы возвращаемся бегом, в почти сумраке вторничного вечера. Рубу приходится меня дожидаться. Он меня подталкивает. Следующий бой околачивается где-то рядом, как вор, выжидающий момента украсть. Остается пять дней.
Каждую ночь он мне снится, следующий бой.
Еженощный кошмар.
Я потею.
Во сне я дерусь с Перри. Со Стивом и с Рубом.
И даже мама выходит и отделывает меня по полной. Но страннейшая вещь – каждый раз отец стоит в толпе и только смотрит. Ничего не говорит. Ничего не делает. Просто наблюдает течение событий или читает объявления в поисках неуловимой работы.
Субботней ночью я вообще почти не сплю.
В воскресенье весь день слоняюсь из угла в угол. Почти не ем.
Как неделю назад, Перри подбирает нас, но теперь мы едем в Глиб, в самый его конец.
Все как в тот раз.
Публика того же сорта.
Те же мужики, те же блондинки, тот же запах.
Тот же страх.
Склад старый и дряхлый, и раздевалка, где мы сидим, едва не рассыпается по кирпичику.
До того, как распахнуться двери, Руб напоминает мне:
– Запомни. Или противник тебя порешит, или Перри. На твоем месте я бы знал, что выбрать.
Я киваю.
Двери.
Уже открыты.
Перри опять выкликает и, глубоко вздохнув напоследок, я выхожу в зал. Противник ждет меня, но сегодня я на него даже не смотрю. Ну или не сразу. Пока судья не закончил предсхваточные наставления. Ни за что.
Первый раз вижу его, когда мы оказываемся лицом к лицу.
Он выше.
У него козлиная бородка.
Удары у него не быстрые, но тяжелые.
Я ныряю, ухожу и отступаю в сторону.
И всё, никакой тревоги.
Ни раздумий.
Я принимаю удар плечом и бью в ответ. Прохожу на ближнюю и коротким пытаюсь попасть в лицо. Но мимо. Пытаюсь еще. Мимо.
Его здоровенный кулачище, кажется, сначала встряхивает меня, а потом уж врезается мне в подбородок. Я отвечаю – по ребрам.
– Вот так, Кэм, – я слышу, кричит Руб, и когда раунд заканчивается, он улыбается мне.
– Раунд поровну, – говорит он, – ты спокойно можешь этого клоуна вырубить.
Руб даже смеется.
– Просто представь, что дерешься со мной.
– Хорошая мысль.
– Ты меня боишься?
– Чуток.
– Ну, в общем, мочи его все равно.
Он дает мне глотнуть воды, и я выхожу на второй раунд. В этот раз тактику меняет публика. Голоса толпы лезут сквозь канаты и окутывают меня. Когда я оказываюсь на полу, голоса потоком проливаются на меня, заставляя встать.
Третий раунд без событий. Мы сцепляемся и лупим друг друга по ребрам. Я разок крепко достаю его, но он смеется надо мной.
В четвертом он кое-что говорит в самом начале. Он говорит:
– Слышь, я вчера твою мамочку имел. Чмошная она. Грязная, слышь.
В этот-то момент я решаю, что должен победить. Мысленно увидел маму, миссис Волф, за работой. Усталую до смерти, но всю в работе. Ради нас. Я не теряю головы и не ярюсь, но пыла во мне прибавляется. Я терпеливее, и, улучив момент, три раза славно угощаю его в голову. Когда бьет гонг, заканчивая раунд, я не перестаю его молотить.
– Что на тебя нашло? – смеется Руб в нашем углу.
Я отвечаю.
– Проголодался.
– Молоток.
В пятом раунде я падаю дважды, а тот чувак, Громобой Джо Росс, один раз. Оба раза публика вынуждает меня встать, и когда звенит гонг и объявляют итог боя, мне хлопают, в мой угол летят монеты. Перри собирает.
Бой я проиграл, но дрался хорошо.
Не остался лежать на ковре.
Только это и было нужно.
– Держи. – В раздевалке Перри отдает мне все до цента. – Двадцать два восемьдесят. Хороший приз. Большинство бедолаг счастливы пятнадцатью-двадцатью.
– Он не бедолага.
Это голос Руба, который стоит позади меня.
– Как скажешь, – соглашается Перри (ему плевать, правда это или нет) и уходит.
Когда на ринг выходит Руб, зрители наготове. Не сводят с него глаз, следят за каждым движением, изучают каждую повадку, рассматривают все: похоже ли на то, что они о нем слышали. Слухи, будто Перри Коул обзавелся новым крутым бойцом, разошлись быстро, и всем хочется посмотреть на это чудо. Но с виду ничего особенного.
Руб начинает с мощного хука левой.
Противник падает на канаты, и Руб бьет без остановки. Месит его. Молотит. Кулаки врезаются парню в ребра. Апперкот за апперкотом. Уже на середине раунда все кончено.
– Вставай! – орет публика, но парень элементарно не в состоянии. Он двигаться-то едва способен.
Руб стоит.
Над ним.
Без улыбки.
Толпа видит кровь, чует ее. Все глядят в затоптанное пламя Рубовых глаз. Рубака Рубен Волф. На это имя они теперь будут ходить сюда еще и еще.
И вновь по дороге с ринга толпа сдавливает его.
Пьяные мужики.
Похотливые тетки.
Все трутся об него. Тянутся потрогать, а Руб идет себе. Прямо сквозь них, улыбаясь по обязанности и благодаря, но не теряя сосредоточенности в лице.
В раздевалке он говорит мне:
– Мы сегодня хорошо выступили, Кэм.
– Да, мы да.
Перри вручает ему полтинник.
– Победителю призовых не бывает, – говорит он, – так и так имеешь свои полсотни.
– Без вопросов.
Руб идет в туалет, и мы с Перри перекидываемся словом.
– Его любят, – говорит Перри, – как я и рассчитывал. – И, помолчав: – А знаешь, за что?
– Угу.
Я киваю.
Но он все равно объясняет.
– Он высокий, красавчик и умеет драться. А еще он голодный. Вот это им нравится больше всего. – Перри ухмыляется. – Телки в зале умоляют меня рассказать, где я его нашел. Они любят таких, как Руб.
– Ну, этого и следовало ожидать.
На улице, когда уезжаем, топчется какая-то блондиночка.
– Привет, Рубен. – Она на цыпочках бежит к нам. – Мне нравится, как ты дерешься.
Мы шагаем, она семенит рядом, ее плечо слегка касается плеча Руб. А я тем временем разглядываю ее. Всю целиком.
Глаза, ноги, волосы, шею, дыхание, брови, груди, лодыжки, молнию на куртке, блузку, пуговицы, сережки, руки, пальцы, ладони, сердце, рот, зубы и губы.
Она офигенная.
Офигенная, тупая и глупая.
В следующий миг я обалдеваю.
Обалдеваю от того, что мой брат останавливается, и они смотрят друг на друга. И тут же ее рот впивается в него. Она заглатывает его губы. Они приваливаются к стене. Девица, Руб, стена. Прижимаются друг к другу. Сливаются. Руб целует ее взасос довольно долго. Язык в ее рту, руки повсюду.
Потом отпускает ее и шагает к машине.
Бросая на ходу:
– Спасибо, милая.
– Слышь, Руб. Опять не спишь?
– Как обычно. Ты вообще можешь не трепаться по ночам?
– Сейчас не могу.
– Ну, сегодня у тебя, так-то, есть оправдание – ты по правде хорошо дрался.
– Где мы в следующий раз?
– Кажется, в Эшфилде, потом Хеленсберг.
– Руб?
– Ну что еще?
– Ты почему не занял комнату Стива?
– А ты почему?
– Почему Сара не заняла?
– По-моему, мать хочет сделать там что-то типа кабинета, чтоб заниматься бумагами и все такое. Ну, так она говорила, по крайней мере.
– Это было бы неправильно, я считаю, – говорю я.
Подвал – владения Стива, и всегда так и останется. Стив уехал, но в доме все остались на своих местах. Так нужно. Я чувствую это в пыльном ночном воздухе, чую на вкус.
У меня есть еще один вопрос.
Я его не задаю.
Не хватает смелости.
Про ту девицу.
Я думаю про нее, но не спрашиваю.
Есть вещи, о которых не спрашиваешь, так-то.
10
Мы тренируемся, и выступаем, и еще тренируемся, и у меня первая победа. Это происходит в Хелленсберге, где против меня – какой-то жлоб, который все время называет меня ковбоем.
– Все, что ты можешь, ковбой?
– Бьешь, как моя мамуля, ковбой.
Ну и в таком духе.
Я сбиваю его с ног один раз в третьем раунде и два раза в пятом. Побеждаю по очкам. Полсотни баксов, но гораздо важнее – победа. Подпёсок почуял ее запах. Это – бесподобное чувство, особенно когда после боя Руб улыбается мне, а я – ему.
– Я тобой горжусь.
Это он говорит потом, в раздевалке, и тут же снова уходит в себя.
Позже мне становится за него тревожно.
Он… Не знаю, как сказать.
Я замечаю в своем брате какую-то волевую перемену. Он стал жестче. В нем как будто появился переключатель, и перед выходом на ринг он поворачивает его и перестает быть моим братом Рубом. Превращается в машину. Это Стив, но иной. Злее. Стив – победитель, потому что он таким был всегда. Руб – победитель оттого, что решил вышибить из себя неудачника. Стив знает, что он победитель, но Руб, мне кажется, еще только доказывает это себе. Он неукротимее, свирепее, он готов до последнего крушить кулаками собственную неудачливость.
Он Рубака Рубен Волф.
Или он на самом деле рубится против Рубена Волфа?
В душе.
Утверждает себя.
Перед собой.
Я не знаю.
Это в обоих глазах.
Вопрос.
В каждом вдохе.
Кто с кем рубится?
В каждой надежде.
Сегодня на ринге он рвет соперника в клочья. С самого начала боя на ринге будто бы один Руб. У Руба есть что-то такое против них всех. Его жажда сурова, а кулаки быстры. В этом бою всякий раз, как противник оказывается на полу, Руб стоит над ним и призывает:
– Вставай.
И опять.
– Вставай.
На третий раз тот уже не может встать.
И Руб орет на него.
– Вставай, пацан!
Он тузит кулаками свой угловой мешок и еще пинает разок, уходя с ринга.
В раздевалке он не смотрит на меня. Произносит слова, не обращенные ни к кому. Он говорит:
– Еще один, слышь. Два раунда и он всё, на полу.
Он еще больше нравится женщинам.
Я вижу, как они наблюдают за ним.
Молодые, уличные, смазливые. Им нравятся суровые парни, и плевать, что суровые парни такого плана вряд ли будут обращаться с ними ласково. Думаю, среди женщин многие тоже просто люди. Иногда они оказываются так же глупы, как и мы. Кажется, они симпатизируют негодяям.
«Не негодяй ли Руб?» – спрашиваю я себя.
Хороший вопрос.
Он мой брат.
Может быть, это все, что я о нем знаю.
Мимо нас текут недели, он дерется, побеждает и не морочится с бритьем. Руб выходит и побеждает. Выходит и побеждает. И только улыбается, когда хорошо дерусь я.
В школе на него теперь смотрят иначе. О нем знают. Его узнают. Известно, что он крутой, все что-то слышали. Все в курсе, что он выступает на подпольном ринге, хотя никто не знает этого про меня. Оно и к лучшему, по-моему. Если б кто из школы увидал, как я дерусь, он бы только посмеялся. Я был бы прицепом к Рубу. Говорили бы: «Сходи посмотри, слышь, как эти Волфы дерутся. Младший – как его зовут-то? – клоун, но Рубен хлещется как сумасшедший».
– Да это всё слухи, – так Руб отвечает на расспросы. – Нигде я не боксуюсь, кроме как у себя во дворе. – Он ловко врет. – Глянь, вон у моего брата фингалы. Мы дома постоянно махаемся, вот и все. Только так.
Как-то в субботу утром, особенно холодным, но ясным, мы отправляемся на пробежку. Солнце только показалось над горизонтом, и на улице мы замечаем каких-то ребят, которые возвращаются домой. Гуляли всю ночь.
– Эй, Руби, – орет один из них.
Это старинный Рубов дружок по имени Сыр. (Ну, по крайней мере, прозвище у него такое. Думаю, настоящего имени его никто и не знает.) Сыр стоит на аллее, ведущей к Центральному вокзалу, с огромной тыквой подмышкой.
– Привет, Сырчо. – Руб поднимает голову. Мы подходим к ребятам. – Как поживаешь, чем занимаешься?
– Да как-то ничем. Просто живу в пьяном тумане, ну. Я как школу бросил, так только работаю и пью.
– Да?
– Оно клево, друган.
– Тебе нравится?
– Тащусь каждую минуту.
– Во, такое я рад слышать. – На самом деле брату все равно. Он скребет свою двухдневную щетину. – А че это за тыква у вас?
– Болтают, ты вроде как боксер.
– Да не, разве что во дворе. – Руб что-то вспоминает. – Уж кто-кто, а ты должен знать.
– Да конечно, друган.
Сыр, случалось, бывал у нас, когда мы доставали свои перчатки. Он вспоминает про тыкву, что у него подмышкой. Подымает ее, суя обратно в разговор.
– Вот нашел на аллее, хотим поиграть ей в футбол.
К нам подходят его дружки.
– Здесь, что ли, Сыр? – спрашивают они.
– Ну да.
И он крепким пинком отправляет тыкву по аллее. Кто-то бросается следом и бежит обратно с тыквой.
– Хватай его! – вопит другой, и игра началась. Моментом делимся на команды, парня с тыквой валят, и ее обломки летят по всей аллее.
– Руб!
Я прошу пас. Он бросает мне.
Я роняю.
– Ну, балбес безрукий!
Сыр хохочет. Разве кто-то еще употребляет это слово? Его деды еще говорили. Ну, как бы оно ни было, я заглаживаю промах, повалив захватом следующего игрока на бетон.
Мимо идет нищенка, выискивая чего-нибудь на завтрак.
Потом несколько парочек обходят нас стороной.
Тыква уже пополам. Мы продолжаем играть одной половиной, а вторая – брызгами на стене рядом с банкоматом.
Руба роняют.
Меня роняют.
Все валяются, и вокруг нас стоит плотный угар из пота, сырой тыквы и пивных паров.
– Чуваки, от вас воняет, – говорит Руб Сыру.
– Вот спасибо-то, – отвечает Сыр.
Мы играем, пока от тыквы не остается кусок размером с мяч для гольфа. Тут-то и появляются копы.
Они идут по аллее, мужик и тетка, улыбаются.
– Ребята, – обращается к нам мужик, – как дела?
– Онанист Гэри! – восклицает Руб. – Ты что здесь делаешь?
Да, вы верно угадали. Эти копы – наши добрые знакомцы с собачьих бегов. Гэри, коррумпированный податель ставок, и Кэсси, роскошная брюнетка, сногсшибательная напарница.
– А-а, ты! – Коп смеется. – На бега захаживаешь?
– Не, – отвечает Руб, – некогда последнее время.
Кэсси пихает Гэри в бок.
Тот умолкает.
Вспоминает.
Обязанности.
– Ладно, парни, – начинает он, и мы все знаем, что услышим дальше, – вы ж понимаете, так не годится. Тут все тыквой устряпано, и когда солнце пригреет, она завоняет, как боты моего папаши.
Молчание.
Потом несколько «ага».
«Ага» то, «ага» это и «ага, ну да, правда».
Но никто не внимает, на самом-то деле.
Всем до лампочки.
Я ошибся.
Я ошибся, потому что вдруг выступаю вперед со словами:
– Ладно, Гэри, я понял, о чем ты, – и начинаю собирать обломки тыквы. Ни слова ни говоря, Руб присоединяется. Остальные, бухие, только смотрят. Немного помогает Сыр, другие стоят столбом. Они слишком обалдели. Слишком пьяны. Слишком запыхались. Слишком тормозные.
– Спасибо, – говорят Гэри и Кэсси, когда мы заканчиваем, а наши пьяные друзья отправляются своей дорогой.
– Пожалуй, я бы кое-кого из этих ребят отметелил, – замечает Руб. Фраза небрежная, но злая. То есть он бы так и сделал, если бы копы хоть на минуту отвернулись.
Гэри смотрит на него.
Смотрит долго.
Замечает.
И говорит вслух.
– Ты изменился, приятель. Что случилось?
– Не знаю, – это все, что отвечает Руб.
И я не знаю.
Это мой разговор с самим собой, на Центральном вокзале. Он происходит у меня в голове, пока Гэри с Рубом перекидываются еще парой фраз.
Разговор такой:
– Эй, Кэмерон.
– Что?
– Почему он тебя вдруг так напугал?
– Он стал какой-то свирепый и даже если рассмеется или улыбнется, то сразу же перестает и снова уходит в себя.
– Может, он просто хочет быть кем-то.
– А может, хочет кого-нибудь убить.
– Не дури, что за ерунда.
– Ладно.
– Может, ему до смерти надоело быть пустым местом, и совсем не хочется снова им оказаться.
– Или это он сам боится.
– Может.
– Но боится чего?
– Не знаю. Чего может бояться победитель? Поражения?
– Нет, не все так просто. Могу сказать тебе…
– А Кэсси все равно шикарная, правда?
– Ну еще бы…
– Но чего боится-то?
– Сказал же. Не знаю.
11
Я знаю только, что сам боюсь как-то по-новому.
Знаете, как собаки скулят, когда им страшно, например, перед ураганом? Вот, и мне впору так же. Хочется спрашивать кого-нибудь, от отчаяния.
Когда это так стало?
Как оно вышло?
Почему Руб изменился так быстро?
Почему я не рад за него?
Почему эта перемена меня пугает?
И почему не понять толком, в чем именно эта перемена?
Эти вопросы качаются сквозь меня, с каждым разом понемногу разъедая изнутри. Они качаются сквозь меня несколько следующих боев Руба. Сплошь нокауты. Они качаются сквозь меня всякий раз, когда Руб стоит над противником, призывая его подняться, и когда публика тянется потрогать его, урвать клочок его великолепия. Я задаю все эти вопросы в раздевалке, вдыхая запахи линимента, перчаток и пота. Задаю, видя Руба в следующий раз на задворках бойни в Марубре с девятнадцатилетней студенткой универа, пока он не уходит прочь (даже не обернувшись). В следующий раз – другая девушка. Потом еще одна. Я спрашиваю и дома за ужином, где мать разливает суп, Сара скромно ест, а отец вместе с супом поглощает свою безнадежность. Кладет в рот. Жует. Чует на вкус. Глотает. Переваривает. Привыкает к ней. Я спрашиваю, когда мы с Сарой сдираем белье с веревки («Вот зараза! – орет она. – Дождь! Эй, Кэм! Помоги белье снять!» Так клево – мы вдвоем мчимся во двор и срываем белье с веревки, и нам все равно, если оно раздерется на лоскуты, лишь бы, блин, осталось сухим.) Я спрашиваю, даже нюхая собственные носки, чтобы понять, можно ли их надеть еще разок или надо постирать при следующем походе в душ. Я спрашиваю, приходя в гости к Стиву на его новую квартиру, где он угощает меня черным кофе и молчаливым дружеским разговором.
Наконец появляется человек, который мне немного помогает.
Это миссис Волф, у которой, к счастью, тоже появились вопросы. Лучше всего в этой ситуации вот что: может, матери удастся что-то вытянуть из Руба, и это поможет мне лучше его понять. Кроме того, она выбрала день, когда я выиграл бой, а от фингалов не осталось и следа.
Это вечер среды, и мы с Рубом сидим на крыльце, треплем Пушка после прогулки. Неудивительно, что пес упивается вниманием на старом шезлонге. Он переворачивается на живот, мы с Руб гладим его и ржем над его смешными игрушечными клыками и когтями.
– Ой, Пушок!.. – вздыхает Руб, но это лишь тень его прежних призывных воплей, с которыми он приходил забрать Пушка на прогулку. И смеется Руб сейчас чем-то глубоким, из горла.
Что это?
Сожаление?
Раскаяние?
Гнев?
Я не знаю, но вот миссис Волф, она тоже это чувствует, и вот она выходит к нам на крыльцо в холодный тусклый свет.
Я люблю миссис Волф.
Должен прямо сейчас сообщить вам.
Люблю, потому что она классная, и она гений, пусть даже готовка ее реально убийственная. Люблю, потому что она бьется изо всех сил. Она боец похлеще Руба. И сам Руб вам это скажет – хотя в ее битвах не кулаками дерутся. Но крови там много…
Ее слова нынче вечером таковы:
– Мальчики, что творится? Откуда вы так поздно являетесь каждое воскресенье? – Она улыбается, одна. – Я знаю, вы похаживали на собачьи бега не так давно. Вы в курсе, правда?
Я смотрю на нее.
– Как ты узнала?
– Миссис Крэддок, – признается она.
– Чертова Крэддок! – бурчу я.
Это наша соседка, миссис Крэддок, постоянно околачивалась на бегах, вечно жевала хот-доги своими вставными зубами и вливала в себя пиво, будто напоследок. Не говоря уже про «Лонгбич», которые она смолила без передышки.
– Да не о собаках речь.
Мама вздыхает.
И говорит.
Мы слушаем.
Так надо.
Если человека любишь и уважаешь – слушаешь.
– Я понимаю, ребята, сейчас непросто, но сделайте одолжение, возвращайтесь в нормальное время. Постарайтесь быть дома до темноты.
Я встреваю:
– Хорошо, мам.
Руб – нет.
Он говорит, прямо и твердо:
– Мы ходим в спортзал. В воскресенье вечером там дешевле, и можно брать уроки бокса.
Бокса.
Неплохо, Руб.
Нам ли не знать, что мама думает про бокс.
– И вот этим вы хотите заниматься? – спрашивает она, и я удивляюсь ее мягкому тону. Видимо, она понимает, что не сможет нас удержать. Она знает, что единственный способ – это дать нам убедиться самим. Она добавляет еще три слова: – Бокс? Да ну?
– Это безопасно. Там присматривают, и все налажено. Не то что мы во дворе тогда. Ничего похожего на эту фигню в одной перчатке.
И ведь он не врет. Да, на матчах присматривают, и все налажено, но кто это делает? Забавно, как ложь и правда могут ходить в одной и той же одежке. Они носят фланелевые фуфайки, кроссовки и джинсы и говорят устами Рубена Волфа.
– Присматривайте друг за другом.
– Конечно, – и я улыбаюсь миссис Волф, потому что хочу, чтобы она думала, будто все в порядке. Я хочу, чтобы она уходила на работу, не тревожась за нас. Она заслуживает хотя бы этого.
Руб тоже говорит ей: «Конечно».
– Молодцы.
– Мы постараемся возвращаться пораньше, – добавляет он, и миссис Волф уходит. Но сначала гладит Пушка, запуская сухие пальцы нашему приятелю в мягкий косматый мех.
– Вот посмотри на эту псину, – говорю я, когда мать уходит.
Просто чтобы сказать что-нибудь. Хоть что-то.
– А что она?
Я теряюсь и не знаю, что отвечать.
– Мне кажется, мы его уже успели полюбить, ну.
– Но что с того полюбления? – Руб смотрит на дорогу. – Никакого толку от этого.
– А от ненависти?
– А что мы ненавидим? – Он уже смеется.
Вообще-то, есть много всего, что можно ненавидеть. И любить.
Любить.
Людей.
Ненавидеть.
Ситуацию.
Мы слышим, как позади нас мама прибирается на кухне. Обернувшись, видим силуэт отца, он ей помогает. Мы видим, как он целует ее в щеку.
Безработный.
Он ее все равно любит.
А она – его.
Глядя на них, я вспоминаю те несколько схваток, которые мы с Рубом провели на складах и фабриках. И решаю, что его бои бледнеют. Бледнеют в сравнении. И еще я вижу Сару, как она работает сверхурочно (она стала так делать последнее время) или просто сидит у телика, или читает. И даже образ Стива появляется, который сам по себе где-то, живет. Но в основном все же мать и отец. Мистер и миссис Волф.
Я думаю о Рубаке Рубене Волфе.
Я думаю, каково это – рубиться против Рубена Волфа.
Внутри.
Думаю о розыске Рубена Волфа…
Я думаю о схватках, где знаешь, что победишь, и о схватках, где знаешь, что победят тебя, и о схватках, про которые ничего не понятно. Думаю о тех, в середине.
И это я теперь смотрю на дорогу.
И говорю.
Давай.
Скажи.
Я говорю:
– Не потеряй своего стержня, Руб.
И, не пошевелившись, мой брат чеканит в ответ.
Он говорит:
– Я не собираюсь его терять, Кэм. Мне бы его найти.
Этим вечером – ничего.
Никаких «Эй, Руб, ты не спишь?».
Ни «Конечно, блин, нет!».
Безмолвие.
Безмолвие, Руб и я.
И темнота.
Хотя он не спит. Я чувствую. Чувствую это, не видя.
Из кухни никаких голосов. Нет иного мира, кроме вот этого.
Этой комнаты.
Этого воздуха.
Этой бессонности.
12
В полудреме субботнего утра мне снятся женщины, плоть и драки.
Первые нагоняют на меня страх.
Второе – волнение.
Третье – еще больше страху.
Я укрыт одеялом с головой. Сверху торчит только мой человеческий хрюндель, чтобы можно было дышать.
– Идем бегать? – спрашиваю я у Руба через комнату.
Он что, еще спит?
– Руб?
Ответ.
– Неа, сегодня не идем.
«Отлично, – думаю я. – Пускай это одеяло пропитано страхом, все равно под ним тепло и хорошо. И вообще, похоже, нам следует передохнуть».
– Но вообще попозже я собираюсь поработать, – продолжает Руб, – поработать над джебом. А потом поиграем в «один кулак»?
– Я думал, мы с этим завязали. Как ты сказал маме.
– Ну, не завязали. Я передумал. – Он поворачивается на другой бок, не замолкая. – Тебе тоже не помешает отточить джеб, знаешь ли.
Это правда.
– Лады.
– Вот и не бухти.
– Да я ничего. – Это правда. – По-любому прикольно. Как в прежние деньки.
– Вот именно, блин.
– Ладушки.
И мы снова спим. Что до меня, то у меня снова плоть, драки и женщины. А куда, интересно, возвращается Руб? Когда мы встаем, и день идет своим чередом, предки и Сара отправляются к Стиву посмотреть, как он там. Золотая возможность потренироваться. И мы ее не упускаем.
Мы, как теперь всегда делаем, лезем через ограду и забираем Пушка.
Шавочка смотрит бой с нашего заднего крыльца. Облизывая губы.
Мы кружим по двору.
Руб достает меня, но я достаю в ответ. Он чаще попадает в цель, примерно на каждый второй его точный удар я отвечаю точным своим. Он слегка огорчен.
В перерыве он говорит:
– Мне надо двигаться быстрее. Когда мне бьют прямым. Быстрее блокировать.
– Ага, но у тебя что бывает на ринге, – говорю я ему. – Ты проводишь джеб или два, а потом добавляешь левой. Твоя левая всегда быстрее, чем их встречные.
– Понятно, но что если мне попадется чувак с по-настоящему хорошим встречным? Тогда беда.
– Сомневаюсь я.
– Да ну?
И мы занимаемся еще и потом меняемся перчатками, забавы ради. Как в прежние деньки, именно. По одной перчатке у каждого, кружим по двору, обмениваемся ударами. Улыбаемся ударам. И полученным тоже улыбаемся. Мы не слишком увлекаемся, завтра у нас обоих бои, так что обходится без синяков и крови. Занятно, думаю я, пока мы, пригнувшись, топчемся, и я наблюдаю за Рубом, который пригибается с таким вот особенным видом. Полного довольства. Занятно: когда мы во дворе сходимся в одноруком бою, именно тут я и чувствую себя ближе всего со своим братом. Тут я лучше всего понимаю, что мы братья и всегда ими будем. Я чувствую это, наблюдая за Рубом, и когда он ухмыляется мне лукавой ухмылкой Рубена Волфа, Пушок бросается на него, Руб шутливо с ним дерется, давая обхватить лапами его одиночную перчатку.
– Чертов Пушок, – хмыкает Руб. Такие вот проблески.
Потом все входит в нормальный для последнего времени ритм.
Мы сидим в комнате, Руб отгибает истертый угол ковра рядом с моей кроватью. В одном конверте его деньги. В другом мои. У него три с половиной сотни. У меня примерно сто шестьдесят. Руб выиграл семь боев из семи начатых. Мое бабло – две победы, остальное – чаевые.
Руб сидит на кровати, пересчитывает деньги.
– Все на месте? – интересуюсь я.
– А куда им деться?
– Да я, блин, просто спросил!
Он смотрит на меня.
Если задуматься, так до этого раза довольно давно ни один из нас не повышал голос на другого. А когда-то мы постоянно орали друг на друга. Это было нормой. Почти забавой. Обычным делом. Но вот сегодня это как пуля, врывшаяся глубоко в плоть нашего братства. Это пуля сомнения – пуля неведения.
За окном город считает секунды, пока мы сидим молча.
Одна… две… три… четыре…
Новые слова поднимаются на ноги.
Они принадлежат Рубу.
Он говорит:
– А собачки сегодня есть?
– Кажется, да. Суббота, восьмое. Ага, это сегодня.
– Не хошь сходить?
– Пошли, а чего ж. – Я улыбаюсь. – Может, встретим тех копов, посмеемся.
– Да, они клевые, та парочка.
Я набираю горсть мелочи из своих призовых и бросаю Рубу.
– Спасибки.
И сую десятку в карман олимпийки.
– Да не за что.
Мы обуваемся и отправляемся из дому. Оставляем записку, что вернемся до темноты, кладем на кухонный стол. Рядом с «Хералдом». Газета лежит развернутая на станице объявлений о найме. Она лежит, как война, и каждое малюсенькое объявление – окоп, в который человек ныряет. Чтобы там надеяться и сражаться.
Мы глядим на газету.
Замираем.
Понимаем.
Руб отпивает молока из пакета, сует его обратно в холодильник, и мы уходим, оставляя войну на столе, с нашей запиской.
Мы идем.
За дверь, за ворота.
На нас обычная одежда. Мы обджинсованы, офуфаены, окроссованы и закурточены. На Рубе вельветовая куртка. Коричневая, старая и несуразная, но он в ней выглядит, как всегда, без вопросов шикарно. На мне черная ветровка, и я бы сказал, что выгляжу вполне прилично. По крайней мере надеюсь. В любом случае что-то около того.
Мы шагаем, и запах улиц режет. Он пронзает меня, и это мне нравится. Городские здания вдали будто подпирают небо. Оно голубое и яркое, и наши размашистые шаги несут к нему. Раньше мы томились на ходу или скользили по улице на манер собак, которые только что нашкодили. Сейчас Руб идет с прямой спиной – в атаку.
Приходим на стадион, время около часа.
– Смотри, – показываю я, – Миссис Крэддок.
Как и следовало ожидать, она сидит на трибуне, в одной руке хот-дог, другой пытается удержать банку пива и сигарету. Дым окутывает ее и разваливается на две стороны.
– Привет, ребята, – окликает она нас, поднося сигарету к губам. Или отпивая из банки? У нее каштаново-седые волосы, фиолетовая помада, переносица в гармошку, старинное платье и вьетнамки. Она крупная. Большая женщина.
– Привет, миссис Крэддок, – отвечаем мы. (Это все же пиво она несла ко рту, а потом торопливо затянулась.)
– Как поживаете?
– Чудесно, спасибо. День у собачек – самое оно.
– Это точно. – Про себя я думаю: «Мели, что хочешь, милочка». – Кто вам по душе в следующем забеге?
Крэддок склабится.
Ой, мама. Зрелище не из приятных. Эти ее вставные чавки…
– Второй номер, – советует она. – Персиковый Пломбир.
Персиковый Пломбир. Персиковый Пломбир? Как можно назвать гончую Персиковым Пломбиром? Наверное, хозяин водит дружбу с тем, который назвал ту собаку Ты-Сволочь.
– Может она скакать галопом? – спрашиваю я.
– Это у лошадей, миленький, – отвечает она. Видите, как она может бесить? Она что, всерьез решила, я думаю, будто мы на скачках? – И это – он.
– Ну и? – спрашивает Руб. – Он точно прибежит первым?
– Как то, что я тут сижу.
– Ну, уж она точно тут сидит. – Руб толкает меня, когда мы отходим. – Все ее три сотни фунтов.
Мы оборачиваемся и прощаемся. Я:
– Пока, миссис Крэддок.
Руб:
– Ага, до скорого. Спасибо за наводку.
Мы осматриваемся. Наших приятелей копов не видно, значит, надо искать кого-то, кто сделает ставку за нас. Это не трудно. Чей-то голос находит нас.
– Эй, Волфы!
А это Перри Коул, со своими вечными пивом и усмешкой.
– И что здесь делают такие приличные ребята, как вы?
– Да так, хотели пару монет поставить, – отзывается Руб, – Не вкинешь ставочку за нас?
– Не вопрос.
– Третий забег, второй номер.
– Понял.
Он делает ставку, и мы переходим на солнечную сторону стадиона, где Перри сидит с большой компанией. Он представляет нас, сообщая всем, какие мы лихие бойцы (ну, Руб, по крайней мере), а мы глядим. Тут несколько мерзких чуваков и девчонок, но и приятные девчонки тоже есть. Одна из них нашего возраста и милашка. Темные волосы, короткая стрижка. Глаза небесные. Худенькая, улыбается нам, скромно и вежливо.
– Стефани, – Перри называет ее, тарахтя именами.
У нее загорелое и милое лицо. Шея гладкая. На ней бледно-голубая рубашка, браслет, старые джинсы. И кроссовки, как на нас. Я отмечаю ее руки, запястья, ладони, пальцы. Женственные, изящные и хрупкие. Колец нет. Только браслет.
Все остальные болтают, вокруг нас.
«А где ты живешь?» – спрашиваю я мысленно. Никаких слов не раздается.
– А где ты живешь? – спрашивает ее Руб, но его голос и близко не похож на тот, каким бы спросил я. Его – такой, каким говорят, лишь бы сказать. Не чтобы понравиться.
– В Глибе.
– Хороший район.
А я, я ничего не говорю.
Я только смотрю на нее, на ее губы и ровные белые зубы, пока она говорит. Я смотрю, как ветер запускает пальцы ей в волосы. Как он овевает ей шею. Я смотрю даже, как воздух течет ей в рот. В легкие и обратно…
Они с Рубом болтают о самых обычных вещах. Школа. Дом. Друзья. На какие группы сходили в последнее время – Руб ни на какие. Он их сочиняет на ходу.
Я?
Я бы ей ни за что не соврал.
Клянусь.
– Давай!
Это все заорали в тот миг, когда собак выпустили, и они побежали по дорожкам.
– Давай, Пломбир!
Руб орет вместе со всеми.
– Давай, Персик! Беги, малыш!
И пока собаки бегут, я гляжу на Стефани. Персиковый Пломбир меня больше не интересует, даже когда он приходит к финишу на два корпуса впереди всех, и Руб хлопает меня по спине, и Перри хлопает по спине нас обоих.
– Старуха Крэддок молоток, слышь! – орет мне Руб, и я рассеянно улыбаюсь. Стефани тоже улыбается, нам обоим. Мы только что выиграли шестьдесят пять долларов. Наш первый настоящий выигрыш на бегах. Перри забирает его и отдает нам.
Мы решаем остаться в выигрыше и дальше просто смотрим и тусуемся там до вечера, пока тени не делаются длинными и стройными. После завершающего забега толпа рассасывается, и Перри приглашает нас к себе на, как он это назвал, «еду, напитки и все, что вам может понадобиться».
– Нет, спасибо. – Это Руб. – Нам надо домой.
В этот момент Стеф говорит с какой-то девицей постарше, я предполагаю – с сестрой. Они болтают, потом расходятся, и Стеф остается одна.
Выходя из ворот, я вижу ее и спрашиваю Руба:
– Может, нам ее проводить или как-то? Ну, знаешь, чтобы по дороге не пристали какие-нибудь. Тут хватает разных чудил.
– Нам надо вернуться до темна.
– Да, но…
– Ну иди, если хочешь, – Руб ободряет меня. – Я скажу маме, что ты придешь позже, зашел к приятелю.
Я останавливаюсь.
– Давай, – говорит Руб, – решай.
Мешкаю, делаю шаг в одну сторону, в другую… Решаюсь.
Берегу через дорогу, а обернувшись – где там Руб, – вижу, что его уже нет. Нигде его нету. Стеф шагает впереди. Я догоняю.
– Эй. – Слов. «Еще слов, – командую я себе. – Надо говорить больше слов». – Эй, Стеф, можно тебя проводить? – «Чтобы убедиться, что ты без приключений добралась домой», – думаю я, но не говорю этого. Я такого не сказал бы. Я лишь надеюсь, она понимает, что я имею в виду.
– Ладно, – отвечает она, – но тебе ведь не по дороге?
– Ну, не очень.
На улице темнеет, и слов больше нет. Ну просто не идет в голову ничего, что сказать, о чем поговорить. Единственный звук – это мой пульс, катящийся сквозь мое тело, пока мы идем дальше и дальше. Мы идем не спеша. Я смотрю на нее. Она несколько раз тоже смотрит на меня.
Пропасть мне, она прекрасна. Я это вижу в свете фонарей – в каждом глазу по небосводу, темные короткие волны волос и смуглая кожа.
На улице свежо.
«Бог мой, она же, наверное, мерзнет». Я скидываю ветровку и предлагаю ей. Все так же без слов. Только мое лицо, умоляющее ее принять. Она берет ветровку и говорит:
– Спасибо.
У калитки она спрашивает:
– Не хочешь зайти? Напою чем-нибудь.
– А, не, – объясняю я. Спокойно. Слишком спокойно! – Мне надо домой. Но, я бы, конечно, с радостью.
Она улыбается.
Улыбается и скидывает ветровку. Отдает мне, и мне жаль, что я не касаюсь ее пальцев. Жаль, что не могу поцеловать ей руку. Жаль, что не могу коснуться ее губ.
– Спасибо, – говорит она еще раз, поворачивается и идет к дому, а я стою столбом и смотрю вслед. Запоминаю ее всю. Волосы, шею, плечи. Спину. Джинсы и ее ноги, шагающие. Опять руки, браслет, пальцы. И последнюю улыбку – когда она оборачивается:
– Эй, Кэмерон.
– Да?
– Мы, может, увидимся завтра. Я думаю сходить поглядеть на бокс, хотя я вообще-то ненавижу драки. – Она секунду молчит. – И собачий тотализатор терпеть не могу. Хожу только из-за собак, они чудесные.
Я стою столбом.
Застыв.
И думаю: «А может ли Волф быть чудесным?!»
Однако говорю я так:
– Здорово.
У нас происходит контакт. Ее глаза затягивают в себя мои.
– В общем, да, – говорит Стеф, – постараюсь прийти.
– Хорошо. – И потом: – Слушай, просто интересно, – начинает она. Что-то обдумывает. – Руб правда так хорошо дерется, как про него говорят?
Я киваю.
Всё честно.
– Да, – отвечаю, – правда.
– А ты?
– Я? Не особенно, вообще-то…
Еще одна улыбка, и она говорит:
– Значит, завтра, наверное, увидимся.
– Отлично, – подтверждаю я. – Надеюсь.
Она поворачивается в последний раз и исчезает в доме.
Оставшись в одиночестве, я стою еще несколько секунд и направляюсь восвояси. И перехожу на бег – от адреналиновой браги, которая шипит в горле.
Может Волф быть чудесным?
Может Волф быть чудесным?
Я спрашиваю на бегу, создав в голове ее образ. «Думаю, Руб может, – отвечаю я, – когда он на ринге. Он красив, но свиреп, но буен, но чуден и красив опять и опять».
Домой я прихожу как раз к ужину.
Она со мной за столом. Стефани. Стеф. Глаза небесные. Сахарные запястья и пальцы, и волны темных волос, и ее любовь к чудесным псам на бегах.
Она, может быть, придет завтра на матч.
Она, может быть, придет.
Может быть, придет.
Она может.
Она.
Да я тронулся, не?
Кэмерон Волф.
Кэмерон Волф и еще одна девчушка, выказавшая слабенький, хиленький интерес. И он в нее уже влюблен. Он готов на все ради нее – клянется не обижать и выполнять все, чего она только пожелает. Он готов отдать всего себя.
Он всего лишь пацан, и, конечно, боль, а не счастье – вот что его ждет.
Или будет иначе?
Может ли?
Будет ли?
Не знаю.
Предвкушаю и надеюсь. Думаю об этом весь вечер. И даже в кровати она под одеялом рядом со мной.
У той стены Руб опять считает свои финансы.
Держа банкноты в вытянутых руках, он глядит на них, будто бы убеждая себя в чем-то.
Теперь и я смотрю, и мне интересно, что такого он там видит.
– Видишь деньги, – говорит Руб. – Это не триста пятьдесят долларов. – Он впивается в них глазами. – Это семь побед.
– Эй, Руб?
Тишина.
– Эй, Руб? Руб?
Сегодня ночью есть только я и она, у меня под одеялом.
Отзвуки образов.
Они пляшут на потолке, а во мне растет надежда.
Золотые зайчики будущего во тьме темноты.
Последняя попытка:
– Эй, Руб? Руб?
Бесполезно.
Все, что мне остается, – надеяться, что завтра я буду драться хорошо и что она все-таки придет.
– Но она ненавидит драки, – говорю я себе. – Зачем же она пойдет? – И новые вопросы: – Затем ли она придет, чтобы посмотреть на меня?
Образы повсюду.
Ответов – нигде.
И тут, в глухой ночи, в слушающей тьме, Руб произносит такие странные слова. Фразу, которую я по-настоящему пойму лишь много позже.
Он говорит:
– Знаешь, Кэм, я вот думал об этом, и мне кажется, что твои деньги мне нравятся больше моих.
И мне остается лежать в кровати, думать без слов. Думать.
13
Иногда мне хочется иметь кулаки получше. Попроворнее, и чтобы руки были ловчее, а плечи крепче. Обычно такие мысли посещают меня в постели, но сегодня они приходят, когда я сижу в раздевалке, дожидаясь вызова на ринг. Не знаю. Но вот жаль, что я не Громобой. А вот бы так идти сквозь толпу и взбираться на ринг, чтобы побеждать, а не просто драться.
– Кэмерон.
Вот бы уметь посмотреть противнику в глаза и заявить, что я его прикончу.
– Кэмерон.
Вот бы стоять над ним и приказывать: «Вставай!»
– Кэмерон!
Наконец Рубу удается захватить мое внимание. Для этого приходится шлепнуть меня по плечу – прорваться сквозь облако грез. Я сижу в раздевалке, ветровка накинута, дрожу. Перчатки висят на руках мертвым грузом, и, кажется, я рассыпаюсь на части.
– Ты идешь на ринг или что? – Руб встряхивает меня.
«Она здесь», – думаю я, и на этот раз говорю это и вслух. Своему брату. Тихонько.
– Она здесь, Руб.
Он смотрит на меня внимательнее, не понимая, о ком это я.
– Здесь, – продолжаю я.
– Кто?
– Ну, Стеф, та самая, знаешь?
– Кто?
«Да что ж такое!» – восклицаю мысленно.
А вслух по-прежнему ватно:
– Стеф – с собачьих гонок.
– И что?
Он уже досадует и готов поднять меня и швырнуть в толпу.
– И все на свете, – я не замолкаю. Я по-прежнему вареный. Порожний. – Я ее видел пару минут назад, выглядывал в щель.
Руб отходит.
– Господи Иисусе. – Он отходит и возвращается. Теперь он спокоен. – А ты выйди, и все.
– Ладно. – Но никакого движения.
Руб, все еще спокойно:
– Иди.
– Хорошо.
И я понимаю, что должен встать.
Я поднимаюсь, Руб распахивает дверь пинком, и мы выходим. В зале все люди на одно лицо. Это она. Стефани.
Все расплывается.
Все путается.
Перри Коул – орет.
Рефери.
Без грубостей, парни.
Бой по правилам.
Ладно.
Давай.
Держись на ногах.
Упал – подымайся.
Гонг, кулаки, бой.
Он начинается, и первый раунд – смерть.
Второй раунд – гроб.
Третий – похороны.
Соперник у меня не такой уж крутой боец, просто я не могу включиться. Я не здесь. Я так боюсь оказаться на полу, что смиряюсь с этим. Я согласился с этим, почти как если бы решил не сопротивляться, чтобы не усугублять.
– Вставай, – слышу я искаженный крик Руба, оказавшись на полу первый раз. Кое-как встаю.
Второй раз только взгляд в его глаза заставляет меня подняться. Ноги ноют, я шатаясь, отступаю к канатам. Опереться. Повиснуть.
В третий раз я вижу ее. Вижу ее, и остается только она. Остальные растворились, в зале – только Стефани, смотрит. Зал пустой, она одна. Ее глаза переполняются красотой, а стоит она так, что я рвусь к ней, чтобы она помогла мне подняться.
«Я хожу только из-за собак, они чудесные», – слышу я ее слова.
«Какая странная фраза», – думаю я и тут понимаю, что слышу сказанное вчера. А сегодня она стоит молча и с торжественными, плотно сжатыми губами следит, как я пытаюсь подняться на ноги.
В четвертом раунде я дерусь. Я воспрянул.
Я увожу голову от столкновения с кулаками противника и сам наношу несколько ударов. Кровь наполняет мои грудь и живот. Проникает под трусы.
Песья кровь.
Чудесный пес?
Как знать, ведь в пятом раунде меня отправляют в нокаут, причем я не просто не могу встать. Нокаут такой, что я вырубаюсь, теряю сознание.
Пока я в отключке, меня заполняет она.
Я вижу ее, мы на бегах, только мы с ней на трибуне, и она меня целует. Льнет ко мне, и у ее губ такой славный вкус. Это нестерпимо. Я: одна рука легко гладит ее лицо, другая нервно теребит ворот ее рубашки. Она: губами касается моих губ, ладонями гладит меня по ребрам, медленно. Легко, так легко.
Ее губы.
Ее бедра.
Ее пульс – в моем.
Так легко, еще легче.
Еще…
– Легче, – слышу я голос Руба. – Полегче с ним.
Проклятье, я очнулся.
Опозорился и очнулся.
Еще немного, и я снова стою, но обвиснув на плечах Руба и Бугая, любезно сиганувшего через канаты нам на помощь.
– Оклемался, паря? – спрашивает Бугай.
– Да, – вру я в ответ, – оклемался. – И Руб с Бугаем выносят меня с ринга.
В зале стало темней, а мое зрение в параличе. Сегодня стыд течет у меня по боку, а флуоресцентные лампы лупят по мне. Выцарапывают мне глаза. Слепят.
Спустившись с ринга, я останавливаюсь. Так надо.
– Что? – пытает меня Руб. – Что такое? Пошли, мы тебя доведем в раздевалку.
– Нет, – отвечаю я, – сам дойду.
Руб обшаривает взглядом мое сознание, и что-то происходит. Он отпускает руки и кивает так серьезно, что и я киваю, едва заметно, в ответ. Этот миг встряхивает меня, проворачивается во мне, и я иду.
Мы идем.
Я шагаю, Бугай с Рубом по бокам, а публика молчит. Кровь подсыхает у меня на коже. Ноги несут меня вперед. И раз. И раз. «Шагай, не останавливайся, – говорю я себе. – Выше голову. Выше голову, – твержу про себя, – но не забывай о ногах. Не упади».
Никто не хлопает.
Просто люди, смотрят.
И Стефани, где-то среди них, смотрит.
И гордый взгляд Руба, Руб шагает рядом…
– Дверь, – говорит он Перри, и тот отворяет ее перед нами. За дверью я снова валюсь с ног, глотаю кровь и переворачиваюсь на спину, ухмыляюсь в потолок. Он обваливается и плющит меня, потом взлетает и снова падает.
– Руб, – зову я, но до него многие мили. – Руб… – уже ору. – Руб, ты здесь?
– Я тут, брат.
Брат.
От этого я улыбаюсь.
– Спасибо, Руб, – говорю я. – Спасибо.
– Все хорошо, брат.
Вот опять «брат».
Снова улыбка у меня на губах.
– Я победил? – спрашиваю я, потому что сейчас ничего не чувствую. Я сливаюсь с полом.
– Нет, чувак. – Руб не станет врать. – Тебе довольно серьезно влетело, слышь.
– Да ну?
– Угу.
Постепенно я собираю себя по кусочкам. Умываюсь, смотрю за поединком Руба сквозь щель приоткрытой двери. Бугай заменяет меня у Руба в углу, хотя моему брату он не нужен. Я вижу Стефани, она качается в лад с толпой и наблюдает, как Руб посылает соперника в нокдаун во втором раунде. Я вижу ее улыбку, и она прекрасна. Но это не улыбка с собачьих бегов. Не улыбка для меня. Я утонул в этих глазах. Растворился в небе. Вот он я, вспоминаю, что она на самом деле не любит драк…
Схватка кончается в этом же раунде.
Девушка кончается двумя минутами позже.
Она кончается, когда Руб идет мимо, и она ему что-то говорит. Руб кивает. Я не могу понять. «Может, она спросила, как там Кэмерон? Может, хочет меня увидеть?»
Но штука в том, что понять я могу. Эти ее глаза не могут быть для меня.
Или могут?
Мы скоро это узнаем, потому что во время следующего боя Руб выходит в заднюю дверь, и прислушиваясь, я понимаю, что он говорит с ней. Разговаривает со Стефани.
Я близко. Слишком близко, но удержаться не могу. Мне надо слышать. Начинает голос Руба.
– Пришла узнать, как там мой брат?
Молчание.
– Ну, так?
– С ним все хорошо?
На какой-то миг я в ее голосе, даю ему покрыть меня, окутать, но вот Руб все видит четко. И говорит твердо.
– Тебе плевать, как он, правильно?
– Конечно, нет!
– Тебе плевать, – Рубу уже все ясно. – Из-за меня пришла, точно? – Зазор. – Да ведь?
– Нет, я…
– Послушай, вот есть умные девочки – где-то они есть, только не здесь. Их не увидишь тут, на задах, чтобы обжимались со мной, потому что думают, какой я крутой, клевый, сильный! – Руб злится. – Нет уж. Они сидят дома и мечтают о Камероне! О моем брате мечтают!
Ее голос мозжит меня.
– Кэмерон недотепа.
Мозжит больно.
– Ну да, – продолжает Руб, – только знаешь, что? Этот недотепа вчера проводил тебя, когда мне было вообще наплевать. Избили бы там тебя, изнасиловали – мне вообще до лампочки. – Его голос больно бьет ее, я это чувствую. – А вот Кэмерон, мой брат, да он рад сдохнуть, только бы тебе угодить и не обидеть. – Руб загоняет ее в угол. – И, знаешь, он бы и сдох. Он бы за тебя кровью истек и дрался бы за тебя даже без рук. Заботился бы, уважал, а любил бы – до умопомрачения. Понимаешь?
Тишина.
Руб, Стеф, дверь, я.
– Так что, если хочешь заняться этим здесь со мной… – Руб опять бьет ее. – … давай. Меня ты примерно стоишь, но ты не стоишь его. Моего брата ты не стоишь…
Вот, он обрушил на нее свой последний словесный удар, и я чувствую, как они там стоят. Воображаю: Руб смотрит на нее, а Стефани – куда-то в сторону. Хоть куда, лишь бы не на Руба. Вскоре я слышу ее шаги. Последний звучит, как будто что-то разбилось вдребезги.
Руб один.
Он по ту сторону двери. Я – по эту.
Он говорит сам с собой:
– Всегда на меня. – Молчание. – А чего ради? Я ведь даже не… – Он смолкает.
Я открываю дверь. Вижу его.
Выхожу и приваливаюсь к стене рядом с ним.
Я понимаю, что мог бы ненавидеть его или ревновать, что Стеф хотела его, а не меня. Я мог бы с горечью вспоминать ее вчерашний вопрос. «Руб так хорошо дерется, как о нем говорят?» – вот как она спросила. Но я не чувствую ничего плохого. Чувствую лишь сожаление, что мне не хватило духу ответить ей тогда иначе. Надо было сказать: «Хорошо дерется? Не знаю. Но хорошо умеет быть мне братом».
Вот как надо было ответить.
– Привет, Руб.
– Привет, Кэмерон.
Мы стоим, привалившись к стене, и солнце на горизонте вопит от боли. Горизонт медленно заглатывает его, пожирает целиком. Все это на глазах у города, в том числе – у меня и Руба.
Разговор.
Я говорю.
– Ты думаешь, правда есть где-то девочка, как ты говорил?. И ждет меня?
– Может быть.
По далекому небу размазаны огонь и кровь. Я наблюдаю за ним.
– Правда, Руб? – спрашиваю я. – Ты думаешь?
– Должна быть… Может, ты чумазый и не крутой, и не особо удалый, но…
Он не заканчивает фразу. Стоит и смотрит в вечер, и мне остается только догадываться, как он мог бы продолжить. Надеюсь, там осталось «но у тебя большое сердце» или «но ты джентльмен».
Ничего, впрочем, не говорится.
Может, молчание и есть слова.
14
Когда привалишься к стене, а солнце садится, бывает, просто стоишь и глазеешь. Чувствуешь вкус крови, но не шевелишься. Как я и сказал, даешь говорить тишине. А потом возвращаешься в склад.
– Двадцать баксов чаевых, – сообщает мне Перри после матча, подавая пакет.
– Ха, – фыркаю я, – подачка от жалости.
– Нет, – предупреждает меня Перри.
Он всегда говорит так, будто предупреждает. В этот раз он как бы советует мне заткнуться и принять комплимент.
– Это подношение от гордости, – говорит Бугай. – Так пройти сквозь толпу. Они оценили это выше моей победы, выше Рубовой, выше всех побед вместе взятых.
Я беру деньги.
– Спасибо, Перри.
– У тебя еще четыре боя, – говорит Перри, – потом твой сезон окончен, понял? Думаю, ты заслужил передышку, – он показывает нам с Рубом листок бумаги, на котором у него турнирная таблица. В другой руке он держит календарь матчей. В таблице он показывает, где сейчас Руб: – Глянь, ты начал с опозданием на три боя, но по-прежнему на первом месте. Ты единственный ни разу не проиграл.
Руб тыкает в следующее имя.
– Кто это, Головорез Хэрри Джоунз?
– Ты с ним дерешься на будущей неделе.
– Хорош он?
– Ты его запросто уделаешь.
– А.
– Сюда смотри: у него два поражения. Одно – от того парня, с которым ты дрался сегодня.
– Да ну?
– Стал бы я иначе трепаться?
– Нет.
– Вот и помалкивай. – Перри ухмыляется. – Полуфиналы через четыре недели. – Усмешка сползает с его лица. В миг. Он теперь серьезен. – Но вот…
– Что? – спрашивает Руб. – Что?
Перри отводит нас в сторонку. Говорит медленно и от души. Я никогда не слышал, чтобы он так разговаривал.
– Только одна небольшая проблемка – в последней неделе перед полуфиналом.
Мы с Рубом рассматриваем календарь.
– Видите? – Перри тычет пальцем в «Неделю 14». – Я решил побыть немного сволочью.
Тут я вижу, о чем речь.
И Руб тоже.
– Ну, ты… – комментирую я, потому что вот на странице «Недели 14» в графе легковесов написано «Волф – Волф».
Перри поясняет:
– Извините, парни, но я тут ничего не мог поделать. Если братья дерутся, в этом всегда что-то особое, а я хотел, чтобы последняя неделя перед полуфиналом вышла памятной, – он по-прежнему говорит естественно. По-деловому. – Помните, я говорил, есть слабый шанс, что так получится. Вы сказали: не проблема.
– Ты не можешь подхимичить? – спрашивает Руб. – Переделать?
– Нет – да я и не хочу. Один хороший момент есть: матч будет здесь, дома.
Пожатие плеч.
– Ну что, все честно. – Брат смотрит на меня. – Тебя не смущает, Кэм?
– Да нет.
– Вот и ладно, – подводит черту Перри. – Я знал, что могу на вас рассчитывать.
После сборов Перри, как обычно, предлагает нас подвезти. Его голос мне как молотком по мозгам: мне еще довольно хреново после взбучки.
– Не, – Руб отказывается: – сегодня нет. Думаю, мы лучше прогуляемся. – И спрашивает меня: – Кэм?
– Ладно, чего б нет.
Хотя я думаю: ты, блин, рехнулся? У меня башка, по виду, попала в блендер. Но молчу. Мне кажется, будет здорово прогуляться с Рубом до дому.
– Без вопросов. – Позиция Перри. – Ну, до воскресенья, ребятки?
– Ясное дело.
Прихватив сумки, выходим через заднюю дверь, сегодня здесь никто никого не ждет. Тут нет ни Стеф, ни кого бы то ни было еще. Только город и небо, да облака, что вихрятся в густеющих сумерках.
Дома я прячу свою избитую рожу. У меня фонарь под глазом, опухла скула и порвана губа. Гороховый суп я ем в укромном углу гостиной.
Следующие несколько дней проталкиваются мимо.
Руб отпускает щетину.
Отец, как обычно, в поисках найма.
Сара ходит на работу, а кроме этого – только к подруге Келли, раз-другой в неделю. Домой приходит трезвая, а по средам – с карманом, оттопыренным доплатой за сверхурочные.
Раз приезжает Стив – погладить рубашки.
(– У тебя что, утюга нет? – спрашивает его Руб.
– А как ты думаешь?..
– Похоже, нету.
– Именно. Нету.
– Так, может, пойти да купить, сквалыга ты?
– Ты кого сквалыгой называешь, малый? Как насчет пойти побриться…
– У тебя не хватает на утюг? Выходит, это отдельное житье – не сахар.
– А то, блин. Конечно, не сахар.
Однако штука в том, что вот они ссорятся, Руб со Стивом, а сами постоянно смеются. Сара смеется с кухни, и я ухмыляюсь на свой малолетский манер. Вот занятие, в котором мы спецы.)
Миссис Волф наконец взяла отгул на работе.
А это означает, что у нее есть время заметить заживающие на моем лице раны и синяки. Она загоняет меня в угол на кухне, где я сижу ем хлопья. Я смотрю, как она смотрит на меня.
И выкликает.
Одно слово.
Вот какое:
– Руб!
Негромко. Без паники. Лишь с осознанным нажимом, безоговорочно предполагающим немедленное появление.
– Это тренировки в спортзале? – спрашивает она.
Руб садится на стул.
– Нет.
– Или вы, ребятки, опять тузите друг друга во дворе?
Он признает вранье.
– Да. – Он совершенно спокоен. – Есть такое.
Она только вздыхает и верит нам, и это самое паршивое. Всегда ужасно, если человек тебе верит, а ты знаешь, что не должен бы. И хочется выкрикнуть это ему, сказать, мол, не верь, не надо, чтобы дальше тебе жить с собой чуть полегче.
Но молчишь.
Не хочешь расстраивать.
Не можешь принять себя таким сачком и объяснить, что ты не достоин доверия этого человека.
Не можешь признать, что настолько малодушен.
Дело в том, что мы и впрямь деремся во дворе, но только это тренировка перед настоящими боями. И, в общем, Руб, строго говоря, не соврал, но и правды не сказал.
Но вот-вот. Я чувствую.
Я скоро не выдержу и расскажу ей всё. Про Перри, про матчи, про деньги. Про всё. Меня сейчас останавливает лишь одно – склоненная голова моего брата. Глядя на него, я вижу, что он куда-то движется. Он на каком-то пороге, и я ни за что не смогу взять и захлопнуть перед ним эту дверь.
– Прости, мам.
– Прости, мам.
Простите, миссис Волф.
За все.
Ты еще будешь нами гордиться.
Обязательно.
Так должно быть.
– Вы ж понимаете, – говорит миссис Волф, – мальчики, вы должны друг друга выручать.
На этих словах я понимаю, что вот этим враньем, самое забавное, мы и выручаем друг друга. Но вот ее-то, в конце концов, подводим. От этого нам и не по себе.
– Есть какие успехи с работой? – спрашивает отца Стив.
А я слышу. Они в гостиной разговаривают.
– Неа, не особо.
Я жду, что они начнут старую свару про пособие, но нет. Стив больше не трогает эту тему, ведь он тут больше не живет. Он только делает значительное лицо и прощается. По его глазам я понимаю, что он думает: «Со мной такого не будет никогда. Я не допущу».
В пятницу той недели утро, с виду обычное, таит в себе важное событие.
С утра мы с Рубом на пробежке и возвращаемся почти в семь. Мы, как всегда, одеты в старые фуфайки, треники и кроссы. День одет в небо с тучами-валунами и ярко-синий горизонт. У ворот нас встречает Сара.
– Отца не видали? – спрашивает она. – Исчез, слышь.
– Нет, – отвечаю я, не понимая, из-за чего переполох. – Он последнее время стал прогуливаться.
– Не в такую рань.
Выходит мать.
– Его костюма нет, – сообщает она, и в один момент мы всё понимаем. Он там. В очереди. Пошел за пособием.
– Нет, – говорит кто-то.
И еще раз.
Вопреки надежде, что это не так.
– Не может быть, – и я понимаю, что говорит не кто иной, а я сам, потому что морозный утренний пар катится у меня изо рта вслед словам. – Нельзя допускать. – Не потому что нам стыдно за отца. Нам не стыдно. Просто мы знаем, как долго он сопротивлялся этому, и понимаем, что для него это – отказ от собственного достоинства.
– Пошли.
А это сказал Руб, и он тянет меня за рукав. Он кричит маме и Саре, что мы скоро вернемся, и мы бежим прочь.
– Куда мы? – выдыхаю на бегу, но ответ знаю, всю дорогу до Стивова дома. Задыхаясь после рывка, мы стоим под его окном, собираясь с силами, потом орем.
– Эй, Стив! Стивен Волф!
Люди выкрикивают из окон, чтоб мы заткнулись, но скоро Стив в трусах появляется на балконе. Его лицо говорит: вот гады. А голос:
– Так и знал, что это вы, пацаны.
А следом пронзительно и сердито:
– Вам чего надо? Семь утра, мать его!
– Что там, блин, происходит? – вопит какой-то сосед.
– Ну? – Стив требует ответа.
– Да вот… – Руб запинается. – Отец.
– Что отец?
– Он… – черт, до сих пор дыхание срывается. – Он там. – Я дрожу. – Выписывает пособие.
У Стива на лице облегчение.
– Ну, давно пора.
Однако мы с Рубом не отрываясь смотрим на него, и Стив понимает. Мы его умоляем. Мы взываем к нему. Мы воем: «На помощь!» Вопим, что сейчас нужны мы все. Нужны…
– А, черт бы драл! – Стив выплевывает слова. Через минуту он с нами, бежит рядом, в старой футбольной форме и в своих классных кроссах.
– Не можете поскорее? – досадует он на бегу, мстя нам за то, что вытянули его из постели и опозорили перед соседями. И еще бросает сквозь зубы: – Я вам отплачу, увидите.
Мы с Рубом бежим молча и, когда добегаем до дома, мать и Сара уже одеты. Они готовы. И мы. Мы все готовы. Идем.
Через пятнадцать минут показывается биржа труда. У входа сидит человек, и этот человек – наш отец. Он нас не видит, но мы все шагаем к нему. Вместе. Как один.
У миссис Волф на лице гордость.
У Сары на глазах слезы.
У Стива в глазах – отец и понимание – наконец, – что он сам упорствовал бы так же.
Руб перечеркнут когтями пыла.
А я, я смотрю на отца, как он там сидит, один, и представляю, насколько он переживает свое поражение. Черный костюм ему коротковат, и под брюками видны лодыжки в футбольных носках.
Мы подходим, и он поднимает голову. Он симпатичный мужик, мой отец, хотя нынче утром он побежден. Сломлен.
– Думал, приду пораньше, – говорит он, – в это время я обычно начинал работать.
Мы все стоим вокруг.
В конце концов заговаривает именно Стив.
– Привет, па.
Отец улыбается.
– Привет, Стивен.
И все. Больше никаких слов. Не то, что вы могли бы ожидать. Больше никто ничего не делает, только все мы знаем, что не пустим его на биржу. И отец знает.
Он встает, и мы возвращаемся в бой.
На обратном пути Руб вдруг останавливается. Я тоже. Мы глядим, как удаляются остальные Волфы.
Руб заговаривает.
– Видишь, – говорит он, – это Рубака Клиффорд Волф, – Руб показывает, – это Рубака Миссис Волф и Рубака Сара Волф. Черт побери, сейчас даже Стивен Волф – Рубака. А ты – Рубака Камерон Волф.
– А ты? – спрашиваю я брата.
– Я? – Он задумывается. – Это меня так назвали, но я не знаю. – Он смотрит мне в лицо и признается: – У меня тоже есть свой страх, Кэм.
– Страх чего?
Разве он чего-то может бояться?
– Что я стану делать, когда случится бой, который я могу и проиграть?
Вот так.
Руб – победитель.
Он не хочет им быть.
Он хочет быть бойцом.
Как мы.
Вступать в бой, зная, что может проиграть.
Я отвечаю ему – чтобы ободрить:
– Ты будешь драться все равно, как и мы все.
– Думаешь?
Но ответа не знаем ни он, ни я, потому что бой ничего не стоит, если заранее знать, что победишь. Себя проверяешь в схватках, которые посредине. В тех, где есть вопросы.
Руб до сих пор не вступал в схватку. В настоящую.
– Когда это случится, смогу ли я подняться? – спрашивает он.
– Не знаю, – признаюсь я.
Он бы предпочел тысячу раз быть бойцом в стае Волфов, чем хоть раз стать победителем.
– Ну скажи, как это делается, – упрашивает он. – Расскажи.
Но мы оба понимаем, что есть такое, чего не рассказать, чему не научить.
Боец может быть победителем, но это не делает победителя бойцом.
– Эй, Руб.
– Ну.
– Почему тебе мало быть победителем?
– Что?
– Что слышал.
– Не знаю. – Он передумывает: – Хотя, нет, знаю.
– Ну?
– Ну, во-первых, если ты Волф, ты должен уметь драться. Во-вторых, побеждать бесконечно не выйдет, всегда найдется кто-то сильнее. – Руб переводит дух. – А вот если ты умеешь драться – не отступишь, даже когда тебя собьют с ног.
– Если только не сдашься сам.
– Да, но из победителей тебя может выкинуть любой. И только ты сам можешь перестать биться.
– Наверное.
– По-любому… – Руб решает довести разговор до конца. – Бойцом – труднее.
15
Как я уже сказал, остается четыре недели, и я выйду против брата. Против Рубена Волфа. Интересно, как это будет, что я буду чувствовать. Каково оно – драться с ним не дома во дворе, а на ринге, под яркими прожекторами и в окружении толпы, глазеющей, гикающей, ждущей крови? Надо думать, время покажет, или по крайней мере покажут эти страницы.
Отец сидит один в кухне за столом, но уже не с тем побитым видом. По нему видно, что он снова в игре. Он дошел до края, но не сорвался. Думаю, когда ты поступаешься гордостью, пусть на секунду, тут же понимаешь, как много она для тебя значит. В его глазах снова появилась сила. Его кудри падают на лоб.
Руб последнее время тихий.
Он немало времени проводит в подвале, который, как вы знаете, освободился после Стива. Мама в конце концов предложила занять его – если кто хочет, но ни один из нас туда не переселился. Мы сказали, что нам в подвале ужасно холодно, но на самом деле, как мне кажется, оставшиеся в доме Волфы просто чувствуют, что в это время стоит держаться вместе. Я это уловил сразу после Стивова отъезда. Конечно, я бы ни за что не сказал этого вслух. Нипочем бы не признался Рубу, что не переехал в подвал из-за того, что мне без брата одиноко. И что я бы там скучал по нашим разговорам и по его замашкам, которые меня так бесят. И, как бы постыдно оно ни звучало, я бы скучал даже по запаху его носков и по его храпу.
Буквально прошлой ночью я пытался растолкать Руба, потому что его жуткий храп решительно пагубен для моего здоровья. Депривация сна, говорю вам. Ну, пока этот храп не устаканится в ритм маятника и не убаюкает меня. Ха. Загипнотизировался храпом Рубена Волфа. Понятно, безнадега это все, но привыкаешь же. И без привычного диковато, будто ты – это больше не ты.
Как бы там ни было, заняла подвал сама миссис Волф. У нее там теперь что-то вроде кабинета, где она подсчитывает налоги.
Однако в субботу вечером я там обнаруживаю как раз Руба, он сидит на столе, поставив на стул ноги. Это вечер накануне его схватки с Головорезом Хэрри Джоунзом. Я вытягиваю стул у него из-под ног и сажусь.
– Удобно устроился? – Он свирепо зырит на меня.
– Да, удобно. Хороший стул, а че.
– Ты за мои ноги не волнуйся, – продолжает Руб, – хотя они теперь из-за тебя болтаются.
– Ой, бедняжка.
– Вот-вот.
Клянусь.
Братья.
Мы странные.
Тут он мне не уступит ни дюйма, но в большом мире будет защищать меня до смерти. Страшновато, что и я такой же. Кажется, мы все таковы.
Воздух зияет молчанием, потом мы начинаем разговор, не глядя друг на друга. Лично я рассматриваю пятно на стене и размышляю: «Что это такое? Что там за дрянь?» А Руб, чую, поставил ноги на стол и упирается коленями в подбородок. Его взгляд, как представляется мне, устремлен вперед, на старые цементные ступени.
– Головорез Хэрри, – заговариваю я.
– Ага.
– Думаешь, он достойный соперник?
– Может быть.
Потом, прямо посредине всего этого, Руб сообщает:
– Я им расскажу.
Перед этими словами нет паузы. Руб говорит все ровно, на одном дыхании. Поверить, будто он это только что придумал, никакой надежды. Это решено давно.
Трудность тут одна: я вообще не врубаюсь, о чем речь.
– Расскажешь кому что? – осведомляюсь я.
– Ты что, правда такой тупой? – Он поворачивается ко мне, рожа свирепая. – Родакам, дуболом.
– Я не дуболом.
Терпеть не могу, когда он меня так зовет. Дуболом. Пожалуй, даже хуже педика. Сразу представляется, будто я жру чипсы и дую «Горькую Викторию», и у меня пивное пузо размером с Эверест.
– Короче, – нетерпеливо продолжает Руб, – я расскажу предкам про бокс. Мне надоело прятаться по углам.
Я замираю.
Обдумываю.
– И когда ты им скажешь?
– Прямо перед нашим с тобой поединком.
– Рехнулся?
– А что такого?
– Он не пустят нас драться, и Перри нас убьет.
– Пустят. – У Руба есть план. – Мы пообещаем, что это будет последний раз, когда мы деремся между собой. – Может, это от его тоски по настоящей схватке? Сказать родичам? Рассказать им правду? – Да они все равно не смогут нас удержать. Зато увидят нас, что мы такое.
Что мы такое.
Я повторяю это про себя.
Что мы такое…
Потом спрашиваю.
– Что мы такое?
И тут тишина.
Что мы?
Что?
Странность этого вопроса в том, что совсем недавно мы точно знали, что мы такое. Трудность с тем, кто мы такие. Мы были хулиганы, домашние драчуны, пацаны – и все. Мы знали, что означают эти и подобные слова, но слова «Рубен и Кэмерон Волфы» оставались загадкой. Мы понятия не имели, куда идем.
А может, все не так.
Может, кто ты – это и есть, – что ты такое. Не знаю.
Я знаю одно: вот сейчас мы хотим, чтобы нами гордились. В кои-то веки. Мы хотим ввязаться в эту битву и подняться над ней. Охватить ее, прожить и вынести. Положить в рот, распробовать на вкус и никогда его не забывать, потому что этот вкус делает нас сильнее.
И тут Руб вскрывает меня.
Он рассекает мое сомнение от горла до бедра.
Он повторяет вопрос и отвечает.
– Что мы такое? – Короткий смешок. – Поди знай, что они себе увидят, но если придут и посмотрят, как мы деремся, они поймут, что мы – братья.
Вот оно!
Вот это мы такое – может, единственное, в чем я могу не сомневаться.
Братья.
Все хорошее, что в этом есть. И все плохое.
Я киваю.
– Ну, значит, рассказываем? – Теперь Руб смотрит на меня.
Я его вижу.
– Ага.
Решено, и, должен признаться, лично я этой мыслью одержим. Хочется тут же побежать и рассказать всем. Просто чтобы выпустить наружу. Вместо этого я стараюсь думать о том, что мне предстоит прежде. Мне предстоит выдержать три своих боя и посмотреть, как дерется Руб, и как действуют против него соперники. Мне нельзя допускать те ошибки, которые допускают они. Мне надо продержаться до конца, и ради Руба я должен дать ему настоящий бой, а не подарить очередную победу.
В следующей схватке я, к собственному удивлению, побеждаю – по очкам.
Сразу после меня Руб отправляет Головореза на койку – в середине четвертого раунда.
Через неделю я проигрываю в пятом раунде, а последний перед схваткой с Рубом бой выдается хорошим. Деремся в Марубре, и, вспоминая свой первый матч, я на этот раз выхожу на ринг и бью без малейших колебаний. Я больше не боюсь огребать. Может, я привык. А может, просто знаю, что для меня все скоро закончится. Парень, с которым мы боксируем, не выходит на последний раунд. У него ватные ноги, и я ему сочувствую.
Я знаю, каково это – когда не хочешь выходить на последний раунд. Знаю, каково это – изо всех сил стараться просто устоять, куда там даже подумать о том, чтобы бить самому. Я знаю, каково это – когда страх сильнее физической боли.
Позже, наблюдая за поединком Руба, я кое-что замечаю.
Я обнаруживаю, почему никто не может его побить и даже не имеет шансов. Просто никто из соперников и не думает, что может его победить. Не верит в это и не хочет этого с нужной силой.
Чтобы выстоять перед Рубом, нужно верить, что можешь его побить.
Проще сказать, чем выполнить.
– Эй, Кэм?
– Пора бы уже.
– Что пора?
– Тебе начать разговор.
– У меня есть что сказать, кое-что важное.
– Ну?
– Завтра сознаемся.
– Ты уверен?
– Да, уверен.
– А когда?
– После ужина.
– Где?
– На кухне.
– Заметано.
– Ладно. А теперь заткнись. Я хочу спать.
Позже, когда он принимается храпеть, я говорю ему:
– Я собираюсь тебя уделать.
Но в душе я не слишком в это верю.
16
Деньги лежат на кухонном столе, и мы все смотрим на них. Мать, отец, Сара, Руб и я. Тут вся наша казна. Банкноты, монеты, всё. Мать приподнимает Рубову долю: примерно понять, сколько там.
– Всего около восьми сотен, – поясняет Руб. – Вместе с Кэмероновыми.
Ма хватается за голову. Такой вечерок четверга – не по ней, она встает и идет к раковине.
– Меня, кажется, сейчас вырвет, – говорит она, наклоняясь над раковиной.
Отец встает, шагает к ней, обнимает.
Безмолвных минут через десять они возвращаются к столу. Клянусь, этот стол видел, наверное, все. Все важное, что только происходило в нашем доме.
– Ну и сколько это уже продолжается? – отрывисто спрашивает отец.
– Ну, давно. Где-то с июня.
– Это правда, Кэмерон? – Теперь мама.
– Да, правда. – Смотреть на нее я не в силах.
Миссис Волф, однако, на меня смотрит.
– И эти все синяки оттуда?
Я киваю.
– Да.
И продолжаю.
– Мы и во дворе боксовались, но только ради тренировки. Когда начали, мы решили, что нам всем нужны деньги…
– Но?
– Но, по-моему, дело сразу было не в деньгах.
Руб соглашается и добавляет от себя. Говорит:
– Знаешь, мам, просто мы с Камероном видели, что у нас происходит. Видели, что творится с нами. С отцом, с тобой, с нами всеми. Выживали же, барахтались в море, и вот… – Его лихорадит. Он горячится все высказать, как есть. – Мы хотели что-то делать, чтобы выкарабкаться, чтобы у нас все стало, как было, хорошо…
– Даже если нам всем будет стыдно? – перебивает мать.
– Стыдно? – Руб взглядом боксирует с ней. – Ты б так не говорила, если бы видела Камерона на ринге, как его валят, а он поднимается и снова в бой! – Руб почти кричит. – Ты бы от гордости на колени упала. Ты бы всем стала говорить, что это твой сын, и он не сдается, потому что ты его так воспитала!
Ма задумывается.
Глядит сквозь стол.
Она представляет, но видит только боль.
– Как ты все это выносил? – умоляюще спрашивает она меня. – Как ты это терпел неделю за неделей?
– А ты как? – спрашиваю в ответ.
Это действует.
– А ты? – обращаюсь к отцу.
А ответ такой: мы не сдаемся, потому что так живем. Не знаю, может это инстинкт, но мы все такие. Всюду люди живут так. Особенно люди вроде нас.
Почти все кончено, и я предоставляю Рубу нанести нокаутирующий удар. И он наносит. Он говорит:
– В это воскресенье у Кэмерона последний бой. – Глубокий вздох. – Единственное, что… – Пауза. – Это бой против меня. Мы будем драться друг с другом.
Молчание.
Полная тишина.
Но, говоря по совести, новость принимают нормально.
Только Сара морщится.
Руб продолжает:
– У меня после этого будет полуфинал. Еще три матча, самое большое.
Кажется, и ма, и отец мало-помалу смиряются. «О чем они думают?» – спрашиваю я себя. В основном, по-моему, главное чувство у них сейчас – что они плохие родители, но это совершенно не так. Они ни в чем не виноваты, ведь мы с Рубом все решили и сделали только сами. Если победим – то сами. А пропадем – тоже сами. Родители не виноваты. Никто в мире не виноват. Мы никого не хотели в ответчики – и не взяли бы.
Теперь я сажусь на корточки возле мамы, обнимаю ее и прошу:
– Прости, мам. Я виноват.
Виноват.
Что в том толку?
Поймет ли она нас настолько, чтобы простить?
– Обещаем, – говорит Руб, – это в последний раз мы с Кэмероном будем драться между собой.
– Да уж, это утешает, – наконец заговаривает Сара. – Нельзя же драться с тем, кто уже мертвый.
Все смотрят на нее и слушают, но больше никто не произносит ни слова.
Разговорам конец.
В стенах кухни клубится напряженное молчание, и вскоре там остаемся только мы. Остальные расходятся. Сначала Сара, потом отец, последней – миссис Волф. Теперь только ждать схватки.
В череде следующих дней я удерживаю в себе желание верить, что могу побить Руба. Но не справляюсь. Самое большое, на что меня хватает, – верить, что я хочу его побить.
В субботу вечером мистер и миссис Волф едут вместе с нами на матч. Отец набивает нас в свой фургон (меня зажали на заднем сиденье).
Медленно трогаемся.
Я потею.
Я боюсь.
Боя.
Своего брата.
За своего брата – за его собственный бой.
Всю дорогу до склада никто не сказал ни слова, и лишь когда уже выбираемся из машины, отец говорит:
– Не поубивайте друг друга.
– Ладно.
В раздевалке договариваемся, что у Руба в углу посидит Перри. У меня – Бугай.
В зале нехилая толпа.
Я ее слышу и вижу по пути в гостевую раздевалку. Я не высматриваю родителей, потому что знаю: они там; я думаю только о том, что мне нужно делать.
Я сижу в грязной раздевалке, а тем временем другие боксеры приходят и уходят. Я хожу из угла в угол. Меня потряхивает. Впереди самый трудный бой в моей жизни.
Я буду драться против своего брата.
И в то же время я буду драться за него…
В последние минуты перед выходом я перестаю кого-либо замечать. Ложусь на пол. Глаза закрыты, руки вдоль тела. Перчатками касаюсь бедер. Никого не вижу. Никого не слышу. У себя в сознании я сейчас один. Вокруг меня какое-то напряжение, сжимает мое тело со всех сторон. Проникает под меня и поднимает…
«Я хочу этого, – говорю я себе. – Хочу сильнее, чем он».
Сцены предстоящей схватки косо тянутся перед моими глазами. Я вижу, как Руб пытается меня достать.
Я хочу.
Вижу, как ныряю и провожу встречные.
Сильнее.
Вижу себя, стоя, в конце. На ногах после настоящего боя. Не победы, не поражения, а сражения. И вижу Руба.
«Хочу сильнее, чем он», – повторяю я и знаю, что это правда. Да, я хочу боя, потому что мне это нужно. Нужно мне. Мне…
– Пора.
Бугай стоит рядом, я вскакиваю и твердо смотрю вперед. Я готов.
Отмечаю выкликивающий голос Перри, но лишь на миг.
Бугай толкает дверь, и толпа, как всегда, гудит. Я вижу это, чувствую, но не слышу. Шагаю вперед, внутрь себя. Внутрь боя.
Перелезаю через канаты.
Скидываю куртку.
Его не вижу, но знаю – он тут.
Но я хочу сильнее, чем он.
Дальше.
Судья.
Говорит.
Умолкает.
Смотрю на свои кроссы.
Лишь бы не на Руба.
В удушающие секунды, что остались до боя, я жду. Никаких ударов по воздуху – каждый удар пойдет в дело. Страх, правда и будущее втроем обгладывают меня. Рыщут облавой в моей крови, и я – Волк. Камерон Волф.
Слышу гонг.
И тут же толпа ураганом в уши.
Шагаю вперед и наношу первый удар. Мимо. Руб бьет сбоку дальним и достает меня по плечу. Никакой раскачки, разогрева или прощупывания. Я резко иду на сближение и бью снизу. Попадаю. В подбородок, крепко. Рубу хорошо досталось. Я вижу. Вижу, потому что хочу этого сильнее, а он вышел сюда получить. Ему надо, чтобы его побили, и я – единственный на этом ринге, кто это может.
Три минуты на раунд.
Всё просто.
Кулаки, боль и устоять на ногах.
И вновь мой кулак врезается в тело моего брата, на этот раз впивается в живот. В ответ его правая достает мой левый глаз. Почти целый раунд мы обмениваемся ударами. Никаких танцев, никакой беготни. Удары. Под конец Руб меня вспарывает. Достает по зубам, голова у меня запрокидывается роем отдельных частиц, пульс в горле застывает. Ноги подкашиваются, но раунд окончен. Я иду в свой угол.
Жду.
Хочу.
Бой идет, и я хочу, чтобы Руб понял, что для него это тоже бой. Второй раунд должен его убедить.
Он тоже начинается жестко, с двух коротких прямых от Руба, мимо. Я отвечаю, но мой апперкот тоже мимо цели. Руб уже досадует. Пытается поймать меня на хук, но открывается, и я посылаю лучший в своей жизни удар ему в челюсть, и…
Руб шатается.
Он шатается, и я гоню его до нейтрального угла, швыряя кулаки ему в лицо и разок крепко достав по брови. Он собирается с духом и пробивается из угла. Но я не получаю ни одного тяжелого удара, и как-то мне удается до конца раунда не поймать ни одной плюхи. Еще разок я прикладываю его в подбородок. Хороший тычок. По-настоящему хороший, и раунд за мной.
– У тебя бой, – говорю я ему.
Только три слова, и Руб пристально смотрит на меня.
В третьем раунде он налетает на меня еще яростнее, два раза бросает меня на канаты, но лишь несколько ударов достигают цели. Он тяжело дышит, и у меня легкие на пределе. На ударе гонга я изображаю взрыв энергии и устремляюсь прямиком к своему табурету. Бросаю взгляд на Руба, которому что-то говорит Перри. И вижу лицо матери, когда она поднимается утром, готовая к двум сверхурочным сменам. И это же – лицо отца в тот день у биржи труда. И лицо Стива, который бьется за себя, а в тот день и за отца – он просто говорит ему: «Привет, па!» Это лицо Сары, срывающей со мной на пару белье с веревки. И это мое лицо, каково оно вот сейчас.
– Он боится проиграть, – говорит Бугай.
– Отлично.
В четвертом Руб обороняется.
Он пропускает лишь один мой удар, но сам вскрывает меня несколько раз. Его левая особенно кошмарна, загоняет меня в его угол. Лишь раз мне удается проткнуть его защиту и щелкнуть его по челюсти. И этот раз – последний.
К гонгу я вишу на канатах, почти готовый.
В этот раз после гонга я ищу свой угол, до которого, эх, мили и мили, и ковыляю к нему. Падаю. С ног. Бугай меня подхватывает.
– Слушай, паря, – говорит Бугай, но он где-то очень далеко. Почему он так далеко? – Ты, поди-ка, не сможешь выйти на последний раунд. По-моему, тебе хватит.
До меня доходит.
– Ни за что, – умоляю я его.
Бьет гонг, и рефери вызывает нас на середину. Последнее рукопожатие перед пятым раундом. Всегда так… до сего дня.
От того, что я вижу, голова у меня дергается назад.
«Это что, в самом деле? – спрашиваю я себя. – В самом…» Сейчас передо мной стоит Руб, и на нем только одна перчатка, а его глаза ввинчиваются в мои. На нем только одна перчатка, на левой руке, как это было всякий раз у нас во дворе. Вот он стоит передо мной, и что-то неуловимое брезжит в его лице. Он Волф, и я Волф, и я ни за что на свете не скажу своему брату вслух, что люблю его. И он никогда не скажет мне.
Нет.
Мы можем только так…
Вот единственный способ.
Такие мы. Вот так мы это говорим, показываем одним доступным нам способом.
Это кое-что значит. За этим кое-что есть.
Я возвращаюсь.
В свой угол.
Зубами, зубами стаскиваю левую перчатку. Отдаю Бугаю, который забирает ее правой.
Где-то в толпе мать с отцом, смотрят.
Пульс дает пустой такт.
Судья что-то выкрикивает.
«Пой».
Это он такое кричит?
Нет, вообще-то, это было «Бой»…
Мы с Рубом смотрим друг на друга. Он идет мне навстречу. И я иду. Толпа взрывается.
Один кулак в перчатке. Второй голый.
Вот так.
Руб выбрасывает руку и хлещет мне в подбородок.
Всё, конец. Я убит, я… Но я бью в ответ, немного мимо. Падать нельзя. Сегодня никак. Только не сейчас, когда все зависит от того, смогу ли я устоять.
Я получаю еще один, и на этот раз мир стекленеет. Вот Руб напротив меня, в одной перчатке. Обе руки висят вдоль тела. И снова тишина набирает силу. Ее разрывает Перри. Знакомые слова.
– Прикончи его, – кричи Перри.
Руб смотрит на него. Смотрит на меня.
Отвечает ему.
– Нет.
Я обнаруживаю их. Родителей.
И отключаюсь.
Брат подхватывает меня и удерживает на ногах.
Не сознавая того, я плачу. Плачу, уткнувшись брату в шею, а он не дает мне упасть.
Рубака Рубен Волф. Держит меня.
Рубиться против Рубена Волфа. Это тяжко.
Рубака Рубен Волф. Его бой – в душе. Рубаки Рубена. Как и у всех нас.
Драться с Рубеном Волфом. Это не драться против него, нет. Это что-то другое…
– Живой? – спрашивает он. Шепотом.
Я не отвечаю. Я только плачу брату в горло и вишу у него на плечах. Кисти рук у меня онемели, вены горят. Сердце – гиря, болит, и где-то в нем я могу представить обиду побитой собаки.
Я понимаю, что больше ничего не произошло. Бьет гонг, и все кончено. Мы стоим посреди ринга.
– Закончили, – говорю я.
– Знаю, – Руб улыбается. Я это чувствую.
И даже в следующие минуты, пока мы возвращаемся в раздевалку сквозь гудящую толпу, момент тянется. Он несет меня до раздевалки, помогает переодеться и вместе со мной ждет, ждет появления Руба.
Сегодня мы отвалим поскорее – в основном, из-за мамы. Мы все встречаемся в фургоне.
На улице холодный воздух бьет меня по щекам.
Домой мы опять едем в полном молчании.
На крыльце миссис Волф останавливается и обнимает нас обоих. А еще она обнимает отца. И они заходят в дом.
А мы, стоя на улице, все же слышим, как Сара спрашивает с кухни:
– Так кто победил?
И ответ мы слышим:
– Никто.
Это отец.
Ма окликает нас из кухни.
– Ужинать будете, парни? Я грею!
– А что там? – спрашивает Руб с надеждой.
– Как всегда!
Руб оборачивается ко мне и говорит:
– Опять проклятый гороховый суп. По-зорище.
– Да, – соглашаюсь я, – но он отличный все-таки.
– Да знаю.
Я открываю сетчатую дверь и иду на кухню. Я смотрю, что там творится, и запах домашней обыденности пробивается мне в нос.
– Эй, Руб?
Мы на крыльце, хлебаем в потемках гороховый суп.
– Чего?
– Ты через пару недель выиграешь титул в легком весе, да же?
– Наверное, но на будущий год я не играю. Перри скажу скоро. – Смеется. – А отличный это был замес до поры, а? Перри, поединки, все такое.
И я вдруг тоже почему-то смеюсь.
– Ага, типа того.
Руб с отвращением глядит в свою тарелку.
– Сегодня вообще какой-то кошмар.
Нагребает ложку и выливает обратно в суп.
Проезжает машина.
Гавкает Пушок.
– Мы идем, – кричит Руб. Поднимается на ноги. – Давай тарелку.
Он уносит тарелки в дом, возвращается, и мы спускаемся с крыльца, чтобы выгулять чертова Пушка.
В воротах я останавливаю брата.
Я спрашиваю его:
– А чем ты займешься, когда закончишь с боксом?
Он отвечает не раздумывая:
– Погонюсь за своей жизнью и поймаю ее.
Мы накидываем капюшоны и выходим.
Улица.
Мир.
Мы.
Сноски
1
Дыхало – сравнительно небольшое отверстие на поверхности земли, ведущее в подземные пустоты. Если дыхало расположено на берегу моря, то при определенных условиях из его отверстия вырываются фонтаны воды. Зусак пишет о Киамском дыхале (Киамской впадине). – Примеч. ред.
(обратно)2
Лонг-Бэй – тюрьма в Сиднее. – Примеч. ред.
(обратно)3
Имеется в виду сцена из американской кинодрамы «Рокки» (1976, реж. Джон Эвилдсен), где главный герой оттачивал боксерское мастерство, колотя туши на бойне. – Примеч. ред.
(обратно)


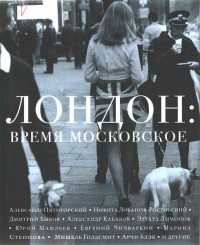
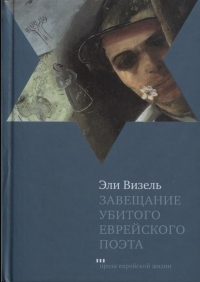


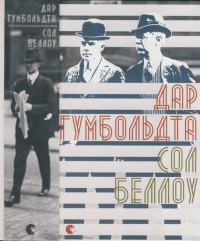

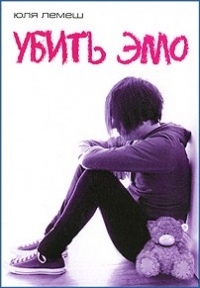
Комментарии к книге «Против Рубена Волфа», Маркус Зузак
Всего 0 комментариев