Александр Эдуардович Фурман Книга Фурмана. История одного присутствия
Часть IV. Демон и лабиринт
…Тексты, по крайней мере некоторые из них, имеют особенность воплощаться в жизни, преобразовывать ее, менять ее образ… Если слова воплощаются в жизнь, то конечной инстанцией этого пути является плоть – человеческое тело… Строго говоря, в человеческих делах существуют только две эмпирические реальности: тела и тексты.
Александр Эткинд. «Хлыст»Лабиринт – это темное пространство, в котором движется тело… Персонаж, идущий по лабиринту, подобен перу, пишущему неведомые ему письмена внутри другого текста, написанного Богом… Движение по лабиринту дается как долгое движение, как испытание терпения, способности завершить блуждание.
Михаил Ямпольский. «Демон и лабиринт»Предуведомление
Все персонажи и события, описанные в этой книге, а также используемые в ней имена собственные являются исключительно плодом художественного воображения автора. Любые совпадения с так называемой «реальностью» имеют случайный характер.
Болеро
С Таней и Вовой, своими уже взрослыми двоюродными братом и сестрой, Фурман за последние несколько лет виделся всего пару раз. Они были Бориными ровесниками, с разницей в год в обе стороны. Старшая, Таня, окончила пединститут и вышла замуж за начинающего композитора, родом откуда-то из Горловки. Она уже ждала ребенка, и бабушка Нина, продав часть фамильного покровского дома, вложила эти деньги в приобретение новой трехкомнатной квартиры для молодой семьи. У Вовы жизнь складывалась по-прежнему не слишком благополучно: бросив учебу в художественно-ремесленном училище, он устроился в театр рабочим сцены, потом некоторое время работал художником-оформителем на каком-то заводе, а оттуда ушел то ли в дворники, то ли в сторожа. Говорили, что он сильно пьет (и даже хуже того). Старших Фурманов такое развитие событий ничуть не удивляло. Как известно, Вовка (их племянник с маминой стороны), будучи человеком не без способностей, но крайне слабохарактерным, еще в школе связался с какой-то дурной компанией, в которой были люди намного старше и – в плохом смысле – опытнее него. Они-то и сбили парня с нормального пути, став для него единственными авторитетами. И хотя с тех пор прошло уже много лет и Вовка давно мог бы образумиться, эти люди, судя по некоторым сведениям, продолжали им помыкать, что, конечно, свидетельствовало лишь о его моральной незрелости. Эту версию младший Фурман не раз слышал от папы. Однако у Бори было другое объяснение: он считал, что главную негативную роль в Вовиной судьбе сыграла не столько эта «плохая компания», сколько чрезмерно жесткая и требовательная позиция его родителей, которые, при всей Вовиной безвольности и внушаемости, с самого раннего детства ужасно давили на него по любому поводу и без повода. И это несмотря на то, что оба были профессиональными педагогами! Свое мнение Боря подкреплял впечатляющими историями из собственной жизни, в которых дядя Арон (Вовин отец) представал каким-то чудовищным тираном. Например, однажды в Покрове он застукал малолетних Борю и Вову за курением собранных ими на улице окурков. Чтобы раз и навсегда отбить у них желание брать в рот и нюхать всякую дрянь, он набрал у соседей, которые тогда держали кур, сухого птичьего дерьма, сделал из него папиросы и буквально под палкой заставил мальчишек выкурить их, причем до конца. Результат этого жестокого и отвратительного урока был парадоксальный: Боря больше никогда не курил, а Вова стал заядлым курильщиком…
Обо всех событиях, происходивших в дядиной семье, Фурманы узнавали в основном от мамы после ее телефонных разговоров с братом, и все эти «пустые теоретические рассуждения» о близких ей людях очень быстро выводили ее из себя. «Но ведь нам они тоже родственники!» – тщетно пытались оправдываться Фурманы. «Больше я вам о них ни слова не скажу!» – гневно обещала мама. Папа в ответ с демонстративным недоумением пожимал плечами, а Боря скептически улыбался: ну-ну!..
Во время одного из коротких наездов Фурмана домой из Петрозаводска их всей семьей пригласили на Вовину свадьбу. Фурмановская голова в тот момент была забита совершенно другими заботами, но, в память о своей детской любви к Вове, он все же решил отправиться вместе с родителями и Борей на это пошловатое, как он считал, «официальное мероприятие» (впрочем, на свадьбе он еще никогда не бывал).
В назначенный день перед ним опять возникла проблема, что надеть. Не мог же он заявиться на свадьбу в заношенном свитере! Время уже поджимало, и вскоре они с мамой, привычно заведясь, начали кричать друг на друга, яростно швырять вещи и хлопать дверцами шкафа. Морщась от их криков, миролюбивый папа в качестве последнего варианта предложил ему примерить свой летний серебристо-серый пиджак и черные шерстяные брюки. Фурман злобно твердил, что он никуда не поедет, но папе с помощью дедушки удалось уломать его: мол, пожалуйста, можешь оставаться дома, если ты так хочешь, но ты просто примерь, тебя ведь от этого не убудет!.. Элегантный легкий пиджак был ему чуть великоват (пуговицы можно было бы немного переставить), но в целом смотрелся ничего. А брюки оказались катастрофически широки в поясе – между ними и животом младшего Фурмана свободно проходила ладонь. Ремень здесь был бесполезен, но папа вспомнил, что у него есть «совершенно новые» подтяжки. Подтяжки?! Какая дикость! Но папа клялся, что под пиджаком их все равно никто не увидит. Галстук у Фурмана был свой, в серовато-лиловых цветочках, остался со школы, но он придирчиво выбрал один из папиных – более темный, без рисунка, и поуже.
Всех домашних его неожиданно «приличный» вид привел в восторг, даже Боря насмешливо высказал что-то похожее на одобрение (готовясь к посещению военкомата, Фурман еще в Петрозаводске сходил в парикмахерскую, где ему сделали «модельную» стрижку, а в Москве, на радость родственникам, сбрил наконец «эту свою неопрятную бороду», оставив лишь маленькие усики). Самому Фурману его новая «приглаженная» внешность с беззащитно голым лицом внушала острое отвращение. Еще раз глянув в зеркало, он раздраженно махнул рукой – всё, хватит уже кудахтать вокруг меня, поехали!
Прибывающий поток гостей в большой дядиной квартире сразу разделялся надвое: парадно разодетые родственники направлялись в гостиную, а Вовины друзья – в его комнату. Роль мажордома исполняла очень красивая, радостно возбужденная Таня. Фурман, как хороший мальчик, минут двадцать посидел в компании странно напряженных взрослых, а потом отправился искать Вову и знакомиться с невестой.
Застолье готовилось в самой большой и, как помнил Фурман, довольно неуютной комнате, которую все домашние по инерции продолжали называть «детской». Раз или два ему случалось ночевать в ней, и из-за своей несоразмерно вытянутой формы (при высоком потолке и единственном окне в дальнем торце) она всегда напоминала ему пустой вагон. Но теперь эти недостатки обернулись преимуществами, потому что составить в один ряд такое количество столов можно было только здесь.
Сам Вова, как показалось Фурману, внешне почти не изменился. Он снова отрастил длинные волосы и смешно закладывал непослушную боковую прядь за ухо, чтобы не лезла в глаза. Заметнее стали удивленные поперечные морщины на его лбу. И сутулился Вова вроде бы еще сильнее, чем раньше. Но взгляд его круглых карих глаз остался прежним – тоскливо-скучающим. Он со знакомой мягкостью пожал Фурману руку и представил его сидевшим рядом друзьям как своего брата, не уточнив степень родства. Фурман увидел в этом неожиданное проявление тепла, но сразу после этого Вову что-то отвлекло, а его друзья посматривали на новоявленного «брата» с какой-то странной хитрецой (может, из-за его «прилизанного» вида – сами-то они были в джинсе и в свитерах).
Наконец Фурмана познакомили с Вовиной женой. Звали ее Светлана, и выглядела она совсем еще девчонкой, хотя и уже слегка потертой жизнью, – светловолосая, худенькая, с голубовато-бледным неулыбчивым лицом. Фурман обратил внимание, что Вовка обнимает ее при всех как-то слишком уж бесцеремонно, «по-свойски». Но Светлане это, похоже, нравилось. А их приятели, бесстыдно глядя на них, посмеивались и выкрикивали что-то азартное.
Почувствовав себя лишним, Фурман решил поближе рассмотреть несколько Вовиных работ, висевших на стенах. В основном это были мрачновато-карикатурные гротески с легким налетом «сюра»: горящие дома, воинственные вурдалаки с окровавленными топорами, распятый Христос, какие-то чиновники в современных костюмах, соблазнительные женские тела, скелеты, виселицы, стаи ворон, купола с крестами… Цвет использовался довольно примитивно, но ведь Таня не раз со смехом убеждала Фурмана, что Вовка дальтоник. Тем не менее рисовальщиком он был неплохим. И художественное училище бросил, видимо, напрасно.
Столы еще продолжали накрываться, поэтому Фурман перешел к изучению содержимого немногочисленных книжных полок. Отметив для себя толстый иностранный альбом Босха и «Бойню номер пять» Воннегута (вырванную из журнала и аккуратно переплетенную – обязательно надо будет попросить почитать), он потихоньку приблизился к тому предмету, который бросился ему в глаза, как только он вошел в комнату: в полупустой книжной полке справа от двери была выставлена черно-белая фотография обнаженной женской груди. Ни головы, ни рук – только два выхваченных вполоборота летящих, сияющих, с неповторимой нежностью изогнутых конуса… Ошеломленный Фурман сразу решил, что это Светлана (с Вовки бы сталось!), но потом увидел внизу меленькую печатную строчку – оказалось, что это страница из известного польского фотографического журнала. Выдохнув, он вдруг подумал: а как же Светлана относится к этой «сопернице»? Почему она ее терпит? «Богемные нравы»? Или Вовка здесь полноправный хозяин?.. А может, это просто красиво, неуверенно предположил он. Действительно, отрицать искусство фотографа было невозможно: никакой вульгарности, лишь точное, прицельное любование прекрасной природой. Что ж, если Светлана это понимает, значит, она намного более сложный человек, чем кажется, и Вовке можно только позавидовать… Устыдившись своей первой, вполне варварской реакции, Фурман смущенно потянулся к Босху, но в этот момент всех пригласили к столу.
Заботливая Таня нашла Фурманов в толпе гостей, медленно заполняющих комнату, и помогла им сесть на почетные места, поближе к новобрачным и их родителям: «Мы ведь, чай, не самые дальние родственники, а, теть Бась? Сашка, ты чего там жмешься? Давай, садись скорей, пока тебя тут вообще не затоптали!..»
Когда общий гул стал понемногу стихать и торжественное застолье вот-вот должно было начаться, Вова со Светланой, севшие, как положено, во главе стола вместе со своими родителями (со стороны Светланы присутствовала только ее слезливо-взволнованная, нескладная мама, которая работала продавцом в продуктовом магазине), вдруг решили, что им будет намного лучше, если они окажутся в окружении своих друзей. Они уже поднялись со своих мест, но из-за тесноты пока не могли никуда двинуться. Родители хором начали убеждать их отказаться от этого неправильного, по-детски своевольного и явно неуважительного по отношению к ним, да и ко всем гостям, шага. Светлана заколебалась, но Вова велел ей никого не слушать и пересаживаться, на ходу меняясь с кем-то местами. Дядя Арон и тетя Полина все резче выражали свое разочарование и возмущение Вовиным поведением. Стоя к ним спиной, Вова грубовато подгонял Светлану и объяснял своим друзьям, что они должны сделать, чтобы пропустить их. Дядя Арон зачем-то тоже поднялся из-за стола, призывая Вову вернуться и не позорить родителей. И тут Вова посмотрел на него тяжелым взглядом и холодно сказал: «Если ты хочешь, чтобы дальше все было нормально, просто сядь на свое место и заткнись». Все, кто это услышал, опешили. Даже Вовины друзья смутились. Всегда очень сдержанная тетя Полина разом осела на свой стул и в отчаянии всплеснула руками: «Ох! Вот этого я и боялась… Вы все испортили!..» Дядя Арон нервно искал свой пиджак, собираясь уходить. Безумный скандал удалось притушить лишь благодаря вовремя подлетевшей Тане: папа, не выдумывай, никуда ты отсюда не уйдешь, пожалуйста, я тебя прошу, сядь на свое место и ничего ему не отвечай! А вы пересаживайтесь побыстрее!.. Вовка, заткнись! Так, не обращайте на него внимания, это только слова! Да какая вам разница, пусть делают, как им хочется, в конце концов, это их праздник, – сопротивление бесполезно, вам же будет хуже…
В результате свершившихся тектонических перемещений Светлана оказалась прямо напротив Фурмана. Взгляд у нее был вызывающий. Бабушка Нина, которая всего пару дней назад приехала из Покрова и к тому же не очень хорошо слышала, спрашивала своего любимого внука, растерянно вертя головой: «Вовуня, да что это с тобой такое происходит?..» Дядя и тетя отводили глаза, пытаясь проглотить очередную смертельную обиду. Ах, как все это было до ужаса знакомо и понятно Фурману… И Боре, и маме, которая мучительным усилием удерживала слезы… И только папа делал вид, что ничего необычного не случилось и все идет как надо. Выдавало его побагровевшее лицо – наверное, давление резко подскочило. «Неужели он и вправду настолько безнадежен?..» – с брезгливым сочувствием подумал Фурман, поймав злобную «понимающую» ухмылку Бори. Но Вовина безжалостная решительность ему тоже очень не понравилась.
С другого конца стола, где все были заняты своими разговорами и ничего не заметили, но уже устали ждать сигнала к началу пиршества, пришла волна веселого недовольства. Самый бойкий из сидевших там родственников взял на себя роль тамады, и праздник наконец покатился своим чередом. Банальные тосты и пожелания благополучия звучали почти без перерывов, изредка перемежаясь неожиданно искренними признаниями или смешными воспоминаниями. Особенно отличилась Таня, которая, как все это почувствовали, и вправду очень любила своего непутевого «братишку». Сдавленную «отпускающую» речь дяди Арона свидетели предыдущего ужасного эпизода слушали с мучительным ожиданием какой-нибудь моральной провокации, нервного срыва, скандала. Но дядя справился с собой, и все с облегчением выпили свои рюмки до дна, а Таня подошла к нему сзади, обняла и утешительно поцеловала в седой висок.
После перехода от закусок к горячему общение стало рассыпаться на отдельные, гудящие о чем-то своем группки. В какой-то момент «молодежь» дружно отправилась курить на лестничную площадку, а потом все опять разбрелись по разным помещениям. В Вовиной комнате стало посвободнее, и Фурман, прихватив с собой Босха, пересел в кресло.
Неподалеку за столом вскоре завязалась бурная беседа об искусстве. Вели ее двое: бородатый косноязычный художник в толстом свитере ручной вязки и – как он сам отрекомендовался – «простой человек и давний поклонник Володькиного таланта». Фурману этот слегка шепелявый «поклонник» с раскрасневшимся лицом, глубокими залысинами и честными голубыми глазками поначалу очень не понравился. Но его неожиданно остроумная, хорошо организованная речь да и молчаливые ухмылки некоторых зрителей (видимо, хорошо его знающих) говорили о том, что простодушие – это всего лишь умело используемая маска в очередной плутовской игре на публику. Цель интриги оставалась неясной, и, хотя в дискуссии был явный переизбыток пафоса, Фурман, захваченный босховскими кошмарами, одним ухом все же продолжал следить за ее ходом.
Через какое-то время спорщики безнадежно увязли в произвольно толкуемых ими терминах и почему-то решили обратиться именно к Фурману, как к третейскому судье, с неким подковыристым «искусствоведческим» вопросом. Вероятно, они собирались просто посмеяться над ним. Но он сумел ответить вполне разумно – может быть, даже слишком разумно, потому что после этого их спор утратил всякий смысл. Бородатый художник с одобрительной усмешкой покачал головой, а артистичный плут восторженно завопил: «Ого! Устами младенца!..», демонстративно пожал Фурману руку и потом еще похвалил его Вове, когда тот ненадолго появился в комнате. Впрочем, Вовка отнесся к этому спокойно: мол, ничего удивительного, Сашка у нас еще в детстве был голова. У Фурмана мгновенно сложился иронический комментарий к этой фразе, но он некоторое время сдерживался, оттачивая форму и прикидывая, не окажется ли его вылазка слишком наглой.
Решившись, он нашел свой недопитый бокал, перебрался поближе к Вове и объявил, что хочет сказать тост. Наиболее нетрезвая часть шумной компании, которая обосновалась на этом конце стола, отнеслась к нему без всякого пиетета, но свидетели его предыдущего выступления постарались обеспечить ему внимание публики («Тихо, это Володькин брат! Он сейчас скажет тост!» – шипели они, тряся своих пьяненьких баб и наливая им рюмки). Фурман предупредил, что ему придется начать немножко издалека.
– Вот тут мой старший брат Вова несколько минут назад мельком упомянул о нашем общем детстве, – сказал он. – Да, «счастливая пора детства», как говорится… У меня хорошая память, и я мог бы вспомнить много приключений и даже испытаний, связанных с Вовой, которого я очень люблю. А вот, кстати, и Таня – она точно не даст мне соврать! – Фурман ловко подключил к своей речи Таню, заглянувшую в комнату по каким-то хозяйственным делам. Она с готовностью поддержала его, и он рассказал историю о том, как Вовка на даче в Покрове пугал его, маленького, джиннами и для пущего эффекта однажды у него на глазах утопил в страшном покровском туалете старинный золотой подсвечник… Ну хорошо – пускай будет медный. Но выглядел-то он как золотой! А потом джин, с которым Вова якобы находился в близком контакте, по Вовиной просьбе и по вынужденным мольбам уже чуть ли не до смерти запуганного Фурмана то ли чудесным образом извлек этот подсвечник из отхожего места, причем абсолютно чистеньким, то ли создал точно такой же из ничего – подробности сейчас уже забылись. На самом-то деле там было два одинаковых подсвечника, и один из них Вовка действительно безжалостно скинул в эту жуткую вонючую дыру, из которой, как казалось Фурману, и без того постоянно лезла всякая нечисть… Таня все это с задумчивым видом подтвердила. Сам Вова был несколько озадачен.
«Ну, так и за что пьем-то?» – пьяно поинтересовался кто-то. Учтя настроение слушателей, Фурман предложил выпить промежуточный тост – «за удивительное Вовино бескорыстие и смелость в общении с самыми разными существами». «За Володькино бескорыстие! Да! И за смелость!» Эта формулировка всем очень понравилась.
Фурману снова наполнили рюмку, и он продолжил свой тост. Теперь его слушали более внимательно.
«Может быть, вы и не заметили, – тактично сказал Фурман, – но Вова говорил о наших детских годах с гордостью. Хотя и в каком-то довольно неожиданном контексте: речь шла о чьей-то голове… О господи, Таня, неужели теперь выяснится, что у кого-то из нас было не в порядке с головой? Нет? Уф!.. Но ведь он, кажется, говорил именно о моей голове?..»
Общими усилиями удалось восстановить сказанную Вовой фразу: «В детстве Сашка был голова». Ага, вот, значит, как… Фурман доверительно признался, что в первый момент его очень удивило в Вовиных словах использование глагола «был» применительно к его голове. Почему «был голова»? Разве нельзя было сказать просто: «Сашка у нас голова, причем с детства!» Ведь если произнести, допустим: «Вовка у нас голова!» или даже «Таня у нас голова!», то это звучит вроде бы вполне нормально. Но потом он вдруг подумал: не зря же Вовка на протяжении всего их пресловутого «счастливого детства» стремился надавать как можно больше щелбанов по этой самой «голове»? Причем это были не какие-нибудь обычные, знакомые всем щелбаны: щелк – и пошел себе! Не-е-ет, это были серийные, чрезвычайно сложно построенные: какие-то двухэтажные, крученые, бронебойные, садистски изощренные щелбаны – настоящие произведения искусства! В своем роде, конечно. И к каждому из них Вове приходилось долго готовиться, примериваться, прицеливаться, настраиваться… У кого он только им научился? Не на собственном же опыте? Ведь каждый раз это была самая настоящая пытка! И даже добрая Таня, которая всегда защищала маленького Фурмана от своего озабоченного братца, ничего не могла с этим поделать. Потому что хитрый Вовка на каждом шагу предлагал Фурману поспорить с ним, а любой, даже самый безобидный спор в силу естественной разницы в возрасте неизбежно заканчивался Вовиной победой – и, соответственно, этими чудовищными щелбанами.
– Да я их как сейчас помню! Небось до сих пор отпечатки видны, а? Видны?.. – поддал жару Фурман. – О бедных Вовиных пальцах я уж молчу. Вообще непонятно, как ему после таких ударов удалось стать художником? Другой человек и лопату-то с трудом смог бы ухватить. Может, он рисует, держа кисточку ногой? Или во рту?..
Публика казалась смущенной, и Фурман заторопился:
– Короче, очень любя Вову, я по трезвом… или, наверное, лучше сказать – по зрелом размышлении готов признать, что да, он прав: в детстве я, возможно, действительно «был голова». Ему, конечно, видней. Прошедшее время глагола тут вполне уместно, и Вове, безусловно, есть чем гордиться. Предлагаю выпить за этот маленький Вовин успех и пожелать ему новых, не менее славных успехов – но только уже с другими людьми, если можно. Ура!
Все завороженно чокнулись. Секунд через десять до пары слушателей понемногу начал доходить смысл шутки, и они, выпучив глаза, принялись путано объяснять его остальным.
– Ну, Сашка, ты даешь! – сказала Таня. – Я от тебя такого, если честно, не ожидала. Пожалуй, за это дело придется еще выпить. Налейте-ка мне!
– Вот видите, а я что вам говорил?.. – скупо улыбнулся Вова и, подмигнув Фурману, удалился.
Из вежливости Фурман решил еще немного посидеть в этой гостеприимной, но очень быстро и бессмысленно спивающейся компании. В какой-то момент к нему сзади незаметно подобралась Таня и горячо зашептала на ухо: «Сашка, ты не обидишься, если я на правах твоей старшей сестры сделаю тебе комплимент?» Осторожно кивнув, Фурман услышал, что среди всех этих занудных старперов, сумасшедших художников и прочих подозрительных Вовкиных друзей он выглядит единственным нормальным человеком. И костюмчик сидит на нем просто отлично (последнее Фурмана особенно обрадовало). «Я тебе даже больше скажу, раз уж пошла такая пьянка. Ты здесь самый красивый парень. Серьезно, Сашка, я тебя не обманываю, – приговаривала Таня. – Можешь мне поверить, я в этих делах, слава богу, кое-что понимаю… Я уж не говорю о том, что ты здесь самый умный – да ты наверняка и сам это понимаешь… Поэтому давай потихоньку от всех выпьем – за тебя, Сашка!.. Нет, сейчас за тебя! А теперь – за нас!.. Ну-ка, плесни мне чего-нибудь…»
Вернувшись в свое кресло, Фурман ошалело долистал альбом с желтовато-землистыми и зеленовато-перламутровыми в алых всполохах человеконенавистническими видениями Босха и понял, что ему надо немножко проветриться.
В прихожей он обнаружил сильно припозднившихся гостей: высокую, эффектно одетую женщину и стройного брюнета с ярким девичьим румянцем на щеках и презрительным огненным взглядом. Хотя они были совершенно не похожи друг на друга, Фурман решил, что это мать и сын (на два-три года постарше его самого). Но они оказались «парой». У женщины было характерное «лицо львицы» – слегка вытянутое, с утолщенной переносицей и небольшими, широко посаженными внимательными глазами. Манерная гибкость ее движений и хрипловатый голос лишь подтверждали это сходство. Новыми гостями занялась подоспевшая Таня, и Фурман побрел дальше по коридору.
Дверь в маленькую комнату, где еще несколько лет назад очень замкнуто жили старенькие деревенские родители тети Полины, была приоткрыта, и он заглянул внутрь. Мебели, принадлежавшей старикам, там уже почти не осталось, комната явно стояла бесхозной, и теперь в ней осела часть Вовиных приятелей. Среди них был и тот спорщик с плутоватым взглядом. Увидев на пороге Фурмана, он подмигнул ему, и этот случайный знак внимания втянул Фурмана в комнату.
Немногочисленные сидячие места были заняты, а торчать у стены, прислушиваясь к чужим разговорам, было как-то глупо. Он уже собрался пойти посмотреть, что делается на кухне, когда у кого-то возникла идея устроить здесь танцы (раздвинуть столы в «детской» хозяева не разрешили, поскольку там планировалось чаепитие). Позвали Вову, приволокли магнитофонную приставку «Нота» (у Фурмана дома была такая же), с нескольких неудачных попыток подсоединили ее к доисторическому телевизору с водяной линзой, и… «one, two, three!» – заколотил, зазвенел, запилил, завизжал и захрипел рок-н-ролл, о-йе!
Танцевать, впрочем, никто не торопился, хотя многие стали покачиваться и отбивать ногами такт. Два высоких плечистых мужика, стоявшие у окна и увлеченные серьезной беседой (оба были скульпторами, как уважительно уловил Фурман из обрывка их разговора), с легкой досадой пытались переговорить этот шум. Кто-то из гостей, поморщившись, вышел, но на звук явились и желающие активно повеселиться. Не притормозив на пороге, пружинистой вихляющей походкой, возбужденно посверкивая глазками и даже как бы принюхиваясь, в пустой круг ворвалась длинноногая «львица» в высоких облегающих сапогах на каблуке и короткой, лихо завивающейся шерстяной юбочке. Фурман ждал, что следом возникнет и ее юный красавец-кавалер, но он, похоже, где-то затерялся. Сделав приглашающее движение бедрами, «львица» обвела всех веселым вызывающим взглядом и низко проворковала: «Ну, мальчики, кто из вас хочет со мной потанцевать?»
У Фурмана мелькнула гадливо-восхищенная мысль, что никакая, даже самая гениальная актриса не смогла бы точнее изобразить этот женский тип – здесь не было ничего лишнего или случайного, абсолютная вписанность в роль! Двусмысленные улыбки мужчин говорили о том, что все они это оценили. Однако вызов никто не принял. Пауза затягивалась. «Ну же, господа! Я жду!» – капризно притопнула престарелая Кармен.
Скульпторы раздраженно покосились в ее сторону. И тут на сцену неожиданно выступил единственный герой. Им оказался тот самый плутоватый фурмановский приятель с глубокими залысинами. Сосредоточенно глядя в пол, он сделал пару мягких, скользящих шажков в круг. Фурман подумал было, что он просто решил смыться от греха подальше. Но он вдруг остановился напротив удивленно замершей кокетки, словно наткнувшись на какое-то невидимое препятствие, со скучающим наглым выражением уставился ей в глаза («Он ее сейчас ударит!..» – мелькнула у Фурмана сумасшедшая мысль), чуть согнул колени, приподнял локти – и вдруг довольно ловко задвигался, сразу поймав ритм. Она защелкала пальцами и закивала, одобрительно следя за его движениями, потом с довольным видом завертела юбочкой и тоже вступила в танец. Конечно, оба были немолоды и немного неловки, но в целом у них получалось очень неплохо. Местами даже здорово. И кое на какие весьма рискованные трюки они отважились! Почему-то только теперь Фурман оценил и стильную коричневую джинсовую куртку плешивого (такой цвет был большой редкостью; да ведь и о «настоящих» фирменных джинсах Фурман со своими жалкими болгарскими Rila и польскими Miltons даже мечтать не мог), и его явно заграничные носки (поскольку тапочек на всех гостей не хватило, многие ходили босиком)…
Танцоры приклеились друг к другу взглядом и явно получали удовольствие от своих выкрутасов. «Львица» даже ойкала и поощрительно поухивала на особо крутых поворотах. В один из проходных моментов она наконец решила познакомиться со своим замечательным партнером, и между ними завязался прерывистый дискотечный диалог. Фурман с улыбкой прислушивался к спокойно-уклончивым ответам плешивого ловкача, который вызывал у него все бóльшую симпатию.
В дверях появился усталый Вова. Похоже, он искал здесь какую-то потерянную вещь. Бросив равнодушный взгляд на пару, он слегка удивился, потом одобряюще кивнул Фурману и опять исчез.
Стоявшим у окна скульпторам, судя по их мелким нервным подергиваниям, уже давно хотелось курить, и они вдруг сообразили, что могут продолжить свою беседу и на лестнице. Крепкие ребята двинулись к выходу кратчайшим путем, презрительно не глядя под ноги и вынудив танцующих в самый последний момент перед столкновением резко вильнуть в сторону. Приостановившись и поджав узкие губы, плешивый посмотрел им в спины с такой глубокой укоризной, словно держал наготове нож или пистолет, но «львица» мягко заставила его не отвлекаться на пустяки. Фурману сразу представилась развернувшаяся драка, в которой невзрачный герой с хладнокровным отчаянием опытного уличного бойца сокрушал своих нагловатых атлетичных противников (квартира при этом сильно страдала)…
Какая-то настырная полнотелая девушка с косичками вытащила в круг тощего, коротко стриженного парня в болтающемся темном костюме. Мастера элегантно уступили им часть тесноватой площадки, но эти нескладехи-деревенщины еле-еле продержались до конца композиции, и последовать их позорно самонадеянному примеру больше никто не решился.
Минут через пятнадцать бодрые старички начали выдыхаться. Стало слышно, как они сопят, да и колени у них уже плохо гнулись, хотя они по-прежнему старались вовсю. Провернувшись в каком-то кривовато-немыслимом завершающем акробатическом кульбите, осчастливленная «львица» за руку утянула своего плешивого рыцаря на перекур.
Рок-н-ролл продолжал звучать, но в комнате сразу стало пусто и скучно. Фурман сходил на кухню, где в последней фазе велась подготовка к чаепитию, предложил там свою помощь и обменялся шутливыми комментариями с Таней, потом посетил сонное собрание взрослых в гостиной, заглянул в «детскую», в которой мутно общались остатки упившейся компании, и вернулся в маленькую комнату, благо там появилась пара свободных стульев.
Отдохнувшие танцоры с деловитым видом приступили к своему занятию, но Фурман почти сразу заметил, что в их манере появилась какая-то машинальная техничность. Им обоим по-прежнему нравилось вместе двигаться под музыку, однако что-то изменилось в их касаниях, обмене взглядами и улыбками – они как будто перестали быть просто «случайными попутчиками» и по-настоящему захватывающий танец сейчас совершался в «параллельном измерении», едва уловимом для постороннего наблюдателя. Фурман даже специально отвлекся, чтобы проверить, видит ли происходящее кто-нибудь еще, и с гордой печалью убедился, что все остальные слепы или по крайней мере им это совершенно не интересно. А он все смотрел, думая о том, почему же ему так не хочется назвать эту веселящую, греющую тягу двух опытных игроков, соскучившихся по достойному партнеру, «любовью».
Но в какой-то момент в темном дверном проеме высветилось белое лицо и сверкнули огненные глаза другого наблюдателя, о котором все, похоже, уже забыли. И лицо это было искажено гримасой яростного понимания… Или непонимания – еще более яростного. Парень рванулся в комнату, но те, кто пришел с ним, крепко держали его, прихватив за плечи, а потом увели.
Во время этого короткого эпизода «львица» с бесстыдной ловкостью крутила задом, располагаясь спиной к двери. Ее партнер при виде взбешенного соперника на мгновение растерялся и отвел глаза (Фурман даже успел пожалеть его), но тут же собрался и несколькими хитроумными па вынудил «львицу» пропустить очередную смену позиций. То есть позаботился о том, чтобы она не встретилась глазами со своим ревнивым юношей. Фурман увидел в этом проявление некоего мужского благородства. Но ему стало тоскливо: хотя танец еще продолжался, веселая игра закончилась, и где-то в недрах дядиной квартиры, похоже, назревал новый опасный скандал.
Вскоре в дверях появились нехорошо улыбающиеся доброхоты-разведчики и жестами показали своему приятелю, что на него готовится засада, однако пока все тихо, а ребята стоят «на стреме».
Приняв это сообщение к сведению, плешивый рыцарь в удобный момент проинформировал свою даму о том, что они раскрыты. «Львицу» это раздосадовало, но ничуть не испугало. Тем не менее они остановились и, отойдя к окну, начали негромко что-то обсуждать. По его уклончиво застывшему лицу ничего нельзя было прочитать, а ей, видимо, не нравилась неопределенность, и она несколько раз с напором спросила: «Я не понимаю – так мы вместе?.. Ты со мной?» Склонив голову набок и покраснев, он сказал, что должен немного подумать. Потом твердо ответил: «Да. Я с тобой». – «Тогда давай просто сбежим отсюда! – обрадовалась она. – Прямо сейчас!» Он спросил куда, и она тут же завалила его вариантами, к кому они могли бы отправиться. Но он отнесся ко всем этим предложениям крайне скептически. Она даже обиделась. «Помолчи минуту, мне надо все как следует обдумать!» – строго сказал он, держа ее за руку. Все ждали. Придя к какому-то решению, он коротко переговорил со своими друзьями и велел ей оставаться здесь с одним из них – а он пока устроит так, чтобы они могли уйти без помех.
Фурман с бьющимся сердцем отсчитал минуту, вышел из комнаты, отыскал Вову и предупредил его о назревающем конфликте. Вова осторожно уточнил у него пару деталей и сказал, что, по его мнению, волноваться не стоит: он знает тех, о ком идет речь, и даже если они захотят выяснить между собой отношения, то сделают это как-нибудь по-тихому и уж точно не здесь. Они обменялись еще какими-то незначащими приветливыми фразами и разошлись.
Между тем в прихожей и на лестничной площадке происходила подозрительная суета и ощущалось возбужденное предвкушение каких-то событий – как догадывался Фурман, там готовился некий отвлекающий маневр с целью временной нейтрализации горячего юноши и его возможных сторонников.
Все это было уже так по-школьному и по-дворовому отвратительно, что разволновавшийся Фурман, не поверив Вове, стал искать, куда бы ему забиться, чтобы случайно не увидеть каких-нибудь лишних ужасов.
Он укрылся в гостиной, но тут, как назло, всех стали зазывать в «детскую» пить чай. Послушное взрослое стадо уже ушло, а Фурман высидел до последнего – пока не заглянула рассерженная Таня и не погнала его ко всем. В маленькой комнате уже никого не было, а дальше путь лежал через прихожую, и, как Фурман ни пытался сопротивляться судьбе, ему опять «повезло». Судя по всему, план плешивого сработал: ловкой парочке только что удалось смыться – даже след еще не остыл, – и обведенный вокруг пальца юноша с помертвевшим белым лицом как раз получал последние боевые инструкции от своих озлобленных, но явно бездарных секундантов. Несколько «совершенно случайно оказавшихся рядом» зрителей откровенно глумились над ними, и после того как жалкого ревнивого мстителя наконец дружески вытолкнули за дверь, словно дав старт прыгуну с трамплина, между враждебными группами вспыхнула перебранка, едва не перешедшая в столкновение. Но поскольку главные события происходили уже не здесь, все быстро успокоились.
Продвигаясь к «детской» вместе с этой компанией, Фурман услышал разговор одного из активных участников интриги с кем-то, кто по пьяни пропустил «все самое интересное». Речь шла о маршруте побега и о том, где сбежавшие – при неудачном стечении обстоятельств – могут быть перехвачены (оба собеседника были местными и хорошо ориентировались в ближайших дворах с их гаражами, помойками и детскими площадками). «И чё тогда будет?» – «Да ничего не будет! – вскипел активист. – Если он никого с собой не приведет, то Лёха быстро с ним разберется и уйдет». – «Так он вроде каратист какой-то, говорили…» – «Да какое там?! Брось! Ты же знаешь Лёху! Он троих таких может положить! А уж один на один… И тем более он с его бабой… По-любому за него нечего беспокоиться».
Вот, значит, как, вяло думал Фурман, по инерции представляя себе последние жестокие сцены этого кинофильма: ночь, заснеженные гаражи, погоня на скользких безлюдных дорожках. Схватка поворачивалась то так, то эдак…
Конечно, для обожравшихся полусонных гостей все эти пышные кремовые торты, шоколадные конфеты и домашние пироги были уже совершенно лишним грузом, как ни упрашивала тетя Полина попробовать по кусочку еще и того, и этого. Надо ведь было еще и до дому добраться.
…Всю долгую дорогу четверо Фурманов молчали, думая каждый о своем. Правда, когда они уже сели в метро, Боря похвалил Фурмана за то, что он догадался выпросить у Вовы Воннегута – мол, хоть какой-то толк от всего этого мероприятия.
У Фурмана было странное ощущение – как будто он недавно вывалился через какую-то дыру из своего небольшого светлого мира, центр которого находился в Петрозаводске, на другую, огромную и уже полузабытую им родную планету, где человеческая любовь по неким объективным, природным причинам не могла существовать в простом и чистом виде, а только в чудовищном смешении с какой угодно нелепостью, грязью, ненавистью, слезами и прахом. Нет, он совсем не хотел здесь задерживаться!
Годный к нестроевой
1
Несмотря на все свои срывы и неудачи, Фурман очень хотел стать хорошим человеком, вести осмысленную, правильно организованную жизнь и приносить пользу людям. Но, вернувшись в конце лета из Петрозаводска домой, он оказался в той же самой точке, что и год назад, после окончания школы, – ни работы, ни учебы, ни хоть сколько-нибудь определенных планов… Только теперь и те из его московской компании, кто был на год моложе, стали студентами.
Чтобы не впасть в отчаяние, Фурман уже с середины августа попытался взять свою жизнь под строгий контроль: сон – не больше восьми часов, затем пятнадцатиминутная физзарядка с гантелями, после завтрака два часа в порядке обязательного самообразования посвящаются изучению истории философии (для начала – по найденному среди Бориных книжек старому «Философскому словарю» и брошюрке Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии») и еще три-четыре часа в течение дня – чтению художественной литературы… А главное, он завел дневник, в котором все должно было планироваться и учитываться: ход учебных и литературных занятий, переписка, встречи, бытовые дела и денежные расходы с точностью до копейки (правда, пока он сам ничего не зарабатывал, из расчетов были исключены домашнее питание и квартплата).
Конечно, ему нужно было срочно искать работу. Самым простым вариантом трудоустройства была почта. Но дойти до ближайшего отделения у Фурмана почему-то никак не получалось, хотя в планах эта задача постоянно фигурировала.
Увы, за его страстным желанием «стать хорошим человеком» скрывалось слишком много запутанных и мучительных переживаний, поэтому прежде всего ему хотелось спастись от самого себя.
Мысль о самоубийстве, как назойливая домашняя муха, залетала в голову Фурмана по любому мелкому поводу. Недостижимым нравственным идеалом оставался для него путь простой, молчаливой и самоотверженной заботы о других, и втайне он мечтал о своем чудесном превращении в кого-нибудь вроде безвестной святой старушки из «Отца Сергия» Толстого. (Например, однажды он случайно попадает в руки бандитов, которые жестоко издеваются над ним, отрезают ему язык, и потом, сбежав от них, он – никчемный немой инвалид – уже не возвращается к родителям, а в каком-то небольшом городе прислуживает за еду и угол в пожалевшей его чужой семье с несколькими детьми. А по ночам, возможно, пишет в своей каморке при слабом свете…) В том же ряду для него находились «бедный идиотик» Мышкин и безответный чеховский герой по прозвищу «Маленькая польза», но благодаря своей подчеркнутой человеческой ущербности и слабости они казались ему намного ближе и понятнее, чем безупречная и совсем уж неразговорчивая старушка Толстого.
Одновременно с этими соблазнительными книжными образцами «тихого самоотречения» (впрочем, его старший брат Боря, скорее всего, назвал бы такой тип поведения «трусливым бегством от своего человеческого призвания») в воспаленном фурмановском воображении полыхали яростно-жертвенные образы Настоящих Коммунистов или, в более компромиссной формулировке, – Передовых людей своего времени. Всего пару лет назад и сам Боря – добровольно уехавший после окончания института в глухой поселок на Камчатке, чтобы там, вдали от родителей, совершить какое-то выдающееся научное открытие в области физики, которое изменило бы судьбу человечества, – в глазах подростка Фурмана принадлежал к когорте этих великих «огненных змееборцев» – вместе с Лениным, Маяковским, киноактером Баталовым и героями братьев Стругацких. В своих пламенно-высокомерных проповедях Боря доказывал ему, что быть «просто хорошим человеком» – это слишком мало и даже недостойно по отношению к подлинному человеческому призванию. Пошловатая «теория малых дел» не работала, мир и людей, погрязших в мещанском самодовольстве, необходимо было изменить радикально, но желательно – на этот раз – без крови. А единственным известным человечеству инструментом разумного изменения действительности было научное знание, опирающееся на передовое, революционное философско-историческое мировоззрение. (Удивительным образом сама речь об этих грандиозных «инструментах изменения действительности» рождала и у того, кто говорил, и у того, кто молча слушал, ощущение фантастической власти над миром.) К сожалению, в институтах, по словам Бори, сейчас учили совсем не этому, а какой-то примитивной псевдокоммунистической схоластике и элементарному приспособленчеству. Но при желании овладеть передовыми взглядами можно было и не поступая в институт (и даже, в принципе, вообще не выходя из дома), а занимаясь исключительно самообразованием. Кстати, многие известные люди, причем не только революционеры, но даже и великие ученые, учились именно так. Взять хотя бы того же Эйнштейна, у которого не было никакого высшего образования! Но настоящее, серьезное самообразование требовало двух обязательных вещей: во-первых, наличия свободного времени, а во-вторых, ясной головы… Собственно, эти соображения и мешали Фурману дойти до почты. Как он узнал еще в Петрозаводске, рабочий день почтальона начинался в 5:30 утра, и хотя потом между утренней и вечерней сменой был большой перерыв, после такого постоянного недосыпа ни о каких серьезных умственных занятиях можно было уже не думать. К тому же и все вечера были бы заняты – значит, от общения с друзьями ему тоже пришлось бы отказаться. А тогда зачем все это нужно – только ради каких-то мифических денег? Да лучше вообще не жить!..
Мама посоветовала Фурману сходить на телефонную станцию и узнать, нет ли там какой-нибудь работы.
В отделе кадров, несмотря на общую казенную обстановку, было довольно уютно – повсюду цветочки в горшочках, цветные календари, какие-то плакатики… За столами сидели трое: сухонький дядечка с хитроватыми глазками, пышная крашеная блондинка средних лет и простодушно-старательная девушка-секретарша. Судя по открытой коробке с шоколадными конфетами и другим разложенным сладостям, они не просто пили чай, а отмечали какой-то праздник. Появление Фурмана было встречено всеми с каким-то необъяснимым воодушевлением: мол, работники нам, конечно же, нужны, тем более такие молодые и симпатичные. Нет профессии? Это не проблема, мы всему, что надо, научим! Короче, оформляй бумаги, и прямо с понедельника можешь приступать к работе!.. Но, узнав между делом, что он освобожден от службы в армии, и на всякий случай заглянув в его военный билет, все как-то нехорошо изменились в лице – оказалось, что с такой статьей, как у него, нельзя работать на шумном производстве, а у них же здесь постоянный шум, и к тому же режимное предприятие…
На улице Фурман облегченно выдохнул (он ведь правда был не виноват, что его не взяли!) и пошел домой, напевая какую-то бодрую песенку. Однако потом все же призадумался над своей «ограниченной годностью». Среди прочего ему сообщили, что он не сможет получить водительские права. Эх, значит, не суждено ему стать водителем троллейбуса и даже трамвая! И зря он в детстве тренировался на велосипеде: мягко тормозил, объявлял остановки, «открывал и закрывал двери»… «Ты опасен, – с грустной насмешкой сказал он себе. – Тебе нельзя доверить человеческие жизни».
2
В течение нескольких следующих месяцев знакомые с разных сторон пытались помочь Фурману устроиться на работу. Его обнадеживали, он ходил беседовать с начальством, потом подолгу ждал результатов… За это время его так и не взяли: курьером в ведомственную газету «Лесная промышленность», ассистентом режиссера в телевизионную редакцию детских программ, работником по обслуживанию мощного копировального аппарата на секретное предприятие «Союзэнергозащита» (туда-то его уж точно не пропустило КГБ; но надо сказать, что знакомые, продвигавшие Фурмана на это место и параллельно основной работе увлекавшиеся йогой и оккультизмом, действительно строили большие планы на «своего человечка» при запретном для простых граждан ксероксе). Кроме того, выяснилось, что в двух ближайших почтовых отделениях почтальоны не требуются.
Несмотря на столь явное сопротивление судьбы, пассивность самого Фурмана вызывала все большее раздражение у окружающих. О родителях и говорить нечего. А Мариничева, «как член партии», даже пригрозила сообщить «куда надо», что он злостный тунеядец. Брякнула она это скорее всего в грубо «воспитательных» целях, но за тунеядство вполне могли посадить, поэтому Фурмана такая абсолютно недружественная выходка сильно обидела.
Извинением Мариничевой могло служить лишь то, что этой осенью она впервые в жизни оказалась брошенной любимым человеком, который до этого ради нее ушел из семьи. Опухшая от слез, трясущаяся, жалкая, Ольга две недели безвыходно просидела в своей однокомнатной квартире в Химках – «снятой для счастья», как она, всхлипывая, повторяла, – и вся их компания по очереди ездила ее навещать, как тяжелобольную, доставляя ей кое-какие продукты и быстро кончавшиеся сигареты. А потом она как-то упросила одного из своих припозднившихся юных посетителей не уезжать – и случилось то, что должно было случиться. Узнав об этом на следующий день, Фурман испытал одновременно гнев, легкую постыдную зависть и смешливую радость оттого, что «пуля просвистела совсем рядом» – ведь и он несколько раз поздними вечерами покидал Ольгу с острым чувством вины… Но нежелание оказаться в ситуации, где все предопределено, побеждало. Впрочем, сам «пострадавший» совершенно не чувствовал себя жертвой, даже наоборот, поначалу наивно раздулся от новых впечатлений и собственной значимости. А Ольга, оправдываясь, говорила Фурману, что в тот момент ей было очень важно быть с кем-то, все равно с кем, – «элементарно, чтобы не наложить на себя руки». Естественно, ее новый роман протянул очень недолго, и, когда Мариничева, «вернувшись в свое рабочее состояние», приняла решение его завершить, все это только одобрили. Обиженного мальчишку сперва добродушно пожалели, потом, когда он стал слишком уж зарываться в своей «морально-нравственной критике» в адрес Ольги, мягко пристыдили, и жизнь пошла дальше.
В начале декабря Фурмана наконец удалось пристроить на должность художника-оформителя в небольшую районную библиотеку, где работала методистом бывшая однокурсница Мариничевой. Для Фурмана она была легендарным персонажем из рассказов Ольги об их с Наппу бурной студенческой юности, и возможность наладить дружеское общение с этим заведомо почти родным человеком скрашивала все неприятные обстоятельства, связанные с поступлением на службу.
Библиотека, носившая имя Сергея Есенина, находилась на противоположном конце города – дорога в одну сторону занимала у Фурмана час с четвертью.
Директор, пожилая интеллигентная женщина с живы ми и цепкими карими глазами, была, как заранее предупредили Фурмана, очень больна и в последнее время редко появлялась на работе. Проведя с Фурманом короткую ознакомительную беседу, она вскоре плохо себя почувствовала, и ее пришлось отправить домой на такси. Впрочем, особой нужды в постоянном присутствии начальства не было: в большей части библиотечных помещений уже полгода шел вялый капитальный ремонт, основные фонды были законсервированы, читальный зал не работал, и поток посетителей сократился в несколько раз. Повседневное руководство коллективом осуществляла заместитель директора – низкорослая очкастая тетечка с властными манерами школьного завуча.
Из-за ремонта обязанности художника-оформителя были достаточно условными, поэтому Фурман в основном занимался тем же, что и четверо других «рядовых» сотрудников (естественно, это были девушки): перебирал каталоги, расставлял в правильном порядке книги на полках и работал с посетителями «на выдаче». Больше всего ему нравилось вежливо и внимательно обслуживать читателей, и чуть ли не в первый же день кто-то из них поблагодарил его. Понемногу освоившись, он в периоды дневного затишья иногда стал позволять себе скрываться в лабиринте высоких стеллажей с наглухо запакованными «фондами» и почитывать там найденные в открытом доступе книжечки. Пару раз девушки-коллеги, добровольно взявшие над ним своего рода «шефство», с укоризненным видом предупреждали его о приближении мымры-надсмотрщицы и о необходимости изобразить перед ней какую-нибудь активную трудовую деятельность.
Подруга Мариничевой за все это время промелькнула в тихих библиотечных коридорах лишь однажды. Когда Фурман с равнодушным видом наконец поинтересовался у самой бойкой из девушек, почему методиста почти никогда нет на работе, выяснилось, что она числится то ли в какой-то «длительной научной командировке», то ли в отпуске в связи с защитой кандидатской диссертации и «освобождена от необходимости бессмысленно торчать здесь целыми днями, как все прочие смертные». Надежды Фурмана на встречу рухнули. Мариничева, как всегда, просто заманила его своими обещаниями в эту затхлую дыру, чтобы «снять проблему»…
На третьей неделе работы ему вместе со всеми без исключения сотрудниками библиотеки имени Сергея Есенина довелось принять участие в довольно экзотическом мероприятии – изъятии из пользования и уничтожении официально запрещенных книг. По такому случаю библиотека была закрыта на «санитарный день». На черной «Волге» прибыли представители какого-то высокого районного начальства. Всем было предложено ознакомиться с копией министерского приказа под грифом «Для служебного пользования», в котором имелся список подлежащей уничтожению литературы. Разволновавшегося Фурмана поразило то, что в нем перечислялась не какая-то политическая крамола, а самые обычные книжки: стихи для детей, его любимая детская повесть «Как папа был маленьким», сборники советской научной фантастики (один из них имелся у него дома), роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» и даже какие-то нотные тетради… Все та же бойкая девушка, за плечами которой был библиотечный техникум, по-свойски объяснила ему, что авторы этих книжек, скорее всего, удрали за границу, поэтому их произведения и приказано изымать. «Конечно, это неправильно, что библиотечным работникам приходится своими руками уничтожать ни в чем не повинные книги, но ничего не поделаешь, мы люди подневольные», – меланхолично заметила она.
Фурман с колотящимся сердцем убежал в дальний коридор и стал лихорадочно представлять себе, что произойдет, если он нарушит круговую поруку и прямо откажется участвовать в этом чудовищном варварстве. А может, старуха-директор пожалеет его и себя и отпустит по-тихому домой – мол, просто разболелась голова у человека… Но что будет завтра? Неужели он вернется сюда как ни в чем ни бывало? Какими глазами будут смотреть на него все эти девки? Уволиться прямо сейчас? Со скандалом? С исключением из комсомола, позорным выкидыванием на пенсию директора, которая взяла его на работу, партийным выговором методисту, возможными неприятностями у родителей, жесточайшей ссорой и даже разрывом с Мариничевой и Наппу?.. Готов ли он к таким последствиям?
…Во дворе полыхает огромный костер из книг, и он шагает в огонь… Жалкие рыдания девок, белое виноватое лицо мариничевской подруги…
Фурман все же сумел найти для себя относительно «мирный» выход: он решил принять самое активное участие в розыске книг из списка, чтобы, обнаружив их первым или же любой ценой выманив у девушек, перепрятать в надежное место и потом унести домой. Но, несмотря на проявленное им усердие – которое, кстати, было даже отмечено бдительным районным начальством, – ни одна из них ему так и не встретилась. И хотя какой-то небольшой улов у этих фашистов, фашистов, фашистов! – все же был, самой процедуры «физического уничтожения путем сжигания или изрезывания ножницами», как было сказано в приказе, он, на свое счастье, тоже не увидел – ни его, ни девушек к такому важному государственному делу просто не допустили.
3
После этого ужасного дня Фурманом овладело тоскливое, цинично-наплевательское отношение ко всему окружающему. Работать с читателями ему почему-то больше не поручали, и, тупо отсиживая положенное время среди сонного нагромождения книжных шкафов, он чувствовал, как невидимая библиотечная пыль слой за слоем откладывается в его легких, а кончики пальцев от бесконечного перебирания каталожных карточек словно покрываются сухой коркой.
Заместитель директора Лидия Семеновна, которой с самого начала явно не нравился его не оговоренный с нею, да и вообще довольно туманный «особый статус», неожиданно велела ему заняться оформлением какого-то выставочного стенда, прежде заброшенного из-за ремонта, а теперь якобы срочно понадобившегося. На стенде кем-то уже были наклеены нелепые объемные конструкции из плотной бумаги, и от Фурмана требовалось с помощью пера и туши вписать в соответствующие «окошечки» дополнительную информацию. Задание оказалось не таким уж и простым. Положить стенд на пол не удалось из-за тесноты, и Фурман с двумя девушками кое-как водрузили его на стол, прислонив к задней стенке книжного шкафа и подперев снизу толстыми энциклопедическими томами, чтобы не «поехал». Когда дело дошло до заполнения «окошек», стало понятно, что они слишком глубокие и узкие, и чтобы написать что-то на их «донышке», ручку приходится все время держать на весу в горизонтальном положении. Через два часа напряженной работы у Фурмана безнадежно затекли руки. Буковки, естественно, получались уже не такими стройными и аккуратными, как вначале. По-хорошему, следовало бы на этом остановиться и доделать все завтра, тем более что до конца рабочего дня оставалось уже меньше часа. Чтобы не тратить время зря, Фурман попросил вертевшуюся неподалеку тихую длинноволосую девушку передать это предложение Лидии Семеновне. Но девушка вернулась со строгим наказом: все нужно закончить сегодня. Ладно, огорчился Фурман, раз качество никого не интересует, мне-то что?
Однако вскоре Лидия Семеновна пожаловала с проверкой. Заглянув в последние, действительно уже кривовато заполненные «окошечки», она заявила, что вся работа никуда не годится. Продолжая выписывать буковку за буковкой, Фурман терпеливо начал объяснять, почему качество к концу стало ухудшаться, но был прерван неожиданным вопросом: «А почему ты (так она обращалась ко всем подчиненным) позволяешь себе сидеть, когда с тобой разговаривает человек намного старше тебя по возрасту? Не говоря уже о том, что этот человек – женщина. Видимо, те кто занимался твоим воспитанием, забыли научить тебя правилам культурного поведения в общественном месте».
От столь «изысканной» школьной наглости Фурман, все это время сидевший на стуле задом наперед в рискованной рабочей позе с опорой на две ножки, жестко и с громким стуком приземлился, едва не опрокинувшись. Возможно, он уже очень устал, но ядовитая атака этого несчастного существа его даже слегка насмешила. На секунду он с машинальной готовностью задумался над вопросом, кто и при каких обстоятельствах обучал его правилам этикета. Впрочем, и «человек-женщина», и «общественное место» были настоящими перлами. Очнувшись, он сказал с добродушным упреком:
– Лидия Семеновна! Ну зачем вы так со мной разговариваете? Вы же видели, что я продолжаю работать. Откуда мне было знать, что вы собираетесь что-то со мной обсуждать? Может, вы просто шли мимо и остановились на секунду. Если вы хотите присесть – пожалуйста, вот свободный стул. Я не понимаю, зачем вокруг этого разводить такие сложные церемонии. Возможно, вы правы, и я чему-то так и не научился у своих воспитателей. Хотя на самом деле я не думаю, что с моими манерами все так уж плохо. Неужели вы правда считаете, что при вашем появлении я должен был немедленно бросить срочную работу, которую вы же мне и поручили, и встать перед вами по стойке смирно? Мы ведь вроде в библиотеке, а не в армии. И, кстати, почему вы всем нам «тыкаете», хотя мы вежливо обращаемся к вам на «вы»? По-моему, это никак нельзя назвать «культурным поведением в общественном месте»…
Тихая девушка, которая прислушивалась к их разговору, для виду разыскивая что-то на соседних стеллажах, давно уже стояла с испуганно открытым ртом. Сама Лидия Семеновна смотрела на Фурмана сверху вниз (видимо, это был редкий для нее ракурс, учитывая ее рост) со странным выражением, которое из-за сильно увеличивающих стекол очков можно было принять за спокойное охотничье любопытство.
– Продолжай-продолжай! Я с интересом тебя еще послушаю. Ты говоришь довольно неожиданные для меня вещи. Очень хорошо, что ты наконец решил раскрыться перед нами и мы можем понять, что ты за человек. Ведь до сих пор ты в основном только молча улыбался. И мы все гадали, что же за этим может скрываться. Но должна при знать, что улыбка у тебя хорошая.
Фурман решил, что надо немного сбавить тон.
– Лидия Семеновна, я совершенно не собираюсь с вами ссориться. Просто мне стало обидно, когда вы не глядя назвали все сделанное мною «халтурой», да еще и несправедливо отозвались о моих воспитателях. Я во обще очень не люблю халтурить – так уж меня воспитали. Поэтому я работал честно, старался, делал что мог – и если оценивать результат моего труда объективно, то бóльшая часть получилась нормально и даже хорошо. Я пытался вам объяснить, почему некоторые места вышли хуже, но вы даже не стали меня слушать. Если вам не нравятся какие-то конкретные детали, то их легко можно переделать – я готов, тут нет никаких проблем! Хотя лучше сделать это завтра, на свежую голову, как я вам уже предлагал. Кстати, о «халтуре»: официально наш рабочий день закончился почти час назад, но я остался по вашей просьбе, чтобы доделать все сегодня, пусть и в ущерб качеству из-за спешки. Могу сидеть здесь хоть до полуночи, если надо…
Однако Лидия Семеновна оказалась опытным и чрезвычайно выносливым спорщиком-скандалистом. Слово за слово, один запальчивый аргумент за другим завели этот разговор очень, очень далеко. Бедная девушка, которую она в какой-то момент привлекла в свидетели своей хитрой правоты, теперь смотрела на Фурмана со злым осуждением, как на опасного возмутителя спокойствия, покусившегося на основы. Но и они его сильно недооценили: в конце концов, когда в окопах начало происходить уже что-то похожее на братание изможденных противников, он сказал им, что увольняется. С завтрашнего дня. Как это?! Они еще долго не могли поверить, что он это вправду сделает. Пытались доказать ему и себе, что это невозможно по самым разным причинам – юридическим, моральным, финансовыми просто человеческим. Пытались ему угрожать, а потом стали извиняться за свою грубость и жестокость. Но было уже поздно. Он написал на имя директора заявление об уходе по собственному желанию по причине неразрешимого конфликта с коллективом и…
Свободен, о боже! Свободен!
Дневниковая запись Фурмана на отдельном листке
27 декабря 1976
Последнее время мне часто кажется, что действительно жизнь моя глупа и легка до отвращения и удивления и является она сплошь проявлением какой-то придуманности и психопатства: все эти безработности, отказы от институтов, споры со старушками и бабками (может быть, я и впрямь упоминал Маркса, когда ругался с Лидией Семеновной в библиотеке, – не помню четко)…
Охотники на привале
Осенью уже почти угасшая мечта Фурмана о дружеском эпистолярном общении получила неожиданное развитие. После его возвращения в Москву сразу с десяток «товарищей» вдруг захотели вступить с ним в переписку, а вскоре «эпистолярная эпидемия» охватила и часть его московского круга. Теперь он получал и отправлял по два-три письма ежедневно, и чаще всего это были не какие-то коротенькие записки, а многостраничные послания, полные изощренной словесной игры, взаимной воспитательной заботы и изысканных лирических наблюдений. Над некоторыми своими письмами Фурман проводил по нескольку дней и ночей, и это время казалось ему лучшим в его бессмысленно утекающей жизни.
Нередко переписка была намного увлекательнее, чем реальные встречи и разговоры. За эту осень у него дома «с ответными визитами» перебывало немало гостей из Карелии. Принимая на своей территории и без того немногословных северян, мгновенно оглушаемых и подавляемых его огромным родным городом, он ощущал странную раздвоенность. Их полугодовая общая жизнь, внутри которой они были важны друг для друга, стремительно превращалась в обычные, ни к чему не ведущие воспоминания, и точки живого соприкосновения с каждым из гостей приходилось нащупывать чуть ли не заново. Но попытки Фурмана завязать «серьезный разговор» по большей части оказывались совершенно неуместными – для провинциалов поездка в столицу на пару-тройку дней была захватывающим приключением, которое требовало от них особой сомнамбулической сосредоточенности, и обычно к вечеру они уже просто валились с ног от усталости. Ждать от этих бедных затерянных путешественников какого-то «глубокого общения» было глупо, совсем не за этим они приезжали, но Фурман все равно каждый раз испытывал разочарование.
Самым неожиданным для него стало появление «товарищеского» комиссара Наташи. В своем коротком предупредительном письме она сообщила, что собирается в Москву «по личному делу», о котором в Петрозаводске никто не знает, и ей нужно всего лишь где-то переночевать. Фурману очень не понравились ни ее секреты, ни то, что его так откровенно используют, но, справившись с гневом, он все же решил честно отыграть роль гостеприимного хозяина. Видимо, это ему удалось, потому что в следующий свой трехдневный приезд Наташа держалась уже вполне дружелюбно – даже чмокнула его в щеку при встрече на вокзале и по-свойски взяла под руку (и то и другое в их юношеских компаниях абсолютно не было принято и молчаливо считалось «пошлостью»). В последний вечер они осторожно разговорились на кухне, и тут Наташе вздумалось на всякий случай проверить, известно ли ему что-нибудь о ее Ужасной Главной Тайне. Фурман поначалу насмешливо наблюдал за ее наивно упрямыми манипуляциями и обходными маневрами – и вдруг почувствовал острую, почти до слез, мстительную жалость к этой чужой, запутавшейся в собственных интригах девушке… Как бы то ни было, дразнящая игра в уклончивые вопросы и ответы с роковой неизбежностью подвела их к той странно волнующей точке, в которой Наташу внезапно пронзила кошмарная догадка: «Так ты все знал!» Фурман печально кивнул. «И молчал?! Но почему?! Хотя нет, можешь не отвечать. Теперь я, кажется, многое начинаю понимать… Но ведь это означает, что и другие тоже знают?..» Она потрясенно качала головой, повторяя: «Не может быть… я тебе не верю… этого просто не может быть! Признайся, ты меня разыгрываешь?..» Но потом у нее возникла «объясняющая» ассоциация со сказкой о голом короле – и она сердито расплакалась. Фурману пришлось ее успокаивать и убеждать, что знают не все, а только несколько человек; что это вовсе не ситуация «публичного позора», как ей показалось в первый момент; и что он лично совсем не осуждает ее, а наоборот, сочувствует и уже давно думает, как ей можно помочь (действительно, еще весной, в Петрозаводске, он пытался написать Наташе письмо, но так и не смог найти правильную интонацию)… Впрочем, оказалось, что все произошло как раз вовремя. Раньше тайна создавала между ними непреодолимую дистанцию взаимного недоверия, но теперь Наташа, по ее признанию, уже и сама готовилась к тому, чтобы серьезно повернуть свою жизнь, и была благодарна Фурману за возможность выговориться. При этом она никого не винила, ни о чем не жалела и по-женски гордилась собой. Фурман даже позавидовал ее внутренней независимости и отваге, с которыми она относилась к собственной судьбе.
Именно такие рискованные разговоры, требовавшие от собеседников полной самоотдачи, чреватые опасными открытиями о себе самих и необратимыми внутренними изменениями, он и ценил в общении больше всего. Неудивительно, что третий, последний визит Наташи в Москву совпал с его увольнением из библиотеки…
Отношения Фурмана с четырьмя московскими участниками переписки в разное время складывались по-разному.
Вальку Юмашева еще в мае забрали в армию (Фурмана как раз тогда же положили в психушку на экспертизу). Часть, в которой он служил, находилась в двадцати минутах езды от фурмановского дома, и, получив увольнительную, Валька обычно забегал к нему помыться и переодеться в «гражданское» (он считал, что при дефиците времени глупо ехать только ради этого в подмосковное Переделкино к маме; да и горячей воды у них там не было). В своих простодушных посланиях Валька жаловался на ужасную скуку армейской жизни, и Фурман старался развлечь его свежими «клубными» новостями и гротескными описаниями общих знакомых.
Наиболее интенсивный обмен письмами установился у него с художницей Соней Друскиной. Будучи на три года старше Фурмана, Соня, как и он, нигде не училась (хотя и пыталась поступить в художественное училище) и не имела постоянной работы (хотя в газете ей регулярно заказывали небольшие рисуночки, которые принесли ей определенную известность). Зато у нее было полно свободного времени, она много читала, легко срывалась с места ради дружеских встреч и с ироничной готовностью поддерживала разговоры на любые «серьезные темы». При этом Соня нередко бывала чудовищно капризной, безумно обидчивой и до смешного брезгливой. Первое время она даже в общем поющем кругу всегда стояла отдельно, разрывая братскую цепочку и никому не позволяя до себя дотронуться. Но бесстрашным комиссарам Мариничевой и Фурману, которые видели в ее «антиобщественных закидонах» особый педагогический вызов, постепенно удалось слегка «приручить» это, как говорила Ольга, «дико талантливое и в то же время жутко эгоистичное существо».
В дружеской эпистолярной игре Фурман, рассчитывая на свойственное Соне жесткое чувство юмора, позволял себе довольно далеко заходящую фамильярность и прочие «стилистические вольности».
19 октября 1976
Добродушный день, эфемерное создание! …Политических новостей у нас нет, а в личной жизни мы постриглись и побрились как молодой человек.
По поводу Ваших эпистолярных предложений я готов и в нетерпении жду всего перечисленного и обещанного Вами, не говоря уже о том, о чем можно только мечтать, надеяться и грустить. Так могучий раскидистый дуб ждет весну, зябко морща толстую кожу во время порывистого ветра без существенных осадков…
26 октября 1976
Послушай, о Женщина!
Это начало я замыслил вчера ночью и пронес его сквозь треволнения снов в сегодняшнее утро…
Потому я был сердит и кричал: о Женщина! – мне казалось, что ты не спешишь возликовать и обрадовать ся нашей письменной свободе, нашей крепкой эпистолярной дружбе, счастливо преодолевшей все козни и злоумышления.
Но настало, хотя и бессолнечное, но все-таки утро, и давящие ночные тени оставили мое, вообще-то степенное, а сейчас подернувшееся волнистой рябью и зыбью воображение.
Переписка продолжается, а вместе с нею и жизнь!
Как ты думаешь, достоин я твоих бесчисленных и драгоценных, но не написанных еще посланий? Я думаю, что да, хотя меня и не спрашивали.
День, чуть кружа, опадает, сворачивается и темнеет.
Где-то под землей неслышно начинается час пик.
Твое письмо в непроницаемом конверте, придавленное стопой чужих известий, совершает свой неведомый путь, медленно приближаясь к моему дому. Мой дом далеко.
В ожидании пересказываю свежий эпизод из нашей жизни.
(Действие происходит в квартире Н-пу, известного корреспондента, в его отсутствие, но зато в присутствии вашего корреспондента, временно фигурирующего под кличкой «дядя Саша».)
Жена известного корреспондента спрашивает своего сына Денёчка, откуда у него такая маленькая белая собачка взялась. Пусть расскажет дяде Саше. Дядя Саша прислоняется к стене и с улыбкой приготавливается слушать. Денис сначала стесняется, но потом признает в нем товарища своих игр и войн и медленно ведет повествование:
– Мама шла в садик. Шла, шла. И к ней упала снежинка и превратилась в такую беленькую собачку.
Мама говорит:
– Вот. И теперь ее зовут Снежинка.
Помолчав и помявшись, Денёчек вертит в руках собачку Снежинку и тихонько сообщает, как бы уточняя:
– А здесь у нее пиписька…
У старого вояки дяди Саши екает сердце.
Мама, смеясь, убеждает сына, что не исключено, что «пиписька» находится именно в том месте, куда указывает он, однако спрашивать об этом вроде бы не совсем прилично. Денис сконфужен.
– Кто ж тебя этому научил, а? – мимоходом интересуется мама.
Дядя Саша, добрый друг, уже пришел в себя и снова улыбается.
– Папа меня спрашивал! – восхищенно даже отвечает Денёчек.
Немая сцена.
Из соседней комнаты доносится голос маленькой Оли, она пискляво поет: «Не верьте пехоте…»
Бывший дядя Саша лихорадочно скрывается, болезненно двигая ушами…
Что же это такое, Великолепная: я целый день и еще вечер пишу к Вам, а ответа все нет? Привета нет?
Увы.
До свидания, недалекая подружка моей пламенной юности.
Вторник, такого-то числа текущего месяца.
10 ноября 1976
Тихонько жму твою черненькую перчатку и молча приветствую твой светлый образ, явившийся мне за полуночным окном в черной шубке из душевного меха.
В это время на далекой Красной площади золотые часы отбили двенадцатый удар. Я жду Макса. А его все нет. Вдруг мне показалось, что его вообще не существует, т. е. просто я его придумал, и он живет уже давно в моих мыслях и сопутствует им: длинный бездомный персонаж в строгих очках, переживший по неизвестным причинам очередной ненаписанный роман с названием как в теме школьного сочинения – «Мечта и иллюзии». За сочинение поставлена оценка «пять».
Странно или весело, но ведь прошло почти полтора года с тех пор, как я оставил школу. Я не разберусь: с одной стороны – удивительно, потрясающе много событий и изменений, с другой – отчего же так больно оглядываться на эти – всего-то! – полтора года. Уничтожающе жаль прожитого, казалось бы сполна, времени. Может быть, это потому, что нет одного большого, заметного итога, достойного и понятного завершения?
…Знаешь, мне кажется, главное – что во всех наших «послеклубных» увлечениях нет простого человеческого тепла. Может, я совсем взбесился, но, даже когда мы собачимся с Ольгой, в нас и между нами проходят какие-то невидные токи и волны сочувствия, доброты. Т. е. я могу говорить ей, допустим, обзывательства и одновременно очень сильно и глубоко жалеть ее…
* * *
Андрей Максимов (Макс) и Боря Минаев тоже участвовали в переписке (которой, кстати, явно способствовало отсутствие у Фурмана домашнего телефона – в новой квартире его пока так и не подключили). Оба в этом году поступили на журфак, у обоих был острый конфликт с родителями, и в особо тяжелые моменты они заезжали к Фурману «поговорить», нередко оставаясь ночевать, а то и «пожить». Вялая переписка Фурмана с Минаевым сводилась к взаимным жалобам на «препоганую жизнь» и обмену ободряющими советами. А вот с Максом у него в середине декабря завязалась бурная письменная дискуссия, которой предшествовали сначала дурацкий «роман» Макса с Мариничевой, а потом его очередной уход из дома и явно затянувшееся «утешительное» проживание у Фурмана.
Фурман – Ларисе Котовой (в Петрозаводск)
Осень 1976
(не отправлено)
Стол усеян пеплом, на нем разбросаны бумажные листы, скрепки, пустой коробок; грязный стакан противно торчит на подоконнике рядом с пепельницей; пишущая машинка валяется на кровати, там же лежат два толстых словаря, копирка, альбом для марок; на книжном шкафу брошена бритва. Стакан с водой я утром опрокинул, и около стола теперь грязное высохшее пятно. Пустую пачку из-под сигарет он перед уходом выкинул в окно, а ушел в моих носках (странно, размер ноги у него 43, а у меня 40), унеся без спросу библиотечную книгу и оставив невыветривающийся запах табака и неопрятности.
Хотя дверь за моей спиной плотно закрыта, я сквозь нее чувствую раздражение папы, молчаливое неодобрение дедушки и устало жду прихода с работы мамы: из-за того, что он жил (живет) здесь, мой старший брат уже неделю у нас не появлялся, так как в моей комнате только два спальных места.
Почти всю эту неделю мы с Андреем ложились в 2–3 часа ночи и вставали к 12 дня. Зарядку я, конечно, откладывал на будущее… Днем я подогревал еду, мыл посуду, включал и выключал для него проигрыватель, пытался читать, сидя рядом с ним, пока он печатал свои письма, долго-долго слушал то, что он рассказывал.
Ему, конечно, трудно. Он в очередной раз поссорился со своими родителями (точнее, с отцом) и то ли ушел, то ли был выгнан из дома. В общем-то, сейчас он уже больше играет, чем действительно не может вернуться. Он через день заходит домой и один раз при мне встретился у лифта с отцом: тот в дипломате нес ему одежду. Андрей же, не желая с ним долго разговаривать, побежал вверх по лестнице и, остановившись на площадке этажом выше, орал и топал ногами в ответ на какие-то примирительные просьбы и зовы – это он называет «поцапался с отцом».
Еще у него всяческие нелады с редакцией, а с ней связано его будущее. Его вот-вот могут взять на работу стажером, а могут и вытурить оттуда. Учится он на вечернем отделении журфака, но не работает. Я думаю, что ничего с ним не случится очень плохого, в крайнем случае он может пойти в «Московский комсомолец», и его там с радостью примут.
Вчера он вечер и ночь писал в моей комнате очерк по своей смоленской командировке, а я сидел на кухне и засыпал.
Дедушка несколько раз сказал мне, чтобы я вынес окурки: «от них главный запах». Я объяснял, что запах не от окурков, а от курения, но дедушка не верил и осуждающе молчал.
Мама, когда мы с ней вечером смотрели телевизор, вдруг сказала: «Ты скажи Андрею, чтобы он вымыл ноги и постирал свои носки…»
Ты, конечно, знаешь, что передача таких деталей вполне в моем вкусе, поэтому только поморщись про себя и зверски тактично растяни улыбкой губы, – но вряд ли маме надо было говорить об этом.
Папа недовольно сказал, что курить можно выходить на лестницу. Я ответил, что Андрей одновременно пишет (святое понятие!) и курит, поэтому выходить никуда не может, но моего пафоса не поняли.
Дня три назад Андрей прочел другому человеку мое письмо, которое ему, в принципе, не стоило читать. А на следующий день он написал письмо к этому же человеку (свое я еще не отправил), использовав совершенно случайно несколько «специфических» оборотов и выражений из моего. Т. е. он вовсе не думал «списывать» у меня, просто эти слова ему запомнились, и он был уверен, что выдумал их сам.
Труднее всего ему сейчас оттого, что его бросил близкий человек. Но шок уже прошел, а отношение Андрея к таким вопросам не то чтобы легкое, но свободное.
Вот, мне стало уже противно то, что я пишу, потому что выходит слишком свободно и легко. Тем более что все это выглядит как мои жалобы на человека, который доверился мне и про которого я теперь рассказываю «истории» из его личной жизни.
Маринка Логинова написала как-то, что письмо – как протянутая для пожатья рука: разве можно не пожать ее в ответ… Вот ты написала мне письмо, и я тебе отвечаю тем, что во мне сейчас есть. Хотя, наверное, то, что есть, – плохо. Однажды кто-то сказал, что ты просто очень деликатный человек – и это прекрасно. Я же груб и глуп хотя бы потому, что слишком много болтаю, и про себя самого особенно. Так что прости.
Андрей Максимов – Фурману
(записка без даты)
Великодушному Фуру
коленопреклоненный Максимов
Фурушка, родимчик!
Прости меня, нахала. Каюсь, грешен – перегрузил я тебя собой, бедненький (не я бедненький, а ты). Но тем не менее оченно хотелось бы сегодня увидеть тебя, переночевать, а завтра поработать у тебя дома – попечатать на машинке. Но не знаю, получится ли, в смысле – какая у тебя обстановка.
В связи с этим я решаюсь назначить Вам встречу сегодня, в 22:00 в метро «Пушкинская», внутри, у бюста великому русскому поэту и отцу.
Еще раз нижайше прошу простить.
Всегда Ваш…
Андрей Максимов – Фурману
(записка без даты)
Фурка!
Если тебе трудно, если ты очень устал и т. п. – можешь к университету не подъезжать. Но в жизни моей произошли некоторые – боюсь, что существенные – изменения, и разговор с тобой будет нелишним.
Но не неволь себя.
Счастливо!..
Андрей Максимов – Фурману
15 декабря 1976
Фурка, приветствую!
Мои часы марки «Полет» показывают 2 ч. (ночи, батенька, ночи – не дня), так что письмо это будет коротким.
Сейчас, Фур, произошло знаменательное событие – я закончил переделку своей пресловутой повести «Магнит детства». Получилось 56 страниц, но при нормальной перепечатке выйдет, конечно же, больше. Впрочем, дело не в этом.
Как всегда бывает после окончания какой-то большой работы, навалилась на меня черным камнем скука, точнее, не скука даже, а чувство другое, имени которому в русском языке нет, и было в этом чувстве всё, то есть все несчастья большие и маленькие, которые мучают меня, которые руководят моим ртом, когда он в крике открывается ночью.
Была в этом чувстве и горечь по потере – постепенной, но верной – клубных друзей, и боязнь – придется праздновать одному Новый год, и жуткое желание по-настоящему, крепко подружиться с кем-то, и потребность найти свой, новый, действительно интересный круг общения, и боязнь навязаться кому-либо (тебе, Фур, например), и многое-многое другое, чего словами-то не скажешь, но что грызет душу больнее и сильнее всех черных червячков, которые завелись у меня от пресловутой О. М.
Уф! Нет, ты не думай, Фур, что я в трансе, что мне плохо и что я тоскую. Нет! Как раз вышел я из этого состояния, как пробка из бутылки – с грохотом, впрочем – сам знаешь. И сейчас мне достаточно хорошо, но все эти вышеперечисленные и неперечисленные проблемы все-таки дают себя знать иногда, и хочется, чтобы скорей Новый год, всегда кажется, что за ним что-то воистину новое, но чаще всего оказывается, что все это блеф, бутафория.
Фур, ты уж прости, что плачусь тебе, может, это оттого и происходит, что больше плакаться некому, да в общем-то и не хочется особо плакать, так, иногда, когда повесть закончишь. (Сказал я, пижоня.)
Так и остаемся мы вдруг одни, хотя вокруг много людей и они – почти все – неплохо к тебе относятся, а некоторые – даже очень хорошо, они ведь обижают тебя не из зла, кто же знал, что ты обидишься. А я и не обижаюсь ни на кого, я просто становлюсь каким-то другим и переоцениваю свое отношение ко всему происходящему, становлюсь более терпимым и менее восторженным. Фур, это я все не на тебя намекаю – ты не подумай.
А вопросов никаких я задавать тебе не буду, потому как ты человек рабочий и живешь в мрачной семейной обстановке, а потому – Фур, это я без иронии – писем писать тебе некогда. Но, может, мы когда и свидимся, а?
Еще раз прости за письмо, наверно, это и не письмо даже, а страничка из дневника, и если бы не мой непреклонный принцип «Все написанные письма – отсылай», то не видеть бы тебе письма этого, как своего могучего лба.
Фур, тебе наверняка тоже несладко? Не горюй! Я понял, что даже из самых паскудных, безвыходных, казалось бы, ситуаций всегда есть выход, и библиотекарь – это не призвание, это не на всю жизнь, а с родителями жить тебе тоже не вечно, а твой брат – Фур, серьезно – и не такой уж плохой.
А письмо-то получилось не коротким. Ну все. Прости еще раз за «плаканья» и не относись ко мне плохо. Надеюсь на встречу. На ней поведаю тебе одну мою новую литературную теорию. Не пропадай, слышишь? И не грусти!
2 ч. 05 мин.
середина декабря.
ФУР, снег на дворе. Зима уже, господи, боже мой.
А. Максимов
Все тот же, но уже не тот.
Фурман – Андрею Максимову
16–17 декабря 1976
Здравствуй, Максикушка!
Ты, как и всегда почти, весьма плодотворен во многих отношениях, и это одна из твоих благодетельных склонностей.
Вообще же, мне никто не пишет: зима ассоциируется с ночным городом у северного озера. Печаль…
Зу-у. Зу-у. Зу-у. Письма не о любви.
Потому что голова распухает и тяжелеет, а мысли съеживаются.
Так служба вредит моему организму.
Разве что в рабочее время приобрел японскую куртку.
Это шепот засыпающего библиотекера… каря? или теблоб? Строчки сливаются, делаясь похожими на редкую серую плесень, прилипшую к листу.
Кстати, я еще не рассказывал, что по роду своей службы принимаю участие в физическом уничтожении книг?..
Фу, до чего хочется спать.
Может, я тебе завтра позвоню.
Когда ты будешь читать это письмо, то сначала подумаешь, что это будет завтра, но потом осознаешь: письмо-то шло два дня, и завтра, про которое в нем говорится, это твое сегодняшнее вчера.
В этом месте я чуть было не пукнул, но пересилил себя из уважения к тебе, зловредно вспомнив, однако, что ты в подобных приключениях вел себя не лучшим образом, хотя и был на высоте (в буквальном смысле слова).
Вышестоящий абзац следует подарить Соне Друскиной, да и всем нам нужно избрать его своим девизом, изготовив специальные визитные карточки. Соньку я помянул недобрым выражением по чистой случайности, за что извиняюсь, конешно. Передавай ей привет!
И вообще, передавайте всем привет!
Всем привет!
Да.
А я направляюсь в белую постель с намерением.
Спокойной мне ночи, ладно?
А тебе чего-нибудь тоже.
И я, не скрываясь уже, тихонько и душевно попукиваю.
Фурчик
Андрей Максимов – Фурману
18 декабря 1976
Здравствуйте, милостивый к себе государь ФУ-рман!!!!
В непривычно раннее для меня время я сел «стучать» это письмо – оно будет ругательным, так и знай! Мне бы надо высказать тебе все это в личной беседе, с глазу на глаз или tête-à-tête, но с течением времени я начинаю терять надежду тебя увидеть, так что приходится выражать все в письменном виде.
Я попытаюсь сказать тебе нечто вроде того, что высказала мне Друскина Софья Аркадьевна, – после ее монолога (очень злого и колючего) я стал приходить в себя и срочно меняться. По ночам меня мучают кошмары и начались (точнее, продолжились) припадки, но об этом никто не знает и все делают вывод, что я постепенно расцветаю, как яблони и груши. Короче, я сделал выводы – может, произошло это потому, что Сонька слишком дорога мне, и я не могу не внимать ее словам. Не претендуя на это, я, зная, что слова на тебя – в отличие почти от всех – действуют, все-таки решаюсь сказать тебе нижеследующее.
Не за то я буду ругать тебя, Фур, что ты пишешь мне письма не думая – что делать нехорошо. Не в этом дело.
Фурушка, ты морально оскатиниваешься, после нашего разговора понял я это окончательно. Послушай, что ты говоришь. Ты же все время требуешь: чтобы тебе нашли работу, чтобы тебя толкали в институт. Фур, одумайся! Я понимаю, что тебе очень погано, я понимаю, как тебе плохо из-за твоих отношений с Петрозаводском, и Москва тебе опостылела. Но ведь «когда хочется плакать – не плачу». Фур, надо жить, надо работать. По сколько часов ты спишь? Надо меньше. Тебя не удовлетворяет, что на работе ты тратишь время зря? Не зря – ты работаешь, ты становишься полноправным членом семьи. Фур, твои отношения с родителями – это… Короче, привожу в пример себя (что нехорошо): я не разговариваю с отцом, [ «у меня и нет на данный момент отца» – зачеркнуто] так ты видишь, Фур, что куртке, в которой хожу я, уже лет пять как минимум, а он предлагает деньги на новую куртку – но у него я ничего не возьму. Что же касается мамы, то ни ты, ни кто другой, по-моему, не слышал, чтобы я ее ругал, вот на ее деньги я и живу. Вижу, вижу, милостивый к себе государь, наглую улыбку на твоих устах – вижу. Да, я живу на ее деньги… И ты, Фур, пожалуйста, плюй на все свои принципы, только делай при этом ДЕЛО (настоящее, из четырех заглавных букв). ДЕЛОМ этим может стать и подготовка в институт, и серьезные занятия педагогикой, и писание – не писем! хотя и их, конечно, тоже надо писать…
Фур, проснись! Жизнь твоя проходит, займись чем-то, выкинь из головы свой главный аргумент: «Мне там плохо», «Мне там не нравится». Все мы, Фур, зачем-то рождены на свет, и хамством и величайшей невоспитанностью будет, если мы умрем, так и не поблагодарив ничем жизнь за наше появление. Ты придумываешь хорошие фразы, которые не можешь ни во что объединить, ты – короче говоря – просто не можешь организоваться, уповая на то, что впереди еще много-много дней. А секунд, Фур, еще больше! Но они исчезают неотвратимо, как моя любовь к Мариничевой!
АКСИОМА: Фур, я к тебе отношусь очень хорошо!!!!
И только в силу этого нарушаю свой принцип – придуманный мною недавно – не лезть своими огромными руками в чужую жизнь.
Фур, чаще задавай себе вопрос «Ради чего?». Ради чего, например, ты бросаешь работу и становишься 19-летним тунеядцем? Если цель твоя не эгоистична – в добрый путь!
Фурушка, мне тоже очень-очень погано, мне негде жить, эх, мне бы хоть какую-нибудь квартиру, я бы не стал присматриваться, хорошая там соседка или нет, грязная квартира или чистая.
Фур, приходи в себя.
Прости, если был немного жесток с тобой, не впадай в транс, этим ты обидишь меня. Если я могу чем-то помочь тебе, буду только рад.
Прости за несколько, может быть, суховатый стиль моего письма – иначе я не могу, иначе я разревусь на машинку.
Фур, можно плакаться (только друзьям), можно рассказывать – одному-двум самым близким – свои несчастья, но нельзя, слышишь, НЕЛЬЗЯ опускаться морально. БЕРИ СЕБЯ В РУКИ. Иначе ты просто предаешь меня, я же верю тебе, Фур, я же верю в тебя, а ты что делаешь?
Я помню, как помог ты мне, когда я оказался в очень похожей на твою ситуации, прости, но я не могу предоставить тебе свои апартаменты, их у меня просто нет, вот переедем на новую квартиру, возьму тебя к себе. Так вот, памятуя о твоей и Сонькиной помощи, я и решил(ся) написать это письмо. Надеюсь и уверен, что твое состояние полнейшей духовной лени – временное.
Если будет время – напиши.
Очень хотел бы тебя видеть и поговорить.
Когда можно будет приехать к тебе – позвони (или мне домой, где я все-таки бываю, или в контору, можешь передать инфо Наппу).
АКСИОМА: обижаться на меня нельзя, так как я желаю тебе только добра.
Счастливо тебе!
И мне тоже чуточку счастья!
Да, еще: не надо мучить себя мыслями о Карелии и о Н., ведь ты пока бессилен, это очень тяжело – я это, сам понимаешь, знаю – ощущать свое бессилие, но это лучше, чем чувствовать себя слишком сильным.
И НЕ ВЗДУМАЙ БРОСАТЬ РАБОТУ ПОТОМУ ТОЛЬКО, ЧТО ТЕБЕ ТЯЖЕЛО ИЛИ ТЕБЯ ЧТО-ТО ТАМ НЕ УСТРАИВАЕТ!
РАБОТУ МОЖНО И НУЖНО БРОСАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА МЕШАЕТ ОНА ЗАНИМАТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО НУЖНЫМ ДЕЛОМ.
Счастья тебе, Фур!
И не впадай в транс, это вовсе не обязательно, надо просто подумать. Очень надо подумать.
Фурман – Андрею Максимову
22 декабря 1976
Да и Вы тоже здравствуйте, благоразумный попечитель души моей!
Сразу извещаю, что на этой неделе прибудет к моим кроватям некто Наташа из Петрозаводска, откуда проистекает, что упомянутые и знакомые тебе кровати заняты и места для тебя не найдется, разве что на следующей неделе пожалуй ко мне в гости.
Итак, постараюсь придерживаться кое-где последовательности Ваших, сеньёришка, обвинений и высказываний.
Большой пункт
о моральном оскатинивании Фурмана А. Э.
Максикушка, ты весь переборщился и заблудился в своих мыслях касательно меня!
Ведь это вы, государи мои, постоянно требуете, чтобы я устроился на работу, готовился в институт и т. д., – во мне же все это не вызывает ни капельки энтузиазма и только капельку сонной мечтательности, как в детстве:
«Я буду учителем истории (физики, физкультуры, еще чего-то), ах!..»
«Я буду трактористом (журналистом, путешественником, хемингуэем)… А-а-аххх!..»
И потому ясно, что ни одним из вышеперечисленных я не стану на данном этапе своего проживания, разве что на следующей неделе, пожалуй.
А поскольку из всех нас – меня и вас – только вы хотите протолкнуть меня в одно или другое место, пожалуйста, займитесь этим делом со всей страстью и мощью, а я помогу вам всеми имеющимися силами.
НО САМ-ТО Я С КАКОЙ СТАТИ ВДРУГ ЗАЧНУ ПОТЕТЬ НА ЭТУ ВАШУ ИДЕЮ?
Проблема моих семейных отношений так же пуста и неспособна быть разрешенной. Деньги. Как ты понимаешь, любая зарплата, меньшая чем у родителей, полноправным членом семьи ни меня, ни тебя не сделает. Да и вообще идея такого «семейного членства» для меня сомнительна: надо любить и уважать человека, а не его деньги. А здесь в лучшем случае родители станут гордиться моей зарплатой, но не мной. Это старая история, и у Вас, товарищ Макс, начисто отсутствует социальное понимание происходящего, что впоследствии может отразиться на значимости Вашего творчества для трудящихся масс.
Про куртку я подозреваю, что Вас, господин, снедает черная зависть к моему японскому приобретению, ибо разве не замечали Вы, что до того ходил я в замусоленной и продуваемой холодным ветром штормовке? А разглядывали ли Вы, господин, мои разнообразные брюки? Эх, да чего там…
Но, в самом деле, зачем же рождаться на свет? Я думаю, все-таки не для того, чтобы потом деньгами расплачиваться за этот акт с кем бы то ни было. А расплата творчеством… Вряд ли здесь можно попрекать кого-то, и бездельем тоже, а? Но время я считаю с точностью до дня, по крайней мере.
Немножко резкое продолжение
Так что имеете Вы в виду, говоря о моем нечестивом падении?
В какие такие РУКИ мне пророческим голосом предлагается себя взять? И поведение мое аморально, не так ли?
Понимаете ли, сописник мой, я ведь ТОЖЕ ЗНАЮ, ЧТО ХОРОШО и ЧТО ПЛОХО! И мне кажется, я не вовсе гад – настолько, чтобы выбирать более или менее постоянно плохое вместо хорошего.
Так что же?
Для алиби не хватает, как мы говорим, ДЕЛА. Оное же, понятно, должно иметь после себя некие материальные проявления, могущие быть предъявленными в качестве оправдания и доказательства действительно происходящего ДЕЛА: картины, романы, статуи и, наконец, просто ДЕНЬГИ (некоторыми они и вовсе приравниваются к ДЕЛУ).
Факт: перечисленных продуктов у меня не имеется.
Следовательно, обозначенного ДЕЛА, могущего служить оправданием многих поступков, не прощаемых в обычных обстоятельствах, у меня,
Фурмана А.Э.,
1958 г. рождения,
нет.
Хм-м.
?
Кстати, можно ли отсутствие продуктов труда определять как состояние лени, духовной или любой другой?
Тогда получается, что древние, и ныне мертвые уже, охотники, вышедшие на поиски добычи – предположим, мамонта, – и не нашедшие ни первого, ни второго, в результате чего племя их и семьи остались голодными, – что эти самые могучие и умелые охотники есть обыкновенные ленивые обезьяны, которым лень даже поискать себе пищу. Но, придя к своей пещере, они еще и съедят долю детей, стариков и жен, оставшуюся с прошлой – удачной – охоты, а также пожрут ягоды и съедобные травы, собранные детьми и женами. Ленивы ли они? Эти могучие и умелые охотники?
Завтра снова отправятся они в далекий путь, вынюхивая и выслеживая уходящие стада, погибая и возвращаясь калеками. И так они будут уходить, пока не вернутся с добычей: послезавтра или через тысячу неведомых нам дней их исчезнувшего календаря.
ЛЕНИВЫ ОНИ, УМЕРШИЕ УЖЕ ОХОТНИКИ?
А вдруг они так и не встретили добычи, и племя погибло?
Ленивы ли они, могучие?
Эх, сударь!..
Радуйся маленькому – тогда и большое придет.
Максикушка, а одна из твоих аксиом чудовищно не верна: что нельзя обижаться на того, кто желает тебе только добра.
«Услужливый дурак хуже врага» (но это не про тебя!).
А разве твой отец не желает тебе добра?
Мучить же себя мыслями я не перестану: это чертовски мазохистски приятно.
Но я пока бессилен, ты прав, чтоб я сдох!
Да! Совсем забыл! Из библиотеки я вчера уволился, поругавшись с компанией тамошних девушек и тетушек.
Но ТЫ не отчаивайся, я скоро поступлю еще куда-нибудь!
Зато видишь, какие толстые письма я получил возможность писать.
Желаю тебе хорошо себя чувствовать и не унывать!
Пиши.
Фур
Фурман – Андрею Максимову
26 декабря 1976
Я нахожусь в почти забытом уже моим телом состоянии прозрачности после бессонной ночи и раннего бодрого подъема: петрозаводская Наташа улетела сегодня в 8 утра, в связи с чем нам пришлось вставать в половине шестого и мчаться по темным, задуваемым вьюгой и белесо-мерцающим улицам, задевая многочисленными этюдниками и авоськами о скользящие юзом первые и вторые троллейбусы. Аэродром же Быково, хоть и отвратный по сути, был замечателен и даже красив, наполняя грудь пульсирующей неверной тревогой, всегда возникающей в подобных местах-разлучниках. Это всё дела.
Вот проблемы.
Кстати, я благодарен и по-всякому приветствую проявленное тобой терпение в отношении моих разнообразных и часто весьма непривычно для нас резких высказываний и суждений.
Ты молодец, что так благодушно настроен, не обращая внимания на мои наскоки и тональности, а я прошу прощения за проявленное мною некоторое хамство.
То, в чем мы расходимся, с моей стороны выглядит так: все окружающие действительно имеют веские основания сомневаться в наличии у меня какой-то реальной и впечатляющей цели или пути. В частности потому, что я пока только говорю и даже болтаю, а не судят одних победителей, как известно. Я не победитель, признаю это и не обижаюсь особенно на людей. Но, дорогой мой, ты-то неужто не понимаешь, что победителями не рождаются, а рано или как угодно поздно становятся.
Я вполне понимаю и сочувствую моим родителям и тетям, которые считают мою жизненную позицию неправильной и нехорошей. Естественно, они не принимают моих заверений и завираний, что я готовлюсь быть так или иначе хорошим и удовлетворительным. Они просто старые и узкие человечки.
Но, древоподобный товарищ мой, будет ли для тебя откровением такое: я тот, кто называется художником, я верю в свою силу и могущество проявить ее одним из образов, созданных моей рукой в будущем, я не хочу пропасть даром и постараюсь стать победителем, в том или ином виде признанным обществом или его представителями, – во всем этом я уверен процентов на 75–80 – и это, мне думается, немало.
Вот основа моего проживания.
Мне почти девятнадцать лет.
Я вовсе не считаю свои теперешние дни подготовкой к чему-либо, к какой-то деятельности и подвигу, так же как и не называю мою жизнь ДЕЛОМ. Но я совсем не думаю, что я сейчас падаю куда-то, оскотиниваюсь и вот-вот сломаюсь.
Вы же мне постоянно досаждаете и щиплете своими ужасными прогнозами и пророчествами, лишаете меня душевного равновесия и уверенности в себе, никакой другой уверенности при этом мне не давая. Я допускаю, что я не прав, а правы вы, но в том и дело, что я не замечаю твердой уверенности в собственной правоте у вас самих. На разговоры вас хватает, но когда человек погибает, беседы, мне кажется, не спасут.
Все, и я тоже, хотят быть благородными и мудрыми героями, спасающими друга от смертельной опасности, но когда опасности нет и спасать некого, т. е. не от чего, – остается таковую придумать, ибо жажда славы и чести владеет всем телом, от шерстинки на макушке до нестриженого ногтя на мизинце левой нижней ноги.
Но ведь все не так, не правда ли?
Ты, в общем-то, догадываешься, что я не совсем плох, наверное?
Самое важное (с чего я и начал): мама, папа и тетеньки в мои силы не верят вовсе – это ладно. Но ведь и ты всерьез требуешь, чтобы я дал тебе уверенность в моих силах!
Значит, сам ты в меня не веришь? Хочешь верить, но не можешь. Именно это звучит в твоих письмах. Печально, конечно, но изменить здесь что-либо можешь только ты сам.
Ты говоришь, нужна цель в жизни. Смешно! Как тебе ее оформить для показа – завернуть или поставить в вазу? Это все та же история. Ты ведь, в сущности, сейчас уже хочешь видеть меня победителем для укрепления своей веры, – потому что ты стоишь сегодня выше меня на пьедестальной лестнице на небо, а я еще даже не взобрался на нее, похаживая в самом низу.
У тебя в решении нашей спорной проблемы, от которой остался теперь один только вопрос о твоей вере в меня, есть возможность выхода, выгодного нам обоим: поверить в мои ВОЗМОЖНОСТИ, в мое будущее. И укреплять во мне эту веру.
А беседы и диспуты, не имеющие целью нахождение ясного ответа, совсем не нужны. Они – суета. Я же ничуть не против твоей помощи в любом виде, и спасибо тебе за тревогу. Одновременно я многое понял и осознал, задумываясь над этими листиками.
На неделе я рассчитываю созвониться с тобой и подробно решить про Новый год. И про все прочие штучки-дрючки.
До свидания, пиши.
Привет!
Фурюшка
Фурман – Соне Друскиной
19–22 февраля 1977
Привет, любезная Соня!
…Однажды я шел куда-то, падал снег. Кляц! – на две секунды я увидел:
П А Д А Е Т С Н Е Г.
И всё. Опять иду куда-то. Что это? Помню, в те две секунды думал: «Вот так надо писать!» – и что-то еще про Толстого…
Кажется, что раньше такое – не случалось даже, а – было чаще.
Значит, стачивается душа?
Я чувствую, что почти притерся к жизни, притерпелся, прижился.
Но вот иногда, как сквозь снег, становится грустно. У меня сейчас все сильнее становится убеждение, что мы – ты, Борька, я, Ольга и Наппу – потеряли все вместе и каждый внутри себя кое-что, не названное пока, но большое. Одно ясно: сознание этой потери причиняет непреходящие беспокойство и сожаление, а еще какую-то тоскливую жажду, как по солнечному дню из прошлогоднего лета… Это я к тому, что, верно, нас крепко связывают – как мы ни стараемся освободиться – те полгода постоянного взаимного внимания и постоянного творчества вместе – а иначе как его назвать: придумывание, фантазирование + пение и сочинение? Никак не могу вспомнить, чтобы мы в то время ссорились, обижались. Как ты думаешь, желание видеть друг друга у нас сейчас меньше, чем тогда, или все это просто незаметно в конторских буднях?
В моей голове сигналят и закручиваются в спиральки и фигурки кое-какие умственные процессы и непритязательные мечты… А что, если?..
…Ничего, что я отвечаю тебе, стуча на машинке, а не выводя саблезубые буковки?
Фюить-фьють!
ФУРИЛЛО
Ставка больше, чем жизнь
Отношения Фурмана с его старшим братом начали портиться после того, как Боря со своими великими планами отправился на Камчатку. За время его отсутствия пятнадцатилетний Фурман, который впервые так надолго остался один в их общей «детской» комнате, успел обжиться за Бориным письменным столом, приладиться к его большой черной ручке на подставке из белого мрамора и внимательно ознакомиться с книгами, стоявшими на прежде полузапретных верхних полках стеллажа. А когда Боря через четыре месяца приехал домой на зимние каникулы, он столкнулся с тем, что его «естественный» авторитет подвергается нахальному сомнению со стороны младшего брата. Борю переполняла спокойная гордость за обретенную им наконец абсолютную независимость от родителей, и кроме того, он намеревался хорошенько отдохнуть после своих нелегких педагогических трудов, поэтому его не слишком задевало это задорное щенячье тявканье. Однако подростковое «нигилистическое бурление», сильно подогретое восторженно-поверхностным усвоением «Гаргантюа и Пантагрюэля» (увы, по Бориной же рекомендации), с безудержной наглостью распространялось и на самые интимные сферы телесного существования Личности.
Как-то вечером Боря, уже готовясь ко сну, сидел в майке и трусах на своем диванчике и с задумчивым видом ковырял пальцы на ногах (у него имелось несколько подобных навязчивых привычек, которые традиционно раздражали окружающих). Вошедший в комнату младший Фурман с порога отпустил пару язвительных замечаний по этому поводу. Борины мрачные советы «отвязаться» и «заняться чем-нибудь общественно полезным», а потом его суровое молчание и бросаемые вскользь тяжелые утомленные взгляды производили лишь обратный эффект, побуждая юную ехидну к поиску все новых поворотов «критической мысли». И в какой-то момент стена Бориного равнодушия дрогнула. «Ах ты, мелкая гнида! – с брезгливым возмущением процедил он сквозь зубы. – Тебя ведь уже три раза по-человечески попросили заткнуться. Но если ты окончательно перестал понимать нормальное обращение, ты у меня сейчас замолкнешь навсегда!..» Продолжая ворчать, Боря неторопливо поднялся и сунул ноги в тапочки. Фурман подумал, что он направляется в туалет, и уже собрался произнести сложившийся в голове весьма затейливый комментарий на выражение «мелкая гнида», как вдруг Боря с неожиданной акробатической прытью метнулся к нему и хищно схватил его за грудки – у Фурмана аж воротник затрещал. Скорее всего, Боря в своей обычной манере хотел то ли приподнять и как следует встряхнуть зарвавшегося мальчишку, то ли просто слегка его придушить. Но внезапно они оба с некоторым замешательством ощутили, что прежней непреодолимой разницы – ни в весе, ни в физической силе, ни в агрессивности – между ними больше нет.
– Убери от меня свои грязные руки, скотина! – с ледяной яростью прохрипел Фурман.
– Что?.. Ты еще и огрызаться вздумал, щенок? Да я тебя щас в порошок сотру!
– Я последний раз сказал, убери руки! Ну?!
Презрительно усмехаясь, Боря потянул его на себя… Но тут сбоку по восходящей дуге почти сам собой взлетел фурмановский кулак и вскользь попал ему по носу.
Боря очень удивился. Странным образом перестав заботиться о дальнейшем ходе сражения, он равнодушно разжал хватку, отступил на полшага и, обнаружив, что из носа идет кровь, запрокинул голову.
На шум прибежала мама:
– Что здесь у вас происходит? Прекратите немедленно!
– Этот идиот бде дос разбил, – сказал Боря, зажимая ноздри и раздраженно кося глазом. – Ну-ка, дай пройти!
Трясущийся от боевого возбуждения, жалости и отчаяния Фурман растерянно уступил ему дорогу, и Боря побежал в ванную.
– Да вы что, совсем с ума сошли оба?!
– Что? Сашенька, что случилось? – подлетел встревоженный папа. – Он тебе не сделал ничего плохого?
– Нет. Это я ему сделал, – угрюмо пошутил Фурман.
– Сашка, ты одурел?! – возмутилась мама. – Я и так еле уговорила его приехать… Вы меня просто хотите в могилу вогнать раньше времени!..
Все это было ужасно. Ударить человека по лицу… Да еще и собственного старшего брата! Который ненадолго приехал домой в отпуск!.. Какой позор.
Однако у большой ссоры была собственная неотменимая логика. Эта логика заставила Фурмана быстренько свернуть свою постель, вытащить из кладовки старую брезентовую раскладушку и установить ее в комнате родителей, в узком проходе между столом и сервантом. «…Потому что я с этим бешеным психом боюсь спать в одной комнате! Вдруг он ночью опять на меня набросится?..» – с истеричной плаксивостью в голосе заявил Фурман в ответ на унылые просьбы родителей образумиться и помириться.
На следующий день он все же собрался с духом и смог без особых кривляний произнести с порога «детской» тщательно продуманную и отрепетированную фразу:
– Извини меня, пожалуйста, за то, что я тебя ударил по лицу. (И только за это!)
– Я в твоих извинениях не нуждаюсь, – холодно ответил Боря.
Больше они друг с другом не разговаривали, и одиннадцать дней, остававшиеся до Бориного отъезда, Фурман так и провел у родителей на продавленной раскладушке…
Со временем острота этой ссоры, конечно, сгладилась. Но о проблемах, которые весной начались у младшего Фурмана, Боря узнавал лишь из осторожных маминых писем. Расстояние и изменения в собственной жизни, связанные с увлечением шахматами, делали для него все эти внутрисемейные драмы мелкими и незначительными. А когда он следующим летом приехал в отпуск, Фурман, к его удивлению, уже второй месяц находился в детской психушке и почему-то не собирался оттуда выходить. Боря требовал, чтобы он перестал прятаться от реальной жизни и валять дурака и как можно скорее взялся за какое-нибудь серьезное дело, даже не важно, за какое именно – например, изучение иностранного языка или писание романа. Эти призывы смутно вдохновляли Фурмана, но понятно, что ничем полезным он заняться так и не смог. В новой школе его бессмысленное одиночество лишь углубилось, и несколько цинично-бодряческих писем от старшего брата с грубоватыми «приветами из всепобеждающего коммунистического будущего» стали для него едва ли не единственной духовной поддержкой.
Между тем для Бори, решившего сделать ставку на головокружительную карьеру шахматного гения (имя Бобби Фишера было тогда у всех на слуху), его добровольная ссылка на край света утратила всякий смысл. С трудом дотерпев до конца учебного года, он уволился и летом окончательно вернулся в Москву. (На Камчатке он отработал два года вместо трех, полагавшихся ему как молодому специалисту, но этот срок был официально погашен благодаря «северным» льготам.)
Дома все были рады благополучному завершению этого «явно затянувшегося жизненного эксперимента». Рассказов и расспросов хватило на несколько вечеров. Во время одного из таких семейных разговоров младший Фурман вдруг вспомнил, что весной посылал Боре свое сочинение, которое ему вроде бы очень понравилось. В письмо был вложен оригинал, и теперь Фурману хотелось получить его обратно. Но тут выяснилось, что все полученные Борей на Камчатке письма – и от мамы, и от Фурмана, и даже от его бывшей школьной учительницы литературы, которая продолжала интересоваться тем, как складывается его жизнь, – он перед отъездом просто выбросил на помойку. – Чемоданы-то у меня были не резиновые, поэтому я целенаправленно избавлялся от всех лишних вещей, – объяснил Боря. – Кстати, среди них были и довольно ценные. Например, очень удобная и красивая настольная лампа. До сих пор страшно жалею, что не взял ее с собой. Но за каждый дополнительный килограмм багажа в самолете мне пришлось бы платить огромные деньги из своего кармана… Вообще-то, если честно, я просто решил, что эти письма мне больше не понадобятся. Они ведь были адресованы мне лично? Ну, так я их все прочел, можете не сомневаться. Некоторые даже по два раза. А что еще я, по-вашему, должен был с ними сделать? Тащить на себе в Москву и хранить до скончания веков? Этак можно вообще всю квартиру завалить разными «историческими» бумажками. У меня же не музей! Конечно, по-хорошему надо было их сжечь на костре. Но на это у меня элементарно не хватило бы времени. Да и где бы я смог развести такой большой костер? Там же все страшно боятся пожара, у них это просто какая-то параноидальная идея! Если бы соседи заметили посторонний дымок, пусть даже маленький, они бы сразу, не разбираясь, в чем дело, подняли на ноги весь поселок. А то еще, не дай бог, вызвали бы пожарных из райцентра, набежала бы милиция… В общем, ужас что могло бы быть! У меня там однажды сковородка сгорела на печной плите – сколько шуму было, вы себе просто не представляете… А так – ну, прочитает ваши драгоценные письма парочка тамошних бездомных алкоголиков. Я с ними однажды разговорился, когда выносил мусор, и они, между прочим, показались мне довольно интеллигентными людьми, не в пример остальным местным жителям. Так что, может, им это чтение даже на пользу пойдет. Хотя вряд ли…
Бася Иосифовна и младший Фурман растерянно промолчали, однако все эти Борины разглагольствования показалось им очень обидными. Чертов правдолюбец! Лампу он, видите ли, пожалел! Музей ему у себя не хочется устраивать! Да лучше бы он просто что-нибудь соврал! Но… что тут скажешь? В этом был весь Боря.
После своего возвращения он жил отдельно – в их старой коммуналке на Краснопролетарской улице, где формально за ним с дедушкой были оставлены две комнаты (дедушка, конечно, переселился вместе со всеми в новую квартиру). На выходные Боря обычно приезжал к родителям и при желании всегда мог остаться ночевать в комнате Фурмана на своем прежнем диванчике. Однако из-за участившихся ночевок многочисленных фурмановских друзей вокруг этого второго спального места порой возникал сложный «конфликт интересов»: получалось, что младший Фурман, проявляя в общем-то похвальную заботу о каких-то, пусть даже очень хороших, но все-таки чужих людях, лишает бедного одинокого Борю возможности проводить больше времени в кругу семьи…
Впрочем, Борины визиты периодически заканчивались безобразными семейными скандалами (случали сь они, конечно, и без него – благодаря природной вспыльчивости Баси Иосифовны и упрямому уклонению младшего Фурмана от «нормального образа жизни» – но гораздо реже).
Главными домашними «крикунами», как говорил дедушка, были мама, Боря и Фурман. Сам дедушка в соответствии со своими дореволюционными представлениями о человеческом достоинстве при первом же повышении голоса с огорченным видом уходил в свою комнату. Папа тоже никогда ни на кого не кричал, но Боря с ним демонстративно не общался. Все уже давно привыкли к тому, что он по каким-то неведомым причинам ненавидит папашу как своего личного «классового врага», говорит о нем в третьем лице «этот» и с легкостью обзывает «конформистом», «пошлым обывателем», «провокатором» и прочими идейно нагруженными оскорбительными словечками из ленинского революционного лексикона.
К маме у Бори было более сложное отношение – как к наивной предательнице, для которой еще не закрыт трудный и мучительный путь к спасению. В откровенных «просветительских» беседах с младшим братом он уверенно объяснял, что папаша всю жизнь плетет тайные внутрисемейные заговоры, пытаясь подавить стихийный мамин романтизм и затянуть ее в свое «мещанское болото». Боря считал, что раньше эти заговоры по большей части были направлены именно против него, но теперь, когда он окончательно освободился от власти родителей, их целью становится младший Фурман. «А ты, деточка, небось, до сих пор думаешь, что все, что с тобой произошло, это случайное стечение обстоятельств? – с загадочным пафосом вопрошал Боря. – Что ж, посмотрим, как ты запоешь через пару лет…»
Фурман, являясь лучшим (если не единственным) учеником Бориной школы морально-психологического террора, теперь и сам мог часами страстно изводить родителей ужасными обвинениями и разоблачениями – конечно, только ради того, чтобы вынудить их добровольно открыться навстречу Разуму и Любви. Но уже в процессе этих учебных «сеансов экзорцизма» его начинала охватывать острая жалость к ним и дикая юродская ненависть к самому себе… Увы, сохранять достоинство или хотя бы просто избегать яростных «идейных» споров у него почти никогда не получалось – слишком силен был явленный старшим братом соблазн «праведной» психической победы…
В начале осени постоянной темой тревожных домашних разговоров стала дальнейшая Борина судьба. (Даже проблемы социальной «нормализации» младшего Фурмана отступили на второй план.) Под этим усиливающимся давлением Боря наконец прямо объявил родителям, что не собирается искать себе работу. Точнее, пока не будет никуда устраиваться. По его словам, из-за того, что он очень поздно начал всерьез заниматься шахматами, ему теперь нужно было совершить какой-то невероятный рывок, чтобы за самое короткое время выйти на уровень профессиональных игроков. Что значит быть профессиональным игроком-шахматистом? Это значит зарабатывать исключительно – ну, или в основном – игрой, то есть участвуя и побеждая в крупных турнирах, в том числе международных. Получить звание мастера спорта (а Боря лишь недавно выполнил норму кандидата) для этого было недостаточно – только в нашей стране их было как собак нерезаных… На вопрос младшего Фурмана о реальной, то есть достижимой цели всей этой гонки Боря ответил, что пока его конкретная, хотя и дальняя цель – стать гроссмейстером. Для начала этого, пожалуй, хватит, а там будет видно. Но и дураку должно быть понятно, что исполнение такого напряженного и рискованного плана потребует от человека абсолютно всех сил и времени, и отвлекаться при этом на такую ерунду, как бессмысленное зарабатывание каких-то жалких копеек, – значит сразу, не сделав даже первого шага, загубить все дело.
Родители волновались, но пытались рассуждать разумно: конечно, это его жизнь, и он, несомненно, уже вполне взрослый, самостоятельный человек, способный трезво оценивать реальность и отвечать за свои поступки. Но ведь закон о тунеядстве никто не отменял, и в связи с этим у Бори в любой момент могут возникнуть серьезные неприятности. Допустим, ему потребуется взять какую-нибудь справку в ЖЭКе… Он отмахивался: речь идет всего о нескольких месяцах, максимум о полугоде, за которые должно решиться главное. Если у него получится совершить рывок «из царства необходимости в царство свободы», говоря словами старика Маркса, то все прочее уже не будет иметь никакого значения. Победителей, как известно из мировой истории, не судят. Ну, а если нет, что ж, тогда он спокойно признает свое поражение и, разумеется, поскольку кушать-то надо, пойдет куда-нибудь работать – да тем же учителем в школу. Хотя, по правде говоря, он уже сыт ею по горло… Ладно, возразить ему действительно нечего, он очень хорошо все продумал, но на что же он будет жить эти ближайшие полгода? Он ведь не собирается ради достижения своих высоких целей совсем отказываться от пищи? И тут Боря с пренебрежительной ухмылкой сообщил, что на Камчатке он жил достаточно экономно, даже питался в основном в бесплатной школьной столовой – кстати, там неплохо готовили! – и сумел скопить некоторое количество денег, которых ему хватит на первое время. Сколько же он сумел накопить, если это, конечно, не секрет? Не секрет. И Боря назвал почти фантастическую сумму, на которую вполне можно было спокойно жить пару-тройку лет.
Младший Фурман был в восторге. Хотя у него теперь появились новые «учителя жизни» (Наппу и Мариничева были Бориными ровесниками, и Фурман с пафосом новообращенного считал их своими назваными – то есть свободно избранными и как бы улучшенными – «старшими братьями»), Боря опять всех обскакал! Он вновь подавал Фурману чудесный, спасительный пример: ради своей великой цели можно и нужно жертвовать всем!.. И эти жалкие мещане-родители ничего не могли с ним поделать!
Месяца через полтора Фурман, вернувшись вечером домой намного раньше обычного после очередной дружеской встречи, обнаружил, что в большой комнате за закрытой дверью происходит какой-то серьезный разговор Бори с родителями. Исключительная важность этого разговора была подчеркнута тем, что младшему Фурману – без слов, одними равнодушно-предостерегающими взглядами старших – было позволено присутствовать при нем лишь в качестве немого наблюдателя. Понимающе кивнув, он аккуратно проскользнул в комнату и сел «за сценой», на дальний конец дивана.
В первый момент самым необычным ему показалось то, что папа принимал активное участие в разговоре, и Боря – знакомо морщась и возмущенно всплескивая руками – тем не менее слушал его. Речь шла о возможном варианте устройства Бори на работу, в котором папа готов был обеспечить ему все необходимые рекомендации. Но при этом и от Бори требовались определенные морально-психологические гарантии и твердая решимость двигаться по избранному пути. Как следует все обдумав и приняв папино предложение, он потом уже ни при каких обстоятельствах, за исключением совсем уж катастрофических, не должен был отказываться, поскольку папа ручался за него перед своим начальством, ставя на кон свою личную и деловую репутацию. По всем правилам человек с педагогическим образованием не мог бы занять предлагаемую Боре должность, и главным чрезвычайно льготным условием было его переобучение по новой специальности и получение второго диплома без отрыва от работы.
Боря сидел в кресле в расслабленной позе, почти полулежа и как-то странно вжав голову в плечи. Однако его широко раздвинутые острые колени непрерывно раскачивались в каком-то быстром мелком ритме, выдавая внутреннее напряжение. Время от времени он откидывал голову назад и странно перекатывал ее из стороны в сторону, как бы в полном бессилии или отчаянии. Присмотревшись, Фурман тревожно отметил, что Боря, который и всегда был очень бледным, имеет какой-то просто полуобморочный вид. Когда он говорил, голос у него срывался, а к глазам подступали слезы.
Все это выглядело так, словно его что-то страшно напугало. Как если бы на него недавно напали на улице или он попал в автомобильную аварию. Точно понять, что именно с ним случилось, из продолжающегося разговора было невозможно. Снова и снова пытаясь объяснить – даже не столько родителям, сколько себе самому – причины своего тяжелого состояния или срыва, Боря почему-то совершенно по-детски жаловался на те чисто бытовые обстоятельства, которые он сам раньше уверенно посчитал бы второстепенными и легко преодолеваемыми простым волевым усилием. Да, за эти полтора или два месяца он так и не смог добиться никакого существенного успеха в шахматах и приблизиться к тому, чтобы получить желанное звание мастера; да, для него почему-то оказалось ужасным, невыносимым, сводящим с ума испытанием быть безработным и чувствовать себя преступником, которого в любой момент могут схватить; да, он устал считать каждый кусок хлеба и каждую копейку; и вообще, он очень устал от этого постоянного напряжения, у него сдают нервы, он находится на грани психического истощения и может вдруг, ни с того ни с сего разрыдаться прямо на глазах у людей, что с ним уже и случалось несколько раз, к его собственному ужасу… В общем, это был какой-то сплошной кошмар.
Но, на взгляд потрясенного младшего Фурмана, всего этого было недостаточно, чтобы вот так, посреди дороги отказаться от собственной великой мечты о счастье и свободе и сдаться старым врагам. (Да еще и на таких жестких условиях: работать и одновременно учиться вечерами. Ведь в конце концов, если уж так приперло, Боря легко мог отказаться от папиных предложений и пойти работать в школу на половину учительской ставки. Денег, конечно, маловато, но это же не главное! Главное, чтобы можно было продолжать идти своим путем. Но этот давно обсуждавшийся вариант Борю сейчас почему-то уже не устраивал.)
Боря был явно не в себе, в нем что-то надорвалось, и Фурману было его ужасно жалко. Но невозможно было забыть и его прежнее высокомерие и оскорбительные выпады против отца…
Ведь, как понял Фурман, реально ничего плохого с ним еще не случилось. Так что же мешает ему и дальше гнуть свою линию? Да ничего. Ничего, кроме внезапно овладевшего им дикого страха быть тем, кем он хотел. Именно этот страх его и раздавил. Видимо, Боря не учел чего-то очень важного в самом себе, какой-то своей тайной слабины, которая вдруг предательски вылезла наружу, разом разрушив все его возвышенные планы.
Сломленный страхом Боря, кажется, сделал свой выбор: отступил, отказался от себя, решил быть как все.
Что ж, значит, теперь наступает черед младшего Фурмана. И он не отступит.
В разведке
1
Способность легко зажигаться чужими идеями и создавать себе новых героев притягивала к Наппу и Мариничевой самых разных людей.
Однажды в квартире Наппу произошли фантастические изменения. За пару дней веселые энергичные мастера собрали в полупустой большой комнате гигантский аквариум, и на следующие полгода дом Наппу стал штабом некой паранаучной секты, которая тайно практиковала домашние роды в воду. Лидер движения Игорь Чарковский – смуглый черноволосый мужчина с вежливыми манерами, тихой невнятной речью и демонически косящим взглядом – утверждал, что возвращение в мировой океан, откуда миллионы лет назад вышло все живое, является неизбежным светлым будущим духовно и физически обновленного человечества. Основным доказательством того, что люди до сих пор остаются двоякодышащими существами, служило девятимесячное пребывание каждого человека в «раю» материнской утробы. В соответствии со своей утопической идеей сектанты не только устраивали роды в воду, но и приучали новорожденных младенцев, а также других имевшихся в их распоряжении маленьких детей (в том числе из семей сочувствующих добровольцев, к которым принадлежали и Наппу) сутками безвылазно находиться в «родной для них естественно-природной жидкостной информационной среде». Прогнозировалось, что благодаря этому небывалому опыту у новых ихтиандров вскоре откроются мощнейшие экстрасенсорные способности, и они смогут общаться телепатически, исцелять больных, проходить сквозь стены и совершать прочие чудеса. В просветительских беседах с другими гостями Наппу последователи Чарковского со скромными улыбками говорили о «подключении к ноосфере» и воздействии «космических энергий Добра». Но главным посредником между человечеством и Космосом они считали дельфинов – «вторую разумную расу нашей планеты». При правильной постановке дела человеческие роды должны были происходить не в роддомах – этих, как они говорили, «фабриках смерти», и не в тесных информационно загрязненных городских квартирах с «убитой» хлорированной водой, а прямо в море и в присутствии дельфинов. Но пока этому мешали неблагоприятные климатические условия СССР и недопонимание со стороны официальных властей.
«Юных Валериных друзей-журналистов», которые по привычке продолжали встречаться у него дома, мягко старались держать в стороне от повседневной деятельности секты – по причине, как насмешливо объяснял Наппу, их «временной бездетности и общей человеческой неопытности» (а скорее всего, из-за вполне реальной угрозы появления милиции, поскольку организация домашних родов была абсолютно противозаконным делом). Честно говоря, они были этому только рады: даже недолгое лицезрение аквариума, набитого полуголыми истеричными женщинами на последней стадии беременности, пронырливыми сопливыми мальками сверхчеловека и властными волосатыми инструкторами в подозрительно вздувшихся плавках, могло довести слабого духом наблюдателя до полуобморочного состояния…
Иногда «чарковцы» всей командой снимались с места и на неделю-другую куда-то исчезали. В один из таких тихих малолюдных вечеров Фурман с Соней Друскиной, увлеченные разговором о современной литературе, засиделись у Наппу допоздна. Им уже пора было уходить, когда в маленькую комнату, где они сидели, забрел Наппу с ласково прищуренными глазками и лунатической улыбкой Будды. Походив туда-сюда и порывшись для виду в каких-то вещичках, он вдруг спросил, не хотят ли они ознакомиться с одной замечательной книгой.
– Ладно, Наппу, не томи! – заторопила его Соня. – Признавайся, что там у тебя?
– А ты, Друскина, меня не подгоняй, а то вообще ничего вам не дам! – надулся он.
– Все-все-все, каюсь, больше никогда так не буду! – с веселой готовностью затараторила Соня.
После этой ритуальной детсадовской сценки Напп у милостиво, хотя и с нарочитой медлительностью, сообщил, что книга называется «Центр циклона», ее автор – Джон Лилли, и во всем мире этот труд считается «первопроходческим для новой науки о человеке». Правда, тут есть одно «но», сказал Наппу: в СССР книги Лилли запрещены, так что речь идет о самиздате, и его предложение они должны воспринимать как знак особого доверия – с их стороны, между прочим, пока еще ничем не заслуженного.
– Хорошо, будем считать, что это аванс! – не удержалась Соня.
– Знаешь, Друскина, когда-нибудь я тебя все-таки убью! – мечтательно сказал Наппу и погрозил ей своим маленьким кулачком.
До этого Фурман никогда не сталкивался с настоящими самиздатскими книгами и не знал, чем они отличаются от обычных. Секретный труд хранился, как оказалось, в одежном шкафу в картонной коробке из-под обуви и представлял собой толстую пачку малоформатных фотографий машинописного текста, по две страницы на каждой. По словам Наппу, некие неназываемые добрые люди дали ему эту потрясающую книгу всего на трое суток, но на нее уже выстроилась длинная очередь, поэтому прочитать ее можно только здесь и сейчас, то есть за ночь и не вынося из дома. Принять эти жесткие условия ни Фурман, ни Соня по разным причинам не были готовы, и он, слегка поломавшись, согласился в виде исключения придержать для них «горящую» книгу до завтрашней ночи. (Позднее Фурман случайно выяснил, что книжка принадлежала самому Наппу и все эти строгости применялись им лишь для нагнетания атмосферы таинственности и упрочения своего и без того избыточного авторитета.)
На следующий вечер, дождавшись, когда разойдутся другие, незапланированные гости, Соня начала передавать Фурману прочитанные ею листки. Но в четверть первого, когда ими было пройдено чуть больше трети книги, она вдруг убежала домой, объяснив, что ранним утром ее ждут какие-то неотменимые дела и ей нужно хоть немножко поспать. Фурман, ломая глаза, дочитал все до конца. Разбудили его голоса детей, которых Лена собирала в детский сад.
Наппу бродил по дому с жужжащей механической бритвой и брился на ходу. Увидев Фурмана, он поудобнее скривил нижнюю челюсть и с соответствующей дикцией поинтересовался его «впищищениями» от книги.
«Ну, впечатления такие, сложные. То есть все это, конечно, очень интересно. Но вызывает много разных вопросов…» В голове Фурмана клубилось тяжелое мутное облако, и он опасался ляпнуть какую-нибудь постыдную глупость, но, на его счастье, учитель торопился на работу и благосклонно согласился ответить всего на один вопрос… Увы, даже при таком предельно сокращенном варианте проверки ученик явно разочаровал его. Недовольно поморщившись, Наппу назвал вопрос Фурмана абсолютно ханжеским. Но потом все же пояснил, что хотя современные западные исследователи действительно успешно используют в своей работе ЛСД, психоделическую музыку и прочие средства расширения сознания, для нас все это совсем не обязательно. У наших людей сознание и так расширяется буквально «на раз», поэтому главная проблема состоит не в том, чтобы его еще больше расширить, а, наоборот, в том, чтобы запихать его хоть в какие-то формальные рамки. Понятно?.. Смущенного Фурмана этот ответ вполне удовлетворил.
Когда он пересказал их разговор Соне, та только хмыкнула и пожала плечами: что ж, может, Наппу и прав. В конце концов, это ведь он у нас главный специалист по расширению сознания, так что ему, наверное, виднее…
Налаживать дружеские отношения с новыми знакомыми и протеже Мариничевой обычно было намного проще.
Еще весной Ольга привела в их компанию лохматую кареглазую гитаристку Машу, снисходительно отрекомендовав ее со смешанным англо-французским прононсом как «enfant terrible». Новая знакомая сразу же объявила, что ее тошнит от своего сказочного конфетно-шоколадного имени, и попросила называть ее Маня или на худой конец просто Машка. Поначалу всех поражали ее раскованные манеры и насмешливое злоязычие. Например, она открыто предупредила Мариничеву, что является не только убежденной феминисткой и пацифисткой, но и, как говорится, ярым и непримиримым антисоветчиком и антикоммунистом, хотя на бытовом общении, а также на ее личных отношениях с членами КПСС это может и никак не сказываться – по крайней мере до поры… Ровесница Фурмана, она тоже нигде не училась и не работала, но при этом производила впечатление человека весьма опытного, уверенного в себе и сведущего в разнообразных житейских делах – от ремонта квартиры до оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Выяснилось также, что за ее провоцирующими грубоватыми манерами скрывалось столь прочное староинтеллигентское воспитание (видимо, бабушкино), что дети простых советских инженеров могли этому только позавидовать. Машка на удивление быстро нашла общий язык с Соней, взявшись обучать ее игре на гитаре, и вскоре сделалась своей и для остальных членов их маленького кружка. А благодаря ее тесным, хотя и довольно таинственным связям с Клубом самодеятельной песни желанные для всех поездки на слеты перестали быть такой сложной проблемой, как раньше, когда их организацией занимался Наппу.
В первых числах сентября Минаев сообщил Фурману, что Машка очень просила их обоих в ближайшие несколько дней принять участие в поисках места для предстоящего Большого слета (требовалось найти где-нибудь в подмосковных лесах поляну, на которой могли бы одновременно разместиться от трех до десяти тысяч человек с палатками). Сама Машка по каким-то причинам поехать с ними не могла, и в первый момент это поручение показалось Фурману шокирующе ответственным. Но Борька насмешливо успокоил его: не пугайся, мы с тобой не единственные, кому дано такое задание. В поиске задействованы десятки, а может и сотни других разведчиков, которых направляют в разные стороны от Москвы. Короче, сценарий этот давно обкатан, и знающими людьми все заранее предусмотрено. Даже если они с Фурманом провалят свою часть операции и ничего не найдут, их никто за это не накажет. И кстати, Фурману, как человеку более свободному в плане времени, придется где-нибудь пересечься с Машкой и взять у нее карту с уже размеченным маршрутом.
При торопливой встрече в метро Машка сказала, что ехать им нужно электричкой с Савеловского вокзала до станции Икша, а дальше пешком; карта в конверте, все ориентиры и примерная зона поиска там указаны. Когда Фурман дома открыл конверт, оказалось, что эта «крупномасштабная карта» – всего лишь маленькая фотокопия какого-то схематичного плана местности, который был подозрительно похож на самоделку, пусть и добротно сделанную. Но как бы то ни было, задание требовалось выполнить.
С Минаевым они договорились встретиться через день, на вокзале, в 8:45 утра под табло с расписанием поездов.
Что Минаев всегда и всюду опаздывает, было хорошо известно. Но через пятнадцать минут Фурман начал беспокоиться, а через двадцать пять, пропустив уже три подходящих им электрички, проклял все на свете. Тут из привокзальной толпы его вдруг окликнули по имени, и к нему направился какой-то маленький смуглый парень с длинными темными волосами и в очках.
– Привет тебе, Саша Фурман! – повторил он, протягивая ладонь для пожатия. – Надеюсь, я не очень опоздал?.. Та-а-ак, вот те раз, кажется, ты меня не узнаешь? Ну, на самом деле это теперь уже и не важно. Главное, что я тебя сразу узнал и наша с тобой встреча, можно считать, состоялась. Давай-ка я вкратце напомню тебе обстоятельства нашего знакомства. Зовут меня Саша Морозов. Мы с тобой пересекались несколько раз в редакции. И потом еще однажды в Карелии на коммунарском сборе я был в твоем отряде. Вспомнил? Ну, вот и отлично! Теперь к делу. Наш общий друг Боря Минаев позвонил мне примерно час назад и слезно умолял заменить его в этой поездке. Собственно, вот почему я здесь. Он, конечно, страшно извиняется, но у него есть уважительная причина: ему пришлось срочно ехать в универ. На мой взгляд, он принял верное решение – уж кому-кому, а ему-то как раз не стоило бы пропускать лекции с первых же дней учебы… Так, извини, я тебя уже совершенно заболтал, а ведь нам, как я понял из его путанных, как всегда, объяснений, нужно еще куда-то ехать?..
То, что Фурман не сразу узнал Морозова, можно было объяснить лишь эффектом неожиданности. Год назад в редакции они виделись только мельком, но Фурману было известно, что Морозов вместе с Минаевым, Максимовым, Дубровским и всеми прочими ходил в Школу юного журналиста и был одним из победителей всесоюзного конкурса школьных сочинений о войне, после которого их и пригласили в «Алый парус». Все уважительно отзывались о его таланте, но ни в клубе, ни в газете он в тот момент почему-то не задержался. А прошлой весной в Петрозаводске, когда Фурман первый раз был отрядным комиссаром на сборе «Товарища», туда, чтобы поддержать его, приехал Минаев, который зачем-то притащил с собой и Морозова. Оба они числились в отряде Фурмана, но он тогда так волновался, что их присутствие почти не зафиксировалось в его памяти. Теперь ему вдруг припомнилось, как этот Саша Морозов при знакомстве с отрядом всех удивил, назвав своим любимым поэтом Роберта Рождественского (для столичного десятиклассника, собирающегося стать журналистом, это предпочтение выглядело несколько странно: не Блок, не Маяковский, не Гумилев, а этот известный советский поэт-песенник…). А на второй день сбора Морозов неожиданно исчез. Хватились его только вечером. Минаев нашел у себя в кармане какую-то странную записку, и оказалось, что Морозов без всяких объяснений, никого не предупредив, отправился на вокзал, купил билет и уехал в Москву. «Товарищи» были в шоке. Значит, вот так поступают москвичи?.. Борьке пришлось оправдываться: мол, не принимайте это на свой счет, к сбору и ко всем его участникам это не имеет никакого отношения. Он в этом абсолютно уверен, хотя бы потому, что с Морозовым подобные истории раньше уже случались. Он приезжает в какое-нибудь замечательное место, поначалу все идет отлично, а потом ему вдруг, без всякой видимой причины, становится совершенно невмоготу оставаться там, где он находится, и он просто сбегает, иногда даже на ночь глядя. Да, конечно, он повел себя очень неправильно, нехорошо и даже возмутительно с моральной точки зрения, поскольку знал, что люди будут о нем беспокоиться. Но, к сожалению, ничего тут не поделаешь – так уж устроен этот человек. Обижаться на него глупо. И волноваться о его судьбе тоже не стоит. Вы немного недооцениваете этого парня: опыт показывает, что при всех своих отрицательных качествах он прекрасно ориентируется в сложных жизненных ситуациях и всегда находит из них выход. Поэтому сейчас лучше всего просто выкинуть его из головы – ну уехал, и черт с ним!.. Видимо, этот совет тогда сработал каким-то волшебным образом… Кроме того, еще минуту назад Фурман был слишком нацелен на то, чтобы увидеть опаздывающего Минаева…
Предпоследняя перед большим перерывом электричка отправлялась через шесть минут, и они побежали покупать билеты. На ходу Фурман объяснил своему новому напарнику их задачу.
– Ты, я смотрю, при полной экипировке! – с веселым одобрением отметил Морозов, пока они стояли в очереди. – Выглядишь вполне по-походному. А я так, налегке!..
С учетом того, что на прошлой неделе шли дожди, Фурман серьезно подготовился к предстоящей экспедиции: под потертой брезентовой штормовкой на нем был толстый шерстяной свитер, на ногах – брезентовые штаны, заправленные в резиновые сапоги. Он даже спички с собой на всякий случай прихватил в непромокаемом пакетике. Не хватало только рюкзака, чтобы казаться бывалым туристом. Зато его спутник – в легкой джинсовой куртке нараспашку, тонкой городской рубашке, темно-серых выходных брюках и легкомысленных полукедах – как будто собирался не в глухой сырой лес, а куда-нибудь на дачу. Это впечатление подчеркивали свежие газеты, небрежно торчавшие из небольшой наплечной сумки. Вообще, вид у Морозова был какой-то расхристанный: спутанные волосы торчат во все стороны, воротник рубашки, расстегнутой на две пуговицы, съехал набок…
Народу в электричке было немного. Первые десять минут Морозов деловито просматривал газеты, приговаривая «так-так-так…», «а вот это уже довольно любопытно…» и отпуская какие-то неразборчивые комментарии, на которые Фурман реагировал в основном вежливым хмыканьем. Сам он от чтения газет отказался: из-за недосыпа и недавно пережитого волнения его начало подташнивать и мощно клонить в сон.
Но подремать на бьющем в окно ярком утреннем солнышке ему удалось совсем недолго, потому что, покончив с прессой, Морозов энергично принялся «углублять знакомство». Самым простым и удобным способом поближе узнать другого человека он «в силу специфики своей будущей профессии» считал жанр блиц-интервью. Фурман, поежившись, сказал, что, как ему кажется, по-настоящему узнать друг друга при таком способе общения невозможно. Морозов с сомнением покачал головой: может, по большому счету ты и прав, но пока давай начнем именно с этого. Ну что, ты готов? Фурман недовольно пожал плечами, и Морозов стал в быстром темпе выстреливать короткие острые вопросы на самые разные темы. При этом ему явно не нравилось, когда Фурман задумывался над своими ответами. Он со скучающим видом начинал поторапливать его, как будто они куда-то опаздывали, и иногда его нетерпение прямо граничило с невежливостью. Могло даже показаться, что содержательная сторона ответов интересует Морозова лишь постольку-поскольку и ему гораздо важнее ставить где-то у себя в голове воображаемую «галочку»: вопрос задан, ответ получен, переходим к следующему. Все это было довольно обидно, и в другое время Фурман вряд ли позволил бы так с собой обращаться (подобный напор легко можно было бы сбить, например, проявив активный встречный интерес к собеседнику). Сейчас же ему хотелось только одного: чтобы его хотя бы на полчасика оставили в покое. Однако прервать эту навязанную жесткую игру в словесный пинг-понг у него не было сил: его сопротивление и отказ отвечать наверняка вызвали бы лишь новые вопросы, пришлось бы что-то объяснять, упрямо настаивать на своем…
С растущим раздражением отбиваясь от чужих наскоков, он вдруг поймал себя на том, что в паузах между своими репликами так язвительно и грубо втихомолку комментирует каждое слово и даже движение расположившегося напротив бойкого смуглого человечка в очках, словно это какое-то мерзкое существо иной природы.
Больше всего в собственном «внутреннем голосе» Фурмана поразило сладострастное издевательство над внешними особенностями другого человека: цветом кожи, чертами лица, жестами, манерой речи. И это дикое «параллельное» бормотание продолжалось даже теперь, когда он его заметил! А ведь именно вот так исподтишка мог бы наблюдать за шевелениями и подергиваниями еврея антисемит.
Фурман почувствовал, что краснеет. Какой стыд! Какой позор! И ты еще смеешь считать себя настоящим коммунистом?! Но откуда во мне взялась эта дрянь? Я же никогда раньше…
«Ну и что в этом такого? – вдруг пробормотал внутренний голос с дурашливым вызовом. – А если он и вправду такой противный?..»
«Господи, что со мной происходит?!» – испугался Фурман и прислушался. Но ответа не последовало.
Внутренний голос хмыкнул.
«Кажется, я схожу с ума… Неужели это вот так и случается?» – с веселым отчаянием подумал Фурман.
Морозов в этот момент, к счастью, увлеченно пустился в какие-то длинные объяснения, предваряющие очередной вопрос.
Надо было срочно что-то делать с собой. Но что тут можно сделать?! Вызвать санитаров? Спокойно. Самое главное – это сохранять остатки разума. Понять, что происходит.
А как это – «понять»? Давай, понимай! Только побыстрее!
Наверно, для начала нужно, как говорится, просто «увидеть себя со стороны».
С какой еще, к черту, стороны?
Допустим, здесь сейчас был бы Боря. Что бы он сказал?
Ну и?..
Он бы сказал: дорогой цыпленочек, помочь тебе сейчас некому.
Отлично!..
Поэтому придется тебе действовать самому. Итак, с тобой происходит что-то неправильное. Возможно, это означает, что у тебя внутри что-то нарушилось, сломался какой-то важный механизм. Попробуй заглянуть в себя и увидеть, что там не так.
«Заглянуть в себя». Бред.
Но что же делать?.. Если в машине что-то ломается, первым делом поднимают капот и смотрят, что с мотором…
Так то мотор… Ну хорошо, предположим, я «заглянул в себя» – и что дальше?
Ничего, просто попробуй это представить. Закрой глаза.
Осторожно покосившись на болтающего Морозова, Фурман прикрыл глаза.
И, естественно, ничего не увидел. Только какую-то мелкую рябь на внутренней поверхности век.
Тут ничего нет, я ничего не вижу! Все это просто глупость. Я открываю глаза!
Подожди, это же просто, как игра в ассоциации. Если тебе не нравится образ мотора, попробуй представить самого себя в виде чего-то другого – например, дома. Или хотя бы комнаты.
Фурман судорожно вздохнул, и ему почти сразу привиделось какое-то небольшое вытянутое помещение с голыми стенами без окон.
Откуда-то сверху тихо сеялся белесый искусственный свет.
Странная полупустая комната, видимо, была частью жилой квартиры: в центре длинной стены была приоткрытая наружу дверь, а за ней – узкий полутемный коридор с угловатым поворотом, уходивший то ли в соседнюю комнату, то ли в кухню. Там тоже было светло, но никаких звуков, которые говорили бы о чьем-либо присутствии, оттуда не доносилось.
В комнате, поначалу казавшейся пустой из-за светлых голых стен, весь пол был завален разбитыми на мелкие кусочки домашними вещами и грубо разломанными фрагментами мебели. Похоже, совсем недавно здесь происходил какой-то дикий, беспощадный разгром. Какая же нужна была сила или злоба, чтобы все вокруг так порушить…
В нескольких местах на запятнанных ободранных стенах чем-то темным были яростно выведены какие-то каракули. С брезгливым любопытством попытавшись их разобрать, Фурман медленно, как во сне, догадался, что все, что он видит, на самом деле является лишь чем-то вроде театральной декорации. Вот это да! А ведь все так реалистично и подробно… Ему даже стало интересно, что здесь будет происходить дальше. Но потом до него так же медленно дошло, что это иносказание. А смысл «сообщения» таков: это в его собственном внутреннем мире все разгромлено и порушено. Как?! Почему?.. Да потому, идиот, что на самом деле с тобой прямо сейчас происходит кошмарная истерика. И она вовсе не закончилась, а с каждой секундой катастрофически нарастает, грозя вот-вот прорвать жалкую плотину человеческих приличий!.. Тут у него в голове врубился такой мощный звук, что «картинка» мгновенно уменьшилась, посерела, пошла волнами и погасла, как экран телевизора, и все заполнилось торжествующим ревом авиабомбы, быстро перешедшим в завывания полярного ветра, наложенные на запись симфонической кульминации гигантского оркестра в сопровождении пары академических хоров…
Среди этого гула Фурман краешком сознания равнодушно отметил, что уже третий подряд вопрос Морозова остается без ответа.
Между тем его упорное молчание, застывший взгляд и бледное лицо с приоткрытым ртом заставили Морозова слегка забеспокоиться. «Саня, ты в порядке? – спросил он. – У тебя ничего не болит? Может, я заболтался и что-то не то тебя спросил? Не обращай внимания, со мной это случается… Ты меня слышишь?»
Фурман кивнул и вяло поднял ватную ладонь, успокаивая его и прося немного подождать.
Величественное пение адского хора теперь как будто отдалилось, и в нем стали различаться отдельные повторяющиеся интонационные линии… сложное переплетение голосов… какие-то страстные оперные мольбы и грозные предупреждения…
Фурман вдруг вспомнил, как Боря однажды убеждал его, что для того чтобы не сойти с ума, очень важно научиться понимать свои вытесненные желания и «мирно договариваться» с собственным бессознательным. Может, сейчас как раз самое время попробовать разобраться, о чем они так громко воют у него внутри? Они ведь, наверное, чего-то хотят? Может, если дать им это, они успокоятся и заткнутся?..
Он стал с терпеливым вниманием вслушиваться в рыдающие и визжащие голоса, ощутив даже что-то вроде охотничьего азарта, – и в какой-то момент словно поймал сквозь помехи нужную радиостанцию. Но от услышанного он просто оторопел: с немыслимой злобой они наперебой требовали сию же минуту растерзать на кусочки эту сидящую напротив дрянную куклу (то бишь Морозова)… начать выкрикивать ему в лицо самые грязные оскорбления… сорвать с него очки и растоптать их… дернуть стоп-кран, чтобы он упал и разбил себе голову… выскочить из вагона на ближайшей остановке и по шпалам бежать обратно в Москву…
Но зачем?! Зачем надо бежать в Москву?
Он вдруг с удивлением понял, что вся эта чудовищная волна не может иметь к Морозову как таковому никакого отношения. Это было очень, очень странно. До смешного ни о чем не подозревающий «объект» всех этих бешеных угроз, Морозов действительно был «куклой» – подменой, тенью, случайной зацепкой. Но что-то в самом Фурмане – какая-то его важная часть, недавно бесцеремонно отброшенная им в сторону, – теперь с поразительной детской бескомпромиссностью мстила ему, отказываясь принимать реальность. Ту единственную реальность, в которой они с Морозовым сейчас находятся вместе – едут в электричке – и которая, как считает этот смертельно обиженный детский голос, предательски изменилась полчаса назад, в момент их встречи на вокзале, когда совершилась подмена.
Какая еще подмена? Он действительно ждал Минаева. А вместо него пришел Морозов – и что, дальше все пошло не туда? Поэтому надо убивать Морозова, дергать стоп-кран и выскакивать из поезда? Чтобы вернуться в ту точку, где все изменилось? Но ведь Минаева-то там все равно не будет?..
Вот это да! Это же натуральный фрейдизм! Выходит, все это не выдумки? «Вытеснение», «переносы», «эдипов комплекс» и прочие психоаналитические фокусы… То есть самого доктора Фрейда мы, конечно, не читали. Да и Боря – древний огненный источник фурмановских познаний – наверняка тоже «изучал» его труды по каким-нибудь дурацким пересказам… Но как же все это странно и интересно устроено!
Проблема в том, что желание не может создать полноценную другую – «желаемую» – реальность. Конечно, можно попытаться убить Морозова в этой единственной реальности, но нельзя вернуться в прошлое, заставить Минаева бросить свои дела и ехать сейчас в электричке с ним, а не с Морозовым… Кстати, а почему все так уперлось в Минаева-то? Допустим, он был бы сейчас здесь – и что? Чего Фурман лишился в его лице? Из-за чего у него в голове разгорелся весь этот ужасный сыр-бор?..
Лишь теперь он с болезненным изумлением начал узнавать опасно взбунтовавшуюся часть самого себя. Этот Фурман два последних дня провел в тяжелом волнении и сомнениях, настраиваясь на предстоящий трудный, но абсолютно необходимый ему разговор с Минаевым. После его возвращения из Петрозаводска они уже несколько раз встречались у Наппу и где-то еще, но спокойно поговорить наедине не получалось. Поход создавал для этого почти идеальные условия. Только Минаеву Фурман мог честно рассказать о бесславном завершении своей полугодовой миссии в «Товарище», а главное – о своих совершенно запутавшихся и горьких отношениях с Нателлой… И вот, вместо желанной дружеской откровенности, понимания и утешения ему придется целый день потратить на совершенно бессмысленное общение с этим бесконечно чужим, поверхностным и неприятно приставучим человеком!.. Нет-нет, конечно, сам по себе Морозов ни в чем не виноват, даже наоборот, он поступил благородно, согласившись заменить бестолкового друга Минаева…
Хотя по большом счету и Минаев тут был ни при чем. Все дело было в Нателле. Она ускользала от него, и ему казалось, что с ней ускользает будущее. Ведь у него никогда никого не было, кроме нее. И ему так не хотелось окончательно отпускать ее, расставаться с ее образом, снова погружаться в темную голодную бездну одиночества… А тут его безжалостно лишают даже возможности поговорить о ней – быть может, в последний раз!.. Невыносимая детская обида разрывала сердце Фурмана. И ему было жалко себя до слез. Как говорил один попугай, «бедный, бедный Робин Крузо, как ты сюда попал?..»
Ну и что теперь с этим делать?
Электричка – маленький, сильно раскачивающийся островок реальности, к которому он был безнадежно прикован вместе со своим чудаковатым Пятницей, – по-прежнему бодро неслась вперед, во всепобеждающую суетливую скуку жизни. Спасения не было… Правда, и давление в его «котле» уже заметно упало, истерика иссякла. Оставалось только в очередной раз повторить про себя слова героя «Башни из черного дерева»: «Уцелел…»
Морозов, видя, что Фурман приходит в себя, с извинениями отказался от своей, «возможно, чересчур агрессивной тактики ведения беседы» и предложил перейти к обсуждению более важных тем, представляющих взаимный интерес.
Одной из таких тем, по его словам, мог бы стать «сознательный и принципиальный отказ» Фурмана от получения высшего образования, некоторое время назад вызвавший большие споры в их ШЮЖевской группе.
– Надо же, – недобро усмехнулся Фурман. – И о чем был спор?
Мнения участников дискуссии резко разделились, отрапортовал Морозов. Но кто и что именно тогда говорил, ему сейчас уже вряд ли удастся вспомнить. Да это и неважно. Во-первых, потому что обсуждение развивалось по наихудшему сценарию (что, кстати, нередко случается, когда глубокие мировоззренческие вопросы пытаются решать силами профессионально неподготовленных людей). К тому же следует отметить, что довольно большой процент присутствующих составляли разнообразные замечательные девушки, что определенным образом влияло на некоторых особо слабонервных ораторов и в целом, несомненно, подогревало страсти… В общем, если описать в двух словах, то сначала все выступавшие крайне нудно и тоскливо несли всякий инфантильный вздор, затем, перейдя уже непосредственно к обсуждению, грубо обзывались, с детской жестокостью обвиняя друг друга во всех смертных грехах, после чего долго размазывали по щекам сопли и слюни, а под конец, когда на столе совершенно неожиданно появилось несколько бутылок с вином, стали со слезами на глазах признаваться во взаимной вечной любви, произносить зажигательные тосты, целоваться и обниматься. Так что в целом можно сказать, что тот вечер прошел на славу.
– Ну, а во-вторых? – поинтересовался Фурман.
– А что во-вторых? – удивился Морозов.
– Ну, ты же сказал, что все это было неважно, во-первых, потому-то – и очень подробно и красочно объяснил почему. Я и подумал, что раз так, то должно быть еще и какое-то во-вторых. Вторая причина, по которой ваши позиции в том споре стали для тебя неважны.
– Вот ты о чем… Типа, если кто-то сказал «а», то должен сказать и «б». Логично. Ну что ж, тогда можно назвать и вторую причину.
Он ненадолго задумался.
Суть в том, что за прошедшие полгода (или чуть больше) каждый из участников той дискуссии под давлением, так сказать, внешних биографических обстоятельств был вынужден совершить свой личный выбор – даже если у кого-то он заключался в отказе делать этот выбор самостоятельно и перекладывании его на плечи родителей. В результате каждый получил ответ на волновавшие его тогда вопросы как бы самим ходом собственной жизни. Что, возможно, и является единственной правильной формой ответа… К сожалению, тут нет никакого предмета для разговора, потому что ответы эти в 99 случаях из 100 совершенно банальны и хоть какой-то минимальный интерес могут представлять разве что с точки зрения социологии. Да и то вряд ли. Зато у самого Морозова теперь есть редкая возможность прояснить, так сказать, из первоисточника глубинные основания той яркой и в хорошем смысле провокационной позиции, которая в свое время послужила исходным толчком для их заслуженно забытого спора. Стоит ли говорить, что эта позиция и сегодня вступает в острое противоречие с нормами и ценностями их общей социально-культурной среды и поэтому нисколько не утратила своего значения…
Судя по мягкой терпеливой улыбке, Морозов ожидал от Фурмана какого-то развернутого ответа. Обескураженный этим виртуозным напором сложносочиненной речи, Фурман попытался собраться с мыслями, но ничего столь же «умного» или хотя бы достойного в голову не приходило. Пауза затягивалась… Вообще-то Фурману очень не понравилось, что его жизнь бесцеремонно используют как аргумент в каких-то дурацких детсадовских спорах. Резануло его и словечко «провокация», прозвучавшее как некая двусмысленная похвала (неужели Морозов считал, что Фурман не стал поступать в институт нарочно, «назло врагам», лишь бы вызвать у них какую-то реакцию?!). Кроме того, само изысканно-замысловатое построение обращенного к нему вопроса (если это вообще был вопрос) таило в себе какую-то хитрую лесть… И тут Фурмана осенило: если Морозову так нравятся провокации, может, стоит пойти ему навстречу? Он ждет, что ему сейчас вот так, с места в карьер, откроют «глубинные мотивы»? Но с чего он вообще взял, что они у Фурмана имеются? А как ему вариант под названием «грубая правда»? (Фурману не раз доводилось выслушивать от родственников и знакомых жесткие «разоблачения» в свой адрес, и произнести их самому перед посторонним человеком означало бы стать выше – ну, или хотя бы шире – этих обидных и даже оскорбительных «версий».) После этого любая поверхностно-романтическая интерпретация «светлой личности Фурмана» станет невозможной, и Морозову с его красноречием придется либо открыться и прямо заговорить о самом себе, либо наконец просто заткнуться. Конечно, существовала еще и некоторая вероятность, что он полностью согласится с нелицеприятной оценкой Фурмана. Это было бы смешно – попасться в собственную ловушку… Но рискнуть стоило.
Пряча довольную улыбку, Фурман мрачно нахмурился, на всякий случай кашлянул и спросил засмотревшегося в окно Морозова, готов ли он выслушать его ответ.
– Да-да, конечно! – оживился тот. – Я весь внимание.
– Должен тебя предупредить, что, возможно, это не совсем то, чего ты от меня ждешь, – сказал Фурман и после затянувшегося обмена любезностями позволил себе выдвинуть предположение, что его «пресловутый принципиальный отказ» от получения высшего образования может объясняться и без привлечения гипотезы о наличии у него неких «глубоких идейных оснований».
– А чем же тогда все это можно объяснить? – озадаченно спросил Морозов. – Не мог бы ты привести какой-нибудь понятный пример?
– Да кучей самых разных причин это можно объяснить! – загорелся Фурман. – Если брать только самые простые, лежащие на поверхности, то это, например, свойственная мне от природы определенная интеллектуальная туповатость… Ну хорошо, хорошо, скажем по-другому: отсутствие необходимых для получения серьезного высшего образования способностей к математическому мышлению… Нет, спорить с этим как раз невозможно, потому что именно по этой причине меня в свое время с позором выперли из математического класса! Следующая причина: обычная человеческая лень, которая, конечно, свойственна большинству людей, но в рассматриваемом нами случае явно зашкаливает по всем параметрам. С этим тоже глупо спорить, просто поверь мне на слово. Далее. Инфантильный страх; патологическое нежелание претерпевать экзаменационные унижения… Это всё, так сказать, субъективные причины. А есть еще и объективные. К ним можно отнести, например, абсолютное равнодушие большинства учителей к своему делу. Или очевидные недоработки школьной системы профориентации… Продолжить – или этого достаточно?
Его слова почему-то ужасно расстроили Морозова. Бросив на Фурмана обиженный взгляд, он странно покривил губами, потом отвернулся и надолго уставился в окно. Фурману даже показалось, что в глазах этого непонятного человека за стеклами очков с тонкой золотистой оправой блеснули слезы. Однако он мстительно решил не нарушать молчания и тоже стал нервно посматривать в окно.
И справа, и слева показывали какую-то мелькающую чушь.
Ну что, конец общению?.. А что вообще случилось-то? Да наплевать!.. Но закрыть глаза и подремать Фурман все же не решился – это выглядело бы слишком демонстративно, а кто знает, вдруг этот обидчивый парень выйдет из себя и набросится на него спящего… Ладно, тогда просто посидим. Как будто мы вообще не знакомы.
Фурман стал исподтишка рассматривать своего соседа. И, надо сказать, что тот, несмотря на свой встрепанный цыплячий вид, показался ему в чем-то даже симпатичным…
Наконец, словно завершив какие-то сложные вычисления, производившиеся в уме на фоне заляпанного оконного стекла, Морозов снова повернулся к Фурману. Сняв очки, он устало потер глаза, потом аккуратно посадил очки обратно, два раза сухо кхмыкнул носом на выдохе, подергал ноздрями – и заговорил как ни в чем ни бывало. Он хотел бы обратить внимание Фурмана на то несомненное лично для него обстоятельство, что в их пока довольно непросто развивающейся беседе им, Морозовым, движет отнюдь не праздный интерес и уж тем более не пошлое желание скоротать время в электричке за болтовней со случайным попутчиком. Нет смысла скрывать: он уже давно искал случая сойтись поближе и всерьез пообщаться с этим полулегендарным Фурманом, о котором в их кругу всегда было столько разговоров. Да-да! Постоянно только и слышишь: Фурман то, Фурман се… Но в том, что их встреча состоялась именно сейчас, при желании можно усмотреть своего рода знак судьбы. Потому что лично для него, «как для человека, который только что пошел на мучительную сделку с системой» (это он о своем поступлении на журфак, не сразу догадался Фурман), все еще важно понять, возможен ли был какой-то другой путь? Не совершил ли он некоего предательства по отношению к самому себе? И вообще, каково это – чувствовать себя маргиналом? Бросить вызов всему своему окружению, пойти наперекор семье, друзьям, противостоять давлению среды… Какую цену приходится платить за то, что живешь так, как считаешь нужным? Вот в чем на самом деле заключался его вопрос! Который, возможно, и был задан в несколько витиеватой форме, но на который он пока так и не получил ожидаемого достойного ответа. Ведь, по правде сказать, ему не так уж мало известно о Фурмане. Что именно? Ну, например, что он много времени посвящает самообразованию и прекрасно ориентируется в художественной литературе, психологии и философии, а следовательно, и в социальных науках, к которым, кстати, и сам Морозов проявляет определенный интерес. Ну да, да, не стоит так ядовито ухмыляться – источники его информации вполне понятны… И он, конечно, прекрасно понимает, что любая откровенность подразумевает доверие, а его нужно сначала заслужить. Тем не менее он считает, что его искреннее уважение к Фурману дает ему право как бы авансом рассчитывать на серьезное отношение – пусть и не к себе, что было бы абсолютным нахальством с его стороны, но хотя бы к этому все еще возможному разговору…
…Заслушавшемуся Фурману пришлось срочно мобилизоваться и выразить готовность к обсуждению альтернативной темы, немедленно предложенной Морозовым: о личностных проблемах начинающего студента. Но так как Фурману было совершенно нечего сказать по данному вопросу, Морозову пришлось «выступить с основным докладом».
Типичные и вполне идиотические «школьные» ситуации, которые он начал описывать с псевдонаучной обстоятельностью («во-первых… во-вторых… в-третьих…») и явно преувеличиваемым драматизмом, нагоняли на Фурмана жуткую скуку. Некоторое время ему с трудом удавалось маскировать приступы зевоты, а потом его сознание стало просто отключаться на секунду-другую. В одном из таких глубоких «провалов», обладавших собственным временем, он услышал резкий размеренный голос брата, который убеждал его не бояться трудностей, связанных с поступлением в институт и началом учебы. Пробудившись словно по звонку, Фурман вспомнил, что такой разговор у него с Борей действительно происходил год или два назад… И тут же понял, что ему есть чем ответить на все это жалкое человеческое нытье! Сон как рукой сняло, и пока бедный докладчик неуверенно пытался нащупать точку завершения своего затянувшегося монолога, Фурман, энергично кивая и посверкивая глазами, терпеливо сидел в засаде.
– Ну, и что ты обо всем этом думаешь? – наконец спросил Морозов.
– Что я об этом думаю? – загадочно протянул Фурман, с отстраненным интересом рассматривая жертву. – Я думаю примерно следующее…
И с покровительственно-соболезнующей Бориной интонацией он доходчиво объяснил, что 50 процентов из описанных Сашей мучительных переживаний человека, который, так сказать, пошел на сделку с системой, то бишь стал студентом, вызвано вполне понятными, но в целом незначительными и, главное, преходящими причинами. Что это за причины? Ну, во-первых… (Фурман поймал себя на том, что машинально повторяет морозовские «ходы», но было уже поздно) это ситуация личной свободы, абсолютно новая для подавляющего большинства начинающих студентов и сильно отличающаяся от привычной для них школьной «обязаловки» с постоянным жестким контролем со стороны учителей и родителей. Ясно, что далеко не каждый готов выдержать это испытание свободой и, например, сразу же не пуститься в тяжкий загул, из которого можно уже никогда и не выбраться. Или же выбраться слишком поздно, когда все шансы нагнать других будут упущены… Во-вторых, студента-первокурсника неизбежно сбивает с толку обилие чужих или малознакомых людей, многие из которых поначалу кажутся поразительно яркими, талантливыми и располагающими к общению, а впоследствии оказываются дураками и ничтожествами. К сожалению, на выяснение этого печального обстоятельства может уйти уйма времени и сил. Третья причина – это повальное неумение правильно организовать свои занятия, и как следствие – нарастающий завал с учебой. А поскольку в вузе нет нянек и каждый предоставлен сам себе, уже ко второй сессии как минимум четверть людей безнадежно отстают и становятся кандидатами на отсев. Четвертое – это то, что романтично настроенные молодые люди обычно не понимают одной простой, но важной вещи (впрочем, никто им этого и не объясняет): в любом вузе на 1–3 курсах нет интересных занятий по профессии, а есть только однообразная и несерьезная работа-учеба по общим предметам и дисциплинам. Специализация начинается позднее, но к этому моменту многих уже постигает страшное разочарование в избранном пути, и они, опять-таки, просто перестают учиться.
– Хорошо, допустим, все обстоит именно так, как ты говоришь, – растерянно сказал Морозов. – Но какой ты делаешь вывод? Что из всего этого следует?
– А следует из всего этого только одно: что молодым людям не стоит нервничать и суетиться попусту, – хладнокровно ответил многомудрый Фурман. – Кстати, кажется, мы уже подъезжаем… Так, станция Икша. Быстренько выходим!
Посрамленный Морозов получил возможность выразить Фурману свое завистливое восхищение лишь через несколько минут, когда электричка угрохотала и они остались одни на быстро опустевшей платформе.
По обе стороны железной дороги широкой полосой лежали перепаханные поля, а за ними неровными уступами синел лес. Во внезапно накатившей тишине на пристанционных деревьях возбужденно перекликались какие-то мелкие здешние птицы. Бодрыми порывами налетал свежий загородный ветерок. Сквозь легкие серые облака нежно пригревало утреннее сентябрьское солнышко.
Сориентировавшись по карте, Фурман с Морозовым перебрались через пути, от которых волнующе пахнуло знакомым с детства тяжелым маслянистым запахом, и вскоре вышли на узкое местное шоссе, по которому им теперь предстояло двигаться примерно три километра до пересечения с маленькой безымянной речкой или ручьем.
Асфальт на шоссе оказался на удивление ровным, и в начале пути каждый шаг доставлял какое-то необыкновенное удовольствие. На ходу они продолжали вести неторопливую уважительную беседу на подбрасываемые Морозовым темы.
Краем глаза Фурман с тревогой отмечал, как быстро сгущаются облака и тускнеет воздух. Когда спустя сорок минут они приблизились к небольшому поселку с ухоженными домиками, закапал дождь. Они старались мужественно не обращать на него внимания, но, дойдя через пару сотен метров до отмеченного на карте ручья, у которого им следовало свернуть в лес, все же решили переждать непогоду под аккуратным с виду каменным мостом. Однако внизу все оказалось «как везде», и они, брезгливо поглядывая под ноги, встали у самого входа под арку – просто чтобы головы не так мокли.
Сердито отшумевший ливень перерос в унылый мелкий дождик. Судя по всему, зарядил он надолго. Торчать неизвестно сколько среди этой вони было глупо. Как говорится, не за этим они сюда ехали из самой столицы! Посовещавшись, они решили, что правильнее будет войти в лес и приступить к выполнению задания. Морозов попросил Фурмана подождать еще минутку; достав из сумки газету, он несколькими отработанными движениями ловко сложил из нее треуголку и нахлобучил себе на макушку, сразу сделавшись похожим на маляра. Зато теперь и Фурман мог натянуть свой капюшон (до этого он не накрывал голову из молчаливой солидарности с напарником). Выйдя под дождичек, они направились вдоль ручья по хорошо утоптанной тропе.
Живописные окрестности имели вполне обжитый и окультуренный вид: чистые крашеные скамейки, детская площадка, что-то вроде песчаного пляжа на берегу ручья, тут и там – скульптурно обработанные пни… (Интересно, что от всего этого останется, если здесь просто пройдут мимо несколько тысяч человек с рюкзаками и прочим туристским скарбом?) Но вскоре тропа сузилась и запетляла по неухоженному смешанному молодому лесу. Через каждые двести метров разведчики ненадолго углублялись в него, держа в памяти, что ручей должен оставаться в пределах досягаемости.
Чем дальше от поселка, тем сильнее и красивее становился лес. Блуждая среди наполненных густой молчаливой жизнью стволов, уклоняясь от их защитных колючих сетей, пробиваясь сквозь гибкие агрессивные заросли к обманчиво манящим просветам, Фурман с Морозовым постепенно расходились в разные стороны, но периодически окликали друг друга и снова сближались.
Пара обнаруженных ими довольно уютных полян явно не подходили по размеру для большого лагеря, поэтому они продолжали продвигаться дальше по тропе, совершая вылазки.
Между тем дождь как-то незаметно прекратился, тучи разогнало, и сквозь листву в голубеющем небе засверкало солнышко.
…А у Фурмана начала побаливать голова. По печальному опыту зная, что головная боль у него никогда не проходит сама собой, но может становиться невыносимой, он предусмотрительно прихватил в дорогу проверенную таблеточку. Вот только запить ее сейчас было нечем (запастись питьем ни он, ни Морозов не догадались), поэтому Фурман решил еще немного потерпеть.
Ориентировался он в лесу не очень хорошо (да и отяжелевшая голова этому не способствовала). Выйдя в какой-то момент к ручью, он вдруг подумал, что в сапогах его вполне можно перейти вброд. Идея ему очень понравилась – ведь это сразу вдвое увеличивало зону поиска!
Другой берег оказался сильно заболоченным и весь зарос каким-то высоким и труднопроходимым кустарником. Минут через пятнадцать, когда Фурман потерял всякое представление о своем местонахождении и заметался, его вдруг снова вынесло к ручью – но теперь прямо напротив детской площадки, которую они видели в самом начале маршрута. Пораженный своим загадочным промахом, Фурман уже напрямик перебрался на ту сторону и побежал по знакомой тропе назад. Как это могло произойти? Почему он сделал такую огромную петлю? А главное, что Морозов наверняка уже хватился его… Вот ужас-то!.. Добежав на цыпочках до какого-то смутно знакомого места, он вломился в чащу, прорвался сквозь нее, слегка отдышался и потом громко позвал Морозова. В голове били тяжелые молоты… Через пару минут Морозов отозвался (оказалось, недалеко ушел), и нелепая фурмановская оплошность осталась тайной.
При очередной встрече они заметили, что впереди тропа забирается в горку, и решили взглянуть на окрестности с этой небольшой высотки. Но вид оттуда оказался намного внушительнее, чем это можно было себе представить. Дальше пейзаж радикально менялся: впереди один за другим вздымались неожиданно крутые и очень живописные лесистые холмы; от узкой вершины, на которой они остановились, склон резко уходил вниз, и свой ручеек они обнаружили не сразу – он скрывался среди зарослей и уходил в обрывистое ущелье между ближними холмами. Для Подмосковья эта местность казалась совершенно нехарактерной.
Кроме того, им стало понятно, что плоских полян нужного размера здесь не может быть по определению.
Фурман решил свериться с картой (до этого ему и в голову не приходило обратить внимание на отметки высот). И тут Морозов меланхолично заметил, что и сам этот ручей им явно не подходит – он слишком мелок для предполагаемого количества народа, и его просто затоптали бы в первые же два часа…
Подуставшего Фурмана эта запоздалая констатация очевидного факта мгновенно разозлила:
– Так что ж ты сразу об этом не сказал?! – хищно прищурился он. – Получается, мы зря проболтались на этом пятачке почти три часа!
– Ну, я подумал, что ты сам это понимаешь, но по каким-то причинам все-таки хочешь искать здесь… Ты ведь у нас командир.
– Ладно, – сурово сказал Фурман, – значит, теперь мы должны побыстрее двигаться дальше и найти другое, более подходящее место.
– И куда ты планируешь идти?..
У верхнего края карты был еще один ручей, который вроде бы выглядел на полмиллиметра шире, чем первый. В том же районе были обозначены какие-то довольно большие продольно расчерченные территории – скорее всего поля. Возможно, это именно то, что требовалось. По прямой туда было километра три-четыре. Но тропа, тянувшаяся по холмам вдоль ручья, вскоре вместе с ним уходила куда-то в другую сторону, и дальше путь лежал через глухой лес. Перспектива, мягко говоря, неприятная, ориентироваться придется по солнышку, но других вариантов не было.
– Ну, варианты-то всегда есть, – скучным голосом возразил Морозов. – Честно говоря, я склоняюсь к тому, что сейчас нам было бы правильнее всего повернуть обратно. Пока погода снова не стала портиться…
– Как это – повернуть обратно?! – опешил Фурман. – Мы же еще не выполнили задание! Люди на нас рассчитывают! А мы тут погуляли в свое удовольствие, подышали свежим воздухом, и все? Нет, извини, я так не могу.
– Подожди, не кипятись! Я лично вовсе не считаю, что мы потратили время попусту. Во-первых, мы с тобой смогли пообщаться и обсудить интересующие нас обоих темы, а это уже само по себе не так мало. Я шучу, конечно… На самом деле за эти два с половиной или даже три часа мы провели тщательное обследование достаточно большого участка. Причем, обрати внимание, те, кто нас сюда направил, отметили его на карте как преимущественный район поиска. Мы с тобой облазили всю округу и убедились, что здесь отсутствуют необходимые для проведения слета условия. Но, поверь мне, в полученном нами нулевом результате нет ничего катастрофического. Более того, я бы даже взял на себя смелость утверждать, что такой результат совершенно нормален и естественен. Правда заключается в том, что подавляющее большинство остальных разведчиков точно так же вернутся в Москву ни с чем. Повезти может только кому-то одному или максимум двум. Но это уже просто дело случая. А мы с тобой честно выполнили порученное нам дело и можем с чистой совестью возвращаться домой…
Фурман злобно фыркнул.
– Тем не менее, Саня, если ты считаешь, что мы во что бы то ни стало должны проверить еще какой-то участок, я не буду тебя отговаривать. И уж конечно, не брошу тебя одного в этом гадком страшном лесу! Но взгляни еще раз на карту. Там, где, как тебе показалось, находится удобное для стоянки место, сбоку маленькими буковками написано: «Экспериментальные поля ВАСХНИЛ». Вот, видишь? То есть это не какие-то никому не нужные и заброшенные совхозные поля. Исходя из их принадлежности Академии сельского хозяйства, рискну предположить, что там все плотно засеяно какими-нибудь ценными экспериментальными сортами и культурами. А отсюда можно сделать вывод, что территория эта наверняка очень хорошо охраняется. И даже если на нас двоих сейчас никто не обратит внимания, огромную толпу туда точно никто не пустит… Но допустим, что там нет никаких экзотических посадок. Существует не меньшая вероятность, что это какие-нибудь экспериментальные поля аэрации, и тогда вокруг них будет стоять такая чудовищная вонь, что туда и на пару километров не подойти без противогаза. Если ты очень хочешь проверить, какая из моих версий окажется правильной, воля твоя. Мы можем сейчас двинуться дальше и несколько часов пробиваться через глухой незнакомый лес с помощью этой совершенно бесполезной карты, на которой, кстати, в этом районе почему-то не отмечено ни одной тропы. Думаю, нам очень повезет, если мы вскоре не окажемся в каком-нибудь огромном болоте. Но допустим даже, что мы еще засветло пройдем этот огромный лес без всяких приключений и не заблудимся в нем. Предположим также, что мы, ориентируясь по солнцу, как ты предложил, в конце концов выйдем приблизительно туда, куда нам нужно, и сможем подобраться к этим полям поближе. Что дальше? Ты должен отдавать себе отчет, что без еды и питья это будет для нас тяжелейшим испытанием. А ведь нам еще придется как-то выбираться оттуда. Судя по карте, железной дороги там нет. А это, скорее всего, значит, что мы должны будем проделать весь этот путь еще раз. Честно говоря, об этом даже подумать страшно. Нет, Сань, я бы не стал браться за это дело.
…Фурман чуть не расплакался от охватившей его бессильной злобы. Но, похоже, Морозов был прав. А если и не совсем прав, то все равно в правый висок и глаз Фурмана уже начало медленно ввинчиваться горячее адское сверло. Так что обратная дорога в любом случае будет пыткой.
Возможно, в поселке рядом с мостиком им удастся раздобыть воду, чтобы запить таблетку. Хотя бывало и так, что одной таблетки не хватало. И что он тогда будет делать…
– Саня, тебе решать. Но в этой ситуации никто не сможет нас с тобой упрекнуть, что мы могли сделать что-то еще и не сделали, – твердо сказал Морозов.
Фурман угрюмо молчал, не желая признавать поражение. Возненавидеть Морозова, как он того заслуживал, мешала головная боль.
– Не хочу тебя торопить, но время идет, – терпеливо заметил Морозов. – Если мы прямо сейчас двинемся быстрым шагом к станции, то у нас еще есть шанс успеть на электричку, которая отправляется примерно через час. А дальше по расписанию, насколько я помню, будет большое двухчасовое окно. Ну, так как мы поступим?
– Ладно, возвращаемся, – процедил Фурман.
– Я не сомневался, что ты примешь правильное решение.
Они сразу взяли такой темп, что внимание пришлось полностью сосредоточить на движении. Для вязнущего в болевом тумане Фурмана так было даже проще.
Когда они оказались в поселке, он поискал глазами колодец или колонку. Ничего. Конечно, можно было бы постучаться в один из ближайших домов и попросить воды запить таблетку. Но так как любая задержка была чревата опозданием на электричку, а потом и кошмарным двухчасовым ожиданием следующей, Фурман решил не останавливаться. Впрочем, в коротком сне на ходу он все же сделал это и, получив помощь от добросердечной одинокой женщины средних лет, испытал странное облегчение…
Шоссе по дороге к станции делало довольно большую петлю, поэтому Морозов предложил срезать путь и идти напрямик. Фурман вяло пробормотал, что это будет намного тяжелее: здесь-то травка, кусты, а кто знает, что там дальше, за теми холмиками, – вдруг болото. Но Морозов жестко сказал, что иначе им не успеть. Возражать было себе дороже, и они поперлись по пересеченной местности.
Становилось все жарче. На открытом пространстве солнце так по-летнему раскочегарилось, что Морозов вскоре решительно разоблачился по пояс и бодро призвал Фурмана последовать своему примеру. Куртку Фурман снял, а свитер так и не решился – байковая рубашка и майка под ним все равно уже давно промокли насквозь, и на легком, но порывистом ветерке немудрено было и простудиться; да и из-за головной боли ему становилось все хуже. Он начал отставать, и Морозову несколько раз пришлось его поджидать. Фурман наконец сказал ему про свою голову, и теперь тот посматривал на него с молчаливым сочувствием.
Как бы то ни было, большую часть пути они преодолели без особого труда. Но на самом последнем участке, когда до станции было уже рукой подать, их ждала коварнейшая полоса препятствий в виде вспаханного поля.
Двигаться поперек осыпающихся и проваливающихся полуметровых земляных волн было так тяжело, что Фурман почти сразу полностью обессилел и утратил всякую волю шевелиться. Он готов был отказаться от всего и просто повалиться в первую попавшуюся борозду; даже сказал Морозову, чтобы тот шел дальше один, а он, мол, посидит немного и догонит… Морозов велел ему держаться: Саня, нам осталось пройти какие-то жалкие пятьсот метров! Соберись, мы успеем! Предложил опереться на его плечо… Ну, это было бы уже просто черт знает что. Фурман трясущимися руками достал свою заветную таблетку, кое-как проглотил ее всухую, потом стянул через голову свитер и, матерясь про себя, пошел вперед напролом…
…Они были в электричке, она ехала. Успели. Хорошо. Таблетка с кофеином понемногу начала действовать. Морозов сидел напротив и читал развернутую газету. Заметив, что Фурман открыл глаза, он поинтересовался его самочувствием и заботливо сказал, чтобы он продолжал отдыхать. Но уже через несколько минут завел разговор сначала о только что прочитанной статье, потом о профессии журналиста вообще, о правде, рутинной официальной лжи и выборе, который всегда стоит перед каждым пишущим человеком… Фурман еще не вполне включился и только вяло кивал в знак поддержания общения.
С журналистики Морозов перекинулся на литературу: мол, ты как писатель, вероятно, тоже сталкиваешься в своей работе с подобными проблемами; как ты наверняка помнишь, Камю в своем эссе «Миф о Сизифе» блестяще показал… Увы, Фурман читал только «Постороннего», напечатанного в каком-то старом номере «Иностранной литературы», но после величественных надрывов Достоевского эта небольшая прозрачная вещь показалась ему мелковатой и несколько «литературной». Однако разочаровывать пылкого собеседника и объясняться было бы для него сейчас слишком трудной задачей, поэтому Фурман просто сказал, что читал Камю очень давно, и попросил Морозова напомнить подробности.
По мере приближения к Москве народа в вагоне стало понемногу прибавляться. На одной лавке с Фурманом теперь сидела немолодая интеллигентная женщина в очках, сосредоточенно читавшая журнал «Наука и жизнь».
Морозова явно увлекала «проблематика абсурда вообще», как он это обозначил. В его быстрой, раскованной и чрезвычайно организованной речи мелькали имена Сартра, Ионеско, Беккета, о которых Фурман только слышал… Хотя в драматургии все это началось, несомненно, еще с Чехова… Впрочем, тема была намного шире литературы, и Морозов уже пару раз использовал залихватскую присказку: «Понимаешь, Саня, в нашем достаточно абсурдном мире…», «Надеюсь, ты согласишься с тем, что в нашем достаточно абсурдном мире…» Фурман, веривший в гуманизм и возможность построения справедливого коммунистического общества, вовсе не считал, что миром правит абсурд; к тому же его отталкивала сама манерная «декадентская» интонация, с которой это произносилось, – тем более при совершенно чужих людях. (В какой-то момент его соседка удивленно прислушалась к речи Морозова и окинула их обоих внимательным насмешливым взглядом поверх очков.) Фурману стало стыдно за весь этот мальчишеский театр. Показав Морозову, что они здесь все-таки не одни, он попытался перевести разговор с рискованных мировоззренческих тем на что-то более нейтральное, бытовое. Однако Морозов только усмехнулся. «Если ты о стукачах, то их и так повсюду полно», – без всякого стеснения объявил он. Кстати, ему представляется чрезвычайно интересной задачей подумать над сюжетом романа, центральным персонажем которого был бы именно стукач. В экзистенциальном плане, на его взгляд, это одна из интереснейших фигур нашего времени, а возможно, в чем-то даже и ключевая. Повествование могло бы вестись непосредственно от лица такого человека – что-то в духе «Записок из подполья» Достоевского или Камю, но, естественно, на современном материале и еще более остро-провокационно. Как тебе такой замысел?..
К счастью, за окном уже началась Москва.
На вокзале они распрощались: Фурману нужно было к метро, а Морозову – на автобусе в другую сторону, он жил где-то не очень далеко. Что ж, приятно было пообщаться, еще увидимся, Борьке привет, и т. д., и т. п.
Уф! Оставшись один, Фурман испытал острое чувство освобождения – новый знакомый его изрядно утомил. Да и сам он, скорее всего, произвел на него не слишком благоприятное впечатление… Что ж, наверное, это был просто неудачный, потраченный впустую день. Отоспать ся и забыть.
2
Минаева очень интересовало, как прошла встреча двух его друзей. Фурман бодрячком отчитался ему о состоявшейся высокоинтеллектуальной беседе и мягко пожаловался на то, что посередине маршрута Морозов, воспользовавшись его головной болью и плохим самочувствием, довольно ловко надавил на него и сумел уговорить прекратить поиски, хотя вообще-то они еще могли бы… «Да, я тебя понимаю, Морозов парень непростой, конечно, – ухмыльнулся Борька. – Но, если говорить в общем и целом, я рад, что вы с ним сошлись. Надеюсь, это будет полезно для всех…» Месяца полтора о Морозове ничего не было слышно. Потом он стал появляться в редакции; Мариничева и Наппу с восхищением говорили о его «блестящих способностях»
(Макс при этом ревниво поджимал губы и холодно улыбался одними глазами), Соня тоже отзывалась о нем с симпатией, оговариваясь, правда, что совсем его не знает, – в общем, вскоре все согласились, что Морозова пора вводить в круг.
Ближайшим поводом для этого стала очередная поездка в Переделкино. Уходя в армию, Валька Юмашев настойчиво просил не забывать его маму, навещать ее и при случае оказывать мелкую помощь по хозяйству (в основном требовалось обновлять запасы угля, которым отапливалась их избушка). Об этом же он постоянно напоминал всем в своих письмах. Мама его, работавшая истопником в соседнем детском санатории, была чрезвычайно дружелюбным человеком и с радостью принимала их даже большими компаниями.
В этот раз в Переделкино собрались Макс, Друскина, Фурман, неожиданно объявившийся Дубровский и Валькин приятель Эдвин. Минаев, который обещал приехать с Мариничевой попозже, настоял, чтобы они взяли с собой и Морозова.
В электричке Морозов в своей уже знакомой Фурману манере подбрасывал спутникам острые темы для разговоров, но реагировали все вяло, да и ехать было недолго.
От станции нужно было еще минут сорок идти по шоссе в сторону озера. Справа на горке виднелось кладбище с могилой Пастернака, в поселке был его дом, дальше – поле, не раз появлявшееся в его стихах. Вон там жил такой-то прославленный писатель, а там, за глухим забором, – дача другого, еще живого… Переделкино было легендарным местом советской литературы, и все культурные люди запросто ориентировались здесь в отличие от Фурмана, который лишь благоговейно помалкивал, озираясь по сторонам.
Для начала ноября погода выдалась вполне приятная, даже солнышко разок ненадолго выглянуло, хотя заледеневшие лужи на дороге уже не таяли, а поле было седым от инея.
У знаменитой речушки, ныне забранной в бетонную трубу, между Максимовым и Морозовым вдруг разгорелся нелепый спор – то ли о ее глубине и возможности перейти вброд, то ли о какой-то изысканной поэтической подробности, – и, чтобы разрешить его, всем вслед за спорщиками пришлось сойти с шоссе и по скользкой глиняной тропинке направиться в обход огороженных участков к заросшему кустами заболоченному берегу. Морозов, несмотря на уговоры сопровождающих не лезть на рожон и пожалеть обувь, рвался продемонстрировать свои доказательства. Цепляясь за кусты, он стал смело пробираться по самому краю. В какой-то момент земля у него под ногами внезапно обрушилась, и он по бедра провалился в воду. Что, в общем-то, и требовалось доказать.
Добровольцы-спасатели кое-как вытянули утопающего на твердое место. Пока Морозов, мужественно посмеиваясь над собой, выливал воду из ботинок, Друскина сердито выговаривала ему за пережитое волнение, а признанный победителем Максимов скорбно покачивал головой.
Когда все вернулись на шоссе, встал вопрос, что теперь делать. Возвращаться в Москву? Всем вместе или разделиться? Но на станции можно прождать и час, и два, плюс еще дорога по городу. Попробовать остановить машину и попросить подвезти до Валькиного дома? Но шоссе было совершенно пустым – за все время мимо проехала только одна машина, да и то в противоположную сторону. Морозов прямо на себе деловито отжал брюки и сказал, что дойдет так. Тогда уж лучше их совсем снять, посоветовал Дубровский. И идти босиком… Впрочем, смех смехом, а ведь он вполне мог серьезно простудиться.
– Чтобы не замерзнуть, ему нужно не идти, а бежать! – сообразил Фурман, и все дружно принялись убеждать Морозова, что это единственное разумное решение в данной ситуации. Через 15–20 минут он будет уже в теплом доме. Валькина мама даст ему сухую одежду. И нужно попросить ее нагреть воды, чтобы попарить ноги. С горчицей – тогда он точно не заболеет! Особенно, если ему еще предложат стакан водки «для сугрева»… «А что, ребят, раз такое дело, может, нам всем имеет смысл окунуться?!» – оживился Дубровский.
Морозов упирался: мол, ни к чему это, он не знает дороги и даже не знаком с Александрой Николаевной… Но ему объяснили, что все эти проблемы решаются очень просто, и буквально погнали вперед. Он неспешно потрусил по шоссе, и все стали задорно требовать, чтобы он побыстрее шевелил ногами и не халтурил. Сделав короткий рывок – смотрите-ка, может ведь, гад, если захочет! – Морозов небрежно помахал им рукой и упрямо перешел на шаг.
С открытого пространства подул резкий холод ный ветер.
Глядя на одинокую смешную фигурку, которая вот-вот должна была скрыться за поворотом, Фурман вдруг ясно представил, с каким ощущением тотального жизненного абсурда Морозов в своих мокрых, противно липнущих к ногам штанах и отвратительно чавкающих ботинках бредет неизвестно куда по совершенно пустому шоссе среди голых осенних полей под равнодушным серым небом, – и испытал острую жалость к нему. Неправильно было отпускать его одного. Да еще и с такими грубыми насмешками… Но это уже случилось, и все выглядели вполне довольными своими усилиями. Поймав и у себя на мордочке приклеенную картонную ухмылку, Фурман ужаснулся: ладно, им простительно, они все творческие личности и убежденные индивидуалисты, даром что считают себя интеллигентными людьми, – но сам-то он как смеет после этого называть себя коммунаром?!
Он уже понял, что должен сделать. Но что сказать остальным? Ему очень не хотелось, чтобы они увидели в этом некий демонстративный «моральный укор» в свой адрес (проклятая Мариничева – всем им испортила мозги своими «педагогическими» манипуляциями!)…
– Чего-то он там, по-моему, еле тащится, – сказал Фур ман. – Я, пожалуй, догоню его и дальше побегу вместе с ним.
Все посмотрели на него с изумлением.
– Просто лучше, если кто-то будет все время его под гонять. А то у него самого, похоже, нет никакого стимула напрягаться. Так он и правда может заболеть, – пояснил Фурман.
Все пожали плечами. В Сониных глазах мелькнуло какое-то непонятное выражение, но она промолчала.
– Ну ладно, тогда я побежал. Будем ждать вас там… Надеюсь, вы без меня больше не станете баловаться и искать приключений себе на голову? – не удержался он.
– Фурман, кончай трепаться, – добродушно проворчал Дубровский. – Беги уже, коли решил…
Он помчался легко и собранно, как по ниточке, чувствуя себя на сцене и стремясь поскорее исчезнуть за поворотом. Вне зоны видимости он сразу сбавил темп и постарался восстановить ровное дыхание – бежать-то им предстояло еще довольно долго.
Морозов в глубокой задумчивости вышагивал метрах в десяти впереди, и, чтобы не напугать его своим топотом, Фурман тоже пошел, но чуть быстрее, чем он. И все же когда Фурман, оказавшись у него за спиной, позвал его по имени, он вздрогнул от неожиданности и отшатнулся. Чуть в кювет не свалился, бедняга.
– Не бойся, это всего лишь я! – весело сообщил ему Фурман. – А ты думал кто?
Морозов что-то растерянно пробормотал в ответ и потом с тревогой спросил:
– У вас что-то произошло?
– Да вроде ничего не произошло. Просто мы о тебе беспокоились… Ты разве не рад меня видеть?
– Нет, я, конечно, очень рад… Но все-таки скажи, почему ты здесь?
Фурман откровенно объяснил, как он видит свою роль и их общую задачу.
– Ну нет, зачем это надо? – уперся Морозов. – Вы мне все очень понятно объяснили, и теперь я сам прекрасно дойду.
…Это было просто нелепо – он замерзает, и его же еще приходится уламывать! А ведь того и гляди, вся компания появится из-за поворота и увидит, как они тут препираются вместо того, чтобы… В следующую минуту Фурман, применив все свое красноречие, сумел добиться от Морозова согласия не только «потерпеть его присутствие», но и бежать, а не идти! К счастью, когда до них долетели приветственные крики и посвисты, они уже на пару трусили по асфальту. Постепенно Фурману удалось увеличить скорость, и основную часть пути они проделали в довольно приличном темпе.
В какой-то момент, когда у Фурмана уже все начало плыть перед глазами и он готов был сдаться, Морозов предложил притормозить на минутку, чтобы слегка отдышаться.
– Ну как ты? Тебе не холодно? – заботливо спросил Фурман, с трудом переставляя задеревеневшие ноги.
Морозов, тяжело отдуваясь, помотал головой. Потом остановился, отлепил штанину и несколько раз одернул ее, пытаясь расправить:
– На мне все уже почти высохло.
– Да, и теперь, похоже, их можно будет еще долго не гладить, – подхватил Фурман. – Стрелка у тебя получилась просто на загляденье!
Они пошутили также насчет носков и ботинок. Потом пошли молча, примериваясь к следующему этапу – возможно, последнему.
– Саня, должен тебе все-таки сказать одну вещь, – заговорил Морозов. – Конечно, я пропустил момент – надо было сделать это сразу, но… не получилось. Тем не менее, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так вот, на самом деле я тебе страшно благодарен и даже, можно сказать, поражен тем, что ты решил поддержать меня в этой трудной ситуации. Хотя ведь мы с тобой, в общем-то, едва знакомы…
– Ну почему же? – с иронией возразил Фурман. – Я довольно хорошо запомнил наш первый совместный поход… Да и вообще, о чем тут говорить? Уверен, что на моем месте так поступил бы каждый! Если честно, то это как раз я должен извиниться за то, что не сразу сообразил побежать с тобой. И присоединился к общему, так сказать, хору насмешек.
– Да ну, брось, о чем ты?! – отмахнулся Морозов. – Я ничего этого даже не заметил. Вы все замечательные люди!
Они еще немного посмеялись и побежали дальше.
3
У первокурсников-журфаковцев шла своя, наполненная разнообразными событиями жизнь, о которой Фурман узнавал лишь из случайных разговоров. Например, он знал, что Минаев с Морозовым развели бурную деятельность в ШЮЖе, где они теперь вели группы уже в качестве преподавателей. Но чем именно они там заняты, можно было только догадываться.
Параллельно Минаев, Друскина и Машка увлеклись идеей создания «песенного театра» и даже вступили в таинственные переговоры с кем-то из влиятельных Машкиных знакомых в КСП. Фурман с самого начала относился к этой идее скептически. Когда он спросил, как Борька видит свое участие в будущем театре, тот весело, но с достоинством ответил, что готов взять на себя роли бессловесных героев второго плана, которые имеются почти в любом порядочном спектакле, а на худой конец может открывать и закрывать занавес во время представлений, для чего тоже не требуется открывать рот. (Фурман вовсе не имел в виду его заикание, но Борька почему-то понял его вопрос именно так.) Из его и Сониных странно уклончивых объяснений Фурман ревниво догадался, что под влиянием Машки замысел постепенно приобретает какую-то нехорошую «полудиссидентскую» направленность. Вскоре Соня проговорилась, что их согласился взять под свое крыло человек «с многозначительной и легко запоминающейся фамилией Российский» (Фурман заметил, что жить с такой необычной фамилией, наверное, непросто, а если это псевдоним, то тем хуже для него). По информации Наппу, в среде самих каэспэшников Российский имел очень нехорошую репутацию: некоторые безусловно уважаемые люди считали его опасным провокатором, если не прямо стукачом. Но поскольку все переговоры с ним, естественно, были завязаны на Машку, а она и слышать ни о чем таком не хотела, выйти из игры было уже невозможно – ведь Машка наверняка посчитала бы, что ее просто предали. Что ж, оставалось только надеяться, что этот странный союз развалится раньше, чем их всех заметут.
Впрочем, «замести» в любой момент могли не только их. Как раз в начале осени Наппу уговорил Фурмана записаться вместе с ним и еще парой общих знакомых в подпольную секцию карате. В СССР карате было официально запрещено. Все помнили, что год или два назад против нескольких известных мастеров были заведены уголовные дела, и о том, что их посадили, причем надолго, даже писали в газетах. Но, видимо, этими «показательными» процессами все и ограничилось, потому что платные группы по изучению карате продолжали относительно спокойно существовать на нелегальном положении.
Вечерние занятия секции для начинающих проходили два раза в неделю в спортзале обычной средней школы. Учеников обычно набиралось человек 15‒20. На занятие все выходили босиком, в белых запахивающихся куртках для самбо (вместо кимоно) и легких белых портках до щиколоток (которые приходилось шить в домашних условиях, так как в спортивных магазинах ничего подходящего не было). В комплекте с самбистскими куртками продавались прочные тканевые пояса защитного цвета, и начинающие каратисты обшивали их полосками из белых простыней (белый пояс означал нулевую стадию ученичества). Учителем был невысокий, атлетически сложенный мужчина лет под сорок, с круглыми карими глазами, сломанным носом, густыми холеными рыжими усами и выразительным тяжелым подбородком. Его следовало называть «сэнсэй» и приветствовать по-японски с четким поклоном. В отличие от учеников на сэнсэе были «фирменная» каратистская куртка с маленькой фабрично вышитой эмблемой японской школы бесконтактного карате «Шотокан», «правильные» штаны и коричневый пояс мастера. Как сообщил всезнающий Наппу, «по первой специальности» сэнсэй был мастером спорта по боксу и «в миру» носил редкое имя Ганс (не исключено, что это была лишь его дружеская кличка, случайно услышанная кем-то из учеников, потому что по имени никто из них к нему не обращался, а фамилия его тщательно скрывалась в целях конспирации).
Фурману сразу понравился весь этот легкий японский привкус: лаконично подчеркнутая и чуть театральная дисциплина, скульптурно выразительные «фундаментальные стойки», продуманная танцевальная отточенность каждого движения, крик «Кия-а!» в высшей точке напряжения… Гибкости и растяжки ему, конечно, не хватало, но у большинства других с этим было гораздо хуже. А уже на втором занятии сэнсэй при всех отметил, что у Фурмана вполне прилично получается скользящий каратистский шаг. (Правда, получается благодаря не столько усердию, сколько определенным природным способностям, добавил он, чтобы ученик не зазнавался.)
Начинающие каратисты должны были учиться сохранять равновесие в движении, поэтому Фурман в метро и даже в автобусе перестал держаться на ходу за поручень и, как дурак, сосредоточенно пружинил на полусогнутых ногах, при резких толчках заваливаясь на окружающих.
Еще ему очень нравилось то, что в бесконтактном карате любой наносимый удар должен был виртуозно останавливаться в сантиметре от цели.
Как-то на занятии Фурман с Наппу оказались в паре при отработке одного из самых мощных и сложных ударов ногой – «маваши-гири». Это был целый комплекс движений, плавно переходящих одно в другое: после короткого двухшагового разбега нужно было, подняв согнутую в колене правую ногу в горизонтальное положение на уровне бедра, одновременно развернуться боком на левой – опорной – ноге и нанести удар наружным ребром правой стопы, вложив в него инерцию бедра и сохраняя равновесие с помощью резкого разнонаправленного движения обеих рук. Каждый делал по пять заходов, а потом защищался (правда, сэнсэй объяснил, что блок рукой против такого сильного и тяжелого удара в реальной ситуации бесполезен – лучше просто отскочить назад). Фурман долго тренировал этот удар дома и был настроен серьезно, а вялый тщедушный Наппу со своей ласковой улыбочкой нелепо болтал конечностями и был похож на психа в великоватой больничной пижаме. А ведь Фурман с недавних пор и его стал – пусть и с печальной иронией – называть «сэнсэем»! Собрался бы, позорище!..
Учитель, наблюдавший за одной из соседних пар, посоветовал увеличить концентрацию ударной силы в крайней точке движения. Фурман нашел в этой рекомендации удачный выход своему раздражению и начал с каждым разом все более мощно и свирепо выходить на удар, вкладывая в него на выдохе всю силу и с удовольствием слыша, как прихлопывает в коротком полете свободная ткань. «Фурман, ты меня так убьешь! Полегче! Передохни немного…» – с укором сказал ему запыхавшийся Наппу. Но один из соседей одобрительно подмигнул Фурману, и в следующей серии он продолжил свой торжествующий демонический танец. Правой, левой, поворот, выстрел, «кий-я!»… На этот раз он взял такой могучий разбег, что его опорную ногу словно подхватило ураганным ветром – она предательски поехала, Фурман грохнулся на задницу, и его с позором выбросило прямо к ногам испуганно отступившего хлипкого учителя. Все вокруг захохотали. Это и впрямь было смешно, и Фурман, несмотря на боль, тоже заулыбался. «Вот видишь! – с хитроватой назидательностью сказал Наппу. – Я ведь тебя предупреждал, что это плохо кончится. А ты меня, как всегда, не послушал. Ладно уж, давай руку!..»
Однажды сэнсэй преподал ученикам странный урок. Двум самым умелым и опытным из них было разрешено устроить давно ожидаемый спарринг. Оба участника – а это были староста группы и его заместитель – занимались уже второй год и намного превосходили остальных в технике. Староста был высокий, стройный, чрезвычайно положительный и, судя по его заграничной одежде, отличным ботинкам и кожаному «дипломату», хорошо обеспеченный молодой человек. Он уже «дослужился» до красного ученического пояса, готовился к первому экзамену в центральной школе, и куртка у него была настоящая японская, как у сэнсэя. Следить за тем, как он выполняет упражнения, было удовольствием: его длинные руки и ноги двигались как мощные, отлично смазанные рычаги. Второй ученик производил куда менее приятное впечатление: среднего роста, слегка сутулый, тощий, нервный, с горбатым заостренным носом и жирными черными волосами, он и держался всегда с какой-то грубоватой надменностью. Но на занятиях выкладывался полностью.
Взволнованные предстоящим событием зрители расселись на узких низких скамьях, которые стояли вдоль стен. Бойцы вышли на середину зала, поклонились сначала сэнсэю, потом друг другу, и бесконтактная схватка началась. Большая разница в росте позволяла старосте удерживать своего соперника на дистанции и методично проводить серии демонстративных дальних ударов. Все попытки черноволосого атаковать почти сразу захлебывались. Минуты шли, и от безнадежности он начал заметно горячиться: его движения потеряли четкость, стали более суматошными и непредсказуемыми. И неожиданно это принесло ему успех: он сумел как-то по-хулигански проскользнуть сквозь частокол запаздывающей правильной защиты и яростно навтыкал смешавшемуся старосте несколько сильных обозначающих ударов в корпус. Один из них нерасчетливо угодил старосте прямо в пах, но злобный парень словно бы не заметил этого опасного нарушения правил и продолжал атаковать. Вероятно, в суматохе он еще раз жестко попал в бедного старосту, потому что тот вдруг потерял координацию и стал похож на какую-то огромную, беспомощно надломившуюся металлическую конструкцию, которая вот-вот завалится. Чтобы остановить схватку, подбежавшему учителю пришлось с силой оттолкнуть черноволосого в сторону. Тот сразу сник и только злобно посверкивал глазами на возмущенных зрителей. Согнувшегося пополам старосту усадили на лавочку. Несколько минут все возбужденно галдели, обсуждая случившееся и гадая, не прекратит ли учитель занятие. Но сэнсэй велел всем успокоиться и сесть на свои места. Он холодно попросил черноволосого извиниться, как положено, перед своим пострадавшим партнером и остальными учениками – что тот и сделал со строгими поклонами в разные стороны, – а потом вдруг предложил ему продолжить прерванный спарринг. С кем продолжить? С ним. Ученик замялся: такое происходило впервые. Растерянно поклонившись, он пробормотал, что еще не готов к этому. Сэнсэй стал настаивать, но черноволосый скривил губы в блудливо-недоверчивой улыбке и отрицательно покачал головой. «Пока у тебя еще есть время подумать и все взвесить, – негромко сказал ему сэнсэй. – Но его остается совсем немного. Поэтому внимательно выслушай то, что я тебе сейчас скажу. Ты должен знать, что формально я никак не могу наказать тебя за твой проступок. Будем считать, что ты совершил его не нарочно. Но твой отказ от схватки неизбежно повлечет за собой определенные последствия. В сложившейся ситуации это для всех будет означать, что ты просто струсил. Поэтому тебе придется уйти из группы, причем не только с сегодняшнего занятия, а совсем. Если ты захочешь обжаловать мое решение, это тебе ничего не даст. В немногих подобных случаях – а такое уже бывало – ученик получал что-то вроде “волчьего билета”, и перед ним навсегда закрывались двери всех секций нашей школы. Да и большинства других приличных школ тоже. Тебе это понятно? Тогда решай. Даю тебе минуту. Мы все ждем».
После пятисекундного колебания черноволосый с отчаянно бегающими глазами кивнул, поклонился, вышел на свобод ное пространство, неловко поклонился еще раз и встал в стойку. Учитель тоже совершил короткий поклон, занял позицию и спокойно пригласил его начать атаку. Черноволосый кинулся на него, лихорадочно выбрасывая руки и ноги, потом отступил, чтобы чуть-чуть отдышаться, кинулся снова – и… его удары вдруг налетели на реально поставленные защитные блоки. Контакт был неожиданным и, видимо, достаточно болезненным. Непонимающе поморщившись, ученик опустил руки. Однако учитель спокойно велел ему продолжать. Следующая атака началась более осторожно. Но в какой-то момент противники опять опасно сблизились и зацепили друг друга. Учитель внезапно перешел в атаку… и его короткие хлесткие удары один за другим стали попадать в цель. Парень с отчаянным мужеством пытался оказать сопротивление, но учитель играючи поколотил его. Это заняло всего несколько секунд: под градом ударов черноволосый попятился, уперся в стену, беспомощно поднял руки и судорожно поклонился. Учитель остановил себя с видимым сожалением и разжал кулаки не сразу.
Урок был объявлен оконченным, и все со странным чувством раздвоенности исполнили ритуал прощания с сэнсээм.
В раздевалке все хранили неловкое молчание. Потом кто-то сочувственно спросил черноволосого, не больно ли ему, но он, презрительно скривившись, отмахнулся и быстро ушел. Впрочем, он всегда уходил один.
На следующем занятии его не было, и все решили, что он из гордости больше не появится. Но он пришел, отзанимался с прежней самоотдачей – и через неделю тоже пришел. Все вздохнули с облегчением. Но после этого он исчез.
Изредка заходя в редакцию, Фурман отстраненно отмечал появление новых людей, накапливающуюся в знакомых лицах усталость, неожиданные перемены в интонациях… Но когда Соня в разговоре с ним нежно назвала Морозова Санечкой, он все же заинтересовался. Выждав минуту-другую и прикинув, чего может стоить ему любопытство, он осторожно спросил, часто ли теперь Морозов бывает в редакции и не удавалось ли Соне пообщаться с ним поближе. Соня легко ответила, что про Морозова она не знает, так как сама последнее время забегала в «контору» лишь от случая к случаю, но пару раз они здесь действительно пересекались и немного поболтали. А что? Ничего, просто в их маленьком кругу любое общение с Морозовым сейчас для всех, безусловно, новость номер один. А поскольку между собой они чаще всего называют друг друга по фамилии или какими-нибудь коротенькими собачьими кличками, образованными опять же от фамилий, он невольно обратил внимание на то, что она стала называть Морозова по-другому. Соня широко раскрыла глаза: да? И как же? Фурман терпеливо объяснил как, и это заставило Соню нахмурить брови и опасно задуматься. После некоторых колебаний она мрачно сказала, что по всем правилам выживания в этом отвратительном мире ей, конечно же, следовало бы дать Фурману немедленный и предельно жесткий отпор за его наглое вмешательство в чужие дела. Но так как ей и самой вдруг стало интересно понять, что происходит, она на этот раз его прощает и хочет продолжить начатый разговор. Возможно, раз уж Фурман такой наблюдательный, он тоже обратил внимание на одну особенность морозовской манеры общения… Проще всего определить ее как чрезмерно развитую склонность к типично мужскому покровительству. Но у Морозова в отличие от большинства ярко выраженных мужчин-самцов, стремящихся к грубому доминированию любой ценой, это стремление покровительствовать почему-то совершенно не отталкивает и не пугает, а наоборот, странным образом почти сразу вызывает доверие, так как имеет необычайно теплый и вполне интеллигентный характер. Вообще, надо сказать, он потрясающе заботлив, тактичен и предупредителен. Причем, как заметила Соня, проявляется эта яркая особенность не только в общении Морозова с женщинами – что вполне нормально, но и с мужчинами – что куда более странно. Кстати, разве не странно и то, что столь развитые мужские качества гнездятся в таком, да простит ее Морозов, тщедушном тельце? Хотя в этом вопросе она, возможно, и не права: на ум сразу приходит Наполеон и куча других известных коротышек с манией превосходства… На двусмысленное замечание Фурмана, что и они с ней тоже отнюдь не великаны, Соня только криво усмехнулась. Но в целом они оба сошлись на том, что устоять перед этим почти бескорыстным морозовским обаянием едва ли возможно.
Насмешливая трезвость, с которой Соня говорила об этих довольно острых и деликатных вещах, очень понравилась Фурману. Его давно уже раздражала совершенно автоматическая реакция на Соню подавляющего большинства лиц мужского пола: миниатюрная «гениальная художница» с фигуркой подростка в потертых джинсах мгновенно заставляла их ощутить себя добрыми богатырями, способными защитить это хрупкое чудо от окружающей «грязной действительности». На взгляд Фурмана, этот «половой автоматизм» унижал не только самих мужчин, но и Соню, поскольку она допускала такое отношение к себе. Всё здесь казалось ему ложью: никто из них не был богатырем, не говоря уж о доброте; капризная Сонька отнюдь не была «хрупким чудом»; а действительность не была такой уж грязной. Тем более что, как учил Маркс, ее можно и нужно было переделать…
Новый 1977-й год их компания отмечала в Переделкине у необычайно гостеприимной и дружелюбной Валькиной мамы. Зима выдалась снежная, но мягкая. Сладкое похрустывание под ногами, сверкающие ночные сугробы, замершие толпы деревьев в богатых шубах, молчаливая близость легендарных писательских дач и головокружительно веселые зеленые звезды придавали тайным детским обещаниям новогоднего праздника волнующую достоверность…
После этого Александра Николаевна при каждом удобном случае передавала им приглашения приехать к ней в гости – просто так, уже без всякого праздничного повода. Дорога до Валькиной «избушки» занимала почти столько же времени, сколько привычное перемещение с одного конца Москвы на другой, а путевые впечатления были намного разнообразнее и к тому же легко пробуждали драгоценное литературное самосознание, поэтому вскоре поездки в Переделкино стали для всей их компании делом почти обычным.
Присутствие Морозова каждый раз очень оживляло общение. Он увлекательно и со знанием дела говорил на любые темы, блистал парадоксами, тонко шутил, с необычайной деликатностью относился к Соне и с подчеркнутым уважением – к Саше Фурману…
В одной из поездок, после веселой и шумной ночной прогулки вдоль высоких безответных заборов писательского поселка, Морозов с Фурманом начали на пару сочинять шутливые письменные приказы человечеству и различным группам населения Земли. Когда возник вопрос об авторстве этих суровых распоряжений, было решено для солидности немедленно присвоить самим себе высшие офицерские звания. Два фельдмаршала – это было бы слишком помпезно, а вот «генерал Морозов и генерал Фурман» звучало в меру нелепо и потому приемлемо. Дотошный Фурман попросил уточнить, генералом какого рода войск является многоуважаемый Александр… да, Олегович. Пожевав губами, Морозов молниеносно вписал в очередной приказ: «Генерал морской кавалерии».
После этого их обоих стали насмешливо называть «наши генеральчики».
В другой раз до поздней ночи затянулся «глубокий мировоззренческий спор», причем его участники с самого начала разделились на пары: Морозов с Минаевым продолжили давнюю дискуссию о профессиональных ценностях журналиста, а Фурман ожесточенно ругался с Максимовым на семейно-бытовые и общелитературные темы. Друскина, с интересом следившая за развитием событий на обеих площадках, в половине первого не выдержала и ушла спать в соседнюю комнату. В отсутствие публики спорщики начали терять интерес друг к другу и встревать в параллельный разговор. Слово за слово, Морозов назвал «дурой» какого-то, как потом выяснилось, «чрезвычайно дорогого сердцу старика Максимова человека» (Фурман в этот момент отвлекся, чтобы объяснить Минаеву его очевидную неправоту), отчего Максимов странно взвизгнул, с ненавистью сунул ноги в ботинки и, хлопнув дверью, выбежал из домика в глухую переделкинскую ночь. Даже куртку не накинул. Вопреки цинично-разумным советам Минаева Фурман с Морозовым, посмеиваясь, отправились его искать. Макс, естественно, торчал неподалеку на тропинке, гордо задрав голову к черному небу. Несмотря на обиду, он довольно быстро дал себя уговорить вернуться. Однако извинения, с готовностью принесенные ему Морозовым, оказались крайне двусмысленными, поэтому примирение затянулось. В конце концов Морозов, безнадежно махнув рукой, вышел покурить на крыльцо, а Фурман с Минаевым остались утешать истерично-безутешного приятеля. Минут через пятнадцать это тяжелое и нудное занятие неожиданно было прервано криками Друскиной, донесшимися из соседней комнаты. Похоже, она звала на помощь. Растерянно переглянувшись, все трое кинулись к двери – и вдруг столкнулись с Морозовым, который выскочил из темной комнаты им навстречу.
– Что случилось? – хором спросили они, не успев удивиться тому, что Морозов оказался в этой комнате.
– Ничего такого не случилось, все в порядке! Это просто недоразумение, – неубедительно произнес он с кривой улыбочкой.
– Надеюсь, ты ничего плохого не сделал Соньке? – мрачно осведомился Максимов, глядя на Морозова сверху вниз. – Потому что если ты посмел хоть пальцем ее тронуть… я за себя не ручаюсь!
– Да ничего плохого не произошло, не беспокойтесь! Можете спросить у нее самой, она, кажется, уже не спит, – с досадой сказал Морозов и посторонился, пропуская их.
– Соня, ты как? – осторожно спросил Минаев, всматриваясь в темноту. – Ты не спишь? С тобой все нормально?
– Да, я не сплю и со мной все нормально, – со сдерживаемым раздражением отозвалась она откуда-то из ближнего угла.
– Можно, мы зажжем свет, чтобы тебя увидеть? А то твои крики нас очень напугали.
– И вообще вы все боитесь темноты – знаю-знаю, – съязвила Соня. (Значит, все было в порядке.) – Ну? Выключатель на стене справа от двери. И слева от тебя. Выше!
Борька наконец нашарил выключатель.
Соня, щуря глаза и страдальчески морщась, смотрела на них с какого-то узкого топчана. Она была в свитере и накрыта несколькими одеялами и покрывалами.
– Соня, мы очень рады видеть тебя живой и невредимой! – дипломатично сказал Борька.
– Я тоже очень рада. Ну, и что вы собираетесь здесь делать дальше?
Все ухмыльнулись.
– Да нет, что ты, мы не собираемся тебя беспокоить! В общем-то, мы уже уходим… А можно тебе напоследок задать всего один маленький вопрос?
– Если маленький, то можно.
– Нам всем показалось, что мы что-то услышали… Какой-то, так скажем, шум, который раздался в этой комнате… Может быть, тебе в этот момент приснился какой-то страшный сон?..
– Нет.
– Хорошо. Тогда позволь, я спрошу тебя прямо: ты кричала? Я имею в виду, звала на помощь?
Соня немножко подумала и сказала:
– Не ваше дело.
– Понял! Что ж, думаю, больше вопросов у нас нет, и мы можем оставить тебя в одиночестве. Извини за причиненное беспокойство. Желаем тебе спокойной ночи!
Возбужденно вывалившись из Сониной комнаты и плотно прикрыв дверь, они стали тихонько давиться от смеха. Морозов отсутствовал – видимо, курил. Даже ему вряд ли пришло бы в голову удрать отсюда ночью.
Действительно, вскоре он появился, но узнав, что Соня ничего им не сказала, отвечать на вопросы категорически отказался.
Делать было нечего, и все стали укладываться спать.
А рано утром Морозов уехал в Москву.
Фурман потом все-таки добился от Сони правды о том, что произошло. Она очень жалела, что вообще подняла тогда шум, это было совсем не обязательно. Но в тот момент она была спросонья, и все произошло совершенно неожиданно. Так что именно произошло-то?! Ну, Морозов потихоньку пробрался в комнату, где она спала. Он вовсе не собирался делать ей ничего плохого и не хотел ее пугать. Это можно сказать абсолютно точно, и она готова на этом настаивать. Допустим, и что было дальше? Какое-то время он просто тихо сидел рядом и смотрел на нее в темноте. А дальше он, видимо, решил поцеловать ее… Причем очень нежно и благовоспитанно – в щечку. А она не сразу поняла, чего он хочет, стала отбрыкиваться от него, завопила во все горло и, видимо, напугала беднягу до полусмерти. Он, естественно, сбежал, и тут приперлись эти, спасители…
Итак, оказалось, что великий коротышка Морозов тоже не устоял перед всеобщим мужским гипнозом и, вероятно, с самого начала романтически влюбился в Соню. А она сама? Что ж, он ей нравился – как и всем им, и она его жалела. Но, конечно, ничего серьезного между ними не было и быть не могло. А жаль…
Через пару недель всех поразила новость: Морозов бросил университет! Позднее выяснилось, что он просто решил не сдавать первую сессию, и отчислили его далеко не сразу. Но это событие сразу приобрело «идейный» характер и бурно обсуждалось на журфаке как героический акт протеста личности против системы. На взгляд Мариничевой, отказ сильного и вполне успешного Морозова продолжать учебу в моральном отношении был гораздо хуже, чем отказ Фурмана поступать в институт. Тревожила ее не столько дальнейшая судьба Морозова – уж он-то не пропадет! – сколько то, что его дурной пример может оказаться соблазнительным для многих других людей с неокрепшей психикой, вроде Минаева (который и впрямь с пугающим напряжением тянул студенческую лямку; вдобавок его уже чуть не отчислили из университета за курение в неположенном месте). По словам самого Минаева, Морозов во время их последней встречи выглядел очень довольным и утверждал, что у него имеется множество творческих замыслов и планов. Вскоре Фурман смог в этом убедиться.
«Только что побывал у меня прекрасный и наполненный А. Морозов, – сообщал он в очередном письме Соне. – Побывал, поглядел зелеными глазами из-под очков, повел прямоугольным носом, накидал бездну идей, две бумажки оставил, пятнадцать взял и укатил, разумнейший (я смотрел на его профиль и думал, как в этой небольшой голове помещается и укладывается такое количественное и качественное напряжение мысли) и превосходный…»
Треугольное яйцо
Фурман – Соне Друскиной
19–20 января 1977
Здравствуй, забытая мною непочтительно, добродушная и терпеливая Соня!
По всем признакам мы давно уже не встречались, и я почел хорошим поступком порассказать тебе в эпистолярном жанре кое-что. (Мой бывший математический ум произвел подсчет, в результате которого получилась неделя без мелькания перед глазами друг друга – тоже срок в наших условиях.)
За это время я успел поднабраться премудрости, хотя, быть может, сия прибавка и не будет обнаружена кем бы то ни было в моих сочинениях.
Рассказывают, что у вас с Максом вышла смертельная распря с жуткими подробностями. С точки зрения моей теперешней премудрости большая часть совершающихся войн, человекоубийств и взаимоненавистнических оскорблений есть пустая трата продуктов и сокровищ души нашей, суть все та же эксплуатация времени, хотя испытывать сожаления по поводу утери его, говорят, и вовсе совершенно бессмысленно…
А что твоя гитара?
В последнем споре за жисть между Наппу и Максом, как сообщают, Н. выказал к твоему образу большое благоволение, причислив тебя к братству потенциальных духовных коммунаров (не путай с «коммунарами вульгарис»).
Три дня назад был я у Наппу и читал три странные рукописи. В одной из них мне встретилась замечательная переделка известного выражения «Человек человеку – волк»: «Человек человеку – учитель». Затем я взял на дом последнее незаконченное создание Экзюпери «Цитадель» (вообще-то в ней больше тысячи страниц, но пока до нас дошел лишь потрясающий 150-страничный самиздатский перевод Н. Галь). Наверное, это первый том «Капитала» грядущей и растимой нами Человеческой революции…
После «Цитадели» примусь за «Введение в дзен-буддизм» Судзуки: я своей женской интуицией чувствую, что такая цепочка меня ведет к какому-то большому изменению…
…Я пишу долго и еще придумываю слова по пути, а прочесть это ты можешь очень скоро, вернее, не можешь прочесть так же медленно, как я пишу. Тут что-то не так. Да?
Становится грустно.
Даже длинный и стремящийся к самодовольству Макс сгодился бы сейчас: я бы о нем заботился, кормил, укладывал спать, а завтра весело будил бы его, длинного своего товарища…
А может быть, завтра приедет Б. Минаев на недельный творческий отдых, если родители его не будут против, и я стану о нем заботиться.
Мои же родители приобрели ковер 2×3 м и намереваются повесить его в комнате, где я живу…
Соня, я тебе желаю кое-чего самого хорошего,
прощай до свидания,
ФУР
1 час 30 минут
19–20.1.1977
Соня, не болей
насморком:
сопливость
лишает человека возможности радоваться через нос и делает его невменяемым, и это чистая правда.
Из дневника Фурмана
20 января
Перед сном – ужасный и дикий разговор с родителями. Проповедь.
Нужно уйти от них, чтобы укрепиться в своих убеждениях и тем научиться спокойствию в спорах. Я не умею промолчать, в споре с ними теряю мысль и нить, отвечая на ругань и злость. Я не умею их пронять, сделать понятными им мои мысли и слова, поэтому от разобщенности рождаются злоба и ксенофобическая ненависть и неприязнь. Мама даже лягнула сильно папу, скинув его с кровати и послав к чертовой матери. Через минуту папа говорил, что обзываться «сволочью» очень нехорошо с моей стороны и что никто у нас никогда грубо не ругался. Еще раньше мама использовала слово «дерьмо», а после пожелала мне, чтобы мои дети меня возненавидели, но сразу же за этим, когда я ей напомнил о ее проклятии, сказала: «Что ты! Не дай вам бог!» Мне не представляется возможным запомнить или записать последовательный ход диалога, настолько он сумбурен. В конце я внушением подавил попытку мамы уйти в истерический припадок и несколько минут воздействовал на нее почти впрямую, только успокаивая, правда. Но мешал болтающий неустанно и неостановимо папа, создавая шумовые и смысловые помехи моему сеансу. Я скоро ушел, не добившись пронятия, но все-таки мама впервые, по-моему, успокоилась после такого разговора…
22 января
Отвратная простуда.
Приехал Макс. У него неделовой настрой: пришивал пуговицы. Пытался разыграть истерику со слезами по поводу квартиры.
29 января
Снова завелся разговор о коврах. Папа сказал, что я бесполезно трачу много денег, например, на поездки в Петрозаводск – какая в этом польза была? А ковры, на свои кровные приобретенные, приятно показать друзьям. Я оскорбился и сказал, что вот уж где никакой пользы папа не получил, так это на фронте…
16 февраля
Макс приехал «чуть выпимши», и из него лезло нехорошее (а может, не от этого, но лезло). На него иногда находит: строит пристальный, с незаметной усмешкой взгляд и говорит в лицо слова для ссоры. Чудак.
20 февраля
[Волнующее знакомство с новой девушкой Минаева]
Читал, звонил, потом поехал к Минаеву. Там Макс, пирожки с картошкой. Спорили с Максом о моих взглядах, о его повести и писании.
Пришла Ася. Сначала я суетился и испугался, потом, после еды и в такси с Борькой и с ней все теплее. Заехали за раненой в позвоночник гитарой для Борьки, поехали к Асе домой. До полпервого. Ночевали с Борькой у меня. Утром он забыл ручку, и я побежал за ним, но чуть-чуть не догнал.
22 февраля
Хочешь дышать свежим воздухом? Тогда не воняй!
Чуднó! – вдруг получился удар «маваши» в ковер на стене. Так вот зачем его купили.
Фурман – Соне Друскиной
23 февраля 1977
Знаешь, начинает не хватать самых простых форм телепатического общения: письмо опущено в железный крашеный ящик, и если на второй день нет ответа – сколько ни уговаривай себя, что его сейчас и быть не может, – с утренней почтой приходит легкое беспокойство, а к вечеру тебя захлестывает и сжимается на горле чувство такой вины за написанные вчера слова, что хочется бежать сквозь черный пустой город туда, к невидному окну (которое с наступлением темноты все чаще высматриваешь на горизонте – а вдруг мигнет!), задыхаясь, стучать коленями об пол и неведомо какими взглядами вымаливать прощение.
Кажется, у эпистолярного жанра (черт возьми! – уж и поговорить просто нельзя) существуют определенные и незыблемые пока законы – а иначе отчего в конце каждого письма мы обязательно каемся и напоминаем явно лишний раз о нашей глупости, эгоцентричности, и пр., и т. п., словно тоскливо пытаемся уверить самих себя в нашей нехорошести и неотесанности. Видно, в этом и проявляется некая эпистолярная специфика – ведь при прощаниях наяву мы никогда не пытаемся состязаться в самоуничижении и самобичевании, даже если и проговорили вместе два дня и две ночи.
Давай я буду с тобой делиться.
О том, как я люблю, к примеру, Борю Минаева.
После дня, проведенного в его доме, моего знакомства с Асей и вечера на ее кухне, мы с Борькой отправились на последних автобусах ночевать ко мне домой. Сытно пообедав (во втором часу ночи) и немножко подремав над клубными архивами (прости, но, ей-богу, мы в тот день до тебя не дозвонились), легли наконец спать. С утра, как и ожидалось, наступил понедельник, отчего мы и были разбужены без четверти восемь, дабы, позавтракав как следует, Боря ехал учиться в свой журдом. Боре, конечно, хотелось спать, и для наблюдения за ним был разбужен и я. Время шло, и Боря стал собираться. Мы попрощались, и я долго смотрел в окно на его раскоряченную фигурку, пока она не скрылась, а скрылась она, махая руками на скользкой дороге, понятно, совсем не в том месте, где следовало бы. В этот момент я заметил Борину авторучку, оставленную им по рассеянности на столе. И так велико было мое желание снова и немедленно встретить бесценного моего друга Б. Минаева, что я сунул ноги в башмаки, нахлопнул шапку, натянул штормовку почти на голое тело и побежал, побежал, побежал вслед своему дорогому другу. Ух, как я бежал, летел в разные стороны по этой чертовой скользкой дорожке. И когда глазам моим открылось место, где я изо всех сил ждал увидеть Его, бессердечный автобус тронулся, и мне оставалось только, печально и бурно дыша, глядеть в его немытый зад. Мелькнула мысль поймать «мотор» или мчаться на следующем автобусе… но за бедной моей душой – ни су! Я поплелся обратно. Становилось холодно. Руки мерзли без перчаток, и я сжимал их в кулаки. Тонкие мои ноги перебирал холодный ветер, и его бледные уши залезали под штормовку и прикасались к моей груди. Кепчонка-ушанка еле держалась на чем мать родила. Эх! Ведь дело было не в ручке, которой всего и можно, что писать, и Боря превосходно обходится до сих пор без нее, – просто мне трудно и невозможно было расстаться с этим черным: что было мне делать в бессмысленном доме, покинутом другом; для чего еще он и существует, кроме как для того, чтобы служить пристанищем моим друзьям, кормить их, поить, стелиться под ними медвежьей шкурой – а там пускай она оживает, когда их нет, сгрызая меня и терзая до помрачения.
И вот я храню эту авторучку и нянчу ее, как терпеливая бабушка после тоскливого ожидания нянчит подкинутого на вечер маленького внука – а родители его укатили на концерт какого-то «Ока жабы», бог его знает.
Из дневника Фурмана
23 февраля
Карате – первая схватка.
ЭТО НИКОМУ НЕ ЧИТАТЬ!
Случилась ужасная вещь.
Пришло письмо от Соньки, она просила незамедлительно ответить, обязательно мудро. Время позднее, после карате разбиты ноги – сварил черный кофе, не заметил, что очень крепкий. Сидел до двух, медленно пишется, хочется ясности, но хочется лечь. Лег, 1 ч. з-ся о-м. Долго не могу уснуть, кофе начал действовать, много хочется подарить-рассказать (сейчас ей, а два дня назад – Асе, раньше – Нателле). Мысль за мыслью придумываются, развиваются, растет возбуждение, круговорот: так я увидел впервые весь огромный небесный труд от начала до конца… Может быть, теперь усну – половина пятого.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Только бы не забыть!!! Ха-ха
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ЭТО НИКОМУ НЕ ЧИТАТЬ!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////// Теперь можно убить себя.
////////////////// Заштриховал, как будто заколачивал свой гроб.
//////////////////////////////////////////////////////////// (последнее)↑ ////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Брат, отдай мне свои деньги, 2000, я должен писать. /////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////// (Нет – вот самое последнее)↑ /////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////// Любовь моя, приди ко мне, я должен писать. /////
/////////////////////////////////// (Ха-ха, это пресамое последнее! //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Спокойной ночи, дурак – вот это в самом деле – последнее!!
Фурман – Соне Друскиной
Продолжение письма от 23 февраля 1977
У Т Р О
Каждый раз, когда я чувствую, как растет и твердеет в тебе колючая жесткая скорлупа, покрытая тысячью трещин, словно оббитое об стол драгоценное треугольное яйцо, – мне хочется реветь с досады и шарить вокруг руками, ища камень для упора, чтобы удержать тебя: мне видится, как ты в отчаянии бросаешься вниз с каждым новым подъемом на Волшебную Гору. Но ты – будто маленькая, неудержимо потерявшая свою глыбу опоры лавина. Одной лишь доброй силой можно остановить тебя, случайно найденным словом, – так ведь эти слова не камни на дороге, их нужно отливать в каком-то жарком огне, отливать без трещин и застывших внутри капель пустоты. А я – всего только чудак, недоношенный сын Марии. Что я умею и могу сказать?
Правда, сегодня ночью на меня нагрянула благодать, и я увидел свое единственное воплощение, так что мне захотелось умереть: ведь я видел его. Но оказалось, что надо открыть калитку и выпустить из нее дар и принести его через весь пустой город к дверям моих друзей. Кто знает, как бы я поступил, не будь со мной моих живых друзей.
Братство? За двоих я ручаюсь головой, за хрустального учителя моего Наппу – правой рукой и левой рукой. Всех остальных нужно понимать и любить…
Мне вдруг показалось, что Ольга раньше слишком мало и неверно страдала – ей не было больно, потому что она научилась играть и лукавить. Сочувствие чужой боли и лукавство – еще два противоречия, они несовместимы. А в ней эти противоположности смешиваются, отчего она и является нам то доброй, то грубой и немного даже (это правда, а не злобное обзывательство) пошловатой. Поэтому нужно ее или осторожно переделать, не сломав, или при расплате той или иной в ежедневной жизни принимать в расчет одну ее абсолютную доброту, которая есть безусловный остаток от разности ее доброты и того, что я назвал грубостью. Хотя, конечно, иногда бывает очень больно, если Ольга играет не на того зрителя.
Пошлость… Знаешь, что-то неопределенное снова происходит в отношении к Максу. Впрочем, я пока не буду говорить об этом. Хочу узнать у него самого.
Да и вообще, нарастает давление беспокойства и тревоги за Наппу…
Однако ты ведь ждешь и ждешь, а я причиной тому.
До свидания, благочестивая!
Наконец P.S.
Ах, добрая Соня!
Сколь многим я хотел бы еще поделиться и рассказать тебе…
Фурманель
Далекая радуга
1
Как-то в начале осени Мариничева в коротком телефонном разговоре осторожно сказала Фурману, что у них с Наппу возникла одна небольшая проблема и они хотели бы в ближайшее время обсудить ее с ним как с опытным человеком. Причем всем остальным лучше об этом пока не говорить. Фурман разволновался, пообещал сегодня же приехать в редакцию и стал воображать всякие неприятности, в которых мог бы пригодиться его опыт. Но при встрече выяснилось, что ничего страшного не произошло. Просто Ольге позвонил их с Наппу давний знакомый – еще по коммунарским временам, который сообщил, что у него теперь есть в Москве своя школа (его назначили замдиректора по воспитательной работе), и попросил оказать ему «срочную педагогическую помощь». До него дошли слухи, что они якобы еще год назад организовали при газете собственный коммунарский отряд, и он рассчитывал через неделю с их помощью провести в своей школе однодневный сбор. Конечно, они могли бы сразу отказаться, объяснив, что такого «отряда» у них никогда не было. Но им было жалко разочаровывать своего приятеля, и они подумали: а почему бы не поддержать хорошего человека в хорошем деле? Ведь проблема заключалась только в одном: удастся ли им за такой короткий срок собрать работоспособную комиссарскую команду, то есть найти еще хотя бы трех-четырех надежных и вменяемых людей, имеющих опыт участия в сборах. Попутно они хотели обсудить, на кого из бывших членов клуба можно положиться в качестве приглашенных «старших друзей»
(Фурман, который уже побывал на нескольких сборах в Карелии, считался «проверенным бойцом» и готовым комиссаром).
В конце концов, перебрав всех близких и дальних знакомых, они по предложению Наппу приняли неординарное решение: раз речь идет всего лишь об однодневном сборе и педагогическая задача перед ними поставлена самая элементарная – слегка расшевелить апатичных старшеклассников и выделить среди них активное ядро, на которое можно будет опереться в дальнейшей работе, – нужно отказаться от утопической идеи за пару-тройку дней создать качественную комиссарскую команду и просто позвать всех, кто хоть с какого-то боку может оказаться полезным на сборе. И чем больше придет самых разных людей, тем лучше. Единственным требованием для всех приглашенных должно быть «Не навреди!». Сославшись на свой многолетний опыт, Наппу заявил, что судьба любого сбора решается в первые пять, максимум десять минут. За это время его организаторы должны любыми правдами и неправдами поставить всех участников в общий круг, уговорить их положить руки друг другу на плечи и потом хором спеть под гитару или в крайнем случае а капелла хотя бы три песни (а лучше – пять), слова и мелодия которых известны большинству присутствующих. Если это получится, то дальше все уже покатится, можно сказать, само собой… И как раз в этом смысле нам необыкновенно повезло, подхватила Мариничева, потому что теперь у нас есть артистичнейшая гитаристка Машка, которая не только мгновенно подбирает аккорды к любой песне, но и может завести любое количество народа! Было бы совсем здорово, если бы еще и Друскина отважилась ей подыграть на своей гитаре…
К их удивлению, на призыв помочь откликнулись почти все, к кому они обращались, студентов и взрослых пришло человек двадцать, и в результате общих усилий сбор не сбор, а что-то вроде большого веселого праздника или карнавала вполне получилось. Собственно, это их «заказчику» и требовалось.
Когда при подведении итогов в узком кругу заговорили о хорошо проявивших себя на сборе новых людях, все единодушно отметили троицу челябинцев, выпускников тамошней знаменитой школы № 1. По словам Наппу, ее директор Караковский обладал в городе таким авторитетом, что его школа до сих пор чуть ли не в официальных документах называлась коммунарской, и вся педагогическая работа в ней строилась соответствующим образом. «Представить это себе в наше время почти невозможно, – мечтательно говорил Наппу. – Это надо видеть своими глазами: как вся школа, включая учителей, огромной колонной с коммунарами во главе идет по городу под развевающимся красным знаменем, и все машины приветственно сигналят и останавливаются, чтобы их пропустить… А какие они проводят сборы! На сегодняшний день – возможно, самые сильные и массовые в стране…»
С челябинцами – двумя парнями и девушкой – Фурман познакомился незадолго перед сбором. Он был заранее очарован этими легендарными «настоящими коммунарами» и во время первой встречи с ними в основном молча улыбался, завистливо ловя отсветы живой утопии (для него это было все равно как оказаться среди любимых героев «Далекой Радуги» или «Трудно быть богом» братьев Стругацких). Правда, в какой-то момент выяснилось, что коммунаром, да и то бывшим, мог считаться только один из них – невысокий голубоглазый Игорь с колюче-ироничным взглядом из-за толстых очков. Двое других – маленькая энергичная язва-«командирша» Ирина и добродушно посмеивающийся сутуловатый Володя со странной кличкой Номинал – коммунарами никогда не были, а просто, как они сказали, с удовольствием ходили в свою замечательную любимую школу и, естественно, принимали участие в сборах и всех прочих общих делах. Сейчас все трое были московскими студентами: парни учились вместе в Институте иностранных языков и жили в общаге, а Ирина, которая была на два года старше, училась в «педе» и жила с родителями, переехавшими в Москву, когда она поступила. В целом эта троица выглядела хорошо притертой и, судя по постоянным взаимным подначкам и пряным шуткам, не вполне понятным для постороннего, имела довольно сложную внутреннюю историю. Роли в маленьком спектакле, который они устроили специально для Фурмана, распределялись следующим образом: Ирина задавала жару, бодро паля по всему, что движется, Игорь со скучающим видом остроумно комментировал ее смелые выходки, а Володя-Номинал жертвенным юмором и хитровато-извиняющейся улыбочкой привычно смягчал остроту ситуации.
На сборе они разошлись по разным отрядам, но пару раз благодаря проявленной ими находчивости и решительности были легко преодолены какие-то неожиданно возникшие организационные проблемы, которые поставили всех остальных в тупик.
После сбора Мариничева по просьбе своего приятеля взялась «довести до ума» школьный пресс-центр, призванный стать очагом и рассадником будущих «революционных» изменений. Естественно, всей их компании – и в первую очередь Фурману «как человеку особо приближенному, понимающему и к тому же в данный момент ничем полезным не занятому» – пришлось всю осень регулярно таскаться в школу. А поскольку чаемое чудесное рождение творческого детского коллектива по разным причинам затягивалось, было решено нанести по равнодушной и косной человеческой массе еще один концентрированный удар, устроив на зимних каникулах трехдневный выездной сбор.
Место для этого было найдено уникальное – подмосковная усадьба Горки, где провел свои последние годы умирающий Ленин. В самой усадьбе был мемориальный музей, но рядом, буквально в двух шагах, за забором, находилась действующая школа-интернат. На каникулы большинство детей разъезжались по домам, и руководство интерната было готово принять хоть сотню гостей, обеспечив их необходимым количеством коек и ежедневной трехразовой горячей кормежкой (за относительно небольшую доплату поварам). Таким образом, все бытовые вопросы были сняты.
Более серьезные организационные задачи предполагали и более строгий отбор членов взрослой команды. Стоило об этом задуматься, как сразу возникла проблема с гитаристами. Мариничева с сожалением признала, что, при всех безусловных Машкиных достоинствах, запускать в Горки – святое для коммунистов место – эту неуправляемую злобную антисоветчицу было бы крайне рискованно: она там запросто может не глядя на лица ляпнуть какое-нибудь свое очередное кощунственное замечание и спровоцировать, пусть даже и невольно, такой грандиозный скандал на идеологической почве, что Ольге с Наппу потом за всю оставшуюся жизнь будет не отмазаться…
Вопрос о гитаристе обсуждался с самыми разными людьми, в том числе и с челябинцами. И вдруг выяснилось, что Володя-Номинал окончил музыкальную школу по классу гитары, а значит, в принципе мог бы заменить Машку. Но и этот вариант отпал, так как на Новый год он уезжал домой навестить родителей.
Полагаться же в трудных и нервных ситуациях на Друскину, которая вечно на всех обижалась и требовала к себе особого внимания, было невозможно; да она пока и не настолько справлялась с гитарой, чтобы в одиночку взять это дело на себя. Конечно, вообще без гитары на сборе будет сложно. Но лучше уж никак, чем с такими дополнительными сложностями.
На поездку в Горки записались около сорока старшеклассников, которых должны были сопровождать четверо педагогов. Вместе с ними взрослых набиралось почти десять человек, поэтому на этот раз решили обойтись без приглашенных гостей и помощников. Хотя всех обрадовало, что согласился поехать челябинец Игорь.
По плану первые тридцать минут после прибытия были отведены на размещение. Но выяснилось, что у поваров вскоре будет готов обед, и, чтобы потом не прерываться, «официальное» открытие сбора отложили на час с небольшим.
Между тем настроение у Фурмана было совершенно испорчено. Когда электричка начала притормаживать перед остановкой в Горках Ленинских, он был очень озабочен тем, чтобы при выходе никто из детей не оставил свои вещи, и от волнения забыл про собственный портфель, заброшенный на верхнюю багажную полку. Хватился он его только на платформе, когда электричка уже уехала. Ничего особо ценного в этом старом школьном портфеле не было: заношенный теплый свитер, сменная обувь, носки, набор фломастеров, зубная щетка и прочие дорожные мелочи. Но сами обстоятельства потери представлялись Фурману не просто нелепыми, а позорными. Кроме того, ему было ужасно жалко нескольких верно служивших домашних вещей (к примеру, серый норвежский свитер с оленями перешел к нему от Бори и побывал с ним в Карелии). Да и перспектива три дня не чистить зубы, не иметь возможности сменить промокшие в снегу носки и мучительно рыскать в поисках туалетной бумаги была совершенно безрадостной…
Видя, как он расстроился, Игорь с утешительной иронией заметил, что зато теперь ему не потребуется время на «размещение», и предложил, пока они свободны, быстренько и никому об этом не сообщая, сходить вдвоем «к Ильичу». Фурман даже не сразу догадался, что Игорь зовет его в музей: только старые большевики, лично знавшие Ленина, позволяли себе говорить о нем с такой рабоче-крестьянской родовой теплотой. Неужели у нынешних настоящих коммунаров тоже так принято?
На улице он осторожно спросил об этом Игоря. Тот удивленно посмотрел на него и ничего не ответил. Фурман покраснел: ну вот, не успел толком познакомиться с человеком, как уже спорол какую-то глупую бестактность…
В молчании они прошли с десяток шагов по скрипучему свежему снегу.
Игорь вдруг посопел носом, как бы усмехаясь чему-то про себя. Издевается, обреченно подумал Фурман.
– Видите ли, Александр… – с неожиданной театральной интонацией протянул Игорь. – Как вас по батюшке-то?.. Так вот, Александр Эдуардович, дело в том, что на мой сугубо личный взгляд разного рода гигантских монументов и нечеловечески величественных памятников вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) и без нашего с вами участия понаставили по всей стране, грубо говоря, на каждом углу. Что само по себе «не есть правильно», даже если не вдаваться в обсуждение эстетического качества всех этих многочисленных архитектурных сооружений. Поэтому разумная доля более человечного и даже, не побоюсь этого слова, интимного отношения к этой безусловно великой исторической личности, думаю, никому не повредит…
Фурман обрадовался: это был ответ, и достаточно сложный.
Пока он уважительно обдумывал его смысл, глухая тропинка, по которой они наугад пробирались вдоль интернатского забора, вывела их на расчищенную твердую дорогу. Почти сразу впереди, на другом конце широкой заснеженной площадки, показался желтый двухэтажный особняк с высокими белыми колоннами и пристроенными к флигелям верандами в окружении спящих деревьев. Скорее всего, это и был музей.
Фурман вдруг обратил внимание на то, что Игорь уже какое-то время идет с непокрытой головой под медленно падающим снегом. «Ты случайно не потерял свою шапку?» – встревожился он. Игорь молча указал на свернутую под мышкой меховую ушанку. На его раскрасневшемся лице застыло какое-то странное выражение: торжественное, строгое и одновременно веселое. Почему же он снял… Догадка поразила Фурмана: настоящий коммунар, приближаясь к святому для него месту, заранее обнажил голову. Несмотря на мороз. И ни слова не сказав своему тупому спутнику. Как бы предоставив ему выбор… Устыдившись своей бесчувственности, Фурман торопливо стянул свою шапку и тоже сунул ее под мышку. Игорь на него не смотрел.
Идти так оказалось не очень удобно. Да и уши сразу схватило… Но Фурмана переполняла благодарность за этот молчаливый урок.
В музее они быстро отогрелись. Времени у них было в обрез – всего минут десять-пятнадцать, народу почти никого, и осмотр они совершали почти бегом, скользя по натертому полу в выдаваемых всем посетителям высоких матерчатых бахилах с завязками. Мелькание замерших залов, длинные коридоры, лестницы, светлые комнаты с резной мебелью и множеством мелких предметов на столах, древние телефонные аппараты, исторические бумаги, кресла в бесформенных белых чехлах, простые кровати, старинная ванна с кранами «горячо» и «холодно»…
Из всего этого благопристойного ряда музейных вещей резко выпадали два экспоната.
На небольшом, задрапированном бархатом постамен те под странным углом друг к другу лежали три белых посмертных слепка: головы Ленина и кистей обеих рук. Голова была бессильно повернута чуть набок. На обрубке правой кисти пальцы судорожно поджаты, на левой – спокойно расправлены. Вероятно, расположение слепков каким-то странным образом воспроизводило объем отсутствующего тела, и это вызывало оторопь.
Но настоящим шоком были фотографии. Редчайшие, нигде не публиковавшиеся прижизненные снимки последних лет, на которых Ленин был уже так болен, что его черты едва опознавались в диковатом сумасшедшем с бессмысленными пустыми глазами… И огромные, во всю стену, невероятные снимки мертвого Ленина, сделанные здесь же, в этих интерьерах, видимо, сразу после смерти. Эти были куда страшнее, чем слепки. То же лицо, та же бессильно повернутая голова, те же руки. Но чудовищно увеличенные и – мертвые. Мертвые грубо, неопровержимо, беспредельно жестоко. Ужасные мертвые ногти.
Нелепо торчащие волоски. Безжизненная кожа в старческих пятнах. Мертвые корявые уши. Мертвые щеки. Злой заострившийся нос. Мертвый. Мертвый.
И это была правда.
«ЛЕНИН ЖИВ»? «ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»? Он умер! Просто об этом никто не знал. Это скрывали. Тело, лежащее в Мавзолее, казалось всего лишь спящим вечным сном, а не мертвым… Бессмертия не было.
…Всю обратную дорогу они с Игорем молчали. И во время обеда с трудом разжимали рот.
Но потом пришлось крутиться, веселить, петь, говорить…
Ближе к ночи, примерно через полчаса после объявленного для детей отбоя, Мариничева попросила Игоря с Фурманом прогуляться по этажам, ненавязчиво проверить, что происходит в спальнях, и, если понадобится, мягко пригасить естественное «пионерлагерное» веселье, которое кое-где сейчас наверняка в полном разгаре. Они дружно удивились этому «грязному надзирательскому» поручению, но Ольга сказала, что бесконечно сбрасывать решение мелких дисциплинарных вопросов на учителей уже просто неудобно, а ей самой еще нужно подготовиться к предстоящему очень непростому обсуждению дня и плана на завтра. Для пущей убедительности она скороговоркой добавила, что, на ее взгляд, у них обоих уже сложился хороший контакт с детьми, да и люди они спокойные и надежные. Ну не посылать же ей туда Наппу? Вместо того чтобы успокоить, он может так всех завести, что детишки до самого утра будут стоять на ушах! А завтра будут еле ползать, как сонные мухи. Против этого довольно смешного аргумента возразить было нечего, и они поплелись на задание.
Рядом с Игорем Фурман с удовольствием чувствовал себя «вторым номером» в команде.
– И что мы будем делать, если встретим кого-нибудь, так сказать, в неположенном месте? – спросил он, когда они вышли в коридор и направились к лестнице.
– А что мы можем сделать? – удивился Игорь. – Для начала просто поговорим с человеком – если это будет человек, конечно, – а там видно будет. Или ты хочешь сразу коленом в живот и руки за спину?.. Боюсь тебя разочаровать, но пытки и прочие садистские развлечения нам, видимо, придется отложить до более удобного случая.
Соревнуясь в остроумии, они стали подниматься по лестнице и через три пролета встретили Машу Рубинштейн – маленькую худенькую зануду-девятиклассницу, мама которой, по слухам, была известным психиатром (что автоматически вызывало у Фурмана нелепое радостное ощущение «семейной причастности»). В школе Маша Рубинштейн славилась своей скандальной заносчивостью и вздорным характером. Мариничева даже считала ее «уменьшенной» копией Друскиной – но, к сожалению, без Сонькиного ярчайшего таланта, который, несомненно, искупает почти все ее недостатки. Фурману это сходство казалось поверхностным (да и с тезисом, что талант все искупает, он был не согласен). Однажды он попытался разговорить Машу, спросив, куда она собирается поступать после школы. Оказалось, что на психфак МГУ – там преподавала ее мама, поэтому она могла легко пройти туда по блату. Маша призналась в этом без всякого стеснения и даже с вызовом: мол, еще вопросы будут? Но Фурман решил не отступать. «А в чем ты видишь смысл своей будущей профессии? – по-прежнему доброжелательно поинтересовался он, рассчитывая, что Маша сама подскажет ему, как обойти ее защиту. – Какие, по-твоему, цели должен ставить перед собой психолог, работающий с людьми?» Она сказала, что еще не думала об этом, да и вообще, какая разница, что она думает, ведь это не имеет никакого значения, однако Фурману в конце концов удалось «дожать» ее. Получив в ответ набор непрошибаемо антигуманных штампов, он пришел к грустному выводу, что Маша является законченным «псевдорациональным чудовищем» и никакая эмоционально-психологическая помощь ей уже невозможна. (Ничего не поделаешь – дочь психиатра, полностью подавленная авторитетом матери и запрограммированная на жесткое сопротивление всему остальному миру… Но, с другой стороны, а как еще родители могли защитить такую сложную, хрупкую, неприспособленную девочку?..)
Но сейчас Маша казалась какой-то экзотической птицей, случайно залетевшей в бедные интернатские коридоры: на ней был коротенький белый махровый халат с туго затянутым пояском, на ногах – прекрасные белые меховые тапочки, на тонкую шею с уютной небрежностью наброшено мягкое домашнее полотенце, в руках – заграничный пластмассовый стаканчик с яркой детской картинкой, зубная щетка и тюбик с хорошей зубной пастой. Из кармана халатика торчала массажная щетка для волос. Сколько же вещей и сумок она с собой притащила?..
– О! – сказала Маша, подняв брови. – Что это вы тут делаете?
– Вообще-то нам поручено охранять твой покой, – торжественно сообщил Фурман. – А ты куда направляешься?
– Одна, в такой поздний час… – уточнил Игорь. Маша весело объяснила, что в такой поздний час она обычно идет умываться и чистить зубы перед сном, причем делает это чаще всего одна. Но на третьем этаже по какой-то причине была отключена горячая вода, поэтому она решила спуститься на второй.
В завязавшемся ироничном обмене репликами Игорь неожиданно проявил себя как весьма опытный охмуритель. Если Фурман сохранял по отношению к Маше вежливую дистанцию, то Игорь, который и заговорил-то с ней чуть ли не впервые, сразу стал называть ее Машкой или как-то совсем уж по-деревенски Машаней: «Машань, позволь тебя спросить, а почему ты у нас такая бледная? Утомилась? Или это у тебя от природы такой благородно-утонченный цвет лица?..» К удивлению Фурмана, Маша совершенно спокойно приняла эту слегка юродивую покровительственно-фамильярную интонацию и даже не покривилась. Когда она несколько манерно пожаловалась им на здешний дискомфорт и неустранимые бытовые неудобства (вылитая «принцесса на горошине»!), Игорь вдруг с восторженной отеческой нежностью просюсюкал: «У-у, бедненькая ты наша девонька!..» – и ПОГЛАДИЛ это худосочное, нервное и опасное существо по волосам и по плечу. Фурман обмер, мгновенно представив размашистую пощечину и последующую немую сцену, но и это наглое нарушение границ почему-то не вызвало у Маши никакой реакции. Подозрительно воодушевившись, Игорь принялся подробно расспрашивать «Машку» о том, как она живет в своей московской квартире, о принятых в ее семье обычаях и порядках. Рассказывала она с такой готовностью и откровенностью, что в какой-то момент, когда она углубилась в описание своих сложных отношений с отцом, Фурман посчитал нужным мягко остановить ее: мол, наш интерес вполне удовлетворен, да и ты наверняка уже устала, время-то позднее, а день был напряженный… Игорю это вмешательство, судя по всему, не понравилось, и он как-то странно посмотрел на Фурмана. Но потом с великодушием старого бойца сказал, что напоследок хочет поделиться с ними обоими – как с людьми, привыкшими к жизни «в тепличных домашних условиях», – парой-тройкой небесполезных, на его взгляд, житейских рецептов, выработанных суровым опытом поколений в мужской общаге (например, как мыться без воды, гладить брюки без утюга, чистить зубы без щетки и зубной пасты и прочие цирковые фокусы).
Наконец Маша доверчиво призналась, что уже еле-еле удерживает вертикальное положение, и они отпустили ее, пообещав проведать в палате перед сном и пожелать ей спокойной ночи – если, конечно, она еще будет в состоянии услышать эти пожелания…
– Честно говоря, я потрясен твоим талантом дрессировщика и тем, как быстро и ловко ты приручил эту кошмарную девицу, – сказал Фурман.
– Спасибо, конечно, на добром слове. Но что в ней такого кошмарного?
– Как, ты вообще ничего о ней не слышал? Игорь со скучающим видом покачал головой.
– У нее же совершенно дикий характер! Даром что ее мама – психиатр. Насколько я знаю, до сих пор еще никому не удавалось вступить с ней в нормальный человеческий контакт. Она сразу начинает кусаться и выделять яд.
– Да брось. Обычная девчонка. Ну, может, чересчур закомплексованная на своей фамилии и неказистой внешности. Что тоже можно понять…
– Ничего себе «обычная»! Да от нее вся школа стонет, включая учителей! И при чем здесь ее фамилия? Боюсь, тебе просто повезло: она сегодня очень устала и поэтому была такая тихая и покорная. Или у тебя есть какой-то «профессиональный» секрет, как обращаться с такими существами?
– Какие между нами, девочками, секреты, Саша? С женщинами надо поменьше церемониться, только и всего.
Фурману этот рецепт показался грубоватым и слишком банальным. Тем более для коммунара. Видимо, Игорю все это было не очень интересно…
Поднявшись на третий этаж, где располагались спальни девчонок, они опасливо заглянули в коридор, и тут же мимо них на лестницу с приглушенным криком «Атас!» и паническим хихиканьем проскочила разношерстная стайка безобразников, искавших приключений в неположенном месте. Инспекторы проводили их холодными взглядами крупных хищников и настороженно двинулись по коридору, прислушиваясь к тому, что происходит за дверями. В двух спальнях было действительно шумно. В первой, куда им после их деликатного постукивания разрешили войти, девчонки готовились ко сну и, как выяснилось, просто слишком громко разговаривали. А вот во второй им пришлось задействовать все свои ораторские, театрально-скоморошеские и даже физкультурные способности, чтобы ривести в чувство истерично хохотавших и совершенно распоясавшихся девиц. Кстати, именно сюда вернулась бледная, тихая Маша Рубинштейн со своим стаканчиком, и уже под самый занавес они выполнили свое обещание, демонстративно пожелав ей спокойной ночи, – чем, надо сказать, крайне удивили всех остальных.
Гордые своей рискованной победой над столь сложным противником, они отправились на «мальчишеский» этаж и решительно подавили очаги сопротивления сну со стороны тамошних жалких буянов.
Все это потребовало времени, поэтому на ночной педсовет (так из уважения к учителям именовали на этом сборе Совет комиссаров) они позволили себе немного опоздать. Дав Ольге знак, что с детьми все в порядке, они скромно заняли свободные места за чьими-то спинами. По их общей тайной договоренности им двоим, как явным непрофессионалам, в присутствии учителей следовало деликатно держаться в тени. За весь день это была первая возможность спокойно посидеть на стуле.
Когда заседание закончилось, Фурман с Игорем решили на всякий случай еще раз пройтись по этажам.
Везде было пусто и тихо. Только мальчишки во сне старательно похрапывали на разные голоса, ужасно смешно перекликавшиеся друг с другом.
Но на обратном пути они вдруг увидели одиноко сидящую на ступеньках Марину Гордееву. (Эта доверчиво открытая, «светлая», как любила говорить Мариничева, девочка с большими и как бы немного удивленными глазами очень быстро стала для всей их компании одной из «своих» в мельтешащей школьной тусовке.)
Вид у Марины был грустный. Она объяснила, что ей просто нужно немножко побыть одной, чтобы справиться с переполняющими ее чувствами. Нет, на самом деле все замечательно! Она даже не ожидала, что будет настолько хорошо. Но тем печальнее знать, что скоро этот чудесный праздник закончится и придется вернуться в прежнюю жизнь, которая строится совсем по другим законам. Вот ведь какая беда…
Они дружно принялись утешать ее. Естественно, инициатива вскоре полностью перешла к Игорю, а Фурман остался на подхвате и с любопытством следил за его «работой». Некоторые приемы были уже узнаваемы: Марину он ласково называл Маришей, колдовски заговаривал сам себя какими-то умилительно проборматываемыми уговорочками и прибауточками, демонстративно изображал простака и в задумчивости «почесывал репу»… Но Фурману показалось очень правильным, что на этот раз Игорь не пытается прикоснуться к Марине-Марише: в этой взрослеющей девочке был такой щедрый и невинный избыток женственности, что любое, даже самое братское, прикосновение могло оказаться двусмысленным…
В конце концов, учитывая их дружескую симпатию к Марине и то, что ее слову можно было доверять, они договорились оставить ее на лестнице одну еще на десять минут. И они даже не будут возвращаться сюда, твердо зная, что она пошла спать. «Лады?» Марина благодарно кивнула, и они ушли.
– Хорошая она девчонка, правда ведь? – на ходу спросил Фурман. – И ты как-то очень правильно с ней разговаривал.
– Да, теплый такой человечек… – согласился Игорь, думая уже о чем-то своем.
Два следующих дня разогнавшаяся машина сбора, как и говорил Наппу, катилась уже почти сама собой. На счет своих личных достижений Фурман мог бы отнести два маленьких события: неожиданно серьезный разговор с одним из парней «о смысле жизни» и простенький цирковой номер, удачно придуманный во время общей прогулки.
Идея устроить незапланированный выход на свежий воздух возникла в последний день сбора, когда на всех уже стало сказываться недосыпание и в занятиях, требовавших хоть каких-то интеллектуальных и творческих усилий, просто необходимо было сделать перерыв.
Веселая игра в снежки в школьном дворе вскоре переросла в азартное толкание и валяние в сугробах. Кому-то успели засветить ледышкой по лицу, кто-то из девчонок обиделся на грубое обращение, некоторые мальчишки стали проявлять чрезмерную агрессивность… В общем, нужно было либо загонять детишек обратно в помещение, либо вовлечь наиболее возбужденных из них в какую-то нормальную игру. Мяча, конечно, не нашлось, но Игорь быстро придумал, чем его заменить. Половина двора была занята под футбольную площадку, а к двум мальчишеским командам присоединились и несколько удалых девчонок. Зато оставшиеся немедленно начали ныть, что им скучно и нечем заняться. Тут-то Фурман и придумал устроить катание на пони.
Все любили петь в кругу песенку про пони на стихи Юнны Мориц («Пони девочек катает, пони мальчиков катает, пони бегает по кругу и в уме круги считает…»). И почти для всех одним из незабываемых впечатлений раннего детства было посещение московского зоопарка и групповое катание на толстом мохнатом пони, запряженном в маленькую двухколесную тележку.
На мгновенной волне вдохновения Фурман объявил, что готов стать пони, бегать по кругу и бесплатно катать всех желающих. Нет, не верхом, конечно, он же не лошадь! На тележке, как и положено. Только надо найти какую-нибудь подходящую упряжь. А тележка будет очень красивая, на рессорах, с мягкими сиденьями – но воображаемая.
На фоне общего вялого скепсиса верная Марина Гордеева заботливо украсила маленького терпеливого пони какой-то новогодней мишурой. В качестве упряжи использовали длинные разноцветные шарфы. Получилось вполне празднично.
«Н-но! Пошел!» – неуважительно зачмокали набившиеся в воображаемую тележку пассажиры. Пони с бодрым ржанием забил копытами… но не смог сдвинуться с места: груз оказался слишком тяжелым, а крупнотелым девицам, набившимся в воображаемую тележку, даже не пришло в голову самим пошевелить ногами, чтобы «колеса» закрутились. Фурмана слегка поразила их тупая «потребительская» наивность: мол, мы же сели, так вези нас! Некоторые были еще и недовольны…
Наконец, после того как они договорились о согласованном движении и о том, что пассажиров будет не больше трех, им удалось тронуться, и под насмешливые крики зрителей пони резво поскакал по кругу, таща за собой тележку.
Аттракцион оказался намного веселее, чем можно было подумать поначалу. Причем для всех. Например, у каждого коллектива пассажиров обнаруживался свой собственный норов и внутренние проблемы. Скакать в связке с одними было легко и приятно, другие вели себя с животным откровенно по-хамски, третьи начинали бороться за власть друг с другом.
Освоившись с маршрутом, Фурман начал использовать его особенности и имеющиеся небольшие препятствия для того, чтобы разнообразить контакт с «клиентами» и вступить с ними в некий бессловесный педагогический диалог. Пару раз он ловко «переворачивал» тележку с совершенно зарвавшимися кучерами и гордо вырывался на свободу. Доброй Марине Гордеевой приходилось приманивать «бедную коняжку» воображаемым угощением и лаской. А некоторые ничего не понимающие девицы во время стоянки пытались скормить ему всякую несъедобную дрянь, упорно называя ее «соломкой» или «хлебушком» (не зря ведь в зоопарке посетителям запрещено кормить животных).
Игра настолько всех увлекла, что и соседи-футболисты, посматривая в их сторону, стали одобрительно или завистливо что-то выкрикивать, а потом стали просить, чтобы и их покатали. Образовалась даже конкурентная упряжка, но она оказалась слишком брутальной, и публика ее сторонилась.
Конечно, от беготни на морозе все устали, и организаторы следующего общего дела были этим недовольны. Но ведь поставленная ими самими задача заполнить паузу была успешно решена. А Фурман обрел необыкновенную популярность среди участников сбора. С подачи Мариничевой песенка о пони теперь неизменно звучала так: «Фура девочек катает, Фура мальчиков катает, Фура бегает по кругу и в уме круги считает…»
2
Нелепый роман, который Мариничева после сбора закрутила с «заказчиком», оказался, как и следовало ожидать, быстротечным. Эта глупая история всех огорчила. Наппу, криво ухмыльнувшись, даже назвал Мариничеву старой дурой. Видимо, проект со школой можно было считать закрытым. Но все недооценили деловитую кротость очередной мариничевской жертвы: через пару недель заказчик передал, что ради старой дружбы и пользы дела он хотел бы продолжить сотрудничество с их «педагогической командой». Кроме всего прочего это означало, что создавать такую команду все-таки придется. Наппу даже успел придумать для нее название: «Комиссарская бригада», сокращенно – «Комбриг».
Как всегда, идея сразу раздулась у него до каких-то фантастических масштабов: выездная бригада профессионально подготовленных комиссаров будет работать на всю страну, от Калининграда до Чукотки, беря подряды на организацию сборов для любого числа людей в любых населенных пунктах страны или же просто на природе в палаточных лагерях. Принимающая сторона обеспечивает оплату проезда, питание и проживание с минимальным набором бытовых удобств, а комиссарская бригада гарантирует создание из толпы участников дееспособного творческого коллектива с альтруистическими ценностями и позитивным социальным настроем.
Никакого фиксированного членства в будущей организации пока не предполагалось. На начальном этапе войти в нее при желании могли бы, например, все, кто принимал участие в их первом сборе. Но чтобы перейти черту между вольным дружеским сосуществованием и братским служением коммунарской идее, требовался некий дополнительный толчок, своего рода инициация. Идеальным вариантом была бы коллективная поездка в Челябинск на весенний коммунарский сбор.
Вскоре Наппу организовал себе короткую редакционную командировку в Челябинск, чтобы прощупать там почву насчет возможного участия в сборе «московской делегации». Однако окончательно договориться ему тогда не удалось – коммунары обещали подумать и дать ответ позднее.
Как-то Наппу с деланым равнодушием в голосе предложил Фурману с Друскиной заехать к нему, чтобы совместно обсудить кое-какие дела – какие именно, он не стал объяснять. Новости оказались чрезвычайно важными: этим утром Наппу наконец позвонили из Челябинска и сообщили, что принципиальное согласие директора школы № 1 Владимира Абрамовича Караковского на визит москвичей получено. Ура-ура! Путь в их общее светлое будущее начал приоткрываться! Рассказав о том, какие сложные усилия и маневры ему пришлось предпринять, Наппу скромно похвастался, что во время последней командировки в Челябинск его приняли в коммунары. Фурман с Соней не поверили – как, в настоящие коммунары?! В знак подтверждения он бережно достал из шкафа и развернул – только не лапайте руками! – заветный красно-синий коммунарский галстук. «Да… За какие же такие заслуги тебя туда приняли?» – завистливо поинтересовались они и тут же начали строить разные насмешливые предположения на этот счет. «Вам, пошлякам, не понять моих истинных заслуг перед человечеством! Для вас это слишком высокие материи», – обиженно пробормотал Наппу, убирая галстук обратно в шкаф. И в отместку отказался обсуждать с ними детали предстоящей поездки. Чтобы убедить его продолжить разговор, им пришлось долго каяться и клясться ему в своей любви и верности. Наконец Наппу смилостивился. По его словам, одна из проблем была связана с тем, что Владимир Абрамович Караковский – при всех своих совершенно неоспоримых педагогических и человеческих достоинствах – в некоторых важных вопросах придерживался явно устаревших и, можно сказать, глубоко провинциальных взглядов. А если называть вещи своими именами, был непрошибаемым ортодоксальным коммунистом старой закалки. Нет, не сталинистом, конечно, но… Впрочем, не исключено, что именно благодаря своей безупречной идеологической твердолобости он и сумел пережить все гонения на коммунаров и сохранить свою школу. Поэтому соответствующий дух пропитывал многие школьные традиции и обычаи. Например, на одном из этажей в коридоре было установлено боевое знамя времен Великой Отечественной войны, и все, кто проходил мимо него, от первоклашек до учителей, должны были каждый раз торжественно замедлять шаг, останавливаться на несколько просто секунд и равняться на знамя… Каждый раз?! То есть даже если ты просто прошел в туалет туда и обратно? А как же на перемене, когда все носятся по коридору, особенно малышня?.. Это правило абсолютно незыблемо и касается всех без исключения. В том числе и гостей, кстати. В общем-то такая строгость вполне объяснима. Школа старая, еще довоенной постройки, многие из ее выпускников ушли на фронт и не вернулись, и таким образом новым поколениям передается память о них… Понятно. А почему ты вообще об этом заговорил? Оказалось, что Наппу беспокоила возможная неадекватная реакция на все это злобной антикоммунистки Машки, которую по настоянию Мариничевой включили в список тех, кто поедет на сбор. Ольга считала, что это единственный шанс хоть как-то поколебать ее «дикие» взгляды. Наппу же был уверен, что Машка безнадежна, а главное, может серьезно поссорить их всех с челябинскими коммунарами. Общими усилиями Наппу в конце концов убедили, что тревожиться ему не стоит. Правда, он заявил, что все равно остается при своем мнении и снимает с себя всякую ответственность за это решение. Заинтригованная Машка, со своей стороны, под жестким психологическим давлением обещала по мере возможности сдерживать «порывы своих чувств», соблюдать правила приличного поведения в гостях и вообще быть девочкой-паинькой.
В конце февраля Караковский приехал в Москву по делам и согласился встретиться с руководителями московской делегации в своем гостиничном номере, чтобы окончательно утрясти все вопросы. Но за час до назначенного времени Наппу срочно вызвали в редакцию. Мариничева и Фурман, которые не были знакомы с легендарным директором коммунарской школы, ужасно разволновались. В панике они стали названивать троице московских челябинцев, упрашивая их взять на себя роль посредников в переговорах. Несмотря на цейтнот, те смогли договориться между собой и примчались на встречу.
С виду Караковский оказался похож на вполне обычного солидного чиновника, но при этом в лице у него была странная младенческая открытость, даже когда он хмурился. После взаимных представлений, неспешного чаепития и обмена разной обоюдополезной информацией наконец перешли к главному. Как призналась Мариничева, они с Наппу взяли на себя смелость привезти на сбор «довольно сложный в мировоззренческом плане столичный студенческий контингент» и в связи с этим очень рассчитывают – не на какое-то особое отношение, конечно, а прежде всего – на профессиональное понимание. Владимир Абрамович слегка встревожился и спросил, что это значит. Ольге пришлось подсобраться. Говоря о «мировоззренческой сложности», она имеет в виду сочетание нескольких факторов, которые, независимо от того, хотим мы этого или не хотим, оказывают сегодня серьезное влияние на настроения студенчества и формирование умов нового поколения. Во-первых, это естественное для определенной части нашей молодежи внешнее подражание широко распространенным на Западе протестным движениям, в частности хиппи и пацифистам, с их демонстративной атрибутикой; во-вторых, неизменно высокий градус нравственного неприятия сталинизма в среде творческой интеллигенции – а наши дети происходят в основном именно из этой среды; и, в-третьих, резко максималистская юношеская реакция на известный формализм в работе комсомола. Вся эта идеологическая «взвесь» требует от нас, коммунистов, особого такта и способности к поддержанию диалога. Но дело стоит того, потому что дети, с которыми она и Валера работают, в большинстве своем обладают яркими творческими способностями, очень открыты и в целом безусловно настроены на созидание. В заключение Ольга дала твердые гарантии, что на сборе их воспитанники «с несколько экстравагантными представлениями о мире» будут находиться под полным контролем руководителей группы. (На протяжении ее монолога Фурман старательно кивал в знак согласия, но изобретательные Ольгины формулировки его очень насмешили; кроме того, было уже известно, что редакционное начальство отказалось отпускать ее одновременно с Наппу, поэтому сама она никуда не поедет и, соответственно, не сможет никого «контролировать». А про Наппу и говорить нечего.)
Однако из ее сложной речи Караковский так и не уловил, зачем ему и его школе нужен такой «подарок». Мариничева начала горячиться: мол, у нас же общее педагогическое дело! Мы ведь не можем отказываться от каких-то сложных или проблемных детей только из-за того, что нам с ними трудно работать!.. А вот это было с ее стороны грубейшей ошибкой. И действительно, по какому праву эта молодая расфуфыренная журналистка не только ставит себя на одну профессиональную доску с таким заслуженным и даже, можно сказать, великим педагогом, но еще имеет наглость упрекать его в том, что он якобы отказывается работать с какими-то детьми! Да кто она такая?.. Караковский мгновенно поскучнел и замкнулся. Раскрасневшаяся Мариничева мучительно пыталась разобраться сама с собой, и в комнате повисло катастрофическое молчание… Вот тут-то и оказалось, что решение позвать на встречу московских челябинцев было абсолютно правильным ходом: Ирина вдруг принялась по-свойски балагурить с Владимиром Абрамовичем, он невольно улыбнулся, и понемногу все расслабились. Вскоре беседа деликатно возобновилась, а Игорь с Володей своим молчаливым присутствием как бы подтверждали, что все будет в порядке.
В Челябинск «московская делегация» выехала тремя группами. Наппу с компанией новых знакомых, которые, как и он, не хотели зря терять время, взяли билеты на самолет. Фурман, Соня, Машка и Морозов, составившие «преступную группу тунеядцев и бездельников», решили не спеша и с комфортом двинуться поездом. А челябинцы отправились на поезде на день раньше, пообещав «подготовить почву» к их прибытию.
Фурман и Соня рассчитывали в дороге вволю пообщаться с Морозовым. Но эти надежды не осуществились, потому что Машка устроила своим спутникам суровую многочасовую спевку. К концу пути она научила их слаженно и с самоотдачей исполнять под гитару больше десяти красивых песен. Они даже не ожидали, что у них может настолько хорошо получаться. Пару раз к ним в купе вежливо стучались соседи. Они выражали свое восхищение подслушанным через перегородку пением, просили разрешения ненадолго присесть и неизменно просили исполнить что-то эстетически совершенно неприемлемое из эстрадного или блатного репертуара. На худой конец, заказывали Высоцкого. Машка, демонстрируя мастерство общения с простым народом, к каждому гостю находила свой подход, предлагала компромисс и выпроваживала всех без обид.
Поздним вечером, когда они уже закончили репетировать и славно поужинали обильными домашними припасами, случился небольшой «внутренний инцидент».
Машка и Морозов регулярно уходили курить в тамбур. В какой-то момент, когда они в очередной раз отсутствовали, Соня с полотенцем через плечо отправилась готовиться ко сну, а Фурман достал взятую с собой книгу и попытался начать читать. Вскоре вернулась Машка, сказав, что Морозов остался в тамбуре, так как двух выкуренных сигарет ему оказалось мало. Машка с Фурманом просидели вдвоем довольно долго и уже стали недоумевать, куда подевались остальные, но тут в купе ворвалась Соня и со слезами на глазах пожаловалась, что Морозов опять к ней приставал.
– Где, в туалете?!
– Нет, в тамбуре. Я еле от него отбилась!
– А как ты оказалась в тамбуре? Ведь ты вроде бы пошла умываться?
– Морозов попросил постоять с ним, пока он докурит.
– Это сколько же он успел выкурить за это время? Пачку?.. Ну хорошо, так что же он тебе сделал?
– Я не хочу об этом говорить.
– Он что, ударил тебя? Выворачивал руки?
– Нет, что вы!
– Тогда в чем же выражалось его «приставание»?
– Он вдруг на меня накинулся и попытался меня поцеловать!
– Так… Понятно. А он что-нибудь говорил при этом?
– Ну, сказал, что любит меня…
Машка с Фурманом чуть не попадали от смеха.
– Ну и как, получилось у него тебя поцеловать-то?
– Вы дураки! – Соня сделала вид, что обижена. – Знаете, как мне стало страшно в первый момент, когда он вдруг на меня бросился! Я даже закричала! По-моему, он и сам ужасно испугался…
– Кстати, а где он? Ты его случайно не прибила сгоряча? Может, он там валяется на грязном полу, избитый до полусмерти? Или уже выпрыгнул на ходу из поезда?..
Соня окончательно расстроилась и с досадой сказала, что она сама во всем виновата. Черт ее дернул идти с Морозовым в тамбур, и вообще… Но Машка, отсмеявшись, строго заявила, что если он еще не спрыгнул с поезда, то тем хуже для него. Она ему этого безобразия просто так не спустит. Здесь она одна несет ответственность за Друскину – девушку чрезвычайно талантливую, но, к сожалению, в житейском плане беспредельно наивную, неопытную и даже, пусть она ее простит, элементарно глупую. Поэтому Морозова надо как следует проучить, чтобы на будущее отбить у него всякую охоту к подобным «невинным детским шалостям». После ее грозных речей Фурману стало совсем уж жалко парня, и он отправился проверить, в каком тот находится состоянии.
Вообще-то морозовская пылкость его удивила. Ведь он уже второй раз безуспешно пытается «пристать» к Соне. Но если он настолько серьезно в нее влюбился, бедняга, то зачем выбирать для этого такие неудачные моменты, да еще когда кругом полно людей? Неужели нельзя было в Москве встретиться с ней где-нибудь в тихом месте и просто объясниться? Чтобы это оставалось тайной, а не превращалось каждый раз в какой-то нелепый и смешной скандал? Все-таки странный Морозов человек… Хотя в общем-то они с Соней неплохо смотрелись бы вместе.
Вопреки его смутным опасениям, Морозов стоял в тамбуре у окна и задумчиво курил. Увидев Фурмана, он сразу затушил сигарету и помахал рукой, разгоняя дым.
– Ну, как ты тут? – спросил Фурман. – Здесь довольно холодно.
– Да, вообще-то не жарко. Они помолчали.
– Говорят, ты опять приставал к Соне?
– Я? Приставал?! Да что ты! Разве я мог? Впрочем, наверно, можно это и так назвать. А что, она уже успела на меня наябедничать?
– Да уж. Но, насколько я понял, она сама считает свою реакцию на этот досадный эпизод неадекватной и преувеличенной и жалеет, что все так получилось.
– Да ладно. Ничего такого ведь между нами и не было, о чем стоило бы жалеть. Одни разговоры.
Фурман пожал плечами.
– Так что, можно считать, она на меня не в обиде?
– Думаю, что нет.
– Ну, вот и отлично. Значит, все нормально, можно возвращаться?
– В принципе, можно. Правда, Машка, в отличие от Сони, настроена очень жестко и хочет тебя, так сказать, проучить на будущее.
– Вот как? Ну, тогда мне придется открыть тебе одну страшную тайну: к Машке этой вашей, с которой вы все так носитесь, я отношусь абсолютно равнодушно. Если она, как ты говоришь, собирается меня «проучить», пусть попробует. Я ее ни капельки не боюсь и вполне способен за себя постоять. Так что ты, Сань, можешь за меня не беспокоиться. Хотя я очень благодарен тебе за сочувствие. Давай-ка пойдем скорей обратно. А то здесь и впрямь можно окочуриться от холода.
Когда они вернулись, Машка, мрачно набычившись, начала было отчитывать Морозова, но Фурман с Соней дружно заставили ее замолчать: уже всё, хватит, успокойся, никто никого не обижал, произошло недоразумение. Соня с лукаво-демонстративной заботой спросила Морозова, не умер ли он в этом ледяном тамбуре, и предложила принести ему горячего чаю. Когда она вышла, позвякивая четырьмя стаканами в подстаканниках (Фурман решил на всякий случай остаться в купе), Машка все же произнесла свой воспитательный монолог – в краткой, но откровенно грубой форме.
– Морозов, надеюсь, ты меня понял? – спросила она напоследок.
– Да-да-да, Мань, из твоей, надо сказать, в целом довольно путаной речи главное я уловил: что Соня тебе очень дорога и что ты за нее готова всем пасть порвать, моргала выколоть и так далее и тому подобное, – смело ответил ей Морозов. – Да, к сожалению, я отлично расслышал все эти твои жуткие блатные угрозы, которые якобы должны «леденить мне душу». Но вынужден тебя разочаровать: я тоже отнюдь не вчера родился, и никакие театрализованные выступления в этом жанре давно уже не производят на меня впечатления. Кроме того, мне кажется, что здесь, в нашем и без того чрезвычайно узком и хрупком дружеском кругу – к которому я причисляю нас обоих, хотя сейчас у меня и возникают определенные сомнения по этому поводу, – никому и ни при каких обстоятельствах не стоит опускаться до уровня подобного дворового общения, унизительного в первую очередь для самого говорящего. Можешь мне поверить, я ничуть не меньше, чем ты, готов защищать Соню от окружающей грубости и грязи…
В дверь несильно стукнули ботинком – это вернулась Соня с полными стаканами. Остановившись на пороге, она грустно обвела взглядом их сосредоточенные лица:
– Ну что, вы всё еще продолжаете ругаться?..
– Да никто вроде и не ругался, – успокоил ее Фурман. – Так, Машка с Морозовым немного поспорили… Но как раз перед твоим приходом закончили.
– Правда, что ли? Мир-дружба? – с надеждой спросила Соня, опасно качнувшись.
– Давай-ка я перехвачу у тебя эти дурацкие стаканы, – встрепенулся Морозов. – Пока тут кого-нибудь случайно не обварило кипятком…
Поставив стаканы на столик, он собрался выйти покурить, но у двери неожиданно развернулся:
– Соня, скажи честно, ты ведь не держишь на меня никакой обиды?
– Даю честное слово, Санечка. Можешь спать спокойно! У меня на тебя правда нет никаких обид.
– Вот и хорошо, – растроганно сказал Морозов.
– Ладно, Морозов, я тоже оценила твою пламенную речь в защиту Друскиной, – усмехнулась Машка. – Будем считать, что мы с тобой друг друга поняли.
Спать все легли с легким сердцем. В полусне Фурман еще раз представил себе эту дикую сцену: как Морозов в раскачивающемся холодном тамбуре вдруг прижимает Соню к стене и пытается поцеловать ее в губы, как она в панике визжит и отбивается от него – и невольно разулыбался… Ладно, завтра они окажутся в другом мире!
* * *
По прибытии на место выяснилось, что московские челябинцы, использовав свои «тайные связи в школьных верхах», подготовили им замечательный сюрприз: делегацию столичных журналистов, возглавляемую Наппу, уважительно поселили отдельно от всех, в пионерской комнате. Среди потертых горнов и барабанов, пыльных знамен, знакомых с детства книжек о пионерах-героях и смешных официозных плакатов – как бы специально на радость Машке. Наппу заявил, что ему лично абсолютно все равно, где перекантоваться, главное – что происходит вокруг, зато все остальные вполне оценили эту дружескую заботу: несмотря на их готовность претерпеть временные бытовые неудобства ради пресловутого «сборовского откровения», перспектива провести три ночи в классах или в спортзале с толпой незнакомых детишек была все же не слишком заманчивой.
На обед они безнадежно опоздали, но в пустой школьной столовой их опять же «по блату» накормили еще теплыми остатками, набранными со дна нескольких кастрюль (Наппу воспользовался случаем и пообедал второй раз). После этого они, волнуясь, отправились знакомиться со своими отрядами, по которым их разбросала чья-то неведомая воля.
Фурман нашел свой отряд после долгих блужданий по школьным коридорам и вовсе не там, где он должен был находиться, а в каком-то странном помещении, напоминающем склад. Отряд оказался большим – человек тридцать – и состоял в основном из семиклассников, впервые попавших на сбор. Командиром был энергичный взрослый парень в желтовато-затемненных очках с черной оправой. О его статусе свидетельствовали двухцветный коммунарский галстук и кокетливая зеленая пилотка, из-под которой ровными тугими валиками выкатывались необычайно густые светлые кудри, похожие на парик. В помощниках у него была пара бойких старшеклассниц с типичными ухватками комсомольских активисток. Еще двое взрослых – нервно улыбающийся бородатый мужчина в толстом свитере и молодая женщина в алом парадном костюме и с чересчур серьезным выражением лица – судя по всему, были просто случайными гостями.
В отряде шло какое-то не очень понятное обсуждение, которое вел командир. Несколько детей, сидевших кружочком поблизости от начальства, слушали его с остекленевшими глазами и, когда к ним снисходительно обращались с вопросами, послушно выдавливали из себя уныло-рассудительные ответы. Остальные в это время оживленно занимались своими мелкими делишками, привычно укрываясь за спинами соседей. Эту выпавшую в осадок «массовку» следовало бы как-то вовлечь в обсуждение, и Фурман посчитал своим долгом помочь братьям-коммунарам. Его хорошо продуманное выступление с места вызвало смех и заставило всех встрепенуться. Однако руководителя отряда эта неожиданная инициатива почему-то чрезвычайно озадачила. Растерявшись, он не смог перехватить внимание публики, и детишки вскоре снова занялись друг другом и загудели. Зато следующая попытка Фурмана встрять и оживить общий разговор сразу получила твердый отпор. Ему с терпеливой улыбкой объяснили, что вся работа на сборе и в каждом отряде ведется строго по плану, который рассчитан буквально по минутам и опирается на выверенный годами опыт многих поколений. Вопросы, поставленные нашим гостем из Москвы, возможно, сами по себе важны и интересны. Но цель, ради которой мы все здесь находимся, заключается не в том, чтобы обсудить какие-то острые проблемы, а в том, чтобы в очень сжатые сроки дать высказаться максимально большому числу детей. Пока же, к сожалению, мы вынуждены попусту тратить драгоценное время. Надеюсь, теперь мы лучше поняли друг друга? Отлично! Тогда мы можем вернуться к тому, на чем прервались…
После этого все старательно принялись делать вид, что Фурмана для них больше не существует. И только сидевшая напротив большеглазая ухоженная девочка с косичками и крупными бантами (она единственная среди детей отвечала на вопросы развернутой правильной речью, и ее было интересно слушать) посмотрела на него с испуганным сочувствием. Он улыбнулся ей: ничего, все нормально.
Девочка с машинальной осторожностью улыбнулась в ответ и тут же смущенно отвела взгляд. Но вся эта ситуация, видимо, встревожила ее, и она стала надолго замирать, уходя в себя и при этом неловко притворяясь, что по-прежнему внимательно слушает других. Фурман с жалостью наблюдал за ее слабыми корчами. А ведь ей, наверное, больше не захочется идти на сбор, подумал он. Она пойдет, конечно, но только чтобы не конфликтовать со всеми и не выделяться… Вот так грубоватые коммунисты всегда и теряют сложно устроенных людей. Интересно, в какой семье растет эта маленькая девочка, слишком чувствительная к чужому унижению. (Все остальные дети проявили высокую жизненную приспособляемость: некоторые просто ничего не заметили, но многие с готовностью включились в знакомую коллективную игру.) Кто-то ведь позволяет ей быть такой? Какая-нибудь чудесная добрая мама? Утонченный папа? Интеллигентная бабушка? Репрессированный дедушка?.. Как бы то ни было, чтобы выжить и не попасть в психушку, этой разумной девочке придется выстраивать защиту, закрываться. И при удаче она уже годам к восемнадцати превратится в обычную мелочную эгоистку. Разве что все еще симпатичную…
В какой-то момент школьный звонок просигналил об окончании отрядного времени, и Фурман печально поплелся в пионерскую узнать о первых впечатлениях остальных участников экспедиции.
Как выяснилось, ничего особо вдохновляющего ни с кем из них пока не происходило: ну, дети… ну, отряд… ну, командиры-коммунары-комиссары… если честно, то все это мало чем отличается от обычного пионерского лагеря. Может, дальше будет поинтересней?
Может, и будет… У самого-то Фурмана ситуация была хуже некуда: в своем отряде он явно успел стать лишним. Это еще мягко говоря. Возможно, его уже записали в опасные вредители. «Подрыв авторитета командира…» (А они еще беспокоились за Машку!) Как все это получилось? И что ему теперь делать? Возвращаться в отряд и молча сидеть там с приклеенной доброжелательной улыбочкой? Попросить перевести его в другой отряд? Мол, не сложилось… Хотя кто он здесь такой, чтобы требовать к себе столько внимания? Он даже не мог никому рассказать о своей проблеме. Просто смех: опытный Фурман, который не раз бывал на сборах и который, собственно, и притащил их всех сюда, – вдруг так опозорился при первой же встрече с пресловутыми коммунарами!.. Но по большому счету эта глупейшая история не имела никакого значения. Ладно, для себя он может и пропустить на этот раз. Потому что он и так знает. Главное, чтобы ослепительное солнце сбора открылось для Сони, Морозова и Машки – именно за этим они все сюда приехали. И если это произойдет, их общее будущее изменится.
Свои вечерние выступления отряды готовили заранее, еще до сбора, и теперь только проводили последнюю репетицию, поэтому гостям в принципе можно было во всем этом не участвовать. Наппу считал подобные «практические» соображения неприемлемыми. На сборе каждый должен стремиться использовать любую возможность быть полезным для других, даже если это касается мелочей, заявил он и гордо отправился в свой отряд. Однако маленькая компания, угнездившаяся в пионерской комнате, не вняла огненным аргументам учителя и решила посвятить свободное время общению с группой выпускников школы. Троица московских челябинцев на сборе быстро обросла бывшими одноклассниками, таинственными школьными любовями и друзьями детства. Некоторые из этих людей жаждали не только поболтать друг с другом, но и поближе познакомиться с диковинными посланцами столицы, о которых Ирина им кое-что уже рассказывала в своих письмах. Встреча с ироничными и все на лету понимающими ровесниками позволила москвичам ощутить человеческую атмосферу челябинской коммуны ярче и полнее, чем участие в любом отрядном «капустнике». Конечно, Наппу был прав, с укором заметив, что это приятное общение «работает» не на сбор, а исключительно на них самих. Но их отсутствия в отрядах, скорее всего, даже не заметили. Зато они успели наладить хороший контакт с местными «стариками» и собрали массу полезной информации.
Между прочим, в разговоре случайно всплыло, что их московский знакомец Игорь тоже пишет. Более того, его «высокохудожественные сочинения» еще со школьных времен пользуются популярностью «в здешних кругах», и почти все присутствующие их читали. «Что ж ты раньше молчал?!» – дружно удивились москвичи и потребовали, чтобы Игорь, не откладывая на потом, притащил им сюда из дома почитать что-нибудь свое. Он слегка покраснел от всеобщего внимания и постарался свести все это к шуткам. Но, видимо, во время ужина он действительно съездил (или сбегал) к себе домой и оставил обитателям пионерской тонкую папку с каким-то своим недавно написанным произведением. За ночь они его прочли, передавая друг другу. Это была небольшая пьеса – «современная сказка для взрослых», мутный коктейль из «Маленького принца» Экзюпери и чеховской «Чайки». Огромный равнодушный Город-пустыня, его мерцающие огни, проносящиеся мимо машины. Действия почти нет. Главный герой – странноватый Молодой человек, произносящий мечтательные монологи. Требовательная прагматичная девушка, с которой у него вяло развиваются (подходят к концу?) какие-то запутанные отношения. Типизированные персонажи второго плана – в основном взрослые-неудачники, мешающие Молодому человеку исполнить какую-то свою заветную мечту или, наоборот, мужественно благословляющие его двигаться своим путем…
Морозову и Фурману вся эта «густопсовая романтика» не понравилась. Соня неопределенно покачала головой и поморщилась. Но Машке вдруг пришло в голову, что из ладушинской «сказки» (фамилия Игоря была Ладушин, в школе все, как водится, только так его и называли, и москвичи теперь тоже это подхватили) можно сделать музыкальный спектакль и поставить его на сцене своими силами. В качестве сценария этот текст вполне годится. Нужно только выбрать подходящие песни из их, так сказать, совместного репертуара – не зря же они потели в поезде! – и проложить ими слегка занудные монологи героев. Если всем дружно навалиться, то за пару дней можно было бы все это сделать, причем на достаточно приличном уровне… Подожди, а как же сбор? Ты что, забыла, где мы?.. Да ничего я не забыла! Вы просто не поняли, что я предлагаю. Наша коллективная постановка могла бы стать прекрасным подарком сбору. Чем участвовать во всей этой жалкой и бессмысленной детской самодеятельности… ну хорошо-хорошо, не бессмысленной… Короче, лучше мы выложимся на полную катушку и попытаемся создать некую качественную вещь, за которую – если она у нас получится, конечно, – все наверняка будут нам только благодарны, чем еще трое суток будем бесполезно просиживать штаны в своих отрядах, где мы, откровенно говоря, никому не нужны. Определенный риск тут, ясное дело, имеется. Но кто не рискует, тот, как известно, не пьет… Хочу заметить, что пока обстоятельства складываются для нас, я бы сказала, крайне благоприятно. У нас уже есть почти готовый сценарий с музыкальной частью, работоспособная команда и даже отдельное помещение для репетиций, где нам никто не будет мешать… Вот разве что Наппу захочет нам помешать и настучит на нас коммунарам? Может, имеет смысл по-тихому придушить его сегодня ночью всем вместе? А что? Трупак закатаем в знамена – вон их здесь сколько, и поставим стоймя в угол к остальным. Сюда же никто из посторонних не заходит? Судя по пыли, здесь даже не убираются. Так что пару дней он, наверное, простоит, пока не… Хотя нет, его могут хватиться. Он ведь старается быть всем полезным – а значит, все время на виду. Ладно, пусть живет. Хотя идея была неплохая…
В общем, Машка не то чтобы всех убедила, но некую заманчивую мысль перед коротким сном в головы заронила. А когда Наппу вернулся с ночного заседания совета командиров (на которое он был допущен, видимо, как коммунар) и ворчливо стал укладываться спать, все, ехидно ухмыляясь, вспомнили ее «криминальное» предложение.
Появившиеся утром челябинцы идею «параллельной» театральной постановки приняли на ура (оказалось, что торчать в отрядах и развлекать незнакомых детишек им тоже не слишком интересно; как с усмешкой пояснил Игорь, они здесь сами находились в неофициальном статусе любимых детей, которые просто ненадолго заехали домой на каникулы, и не считали себя обязанными вкалывать). Но Фурман настоял на том, чтобы московская четверка провела последнее закрытое совещание перед принятием такого серьезного решения, и потребовал еще раз тщательно взвесить все «за» и «против». Главным в его списке «против» было окончательное замыкание их компании в пионерской (где они, на его взгляд, и без того чересчур обжились) и полное выпадение из сбора как общего дела. Хотя именно ради участия в этом общем деле они сюда и приехали. Устроив очередной приятный «междусобойчик», они не выполнят свою задачу и ничему новому не научатся. Соня погрустнела и задумалась. Но тут слово взял Морозов, который заявил, что с точки зрения методики организации коллективных творческих дел он, если честно, пока не увидел здесь ничего нового или необычного. Больше того, уже понятно, что в рутинной отрядной работе этого и нельзя увидеть, потому что все используемые в ней творческие приемы давным-давно стали общим местом и просто тупо повторяются из года в год. Так зачем тратить драгоценное время на то, чтобы в очередной раз их «изучить»? Да, надо откровенно признать, что даже просто сидеть и ничего не делать в этой маленькой компании нам всем намного интереснее, чем в любых так называемых «разновозрастных детских коллективах». Я просто констатирую это как факт, сказал Морозов. В этой ситуации у нас остается только два варианта действий. Или немедленно бросить все это к чертовой матери и ехать в Москву, или попытаться собственным героическим и уже без всяких оговорок творческим усилием создать здесь некую «другую реальность». Которая в случае удачи – и в этом Машка права – могла бы стать нашим ответным даром если и не всей этой огромной, ничего не понимающей толпе, то хотя бы тем нескольким действительно замечательным людям, с которыми мы здесь успели вчера познакомиться. Не исключено, что именно для этой цели абсолютно беспомощная в литературном отношении ладушинская сказка как раз и сгодится. Особенно если проложить ее несколькими хорошими песнями в нашем исполнении.
– Ну, Морозов, ты меня приятно удивил своим выступлением, – призналась Машка. – Лучших аргументов я бы не нашла. Даже если бы очень долго старалась.
– Всегда пожалуйста.
Фурман понял, что этих двоих ему уже не переспорить, а поскольку на Сонину поддержку рассчитывать не приходится, обсуждение можно считать законченным. Заждавшимся челябинцам объявили: будем ставить.
Игорь, видимо, был настолько поражен самим фактом своего писательского признания со стороны высоко ценимых им москвичей, что почти безропотно (лишь мучительно краснея и молча качая головой) принял жесткие редакторские замечания Морозова, который посоветовал безжалостно выбросить из текста огромные куски – ради придания ему большей театральной динамичности и сценичности. В результате произведенных сокращений сказка уменьшилась примерно на треть, а несколько персонажей бесследно исчезли. Фурману было жалко Игоря, но его произведению критика явно пошла на пользу. К обеду литературная часть работы была завершена, и одна из местных выпускниц, горячо присоединившаяся к их творческому коллективу, унесла исправленную рукопись к себе на работу, чтобы до вечера успеть перепечатать ее на машинке (двух закладок по четыре копии должно было хватить на всех).
Вторая половина дня ушла на обсуждение песенной программы, продумывание режиссуры и распределение ролей. Почему-то все стали дружно настаивать на том, чтобы роль Молодого человека исполнял Фурман. В глубине души эта перспектива его ужаснула, но отвертеться ему не удалось. Ирина охотно взяла на себя роль его девушки, Володе-Номиналу поручили роль немногословного отца, Морозов с большим скрипом согласился сыграть друга главного героя, к которому уходит его девушка, а Игорь Ладушин, ухмыльнувшись, выбрал себе роль нехорошего мужика. Машка играть на сцене отказалась, так как на ней держалась вся музыка, да и пение в значительной мере, а Соня сказала, что она лучше подумает над художественным оформлением и сделает какие-нибудь минималистские декорации из подручных средств. Еще одной выпускнице, пожелавшей принять участие в постановке, досталась маленькая роль злобной тетки-бюрократки, а всех прочих персонажей, включая банально-сентиментальный образ матери главного героя, пришлось просто выбросить из уже сокращенного текста за неимением актеров.
Когда Игорь наконец смог дозвониться девушке, которая занималась распечаткой, и сообщил ей о последних изменениях в сценарии, выяснилось, что ее рабочий день уже подходит к концу, но сделать она почти ничего не успела. Дома у нее машинки не было, поэтому закончить она сможет только завтра к обеду. Это было очень плохо, ведь времени на заучивание текста и репетиции оставалось в обрез – фактически только полдня завтра и ночь…
– Ладно, если следующую ночь придется провести без сна, то сегодня стоит лечь пораньше и выспаться, – деловито сказала Машка.
– А что будет, если мы не успеем все сделать? – с легким испугом поинтересовалась Соня.
– Друскина! Не задавай глупых вопросов! Просто мы должны постараться все успеть.
Утром Фурман, мучимый мыслью, что из-за этой дурацкой постановки они совершенно выпали из сбора, отправился в свой отряд. Оказалось, там тоже готовили какие-то веселые сценки к завтрашнему итоговому общему представлению. Встретили Фурмана вполне приветливо, удивились, куда он пропал, и с ходу поручили ему малюсенькую роль с единственной фразой. В нужный момент он должен был выйти на сцену (действие происходило в условной сельской местности), громко произнести: «Федот, уже падают листья!» (в том смысле, что, друг, прошло уже очень много времени), демонстративно загоготать: «Бу-а-а-гы-гы!» и удалиться за кулисы. Его пробным исполнением командир остался недоволен: слишком тихо и не смешно. Второй раз получилось уже получше, но над интонацией придется еще немного поработать. Ничего, он наверняка с этим справится!.. Внимание, переходим к следующему эпизоду!
И сюжеты, и юмор в сценках были не просто очень примитивными, но еще и вторичными, позаимствованными «из телевизора». Фурман не утерпел и мягко предложил улучшить пару деталей, но его со спокойной готовностью поставили на место: мол, у нас здесь своя жизнь, всё под контролем, и менять ничего не надо. Высидев для виду пять минут, он потихоньку ушел.
Встречаться ему сейчас ни с кем не хотелось, и он решил в одиночестве побродить по школе. Ну почему, почему все складывается так неправильно?! Мимо.
В пустом гулком коридоре он постоял перед знаменем. И еле сдержал вдруг накатившие слезы…
Он должен собраться с духом. Еще не все потеряно.
И ведь он отвечает за то, чтобы по крайней мере для двоих – Сони и Морозова – их первая поездка на сбор и встреча с коммунарством не прошли так бессмысленно и бездарно. Какая дикая нелепость: оказаться здесь и ничего не увидеть, ничего не почувствовать! Наппу прав, они сами себя наглухо заперли в пионерской, отгородившись от сборовской жизни. Конечно, нырять в нее пришлось бы каждому поодиночке, а это всегда очень страшно в первый момент в окружении незнакомых людей… С другой стороны, разве то, как здесь организована работа в отрядах, соответствует коммунарским идеалам и принципам коллективного творчества? Как можно требовать от кого-то погрузиться в эту детсадовскую скуку? Ради чего? Что же делать?
Вскоре на него наткнулся возбужденный Морозов: Саня, где ты ходишь, распечатку уже давно принесли, все ждут только тебя! По дороге в пионерскую он сообщил Фурману две важных новости. Во-первых, Ладушину удалось договориться с начальством, и сегодня после восьми вечера москвичам разрешено на полтора часа занять школьный актовый зал для, так сказать, генеральной репетиции. Почему сразу «генеральная»? Вопрос поставлен правильно, и ответ на него содержится во второй важной новости. Она касается общего плана сбора. Завтра утром сбор в полном составе отправляется в традиционный большой поход к какому-то местному мемориалу.
Место это находится довольно далеко от города: дорога в один конец, как говорят, занимает больше трех часов. Если выход, допустим, в десять, плюс шесть часов в дороге, плюс час там, – значит, обратно все вернутся не раньше пяти. А поскольку это последний день, на вечер запланирован итоговый концерт или как там это у них называется, на котором мы, собственно, и должны будем выступить, а также прочие церемонии, связанные с торжественным закрытием сбора. Ясно, что завтра у нас уже не будет никакой репетиции, поэтому всю подготовительную работу нужно закончить именно сегодня.
Пока челябинцы, весело переругиваясь, налаживали свет и подключали микрофон, Фурман в ужасе прогуливался по сцене, пытаясь представить, как через несколько минут он будет принуждать свое одеревеневшее тело изображать какого-то другого, условного человека, с другой походкой и жестами, а его голос будет ненатурально громко произносить нелепые, вычурные, совершенно не вдохновляющие его самого монологи «от чужого лица», которое он должен нацепить на себя, как маску… Вот кошмар! У Фурмана аж зубы застучали… Никак не унять эту дрожь. Господи, какое мерзкое притворство. И как это люди могут по доброй воле становиться актерами?
– Что, Фур, уже начал потихоньку примериваться к роли? – сочувственно спросила Ирина. – Я просто смотрю, ты бродишь по сцене, как лунатик, и губами шевелишь.
– Н-да… Но пока что-то с трудом получается, – ответил он прерывающимся голосом. – С детства, можно сказать, на сцену не выходил. Довольно пугающее ощущение.
– А, ну это дело привычки. Я вот, помню, тоже однажды… – Ирина начала рассказывать какую-то историю, но тут ее грозно призвали что-то доделать, и она, извинившись, убежала.
Фурман стал еще раз перечитывать свой первый монолог… Неужели кто-то думает, что набитый школьниками зал будет сидеть и внимательно вслушиваться в эти слюнявые романтические бредни про город, одиночество, машины и огни? После трех бессонных ночей? Черт! Да этот текст вообще никуда не годится! Почему он сразу не заметил, насколько все здесь надуманно и вымученно? Уважение к Игорю помешало? Ведь Фурман и в самом деле был приятно поражен, когда выяснилось, что «настоящий» коммунар – по совместительству еще и брат-писатель… Но это же какой-то чудовищный литературный провинциализм. И что теперь с этим делать? Ясно, что «сыграть» у него не получится: он просто не сможет произнести со сцены эти чужие слова. Он и не хочет их произносить. У него язык не повернется. Все его тело противится… Нужно отказаться от роли. Конечно, это будет воспринято всеми как предательство. Их мало – кто будет играть? Получается, что из-за каких-то его эгоистических «переживаний» вся постановка оказывается под угрозой и все их двухдневные усилия могут пропасть даром. Может, взять другую роль, попросить поменяться с кем-нибудь? Нет. Нет. НЕТ! Затея со спектаклем с самого начала была ошибкой. Они поддались на Машкино давление, а в результате просто спрятались от всех, забились в какую-то щель… Ладно, это сейчас не важно. Как он объяснит остальным свой отказ? «Вдруг невыносимо разболелась голова»? Ну-ну. Ведь эту ложь тоже придется как-то «играть» – и в чем тогда разница?.. Не надо ничего объяснять. Объяснить невозможно. И эти жалкие объяснения никому не нужны. В любом случае его отказ станет для всех ударом. Они огорчатся, обидятся, посчитают его предателем «общего дела». Легко представить, какими глазами они все теперь будут смотреть на него. А ведь им еще предстоит возвращение. Готов ли он вынести это?.. Наверное, после того как он им скажет, ему лучше сразу уйти. А там будет видно. Но если они решат продолжить без него, то время для них по-прежнему дорого, и будет глупо тратить его на бессмысленные разговоры.
Фурман попросил минутку внимания и негромко объявил со сцены, что не сможет играть в спектакле. Но ему пришлось с кривой усмешкой повторить это еще раз для тех, кто не понял или не поверил своим ушам. Общей реакцией была тихая растерянность. «Ты случайно не заболел? – заботливо спросили они. – Как ты себя чувствуешь вообще? Температуры нет? Ничего не болит? А то тут в городе, говорят, бродит какая-то особо вредоносная инфекция… Или, может, голова? Фур, поискать тебе таблеточку?» Нет, твердо ответил он, у меня ничего не болит, и я не болен. Просто я не-мо-гу. Не могу. Правда не могу. Всё.
– Ну, что будем делать? – с грустной надеждой спросила Соня у Машки.
Та мрачно хмыкнула:
– А чего ты у меня-то об этом спрашиваешь?
– Ну как же, ведь ты у нас вроде как за главного…
– Я?! Знаешь что, Друскина… Спасибо тебе, конечно, за такую высокую оценку моих скромных творческих способностей, но для меня это, пожалуй, слишком большая честь… Ладно, лучше будем считать, что мы это уже проехали. Короче, ты задала мне вопрос? Отвечаю на него с присущей мне прямотой: лично я думаю, что пора закрывать эту лавочку.
– Подождите, – вмешался Фурман, – почему так сразу все закрывать? Время же еще есть. И ничего катастрофичного пока не произошло. Мою роль вполне может взять на себя Морозов. Если он на это согласится, то его роль, скорее всего, придется сократить. Но в целом это мало на что повлияет. Игорь, как ты считаешь, можем мы так сделать?
– Да конечно, валяйте, сокращайте еще! Чего мелочиться? И вообще, чего меня спрашивать? От меня там и так уже ничего не осталось. Кстати, мою роль тоже легко можно вырезать, если надо. В целом-то никакой разницы уже нет…
– Так, минуточку! – встрепенулся Морозов. – Прежде чем мы начнем принимать какие-то важные для нас всех решения, я хотел бы еще кое-что уточнить у Фура. Наедине, если никто не против.
Усмехнувшись, Фурман пожал плечами.
– Тогда мы с Сашей, с общего разрешения, берем двухминутный тайм-аут.
– Нам всем выйти? Чтобы вы могли побыть наедине, – обиженно спросила Соня.
– Нет, вы можете остаться здесь, – хладнокровно ответил Морозов. – Мы просто отойдем немного в сторонку…
…Саня, я буду говорить с тобой прямо, как с другом. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что твой совершенно неожиданный выход из игры довольно сильно осложняет наше и без того непростое положение. Я не собираюсь упрекать тебя или уговаривать пересмотреть свое решение. Ты имеешь полное право так поступить, как и каждый из нас. Но мне все же хотелось бы лучше понимать, что происходит. Потому что еще днем ты, на мой взгляд, был настроен вполне позитивно. Ты можешь мне ответить откровенно в двух-трех словах, что заставило тебя так резко изменить свою позицию? Поверь, это останется строго между нами.
Фурман покивал, пытаясь справиться с волнением.
– Если объяснять совсем коротко, то, когда я вышел на сцену и представил, что произношу на публику эти пошлые напыщенные монологи, меня чуть не вырвало.
– И что, это все?..
– Как на духу.
– Да… Ситуация, оказывается, куда проще, чем я думал. А с другой стороны, если все обстоит именно так, как ты говоришь, то в целом дело намного хуже… Ты же знаешь, я полностью доверяю твоему литературному чутью. Правильно ли я тебя понял: ты утверждаешь, что ладушинский текст – это полное и абсолютное говно?
– Ну нет, не абсолютное, конечно. Как известно, нет пределов совершенству… Там есть и какие-то более или менее удачные куски. Но на мой, так сказать, личный вкус все это очень слабо.
– А как же так получилось, что мы все дружно согласились это ставить?
– Даже и не знаю. Видно, помрачение какое-то на всех нашло. Кроме того, мы ведь попытались кое-что там улучшить, порезали сильно… Но, если честно, у меня просто язык не поворачивается произносить эту муть вслух перед людьми.
– Спасибо, я тебя понял, – задумчиво сказал Морозов. – Тогда последний короткий вопрос: как, на твой взгляд, нам теперь следует поступить со всем этим?
С учетом того, естественно, что твой отказ уже является неотменимым фактом.
– Ситуация, с одной стороны, очень деликатная. Как бы там ни обстояло дело с чисто литературной точки зрения, но будет совершенно неправильно, если в результате мы рассоримся с Игорем, и он на нас смертельно обидится. А такой исход вполне возможен… Мне теперь, естественно, неудобно давать вам какие-то советы. Но, по-моему, эту постановку еще можно попробовать довести до ума. Я уже предлагал такой вариант: если бы ты взял мою роль… ну, и так далее.
– Ладно, я приму этот вариант к сведению. Но я бы очень просил тебя в любом случае остаться с нами до конца и помогать хотя бы своими советами. Могу я на это рассчитывать?..
Когда они вернулись к остальным, Морозов бодро объявил, что как старший по званию явочным порядком принимает на себя руководство всей операцией.
– А можно узнать, какое у тебя звание? – с недоверчивой улыбочкой спросил Номинал. – Если это не секрет, конечно.
– Морозов у нас числится генералом морской кавалерии! – отрапортовала Друскина.
– Ну, так бы сразу и сказали! А то мы ж были не в курсе. Теперь все с ним стало понятно.
– Так, перерыв закончен! Разговорчики в строю прекращаем и дружно беремся за работу, – скомандовал Морозов. – Саня, давай-ка сюда листочки с твоим текстом.
Все поднялись на сцену, а Фурман, чтобы не мозолить им глаза своим присутствием, виновато присел в шестом ряду с краю. Но Машка велела ему сесть поближе: «От пения тебя никто не освобождал, поэтому нечего увиливать от своих обязанностей! И подпевай мне в полный голос, так чтобы я тебя отсюда слышала».
Некоторое время на сцене происходила суета: Морозов, проглядывая на ходу полученные от Фурмана листки, уверенно раздавал довольно разумные режиссерские указания; Ирина деловито интересовалась тем, как все будут располагаться и двигаться, чтобы не сталкиваться друг с другом; Соня назойливо упрашивала Володю срочно подвесить к кулисам какие-то изготовленные ею бумажные декорации; Машка с мрачным вдохновением мычала какую-то мелодию, подбирая ее на гитаре; Ладушин, держа в руке полный авторский экземпляр пьесы, посматривал на всех с грустным видом… Потом Морозов приказал очистить площадку от лишних людей и начать прогон отдельных эпизодов. Сам он пока читал свой текст невыразительной скороговоркой по бумажке, объяснив, что выучит его за ночь. Главное сейчас, по его словам, было увидеть все в целом от начала и до конца, а мелкие детали позднее легко притрутся.
На взгляд Фурмана, действие, в принципе, было выстроено. Конечно, это была корявая самодеятельность с нелепой претензией на глубокомысленность… Но получилось все же лучше, чем можно было ожидать в данных обстоятельствах. А с песнями так вообще хорошо! Если всем немножко сбавить ложный актерский пафос и как следует подогнать все эпизоды…
Ладно, с усталым раздражением сказал Морозов, поехали еще раз.
Действие начало прокручиваться по новому кругу.
В середине третьего монолога Молодого человека Морозов внезапно остановился:
– Да, Фур был абсолютно прав. Язык просто физически отказывается произносить эту мутную чушь…
Фурман испуганно взглянул на Игоря, но тот как раз отвлекся и вроде бы ничего не услышал.
– Всё, хватит! Ничего не получится! – объявил Морозов. – У нас остается слишком мало времени. Сейчас уже понятно, что мы элементарно не успеваем довести все это до такого уровня, с которым было бы не стыдно выйти на люди.
На минуту все онемели.
– Ну что ж, этого следовало ожидать, – сказала Машка и стала убирать свою гитару в чехол. – Вот видишь, Друскина, я опять оказалась права. Ты ведь помнишь, что я еще час назад предлагала закрыть эту лавочку?
Соня как-то злобно скривилась, а со стороны челябинцев раздался слабый ропот: нет, как это? почему? давайте хотя бы попробуем, а там будет видно…
– Вы хотите продолжать? – удивился Морозов. – Ладно! Но лично я складываю с себя все полномочия и ухожу.
– Что значит «ухожу»? – хмыкнул Номинал.
– А то и значит. Вот, передаю вам все бумажки, иду к двери, открываю ее и ухожу.
И Морозов действительно ушел.
Это было смело и даже красиво.
«Я бы так не смог», – с завистью подумал Фурман.
Ну что, тогда сворачиваемся, с горечью сказали челя-бинцы. Жаль, конечно, бросать на полпути такую хорошую идею, но ничего не попишешь…
Соня надулась и не хотела ни с кем разговаривать.
Вообще-то нужно было привести в порядок сцену и расставить по местам столы и стулья, которые они использовали в качестве условных декораций. Когда Соню попросили помочь, она молча собрала свои вещи и ушла вслед за Морозовым, напоследок демонстративно хлопнув дверью. В другое время Фурман «по долгу службы» побежал бы за ней, чтобы привычно «привести ее в чувство», но сейчас решил плюнуть.
Оставшиеся в зале стыдливо улыбнулись друг другу и занялись уборкой со странным чувством неполной реальности происходящего.
В том, что совершил Морозов, была какая-то загадка. Почему все вопреки своему желанию так легко подчинились его разрушительной воле? Настроение у Морозова изменилось в одну секунду. «Мы не сможем!» – уверенно сказал он. Казалось бы, ну сказал и сказал. Такое у него сложилось мнение. Но всех вдруг это пронзило: да, мы не сможем… Еще за минуту до этого они верили, что у них все получится. Почему же после его слов поняли, что не получится? Неужели только потому, что Морозов вышел из игры? А что в нем такого? Откуда у него такая власть выносить окончательный и бесповоротный приговор?.. Вообще-то Фурман уже сталкивался с чем-то похожим, когда они вдвоем ходили искать место для осеннего Большого слета. Тогда Фурман очень устал, у него болела голова и не было сил сопротивляться. Теперь он тоже проявил определенную слабость и тем самым невольно спровоцировал дальнейший катастрофический ход событий. Но понять механизм воздействия Морозова на всех остальных он пока не мог. Разве нельзя было продолжить репетицию – с ним или без него? Ведь когда Фурман отказался от роли, это в принципе ничего не изменило. Кое-что поменяли на ходу и поехали дальше. А отказ Морозова сразу обернулся концом общего дела – словно у всех выключили ток. Почему, например, Игорь не предложил взять на себя эту дурацкую роль, которую он сам сочинил и о которую другие споткнулись? Успели бы они или нет, это открытый вопрос. Время еще оставалось. Всю ночь можно было репетировать – раз уж взялись и столько поставили на кон… Да, загадка.
А главное, что им делать дальше? Разойтись по отрядам? Не поздно ли? Как же неправильно все сложилось в этой поездке… Они ведь теперь и в глаза друг другу не смогут смотреть… И как быть с бедным Игорем, которого они «поманили и бросили», высокомерно поиздевавшись над его злосчастным «произведением». Заслужил ли он такое обращение, даже если и в самом деле написал что-то не слишком удачное? А остальные челябинцы?.. Надо ли говорить Наппу о том, что произошло? Он наверняка будет торжествовать: «Я вас предупреждал!..» Пророк чертов. Нет уж, пусть пока наслаждается жизнью. Потом еще и Мариничевой придется все объяснять… Но до этого им почти двое суток придется провести вместе. Смешно, но, выходит, завтрашний поход для них – это просто спасение.
Правда, московские челябинцы решили остаться в городе: они уже не раз бывали в таких походах, а им еще нужно было успеть навестить кучу друзей и родственников…
От школы до железнодорожного вокзала сбор шел праздничной колонной по краю проезжей части – с красным знаменем впереди, революционными песнями и приветственными гудками машин. На перекрестках движение четко регулировалось курсантами Челябинского военного автодорожного училища, в которое традиционно поступали выпускники первой школы. Потом вся толпа плотно набилась в обычную загородную электричку. Прочим пассажирам пришлось сильно потесниться, и поначалу они с недовольным видом косились на шумных беспокойных соседей. Через какое-то время Машка не выдержала и предложила развлечь народ песнями в исполнении, так сказать, «московского квартета» – не зря же они, в конце концов, столько упражнялись! Убедить ее, что лучше бы им сидеть тихо и не доставать и без того нервно настроенную публику, не удалось. С бесцеремонной Машкой во главе их четверка с извинениями протолкалась в начало прохода и выстроилась там маленьким полукругом, как какой-то нелепый «цыганский ансамбль поездных попрошаек». Конечно, они все очень старались, самоотверженно надрывали глотки и струны. Но песен этих почти никто из коммунаров не знал, а в другом конце вагона их голосов, похоже, вообще не было слышно. Однако во время этого «концертного выступления» между ними снова пробежала какая-то искра, и благодаря этому они, уже выйдя из вагона на свежий воздух, с легкой печалью почувствовали, что никуда им друг от друга не деться.
За городом снег лежал почти нетронутым. Утоптанные лесные дорожки иногда сужались, так что идти приходилось по одному, ступая след в след. Городская обувь, да и одежда, в которой москвичи приехали на сбор, для таких испытаний, конечно, не были предназначены. Вообще эта основная часть пути, проходившая по пересеченной местности и занявшая больше двух часов, была достаточно тяжелой.
Конечной целью похода оказалась вершина одного из многочисленных пологих холмов. Оттуда неожиданно открылся замечательный вид: вокруг до самого горизонта лежали древние плоские горы, покрытые глухими заснеженными лесами, а между ними расстилалось огромное замерзшее озеро.
Наверху было несколько деревянных строений, которые принадлежали какой-то полувоенной технической службе, и маленькая турбаза. Во время войны здесь, в этих пустынных местах, вроде бы очень далеких от линии фронта, произошли какие-то героические события, но что именно, Фурман толком так и не разобрался: на коротком общем митинге было плохо слышно, о чем говорили выступавшие.
Обед всем выдали сухим пайком, зато горячего чаю было вдоволь. Кроме того, неожиданно появилось солнышко и вскоре так пригрело, что многие поснимали с себя куртки.
Возле дымящегося котла с чаем на Фурмана случайно наткнулся кудлатый командир его отряда, который и в походе, несмотря на холод, щеголял в своей высокой пилотке. Он с приветливой улыбкой спросил, готов ли Саша к вечернему выступлению и не забыл ли слова.
Фурман вдруг понял, что предстоящее неприятное испытание совершенно вылетело у него из головы, но заверил командира, что все в порядке.
Обратный путь дался большинству участников похода намного труднее, чем дорога туда. В электричке всех мгновенно сморило, а от вокзала до школы они уже еле доплелись. Хорошо еще, что никаких общих дел, кроме ужина и последней отрядной репетиции, до начала большого вечернего концерта не было запланировано, и можно было потихоньку прийти в себя.
Настроение у Фурмана, да и у всей их четверки, было мрачное: сбор приближается к завершению, из общей жизни они странным образом совершенно выпали, время ими потрачено поразительно бездарно, и ничего уже не исправить. Сами виноваты. Морозов тем не менее старательно бодрился: мол, все не так уж плохо, могло быть и хуже. Но его оптимизма никто не захотел разделить. Да и проявленная им вчера решительность выглядела слишком двусмысленно… Ну ладно, сказал Морозов, вы тогда сидите здесь и тоскуйте, а я пойду посмотрю, что там у других происходит.
Фурман тоже недолго высидел в затхлой, опостылевшей атмосфере пионерской и отправился в свой отряд на последнюю репетицию. Отметившись в эпизоде, он, чтобы не возвращаться к Соне и Машке, решил немного побродить по школе и от нечего делать стал на ходу придумывать, как ему украсить свою нелепую роль второго плана.
И именно в этот час между ужином и началом концерта, когда все разбрелись, Машка с совершенно непонятной целью (не иначе как по дьявольскому наущению) оказалась в том коридоре, где стояло знамя, и устроила там какую-то «публичную провокацию». Фурман узнал о случившемся от взволнованной и опечаленной Ирины. По ее словам, скандал уже дошел до Караковского, и чем теперь все это обернется, неизвестно. Что ж, не хватало только, чтобы их в довершение ко всему с позором выгнали со сбора… С самой этой идиотки Машки взять было, конечно, нечего, тем более что Фурман, можно считать, лично поручился за нее перед Владимиром Абрамовичем вместе с Мариничевой. И значит, с него теперь весь спрос. Наппу они решили пока ничего не говорить – оставалась слабая надежда, что в общей суматохе начальству будет просто не до них и все как-нибудь рассосется без особых последствий.
Машка в одиночестве настраивала гитару в пионерской и очень удивилась изложенной Фурманом «интерпретации событий». Да там вообще ничего такого не было! Никакого скандала и никакой провокации она не устраивала! Это полный бред! И эти лживые обвинения в свой адрес она воспринимает как прямое личное оскорбление.
Эти коммунары просто зарвались! И кому-то придется за это ответить!.. Хорошо-хорошо, успокойся. Но что-то там все-таки произошло? В любом случае важно понять, что именно… Выяснилось, что Машка зачем-то решила провести «небольшой опрос» среди тех, кто в тот момент проходил мимо знамени, и узнать, какие чувства они при этом испытывают – если испытывают. Опросить она успела человек шесть или восемь. Ответы были разные и по большей части вполне нормальные. Но, видно, нашлась одна какая-то сволочь, которая, как это и принято у преданных своей идее коммунистов, тут же решила на нее донести. Что, собственно, и требовалось доказать!
Спорить с ней сейчас было абсолютно бессмысленно. В отчаянии Фурман попросил ее хотя бы какое-то время не выходить из пионерской (да, в туалет – можно) и больше не заводить разговоры ни с кем из местных. Машка, примирительно посмеиваясь, обещала. И даже предложила, чтобы они вообще заперли ее здесь до самого отъезда. А жратву они, как настоящие верные друзья, могут потихоньку подсовывать ей под дверь…
До начала концерта больше ничего не произошло.
Когда настал черед выступления фурмановского отряда, он вместе с остальными исполнителями поднялся на сцену и укрылся за кулисами. Где-то совсем рядом, в огромной полутемной пещере, непрерывно жужжа на низкой ноте и мелко шелестя чешуйчатыми крыльями, с безмозглым сарказмом притаилась гигантская черная муха переполненного зала. Фурмана била дрожь.
О своей «актерской» придумке, своем маленьком «фокусе» он никому не сказал, потому что ему наверняка запретили бы эту «самодеятельность». Изначально выбор вариантов у него был очень ограниченный. Изменить тупую реплику, которую ему поручили произнести, было невозможно: это непременно обнаружилось бы во время последней репетиции, а на сцене от неожиданности могло выбить из колеи его партнера. Кроме того, это ничего бы не решило, так как весь сценарий был строго выдержан именно в таком пошлом стиле. Хотя по сюжету дело происходило осенью в сельской местности, никаких, даже минималистских, декораций, вроде прикрепленных к кулисам желтых листиков из бумаги, режиссер не предусмотрел – в его постановке царила абсолютная условность. Поэтому Фурман, как верный последователь реалистической театральной школы Станиславского, решил действовать, во-первых, исходя из «предлагаемых обстоятельств», во-вторых, исключительно в рамках своей роли, чтобы никому не мешать, и в-третьих, только в тот момент, когда его уже никто не сможет остановить.
Итак, деревня, ясный осенний день; с деревьев медленно опадают листья; урожай, видимо, уже собран; два соседа-мужика встречаются на меже… Что ж, отлично!
Отрядное действо шло ни шатко ни валко, и вот одна из помощниц командира-режиссера пробралась за кулисами к Фурману и предупредила: «Через минуту будет ваш выход!»
Всё, поехали! Она еще не успела отойти, а он уже сбросил ботинки, аккуратно отставил их в уголок и стянул носки. Пол был жутко грязный и какой-то просто ледяной. Но ведь искусство требует жертв? Кстати, придется потом где-то мыть ноги… Так, свитер, рубашка… Прийти сюда перед самым выступлением в поддевочных спортивных штанах – это он хорошо придумал: не пришлось переодеваться, а они так колоритно пузырятся на коленках, и свободно болтающиеся штрипки сзади очень уместно подволакиваются…
– Что вы делаете?! – испугалась девчонка. – Зачем вы раздеваетесь?! Так нельзя! – Бедняга наверняка решила, что странный московский гость внезапно сошел с ума и собирается выйти на сцену голышом.
Стоявшие рядом мальчишки поглядывали на Фурмана с веселым удивлением.
– Да все в порядке, тише, не надо так громко орать! – зашипел он. – Это я для своей роли, понятно? Я должен выглядеть по-деревенски!
Девчонка растерянно пробормотала, что она должна доложить командиру, и убежала. Но, ха-ха, было уже поздно!
Так, майку лучше выпустить наружу. Как бы там не окочуриться от холода, на открытом-то пространстве…
Ярко освещенная сцена показалась Фурману намного больше, чем когда они репетировали свою неудавшуюся постановку. В равнодушно гудящем зале были отчетливо видны только несколько первых рядов. Большинство сидевших там зрителей следили за происходящим на сцене одним глазом и в основном живо общались между собой. Появление из-за кулис очередного персонажа поначалу не вызвало никакого интереса.
Партнер Фурмана стоял метрах в восьми от него и с тревожным видом ожидал его короткой реплики, чтобы продолжить свою волынку. Но Фурман нагло решил еще немного потянуть паузу – ничего не случится, а ему нужно, чтобы эти самодовольные гады хоть что-нибудь заметили, иначе все его усилия теряют смысл. В любом случае партнер находится слишком далеко от него, и следует подойти к нему поближе. Выходя «на свой участок», Фурман для пущей реалистичности представил себе, что перед этим занимался во дворе какими-то мужскими хозяйственными делами – например, рубил дрова, – и сейчас его правую руку как бы оттягивал книзу увесистый топор. Ощущая натруженной ладонью теплое шероховатое топорище и (с несколько надуманным удовольствием) осязая привычными босыми ногами холод родной землицы, он поневоле громко зашлепал босыми ногами в сторону «соседа Федота». Тот первым подметил что-то неладное, и глаза его нервно забегали. Как бы он не сбежал, однако! Между тем за кулисами уже возник командир в темных очках, который с осторожной улыбочкой присматривался к своему чрезвычайно непослушному гостю. На всякий случай Фурман приветственно помахал Федоту свободной рукой и покивал: мол, привет, это я, сосед твой! Узнаёшь?.. Необычный звук его шагов наконец привлек и внимание публики. «Ой, смотрите-ка, он идет босиком! Кто? Где? И правда!..» – заговорили и захихикали в зале. Все лица в первых рядах теперь повернулись к сцене.
Фурман остановился, помолчал и, с печальным сожалением глядя на соседа-неудачника (по сценарию-то тот был просто дебил и никакой жалости не заслуживал), произнес положенную «коронную» фразу, которая, как он понял, была цитатой из какого-то всем известного фильма: «Федот, уже падают листья!» (В смысле: друг, посмотри, уже осень кончается, а ты еще продолжаешь заниматься всякой хренью!) В угоду низкопробным вкусам публики, на которые ориентировался режиссер, Фурману пришлось-таки напоследок изобразить брутальный «мужской смех»: «Бу-у-а-а-а!»
Зал радостно зашумел и проводил уходящего актера благодарными аплодисментами. Уф!
– Неплохо ты придумал, – нехотя признал командир. – А мы тут не сразу поняли, что происходит, и уже стали гадать, все ли у тебя в порядке со здоровьем… Надо было тебе все-таки меня предупредить.
– Да у меня просто времени уже не было! Мне это только в самый последний момент перед выходом на сцену вдруг пришло в голову, – миролюбиво соврал Фурман.
– Ну, будем считать, хорошо все, что хорошо кончается, – сказал командир и немного неуверенно протянул ему руку: – Мне пора идти…
А ведь что ни говори, у него все получилось!
Правда, вскоре выяснилось, что в тот момент в зале по разным причинам не было никого из их четверки, поэтому среди «своих» маленький триумф Фурмана остался неоцененным.
Театрализованные выступления отрядов и отдельных творческих групп продолжались еще довольно долго и потом плавно перешли в церемонию официального закрытия сбора. Но это был еще не конец.
После короткого перерыва все стеклись в какой-то небольшой пустой зал, где в темноте на полу горело множество свечей. Здесь челябинцы образовали сразу два песенных круга – внешний и внутренний. Фурман, видевший такое впервые, поначалу решил, что это объясняется теснотой и нехваткой места, но оказалось, что во внутренний круг встают только коммунары (Наппу, естественно, тоже к ним затесался). Всего их набралось человек тридцать, и их круг был как бы вывернут наружу – то есть их лица были обращены не друг к другу, а ко всем остальным. Символический смысл такого построения читался ясно. И хотя из разговоров с Игорем Ладушиным Фурман знал, что отношения между этими людьми были отнюдь не идиллические, все равно это производило мощное впечатление. Фурману так хотелось быть одним из них, принадлежать их истории! В том, как они обменивались взглядами, крепко обнимали друг друга за плечи, устало улыбались и смотрели на «детишек» во внешнем круге, он завистливо улавливал проявления другой, наполненной жизни – с ее упрямой самоотверженностью и молчаливым ощущением братства…
Слаженное ночное пение двух кругов подвело сбор к его традиционной вершине – приему в коммунары. От суровой простоты этого ритуала мурашки бежали по коже. В тишине, которую удерживали сотни затаивших дыхание людей, чьи-то голоса строго и негромко называли имена тех, кого избрал Совет коммунаров. Несколько секунд спустя из погруженного во тьму большого круга в мерцающий коридор выныривали шатающиеся тени обладателей этих имен и слепо спешили навстречу протянутым к ним рукам, которые втягивали их в расступающийся и еще плотнее смыкающийся внутренний круг. Первый, второй, третий…
Фурман с Соней стояли рядом и, вдруг услышав знакомое имя, радостно встрепенулись: вот это да, а он им ничего не сказал! Неподалеку от них из темноты на свет послушно выступил Володя-Номинал и, кажется, сам не веря своему счастью, зашагал по невидимой тропке, протоптанной перед ним другими. Почти одновременно с ним светлый коридор пересек кто-то еще. Это было странно, так как следующее имя названо не было. Возможно, из-за этого в «точке входа» произошла какая-то заминка: внутрь коммунарского круга обоих новичков пока почему-то не впускали, и они сиротливыми просителями остались стоять снаружи. Судя по всему, им сказали подождать. Девушки-коммунарки решили подбодрить загрустившую парочку какими-то пряными шутками, те старательно отвечали… Но возникшая проблема, видимо, потребовала вмешательства высокого начальства: вскоре к «месту поломки механизма», как остроумно заметил кто-то в темноте, с разных сторон торопливо направились трое старших. Несколько голов таинственно склонились друг к другу и начали обмен информацией. Минуты шли, и потихоньку народ в темноте расслабленно загудел о чем-то своем. А безбожно затянувшееся совещание, похоже, переросло в ожесточенный спор – по крайней мере, интонация одного из женских голосов стала довольно резкой… Что там у них происходит-то? Кто ж их знает! Авось чего-нибудь да надумают своими мудрыми головами… Наконец обсуждение вроде бы закончилось, решение было принято. Девушки-спорщицы отвернулись с недовольным и разочарованным видом. Один из старших сразу ушел, на ходу делая публике успокаивающие знаки, а двое других стали энергично объяснять что-то Володе. Вот он понимающе покивал, они дружески потрепали его по плечу, пожали ему руку… и он вдруг отправился в обратный путь, смущенно улыбаясь и недоуменно покачивая головой. Что это значит? Его не приняли?! А того, кто пришел одновременно с ним, впустили в круг! Какой кошмар… Как это могло случиться? Зачем же его тогда вызывали? И что с ним теперь будет?! Прерванное действие продолжилось своим чередом, но Фурман с Соней были настолько потрясены, что уже не могли полностью в него включиться. Да и продлилось оно недолго.
Когда все начали расходиться, в школьных коридорах их нашла Ирина и пересказала то, что она успела разузнать «по своим каналам». Действительно, произошла накладка, которую вряд ли можно было предвидеть и в которой трудно кого-то винить: просто на сборе оказались два человека с полностью совпадающими фамилиями и именами. На Совете был избран девятиклассник, причем, судя по отзывам, очень приличный и активный парень. А о том, что сюда из Москвы приедет его полный тезка, мало кто знал, и как-то связать их вместе, естественно, никому и в голову не могло прийти. Кстати, вот почему Вовка, который, по правде говоря, ничем не заслужил чести быть принятым в коммунары, выглядел таким озадаченным, услышав свое имя. Сам он наверняка сразу почувствовал, что что-то тут не так, и поэтому даже не слишком расстроился, когда все объяснилось. Понятно, что ему было очень неприятно, но в основном из-за того, что этот конфуз случился у всех на глазах. Ну, ничего, переживет, с психикой у него, слава богу, все в порядке, так что можно за него особо не беспокоиться. Нет, в школе его сейчас нет, он куда-то ушел, но это нормально, учитывая обстоятельства: они все тут уже еле стоят на ногах, три ночи без сна, не считая сегодняшней, – так пусть он, бедняга, хоть немного отоспится где-нибудь в домашних условиях перед возвращением в Москву.
Но принятое коммунарами решение все равно казалось Фурману и Соне слишком жестким. Раз уж так случилось, что они вызвали человека и он пришел к ним, то можно было бы и не прогонять его обратно сквозь строй с неминуемым и совершенно незаслуженным позором. Они бы ничего не потеряли, если бы взяли на себя ответственность за эту «накладку» и все же приняли его в свой круг. А человека это, вполне возможно, заставило бы как-то подтянуться, напрячься, чтобы «соответствовать» оказанной ему высокой чести. Но восторжествовал какой-то совершенно бесчеловечный бюрократизм: в списке есть только один с таким именем, поэтому неучтенного «двойника» положено вышвырнуть вон, для него нет места. Хотя вообще-то какое у коммунаров может быть «место»? И зачем им это надо – место в списке вместо живого человека?!
Поздно ночью, когда большинство участников сбора уже срубились и заснули, самые стойкие и ответственные собрались в полупустом актовом зале на что-то вроде открытой конференции, на которой должны были обсуждаться итоги проделанной работы. Фурман весь вечер стоически ждал, получит ли свое продолжение скандал с Машкой, – и вот, дождался. Выглядевший удивительно бодрым Владимир Абрамович Караковский в своем отчетном докладе уделил пару минут неким неназванным людям, которые объявляют себя нашими друзьями и на этом основании грубо вмешиваются в нашу жизнь и критикуют наши традиции и обычаи. В лучшем случае эти люди, сталкиваясь со сложно устроенными вещами и ничего в них не понимая, могут испортить их просто по глупости, а в худшем – злонамеренно пытаются подорвать в наших детях веру в святые для нас ценности. Так или иначе, ничего у них, конечно, не получится. Но если будет надо, мы сможем дать им достойный и сокрушительный отпор. Извините, что задержался на этом вопросе, но мне он представляется очень важным. Теперь о другом…
Из всей московской делегации в зале присутствовали только Фурман и Машка: все остальные уже дрыхли, и даже Наппу, к счастью, не досидел до этого «момента истины». Караковский еще не закончил свой выпад, а Машка уже начала бухтеть что-то возмущенно-насмешливое. Фурман яростным шепотом велел ей заткнуться или уйти – в конце концов, именно за ее бездумную болтовню им и приходится сейчас отдуваться. Это прозвучало непривычно резко (хотя так оно все и было) – Машка даже растерялась. Тут же пожалев ее, Фурман пробормотал какие-то дружеские извинения и оправдания. Она с суровым видом приняла их, но, поборовшись с собой еще несколько минут, сказала, что идет спать. Для Фурмана так было даже легче, потому что он уже принял волнующее решение выступить от имени московской делегации и в дипломатичной форме ответить на прозвучавшие обвинения. Пропустить их означало бы согласиться с этим, откровенно говоря, бредом. Подумаешь, какая-то заезжая девица сдуру кому-то что-то брякнула в коридоре – а на них тут уже целое «дело» завели: «провокация! покушение на наши ценности! дадим сокрушительный отпор!..» Что это такое? Где мы все вообще находимся? И не хватало им еще из-за этой ерунды навсегда рассориться с челябинскими коммунарами! Нет, этот бессмысленный скандал нужно загасить на корню. В конце концов, он только компрометирует коммунаров. Кстати, а ведь Владимир Абрамович наверняка не сам дошел до такой точки кипения… Хотя Наппу и предупреждал, что он ортодокс. Но сначала кто-то должен был рассказать ему об «инциденте» – и, видимо, этот человек так все подал, так расставил акценты, что у многократно битого Караковского возникло ощущение реальной опасности… Кто же это мог быть? И зачем ему понадобилось раздувать из мухи слона? Впрочем, строить догадки было уже бессмысленно – завтра они все равно уезжают в Москву. Важно только то, что такой человек – или такие люди – есть. И именно поэтому теперь следует обращаться не к сидящим в зале, а как бы поверх них – напрямую к Владимиру Абрамовичу, как к высшей и конечной инстанции. Он в школе хозяин, его слово здесь – закон, именно из его уст во всеуслышание прозвучали эти ужасные обвинения, и только он сам может их дезавуировать. Для этого необходимо убедить его, что никаких врагов и провокаторов здесь нет, никто не собирался на него «нападать», – ему это просто почудилось, а на самом деле здесь вообще не о чем говорить. Главное, чтобы он понял, что его реакция была преувеличенной, неадекватной, и чтобы в итоге он в той или иной форме, но публично, при всех подтвердил: вопрос снят, мир с москвичами восстановлен. Для тех, кто его подзуживал, это должно стать ясным и недвусмысленным сигналом.
«Неужели я это смогу? – вдруг удивился Фурман. – С чего это я так расхрабрился? Нагло решаю тут за всех… Ну и ну… А вот смогу! Потому что так надо. И потому что сейчас больше некому это сделать, кроме меня…»
Выбрать подходящий момент оказалось непросто, и он чуть ли не до самого конца заседания продолжал шлифовать в уме свою короткую речь. Когда представителю москвичей наконец дали слово, в зале оставалось всего человек двадцать. Но и это было Фурману на руку – меньше вероятность, что какие-нибудь бессонные ярые защитники местных традиций вдруг решат затеять с ним опасную дискуссию. А его задача – всего лишь благородно поставить точку.
Конечно, все уже плохо соображали, да и о конкретном эпизоде, который послужил причиной грозной отповеди директора, почти никто не знал. Поэтому это очередное выступление с места было воспринято как традиционное гостевое выражение благодарности. И действительно, вначале Фурман высказал твердые и вполне искренние заверения в том, что все члены московской делегации испытывают самое глубокое уважение к легендарной школе № 1, к челябинским коммунарам разных поколений, их давним традициям и уникальному педагогическому опыту. Мы для того сюда и приехали, сказал он, чтобы поучиться у вас, в том числе и вашему отношению к святым для всех нас символам и незыблемым ценностям…
Владимир Абрамович выслушал все эти заверения в лояльности и преданности идеалам с привычной маской расслабленной благосклонности ко всему, что движется. Но никаких проявлений недовольства или недоверия Фурман не заметил. Поэтому, следуя своему плану, он позволил себе продвинуться немного дальше.
– Я вижу, что в этот поздний час в зале остались в основном взрослые люди. Поэтому вряд ли я раскрою для кого-то большой секрет, если скажу, что никто из присутствующих здесь не родился коммунистом.
Это был неожиданный ход, и публика слегка оживилась.
– Впрочем, это относится ко всем людям вообще. Потому что коммунистами не рождаются, коммунистами становятся. И это совсем не просто. Чтобы стать настоящим коммунистом и действительно начать руководствоваться в своей жизни этими великими ценностями, которые требуют от человека предельной самоотверженности, мало вступить в комсомол и даже в партию. До этого нужно внутренне дорасти. И мы, как взрослые люди – тем более работающие с детьми, – хорошо знаем, что это по силам далеко не всем. Поэтому мы считаем, что дети – и не только дети, а просто каждый отдельный человек – должны приходить к этим великим ценностям своим собственным путем, пусть даже в чем-то ошибаясь, а не просто послушно заучивая наизусть и повторяя, когда нужно, «правильные» фразы. Иначе вера в эти правильные ценности ничего не будет стоить, окажется внешней, формальной. А ведь это и есть то, от чего мы все хотели бы уйти в своей педагогической работе. И кому как не нам знать, что юношеские заблуждения, непонимание, даже искреннее неверие – в общем-то естественны и не так страшны, как холодное и расчетливое притворство.
Вот почему для коммунаров всегда был так важен общий круг. Стоя в кругу, каждый видит открытые лица других людей и понимает, что его место среди них не случайно, что они нужны друг другу, несмотря на то что они очень разные.
Спасибо за внимание.
Публика похлопала с неожиданным воодушевлением. Владимир Абрамович одобрительно покивал, но потом бросил на оратора короткий острый взгляд. Возможно, этот взгляд говорил: ну ладно уж, мир, но не забывайте, что вы у меня в гостях…
А никто и не собирался это забывать.
Что ж, атака, кажется, была отбита, и уцелевший боец последнего рубежа с чувством хорошо исполненного – не перед публикой, а просто под небесами – тяжкого долга устало поплелся в свою маленькую смешную казарму, набитую нервно спящими новобранцами…
Наступило серенькое утро. Все еле ползали, посмеиваясь над опухшими лицами друг друга. Да, ощущение – как после Нового года… Праздник закончился.
Дети уже разошлись по домам, и в школе оставались только те, кто должен был заниматься уборкой. Случайные встречные в коридорах понимающе улыбались, как старые знакомые.
Обратно все москвичи решили лететь вместе. Но самолет отправлялся только в девять вечера, и впереди был еще целый день, который нужно было чем-то занять. После полудня явились такие же помятые, но бодрящиеся московские челябинцы и предложили совершить экскурсию по местным достопримечательностям, а потом просто погулять по городу. Уж конечно, это было лучше, чем бессмысленно торчать в опостылевшей всем пионерской…
В школу они вернулись за двадцать минут до отхода автобуса в аэропорт. Остановка была где-то неподалеку, но время уже поджимало, пришлось бежать.
Рядом с автобусом стояла небольшая толпа. Но оказалось, что это свои: коммунары специально пришли проводить гостей. Это было очень приятно, хотя сердитый водитель не дал им допеть в кругу даже одну песню. Что ж, до свиданья, до свиданья! Приезжайте еще! Прощайте!..
Дверь уже закрылась, москвичи с разом погрустневшими лицами стояли в проходе под недовольными взглядами солидных пассажиров – как вдруг коммунары, словно по команде, кинулись с разных сторон к автобусу и прижали к стеклам распахнутые ладони. Внутри все испуганно отшатнулись от окон и на мгновение замерли. Это было маленькое «фирменное» чудо челябинских коммунаров. Не ответить им было невозможно. Все барьеры исчезли… Через секунду водитель дал гудок, автобус медленно тронулся, ладошки отлепились, все прощально замахали…
А Соня внезапно разрыдалась.
Поражение света
1
О том, что у Минаева появилась подруга, Фурман узнал еще осенью. Как-то они с Борькой договорились встретиться на площади у Киевского вокзала, чтобы обменяться какими-то срочно понадобившимися книжками. Было уже довольно холодно, на открытом пространстве задувал пронизывающий ветер. Фурман не рассчитал с одеждой, а Минаев, естественно, опоздал минут на десять. Они быстро завершили «деловую часть» встречи, перебросились новостями и немного помолчали, ежась на ветру и приветливо улыбаясь друг другу. Ну что, разбегаемся? Минаев задумчиво помялся и сказал, что хочет показать Фурману фотографию одной девушки. Да, п-п-прямо сейчас. Нет, ты ее не знаешь. Но мне интересно, что ты о ней скажешь.
У девушки на небольшой домашней фотографи и застыло в глазах странное тревожно-недовольное выражение. Тонкие черты лица, длинные темные волосы.
Красивая… Сразу видно, что из интеллигентной московской семьи (не чета Минаеву и Фурману с их родителями-инженерами). И имя редкое, с мягким «дореволюционным» отзвуком – Ася. На вопрос, почему у нее здесь такой тревожный вид, Борька, усмехнувшись, ответил, что вообще-то она человек с довольно сложной и тонкой нервной организацией и порой остро реагирует на какие-то мелочи. Но п-п-по большому счету это ничего не значит. Она очень умная, добрая и внимательная. И с чувством юмора у нее, кстати, все в порядке. Иногда даже слишком… Ну, еще чего-нибудь скажешь мне о ней?
Если честно, Борьке можно было только позавидовать. Судя по всему, его мучительное одиночество и неприкаянность наконец разрешились чудесной, спасительной встречей! Неожиданно расчувствовавшись, Фурман в знак наивысшего одобрения сказал, что Ася, как ему кажется, по какому-то своему внутреннему напряжению очень похожа на Нателлу. Но Минаеву это сравнение почему-то ужасно, ужасно не понравилось. Он даже скривился: «Ну нет! Вообще ничего общего! Извини, старик, но ты просто ничего в ней не понял». Фурман сообразил, что сгоряча ляпнул что-то не то, и начал слабо оправдываться. Но было уже поздно. Отобрав у него свою драгоценную фотографию, Борька замкнулся, и через пару минут они распрощались. «Ты на меня не обиделся?» – отчаянно спросил Фурман. «Да ну, что ты! Это все ерунда. Ну, пока!»
Фурман был смущен, расстроен и даже слегка обозлен этим взаимным непониманием. Всю обратную дорогу он мрачно следил за двумя или тремя голосами, возбужденно аргументировавшими в его голове. А дома решил, что разумнее всего будет махнуть рукой на этот досадный эпизод и жить дальше.
Об Асе он Борьку больше не спрашивал.
* * *
В начале нового года домашняя ситуация Минаева ухудшилась, и он попросился пожить неделю у Фурмана.
Из дневника Фурмана
1977
22 января
Приехал Борька Минаев, и я снова почувствовал свою неполноценность. Видимо, это потому, что мы с ним постоянно не общаемся, а у него очень своеобразный взгляд, он все воспринимает совсем не так, как я. И, кроме того, он, кажется, очень глубоко и сильно чувствует – это его художническая природа, – причем чувствует глубоко там, где я почти ничего не ощущаю, от этого-то мне и завидно. А он таки сильный и чрезвычайно интересный друг мой, и нам хорошо бы взглядывать иногда вокруг глазами друг друга.
26 января
Приехал Минайка.
Поговорили хорошо.
Заночевали.
28 января
Приехал Борька, привез новую пластинку Окуджавы.
Поехали с ним в редакцию на такси. Там Наппу с реинкогнацией (переселение душ), идеей комиссарских бригад и «поп-сборов».
Потом поехали к болящему Морозову обсуждать. Закопались в современных революционных процессах, весьма интересно и даже плодотворно.
Так и не решившись уйти из дома, Минаев приезжал к Фурману через день и несколько раз оставался ночевать. Потом его на две недели вытеснил неправильно страдающий Максимов. Но по выходным они встречались то у Борьки, то у Наппу, то у Морозова и вели бесконечные споры о будущем.
У Фурмана не было никаких сомнений в том, что с помощью научного разума можно в принципе разрешить любые социальные и экономические проблемы. Вопрос заключался только во времени, которое для этого понадобится. Ну, и еще в определенном «сопротивлении материала», то есть упрямом отсутствии у большинства людей интереса к саморазвитию и изменению себя. Но временем, в принципе, можно было и пренебречь: раньше или позже произойдет неизбежное, при нашей жизни или через тысячу лет – с точки зрения человечества особой разницы нет.
Примерная схема перехода к разумному и справедливому общественному устройству была известна:
а) революция;
б) создание органов народного самоуправления, регулярно переизбираемых сверху донизу (кстати, именно такая модель худо-бедно использовалась в коммунарстве);
в) постепенное отмирание государства и решение наиболее острых социально-экономических противоречий (бедность, неравенство, эксплуатация, войны и проч.)… Ну а там уж люди будущего, наверное, как-нибудь сами разберутся, когда придет время.
Что же касается современных людей и понимания того, почему они действуют и думают именно так, а не иначе, то ограничиваться классовым подходом, разработанным к тому же сто лет назад, было уже невозможно. Мир сильно изменился, поэтому настоятельно требовалось творческое развитие марксистской теории, тем более что закономерности и механизмы группового поведения в ней были изучены очень слабо, не говоря уже о важнейшей проблеме личности. И тут научная мысль пока явно уступала по глубине проникновения художественной литературе. Но как сегодня практически работать с людьми, как помочь им развернуться лицом к свету, бьющему из будущего, все равно было не очень понятно. Вот ведь и любимый всеми дон Румата из «Трудно быть богом» Стругацких не справился со своим заданием…
Все это время Фурман сосредоточенно перечитывал самиздатовский перевод «Цитадели» Экзюпери. Саму книжку ему вскоре пришлось вернуть Наппу, но он успел выписать из нее множество цитат и потом несколько раз перепечатал свой «конспект» на машинке (получилось 14 страниц без интервалов!) для незамедлительного распространения среди окружающих. Конспектировать было легко, потому что никакого единого сюжета в этой книге не просматривалось, а весь текст состоял из отдельных коротких фрагментов. По форме это было что-то вроде записок безымянного древнего правителя-мудреца, а по сути – мужественный самоотчет философа, обладающего абсолютной властью над людьми своего небольшого народа, о попытке терпеливого преодоления того самого «естественного сопротивления материала», о которое, по-видимому, споткнулись в начале ХХ века и коммунисты, слишком торопившиеся построить новое общество и придать возвышенный смысл разрозненному человеческому существованию. Больше всего Фурмана поражало как раз напряженное внимание условного автора этих записок к личному пути едва ли не каждого из его людей и заботливое вплетание всех этих путей в единое целое. Сам народ и его история, можно сказать, лепились им буквально вручную. Однако извлечь из имеющихся обрывков недоступного тысячестраничного текста искомую «формулу мудрости» или некую «технологию духовного строительства» Фурману не удавалось. Зато его заразил необычный стиль речи повествователя. Эта речь была эпически отстраненной – и в то же время наполненной огненной страстью великого «ниспровергателя основ»; она опиралась на архаические образы – охоты, битвы, возделывания почвы, строительства, игры на музыкальных инструментах, лепки из глины, – взятые из древнейших человеческих занятий, но осязательно знакомые каждому по детским играм; а главное, эта речь своим постоянным обращением к невидимому молчащему «хору» властно брала читателя в свидетели и даже соучастники выбора, совершаемого у него на глазах предельно опасным героем-рассказчиком…
Из дневника Фурмана
13 февраля
Утром разбирал кучу архивных бумажек. Очень интересно.
Позвонил Минаеву: у него Морозов и Слава Лапшин, думают о ШЮЖе.
Поехал туда с бумажками.
Были Сонька и Лена Якович, говорили до 9 и спорили о «Пресс-клубе». Я выступал с негативных позиций: все это дела без увлечения.
Пели под Сонькину гитару.
Я остался, принялись разбирать и смотреть бумажки. Около часу остановились на каких-то Ольгиных записях и до трех говорили о Борьке. Я таки, кажется, в очередной раз докопался до его стержней и силовых линий.
Утром он куда-то уходил, а я до двух рылся в разных его бумажках: стихи (Галич?) и проч. Когда Б. вернулся, взял у него «Эстетику нигилизма».
15 февраля
Приедет Минаев? → 16 февраля
17 февраля
А Минаев так и не приехал.
Вдохновленный чтением «Цитадели», «Эстетики нигилизма» и обнаруженных у Минаева «диссидентских» бумажек, а также недавними разговорами с Наппу и Морозовым о педагогике и революционных процессах, Фурман за эти «пустые» дни неожиданно накатал Соне огромное послание.
16–17 февраля 1977 г.
ПИСЬМО НАМ
Не смею сомневаться, но на всякий случай —
тьфу-тьфу-тьфу! —
здравствуй, бурливая!
Овладела мною перманентного свойства тревога. Да такая, что я в задумчивости начал читать известную нам понаслышке «Эстетику нигилизма» Ю. Н. Давыдова. С увлечением добрался до середины введения и решил, что первоначально хорошо бы собрать свои собственные наблюдения о процессе, который можно назвать «революционным левачеством вокруг нас».
В этой главной теме мне интересны некоторые аспекты:
Время: сегодня, чтобы не прозевать завтра.
Место действия: близко – Город, подальше – Страна.
Объекты: существующие и возникающие нелегальные организации и сообщества, называющие себя «революционными» и готовящие изменения нашего государственного строя или части его.
Субъекты: друзья мои, имеющие – в той или иной мере – отношение к зарождению и деятельности указанных тайных обществ, а также я сам – в силу, во-первых, необходимости, толкающей меня на путь преобразования осознаваемой мною действительности, а во-вторых, в силу дружбы нашей, внушающей мне беспокойство за судьбу моих товарищей и друзей.
Отворю одну из чугунных крышек моей кондовой души. На подобные явления у меня с самого начала определения моего в координатной сети реальности сложился грубо однозначный взгляд. И нельзя сказать, что я был и есть совсем посторонний в этих делах. Однако безоговорочное отрицание мною левачества некоторые из спорящих объясняли – совершенно бестактно и несправедливо – моим будто бы идолопоклонничеством перед бытующей официозной моралью, привитым мне в безумной нашей средней общеобразовательной школе. Если бы!
Дело же в том, что встречавшиеся мне до сих пор воплощения левацких идей неизменно склонялись к неизбежности применения террора и локального насилия. Причем, что очень важно, ни разу не была представлена мне хоть какая-нибудь положительная и хоть сколько-нибудь разработанная программа будущих преобразований, перспектива, теоретическое обоснование и пр. на убедительном и осуществимом уровне – так, одни идейки. Но известно: есть идейки и идейки.
Я никогда (почти никогда) не отвергал неизбежности революционного насилия, хотя мне глубоко приятны и привлекательны пацифизм, некоторые христианские и прочие возвышенные идеи. С некоторой натугой я даже согласился бы принять вегетарианский сан и посвятить свою жизнь жеванию травы…
Но групповой террор сегодня, здесь, когда всеми признано отсутствие действительно революционных сил, когда нет не только ясной общей программы или манифеста, но даже и отдельных лозунгов, понятных многим… – такая деятельность представляется мне отвратной.
Конечно, вопрос о терроре возникает лишь в очень немногих головах. Большая часть активных действий приходится сегодня на область культуры и ограничивается ею. И поистине, такая революционно-культурная или культурреволюционная суета имеет место в нашей жизни, и пребольшое. Можно посмотреть движущие силы происходящей суеты, но это как раз и описано уже во введении у Давыдова, правда, относительно Запада.
Речь же идет о единственной Сестре нашей – России.
Как-то – еще светло было, но уже не ярко, – возвращался я домой. Выпрыгнул из переполненного автобуса, прошел несколько шагов, и вдруг меня охватило предчувствие. Передо мной была снежная полоса с узкой тропинкой, по которой ходит множество людей, но идти приходится по одному утоптанному следу: нога сюда, другая – туда… На глазах вечерело, темнело. Снег возле дорожки этой и внутри нее был грязно-рыжего неряшливого цвета, какой-то расхлябанный и разметавшийся, как родная и почти, кажется, нелюбимая женщина во сне, на которую глядишь и глядишь под утро и вспоминаешь привычные мятые желтые слова, которые будут сказаны тобой потом, уже скоро… И эта неряшливая, в сальных пятнах, грязно-рыжая дорожка среди блеклого снега неожиданно перевоплотилась во мне: там, в снегу, как пьяный человек, валялось наше ощущение России – не старой еще, но потасканной и растрепанной бабы с добрыми полоумными глазами, лихорадочным румянцем и блуждающей улыбкой на крупных мягких губах… и от шири вокруг щемит сердце, и тянется медленный всепрощающий звон по морозной тишине. Слово – Жалость…
Мне говорят, что все повторяется. Поэтому и надо относиться так (т. е. с точки зрения революционной целесообразности).
Но если все повторяется (хотя не круг же должен быть, а восходящая спираль!), так ведь целый век все клеймили групповой террор и объясняли друг другу ложность и неэффективность этого направления подготовки революции. Получается, что нет никаких выводов из опыта. (А неизбежность возникновения мысли о терроре внутри такого идейного тупика ясна вполне, она подразумевается постоянно, пусть и прикрываясь пока лозунгами культурной революции.) И кто-то все равно будет готовить революцию (уже неуместное слово) бомбами и выстрелами. Но отчего же все так рвутся к оружию? Это глупо и вредно, потому что кровавые шоры на глазах мешают увидеть другой путь. А «революционность» легко оборачивается контрреволюционностью.
Кто-то с легкой завистью скажет: «Мальчишество!» Ох, нет, не мальчишество уже – мальчишество было в прошлом веке, – а обыкновеннейшая пьяная драка «по справедливости». И буйно, и весело, и «за правду постоим!»…
Но друзья-то мои – что с ними?
Перебирал я как-то из скверного любопытства бумажки на одном столе. Вот известные запрещенные стихи, перепечатанные на машинке, – хорошие стихи. А рядом еще какие-то стихи, не знаю чьи, – паршивые. Вот какое-то письмо-меморандум о задачах и формах борьбы – беспомощная глупость и хриплый шепоток: «Запад нам поможет!» Да было уже такое – продавали!.. А вот стопка листочков, исписанных знакомым почерком: сверху – сценарий восстания (весело!), дальше – историческое что-то, с «аналогиями» (черт, как пишет!), а там где-то еще наверняка – планы тайных обществ, списки заговорщиков (ох-ох!) и бесстрашные слова, которые, видимо, нужно бросить при случае в лицо следователям…
На столе валяется детский пугач. Книжный шкаф набит пухлыми строгими книжицами с дичайшими научными названиями, типа: «Нытье как перманентная констатация деструктивных процессов без попыток повлиять на их ход» (цитата из Наппу). Здесь же труды классиков и основоположников. Эх, читать не перечитать!
И уж как водится – бесконечные ночные споры, идеи, проекты в густом сигаретном дыму…
– Мне хочется, чтобы завтра (завтра среда?) была революция.
– А давай! Собираемся к шести на «Проспекте Вернадского». Идет?..
Гусарики, кавалергардики вы мои, лицеисты с журфака!
Да это ведь игра простодушная с историческими последствиями!
Одни играют на гитаре, другие играют пером, третьи – «пером» в бок… Ха-ха-ха!
Спросите меня сию минуту: «Какова главная черта теперешней молодежи?»
Кричу: отсутствие чувства исторической ответственности!
Предположим, в ответ на мои эмоциональные наскоки кто-то спросит:
– Куда идти тем, кто послушает тебя? Уж не посоветуешь ли ты такому своему товарищу нагрузиться общественными поручениями по месту работы и проводить разнообразные мероприятия?
– Пусть те, – скажу я, – которые не могут остановиться, поют и выдумывают свое. А мы, почистив наши белые перья и прихватив с собой гитары, договоримся весело и ласково с детишками-ребятишками – вон они крутятся под ногами. И петь и писать будем не чтоб прославиться, а для хороших людей. Не примемся спорить и грызться: «кому нары, кому сборы», не употребим даже циркульного слова «педагогика» и подушечного «воспитание» – нет, ни за что! А просто сядем на полу и попоем вместе – на черта нам колющее под ребро слово «методика»? Кто не умеет сидеть на полу? Кто кого заставляет воздействовать, зажигать, подсовывать мыслю? Ты просто играй все время, пой, а мы будем тебе подпевать. Кто не хочет играть? И кто не хочет, чтобы ему подпевали? Ты пиши свой роман, строй свой город, играй на скрипке один в пустом зале. Разве я тебя подавляю, или вот он тебе мешает, или она стучит тебе в стену? Может быть, мы все вместе закрепощаем и гнетем тебя, когда ты играешь и поешь, а мы тебе подпеваем негромко? Я не умею рисовать, но я знаю слово, и я скажу тому, кто станет грязнить твои холсты, я ему открою глаза, и он увидит, что твои холсты прекрасны, а у тебя появится еще один друг. Ты хочешь, чтобы все молчали, когда гудит орган, – я научу их молчать и слушать, потому что я знаю слово, а ты знаешь тайну клавиш. И если ты хочешь пролежать весь день на диване лицом к стене, никто не станет тебя щекотать или громко ронять на пол ботинки с усталых после работы ног, потому что я научу их охранять тебя от глупости. А ты играй, пой, рисуй, пиши, прыгай, женись – разве кто-нибудь стесняет тебя или кричит на тебя и заставляет плясать, когда ты хочешь умереть? И если ты обидишь кого-то – разве не поможет тебе твой друг в твоей беде? Или кто-то не станет с тобой мириться, а захочет враждовать с тобой?
О чем же мы спорим столько времени с такой яростью и болью?
«Горе мне, я обидел человека!» – вот что скажу я.
Я ведь не призываю: «Давайте преследовать и уничтожать членов тайных обществ и заговорщиков!»
Я говорю: «А может быть, попробуем вот так?.. Может быть, так получится радостней и звонче? Попробуем! Коли не выйдет – не обидимся, а споем песню; отдохнем – еще чего-нибудь попробуем».
И вот я кое-чего не понимаю, а хочется.
И я прошу у всех советов.
При случае готов также вступить в общество.
Но я – за мирное сосуществование.
Стану читать Давыдова и другие полезные книжки и тогда поумнею очень.
Ура!
До свидания среди бумажек, терпеливая и добрая Соня!
Будущий эстет и нигилист товарищ Фурманель
Не зная, что ответить на этот неожиданно съехавший на нее горный оползень, Соня без разрешения дала почитать фурмановское послание «умному человеку» Морозову.
(Ну, там ведь у тебя стоял заголовок «Письмо нам», вот я и решила, что он тоже один из «нас», – я была не права?..) Впрочем, у них давно было принято пускать все бумажки по кругу.
Вскоре состоялось короткое обсуждение этого, как сказал Морозов, «странного текста». Фурман, естественно, завелся и принялся чересчур жестко настаивать на каких-то школьных азах марксизма, после чего с грустной иронией отметил в своем дневнике: «Морозов назвал меня, покачав убежденно головой, ортодоксом».
А он-то воображал, что Экзюпери его полностью изменил, дав ему новый, неотразимо убедительный язык… Коммунизм тоже был таким «огненным» языком. Но он позволял говорить лишь о каких-то самых общих вещах, а для описания конкретной человеческой жизни (если только это не была завидно простая и самоотверженная жизнь «пламенного революционера») его явно не хватало. Понять себя или другого человека во всей его сложности с помощью этого грубовато-требовательного языка было невозможно. Значит, оставался только роман.
Конечно, Фурман догадывался, что сам он не тянет на героя большого, серьезного современного романа – его личный опыт был полон избыточных безобразных подробностей, а воля слабовата для жизнеутверждающего пафоса, необходимого настоящему герою. Если ставить себя – такого, какой ты есть, со всем «тайным» знанием о себе – в центр повествования, то это ведь будет какая-то совсем другая история…
Ну а кого тогда можно взять в «герои эпохи»? Брата Борю? Наппу? «Мятущегося» Морозова?
Воскресным утром 20 февраля Минаев позвал Фурмана к себе – его родители куда-то уехали, оставив на него шестилетнего брата Мишку и целую кастрюлю свежеиспеченных пирожков с картошкой. Впрочем, Фурман оказался не единственным приглашенным – дверь ему открыл Макс. Он с усмешкой объяснил, что Минаев только притворяется добрым, непрактичным человеком – и, надо сказать, до сих пор это у него неплохо получалось. Но сегодня он полностью разоблачил себя: ему срочно понадобилось уйти из дома на пару часов, и он не придумал ничего лучше, как зазвать к себе их обоих под каким-то надуманным предлогом, чтобы они посторожили Мишку вместо него.
– А обоих-то зачем? – удивился Фурман, не успев перестроиться.
– На всякий случай. Для надежности, видимо. Он же, как мы теперь знаем, очень практичный человек.
– А про пирожки он тоже придумал?
– Нет, пирожки, к счастью, настоящие. Я их даже успел попробовать. Действительно вкусные!
– Ты их уже все слопал, что ли?
– Не волнуйся, там их много.
Мишка начал теребить Фурмана, требуя к себе внимания (видно, он уже понял, что от Макса толку мало). Наконец он не выдержал и, вцепившись в фурмановскую руку, без слов потянул его за собой – показывать свои богатства.
Когда церемония представления местных героев и осмотра бедноватого игрушечного «хозяйства» завершилась, Мишка деловито спросил тоненьким голоском: «Ну, чем мы теперь займемся?» Ничего не поделаешь, надо было включаться, и Фурман предложил ему старый, проверенный ход: построить в гостиной самолет или подводную лодку. Оказалось, что Мишка о такой возможности никогда не слышал. С Борей они, по его словам, иногда играют в домино, а еще в шашки и настольные игры. Хочешь, принесу? Спасибо, не надо. Итак, пусть это будет у нас подводная лодка.
К изумлению Мишки, в дело шло все, что попадалось на глаза: обеденный стол, стулья, диванные подушки, покрывало, складная металлическая лестница из чулана (вот это классно!), настольные часы и два будильника (нам ведь нужны «приборы управления»?), большие кастрюли (это будут «топливные баки»), лыжные палки, «спецодежда» для предстоящих водолазных работ… Мишка лихорадочно рыскал по комнатам в поисках еще чего-нибудь полезного для их грандиозной стройки. Макс наблюдал за всей этой суетой, сидя в кресле и скептически покачивая головой:
– А вы потом все эти вещи аккуратно вернете на свои места или так и оставите до прихода родителей?
– Эй, там, на берегу, спокуха! У нас всё под контролем.
– Ха-ха-ха, – заливался Мишка, – «на берегу»! Он – «на берегу»! Если он на берегу, то где же тогда мы с тобой?
…И вот сложнейшее двухпалубное сооружение готово к отплытию. Фурман рассчитывал, что после его подробного инструктажа Мишка легко войдет в роль капитана и отправится на поиск воображаемых приключений, а они с Максом смогут поговорить о своих делах, но мальчишка оказался морально не готов к самостоятельному плаванию. Пришлось совершить с ним на пару короткий демонстрационный выход в открытое море и несколько погружений с научно-исследовательскими целями. Казалось бы, все уже было понятно и по два раза отрепетировано: порядок действий, когда и какие правильные капитанские слова произносить, на что нажимать, как вслух комментировать все происходящее и чем заниматься под водой аквалангисту, – но Мишка продолжал твердить, что один он не сможет, упрямо отказываясь даже попробовать. В какой-то момент он заявил, что больше не хочет играть в подводную лодку. Может, сыграем лучше в домино? Я принесу! Подожди, так ты вообще не хочешь в это играть? Не хочу. Зачем же мы тогда все это нагородили? Не знаю. Фурман расстроился. А тут еще, к Мишкиной предательской радости, от подводной лодки вдруг сами собой отвалились несколько важных конструкций… В общем, опытному воспитателю, потерпевшему позорное поражение, не оставалось ничего другого, как начать безжалостную охоту за этим мелким, юрким, восхищенно визжащим существом, закидывая его подушками. В самом начале этой новой рискованной игры Макс со снисходительной миной удалился в Борькину комнату («Предупреждаю: если вы тут что-нибудь случайно сломаете или разобьете, чур, я не виноват…»).
Однако все было под контролем: когда умаявшийся мальчишка повалился на пол и стал уже без всякого повода захлебываться от смеха, «дикая» часть развлекательной программы была сразу же остановлена. Пора было всем подкрепиться чаем с пирожками. Мишку отправили умываться холодной водой, Макс пошел на кухню готовить чаепитие, а Фурман тем временем привел в порядок гостиную.
После еды Мишку усадили рисовать. Ну, теперь вроде бы можно было спокойно выдохнуть. Но странный маленький Минаев с пугающей сосредоточенностью начал каждые три минуты, как какой-то станок-автомат, выдавать готовую продукцию. Во избежание возможных эксцессов мудрому руководству пришлось заложить в него более сложное многоступенчатое задание. И больше он уже никого не беспокоил.
Чтобы разговаривать свободно, Макс с Фурманом перешли из гостиной в тесную Борькину комнатушку.
Беседа двух писателей немного повертелась вокруг общих проблем писания, а потом соскочила на неправильные и в целом необъективные эстетические и жизненные взгляды Фурмана (который к тому же недавно мягко раскритиковал очередную максимовскую повесть). Фурман уже начал слегка горячиться, но тут из прихожей донеслись звуки, говорившие о возвращении кого-то из хозяев.
– Глянь-ка на всякий случай, кто там, – попросил Фурман (ему надо было сбросить напряжение).
Было слышно, как Мишка что-то радостно попискивает и ему отвечает добрый голос Минаева. Ладно, можно выходить. В дверях Фурман столкнулся с Максом.
– Я думаю, стоит тебя предупредить: Борька вернулся не один.
– А с кем же он? – удивился Фурман.
– С ним пришла Ася. Ты ведь с ней уже знаком?.. Слушай, что это с тобой? Ты мне что-то не нравишься. Тебе, наверное, лучше присесть.
ТА САМАЯ АСЯ.
У Фурмана вся кровь отхлынула от головы.
Проклятый Минаев, хоть бы предупредил…
– Эй, друзья, вы чего там от нас прячетесь? Ну-ка, выходите! – позвал Борька.
– Ну как ты? Тебе уже немного получше? – с надеждой спросил Макс.
Фурман слабо кивнул.
– Хорошо, а то ты меня ужасно напугал. Я подумал, что ты сейчас хлопнешься в обморок… Уже идем! – крикнул Макс. – Еще минуту!
– Мы вас ждем!
Макс посоветовал Фурману с силой помассировать виски и уши: если увеличить кровообращение, то его болезненная бледность будет не так бросаться в глаза. Пока Фурман приводил себя в порядок, выяснилось, что Асю давным-давно знают все, кроме него, поскольку они вместе учились в ШЮЖе.
– Так это ты на нее так среагировал? Ну, Фурман, ты даешь! Вообще-то на тебя это не очень похоже… Черт, что за день сегодня – сплошные открытия. Бр-р! Между про чим, ты и меня заразил своей дурацкой истерикой! Меня вон аж затрясло всего. Причем, в отличие от тебя, – без всякого реального повода. Ну, так что, ты уже готов идти? А то становится неудобно перед Асей. Она может подумать, что это мы от нее прячемся, хи-хи-хи…
По-мальчишески потолкавшись в коридоре, кому идти первым, они наконец предстали перед Асей, похожие на двух нелепых длинноволосых клоунов – высоченный тощий Макс и мелкий, бледный, обливающийся пóтом Фурман… о котором эта чудесная незнакомая девушка, по ее словам, слышала много хорошего, причем от разных людей. «Да? Я тоже много хорошего о вас слышал…»
Ася оказалась совсем другой, чем на той злосчастной фотографии. Ростом она была чуть-чуть выше Фурмана. И в ее глазах не было никакой тревоги – только смех, ум и любопытство. Она по-свойски подкалывала зануду Макса, в сердцах нежно называла Борьку «гадом» («Ну какой же ты все-таки гад, Минаев!..») и первой начинала хохотать над «сложносочиненными» остротами скованного Фурмана. А после второго бокала сухого вина, которое Минаев торжественно выставил на стол вместе с остатками пирожков, она ответила на очередную ядовитую фурмановскую шутку таким метким ехидным замечанием, что все чуть не попадали со стульев от смеха. В общем, Фурман все больше укреплялся в мысли, что Борьке не просто повезло – этому дураку вот так, ни за что ни про что, можно сказать, досталось самое настоящее, редчайшее сокровище.
Макс ушел в восемь, а в десять вернулись минаевские родители (Мишку незадолго перед этим удалось уложить в кровать). Фурман уже начал тревожно примериваться к тому, что ему придется провожать эту блестящую и все еще совершенно незнакомую девушку, но, к счастью, Борька сказал, что отвезет ее домой на такси. Кстати, она живет не так уж далеко от Фурмана – по другую сторону от «Ждановской», поэтому они могут прихватить его с собой.
В дороге праздник общения продолжился. Сначала они ненадолго заглянули к Асиной однокласснице и взяли у нее сломанную, но еще могущую быть починенной гитару, на которой Борька твердо собирался научиться играть (Сонька же смогла!). Потом, опять же на такси, доехали до Аси (она была единственным ребенком в семье, и родители у нее оказались на удивление молодыми); попили чаю, и вдруг на часах оказалось половина первого. На метро Борька уже явно не успевал, а денег у него больше не осталось. Одалживать их у Асиных родителей он категорически отказался. Но если выбежать прямо сейчас, то еще можно было попытаться добраться до фурмановского дома: на автобусе до «Ждановской», там перебежать по подземному переходу на другую сторону и сесть, если повезет, на последний троллейбус – все очень просто. Они успели.
Из дневника Фурмана
24 февраля
Морозов подарил Наппу «Тайные общества». Поздно вечером поехали с Морозовым к Минаеву. Я остался, говорил о себе.
Взял Трифонова «Нетерпение».
В следующие выходные большая компания отправилась с ночевкой в Переделкино – надо было помочь маме Вальки Юмашева перетаскивать уголь, которым она топила свою избушку.
Из дневника Фурмана
27 февраля
Утром ходили на кладбище.
Потом набирали уголь, ели, говорили с Морозовым, балдели, издавали приказы. Под конец пели.
Потом хорошо пели в электричке.
На мою (подаренную дедушкой на день рождения) десятку, вернее то, что от нее осталось, поехали на такси к Асе.
Сидели у нее, ели. Читал морозовский детектив.
Поехали к Борьке. До полтретьего говорили о «Парусе» – хорошо.
28 февраля
Борька проспал первую лекцию.
Я пытался организовать Морозова на помощь Борьке в делании курсовой на завтра (!), но он так тоскливо согласился, что я не стал его мучить. Бедный Борька!.. Надеюсь, что его не выгонят.
Кончил «Эстетику нигилизма».
Принялся за «Нетерпение».
1 марта
важнейшие дела дня
Весна.
Отправить телеграмму Нателле.
Пойти в магазин.
Отправил телеграмму.
В магазине нет ничего.
Дочитывал «Нетерпение» со все возрастающим волнением. Удивительная книга. В конце чуть с ума не сошел: воздевал руки и сжимал ими голову, страшно было, хотелось выть.
Приехал Макс, привез билет на вечер Арсения Тарковского. Проговорили до двух.
Устал я уже ложиться поздно.
2 марта
Конечно, перелопатил мне все утро, я-то хотел писать.
Читал «ЛГ» (Шаталова вырезать), перепечатывал архивные бумажки Наппу – испортил листов больше, чем вышло, а Макс скучал вокруг.
Около двух он ушел, я прибрал комнату, разболелась голова.
В семь часов, только сел к столу с ручкой, вошли Борька с Асей. Я их кормил, до девяти посидели, ушли, а я влез на свой стол и смотрел в темноте в окно.
4 марта
Тарковский. Козаков.
На обратной дороге от грусти решил остаться на «Ждановской» и, распевая, дожидаться Борьку с Асей из универа. Но через 40 мин. увидел одну Асю, побежал за ней после пятисекундного колебания, от нее позвонил Борьке и помчался к нему от «Ногина» на такси почти без денег.
5 марта
Вечер Аронова в «Музе» Храповицкого.
Проводили с Борькой Асю и сидели на скамейке.
6 марта
Поехали в Переделкино с Сонькой и Морозовым, потом прибыли Макс и Борька.
Сонька привезла пленку Ланцберга – есть прекрасные песни и стихи.
Валькина мама стала делать смешных кукол – нас самих.
Вечером играли в вопросы «каждый – каждому». Ночью тянулось разбирательство отношений (Сонька спала). Как-то Морозов откликнется на меня?
7 марта
важнейшие дела дня
РОДИТЬСЯ
Родить ся.
Морозов подарил подборку стихов Бродского, Сонька – замочную скважину.
Ночью мучили писателей песнопениями и парадами.
Утром Морозов уехал.
Слушали Ланцберга. Пели под Сонькину гитару. … Ночью приехал ко мне домой Борька.
9 марта
…Минаева и Дубровского исключают из университета (после пожара их поймали с сигаретами).
10 марта
Утром позвонил Наппу: Ленка сказала, что он отказался вытаскивать Минаева, т. к. Борька, получается, не хочет учиться как следует.
Вот ведь как: Наппу сам взял на себя ответственность, решение за Борьку. Он поступил по высшей справедливости, это соломоново решение и рассуждение. Но ведь теперь Борька может сломаться – в результате действия Наппу (отказ от действия есть тоже действо) – и вина будет в этом Наппу. Т. е. нельзя просто отказать, он теперь должен о нем печься.
Запись Бориса Минаева,
сделанная на пишущей машинке Фурмана
Таким образомна сегодняшний день мы имеем
Я ушел (или не ушел) из дома…
Получая неаттестацию по языку в этом месяце – вылетаю из журфака и ухожу в армию осенью (либо в июне)
Завтра я могу: либо вернуться домой либо уехать всеми правдами и неправдами в переделкино.
Причины чтобы вернуться таковы: не накалять обстановку, не бросать родителей чтобы потом в случае не дай бог чего не сойти с ума со стыда
Поскольку уйти по настоящему не получается то настроиться на образ жизни «не дома» все равно не удастся – может полететь учеба а дома будет окончательный взрыв ненависти.
Причины чтобы вырвать себе эту неделю таковы:
Отрешение мне необходимо до зарезу
Нужно испытать: а могу ли вообще жить без контроля над собой – сейчас ответ на этот вопрос для меня не совсем ясен
Цитируя А.Морозова: «В третий раз мне могут вообще не поверить»
Я возвращаюсь с нелюбовью к родителям совершенно не обретший никаких новых установок, а кроме того возвращение дает им основание попросту считать меня капризным негодяе м и через все радости это весьма скоро проступит. То есть их установка на меня как на человека которого нельзя не контролировать которому нельзя доверять не изменится.
Все эти соображения необходимо взвесить и решить как быть.
Б.Минаев
10 апреля 1977 года.
А. Морозов – Б. Минаеву
Старик!
Наверное, сейчас лучший вариант таков: ты возвращаешься домой. Понимаешь, если ты вернешься и сделаешь невозможное – выправишь свое положение титаническими усилиями, то, естественно, я и, думаю, все остальные станут относиться к тебе чуточку лучше, чем сейчас. То, что ты уходил дважды и не ушел, тебе простится. Я ведь и сам в десятом классе был в такой ситуации: бросал школу, уходил из дому, потом вернулся, но так и не смог с собой совладать, – в результате нечестно кончил школу, что мучило меня достаточно долго.
Не мучайся в этом смысле. Не верят тому, кого не любят. Вот если бы Макс оказался в такой ситуации, я бы, конечно, изображал презрительную мину (что то же, кстати, было бы неверно). Но я, в общем-то, люблю тебя, и эти твои мытарства слишком малы, чтобы я изменил свое отношение к тебе. Речь идет не о предательстве, не о подлости – о кризисе. Кризис – явление, увы, частое. Я, вон, в Челябинске! Что ж, меня казнить теперь, что ли!
Но если ты вернешься сейчас, то, видимо, не оградишь себя от посягательств родителей. Конечно, шантажировать нехорошо, но сейчас ты имеешь на это право. Сейчас неправы они. Они – слепы. А поводырем нельзя избирать слепого.
Поэтому, может быть, неделю тебе и стоит промотаться! Тебе, наверное, им надо доказать, что ты можешь.
В общем-то я знаю, что мобилизовать себя на систематическую (а не авральную) учебу неимоверно трудно (может быть, от этого я и сбежал). Понимаешь, если ты сейчас (именно сейчас!) не сломаешь себя, все пять лет для тебя станут пыткой. Причем иезуитской. И когда-нибудь ты все равно этого не выдержишь. Жить так – это значит все время висеть в воздухе в ожидании Отчисления. И в этом психозе растратишь всего себя.
Понимаешь, если ты сумеешь сделать то, чего не смог и, видимо, никогда не смогу я, то, естественно, я буду уважать (дурацкое слово!) тебя куда больше, чем нынче.
Морозов. 10 апреля 1977 г.
Приложение
Ты сейчас для меня – я сам, каким бы я мог быть, если бы остался на журфаке. Я ушел еще и потому, что слишком хорошо помнил школу, а там было очень больно. И когда я заметил первые признаки нехотения учиться (т. е. то самое отношение к учебе, что и в школе), я испугался. Жить еще пять лет так, как я прожил в школе последние два года, я больше не мог. Просто свихнулся бы.
Так вот. Когда тебя месяц назад выгоняли «за курение в неположенном месте», ты был прав, а Наппу, который отказался тебя защищать, – пожалуй, был неправ.
А теперь – это важно! – все иначе. Та ситуация к этой имеет косвенное отношение.
Сейчас ты не можешь учиться. В тебе явно присутствует элемент нехотения. А это страшно, в общем-то. Ведь учеба в этом случае – не имеет смысла. Имеет смысл только осознанная работа. Насилие только калечит.
Сейчас ты уже остаешься в вузе не столько потому, что тебе хочется учиться, сколько потому, что тебе не хочется в армию.
Мне это представляется не совсем честным перед самим собой.
Именно на этом уровне начинается распад личности. Ты стоишь перед этой опасностью.
Можешь ли ты сломать свои установки? Можешь ли ты осмыслить учебу как жизненно важную для тебя именно в данный момент? Можешь ли ты сказать, что именно в этом ты реализуешься наиболее полно?
Если нет, то ты не готов как личность к учебе.
В этом случае тебе надо – вопреки всему! – уходить с журфака.
И если бы можно было проиграть все сначала – я все равно бы ушел с журфака!
2
Однажды в начале марта, после вечера, проведенного у Наппу, небольшая компания направлялась в сторону метро. По дороге все продолжали обсуждать очередную напповскую идею, как можно, слегка схитрив, абсолютно легально обойти бюрократические препоны власти и ненасильственными методами ускорить наступление «светлого будущего». Сомнения вызывало не только это якобы миролюбивое хитроумие, но и само «светлое будущее». В завязавшемся споре кто-то привел в пример трагически двусмысленный опыт революционеров-народовольцев, которые делали свой выбор в похожую эпоху «безвременья» (к этому моменту уже многие прочли книгу Юрия Трифонова «Нетерпение»), и после этого разговор как-то сам собой перескочил на возможную тактику современных «городских партизан». Бросив взгляд на подземный переход, Фурман с усмешкой заметил, что здесь, наверное, могла бы располагаться удобная позиция для пулеметчика – толстые бортики защищали бы от пуль. Челябинец Володя, изучавший боевую тактику взвода на институтской военной кафедре, тут же возразил ему, что у стрелка здесь был бы чрезвычайно ограниченный обзор, и через пять минут его элементарно забросали бы гранатами, причем с разных сторон. И вообще непонятно, кому и зачем может понадобиться держать оборону с помощью пулемета в обычном подземном переходе. В любом случае для этого понадобилось бы как минимум два пулемета – по одному на каждый вход. А главное, против кого они были бы направлены? Против прохожих? С целью лишить их возможности именно здесь переходить на другую сторону улицы? Это просто смешно. Хотя в принципе подобная дикость, в духе какого-нибудь батьки Махно, не так уж и невероятна. Но в этом случае нам пришлось бы обсуждать уже не тактику маленькой подпольной группы условных «революционеров», которая периодически устраивает локальные теракты с целью повлиять на общественную атмосферу, а способы ведения полномасштабной гражданской войны в современном мегаполисе с массовым применением гранатометов, огнеметов (не дай бог, конечно), БМП и даже легкой артиллерии. Но это была бы уже совсем другая история – и, честно говоря, не всякому врагу пожелаешь реально попасть в такую мясорубку. Тогда-то уж точно пулемет в переходе будет бесполезен, и лучше сразу делать отсюда ноги, не дожидаясь, когда подойдут серьезные люди с серьезным вооружением… Если же вернуться к исходной теме и представить себе некую «боевую группу», которой, допустим, требуется небольшими силами и при минимуме затрат устроить в городе большой «бум», то для нее гораздо логичнее было бы попытаться захватить не никому не нужный подземный переход, а какое-нибудь высотное здание. Или, к примеру, станцию метро. Сделать это, кстати, достаточно просто, учитывая, что всей охраны там – с десяток крикливых теток со швабрами и человек шесть отупевших от безделья милиционеров, да и у тех пистолеты наверняка без патронов. Кстати, вход на многих станциях метро устроен как раз в обычных подземных переходах. Так вот, предположим, перед этой воображаемой боевой группой поставлена задача не просто одномоментно захватить станцию и сразу после этого разбежаться, а в течение достаточно продолжительного времени удерживать свои позиции, так сказать, по всему периметру. В этом случае придется позаботиться, в частности, и о переходе. Но пулеметчику разумнее было бы расположиться не наверху, при входе, а наоборот, внизу, укрывшись от пуль и осколков, например, за колоннами, которые иногда имеются в таких местах, и оттуда держать под прицелом лестницу…
Столь серьезный и основательный подход к совершенно фантастическому и нелепому делу наконец вызвал общий хохот. Однако сама по себе идея захвата и удерживания станции метро была признана довольно перспективной с точки зрения воображаемых «городских партизан».
Вся эта глубокомысленная болтовня, несомненно, тут же и забылась бы. Но Фурман, распрощавшись с веселыми попутчиками, снова задумался о поразившей его книге Трифонова, о вечном соблазне молодых интеллигентов «ускорить» отложенную революцию, об их «нетерпении во имя будущего» (вполне понятном, но абсолютно беспощадном к себе и другим) и о драматичных личных отношениях внутри маленького кружка подпольщиков, описанных в романе. Некоторые параллели тут, конечно, просто напрашивались… И вдруг перед Фурманом забрезжила одна очень заманчивая мысль. Ах, так вы, значит, дружно мечтаете о чем-то этаком? Ну хорошо, пусть будет по-вашему – можно ведь попробовать вместе войти в эту реку и увидеть, что получится! Полночи он возбужденно прокручивал в голове эту мысль и на следующий день изложил ее по телефону сначала Соне, а потом Морозову.
Идея заключалась в том, чтобы начать писать «экспериментальный коллективный роман-зеркало». В качестве сюжетной завязки Фурман предлагал использовать обсуждавшуюся вчера фантастическую ситуацию с захватом метро некой условной «боевой группой», но это был лишь удобный повод описать жизнь их собственного кружка в выдуманных экстремальных обстоятельствах, которые позволили бы в художественной форме высветить и проработать какие-то важные для всех внутренние проблемы. Поскольку это эксперимент, задачей не является создание законченного и цельного литературного произведения. Даже если в итоге от их работы останутся лишь отдельные, слабо связанные между собой куски и фрагменты, попытка такого углубленного понимания самих себя наверняка будет оправданна. «Правило», а точнее пожелание, в этой игре только одно – писать так, чтобы самому было интересно, и при этом пытаться понять что-то важное про «нас».
Морозов деловито одобрил идею и пообещал вскоре набросать пробный кусок. А вот Соня неожиданно засомневалась в собственных силах: «Ну-у, если это будет роман, то это не для меня. Я могу успешно работать только в жанре “малой формы”…» После долгих уговоров она нехотя призналась, что сама тема кажется ей довольно «стремной». У Фурмана тоже были такие опасения, но он стал убеждать Соню, что это будет исключительно их внутренняя игра, распространять эти тексты никто не собирается, да и писать можно в одном экземпляре, просто передавая друг другу отдельные куски по мере готовности… Его бодрая настырность печалила Соню. И все же ссориться с ним она на этот раз явно не хотела. В конце концов она предложила компромисс: она дает предварительное согласие на свое участие, но сначала хочет обсудить саму идею с Машкой как с человеком более опытным во всяких «диссидентских» делах. «Кстати, я надеюсь, наши телефоны пока еще не прослушивают?..» – мрачно пошутила Соня напоследок.
Чуть позже Фурман – на всякий случай уже не по телефону, а при личной встрече – переговорил еще с двумя возможными участниками проекта. Минаев поддержал новое коллективное начинание, хотя и предупредил, что ждать от него самого каких-либо текстов в ближайшие два-три месяца не стоит, так как у него полно долгов по универу, и пока он с ними не разберется, ни о чем другом думать все равно не сможет. Это было понятно. Макс же сразу отказался: мол, у него сейчас каждый день расписан буквально по минутам, и он не видит никакого смысла тратить драгоценное время на очередные детские игры.
Но случайно возникший замысел, несмотря на свою явную игровую форму, уже настолько захватил фурмановское воображение, что он вполне мог бы взяться за него и в одиночку. Со своим «большим» романом он пока завис – без героя двигаться было невозможно, – а вложившись даже вполсилы в эту новую игру, можно было бы потихоньку обкатать какие-то важные для будущей серьезной работы вещи: стиль, отдельные образы, конфликты и прочее. Устроить себе такой маленький тайный праздник вольного сочинения.
На последней «предстартовой» встрече Морозов, Соня и Фурман договорились о единых «рамочных» условиях дальнейшей работы. По поводу названия особо заморачиваться не стали, остановившись на нейтральном «Метрополитене». Всю предысторию, а также конкретную политическую идеологию «боевой группы», ее организационные связи, финансовые источники и прочие технические подробности было решено вынести за скобки. «Киношные» кровавые перестрелки и горы трупов тоже никого интересовали. В фокусе должна была остаться лишь сама эта чисто приключенческая ситуация с захватом метро. А точнее, ее переживание членами группы.
Для Фурмана сюжетная динамика вообще была не очень важна, хотя он и собирался блеснуть перед соавторами парой-тройкой острых задумок. Свою часть текста он решил писать об ожидании – моменте, когда группа уже сделала свой ход, непоправимые события произошли и в действии возникла неопределенная пауза перед неизбежной сокрушительной реакцией «условного противника». Это и был момент окончательного прояснения позиций каждого и отношений внутри коллектива.
Своего alter ego Фурман с наглой иронией назвал Л. Н. (оправдываясь перед самим собой тем, что собирается писать в полную силу). Это был сильно идеализированный образ: немногословный, уверенный в себе, надежный и практичный взрослый человек в отличной физической форме, вдобавок имеющий коричневый пояс по карате.
Условный «Морозов» поначалу вместо имени получил у него громоздкое прозвище Социолог, но потом автор, пародируя кружковую манеру сокращать имена, заставил других персонажей по-свойски называть этого героя Сóци. Печальный Арлекин Минаев превратился под его пером в доброго и самоотверженного Борисова (не исключалось, что в конце он пожертвует собой, спасая остальных), его прекрасная Ася – в совсем уж идеальную Катерину, а Макс – в резонерствующего зануду по фамилии Андреев.
Труднее всего оказалось подобрать имя для непредсказуемо обидчивой Сони. Банальные ходы тут не годились, и в конце концов Фурман придумал загадочные, но благородно звучащие инициалы Р.-Д. Расшифровывать их было не обязательно, как и Л. Н. – мало ли, может это означало всего лишь Левый Носок?
(Однако позднее Фурману все же пришлось ответить на вопросы заинтригованных читателей, в роли которых выступил Морозов. Нет, буква «Д» не имеет никакого отношения к Сониной фамилии. И, конечно, только полный идиот мог бы предположить, что за инициалами Р.-Д. скрывается, например, «Романтичная», «Розовая» или какая угодно другая «Дура». Кстати, такое толкование опровергается и наличием дефиса. Начистоту и только между нами? Ладно, допустим, Р.-Д. означает «Рыцари-Дамы». Это что-то меняет? Ничего это, конечно, не меняло, поскольку, по мнению Морозова, сам литературный образ Р.-Д. сводился у автора к схематичной и почти оскорбительной пародии. Фурмана такая оценка задела. Он даже готов был согласиться с тем, что созданный им образ недостаточно глубок и в нем, возможно, отсутствует динамика развития. Хотя, с другой стороны, это можно было бы объяснить тем, что роль данного персонажа была второстепенной по отношению к основной линии событий. Но ничего пародийного, а уж тем более намеренно оскорбительного в этом образе, на взгляд Фурмана, не было: яркий и талантливый «вечный подросток», с тяжелым для себя и для окружающих характером, в глубине души – верный и великодушный, но пока еще очень слабо разбирающийся во всем происходящем. Вот-вот, сказал Морозов, если ты сам этого не чувствуешь… В общем, в тот раз они разошлись крайне недовольные друг другом.)
В состав боевой группы входило еще несколько харáктерных периферийных персонажей. А вот прежние духовные руководители молодежного коллектива – парочка пожилых интеллигентов-пацифистов, продолжавших цепляться за свои утопии, – были по общему решению оставлены где-то в городе в полном неведении о происходящем. Это была не их «война». Тем не менее у Л. Н. перед началом боя возникало острое желание позвонить им с какого-нибудь служебного телефона и мягко, по-доброму попрощаться. Но все линии наверняка уже прослушивались, и было бы глупо из-за каких-то сентиментальных чувств рисковать чужими жизнями…
К середине марта все трое авторов представили первые тексты. Несмотря на предварительные договоренности, каждого понесло в свою сторону. С точки зрения единого сюжета Соня начала с конца, описав допрос одного из схваченных членов боевой группы. По форме это был театральный диалог в гротескно-сатирическом стиле («Адреса, фамилии, явки! Ну?! Еще хочешь?» – «Ай! Ой! Ых! Нет-нет, я все скажу, только больше не бейте меня, пожалуйста!..»). Ни имен, ни характеров, ни игры с прототипами – абстрактные маски. Зато, гордо отметила Соня, у меня здесь нет ничего личного и никакого натурализма! Это была стрела в сторону Фурмана, но он только уклончиво качнул головой. (Ну да, «ничего личного», как же! Зачем тогда вообще нужно было с такой злобной насмешкой писать о таких вещах?) А вот у Морозова в первом фрагменте получился явный «перелет»: эпическая панорамная зарисовка огромного города с высоты птичьего полета, многочисленные «вклеенные» цитаты из якобы газетных сообщений – и ни одного живого лица. Морозов и сам понял, что загнул немного не туда, и в следующем отрывке сменил «масштаб» авторского взгляда: теперь у него какая-то маленькая группа полузнакомых людей потерянно бродила в темноте по бесконечным заброшенным тоннелям, периодически затевая мелкие ссоры. Но во всем этом его больше интересовало выстраивание некой социально-психологической типологии, чем отношения и внутренние переживания героев (после довольно острого спора на эту тему Фурман с мстительным удовлетворением подумал, что Соци – он и есть Соци).
Сам он пока только расставил основные вешки: захват станции у него состоялся поздно ночью в воскресенье, уже перед закрытием метро, когда народу там было мало, и прошел без единого выстрела. Сотрудники метрополитена и растерянные милиционеры, не оказавшие никакого сопротивления, были заперты в служебных помещениях. Долгое время далекое начальство даже не догадывалось о происшедшем, так как все контакты с внешним миром необъяснимо блокировались (типа, повреждение на линии). Связь с двумя ремонтными бригадами тоже внезапно прерывалась. В общем, в тоннелях происходила какая-то невнятная чертовщина. Собственно, на этом и строился весь расчет: в вяло нарастающей бюрократической сумятице продержаться, не обнаруживая своих намерений, до утра понедельника, когда народ повалит на работу, – а метро-то окажется закрыто! Кто, что, почему?! Столпотворение, всеобщее недоумение, паралич власти, на улицах разлетаются листовки – праздник непослушания! И возможно, серьезных боевых действий при этом вообще удастся избежать – просто в какой-то момент таинственные «подпольщики» вдруг исчезнут, растворятся в воздухе благодаря заранее изученным заброшенным шахтам, вентиляционным трубам и древним канализационным люкам. Ни жертв, ни повреждений… Так что же это было? ИСПЫТАНИЕ.
В целом собрание текстов оказалось более калейдоскопичным, чем ожидалось. Хотя, возможно, благодаря этому при чтении возникало ощущение большего повествовательного объема. И, конечно, важное место во всей этой затее занимало обсуждение написанного и того, кто куда клонит.
Незадолго перед поездкой в Челябинск Морозов устроил всем очередной сюрприз (на этот раз приятный), убедительно продемонстрировав, что у него в запасе имеются мощные дополнительные ресурсы.
Дома у него Фурман уже бывал. Жил он вместе с мамой, отчимом – рабочим сталелитейного завода (Морозо в называл его «батя»), десятилетней сестрой и бабушкой в стандартной четырехкомнатной квартире с тесной кухней, тремя малюсенькими комнатушками и большой проходной залой. Восьмиметровая комната Саши (лучшая из трех – остальные были шестиметровыми) находилась прямо напротив входной двери. Большую ее часть занимала полутораспальная (!) софа. У окна притиснулся невзрачный письменный стол с единственным стулом, а к стене рядом с дверью жался темный книжный стеллаж с открытыми полками. Среди книг можно было обнаружить довольно много философской литературы, причем не только классику – старые издания Декарта, Канта, Гегеля, – но и марксистскую критику современных западных философов: Сартра, Маркузе, еще кого-то… Гостям предлагалось размещаться с ногами на софе или на «дополнительной» табуретке, которую хозяин приносил из кухни. Когда Фурман приехал сюда во второй раз, софа стояла на боку вдоль стены. На его сочувственный вопрос, не сломалась ли она, Морозов объяснил, что просто устал от тесноты в комнате, – и этот его решительный своевольный жест глубоко поразил Фурмана. «А как к этому отнеслась твоя мама?» – осторожно спросил он. «Мама? – удивился Морозов. – А при чем здесь она? Это ведь моя комната. Она сюда довольно редко заглядывает. Вообще, по-хорошему, надо бы всю эту дурацкую мебель отсюда выкинуть!» – «И софу тоже? А на чем же ты тогда будешь спать?» – «Да это не проблема, матрас бросить на пол – и нормально…»
19 марта, в субботу, Минаев с Асей, Фурман, Соня и Морозов встретились у памятника Пушкину, посидели в кафе «Сластена» и, с таинственной настойчивостью увлекаемые Морозовым, отправились куда-то на метро. Вышли на «Киевской», поднялись наверх. Морозов, то и дело поправляя на плече тяжелый брезентовый рюкзак, перевел заинтригованно-посмеивающуюся компанию через Большую Дорогомиловскую и, по-прежнему ничего не объясняя, двинулся налево вдоль улицы. На «стрелке» у пересечения с Кутузовским проспектом торчал уродливый гранитный монумент в виде толстого трехгранного штыка, и кто-то в шутку предположил, что Морозов собирается возложить к нему цветы. А что, разве сегодня какой-то праздник? Вроде нет. Но, может, он знает, что на самом деле означает этот грандиозный фаллический символ, и именно сегодня его тайные поклонники отмечают какую-нибудь торжественную дату? А где же тогда цветы? Да у него в рюкзаке! Там, небось, целый венок – видите, он его еле тащит. Ну что, мы угадали? Но Морозов, хладнокровно не отвечая на подначивания, направился к подземному переходу, а на другой стороне Кутузовского уверенно свернул во двор одного из ближайших темно-красных сталинских домов… Между прочим, по слухам, где-то в этом районе, в одном из таких домов жил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. «Слушайте, куда он нас ведет? – возмутилась Ася, отказываясь идти дальше. – А мы все за ним покорно плетемся, как стадо баранов! Вы вообще хорошо знаете этого человека? Ну-ка, давай, колись, Морозов, рассказывай все, а то я уже начинаю тебя бояться!» – «Идем-идем, хватит бузить. Со мной вам бояться совершенно нечего. Нам сюда».
Подъезд был тихий и очень чистый. На тесном старом лифте с открывающимися вручную решетчатыми дверями они поднялись на шестой этаж. Морозов, нервно покопавшись в рюкзаке, достал здоровенный древний ключ и с нескольких попыток вставил его в замочную скважину. Дверь открылась внутрь, и все в один голос произнесли: «Ого-о! Ничего себе! И это все теперь твое?» Морозов объяснил, что это квартира его деда и бабки. Они на несколько месяцев уехали отдыхать в Прибалтику, оставив ключи любимому внуку. «Дед-то твой, наверно, был раньше каким-нибудь большим начальником, раз у него квартира в таком доме. Надеюсь, он работал не в НКВД?» – с грубоватой прямотой предположила Соня. Фурман укоризненно взглянул на нее: мол, ну что ты вот так сразу в лоб! Морозов в этот момент выкладывал из рюкзака ботинки, постельное белье и многочисленные консервные банки (так вот почему он был такой тяжелый – похоже, Морозов собирался загрузиться сюда надолго!). Не отрываясь от своего занятия, он сдержанно сказал, что Соня и все остальные могут совершенно не беспокоиться на этот счет, так как его дед если и был когда-то «большим начальником», то в области науки: на пике своей карьеры он командовал «Политиздатом», ну а теперь – всего-навсего «рядовой» персональный пенсионер, как говорится.
Двухкомнатная квартира с высокими потолками, длинными темными коридорами и огромной кухней производила необыкновенное впечатление прежде всего своей какой-то «дореволюционной» атмосферой, так хорошо знакомой Фурману по его родному дому на Краснопролетарской. Здесь не было ни одной новенькой вещи: потемневшая от времени резная мебель из настоящего дерева, бронзовые люстры, какие-то древние картиночки в рамках, фарфоровые статуэтки, музейного вида чайник со свистком, стаканы в потемневших серебряных подстаканниках, серебряные чайные ложечки, какие-то специальные маленькие вилочки… Задумчиво вздохнув, Ася с внезапно увлажнившимися глазами призналась, что и она выросла в похожей старой московской квартире своей бабушки, среди таких же фамильных вещей. Что ж, Фурман сразу это в ней почувствовал, с первого взгляда, еще по фотографии, – особую породу людей, воспитанных своими интеллигентными дореволюционными бабушками и дедушками… И библиотека у морозовского деда была мощная (кстати, выяснилось, что стеллаж в комнате Морозова – это недавно подаренная ему часть здешнего, дедовского, да и все его лакомые книжечки наверняка отсюда же). Среди множества переводных научных трудов по философии (ого, ранние работы Маркса!), экономике (вот это да – Гэлбрейт!), теории систем и еще бог знает чему (например, Фурман наткнулся на книгу знаменитого гитлеровского генерала Гудериана «Танки, вперед!» – оказывается, у нас издавалось и такое) сплошь и рядом встречались «запретные» – с грифами «Для служебного пользования» и «Для научных библиотек».
В общем, это было по-настоящему чудесное, сказочное место. Все просто обзавидовались. И Морозову ужасно повезло, что он мог какое-то время пожить здесь в «полном творческом одиночестве». Ну, ты хоть иногда будешь звать нас к себе в гости? Обещаем, что будем вести себя хорошо! Ты же знаешь, мы вообще-то вполне приличные, интеллигентные люди. И, кстати, прости нас за все те абсолютно беспочвенные подозрения, которые мы по дороге сюда, да и раньше, причем не раз, высказывали в твой адрес. Прости нас за все сразу! Мы ведь не знали, что у тебя есть такое сокровище, ха-ха-ха!..
На следующий день та же маленькая компания снова собралась на Кутузовском – чтобы обсудить «Метрополитен». И через день. И потом, пока было можно, все с готовностью приезжали туда, а иногда и оставались ночевать. Хотя запасы еды у Морозова вскоре закончились. Но он настолько естественно вписывался в эту старую профессорскую квартиру, и такой там царил чудесный дух, что всем достаточно было и чаю, завариваемого в древнем чайничке бабушки Берты. А уж если кому-нибудь вдруг удавалось разжиться парой рублей на общую жратву и Морозов умело зажаривал на сковороде картошку или крупными ломтями нарезáл полкило «докторской», праздник общения на Кутузовском, обретая дополнительные обонятельные и вкусовые измерения, просто навсегда впечатывался в мозг.
3
Через пару дней после возвращения из Челябинска, отмывшись, отоспавшись и кое-как смирившись уже со второй неудачной попыткой коллективного сближения с коммунарами (первой была Карелия), Фурман пригласил Игоря Ладушина к себе домой. Он считал, что Игорь, который на сборе до самого конца держался с москвичами как друг, совершенно незаслуженно – как бы ни относиться к его литературному таланту – пострадал от их взбалмошного и истеричного поведения, и теперь нужно загладить эту вину.
Игорь приехал днем, и Фурман накормил его полным обедом. Сам он еще неторопливо допивал чай, когда гость, несмотря на его возражения, решительно взялся за мытье посуды (да там было-то всего по паре тарелок и чашек). Закончив с посудой, Игорь неожиданно спросил, где хранятся веник и совок, и стал подметать пол в кухне – мол, крошки могли просыпаться, да и вообще так положено после любого принятия пищи, а то тараканы набегут. На взгляд Фурмана, это было уже слишком и попахивало какой-то тяжелой «армейской» (или общежитской) любовью к «абсолютной чистоте».
– Крошки под столом – это, конечно, полное безобразие. Но уж посуду-то я мог потом сам помыть без всяких проблем. И вообще, почему ты решил этим заняться, ты же у меня вроде гость? – шутливо возмутился Фурман.
– Эдуардыч! – разгибаясь и с хитроватым видом поправляя очки, ответил Игорь. – Уверяю тебя, в этом нет абсолютно ничего личного. Правда-правда! Все дело в моих проклятых установках. В нашей челябинской Первой школе мне в далеком детстве внушили несколько простых правил, к которым я теперь, конечно, могу относиться с долей иронии, но которые в определенных стандартных ситуациях заставляют меня действовать буквально на автомате. За что я отдельно приношу тебе свои искренние извинения. Одно из этих правил – сформулированное, пожалуй, чересчур высокопарно, на мой сегодняшний вкус, – звучит так: «Коммунар всегда первым берет себе самую тяжелую лопату». Надеюсь, я ответил на твой вопрос?
– …Да, неплохо ты меня утер. Хотя тут, конечно, могут возникнуть дополнительные вопросы, например: у кого берет? Коммунар, я имею в виду. То есть как он определяет, что именно эта «лопата» – самая тяжелая? Просто на глазок? На ней же это не написано? А что он сделает, если, допустим, поначалу в спешке ошибется с определением веса и схватит более легкую лопату, – отнимет потом у более слабого духом с применением насилия? Ну, раз это правило действует в нем автоматически…
На самом деле Фурман страшно позавидовал Игорю – его этической собранности, молчаливой готовности к действию и способности с мужественной иронией отнестись к собственному пафосу. А ведь жизнь у него наверняка нелегкая после коммунарской-то «теплицы» – огромный чужой город, общага, бедность…
Вечером Фурмана осенило: тебе нужен был герой романа – сильный, независимый и при этом думающий? Так вот же он!
И как же все удачно в нем намешано и сходится: он тебе и настоящий коммунар, но – открытый, незашоренный, идущий каким-то своим путем; и родом он не из Москвы, а из провинциального рабочего города; и живет в общаге среди молодых людей разного социального происхождения (т. е. тут богатство типов); при этом он достаточно начитан, да и у самого некоторые литературные амбиции есть; а то, что как личность он далеко не идеален, так это даже хорошо; кстати, можно будет свести-столкнуть его с неким столичным кружком начинающих журналистов, писателей и художников; ну, и любовь ему какую-нибудь непростую устроить… Класс! А ведь вообще-то через призму этого героя так или иначе просматриваются и многие важнейшие для Фурмана темы: тут в ход как раз может пойти проблематика «Цитадели» и «Трудно быть богом» Стругацких (попытка вмешательства и «подталкивания» других в их историях), Толстой с его Платоном Каратаевым (мечта о «тихой святости») и заветная идея коммунизма как производства развитых форм общения – причем все это не на уровне «теоретизирования», а именно в развивающемся сюжете конкретной человеческой жизни…
И назвать все это можно – «Лады» (с ударением на последнем слоге). У Игоря было такое характерное словечко – «лады», вместо обычного «ладно, хорошо». «Ну, лады? – спрашивал он, договорившись о чем-нибудь. – Значит, лады, по рукам…» И фамилия у него – Ладушин. Фурману во всем этом слышалась некая многозначительная рифма, связанная со словом «лад». «Лад-душин» – «лад души».
Да, это был настоящий, великолепный выход сразу из всего, из всех его тупиков!
Между тем выяснилось, что «челябинская травма» не давала покоя не только Фурману. Соне, по ее словам, было ужасно, ужасно грустно, Морозов, как всегда, бодрился, а Машка на их первой же общей встрече напомнила: они пообещали нескольким своим новым друзьям-коммунарам, что в Москве в ближайшее время доделают свою постановку, запишут ее на магнитофон и пришлют им пленку. Лично она не собирается отступать от своих обещаний и готова потратить на это свое время и силы. По ее мнению, на данном этапе проще всего будет сделать что-то вроде короткого радиоспектакля. Все равно основная часть работы в общих чертах уже сделана. Кое-что, конечно, нужно будет поменять (тут Машка с многозначительной иронией посмотрела на Фурмана), ну и добавить побольше песен. Это, кстати, пока получается у них лучше всего.
Все задумались. Запалу для того, чтобы по новой-здоровой браться за ладушинскую «Сказку», ни у кого уже не было. И кроме того, одно дело – работать на какую-никакую живую публику, и совсем другое – на микрофон, в пустоту. Вообще, тут возникает масса чисто технических вопросов. Например, где проводить репетиции? Их ведь в любом случае понадобится еще немало, но вряд ли их можно будет устраивать у кого-то дома, так как это достаточно шумное мероприятие неизбежно вызовет бурные протесты у окружающих. Еще один немаловажный вопрос, по крайней мере для Сони, – где взять время на все это, потому что в Москве на нее сразу свалилась целая куча срочных заказов, часть которых она и так отложила из-за поездки в Челябинск. Фурман с Морозовым, хоть и не были так сильно заняты, согласно кивали. Но оказалось, что Машка уже все решила и обо всем договорилась: репетировать можно было у нее, причем в любое время и сколько угодно. Она снимала комнату у своих друзей, семейной пары известных каэспэшников, и они, как люди многодетные и привычные ко всякому музыкальному и немузыкальному шуму, готовы были потерпеть и их присутствие.
В первую неделю многочасовые репетиции устраивались чуть ли не через день. На них приезжали и трое московских челябинцев, которые постепенно становились привычными членами компании. Но потом, несмотря на то что Машка жестко всех подгоняла, ей пришлось считаться с реальностью: встречи удавалось организовать не чаще, чем пару раз в неделю.
Морозов уже на второй репетиции снова заговорил о том, что вся эта затея представляет собой лишь бессмысленную трату времени и сил. Но так как недавняя неудача в Челябинске у всех была связана с ощущением, что они каким-то загадочным образом поддались разрушительному для общего дела влиянию Морозова, а Машка, со своей стороны, напирала на их чувство дружеского долга перед теми, кто, вопреки всему, им поверил, позиция Морозова была расценена всеми как очередное проявление свойственного ему «нездорового» цинизма, и на репетиции его решили пока больше не звать – чтобы все опять не кончилось ничем.
Соня тоже считала, что для дела так будет лучше, но чувствовала себя предательницей, причем всех сторон одновременно.
В связи с изменившимися обстоятельствами пришлось еще раз перераспределить роли: место Морозова занял Володя-Номинал, а его прежнего персонажа просто вычеркнули.
Ладушин, являясь, как он объяснил, лицом заинтересованным («в качестве автора слов»), с погрустневшими глазами уклонялся от участия в принимаемых решениях.
Фурман же был непривычно пассивен и немногословен.
– Фур, у тебя ничего не болит? – заботливо спросила Ирина. – А то ты какой-то вялый…
– Да… Голова немного болит.
Затылок у Фурмана действительно понемногу наливался тяжестью и болезненно пульсировал, но его «вялость» объяснялась не этим. Еще в самые первые дни после возвращения из Челябинска он пришел к выводу, что настоящей причиной их общего провала стал его отказ от исполнения главной роли, а вовсе не пресловутый морозовский «цинизм», на который все списывалось задним числом. Просто Морозов был более решительным и деятельным человеком и не стал долго раздумывать. Но подтолкнул-то его к «закрытию проекта» именно Фурман, в том числе своими «авторитетными» оценками и советами. Остальные, кажется, не придавали этому серьезного значения, но сам он теперь старательно воздерживался от навязывания своего мнения.
Кроме того, у него возник параллельный тайный интерес: «уйдя в тень», он внимательно присматривался к Ладушину как к возможному герою романа: ловил его интонации, ироничное хмыканье, характерные мелкие жесты… И убеждался в том, что этот выбор открывает большие возможности.
Еще через неделю Машка с удивившим всех спокойствием объявила, что ничего сколь-нибудь достойного с театральной точки зрения у них не получается. Возможно, дело в отсутствии опытного режиссера. Но слушать сделанную запись скучно и стыдно, настолько неумело и неестественно звучит там буквально каждое слово. Машка предложила компромиссный вариант: вырезать весь текст, оставив только песни (которые даже на ее пристрастный взгляд были записаны неплохо), добавить к ним еще несколько из тех, что в Челябинске не знают или не поют, и отправить туда эту пленку просто в качестве маленького дружеского подарка. Это, по ее мнению, было бы честно и вполне адекватно. И, что тоже немаловажно, тогда всю работу можно закончить за пару-тройку дней. Все облегченно выдохнули. Ради такого дела можно и Морозова вернуть, насмешливо добавила Машка специально для Сони, – даже его злой гений вряд ли сможет тут что-то еще испортить, хотя кто его знает… Оценив шутку, все заулыбались. Но Володя-Номинал вдруг выступил против отказа от первоначального плана. Он был уверен, что текст Игоря сам по себе не так уж плох и, хотя исполнение у них пока действительно хромает, со спектаклем все еще вполне может получиться, поэтому нет никаких разумных оснований прекращать репетиции. Ситуация возникла неловкая, и Ирине пришлось взять ее разрешение на себя. Она жестко, но доходчиво объяснила Володе, что предлагаемый вариант на самом деле всех устраивает и ему надо просто с этим смириться. «Ты бери пример с Ладушина: вот уж кто, казалось бы, должен сейчас больше всех страдать и протестовать, ведь это с его несчастным произведением обошлись так безжалостно – сначала долго и упорно резали на части, переставляли, вычеркивали, а потом вообще выбросили все к чертовой матери, – а он ничего, сидит вон, улыбается как ни в чем не бывало!..» Игорь так холодно и невидяще посмотрел в сторону Ирины, что Фурман поежился. Но ей, похоже, такие его взгляды были не впервой, и она даже нарочно его поддразнивала, а зачем – Фурман не понял. Напоследок Ирина очень грамотно похвалила Володю, на котором действительно держалось все пение вторым голосом, и он, покраснев, смущенно пробормотал: ладно, я вижу, мне вас не переспорить, так что делайте как знаете…
У всех, кто приехал на следующую репетицию (Ирина не смогла выбраться), настроение было уже совсем другое: теперь оставшуюся часть работы, вполне посильную и обозримую, можно было постараться сделать действительно хорошо, пусть даже только для самих себя.
Игорь выглядел усталым и осунувшимся («в школе задали много уроков», коротко объяснил он Фурману), но тоже держался бодрячком. Его синие глаза за стеклами очков оживленно поблескивали, он загадочно улыбался и все время шутил, комментируя происходящее, а когда Машку начинало раздражать это непрерывное ерничанье и хихиканье «на задней парте», он тут же напускал на себя серьезный вид и демонстративно призывал всех сосредоточиться.
Соня, которая была озабочена отложенными из-за репетиции делами, все больше нервничала. В какой-то момент она не без укора призналась Фурману, что ее коробит эта атмосфера бурного мужского веселья. Было шумно, и в ответ он только недоуменно пожал плечами: не понимаю, почему ты так остро реагируешь на всякую ерунду. Вскоре Соня объявила, что должна ехать – мол, другая важная работа больше не может ждать. Машку ее неожиданный отъезд расстроил, а у Фурмана, когда он более отстраненным взглядом присмотрелся к Игорю, возникло подозрение, что перед приходом сюда тот немного выпил. Это неприятное обстоятельство, конечно, многое объясняло.
В том числе и то, что после Сониного ухода Игорь вдруг стал проявлять к Машке какой-то «не совсем дружеский» интерес. Она и сама это заметила, осадив его в своей обычной грубовато-насмешливой манере. Но Игоря это не остановило, а лишь заставило использовать более изощренную тактику «мягкого подкатывания и умасливания», которую Фурман уже не раз наблюдал прежде в его обращении с девчонками, считая ее проявлением особого коммунарского педагогического мастерства. Теперь все встало на свои места, и Фурману стало смешно. Заодно он по-новому оценил Машкин наряд: кроме всегдашних заношенных рваных джинсов на ней была настоящая теплая тельняшка с длинными рукавами. На завистливые вопросы Машка гордо ответила, что этот шикарный подарок сделал ей хозяин квартиры, когда-то отслуживший в десанте. Естественно, его тельняшку она могла носить только навыпуск, а рукава приходилось подворачивать чуть ли не наполовину. Но все это лишь удачно подчеркивало Машкину «хипповость», как и очевидное отсутствие лифчика (конечно, не исключено, что свободолюбивая Машка вообще обходилась без этого предмета, просто Фурман этого не замечал).
Фурман попытался уцепиться за слабенькое оправдание, что, возможно, «нехорошую» активность Игоря спровоцировала эта откровенная одежка, усилившая воздействие алкоголя (кстати, что он пил – водку небось, не пиво же?). Но ему и самому в это не верилось.
Дипломатично выдержав десятиминутную паузу, он мяг ко предложил всем на сегодня закончить. Но Машке для решения каких-то технических вопросов с записью еще нужна была помощь Володи, а Игорь уходить, похоже, вообще не собирался. Поскольку никакого полезного участия от Фурмана больше не требовалось, он мог бы уйти и один, но, поколебавшись, решил, что оставлять Игоря без «дополнительного присмотра» все же не стоит. Конечно, Машка и не в такой детской ситуации могла сама за себя постоять. Да и хозяева были дома. Но из-за Игорева самодовольного и тупого мужского упрямства атмосфера в комнатке довольно быстро накалялась. (Хорошо еще, что Соня вовремя сбежала и не увидела всего этого безобразия…)
Попытка Фурмана занять этого пьяного медведя умным разговором закончилась неудачей. Почуяв, что его водят за нос, он с глухой угрозой зарычал на самозваного дрессировщика и, больше не обращая на него внимания, вернулся к своему нелепому «ухаживанию». Машка уже откровенно злилась, так как Ладушин отвлекал ее от важного дела, которое она хотела поскорее закончить. Но никакие увещевания на Игоря уже не действовали, а ускользание «объекта» лишь раззадоривало и усиливало агрессивность. Все это уже не было смешным и вызывало у Фурмана только тоскливое отвращение.
Когда Володя объявил: «Всё! Мы закончили!», до закрытия метро оставалось двадцать минут. Володя начал торопливо собираться. Машка, избегая взглядом Ладушина, с суровым радушием предложила им всем остаться у нее: «Места на полу вам, я надеюсь, хватит?» Володя объяснил, что ему рано утром нужно быть на занятиях, а все необходимые вещи у него в общаге, поэтому он по-любому должен туда вернуться; Фурман был сыт общением по горло, и ему тоже очень хотелось домой… Они уже стояли одетые в дверях, когда Игорь, с фальшивой загадочной улыбочкой посмотрев на тяжело нахмурившуюся Машку, жалко дрогнул и согласился уйти вместе с ними.
До метро бежали молча, а там расстались – к счастью, Фурману было в другую сторону.
Расстроен он был ужасно и чувствовал себя извалявшимся в какой-то болотной грязи: остро хотелось помыться. Одновременно он испытывал странную жалость к Игорю (в которой этот чертов «супермен» уж точно не нуждался). Хотя вообще-то весь этот эпизод был абсолютно банален и смешон. Анекдот про коммунара. Напрашивается целая серия… Интересно, а почему он должен стыдиться за Игоря и искать ему оправдания? Он ведь почти ничего о нем не знает и ни перед кем за него не отвечает. Это у «автора ненаписанного романа» вдруг возникли какие-то проблемы. Но тоже не смертельные: по ходу развития сюжета ему теперь придется учитывать, что у главного героя имеется еще и такая колоритная особенность, как склонность напиваться и не всегда удачно приставать к девушкам. И это вовсе не бессмысленное «выламывание из образа», как могло показаться на первый взгляд. Просто герой – другой человек. Со своими собственными диковатыми прибамбасами. Ты ведь хотел найти Другого, полного жизни? Вот, пожалуйста! Ах, тебе хотелось бы кое-что «вычеркнуть»? Ну-ну…
В последний день записи и Машка, и Игорь проявили просто чудеса терпимости и великодушной самоиронии. К радости Фурмана, конфликт (да не было никакого конфликта, тебе почудилось!) был исчерпан.
Однако какой-то неприятный осадок все же сохранялся, и, чтобы окончательно избавиться от него, Фурман решил сделать рискованный ход – «раскрыть карты», откровенно поговорить с Игорем, но не о его личных нравственных проблемах, а о собственной литературной работе, то есть воспользоваться редчайшей для писателя возможностью обсудить характер своего будущего героя с его жизненным прототипом. (Ну и заодно попробовать припереть к стенке этого «настоящего» коммунара – пусть ответит за все.)
Беседа происходила у Фурмана дома, после обеда и его уверенной победы над гостем в вязкой словесной борьбе за право хотя бы на этот раз помыть посуду самому. Игорь казался усталым и расслабленным, и Фурман посчитал его состояние удобным для начала опасного разговора. Выключив воду и вытирая руки, он поставил точку в их привычном шутливом пинг-понге и объявил, что переходит к «деловой» части.
Смысл его торжественного, но слегка завуалированного сообщения – что он собирается писать «большой серьезный роман на современные темы» и в качестве прообраза главного героя хочет использовать одного своего знакомого челябинского коммунара – дошел до Игоря не сразу. Поняв после соответствующих кратких пояснений, о чем идет речь, он покраснел, вытаращил глаза и потряс головой, чтобы прийти в себя. «Ладно, допустим, это так, хотя… Ну, ты же понимаешь, что все это для меня, мягко говоря, неожиданно. И что я теперь, по-твоему, должен делать? Это что-то меняет в наших с тобой отношениях?»
Действительно, ситуация оказалась нелепая.
…Нет-нет, Игоря это, конечно, абсолютно ни к чему не обязывает, Фурман хотел просто с ним поговорить – уточнить какие-то детали, прояснить для себя кое-какие вопросы… «А, так это допрос? Ты бы так сразу и сказал!
А то, понимаешь, “роман” какой-то… Я даже испугался поначалу… Да нет, дурачина, за тебя, конечно! Думаю: ну все, совсем спятил Эдуардыч…»
Дальше «интервью» пошло уже полегче.
Биографические подробности Фурмана интересовали лишь постольку-поскольку; изложенные по его просьбе представления Игоря о том, что можно условно назвать «кодексом мужского поведения», поражали своей «солдатской» примитивностью и переросли в довольно горячую дружескую дискуссию; ну а напоследок Фурман припас свои «наивные» вопросы о коммунарстве. Впрочем, «за все коммунарство» Игорь отказался отвечать – только за себя лично. Но Фурману и этого хватило. Коротко пересказав историю своего неудачного сближения с карельскими коммунарами, он напомнил Игорю о зимнем сборе в Горках, на котором они «комиссарили» на пару: их побег в дом-музей Ленина, то, как Игорь заранее, еще на подходе к этому святому для настоящих коммунистов месту, молча и ненавязчиво обнажил голову, как поразили их обоих огромные фотографии мертвого Ильича, и как ночью Игорь мастерски успокаивал разгулявшихся девиц; и то, как он недавно пришел к Машке пьяный и глупо приставал к ней, – все, все Фурман свалил в одну кучу. «Подожди-ка, к чему ты ведешь?..» – растерянно попытался остановить его Игорь. Но ведь было еще и все то, что Фурман увидел на коммунарском сборе в Челябинске… Завершил он свое страстное выступление «одним мелким, ерундовым, но тем не менее показательным эпизодом», который случился с ним на сборе и о котором он тогда никому не стал рассказывать.
Вечером, как раз во время их последней, провальной репетиции ему потребовалось сбегать в туалет. Расположенные поблизости оказались заперты, и ему пришлось спуститься на тот этаж, где стояло школьное знамя, – там туалет почему-то был открыт. Фурман, находившийся в легкой задумчивости, уже собирался уходить, когда туда влетели двое возбужденно обсуждающих что-то старшеклассников. На обоих были коммунарские галстуки, что автоматически вызвало у Фурмана расположение и симпатию. Парни, явно торопясь и не обращая внимания на постороннего, между делом продолжали свой разговор, посвященный, как можно было догадаться, их приятелю, который только что то ли страшно оскандалился, то ли наоборот, сорвал какой-то необыкновенный успех у девчонок, – а возможно, и то и другое сразу. В общем, это был обычный уличный мат-перемат, и в описываемой с его помощью ситуации все ее участники представали в виде стаи юных краснозадых павианов, бессмысленно гоняющихся друг за другом и имитирующих позы взрослых особей. Ну да, казалось бы, бытовое дело, что тут такого, улыбнуться и тут же забыть. Но Фурман был – огорчен, оскорблен, не то слово, – ведь для него эти парни были настоящими коммунарами, других в этом мире не было, но хуже всего то, что где-то совсем рядом, буквально за углом, находилось их священное знамя, перед которым они каждый раз торжественно замедляли шаг… Черт! Черт! Как же все это в них уживается? Как это все в нас уживается?!
Игорь, устало покряхтев и покачав головой, отстраненно сказал: «Ну знаешь, Эдуардыч… Если честно, ты меня просто сразил этим своим вопросом. Даже не знаю, что тебе ответить… Это же обычные мальчишки, живущие своей жизнью. У них ничего такого, о чем ты говоришь, и в голове-то нет. Может, и к счастью…»
Чего Фурман хотел добиться этим разговором, так и осталось непонятным. Но он был доволен. Ему казалось, что «автор» и «герой» хорошо отработали свои роли.
4
Когда Фурман спросил Морозова, не обиделся ли он на почти двухнедельный перерыв в их общении, тот только удивленно отмахнулся – да он этого вообще не заметил, разбираясь с разными накопившимися делами. Но оказалось, что за это время Морозов успел написать шестистраничный текст со странным названием «Трактат о БДК», который можно было бы считать его настоящим ответом. В предисловии объяснялось, что «трактат» – это всего лишь условное обозначение серии задуманных автором научно-публицистических материалов, а аббревиатура БДК расшифровывалась как Большой Духовный Контакт. Однако речь шла вовсе не о контакте с неким «высшим разумом».
Констатировав наличие серьезного кризиса в небольшом дружеском коллективе, в дальнейшем для простоты именуемом «круг», Морозов отмечал, что полноценное социально-психологическое изучение такого объекта представляет большую трудность, в том числе из-за его абсолютно неформального характера – отсутствия ясных целей, задач и результатов деятельности, фиксированного членства, управленческой иерархии и т. д. Поэтому для первичного описания внутренней структуры круга он предлагал использовать довольно неожиданный критерий – «качество общения». Оценка производилась по двум параметрам: во-первых, сложность и глубина межличностных отношений членов круга, и во-вторых, степень важности и неотменимости для каждого его общения с другими. Высший уровень качества общения Морозов и называл «Большим Духовным Контактом», утверждая, что без учета этого показателя невозможно планировать никакое общее будущее.
Поскольку предметом исследования было что-то вроде поля притяжения между отдельными «телами» в условно ограниченном пространстве, простейшей наглядной моделью данного процесса могла служить карта Солнечной системы или, учитывая отсутствие в изучаемом объекте выраженного центра, схема расположения звезд в какой-нибудь галактике. Те члены сообщества, которые сильнее других были озабочены какими-то собственными, посторонними для круга делами – неважно, профессиональными или личными – и в перспективе могли достаточно легко выйти из него, переключившись в режим необязательных приятельских отношений с остальными, на карте должны были смещаться от центра (уровень БДК) к внешней границе круга. А те, для кого общение именно с этими конкретными людьми представляло абсолютную ценность, «силой взаимного притяжения» стягивались ближе к центру. В тексте имелась соответствующая картинка, сделанная явно на скорую руку: лихой круг, местами загаженный изнутри темными кружочками с мелко написанными именами. Вглядываться в нее особого желания не возникало, тем более что дальше вниманию читателей предлагались комментарии. Признавая, что его оценки носят безусловно субъективный характер, автор предупреждал, что некоторые комментарии содержат «резкие личные выпады» (читателю оставалось только тяжело вздохнуть). Так, на безжалостный взгляд Морозова, «старика Макса» в силу каких-то внутренних и, не исключено, весьма мучительных для него самого причин (в которых Морозову неохота было копаться) неудержимо сносило в «открытый космос», – да, в общем-то, и бог с ним, с этим холодным задавакой, пусть плывет куда хочет; Наппу и Мариничева, по факту являясь самыми крупными в данной планетной системе «телами», буквально с каждым днем утрачивали свое прежнее гигантское и определяющее влияние на всех остальных; Минаев же, на которого, при всех его несомненных человеческих достоинствах, давила, с одной стороны, тяжелая ситуация с учебой, с другой – мучительные конфликты с родителями, а с третьей – непростые отношения с Асей, пока болтался где-то посередине (на пару с Асей, естественно, – но вот она-то, наоборот, стремительно набирала очки). С Машкой, челябинцами и другими недавно вошедшими в круг людьми у Морозова не было глубоких личностных отношений, поэтому все они оказались рассеяны по внутренней границе круга. Поблизости от пустующего «звездного» центра на картинке одиноко висели три маленькие планетки: «Соня», «Фур» и «Морозов». В предпоследнем абзаце Морозов объявлял, что только с этими двумя людьми у него имеется максимально возможный уровень БДК, и он не представляет свою дальнейшую жизнь без общения с ними.
Заканчивалось все ироничными дружескими извинениями за возможные обиды и приглашением к дискуссии.
Чтение «трактата» вызывало противоречивые чувства. Соня с Фурманом, как первые читатели, считали, что устраивать публичное обсуждение этого текста не стоит – единственным результатом будет то, что все окончательно переругаются. Минаев и Ася с ними согласились. И пафосное словосочетание «Большой Духовный Контакт», после того как Соня пару раз употребила его со злой иронией, стыдливо ушло в тень.
Но на творческую плодовитость Морозова это никак не повлияло. Он продолжал выстреливать новыми сочинениями с наукообразными названиями: «F-общество, F-модели, F-проблемы» (буква «F» означала «future» – будущее – и маркировала цикл «футурологических» заметок, в которых социальная революция противопоставлялась коммунарской утопии, а наивные интеллектуальные построения Наппу подвергались разгромной марксистской критике), «Конечное наложение полей и некоммунальные малые группы» (результат быстрого пролистывания пары каких-то книжек по социологии), «Кенология» (не путать с «кинологией», наукой о собаках, здесь в основе совсем другой латинский корень!) – в общем, успешно действовал как прототип образа Соци из фурмановской части «Метрополитена», продолжение которого было отложено из-за других важных дел.
Конечно, Морозов ожидал, что Фурман будет активно комментировать его труды или писать свои собственные «трактаты». Но Фурман остро чувствовал, что ему не хватает знаний для того, чтобы вступать в серьезную письменную дискуссию. Он даже не слышал о тех научных книгах, на которые мимоходом ссылался Морозов, и не мог с такой же восхитительной легкостью сыпать именами, названиями и терминами. Более того, пару раз он уже прокалывался на элементарных вещах. Например, однажды в разговоре с Морозовым на какую-то «научную» тему он вместо слова «примат» (в смысле «преимущественное значение, главенство» чего-то над чем-то) с глубокомысленным видом произнес «приват» (образовав его, видимо, от слова «превалировать»), а когда Морозов поправил его, уперся, начал злобно спорить и довел дело до ссоры. Но чаще в их «умных беседах» легко загорающийся Фурман уже просто не успевал стесняться своего невежества, и они, подыгрывая друг другу, безудержно фонтанировали сверкающими идеями. Ослепительный свет познания давал завораживающую власть над действительностью, поэтому поводом для придумывания новой многообещающей «теории» могло стать все что угодно.
К середине апреля потеплело, и Машка предложила всем желающим съездить на маленький «кустовой» слет КСП, одними из организаторов которого были ее квартирные хозяева. Их протекция позволяла участникам группы получить статус гостей, а не бесправных «хвостов», как на других слетах. Но на студентов надвигалась очередная кошмарная сессия, Морозов как раз в эти дни собирался лететь в журналистскую командировку куда-то в Сибирь, Наппу и Мариничева тоже были заняты – и в результате в Машкину группу вошли только Соня, Фурман и трое малознакомых парней, которые ездили в Челябинск с Наппу и теперь активно присоединялись ко всем «коллективным мероприятиям».
На общей встрече Машка с притворной хмуростью объявила, что у нее есть сюрприз: их группе выделена вместительная солдатская палатка. Ее привезут прямо на место на грузовике и грамотно установят «специальные люди». Плюс к этому им выдадут несколько килограммов картошки и пару банок тушенки из фонда организаторов – так что ехать можно будет налегке. Это, конечно, всех обрадовало.
В лесу оказалось страшно сыро, а кое-где виднелись длинные серые языки еще не растаявшего снега. Весь первый день был наполнен нервной дорожной суетой, усилиями по обустройству кострового места, заготовке дров, поддержанию огня… Уже в темноте начался вечерний концерт, который длился больше трех часов. Сценой служил кузов грузовика с опущенными бортами и натянутым сверху пологом из парашютной ткани, а вот публике, столпившейся на заболоченной и вдобавок разрытой колесами поляне, пришлось слушать своих районных кумиров, стоя под мелким противным дождиком. Потом все разошлись по разным кострам и продолжали петь, согреваясь чаем и спиртом.
Благодаря Машкиным связям палатка у них оказалась просто царская: человек на десять, если не на пятнадцать, с высоким шатровым потолком, целый зал – хоть танцуй!
Вшестером расположиться в ней можно было совершенно свободно, не теснясь. Усталость, конечно, мгновенно всех срубила. Но под утро сильно похолодало, и в мучительном полусне все заворочались и заелозили в своих спальных мешках, пытаясь в поисках тепла придвинуться поближе к соседям. Снаружи, судя по приглушенным тоскливым звукам, продолжал моросить дождь…
Когда Фурман проснулся во второй раз, было уже совсем светло. По одной из боковых стенок палатки прыгали солнечные зайчики, но внутри стояла жуткая холодрыга, от которой уже не спасали ни толстый спальник с капюшоном, ни зимний шерстяной свитер. Слева от Фурмана спиной к нему лежала Друскина (она была укутана с головой, но он помнил, что она укладывалась с этой стороны, да и новенький нейлоновый спальник, выданный ей Машкой, был узнаваем). Все остальные уже встали и, похоже, вяло копошились вокруг давно потухшего костра. На часах половина одиннадцатого. Фурман поплотнее затянул завязки капюшона и закрыл глаза. Вылезать на леденящий воздух казалось пыткой, и он решил, что может еще полчасика подремать после всей этой вчерашней беготни. Чтобы хоть немного согреться, он повернулся на правый бок, поджал ноги и спиной по-братски приладился к соседней бесформенной куче, в которой скрывалась Соня. Вряд ли она сейчас стала бы возражать и возмущаться, ведь и ей так будет теплее, в конце концов.
Соня правильно поняла его телодвижения (хотя откуда она знала, кто это?) и даже сама притиснулась к его спине поплотнее – вот молодец, растет человек прямо на глазах, раньше она бы такого не потерпела…
Долго лежать в одной позе на голом полу было невозможно – слишком жестко. Пришлось повернуться на спину. Заботясь о том, чтобы Соня не осталась совсем без «прикрытия», Фурман аккуратно «подпер» ее своим боком, и она благодарно пошевелилась в ответ.
Вскоре снаружи донеслось легкое потрескиванье и потянуло дымком – видимо, с костром у ребят все получилось… Ну и хорошо.
Соня резко перевернулась на другой бок и довольно неудобно навалилась на фурмановское бедро. Выждав минуту-другую, он скосил глаза, но ничего не увидел: спальник у нее был на молнии и закрывался почти наглухо, кроме того, он был для нее велик и она еще как-то ухитрилась натянуть крупные складки себе на голову. Похоже, Соня спала, и тревожить ее было жалко, хотя бедро уже начало затекать. Фурман по-рыцарски решил терпеть сколько сможет.
Вокруг посвистывали, чирикали и каркали воздушные лесные обитатели, негромко переговаривались чьи-то голоса, время от времени налетал ветерок…
Наконец, как бы из глубины сна испустив предупредительный стон, он осторожно отодвинулся и вытянул ногу из-под груза. Ох, хорошо-то как!
Однако Соня отреагировала на произошедшие изменения странно: она вдруг дернулась, разом преодолев возникшую узенькую разделительную полосу, и снова плотно привалилась к Фурману. Да еще и свое колено, насколько можно было судить в этой путанице толстых покрывал, на него закинула. Вот ведь незадача! И что ему теперь делать? Придется вставать, рискуя ее разбудить.
Соня поелозила в своей куче и с силой прижалась к его бедру. Внезапно в ее маленьком хрупком теле как будто сработала мощная пружина, заставившая ее несколько раз подряд буквально вдавливаться в него в каких-то странных конвульсиях. Потом все затихло.
…Вот это да. Что это было, ошарашенно подумал он.
Эта капризная, страшно брезгливая девушка, бывало, яростно вспыхивавшая от любого прикосновения, только что так откровенно прижималась к другому человеку, можно сказать, к мужчине, в общем-то случайно оказавшемуся рядом… Нет, конечно, он ей друг. И пожалуйста, она может прижиматься к нему сколько угодно без всяких опасений. Но все-таки это ведь как-то странно… То есть он был уверен, что Соня – если только она сейчас хоть одним глазком не спит – совершенно не отдает себе отчета в том, что с ней только что было. И, собственно, для нее самой, для ее сознания, скорее всего, ничего и не было. Именно это поражало его больше всего. Для нее все это было абсолютно невинно. Как какое-нибудь простое потягивание.
Спроси ее, что с тобой только что было, и она искренне удивится: когда? А что, разве что-то случилось?..
Фантастика! Как же сложно и запутанно устроен человек. Он может тщательно и даже болезненно пытаться контролировать любые внешние, «чужеродные» контакты со своим телом – и одновременно до такой степени не видеть и не понимать самого себя и того, что изнутри него движет этим «его» телом! Какие-то параллельные миры…
Конечно, об этом трогательном и смешном эпизоде никому нельзя было рассказывать. Но уже в Москве его мысли перескочили с этой маленькой загадки на известные ему случаи явного нарушения индивидуальных телесных границ с особыми «педагогическими» целями. Сюда можно было отнести коммунарскую традицию пения в кругу с доверительным братским обниманием соседей, «мастерские» комиссарские приемы Ладушина, который с отцовской нежностью поглаживал девушек по плечу или «по головке», заботливо поправлял выбившиеся пряди волос и т. д. (между прочим, с Соней-то он так делать не решался, понимая, что добром это не кончится), а также раскованные повадки Мариничевой, любившей запускать руку в мужские шевелюры и почесывать там (как она объясняла, это была атавистическая привычка, доставшаяся нам от наших далеких предков-приматов, которые проявляли свою благосклонность, выискивая друг у друга вшей, блох и прочую мелкую живность).
Сопоставив все эти явления, Фурман испытал чудесное озарение и вскоре предложил Морозову вместе подумать над разработкой новой теории, красиво названной им «Теория касаний». И сама идея, и название Морозова очень вдохновили.
Фурман на радостях поспешил отметить, что будущая теория может иметь и большое практическое значение. Например, если учесть давно назревшую необходимость мягкого и деликатного «перевоспитания» (в кавычках, конечно) – или, может быть, правильнее сказать «исцеления» – одного их общего близкого и уважаемого друга, а именно Софьи Аркадьевны Друскиной, как известно, страдающей от своей чрезмерной недоверчивости и даже брезгливости к окружающим.
Однако этот поворот мысли вызвал у Морозова категорическое неприятие. Он был абсолютно уверен в том, что у Сони все в полном порядке. А кроме того, он всегда с большим недоверием относился к разного рода педагогам, психологам, экстрасенсам и вообще к любым попыткам как-то влиять на людей, особенно помимо их воли.
Ну, с этой позицией, конечно, можно спорить, сказал Фурман, потому что тогда и родители не могли бы научить своих детей держать ложку или ходить на горшок, например… Но Морозов прав в том смысле, что говорить о каком-то практическом применении теории, у которой пока, по сути, есть только название, довольно глупо, поэтому им стоит вернуться к обсуждению самóй этой многообещающей идеи…
* * *
Примерно тогда же Наппу предложил Фурману с Морозовым съездить в Калугу на ежегодный слет педагогов-макаренковцев – попытаться понять, что там делается, приобрести «бесценный опыт организации сбора для взрослых» и заодно познакомиться с какими-нибудь интересными людьми. Фурману совершенно не хотелось ради этих целей тащиться так далеко, да еще и с ночевкой. Но у Морозова неожиданно вспыхнул журналистский интерес к новым людям, пусть даже и педагогам, а Фурмана он соблазнил возможностью обсудить в дороге какие-нибудь важные темы.
Организационно сбор для взрослых ничем не отличался от детских: то же деление на отряды, те же плохонькие импровизированные сценки под видом «коллективного творчества» и те же бледные от недосыпа лица комиссаров. Но из-за «научно-педагогического» характера слета большую часть дня занимали скучные доклады и занудные дискуссии. Честно отсиживая эти плановые мероприятия, Фурман грел себя надеждой, что ближе к ночи ему все же удастся пообщаться по-человечески с кем-нибудь из мельком увиденных дальних знакомых.
Перед ужином Морозов (почему-то с сумкой через плечо) нашел Фурмана в шумной толпе и, кривя губы, сообщил, что он уже узнал здесь все, что хотел. А так как у него больше нет никаких разумных причин для того, чтобы провести очередную бессонную ночь в обществе всех этих несомненно милых, но не очень умных и слишком натужно веселящихся людей, и потом еще завтра полдня потратить на обратную дорогу, он решил, что правильнее всего будет вернуться в Москву, причем прямо сейчас. «Ты как – со мной или останешься?» Здрасьте, приехали, разозлился Фурман. А на хрена тогда вообще было сюда тащиться?! Ведь с этой дурацкой затеей все было ясно с самого начала. Но нет – Морозову захотелось познакомиться с новыми людьми! А если уж он что-то для себя решил, то все, каюк, обсуждать больше нечего. Хотя непонятно, какого рожна Фурман должен метаться с ним то туда, то обратно, подчиняясь каким-то совершенно непредсказуемым переменам его настроения?! Конечно, ничего приятного в предстоящей ночевке среди кучи чужих людей Фурман тоже не видел. Но чтобы вот так резко срываться с места… В конце концов, это просто невежливо – вдруг исчезнуть без всяких объяснений. Ведь ничего плохого эти люди нам не сделали. Кроме того, скоро будет ужин, а пускаться в дальний путь на пустой желудок в любом случае неправильно…
Но ни злобные попреки, ни разумные аргументы, ни шутки на Морозова почему-то не действовали. Он даже не смотрел на Фурмана – просто ждал, когда тот наконец примет решение. Его остекленевший взгляд скользил по сторонам с каким-то скорбным, затравленным выражением, и Фурман вдруг ощутил, что Морозов лишь последним, жалким усилием воли сдерживает желание немедленно вырваться отсюда и бежать, бежать – все равно куда. В каком-то смысле он был уже не здесь, и лишь его тело еще болталось на тонкой ниточке… Так это оно, растерянно догадался Фурман, – то самое состояние, в котором Морозов совершал свои знаменитые внезапные побеги! Ведь и с самим Фурманом не раз случалось что-то похожее – когда нескончаемыми волнами накатывает невыносимая тоска, возникает ощущение запертости, духоты, невозможности дышать и охватывает неудержимое желание бежать куда глаза глядят… Бедный, бедный Саня Морозов… Значит, его уже ничем не остановишь…
Но отпускать его одного в таком жутком состоянии, конечно, нельзя. На часах – начало девятого. А до вокзала нужно добираться на троллейбусе, причем ехать довольно долго. И еще ждать неизвестно сколько на остановке, в этом чужом полутемном городе… Нужно узнать у кого-нибудь расписание электричек и проводить Морозова хотя бы до поезда. Или все же уехать вместе с ним? Без ужина?! Вот кошмар-то завертелся…
На другом конце зала прозвучало объявление о каком-то небольшом изменении планов, и вокруг все заговорили еще громче.
– Ты уже надумал что-нибудь? – Морозов коротко глянул на Фурмана мутными покрасневшими глазами.
– Саня, послушай, я готов проводить тебя до вокзала, а там будет видно. Окончательного решения я пока еще не принял. Но нам в любом случае нужно где-то узнать расписание электричек…
– Ну нет, так дело не пойдет! – обиженно качнул головой Морозов. – Зачем тебе меня провожать? Я совершенно не нуждаюсь ни в чьей помощи и вполне способен сам добраться туда, куда мне надо. (Глаза нехорошие… и дикция у него какая-то странная… Может, он просто выпил?!) А вот ты должен принять свое «окончательное решение» не когда-то потом, а прямо здесь и сейчас, как сказали бы экзистенциалисты. В общем так: через три минуты я отсюда ухожу при любом раскладе. Сейчас я попробую узнать расписание, а ты пока постой здесь и подумай еще немного.
Это нечестно – так давить! Просто какой-то шантаж! Чертов манипулятор – хочет, чтобы я почувствовал себя предателем! Казалось бы, человеку плохо, ему предлагают помощь, а он даже в такой момент что-то корчит из себя: «как сказали бы экзистенциалисты»…
Когда Морозов вернулся, покрасневший Фурман, не дожидаясь его вопроса, упрямо произнес:
– Я могу только повторить: я еще не решил, ехать мне в Москву или нет.
– Что ж, ладно. Будем считать, что это и есть твой ответ. Морозов прощально поднял ладонь, повернулся и, поправляя на ходу сумку, стал вежливо проталкиваться к выходу.
«Вот же какой гад! – подумал Фурман. – Знает ведь, что я не могу бросить его одного…»
– Стой! Подожди, говорю!
– Что? Ты передумал?
– Могу я хоть вещи свои собрать?!
– Конечно, ты имеешь полное право собрать свои вещи! Саня, поверь мне: я даже ни секунды не сомневался, что ты примешь верное решение, – с усталым удовлет ворением сказал Морозов. – Но только теперь нам при дется все делать очень быстро – последняя электричка на Москву уходит в девять.
Фурман побежал за своей сумкой на второй этаж, уже понимая, что они не успевают. Ловить такси? Но денег у них – только на билеты. Да и какие в Калуге такси… А ведь еще вопрос, как Морозов поведет себя на вокзале, когда поймет, что уехать сегодня уже нельзя. Впадет в истерику? Начнет рыдать, кататься по полу, биться головой?.. Да нет, он, скорее, отправится ночью пешком по рельсам, лишь бы не возвращаться туда, откуда он ушел… Ужас! И что с ним тогда делать?
В коридоре Фурман вдруг наткнулся на Славу Лапшина (до этого он его здесь не видел). Лапшин был каким-то давним знакомым Наппу и Мариничевой (чуть ли не их однокурсником). Кроме того, на журфаке он курировал несколько групп в ШЮЖе, в которых преподавали Морозов, Минаев и Максимов, и благодаря этому поддерживал приятельские отношения со всей их компанией. А еще он ходил на карате вместе с Фурманом и Наппу. Вообще-то Слава был довольно странным человеком – как минимум, чудовищным занудой. Он был способен часами мягко выпытывать из собеседника сведения о каких-то мелких подробностях жизни – и знал кучу таких подробностей о каждом. Но при попытках добиться от него прямого высказывания собственной позиции по любым важным вопросам проявлял поразительную увертливость. Ходили слухи, что он стукач. Наппу однажды с необычайным раздражением потребовал от Фурмана с Друскиной, чтобы они больше никогда и ничего не говорили о нем при Лапшине (запретить им говорить о самих себе или о ком-то еще он, конечно, не мог). В любом случае Фурман, принципиально не любивший тайны, был для Славы большой находкой.
И вот теперь Фурману вдруг пришло в голову, что Лапшина можно привлечь к «операции по спасению Морозова». Если бы он поехал с ними на вокзал, то с его помощью было бы намного легче убедить Морозова вернуться. Да и в случае каких-нибудь уличных неприятностей он тоже вполне мог пригодиться… Фурман на бегу объяснил Славе, что происходит, и тот, мягко усмехнувшись, согласился ему подыграть.
Морозов, похоже, совсем затосковал в ожидании. Он даже не слишком удивился тому, что к ним присоединился Лапшин, которому якобы тоже срочно нужно было попасть в Москву по какому-то важному делу. Главным для него было наконец вырваться отсюда и куда-то ехать, двигаться, неважно с кем.
Троллейбус появился через семь минут. В дороге Фурман с Лапшиным стоя поддерживали какой-то необязательный разговор (точно два санитара, сопровождающих буйного больного), а Морозов сидел, молча глядя в темное окно.
Вокзал, естественно, был пуст.
Первая утренняя электричка уходила около семи, но безумное намерение Морозова заночевать прямо здесь удалось нейтрализовать совместными дружескими усилиями. Фурман поспешил «ради смеха» предложить еще более радикальный вариант – идти в Москву по шпалам, заходя передохнуть в пристанционные ночные поселки. Если ничего с нами не случится, к утру как раз доберемся до какого-нибудь Обнинска… «Страшилка» вроде бы сработала, но после этого Морозов сломался. В нем как будто разом кончился заряд, иссякла всякая энергия. Он сильно побледнел, его вдруг слегка качнуло, глаза остекленели.
Фурман с Лапшиным весело затормошили его, а потом перепугались – вдруг это сердечный приступ? Может, надо вызвать скорую?.. «Ребята, ничего не надо, со мной все в порядке… – хрипло произнес Морозов, еле ворочая языком. – Просто я не спал три ночи подряд, и меня немного срубает…»
Его бережно загрузили в троллейбус, посадили у окошка, и он тут же заснул. Немногочисленные поздние пассажиры посматривали на них с осуждением – мол, как же это вы допустили, что ваш приятель так нализался! Лапшин, сидевший рядом с Морозовым в своем приличном сером костюме и белой сорочке, с хорошим кожаным портфелем в руках, хладнокровно прикрывал его собой, как зонтиком, от этих недовольных взглядов. Фурман садиться не стал и, стоя в проходе, ненавязчиво загораживал спящего друга спереди. Ему было грустно. Человек устроен слишком сложно. И с этим ничего невозможно поделать.
«…М-м, все в порядке, я не сплю, – не открывая глаз пробормотал Морозов, когда его тихонько потрясли за плечо. – Мы уже выходим?»
Фурман с Лапшиным под локотки довели его до спальни. Поднимаясь по лестнице, он до смешного удачно симулировал бодрость и ясность ума, но, едва присев на койку, как подкошенный повалился на спину и мгновенно отключился. Они сняли с него пыльные полуботинки и накрыли его сверху курткой. Вокруг сновали люди, громко переговаривались, смеялись – но Морозов уже ни на что не реагировал.
Ближе к одиннадцати наступило время общего угарного веселья, однако присоединяться к нему у Фурмана не было никакого желания. Обойдя несколько раз все коридоры и заглянув во все двери (кое-где на столах уже стояли бутылки), он так и не нашел ни одного из тех, с кем собирался поговорить. В конце концов он осел в пресс-центре, руководительница которого опознала его как «представ и теля молодежной журналистской команды Наппу и Мариничевой» и пригласила принять участие в подведении информационных итогов дня. Заседание проходило довольно тухло, и хотя Фурман записал какие-то статистические данные для отчета Наппу, интерес у него вызывала лишь сама эта знакомая молодая женщина, жена известного московского педагога-неформала. Он даже решился выступить с небольшим конструктивным замечанием по организации сбора – и похоже, это было оценено, потому что потом его позвали на ночной Совет комиссаров…
Когда Фурман в начале четвертого добрался до своей койки, Морозов по-прежнему пребывал в глубокой отключке, а в темной палате передовые педагоги, съехавшиеся сюда со всей страны, по очереди рассказывали матерные анекдоты. Безусловным чемпионом среди них оказался доктор физико-математических наук Рогачев. Фурман вдруг понял, что слышал об этом человеке от комиссаров петрозаводского лагеря «Ивинка»: он был основателем и лидером их отряда, а потом уехал работать куда-то в Сибирь и бросил их, но его «сироты» с гордостью говорили о нем как о блестящем интеллектуале (видимо, подчеркивая тем самым свое отличие от «товарищей»). Тихонько лежа под одеялом, Фурман терпеливо ждал, что эта легендарная личность проявит себя не только как неиссякаемый кладезь пошловатых анекдотов, но увы… «Ох уж эти странные неугомонные взрослые дядьки… – грустно думал Фурман, засыпая. – Предводители молодежи!.. И тетьки тоже хороши…»
Утром Морозов вскочил спозаранку бодрый, как огурчик, а Фурман, естественно, только к завтраку еле-еле продрал глаза…
Перед отъездом Фурман нашел Лапшина и поблагодарил его за помощь. Слава захотел лично попрощаться с Морозовым, поэтому они вместе спустились в вестибюль. Во время теплого дружеского рукопожатия Морозов вдруг удивленно спросил его: «Подожди-ка, а ты разве с нами не едешь? У тебя ведь в Москве было какое-то срочное дело… Или я опять что-то напутал?» Лапшин смутился, и Фурману пришлось спешно соврать, что у Славы изменились обстоятельства и в Москву ему уже не надо.
«Да, просто я должен был сегодня – точнее, вчера ночью, – подписать несколько важных бумажек у одного крайне занятого человека. В общем, это связано с квартирными делами… Но я с ним созвонился, и мы договорились перенести нашу встречу на пару дней», – длинно и путано объяснил Лапшин. (И зачем ему понадобились все эти нелепые подробности?! Хорошо еще, что Морозов не заинтересовался, где здесь Слава нашел телефон и кто разрешил ему сделать междугородний звонок…) «Ну как знаешь, – сказал Морозов. – Всё, пока! Увидимся в Москве».
Выйдя на улицу, они с наслаждением втянули свежий и прохладный утренний воздух. «Ура, свобода! – за смеялся Морозов, а потом заметил, что без Лапшина им будет даже лучше: – Между нами говоря, он ведь довольно занудлив. А дорога-то длинная…»
Народу на вокзале было подозрительно мало. Выяснилось, что они точно вписались в дневное «окно»: последняя перед перерывом электричка ушла десять минут назад, а следующая будет только через три с лишним часа. Калуга явно не хотела их отпускать.
Они купили билеты и снова вышли на привокзальную площадь. «Мне почему-то кажется, что мы здесь уже бывали, и даже не один раз. Только время суток, по-моему, было другое. Может, мы с тобой попали в петлю времени?» – мрачно пошутил Фурман. Он вяло предложил вернуться на слет, немножко поспать, а потом, может быть, и пообедать на дорожку – все равно спешить уже некуда. Но Морозов считал, что о возвращении не может быть и речи: если двигаться, то только вперед! Тут ему в голову пришла какая-то мысль, и, попросив Фурмана по дер жать его сумку, он стал тщательно перетряхивать все свои карманы.
– Чего ты потерял-то? – спросил Фурман.
– Сейчас, подожди минутку… – озабоченно пробормотал Морозов.
– А я ничем не могу тебе помочь?
– Нет… Так, есть! Мое чутье и на этот раз меня не подвело! Пересчитай-ка, сколько у нас всего получается вместе с твоими?
Надо же, Морозов ухитрился наскрести по карманам почти рубль двадцать мелочью. С полтинником, который оставался у Фурмана, можно было бы даже в пельменную сходить, наверное…
– Саня! – с легкой укоризной сказал Морозов. – Пожалуйста, не волнуйся и ни о чем таком не думай – все будет хорошо, я все беру на себя. Сейчас мы с тобой сходим вон в тот гастроном, купим там все, что надо, а потом поищем какое-нибудь тихое местечко и прекрасно проведем время.
– Какой еще гастроном, зачем?! – возмутился Фурман. Но на серьезное сопротивление сил у него не было, и он просто остался на площади.
Небо между тем расчистилось, и весеннее солнышко вдруг стало припекать по-летнему. Поколебавшись, Фурман даже снял куртку.
Минут через десять Морозов вышел из гастронома с большим бумажным пакетом под мышкой. Вручив его Фурману, он купил в соседних ларьках несколько газет и пачку сигарет. На вопрос, куда ему столько газет, Морозов спокойно объяснил, что в случае чего их можно будет подстелить под себя, чтобы не сидеть на грязной скамейке или на холодной земле, или использовать как скатерть. Да и просто почитать, в конце концов, – мы же должны быть в курсе, что сегодня происходит в мире. Вот, к примеру, знаешь ли ты о том, что в Японии… Фурмана в который уже раз удивила практичная предусмотрительность Морозова. Даже трудно поверить, в каком жалком состоянии этот человек находился еще вчера.
Найти подходящее место для «пикника» оказалось непросто. Побродив по ближайшей округе, они решили пройти немного вдоль железнодорожных путей в сторону Москвы. Было очень тихо, поезда не ходили, людей тоже не было видно. А почему бы не расположиться прямо на откосе, на этой свежей молодой травке?
Расстелив газеты, Морозов выложил из пакета на «скатерть» батон белого хлеба, вареную колбасу, нарезанную толстыми кривыми ломтями (да, а что ты хотел – это же Калуга, а не «Елисеевский»), две бутылки лимонада «Буратино», пару развесных соленых огурцов – что очень обрадовало Фурмана, и горстку дешевых конфет. «Это все тебе, – Морозов показал на огурцы. – Я ведь помню, что ты большой любитель таких вещей. Хлеб придется ломать руками, если, конечно, ты не против». – «А если я против, тогда что?» – ехидно поинтересовался Фурман. Но Морозова сегодня было не пронять: «Ну, тогда нам придется что-нибудь придумать, чтобы решить эту проблему». Неподатливые металлические пробки он с трудом сковырнул одним из ключей со своей связки.
На свежем воздухе у обоих вдруг пробудился какой-то чудовищный аппетит – они даже разговаривать перестали, уплетая хлеб с колбасой. А ведь казалось бы, не так давно позавтракали…
Крошки со скатерти Морозов стряхнул «местным муравьишкам», а крупный мусор аккуратно собрал обратно в пакет.
До окончания перерыва оставалось еще два часа. Вполне можно было часок подремать на природе. «Что ж, погреем старые косточки на солнышке, как любит говорить моя бабушка», – с кряхтением заметил Морозов, раскладывая поверх газеты куртку и пристраиваясь на бочок.
Солнце светило Фурману прямо в глаза. Он привычно накрыл переносицу согнутым локтем, и в коричневой темноте под веками запульсировали и завертелись разноцветные круги с острыми лучиками… Тишина оказалась наполнена регулярными безответными сообщениями нескольких птиц; дальними, с эхом, звуками каких-то мелких строительных работ; наивно-настырным жужжанием недавно проснувшейся мухи… Жарко.
«Не спишь?» – осторожно спросил Морозов и предложил обсудить какую-то тему.
Через минуту он решил, что можно немного позагорать: снял рубашку, лег на спину и, подставив солнцу пузо, деловито продолжил беседу.
Фурман решился только расстегнуть до конца рубашку, под которой у него была еще и майка.
Вслушиваясь краем уха в затухающее морозовское бормотание, он вдруг испытал странное ощущение, что они находятся под невидимым прозрачным куполом, который в какой-то момент бесшумно опустился на них, отделив от всего остального мира, и само это желтое, сладкое, загустевшее, словно мед, необыкновенно счастливое время течет по-другому, с неуловимым для них роковым замедлением, как будто они живыми оказались в огромном прозрачном куске янтаря…
Несколько дней спустя Фурман предложил Морозову обсудить один довольно необычный тип психологических состояний, с которыми они оба, насколько ему известно, сталкивались в детстве, да и позднее – можно даже сказать, на протяжении всей своей жизни. И Фурман весьма красочно, со знанием дела и захватывающими интимными подробностями описал состояние «бегства». «Хорошо, допустим, я понимаю, какие состояния ты имеешь в виду, – аккуратно ответил Морозов. – Но хотелось бы знать, к чему ты клонишь». – «Да нет, я вовсе не собираюсь никого ни в чем обвинять! – если ты это имеешь в виду. Просто для меня самого эти случаи были достаточно мучительными, и мне давно уже хотелось разобраться, почему возникают такие, в общем-то, разрушительные состояния, чем они вызываются, каков механизм их действия, можно ли их как-то избежать и так далее. Но, естественно, тут сыграло роль и то, что совсем недавно происходило с тобой во время нашей поездки в Калугу». – «Понятно. А расскажи-ка, кстати, как тебе все это виделось со стороны?..»
В этом восхитительно нелегком разговоре у них родились сразу две многообещающие идеи: теория Великого Отказа, раскрывавшая экзистенциальную природу «побегов», и теория Вечных Мгновений – тех состояний очевидного абсолютного счастья и «останов ленного времени», которые в памяти каждого человека, как предполагалось, могли служить глубинной опорой оправдания жизни.
5
На весенний Большой слет КСП собрались ехать и Наппу, и троица московских челябинцев, и Минаев с Асей, и Морозов – всего в список вошли тринадцать человек. Но на этот раз всем пришлось самим позаботиться о своем походном снаряжении: у Машки, как неохотно объяснила Фурману приближенная к ее тайнам Друскина, развивался сложный и запутанный роман с кем-то из каэспэшного «начальства», и ждать, что она, как обычно, возьмет все на себя, сейчас не следовало. Достаточно и того, что она обеспечила им всем саму возможность поехать на слет, пусть даже в статусе «хвостов» – реально это почти ничего не значило, а без нее вообще все оказалось бы под вопросом. В результате о том, кто и что берет с собой из продуктов и снаряжения, договаривались просто по телефону и в самых общих чертах: мол, в любом случае за два дня никто с голоду не умрет.
Полгода назад Фурман стал обладателем двухместной палатки и брезентового ватного спальника на пуговицах. Собираясь в их первую поездку на Большой слет, он взял палатку и этот тяжелый, неудобный и, судя по всему, немало испытавший на своем веку спальный мешок в пункте проката рядом с домом. На тот момент обращаться с палаткой ни он, ни остальные не умели, и на слете ему приходилось просить о помощи чужих людей. При торопливом сворачивании лагеря кто-то из соседей случайно (а может, и нарочно) подменил его уже сложенную палатку на другую. Когда он пришел сдавать взятые напрокат вещи, обнаружилось, что на палатке нет соответствующего клейма, зато есть дырки в полу и заплатки на крыше. Принимать ее обратно категорически отказались.
Найти похитителей, естественно, не удалось, хотя Фурман даже сделал пару междугородних звонков. Договориться о разделении материальной ответственности ни с кем из «своих» – а ведь Фурман брал ее для всех, а не для себя, – тоже не получилось (и это было очень неприятно). В конце концов ему пришлось просить деньги у родителей и платить за «утраченный туристический инвентарь», а заодно уж и за спальник, – правда, по довольно щадящей цене, «с учетом общей амортизации и изношенности оборудования». В общем, теперь у него, в отличие от остальных, все было хоть и старенькое, но свое. А уж таскать на себе плохо уложенный неподъемный рюкзак было особым «мужским» удовольствием…
Многотысячное карнавальное шествие под веселым весенним небом через пустынные, только-только начавшие зеленеть поля и полупрозрачные леса к тайной цели – некой гигантской поляне, способной вместить всех, поражало не только числом участников самого разного возраста, от седовласых морских волков в тельняшках до грудных младенцев (а уж сколько там было сияющих, улыбчивых девушек и женщин…), но и особым духом самоуправляемой вольницы.
В лесу вдруг посыпался дождик, к счастью, недолгий. На опушке, уже тесно заставленной палатками, их слегка растерявшуюся группу нагнала Машка и показала относительно свободное место для стоянки. Кое-как натянув три своих палатки (встать совсем рядом не получилось, пришлось разделиться), они побросали в одну из них неразобранные рюкзаки и заторопились в лес за дровами. Тут-то и сказалась непродуманная организация: на всю группу имелось только два небольших топорика и ни одной пилы, поэтому большинство «охотников» вынуждены были заняться банальным сбором хвороста. В ближней части леса со всех сторон деловито постукивали топоры и со злым жужжанием ездили пилы опытных походников, так что за добычей приходилось забредать далеко в глухую мокрую чащу. На долгом и сложном обратном пути треть набранной охапки терялась. Тем не менее и в их нелепой компании нашлись бывалые люди, которые предусмотрительно приволокли откуда-то пару бревен для сидения. Общими усилиями развели костер, кто-то сходил к ручью за водой, и в ожидании явно нескорого обеда решили немного передохнуть – на пригревшем после дождя майском солнышке всех вдруг разморило. Ладушин с Володей-Номиналом и еще несколько взрослых лбов, весело толкаясь, побежали наперегонки к палатке, чтобы успеть занять местечко поудобнее: первые трое победителей могли с комфортом откинуться на рюкзаки, наваленные у дальней стенки, а всем остальным пришлось опираться спинами на дружески подставленные колени и голени. Зато те, кто оказался с краю (Фурман, например, не стал ни с кем соревноваться), могли свободно вытянуть натруженные ноги и даже, благодаря откинутому пологу, немножко «позагорать», подвернув штаны, – в глубине-то палатки было сыровато. Наконец все как-то пристроились друг к другу и затихли.
Ирина, которой Володя по-рыцарски уступил место на рюкзаках, вскоре нарушила сонное молчание, заметив в шутку, что довольно тяжкая атмосфера в этом небольшом помещении напомнила ей наверняка известную всем с детства русскую народную сказку «Рукавичка»: там тоже в маленькую избушку – а точнее, просто в варежку – битком набились разные звери, и ей только теперь стало понятно, как же им было нелегко… Ладушин с Номиналом тут же развили эту рискованную аналогию, и вся куча-мала бессильно задергалась от хохота.
На шум в палатку заглянули безнадежно опоздавшие Друскина и Наппу. «Ой, вот вы где все прячетесь, оказывается! – удивилась Соня. – А я вас ищу-ищу…» Ей лениво объяснили, что они здесь вовсе не прячутся, а репетируют русскую народную сказку «Рукавичка». Соня, видимо, не догадалась, в чем тут юмор, зато Наппу быстро сориентировался и, даже не спросив: «Кто-кто в этом домике живет?», с диким уханьем бесцеремонно напрыгнул на расслабленных отдыхающих, вызвав возмущенные вскрики части многослойной конструкции и ехидные смешки уцелевшей боковой линии. «Дураки, вы не поняли – я же медведь из вашей сказки!» – оправдывался Наппу, бултыхаясь среди отбрыкивающихся тел. Когда все немного успокоилось, Соня, сиротливо стоя у входа, обиженным детским голоском попросила всех немножко подвинуться и освободить ей хоть какое-нибудь, самое малюсенькое местечко. «Иди сюда, Друскина, у меня тут еще много места!» – с наглым радушием предложил ей Наппу. Но втискиваться и сидеть рядом с этим «медведем-грубияном» она, конечно, не захотела.
Делать было нечего – Фурман поджал ноги и показал ей: давай, садись здесь. Пока Соня елозила, поудобнее притираясь спиной к его услужливым коленкам, он вдруг забеспокоился: в мрачноватой шутке Ирины содержалась большая доля не слишком приятной истины – а все ли в порядке с его собственными шерстяными носками, в которых он как-никак полдня проходил в резиновых сапогах?.. Он даже начал потихоньку принюхиваться, но так ничего и не разобрал. Хотя теперь-то что уж… сидим.
Вскоре все задремали.
Через какое-то время Фурман очнулся с сильно затекшими ногами, особенно левой. Он решил потерпеть, сколько можно, чтобы не будить Соню, и даже постарался чуть-чуть ослабить собственную нагрузку на того, кто сидел сзади в такой же неудобной позе. Но ему становилось все хуже, и наконец, уже близкий то ли к обмороку, то ли к судорожному припадку, он тронул Соню за плечо и шепотом попросил ее привстать на минутку. Она поспешно отлепилась от него, встала на колени и, обернувшись, спросила с тревожной обреченностью: «Что, я сделала тебе больно?..» Фурман в это время мучительно разгибал ноги. Сонина готовность к отчаянию слегка раздражила его: опять она думает только о себе. «Да нет, просто у меня ноги затекли…» – он криво улыбнулся. Счастливое возвращение жизни в онемевшую культю было похоже на пытку. Еще немного… «Ладно, уже все, можешь садиться обратно». – «А ты правда в порядке? – неуверенно спросила Соня. – Может, я лучше пойду? Я могу и у костра посидеть на бревнышке…» – «Да ладно тебе, садись, говорю! Прямо на меня обопрись спиной – тебе так будет даже удобнее, по крайней мере мягче. Ну, давай!..»
Соня села и осторожно откинулась на него: «Тебе так не тяжело?» – «Нет». – «По правде?» – «По правде. Всё, спим».
…Солнце еще не спряталось за облаками, но Фурман голыми икрами уже ощутил вертлявую игру предвечернего ветерка. Сверху Соня хорошо согревала его. Вообще-то на ней самой кроме джинсов была только тонкая клетчатая рубашка с короткими рукавами и лихо завязанными в узел нижними краями, так что своим открытым животом она должна была еще раньше почувствовать этот неприятный ветерок. Но она не шевелилась, а будить ее, чтобы спросить, не холодно ли ей, было бы глупо. Может, накрыть ее чем-нибудь? Фурман поискал глазами, но рядом ничего подходящего не было. Кстати, где она могла оставить свою куртку или свитер – что там на ней с утра было? Небось, бросила на бревне… Левая рука Фурмана лежала поблизости от Сониной, и он решил тихонько дотронуться до нее, чтобы проверить, насколько она холодная. Действительно, кожа была какая-то слишком уж прохладная. Может, она просто не чувствует во сне, что замерзла? Так ведь и простудиться сдуру недолго. Надо же ей было разгуливать с голым пузом – все-таки еще не лето! Одно дело, когда здоровенным мужикам стало жарко от физической работы и они поснимали рубашки и майки, а другое дело – хрупкая Соня, похожая на слишком рано проснувшуюся бабочку. Фурман бережно накрыл ладонью ее тоненькое запястье – пусть хотя бы в этом месте будет теплее. Неожиданно ее рука слабо ответила – шевельнулась с явной благодарностью. Обрадованный, он успокоительно обнял это пробудившее хрупкое существо: мол, спи, я буду тебя охранять. Соня вздохнула. И затихла.
Все это было довольно необычно и весело. От кого, интересно, он собрался охранять ее руку – от этих мирно дрыхнущих вокруг зомби? Они, конечно, голодны, но эта худенькая полудетская ручка их вряд ли привлекла бы. А с Сонькой-то что случилось? Кажется, она понемногу начинает вести себя почти нормально. Или это происходит с ней только в полусне? Она, конечно, уже притерпелась стоять в общем поющем кругу с малознакомыми людьми и даже держаться за руки (у коммунаров-то все с детской непосредственностью брались «за ручки» и ходили по улицам, счастливо размахивая ими, – Фурману, правда, эта «детсадовская» манера тоже не очень нравилась). Может, это последствия пережитого Соней на сборе в Челябинске «просветления»?..
Через какое-то время Фурман почувствовал, что его ладонь, лежащая на Сонином запястье, вспотела. Но покидать это доверенное и охраняемое место ему не хотелось: кто знает, пустят ли его обратно и повторится ли еще когда-нибудь такой удачный момент. Поэтому он позволил своей кисти медленно приподняться на несколько воздушных сантиметров, оставив кончики сначала трех, а потом двух пальцев на столь терпимой к нему драгоценной поверхности. Зависший над землей дирижабль слегка покачивало и сносило слабыми течениями, и его нежные якоря поневоле тянулись за ним следом, невесомо скользя среди одиноких сухих пушинок и былинок. В сонной тишине с чудесной печальной задержкой отсчитывались мгновения короткого всеобщего мира…
И что к этому могла бы добавить Теория касаний?
Но пробудившийся не ко времени дух научного познания жадно требовал проверки гипотез и немедленных экспериментов. В быстро сгустившемся воздухе неуклюжий мирный дирижабль трансформировался в компактную высокоманевренную машину разведки. Перед маленьким сплоченным экипажем была поставлена задача незаметно высадиться на расположенном неподалеку пустынном горном плато и, соблюдая крайнюю осторожность, проверить… произвести рекогносцировку… – в общем, узнать, что будет. А там уж как получится.
Задание было чрезвычайно опасным.
И даже попросту диким, если честно. Какое-то безумие. Но… надо было торопиться.
Беспредельное по наглости мастерское мягчайшее касание-посадка на голый живот… Все прошло успешно!
Ай! Началось непредсказуемое мощное колыхание почвы, землетрясение! Что делать?! Держаться несмотря ни на что!
– Прекрати, щекотно! – сдавленно шепнула Соня и, цеп ко схватив парализованную машину разведчиков, строго перенесла ее на прежнее насиженное место.
«Миссия окончена!» – объявление по радио.
Уф!.
Какая ужасно смешная нелепость!
Но ведь, кажется, все обошлось?..
Вскоре в палатку заглянул костровой:
– Тук-тук-тук, есть кто живой? Вы вообще-то есть собираетесь? У нас все уже давно готово!
Поздно ночью, после многочасового концерта на большой сцене и традиционного долгого гуляния по чужим могучим кострам, у которых продолжали петь разные известные люди, их усталая компания вернулась к своим холодным отсыревшим палаткам. Предполагалось, что в паре стареньких двухместных палаток разместятся по четыре человека, а в еще одной, поновей и чуть попросторней, – пять. Распределение напрашивалось само собой: Наппу с четырьмя новыми парнями; Минаев, Ася, Морозов и Друскина; трое челябинцев и Фурман. И тут вдруг выяснилось, что у челябинцев есть только один спальник на троих (при планировании поездки они об этом почему-то умолчали, но Фурман, наверное, мог бы сам догадаться, что у обитателей общаги таких вещей не окажется, и заранее что-нибудь придумать). Все расстроились. Ладушин с Номиналом бодро заявили, что готовы спать прямо на полу, накрывшись куртками. Фурман считал, что это безобразие. Хорошо, а какие есть варианты? Ася предложила отдать свою и Борькину ветровки – если, конечно, это чем-то поможет. Было понятно, что этого мало. Ирина задумчиво сказала, что в принципе может разделить с кем-нибудь свой спальник. То бишь попытаться залезть в него вдвоем. А что, мы так уже делали в походах: если не застегивать молнию до конца, то два небольших и не слишком упитанных человека довольно легко туда войдут. Так даже теплее может быть, чем по отдельности. Ладушин на это мрачно заметил, что войти-то они, может, и войдут, а вот выйти… Пока все смеялись и шутили, Фурман прикинул возможности своего древнего спального мешка. Пуговицы у него расстегивались только до середины, и он был заметно ýже, чем эти новые на молнии: например, согнуть ноги, лежа на боку, в нем было уже трудно. Двум даже не слишком плотным мужикам в нем, скорее всего, просто не поместиться – оба окажутся по большей части снаружи, ничем не прикрытые. Но попробовать, конечно, можно. Ночка, похоже, в любом случае будет тяжелой… Ирина сказала, что если исходить из чисто практических соображений, то Володька кажется более тощим. Но зато Ладушин вроде бы немного пониже и в целом покомпактнее. Короче, пусть на нее никто не обижается, она выбрала Ладушина. Фурман тут же пригласил Володю к себе, но тот поблагодарил его и заверил всех, что он прекрасно устроится один, завернувшись в куртки, – так хоть ноги можно будет нормально вытянуть. Ситуация была довольно неловкая, тем более что Ладушин вдруг злобно уперся. Они с Ириной обменялись непонятными для посторонних грубыми колкостями, Володя жестко одернул своего приятеля, тот по-уличному огрызнулся, и дело запахло скандалом… Но тут Соня звонким голосом объявила, что она готова пожертвовать собой и сделать такое предложение, которое немедленно всех помирит. Все посмотрели на нее с легким раздражением: мол, ты-то, бедненькая, куда лезешь?.. «Значит, так. Я уступаю свой большой, теплый и, можно сказать, почти новый спальный мешок Володе! Собственно, это все. Ура, товарищи! …А почему никто не кричит ура?» – «Ну а ты сама-то где собираешься спать, на улице?» – почти хором возмущенно спросили ее. «Почему на улице? – обиделась Соня. – Я пойду к Фурману. Если он не против, конечно. Но ведь он сам только что предлагал Володе разделить с ним ложе, так сказать. А я чем хуже в качестве кандидатуры? Я вон какая маленькая, худенькая и места почти не занимаю… Я тебя не стесню, честное слово! Впрочем, если ты по каким-то причинам отказываешься…» – «То я пойду к кому-нибудь другому!» – не удержался Фурман, и все захохотали.
Но вообще-то это смелое решение действительно снимало почти все проблемы. Хотя, конечно, от Сони никто не ожидал ничего подобного. А никому другому такой вариант и в голову не мог бы прийти.
– Ну, Соня, ты даешь! – сказала Ася. – Ты меня просто поразила. Ты поступила как настоящий пионер-герой из детских книжек, на которых нас всех воспитывали. Честно, я тобой горжусь! Я бы сама на такое, наверное, не решилась.
– А почему это, Аська, ты бы не решилась? – заинтересовался Минаев. – Ты что, не хочешь быть пионером-героем?..
– Отстань! Лучше похвалил бы Соню!
– Ты, как всегда, права. Сонька, я тоже тобой страшно горжусь! – с веселой горячностью подхватил Минаев. – Мы все тобой гордимся! Вот только Фурман, мне кажется, что-то приуныл. Жалеет, наверно, что его решили слегка уплотнить.
– Ну, а сам-то ты, Фурман, что скажешь? – спросила Соня. – Только давай без этих твоих шуточек. А то знаем мы тебя…
– А что я? Я, наоборот, только рад! Конечно, ты меня гораздо больше устраиваешь в качестве, как бы это выразиться, напарника, чем все эти здоровенные мужики. Глупо даже сравнивать! Я, честное слово, с облегчением выдохнул, когда ты это предложила. Ты меня просто спасла! И не только меня. Благодаря тебе никто из нас этой ночью не замерзнет.
– Ладно-ладно. На этот раз, уж так и быть, поверю тебе.
– Только я бы все-таки сделал немножко по-другому…
– Что еще?!
– Я бы оставил твой большой спальник себе, точнее нам, а Володьке отдал бы свой, потому что вдвоем в нем будет тесновато, а одному – в самый раз.
– А, ну это делай как знаешь, тебе видней, – успокоилась Соня.
Быстро уладив вопрос со спальниками, Фурман пошел утихомиривать Ладушина. В темноте он нашел его не сразу – по тлеющему огоньку сигареты, блеснувшим очкам и белому свитеру. Игорь курил в одиночестве, пуская дым в небо. На неловкое прямое предложение Фурмана обсудить возникшие проблемы он ответил с какой-то витиеватой грубостью: мол, к чему нам с тобой притворяться, мы оба прекрасно знаем, что все, что мы можем сказать друг другу, это только пустые слова. Ты у нас, Эдуардыч, известный любитель побалакать о всяких личных проблемах. Но если тебе так уж приспичило потрепаться, ты выбрал для этого не самое удачное время и место и не самого подходящего человека. Поэтому лучше тебе сейчас просто уйти от греха подальше. Тем более тебя вон Друскина ждет не дождется… Эта интонация была чем-то новым в их дружеских отношениях. Но Фурман только добродушно посмеялся в ответ. Главным для него было убедить Игоря не устраивать скандал и не оскорблять Ирину, которая, в конце концов, не хотела сделать ему ничего плохого. «Ты вообще ничего обо мне не знаешь», – запальчиво заявил Игорь. Доведя эту мысль до абсурда, Фурман заметил, что кое-что он все-таки знает. Ладушин упрямо злобился: «Да мы с ней просто задушим ночью друг друга в этом чертовом мешке!» – «Пожалуйста. Но сделайте это по-тихому, чтобы никого не будить. Кстати, а нельзя ли придумать какой-нибудь другой способ, чтобы потом с трупами было поменьше возни?» – «Малыш, ты просто не понимаешь!..» – с холодным отчаянием проговорил Ладушин и махнул рукой: ладно, черт с вами со всеми! Согласился, короче, не буянить. Вот и хорошо.
«Ну что, пойдем обратно?»
Игорь сказал, что хочет выкурить еще одну сигаретку «наедине с самим собой», и Фурман, оступаясь в темноте и жалея, что не прихватил фонарик, направился к палаткам.
В застывшем ночном лесу ощутимо похолодало. Даже пар изо рта, кажется, был виден в слабом лунном свете.
Фурмана вдруг затрясло – и руки, и ноги, и даже зубы стали неудержимо отбивать развеселую мертвецкую чечетку. В-вот с-с-стран-н-но – не от холода же? Конечно, скрытое напряжение этого разговора было очень сильным. И какого черта он должен брать все это на себя?.. Фурман мог лишь смутно догадываться о том, что вызывало у Игоря такое бурное сопротивление. Но теперь ему было не до того: он и сам почему-то жутко трепетал перед этой бессонной ночью, тщетно пытаясь взять себя в руки и успокоиться. Ситуация вынужденная, да им всем и не впервой по-походному спать в общей куче – правда, все-таки не в такой тесноте. Но опасно волнующим это, в общем-то, почти рядовое испытание делала их с Соней сегодняшняя дневная игра с касаниями: она сдвинула дистанцию, непредсказуемо изменила все расстояния. И сейчас он только снаружи, для других был прежним, узнаваемым Фурманом, а в этой оболочке, словно в полом сосуде, мягко колыхался холодный жидкий огонь, бесформенная и хищная космическая плазма… Бр! Ужас! Вот чего он с детства боялся, так это вдруг оказаться на самом деле не человеком, а инопланетным чудовищем, безжалостным всесильным монстром. Фу-фу-фу! Чур меня, чур! Я – это всего лишь я, нелепый, трясущийся неизвестно от чего человечек под равнодушными звездами…
«Дам и мадмуазелей просим пройти вперед и занять места согласно купленным билетам!» – объявил Володя и вежливо приподнял полог палатки. «Мужиков» строго попросили подождать снаружи. Через какое-то время им наконец крикнули: «Можете заходить!»
В освещенной фонариком «избушке-варежке» Ирина и Соня, наполовину высунувшись из своих спальников, с несколько напряженными лицами ждали «званых гостей». По первому ощущению внутри было почти так же холодно, как снаружи. «Не пугайтесь, за ночь мы тут все хорошенько надышим, и станет немного потеплее», – успокоила их Ирина, пока они торопливо задраивали вход. Она расположилась слева, Соня – по центру, а справа вдоль провисающей стенки (натянуть палатки как следует, конечно, забыли) был одиноко расстелен узенький фурмановский спальник, предназначенный Володе. Разумеется, улечься впятером просто в один ряд в двухместной палатке было невозможно. Вариант расположиться «валетом» по разным причинам был отвергнут. Поэтому Соне с Фурманом, которым как главным доходягам выделили самое теплое местечко в середке, рекомендовали сдвинуться вместе с их спальником «вниз», ближе к входу, чтобы всем было чуть-чуть посвободнее хотя бы на уровне плеч. Когда «подготовительный этап» завершился, все внимательно осмотрелись в последний раз, на всякий случай запоминая при свете, где что лежит, и, погасив фонарик, приступили к «процессу окончательной укладки» – естественно, с пионер-лагерными шутками, нервными смешками, неуклюжими медвежьими надавливаниями куда не надо и взаимными извинениями, – и долго еще ворочались и пихались, дружно корчась от смеха и опасно сотрясая свой хлипкий домик… Фурман еще успел подумать, что Ирина с Ладушиным держатся вроде бы достаточно миролюбиво. Потом все затихло. Остались только холод, темнота и бережные дружеские попытки согреть друг друга.
Конечно, Фурману повезло – рядом с маленькой, хрупкой Соней места для него вполне хватало. Но через час стало понятно, что лежать вдвоем более или менее одетыми в зимнем нейлоновом спальнике, да еще и под набросанными поверх ветровками не просто тепло, а уже почти жарко. Выпростав наружу руку, Фурман осторожно стянул куда-то набок куртки и приоткрыл тоненькую щелку для охлаждения.
Какая бесконечная, гулкая тишина вокруг… Он ни о чем не думал. Не спал. Думал ни о чем. Не он. Кончики пальцев сонно/бессонно тронули чудной завиток волос. Коснулись виска. Парили и опускались, едва касаясь, в бесконечной тишине. Изумленно внимали теплым живым изгибам и невидимым, неведомым пейзажам лица другого, другой… А губам, похоже, стало щекотно, и они дрогнули в улыбке. Чудеса! Потом на встречу с ним явились такие же изумленные ласковые руки. Потом стало можно тихо обняться. И притронуться губами к другим губам. И крепко прижаться друг к другу.
Зачем? Для чего? Что все это означает?
Это означает прощание: прощай, Нателла…
Целовались, целовались ненасытными изучающими истертыми губами.
Беспокойная рука решила забраться под чужую рубашку и слегка запуталась в складках плотной ткани, – вдруг Соня резко отдернулась, забилась, забрыкалась, яростным шепотом крикнула: «Нет! Нет! Нельзя!..»
Оба надолго замерли, схватив друг друга.
Он глупо, в полной растерянности и легкой обиде, даже искренне ничего не понимал. Нет?! Почему «нет»? Нельзя под рубашку? Но с чего вдруг такая злоба? Ну, нельзя и нельзя. Он же не насильник. Хотя почему нельзя? Потому что он – чужой? А тогда как же она с ним так целовалась – с чужим? Он ведь где-то читал, что девушки и юноши воспринимают поцелуи совершенно по-разному, причем девушки, кажется, придают им куда меньшее значение…
Но это же Соня, ужасная недотрога, она, небось, никогда ни с кем и не целовалась. Хотя… Все равно непонятно, что здесь только что произошло. Откуда в ней такая странная злость?
Шепот:
– Ты обиделся?
Вот те раз! Странный вопрос. И что он теперь должен ответить? Ну хорошо (шепотом):
– Нет.
Пауза.
– Правда?
Пауза.
– Нет. Немножко.
Горестно:
– Да?..
Что тут скажешь?
– Почему?..
Сказать мягко, но честно:
– Просто ты как-то слишком резко меня оттолкнула.
Пауза.
– Прости. Я не хотела тебя обидеть. Это как-то само…
Что, – неужели плачет?! Господи, ну вот, приехали…
Ладно, я ведь ей друг. Вытер бедненькой слезы. Утешительно обнял.
– Поцелуй меня. Пожалуйста… Да пожалуйста!
Тихо целовались, целовались…
– Давай теперь хоть немножко поспим, ладно? А то завтра не встанем.
* * *
На рассвете Фурман почувствовал, что ему надо срочно сбегать в туалет, иначе живот просто разорвется. Все еще спали, и, несмотря на спешку, приходилось действовать аккуратно. Туалетную бумагу он предусмотрительно заложил поближе к выходу.
Так, а куда бежать-то? Ведь никакого туалета здесь не существовало. Одна сонная природа. И всюду понатыканы эти чертовы палатки! Еле сдерживаясь, он кое-как добрел до прозрачного, но незаселенного уголка леса, спрятался за каким-то толстым стволом и, тревожно озираясь, наконец со стоном освободился… Господи, что за жизнь такая!.. Он еще немного посидел, приходя в себя. И вдруг заметил, что молодая травка вокруг покрыта пушистым синеватым инеем. Ничего себе! Это сколько же сейчас градусов-то? А он тут расселся, можно сказать, на морозе…
До палатки Фурман добежал с первыми лучами солнца. Задраив за собой полог, он проскользнул в нагретый Соней спальник, осторожно прижался к ней спиной и с грустным удовольствием начал засыпать. Но ему мешала какая-то остренькая жгучая боль внизу живота. Перемены позы и привычно наложенные на больное место ладони не помогали. Да и само это больное место – вернее, раскаленное добела крутящееся острие, – находилось вовсе не в глубине живота, как казалось вначале, а, к испуганному удивлению Фурмана, ниже – в правом яичке. Горячие волны боли расходились кругами именно оттуда, и кошмарный раскаленный прут был воткнут именно в это нелепое, секретно-беззащитное, как знают все мальчишки, но в обычной жизни почти не ощущаемое местечко. Фурман никогда раньше не испытывал подобной боли. (Однажды в детстве у него ночью так разболелся живот, что он действительно криком кричал и буквально лез ногами на стенку – почему-то ему казалось, что вверх ногами чуть-чуть легче. Домашние в ужасе вызвали скорую, но пока она ехала, все уже само прошло. «У детей так бывает», – сказал врач на прощанье.) Эта боль была очень странной и предельно унизительной. Он терпел, пытался свыкнуться с ней, но за пару утренних часов она так и не утихла. Интересно, можно ли притерпеться к тому, что ты насажен на кол?
Остальным, когда они проснулись и начали вставать, Фурман по очереди объяснил, что у него разболелся живот, и через какое-то время они все-таки оставили его в покое. В том числе и Соня с ее растерянным сочувствием. «Это все из-за меня, да?..» – тихо спросила она, уже готовая расплакаться от обиды и отчаяния. («Да, из-за тебя!» – мог бы ответить он и нехорошо засмеяться.) «Что “все”? – с усталым раздражением спросил Фурман. – Не говори глупостей! При чем здесь ты? У меня просто болит живот… Да, сильно… Да, конечно пройдет, куда он денется. Ну все, иди есть… Нет, я пока не буду. Нет, не надо».
А правда – из-за чего все это с ним случилось? В наказание? Мгновенная и, надо признать, очень точно нацеленная божья кара за его очередное ночное «приставание»? А может, это жуткая мистическая месть Нателлы за измену? Бред, конечно. Самое простое и естественное объяснение: он всю ночь был, так сказать, сильно «разгорячен», а потом посидел на холоде – вот ему как раз это место и просквозило.
После завтрака ему пришлось принимать соболезнующих посетителей из других палаток, они шутили, подбадривали, он бледно подыгрывал.
Только Ладушину Фурман признался, что с ним. Тот хмыкнул от неожиданности и смущенно покачал головой: «Даже не знаю, что тебе сказать, Эдуардыч… Чем тут можно помочь-то? Лежи пока. А я попробую что-нибудь придумать. Может, поискать тебе врача? Среди такой тучи людей наверняка кто-то есть. Или лекарство какое-нибудь? Хотя какое здесь лекарство…» – «Да ничего не надо. До Москвы дотерплю, а там будет видно. Может, к тому времени все уже само как-нибудь рассосется».
Ладушин спросил, пробовал ли он встать. Фурман, ухватившись за его руку, с кряхтением поднялся и сделал пару шагов в согнутом положении. В принципе, идти вроде можно, если не спеша… «Ладно, – сказал Игорь, – ложись обратно. Пока можешь не напрягаться».
Вскоре прошел слух, что где-то совсем неподалеку, примерно в километре от лагеря, проходит еще одна железнодорожная ветка, одноколейка, и якобы через два или три часа оттуда в Москву отправится какая-то специальная «договорная» электричка. Она придет пустая и заберет тех, кто захочет уехать пораньше. Все остальные ближе к вечеру будут выбираться отсюда своим ходом, так же как приехали.
Для Фурмана это было бы настоящим спасением – он плохо представлял, как ему удастся пройти весь обратный путь, и даже примеривался к тому, чтобы остаться здесь еще на одну ночь. Хотя смысла в этом не было никакого.
Вернувшиеся разведчики все подтвердили. Более того, электричка уже стоит на полустанке, но двери еще закрыты. До ее отбытия, по неуточненным сведениям, чуть больше двух часов.
Решение было быстро принято, и все начали складывать вещи. Фурман под шумок кое-как напихал ненужную одежду в рюкзак, но самостоятельно свернуть свой спальный мешок уже не смог, хотя и попытался. Кто-то зашел в палатку, рассердился и быстро все сделал. Постыдное положение инвалида вызывало у Фурмана двойственные чувства.
Игорь сообщил ему, что он переговорил с парнями: его рюкзак кто-нибудь возьмет, это без вопросов, а поскольку время уже немножко поджимает, они в принципе готовы донести до электрички на руках и самого больного. А что – расстояние тут не такое уж и большое, и в две пары, сменяя друг друга, им это будет раз плюнуть. Фурман ответил, что он ценит их желание помочь, но не надо доводить все до абсурда. Насчет рюкзака еще можно подумать – наверное, это будет разумно, но пойдет он, естественно, сам, своими ногами. Игорь задумчиво сказал, что вообще-то можно было бы соорудить из подручных средств носилки, но сделать их как надо они уже не успевают. Слушай, а может, просто связать тебя покрепче и нести на большой палке, как оленя?..
Неуклюже выбравшись из уже пустой палатки, Фурман сощурился от яркого света – солнце опять припекало совсем по-летнему. Его слегка познабливало, поэтому под курткой у него был толстый свитер. Тяжко будет пилить так по жаре-то, подумал он. Ладно, менять что-то уже поздно. Переоденусь в электричке. Если дойду…
На финишном отрезке пути, когда они вышли из леса на грунтовую дорогу и увидели землю обетованную – сверкающие рельсы и стоящую невдалеке зеленую электричку, – их группа, вероятно, смотрелась чрезвычайно живописно: впереди с выпученными глазами и с посохом в руке торопливо ковылял обливающийся потом маленький косматый патриарх; рядом семенил изящный подросток-поводырь с густыми темными кудрями и страдальчески озабоченным лицом; сзади эту странную пару надежным полукольцом охватывал небольшой разномастный отряд телохранителей с тяжелыми рюкзаками; среди сопровождающих были и две девушки – маленькая веселая блондинка и утомленного вида брюнетка, обе двигались налегке, а четверо их спутников несли сразу по два рюкзака – на спине и на груди…
Они дошли!
В вагоне нехорошо побледневшего Фурмана заботливо посадили у окна, и он почти сразу отключился.
Уже в Москве, когда все толпой ввалились в метро, у Фурмана спросили, куда он поедет. Если к себе домой, то кто-то должен его проводить. А там нужно будет сразу вызвать врача. Соня напомнила, что сегодня воскресенье – в поликлинике есть только дежурный врач, и не факт, что он вечером пойдет по вызову. Тогда лучше сразу звонить в скорую, бодро посоветовал кто-то. Фурман скривился. Наппу сказал, что он может предложить другой вариант: у него сейчас на несколько дней поселился Игорь Чарковский, который, между прочим, не только занимается родами в воду, но еще и является практикующим целителем-экстрасенсом, причем довольно сильным, в чем сам Наппу несколько раз убеждался и на собственном опыте, и на примере других людей, – короче, можно прямо сейчас поехать к нему и попросить Чарковского помочь. К Наппу по какому-то делу собирались заехать еще несколько ребят, и эта перспектива показалась Фурману по крайней мере веселей, чем сидеть дома наедине с болью (если Чарковский не поможет, этим все равно закончится, так лучше уж насколько возможно оттянуть этот печальный момент). Кстати, и Морозов сказал, что поедет с ними, – ему тоже не хотелось домой.
– Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? – грустно спросила Соня, когда они стояли на платформе в ожидании поезда.
– Мы все устали и не выспались, поэтому, наверное, будет правильнее, если ты сейчас поедешь к себе домой, примешь горячую ванну и нормально отоспишься, – мягко ответил Фурман. – По-моему, тащиться дальше со всей этой кодлой тебе нет никакого смысла. А завтра созвонимся. Ладно?
– …Ты точно уверен, что я тебе ничем не могу помочь? Фурман пожал плечами и натужно пошутил:
– Боюсь, мне уже никто не сможет помочь. Сонины глаза тут же наполнились слезами, и Фурману в очередной раз (о господи!) пришлось ее утешать и убеждать, что все нормально. К счастью, тут подошел поезд.
Чарковский оказался дома. Наппу в двух словах описал ему ситуацию, и он согласился «посмотреть» больного. В обеих комнатах толпился народ, поэтому осмотр было решено провести на кухне за закрытой дверью – Наппу обещал проследить, чтобы им никто не помешал. Чарковский показался Фурману нервным и осунувшимся, хотя, возможно, он и раньше таким был. Знакомо кося куда-то в сторону, он тихо сказал, что предстоящая процедура потребует от него некоторой дополнительной энергии и ему необходимо немножко подкрепиться. Открыв дверцу маленького холодильника, он с полминуты внимательно изучал его пустые полки, а потом достал масленку. На первый взгляд она была пуста, но Чарковский тщательно выскреб ее указательным пальцем и несколько раз сосредоточенно облизал его. Неужели он такой голодный, с испуганным сочувствием подумал Фурман. «Игорь Борисович, извините, а может быть, попросить кого-нибудь быстренько сбегать в магазин, купить еды?» – «Что? А, нет, не стоит. Этого достаточно… – Он помыл руки. – Ну что ж, приступим. Виталий мне сказал, что у вас возникли какие-то проблемы с животом. Расскажите, что именно вас беспокоит». Слушая Фурмана, он начал с силой тереть ладони друг о друга и массировать кисти. «Не обращайте внимания, продолжайте, просто мне нужно немножко подготовиться». Когда Фурман закончил свои объяснения, Чарковский поинтересовался, что он ощущает сейчас (вроде бы болит поменьше, чем раньше), и сказал, что ситуация ему в общих чертах понятна, но на всякий случай он должен произвести визуальный осмотр. Фурман, как ни странно, совершенно не ожидал, что от него потребуется раздеваться (ну, экстрасенс же и так видит все насквозь?..), и нелепо застыл, не понимая, что ему делать. Игорю Борисовичу пришлось терпеливо попросить его спустить штаны и трусы. Фурман вдруг сообразил, что мылся он уже довольно давно – вечером перед отъездом. Кошмар! Но что же делать… Удовлетворенный результатами осмотра, Чарковский разрешил ему одеться и потом предупредил, что сейчас он несколько минут поработает руками. А Фурман пусть расслабится, постоит спокойно и подумает о чем-нибудь хорошем. Бояться ему нечего, скорее всего, он ничего не почувствует.
Пока целитель, тихонько сопя, делал энергичные пассы вокруг пораженной зоны, пациент старательно смотрел в окно.
– Неприятных ощущений нет?
– Нет.
Думать «о хорошем» не получалось. В голове мелькала всякая случайная муть, руки и ноги заледенели. Тоска… Ну, и что делать дальше, если экстрасенс не поможет? Как же не хочется идти к врачу… Кстати, а где боль-то? Ушла куда-то, спряталась, один тоненький хвостик торчит… Вот это да! Чудо! Волшебство!
Пятиминутный магический сеанс завершился почти полным исцелением, и потрясенный Фурман не знал, как благодарить Чарковского. Тот устало сказал, что никаких серьезных повреждений он не увидел, поэтому оказал только первую помощь, снял боль. Но маленький очаг воспаления там остался, и надо обязательно обратиться к специалисту-урологу, чтобы довести лечение до конца, – такие заболевания нельзя забрасывать, иначе они со временем могут дать нежелательные последствия.
Фурман, тело которого уже много часов поневоле изгибалось и наворачивалось вокруг пылающей тайной раны, никак не мог поверить своему новому – забытому – состоянию свободы. Ему хотелось бешено скакать и подпрыгивать, но он нарочно хмурился и на всякий случай по-прежнему слегка прихрамывал, не решаясь совсем отбросить образовавшуюся защитную привычку.
Услышав, что с ним уже все в порядке, все обрадовались и стали поздравлять его. Что ж, теперь можно было со спокойным сердцем, как сказал Морозов, отправиться по домам. Рюкзак Фурману посоветовали оставить у Наппу и забрать его как-нибудь потом, но он решил посидеть здесь еще часок-другой, чтобы окончательно прийти в себя. Приятели стали расходиться.
А через несколько минут раздался звонок в дверь, и в квартиру на руках втащили бледного Морозова с закрытыми глазами. Его занесли в маленькую комнату и положили на диванчик. Оказалось, что в лифте он вдруг потерял сознание – без всяких видимых причин, просто ни с того ни с сего повалился на пол. Все перепугались – может, это сердце? Быстро вызывайте скорую! Тут Морозов приоткрыл глаза, хрипло промямлил: «Не надо никакую скорую… Через минуту я буду в порядке», – и снова умер. Все опешили. «Саня, ты можешь говорить? Скажи хоть, что с тобой? Чем тебе помочь? Может, воды?» Морозов помотал головой: «Спасибо, ничего не надо».
Через пару минут он сел и объяснил, что у него был приступ желудочной язвы. Ничего страшного на самом деле, и с ним уже все нормально. Однако возбужденная публика почти силой затолкала противящегося Морозова на кухню к Чарковскому, чтобы тот посмотрел и подтвердил, что все действительно в порядке.
Бедный Чарковский, выпили из него всю энергию. А жрать-то у Наппу, как всегда, нечего, пустой холодильник. Конечно, у них тут вечно крутится куча всякого народа. Чем же они детей-то кормят?.. Быстренько собрали по карманам остававшуюся мелочь и отправили гонца в магазин: «Купи, что там будет – хлеб, сыр, макароны, – на всё…»
Вернувшись домой уже вечером, Фурман сначала долго отмокал в ванной, потом поужинал, с грустной отстраненностью полистал отложенные перед поездкой книги – кажется, с тех пор прошло бог знает сколько времени, – и лег спать, чувствуя себя полностью выпотрошенным. Нет, нет, все – завтра. Завтра.
Утром Фурман пробудился в глубоком и беспросветном отчаянии. Господи, что он наделал?! Он же все испортил! Все испоганил… Зачем он полез к Соне? Почему именно к ней? Только потому, что она ему подвернулась, оказалась рядом? Просто из похоти? Мерзкий козел! Козел! Козел! Животное! И как же стыдно перед остальными – всеми, кто так бережно относился к Соне…
Хотя, если взглянуть со стороны, – а что вообще произошло? Если объяснить по-простому? Они с Соней из-за каких-то случайных внешних обстоятельств ночью оказались слишком близко – то есть буквально прижаты друг к другу, – и, естественно, в какой-то момент, причем далеко не сразу, начали тихонько обниматься и целоваться. Всё. Ну и что тут такого особо ужасного? Разве целоваться с девушкой – это преступление? Конечно, нехорошо, неправильно делать это без любви. Как минимум, это пошлость. Банальная, мелкая человеческая грязь. «Свальный грех». Но именно это и оскорбительно – ведь это же Соня!.. Между прочим, с Нателлой у него все началось точно так же. Второй раз повторяется одна и та же грязная история… Он страшно виноват. Виноват в том, что опять дал волю рукам, нарушил границы, смешал то, что нельзя было смешивать… Он же считал себя ее другом! Она ему доверяла. Он должен был ее охранять! (Просто смех. И чем он, собственно, отличается от Данилова и всех прочих?..) Но ведь ничего серьезного между ними, к счастью, не произошло. Правда, лишь благодаря Соне (и ее странностям). Хотя, возможно, кто-то другой на его месте и не остановился, стал бы настаивать, добиваться своего… Глупость – кто мог оказаться на его месте? Ни с кем другим Соня просто не согласилась бы оказаться так близко. Поэтому главная его вина – что он, поддавшись примитивным самцовым побуждениям, подверг ужасному испытанию их с Соней человеческие отношения. Если называть вещи своими именами, то он ее предал. И должен понести наказание. Мгновенный удар по яйцам – это ведь так, всего лишь удачная шутка высших сил. А жизнь еще долгая…
Вопрос только в том, как все это воспримет сама Соня. Если она сможет отнестись к этой ситуации по-взрослому – как к случайному, нелепому, обидному или даже смешному эпизоду, как к ошибке (да, столкнулись сослепу близкие люди, неприятно, больно, но ничего страшного – извинились, живем дальше), – это одно. А если для нее все это означает начало чего-то другого – другой, счастливой жизни… Фурман даже содрогнулся от этой догадки. Как это может быть – ведь до прошлой ночи никто ни о чем таком даже и не думал? То есть нет, та же Мариничева в своей дурацкой своднической манере не раз предлагала ему завести с Соней роман (наверняка и Соне тоже делались подобные намеки, и не только в связи с Фурманом), – но ведь это была Мариничева, от которой все привычно отмахивались. Фурман с Соней были друзьями – такими же, как и все остальные члены их маленького круга, – и эти дружеские отношения были для них обоих несомненной ценностью. Они часто вдвоем ездили по гостям, откровенно и интересно разговаривали на самые разные темы, подолгу болтали по телефону, переписывались, сочиняли «Метрополитен»… Но, дорожа своим человеческим общением с Соней, Фурман считал (и даже объяснял Мариничевой), что они как пара абсолютно не подходят друг другу. Конечно, Минаев с Асей, например, тоже с трудом «складывались» вместе – но их любовь все покрывала и делала «невозможные различия» неважными и смешными. И именно такой любви он сейчас со стыдом не находил в себе.
А ведь если с Соней случилось это… превращение, ему, возможно, придется признаться ей, что он сам – пуст. Ужас.
Сказать в лицо близкому, почти родному человеку: «Я тебя не люблю».
Почему?! Как все это вообще может быть? Это же и есть ад.
Господи, почему?!
Соня этого не выдержит.
В любом случае все уже не будет по-прежнему.
Если он скажет ей, она больше не сможет оставаться в кругу. Убежит. Не захочет никого из них видеть. И никто не сможет помочь ей, поддержать ее в этом ужасном горе.
Поэтому уйти должен он. А она тогда сможет остаться со всеми.
Для него это и будет самым страшным наказанием – вернуться в одиночество.
Вот уж не думал, что все так кончится… А прошло-то всего два года после школы. Сможет ли он прожить без них? И как это будет реально? Куда он пойдет? За что будет цепляться, чтобы выжить?.. Да кому это теперь интересно.
Но ведь ничего еще не произошло. Это только его проклятое воображение! Может, все еще повернется как-то по-другому, не так… смертельно?
Соня позвонила ближе к вечеру. Разговор получился недолгий. Привет, это я, Соня. / Привет. / Ты как? / Ну, так. А ты как? / Да тоже как-то так. Вообще-то все уже созвонились и решили, что слишком устали, чтобы сегодня куда-то выбираться из дома, поэтому общая встреча у Наппу переносится на завтра. / Понятно. / Вот, я тебе передала всю имеющуюся у меня информацию. Надеюсь, к завтрашнему дню ты уже будешь окончательно здоров? В смысле, сможешь приехать? / Постараюсь. / Ну вот и замечательно. Тогда мы с тобой встречаемся завтра, без четверти шесть, где обычно. Только, чур, не опаздывать! Ладно, у меня все. Пока? / Пока.
«И что все это значило?..» – меланхолично подумал Фурман, дрожа и обливаясь потом.
* * *
Собираясь ехать в гости к Наппу, в теплое время года все обычно назначали встречу не в метро, а наверху, перед монументом покорителям космоса, в просторечии – «у ракеты». Основная часть этого монумента представляла собой гигантский, стремительно сужающийся кверху неправильный острый треугольник – как бы «инверсионный след» космической ракеты. Сама венчающая его «ракета» находилась очень высоко, казалась малюсенькой и напоминала грубовато отлитую пулю. Лаконичная форма, тем не менее, вполне передавала ощущение некоего титанического свершения – мощного подъема, вздымания к небу. Ехидные критики отмечали, что широченный плоский постамент этого грозно нависающего над местностью сооружения символизирует выжженную дотла и спекшуюся в асфальт землю, а беззаботно гуляющие внизу реальные человечки очень удачно вписываются в эту концепцию торжества бесчеловечной силы.
Фурман приплелся за двадцать минут до назначенного времени. За прошедшие сутки он уже настолько свыкся с тем, что его жизнь кончена, что приятное вечернее солнышко, ясное небо, чистенькая свежая травка, улыбающиеся люди его сейчас не только не радовали, но скорее раздражали своей бесцеремонной навязчивостью. Человек, можно сказать, умирает, а они пристают, ластятся, настырно лезут в глаза, вопят всем своим видом, что у них все прекрасно… А эта уродская ракета, сделанная к тому же из титана – редкого и очень дорогого металла? Это ведь вообще какая-то насмешка – гигантский, сверкающий на солнце, бесстыдно вздыбленный фаллический символ! Фурман чуть не заплакал от тайного смеха.
На свою казнь он оделся намеренно невзрачно, почти по-походному (собственно, выбор у него и так был небольшой). А вот Соню он издали даже не сразу узнал – и сердце у него упало, разбившись на мелкие кусочки. Она всегда носила свои фирменные синие джинсы с декоративным плетеным ремешком и множеством маленьких кармашков, а сейчас шла к нему в очень коротком, плотно облегающем, необычайно ярком и красивом платье: на густом темном фоне – какие-то разноцветные, пряные, прихотливо танцующие вспышки. Сверху платье было закрытым, со строгим стоячим воротничком, – и вся эта сложная игра красок и стилизованная строгость взрывались выставленными напоказ ослепительно-белыми крепкими бедрами и икрами. Довершали картину модные туфли на толстой платформе и маленькая сумочка. Светящаяся Соня смотрела на Фурмана с веселым вызовом.
– Ну что, может, поцелуешь меня? В честь нашей встречи.
Фурман покорно клюнул ее в щечку.
– Нет, не так – вот сюда!
Слегка задохнувшись после долгого поцелуя, Соня спросила, нравится ли ему ее замечательное новое платье. Он покивал и что-то промямлил.
– Значит, в целом одобряешь? Ну ладно. Тогда идем?
Она решительно взяла его под руку, и они тронулись знакомой дорогой к Наппу.
А это необыкновенное платье Соня больше никогда не надевала.



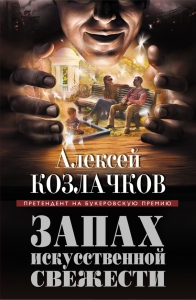

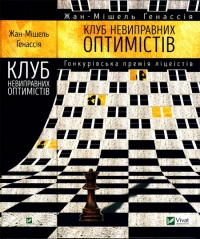



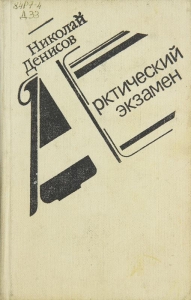


Комментарии к книге «Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть IV. Демон и лабиринт», Александр Эдуардович Фурман
Всего 0 комментариев