Ася Лаврушина Шведский стол (сборник)
Первое мая
Эпическое первомайское «ура» обрушивалось на город ниагарой, заглушая мощные революционные песни, рвавшие горло уличным динамикам. Казалось, что под напором толпы Невский проспект сузился до размеров заурядной улицы, и, завоевывая себе дополнительное пространство, куда-то в небо устремлялись портреты вождей, крупные буквы коммунистических лозунгов и разноцветные гирлянды воздушных шаров.
С балкона гостиницы «Европа» нарядный народный праздник наблюдали двое иностранцев – мужчина в возрасте и девушка лет двадцати пяти. Размах зрелища вызывал у обоих напряженное, родственное страху восхищение, которое превращалось в острую тревогу, когда они замечали в толпе маленьких детей с красными флажками и огромными бумажными гвоздиками.
Постучав, к ним в номер вошла горничная, совсем девчонка, в форменном голубом халате с белым воротничком. Улыбнулась, церемонно произнесла «хэллоу», протянула полотенца и продолжила на очень русском английском:
– Я знаю, вы просили новые…
Мужчина улыбнулся ей в ответ, подумав: «Какое милое лицо – как на этих женских портретах в Русском музее…» У девушки были большие зеленые глаза, чуть вздернутый нос с трогательной россыпью веснушек, две густые темно-каштановые косички, которые держались переплетеньем вьющихся прядей безо всяких заколок.
«Неужели все эти люди внизу такие же, как она? Ее родители, сестры и братья?» – подумал мужчина и спросил на очень иностранном русском:
– Как тебья зовут?
– Таня, – ответила та.
– Менья зовут Арне. Я из Свеция. Это мой дочь Клара. – Клара натянуто улыбнулась. Через открытую балконную дверь в комнату ворвались раскатистые МИР, ТРУД и МАЙ.
Пятидесятидевятилетний Арне Стьернлёв происходил из достойной фамилии, которая несколько столетий занимала ветвистую строчку в шведском дворянском списке. Когда-то им принадлежала огромная усадьба с дисциплинированным садом у равнодушного, как зеркало, озера. Но последнему поколению аристократов удержать фамильное состояние не удалось, имение продали, и семья самого Арне существовала только на зарплату. Денег, впрочем, хватало – жена работала врачом, он преподавал химию в техническом университете. Арне был седовлас, одевался немного старомодно и внешне походил на попахивающего нафталином модерата-консерватора – хотя на самом деле был коммунистом. Лет двадцать пять – тридцать тому назад, в скудное послевоенное время, когда стало понятно, что семейные материальные ресурсы исчерпаны и нужно как-то осваивать жизнь простого смертного, Арне нашел утешение в теории Маркса и Энгельса – вследствие чего и вступил в коммунистическую партию. Впрочем, практическим борцом за равноправие и народное счастье он не был никогда, а с возрастом вообще начал утрачивать интерес к каким бы то ни было социальным идеям, но из партии не выходил и на выборах инертно голосовал за своих.
Несколько месяцев назад на его имя пришло приглашение принять участие в научной конференции, посвященной развитию химической промышленности, которая будет проходить в Ленинграде 3 мая 1975 года. Институт, в котором он работал, вел переписку с химическим факультетом ленинградского университета. Многим его коллегам было бы любопытно поехать в Советский Союз, но приглашение выступить с докладом пришло персонально ему. На работе язвили, что решающим фактором, определившим выбор докладчика, оказалась его политическая принадлежность, но Арне не обращал на эти разговоры никакого внимания.
Ему хотелось взять с собой жену и дочь, но супруге не удалось получить незапланированный отпуск на работе. Двадцатишестилетняя же дочь Клара согласилась поехать с отцом в загадочный Советский Союз – не выразив, правда, при этом никакого конкистадорского задора.
Они прилетели в Ленинград 29 апреля поздно вечером. По дороге из аэропорта осторожно рассматривали солидный, мощный город. Вечерние фонари и по-птичьи трепещущие полотнища красных флагов на фоне изощренной по форме и сдержанной по цвету архитектуры превращали улицы в декорации для театральной фантасмагории в духе Кафки. И Арне, и Клара молча и сосредоточенно смотрели в окно машины. Встречавшая их в аэропорту представительница «Интуриста» Маргарита по дороге в гостиницу без умолку трещала о достижениях жителей города, о количестве заводов, высших учебных заведений, больниц и с заговорщицкой интонацией обещала показать им завтра Эрмитаж, Русский музей и все ленинские места.
Умудрившись воспользоваться редкой паузой, Клара спросила у фонтанообразной Маргариты, что та думает по поводу Рауля Валленберга. «Это писатель?» – невинно поинтересовалась в ответ гидесса. На что Клара мрачно ухмыльнулась, а Арне глазами дал ей знак прекратить провокации. Отношения между Швецией и Советским Союзом были относительно ровными, а после того, как премьером стал Улоф Пальме, их, пожалуй, можно было бы даже назвать дружественными. Но на территории тоталитарного государства нелишне соблюдать известную осторожность в высказываниях…
Настроение у Клары вообще было сложным. На конец июня назначили ее свадьбу – завершение нервного романа, который родители не вполне одобряли, но мнение свое держали при себе. Мартин, будущий зять, был сыном их знакомых, с которыми они регулярно пересекались на свадьбах и похоронах. Жена Арне и мать Мартина даже считались подругами, но, встречаясь, неизменно обменивались колкостями, которые, как булавки, прятались в кружевах вежливых слов.
Мартин был тоже мальчиком с секретом. В свое время поступил в университет, но почти сразу же бросил учебу – вообразил себя хиппи и уехал в Индию искать смысл жизни. Клара всюду следовала за ним – поступала и уходила из университета, мчалась в Калькутту и постоянно вытаскивала его из всевозможных передряг, в которые он то и дело попадал. Родителям, разумеется, казалось, что девочка заслуживает более благополучного существования, но вмешиваться в личную жизнь дочери они не решались. К тому же однажды все внезапно изменилось – Мартин оставил свои мытарства, с блеском закончил университет, получил хорошее место в приличной фирме и увлекся карьерой. Они уже давно жили с Кларой гражданским браком, но месяц назад она обнаружила, что беременна, и начались приготовления к официальной свадьбе. Клара очень переживала, хоть внешне старалась этого не показывать, а родители надеялись, что поездка отвлечет ее от тревожных мыслей.
– Ду ю лайк ауэ сити? – спросила Таня и повторила вопрос по-русски: – Вам нравится наш город?
– Это ошен красиво, – ответил Арне и повторил ответ по-английски: – It is very beautiful!
Он восторженно рассказывал о своих впечатлениях, перемешивая русские, английские и шведские слова. Слушая, Таня кивала головой.
Вчера во время обстоятельной и многословной экскурсионной программы они действительно увидели, что город красив необыкновенно. Но – как все красивые – вовсе не прост. Город ловил момент и душил человека петляющей удавкой канала, когда-то называвшегося Екатерининским. Поражал просторами главной площади, которая размашистым жестом перебрасывала мост через серьезную, стальную реку к двум карминовым маякам с серыми колоссами у постаментов. И слепил глаза золотом мощного купола так сильно, что картина реальности расплывалась, и коробчонки советских автомобилей превращались в элегантные экипажи, запряженные мускулистыми рысаками…
В Гербовом зале Эрмитажа Клара вообразила бал. Дирижерскую палочку, мотыльком мелькающую где-то на балконе под самым потолком. Шелестящие шелка и строгие фраки. И мягкое пламя свечей, дразнящее острый огонь бриллиантов… А что, родись она лет на сто пораньше, у нее был бы шанс увидеть это наяву… Нет, она вовсе не жалела о том, что времена изменились, и что не все теперь догадываются об их благородном происхождении. Мартин над их «родословной» вообще посмеивался. Впрочем, как и над своей собственной… Нет, Клара была вполне довольна своим демократическим настоящим. Но выйдя вчера из Эрмитажа, она вдруг решила, что здесь, в этом сиротском, отвергающем собственное прошлое государстве она купит себе белый шелковый материал на подвенечное платье. Это будет хорошим знаком, обещающим счастливую семейную жизнь…
– Your city is really very beautiful! – спокойно согласилась Клара с восторгами отца.
Из-под Таниного форменного халата выглядывало шелковое платье цвета беж с мельчайшими красными цветочками на тонких черных веточках.
– Is it natural silk? – спросила Клара, показав на платье.
Не поняв вопроса, Таня беспомощно улыбнулась. Арне раскрыл разговорник, с которым практически не расставался с тех пор, как узнал, что едет в Россию, и быстро нашел то, что нужно:
– Это шьолк?
– Шелк-шелк! – обрадовалась Таня, узнав слово. – Русский шелк, называется крепдешин! Ду ю лайк ит?
– Yes, – ответила Клара холодновато.
Ей вообще-то не следовало ничего спрашивать у этой девчонки, и будь Мартин рядом, он наверняка как-нибудь пошутил бы над ее любопытством. Но ей действительно хотелось купить похожую ткань – плотную, но хорошо драпирующуюся, без откровенного блеска, но и не совсем матовую. Только чисто белую…
Девчонке-горничной разговор был явно интересен, уходить не хотелось. Она знала много английских слов, Арне выучил изрядное количество русских. И хотя оба иногда произносили слова, искажая их до неузнаваемости, понимали они друг друга хорошо.
– Город – это дома. But не один дома. Город – это льюди, – говорил Арне, – I'd like to know more about the life of the ordinary people – those like you…
– А вы приходите к нам в гости! – предложила Таня. – Кам энд визит ас! У нас совершенно обычный дом – ординари хаус. Ай лив тугезе виз май фазе. Мой папа – фотограф…
– Really? Is it really possible? – воскликнул Арне и озабоченно добавил. – But if you get some problems? Может быть, проблем… у тебья…
– Ну какие проблемы! – Таня перешла на звонкий русский. – Завтра я не работаю. Живем мы на Невском. Запомнить очень просто: Невский проспект дом восемьдесят, а квартира восемь. Отсюда пятнадцать минут пешком. Я буду очень рада. И папа тоже.
– You are not joking?
– Да нет же! Серьезно. Сиариаз. Приходите! В три часа дня. Эт сри оклок! Невский намбер эйти, флэт эйт…
В марте семьдесят пятого Тане исполнилось шестнадцать. Она еще читала сказки. От них у нее оставалось неизгладимое впечатление. Это были сказки о превращениях. «Карлик Нос». Он съел какие-то запрещенные вишни и у него вырос огромный нос. О халифе, который превратился в аиста. О молодом англичанине, оказавшемся обезьяной. Иногда она подолгу смотрела в зеркало, размышляя о том, хочется ли ей самой в кого-нибудь превратиться. И если хочется, то в кого – в Золушку, Белоснежку или Крошечку-Хаврошечку? Или лучше остаться собой и посмотреть, что судьба приготовила персонально ей – Татьяне Евгеньевне Логиновой.
Вообще-то все говорили, она очень даже симпатичная. И что у нее легкий характер. Несмотря на сложную жизнь.
Три года назад у Тани умерла мама. Одновременно с этим оборвались все струны яркого звонкого детства с его шумными днями рождения, бесконечными кружками дворца пионеров и каникулами у Черного моря. Они остались вдвоем с отцом. Когда-то он был известным фотографом, у него было несколько персональных выставок в Доме журналиста, и его снимки печатали многие городские издания. После смерти матери отец потерял интерес ко всему и начал пить – тихо и унизительно. Из газеты, в которой он официально числился, его не увольняли из жалости, отец это знал, но все равно постоянно подводил редакцию. С дочерью разговаривал редко – разве что на какие-нибудь бытовые темы. Таня понимала его боль, прощала слабость, тайком плакала и верила, что наступит день, когда отец сможет приспособиться к жизни без мамы. Таня же нашла в себе силы! Хоть это и вовсе не значит, что ее любовь к маме стала от этого меньше…
Таня всегда хорошо училась в школе, любила литературу, английский язык и школьный театр, где ей, как правило, доставались только крупные роли. После восьмого класса она поняла, что нужно хоть как-то помочь отцу – по крайней мере, попытаться избавить его от угрызений совести, которые возникали из-за того, что он прекратил зарабатывать деньги. Таня решила начать самостоятельную жизнь. Ушла из школы и поступила в училище, которое готовило работников для гостиничных хозяйств. Соседка по дому, тетя Вера, посоветовавшая ей это учебное заведение, привела несколько вполне убедительных аргументов. Во-первых, работа по сменам оставляла больше свободного времени, чем обычный график с восьми до пяти – так что в будущем Таня сможет поступить в какой-нибудь институт на вечернее отделение. Во-вторых, гостиницы, как правило, неплохо обеспечивали своих работников продовольственными товарами. В-третьих, в тепле и не у станка стоять…
При распределении ей предложили на выбор два места: дежурный портье в небольшой гостинице на окраине или горничная в «Европе». Дежурная по статусу была выше, но преподавательница посоветовала ей выбрать «Европу». Во-первых, то, что от них пришла разнарядка, уже само по себе было удачей – обычно ведь туда попадали только по знакомству. Во-вторых, там была реальная возможность служебного роста, гостиница организовывала для персонала курсы английского и могла даже дать направление в высшее учебное заведение по своему профилю. Училище выпускало Таню с отличной характеристикой, она была секретарем комсомольской организации своей группы, лучше всех на курсе знала язык, так что у нее были все шансы хорошо устроиться…
Конечно, Таня не рассчитывала на то, что работа будет безумно интересной – уборка она и есть уборка. Но две недели, которые она успела проработать в «Европе» до 1 мая и встречи с семейством Стьернлёв, ее сильно разочаровали.
Горничные – в основном пожилые женщины – убирая, явно халтурили. Потом сидели в подсобном помещении, пили чай, громко смеялись, то и дело выглядывая в окно. Едва завидев автобус, возвращавшийся с туристами после экскурсии, хватали свои ведра, тряпки и разбегались по номерам, изображая завершение работы. На туристов при этом смотрели жалостливо и просительно – а получив пачку жевательной резинки или колготки, страстно произносили «сенкью». «Презенты» потом продавались скользким личностям, которые вечно толкались за углом на Невском. Один из них, кстати, пытался к Тане приставать, но она пригрозила, что позовет милиционера, и теперь фарцовщик просто кричал что-нибудь глупое ей вслед, но подходить, слава богу, не решался.
Тане все это не нравилось, но она старалась молчать. И только три дня назад, когда увидела, как две ее коллеги – толстые тетки лет за пятьдесят – в отсутствие хозяев номера влезли в шкаф и начали примерять чужие вещи, – только тогда Таня не выдержала и сказала: «Марьфедоровна, Галинстепанна, неужели вам не стыдно?» – И в ответ получила сполна. Мол, яйца курицу не учат, плюс еще несколько слов, от которых и без того румяные Танины щеки окрасились совершенно коммунистическим кумачом.
С тех пор она старалась только здороваться и прощаться. Атмосфера сгущалась, Таня чувствовала враждебность трудового коллектива, но решить, как ей вести себя дальше, пока не могла.
Эпизод со шведами был, пожалуй, первым приятным событием за две недели, которые она проработала в гостинице. Это же были первые иностранцы, с которыми она заговорила – и они ее поняли! Мало того – и она их поняла! Этот Арне рассказывал ей об Эрмитаже и Петропавловском соборе, и еще про красивые улицы и реку. Клара, конечно, немного воображала, но Тане до этого нет никакого дела. И потом она всегда находила общий язык даже с самыми вредными девочками в школе. Нет, здорово будет, если завтра к ним придут гости из Швеции! Как-то давно отец приводил в дом болгарина, который приезжал к ним в газету. Его звали дядя Йордан, и он потом прислал ей по почте красивый значок – маленькая тряпочная кукла, перевязанная красно-белыми нитками с кисточками…
Дома Таня восторженно рассказала отцу о том, что пригласила иностранцев. Тот пожал плечами, пробормотав в ответ что-то невразумительно радостное.
«Нужно приготовить им какую-нибудь типично русскую еду», – с воодушевлением подумала Таня и открыла кошелек. Денег там было совсем мало. До праздников она получила свой самый первый аванс, но почти всю сумму пришлось отдать тете Вере. Соседка пять часов отстояла в Гостином дворе за туфлями, а нужный размер закончился прямо перед тем, как подошла ее очередь. Вот она и купила на размер меньше, Танин – а то ведь не уходить же с пустыми руками! Таня, конечно, обновке очень обрадовалась – туфли были сказочно красивые, австрийские лодочки на среднем каблучке с бантом впереди. Но стоили дорого, ей еще и в следующем месяце придется отдать половину зарплаты. Ну да ладно, как-нибудь выкрутится…
Таня начала сочинять подходящее меню для гостей. «Обильное угощение вряд ли потребуется – они же не голодны, потому что все время ходят в ресторан. Нужно что-нибудь символическое, ведь если человек впервые приходит в дом, он должен в этом доме выпить маленькую рюмочку и что-нибудь съесть, кажется, есть такая примета, – размышляла Таня. – Может, мамины луковые кольца?»
Таня, как и когда-то мама, любила удивлять гостей этим простым, но неузнаваемым блюдом. Предварительно ошпаренный – чтоб не кусался – репчатый лук нарезается аккуратными кольцами, потом кольца обмакиваются в кляр, приготовленный на сливках, и жарятся во фритюре до золотистой корочки. Сверху посыпаются зеленью и подаются как горячая закуска. Бутылка сливок 36 копеек, 7 копеек килограмм лука, 100 грамм подсолнечного масла, оно у нее есть. Плюс пучок укропа, за которым придется съездить на Некрасовский рынок. А если украсить блюдо по краю кружочками соленого огурца, получится вообще картинка с выставки! Огурцов у нее, кстати, осталось еще целых две трехлитровые банки! К тому же она где-то читала, что луковые кольца имеют какое-то отношение к Достоевскому, – то ли они были любимым блюдом писателя, то ли их ела Кроткая, то ли Сонечка Мармеладова, то ли кто-то из бедных людей… К луковым кольцам по рюмке водки. А потом чай. У нее есть брусника, которую она сама собирала прошлой осенью в Карелии, когда ездила навещать тетку по матери. Она перетрет бруснику с сахаром и испечет блины. Во-первых, для блинов нужно практически то же, что и на кляр. А во-вторых, блины с брусникой это тоже блюдо с подтекстом – это же блины по-шаляпински. Недавно по телевизору показывали спектакль про то, как в одной семье была редкая пластинка певца, и семья решила ее продать. Спектакль был грустным, но Тане он понравился. А еще она запомнила, что Шаляпин больше всего на свете любил блины с брусникой.
На следующий день Таня проснулась в полпятого утра. Чтобы как-то унять скачущее внутри волнение, начала готовиться к приему иностранных гостей. До восьми убирала квартиру, тщательно подмела, вытерла пыль. Окна она помыла еще до праздников, но мелкий позавчерашний дождь их слегка замутнил – Таня вытащила газеты и протерла стекла еще раз. В трех водах вымыла полы. Около восьми проснулся отец. Они выпили чаю с хлебом и докторской колбасой, после чего отец собрался и ушел, сообщив, что «у него дела». Таня выбила во дворе темнобордовую ковровую дорожку с широкой зеленой и тонкими черно-белыми каемками по краям и снова расстелила ее в зале.
Съездила на рынок за укропом и луком, в молочном купила бутылку сливок, яйца и сахар, в булочной – свежий черный кирпичик. К половине десятого вернулась домой и занялась кухней. Выскоблила кастрюли и сковородки, зачем-то протерла шкафы изнутри, вынесла на балкон большую бадью, в которой она квасила капусту. Капуста была прикрыта специально купленной в аптеке стерильной марлей, а сверху придавлена большим камнем. Как-то найдя его во дворе, Таня очень обрадовалась – ведь лучшего гнета для закваски и придумать нельзя было. Она, как и мама, любила чистоту, так что перед использованием камень с улицы был как следует вымыт и даже минут пятнадцать проварен в кипящей воде – чтобы уж точно ни одного микроба не осталось. «Жалко только, что капуста еще не готова, она бы тоже была кстати», пожалела Таня и приступила к приготовлению угощения.
Без десяти три все было готово к приему гостей. На белой скатерти стояли белые тарелки с золотым ободком, на тарелках красиво разложены нарезанные соленые огурцы, чуть сбрызнутые для свежести подсолнечным маслом. Сияли начищенные серебряные вилки, мамино «приданое». Во главе стола стояла скромненькая в двести пятьдесят грамм бутылка водки, которую называли смешным словом «чекушка», рядом – желтоватые, тонкого стекла рюмочки.
Завернутая в белоснежную наволочку кастрюля с луковыми кольцами сохраняла свое тепло в спальне под подушкой. Цветом, вкусом и формой колец сама Таня осталась довольна – готовила с душой, и кольца получились на славу. Равно как и блины – пышные, румяные, ноздреватые, они тоже ждали своего часа на той же кровати, под второй подушкой.
Отец не появлялся. Таня боялась о нем думать. Ей очень хотелось, чтобы он посидел с ними за пусть скромным, но красивым столом. Но где-то глубоко в душе она опасалась, что, выпив, отец не выдержит и расплачется, начнет жаловаться или скажет что-нибудь невежливое. Иностранцы, конечно, вряд ли его поймут – она переведет им что-нибудь совсем другое по смыслу, но интонацию-то никуда не деть… «Впрочем, это совершенно не означает, что мне было бы лучше, если бы он вообще не пришел!» – сердито заявляла самой себе Таня, пытаясь мысленно переключиться на что-нибудь другое.
У трельяжа в прихожей она остановилась и внимательно посмотрела на себя. А что, она ни капельки не хуже этой Клары. Просто шведка так шикарно одета! Настоящие джинсы с цветными вставками в боковых швах, джинсовая куртка, а под ней синий бадлон с карманчиком, на котором что-то написано. Таня подтянула тонкий поясок на голубом в синих цветах поплиновом платье, расправила юбку-татьянку и резко вздрогнула от короткого звонка в дверь.
– You are so sweet! – воскликнул в дверях Арне, а потом взял Таню за плечи и поцеловал в щеку. Немного смутившись, Таня покосилась на Клару. Та ей просто кивнула с оптимальной дозой дружелюбия.
Клара вообще-то не испытывала никакого любопытства к тому, как живет ordinary russian people. Но отец так обрадовался приглашению, что пришел бы даже, если бы Клара не захотела никуда идти. А ведь перед поездкой их предупреждали, что КГБ способен расставлять иностранцам самые изощренные ловушки! Клара попыталась осторожно напомнить об этом отцу, но тот только рукой махнул: «Ну какая она агентка! Она же совершенно бесхитростна и краснеет так, что только из-за этого ее ни за что бы не взяли ни в какие органы!» Подумав и вспомнив разговор во всех подробностях, Клара с отцом согласилась, но одного его решила не отпускать. А этой Тане даже приготовила подарок – нейлоновый нежно-розового цвета халат с бесконечными кружевами и перламутровыми пуговицами. Халат был совсем не в Кларином стиле, но она купила его, поддавшись странному порыву, на следующий день, после того как они с Мартином решили пожениться. Развернув покупку дома, Клара с удручающей ясностью поняла, что не то что надеть – даже показать халат Мартину не решится! Да он просто обхохочется, увидев все эти оборки и бантики! Хоть Мартин в последнее время и отказался от стиля хиппи, но скепсис к традиционному украшательству сохранил. Говорил, что предпочитает современный японский минимализм… Халат Клара тайком взяла с собой в Ленинград, подумав, что, может быть, все таки наденет его как-нибудь утром в номере «Европы», знаменитой своим аристократическим прошлым. Но так ни разу и не надела – ходила в белой футболке, на которой было написано «I love Sweden».
Сегодня утром она вытащила коробку с халатом из чемодана. Приложила к себе, скептически посмотрела на этикетку. Вздохнула и подумала, что единственное, что с ним можно сделать, – это подарить его горничной.
– Please, it is for you. A present!
– Сенкью, – смущенно ответила Таня и, вытесняя желание немедленно заглянуть внутрь синего полиэтиленового пакета с изображением дамы в красной шляпе, положила пакет на трельяж и продолжила:
– Кам ту зе ливингрум, плиз…
– It is very nice here! – воскликнул Арне.
Клара огляделась по сторонам: «Наверное, это называется современный советский минимализм. Довольно скучный…» Невысокий шкаф с книжками, такой же шкаф с посудой. Картинка на стене – рельефное изображение городского пейзажа, вычеканенное на медной пластине. Круглый стол, покрытый белой скатертью с тарелками, на которых зачем-то разложены соленые огурцы, которые Клара терпеть не могла. Вилки, правда, красивые, наверное, остались у них со старых времен. Впрочем, очень опрятно и как-то свежо. А над прозрачным до слезы окном летает белая тюлевая занавеска. Клара вспомнила о предстоящей свадьбе и о том, что завтра она пойдет покупать себе материал на платье. В душе у нее что-то сжалось, она посмотрела на отца. Тот в полном восторге рассматривал комнату, продолжая восторгаться тем, как «всё мило и симпатично!..»
– Я приготовила вам скромное русское угощение! – произнесла Таня по-русски. Потом спохватилась и повторила то же по-английски. Утром она даже проверила транскрипцию этой фразы по словарю.
«Господи, неужели отец собирается здесь есть?» – ужаснулась Клара.
Выглянув на балкон, она заметила ведро с чем-то сомнительным, прикрытое сероватой медицинской тканью и придавленное сверху огромным булыжником.
– Я приготовила кольца из лука. Онионс рингс. Это блюдо описано у Достоевского. А на десерт будут блины ala Шаляпин, – с ноткой торжественности сообщила Таня и вышла в соседнюю комнату.
Отец подошел к книжному шкафу и, шевеля губами, начал читать русские названия. Сквозь приоткрытую дверь Клара увидела, как Таня вытаскивает из-под подушки завернутую в белую тряпку кастрюлю. «О, господи! Кольца из этого отвратительного лука да еще в кровати!» – с содроганием подумала про себя Клара. Потом посмотрела на Таню, на ее розовые – от волнения и приветливости – щеки и лучистые зеленые глаза. И непонятно отчего, Кларе вдруг стало немного стыдно.
Они сели за стол. Предложив Арне разлить водку, Таня разложила по тарелкам золотистые, посыпанные мелко-мелко нарезанным укропом колечки. «А выглядит эта пища Раскольникова вполне ничего», – признала Клара и героически проглотила самое маленькое луковое кольцо. С удивлением обнаружила, что на вкус оно было вовсе не таким противным, как предполагалось, – и с недоверием подцепила вилкой еще одно.
Таня подняла рюмку и сказала: «Велкам ту ауэ хауз. Ай эм глэд ту си ю хиа!» Арне выпил водку залпом. Таня отпила чуть-чуть и сильно поморщилась. Клара тоже немножко хлебнула, но гримасу сдержала. Вообще-то в ее положении нужно воздерживаться от алкоголя. Но, во-первых, глупо быть в России и не попробовать русскую водку, которую все так хвалят. А во-вторых, водка – это что-то вроде дезинфекции. Так, на всякий случай…
После четвертого кольца Клара отважилась попробовать огурец. Вкус у него был абсолютно не шведский, в нем совсем не было сладости, и он как-то по-особенному хрустел. Клара взяла еще. Отец вообще уплетал угощение с большим аппетитом. «Попробуй хлеб! – сказал он Кларе, – мне кажется, я за всю жизнь вкуснее хлеба не ел!»
Арне не заметил, как выпил всю водку. Девушки от второй дружно отказались, так что он доливал только себе. Таня свою порцию кое-как осилила, Клара же рюмку не допила, но Арне добру пропасть не позволил – обнаружив, что в бутылочке больше нет ни капли, решительным жестом опрокинул и рюмку дочери. Клара подумала, что раньше отец никогда так не поступал…
Блины оказались нежными, пышными, воздушными, и Клара, кстати, уже совершенно спокойно отнеслась к тому, что их тоже вытащили из-под подушки.
Отец просто сиял от удовольствия. Клара тоже почувствовала вдруг необычное легкое тепло. Они разговаривали на странном смешении языков. Все фразы, которые Таня вчера перед сном сверила со словарем, были уже произнесены. И устав говорить на неродном языке, они отказались от английского. Таня по-русски рассказывала им о школьном театре, Клара по-шведски – о предстоящей свадьбе, а Арне – о том, что его четвероюродный дедушка по матери был женат на русской аристократке, которую звали Антонина… И всем казалось, что они отлично понимают друг друга.
Обнаружив, что блины заканчиваются, Таня вдруг загрустила, рассердившись на себя из-за того, что приготовила так мало. Заметив смену ее настроения, Арне и Клара попытались осторожно выяснить, чем это вызвано, снова вернувшись к английскому.
– Ноу-ноу, эврисинг из окей, – махнула рукой Таня. Со стороны прихожей на этих словах донеслись какие-то странные звуки – царапанье, скрежет. Таня вздохнула и нахмурила брови, мгновенно изменившись в лице. Потом раздались неровные шаги.
Отец растерянно посмотрел на Клару. Клара испугалась. Остро и быстро. Где-то глубоко в душе ее и раньше покалывала крохотная булавка подозрительности. Ну разве не странно – она, Клара Стьернлёв, сидит в квартире у какой-то горничной, получает искреннее удовольствие от жареного репчатого лука и общения, которое Мартин насмешливо назвал бы невербальным?.. Теперь же подозрение превратилось в страх: а вдруг им подсыпали в эту странную еду какое-нибудь наркотическое вещество? И они прекратили оценивать действительность адекватно? Сейчас этим воспользуется могущественный КГБ, и их посадят в тюрьму. Как Валленберга…
На пороге комнаты возник грустный мужчина лет сорока. Посмотрел на них и медленно произнес:
– Ну здравствуйте, товарищи капиталисты!
«Ну вот», – напряглась Клара.
– Это мой отец. Его зовут Евгений Павлович, – сказала Таня на английском и почему-то посмотрела виновато.
Евгений Павлович подошел к шкафу, открыл нижнюю дверцу и вытащил оттуда носатый фотоаппарат в кожаном чехле.
– Татьяна, скажи им, что я вас сфотографирую, а потом ты им фото пришлешь на память. Пусть адрес оставят.
«Сэнд фото, ю адрес», – чуть дрожащим голосом произнесла Таня. Они втроем так и сидели за столом, не решаясь пошевелиться. Клара злилась на себя из-за своих недавних опасений, и в особенности – из-за того, что приплела сюда Валленберга. Таня смущенно опустила глаза вниз. Арне смотрел широко раскрытым взглядом, ставшим от выпитого очень доверчивым.
Евгений Павлович присматривался к ним минуты две-три. Потом бодро пощелкал фотоаппаратом, произнес: «Ну вот и все, товарищи капиталисты! Аривидерчи!» – и вышел в другую комнату. И пока дверь, закрывавшая его от гостей, описывала плавную, с тихим жалобным скрипом дугу, Клара успела увидеть, как он тяжело упал на подушки, под которыми совсем недавно лежали луковые кольца ala Достоевский и блины по-шаляпински…
– Ну, дорогая девочка, – одновременно торжественно и растроганно начал по-английски Арне, – спасибо тебе за все. Мы тебе действительно очень признательны. И я, и моя дочь. Ты очень хороший человек. И мы очень хотим, чтобы ты была счастлива…
Таня смущенно улыбнулась.
– Нам пора, – продолжила Клара, – Спасибо тебе еще раз. А завтра мы бы хотели пригласить тебя на ужин в ресторан гостиницы.
Таня узнала и «ужин», и «ресторан», и «гостиницу», но посмотрела растеряно, потому что не была уверена, что ее действительно куда-то приглашают.
– Ми приглашать тебья на ужин. Савтра. Восем час. Хотель. – Прочитав ее сомнения, повторил по-русски Арне.
Прямо перед уходом иностранные гости поцеловали Таню в щеку, и ей захотелось заплакать.
Слезы, впрочем, в мгновение ока высушило любопытство – закрыв дверь, Танин взгляд упал на яркий пакет с Клариным подарком.
В пакете лежало чудо. Розовое, с тончайшими кружевами, перламутровыми пуговичками и широким поясом, а от талии – складки, мягкие, струящиеся, в точности, как у мраморных богинь из Эрмитажа. Дрожащими руками Таня надела чудо. Застегнула пуговицы, повязала пояс. Распустила свои косички, провела щеткой по волосам. Развернула две узкие боковые створки зеркала так, чтобы видеть себя со всех сторон. Минут пять смотрела на себя – и только потом от души расплакалась…
* * *
Третьего мая Арне с самого утра отбыл на свою конференцию. Клара, которая вообще-то любила вставать ни свет ни заря, проснулась неожиданно поздно. Ощущения после вчерашнего вечера были сложными, внутри что-то царапалось. Почему-то было неловко – словно она сделала что-то не так. А еще она жалела эту русскую девчонку – ведь матери у той нет, живет с отцом, который, судя по всему, выпивает. И при этом такая симпатичная, улыбчивая! Позвала домой совсем незнакомых людей, еду им приготовила… Клара вспомнила, как месяца три тому назад к Мартину на работу приезжали французы. Их возраста и положения. Они сходили вместе в ресторан, поговорили на отвлеченные темы: о погоде, о бирже. Потом спокойно разошлись. Следующим утром Клара записала фамилии французов на последнюю страничку своего ежедневника, где она составляла список тех, кому нужно будет отправить рождественскую открытку, – и благополучно забыла о новых знакомых.
А вчера она по собственной инициативе пыталась рассказывать русской девчонке – которая к тому же младше ее лет на десять! – о том, как Мартин делал ей предложение! И как долго ей пришлось этого предложения ждать…
Приняв душ и одевшись, Клара спустилась в ресторан, заказала кофе и булочку со взбитыми сливками. Вспомнила чай и блины из-под подушки. Они были гораздо вкуснее, чем сегодняшний завтрак.
«На свадьбу ее, что ли, пригласить?» – подумала шведка. – «Впрочем, неизвестно, как на это может отреагировать Мартин… И потом ее могут не выпустить! Здесь же какие-то совершенно идиотские порядки…»
В половине двенадцатого появилась их гид Маргарита. Накануне она пообещала сходить с Кларой за тканью, чтобы, в случае чего, помочь ей объясниться с продавцом. Магазин располагался примерно в квартале от гостиницы, они неторопливо шли по Невскому проспекту.
– Вообще-то не хочу вас заранее разочаровывать, – заявила Маргарита, – но идея покупать что-либо из вещей в нашей стране на самом деле не очень удачна. Качество наших товаров оставляет желать лучшего.
Кларе очень захотелось вернуть Маргарите хоть какую-нибудь из тех цифр – «свидетельствующих о достижениях народного хозяйства», которыми гидесса бомбила их во время экскурсии по городу. Но Клара, разумеется, не запомнила ни одного «показателя» и поэтому промолчала.
Магазин оказался неоправданно огромным, а выбор тканей действительно был невелик. Материал висел полосами на стенах, в центре зала было пусто и хотелось сыграть в футбол. Клара выглядела разочарованной.
– Я же говорила! – воскликнула Маргарита с легким злорадством, – здесь только отечественное! А все, что касается одежды, ценится у нас только в том случае, если оно импортное!
Покупателей было не много. Клара заметила, что на них с любопытством смотрят. Оставив Маргариту у витрины с постельным бельем, она медленно направилась вдоль стен. Узнала белую тюлевую занавеску и верхнюю, коричневую с разводами штору из Таниной квартиры. Что-то похожее на Танино бежевое в цветочках платье, которое выглядывало из-под ее рабочего халата. А еще в магазине было множество однотонных тканей серого, коричневого и грязно-синего цветов. Наверное, из них шились всевозможные униформы.
Где-то в углу Клара остановилась. И увидела свою ткань – белую, довольно плотную, шелковую с едва уловимым рисунком в виде волнистых линий. Очень приятную на ощупь. Помяла материал в руках, он немного сморщился, но быстро разгладился.
– Попросите, пожалуйста, вытащить эту ткань, чтобы я могла приложить ее к себе, – обратилась она к подошедшей Маргарите.
Чуть в стороне, за столом с кассовым аппаратом, сидели две девушки и разгадывали кроссворд. Маргарита что-то сказала им по-русски. Одна из девиц встала и нехотя скрылась за дверью, которая, видимо, вела на склад. Не скоро вернулась с тяжелой штукой материи в руках. Резко бросила ее на стол и, не обращая на клиентов никакого внимания, снова вернулась к кроссворду. Маргарита демонстративно вздохнула. Клара попыталась развернуть материю, но кусок был тяжелым и поддавался плохо.
– Скажите, а нельзя попросить их снять отрез со стены? Там как раз будет метра два! Я хочу приложить и посмотреть, к лицу мне этот оттенок или нет? – спросила Клара.
– Попросить, конечно, можно… – ответила Маргарита скептически и посмотрела выразительно. Смысл взгляда Клара поняла не до конца – она сообразила, что Маргарита намекает, будто бы продавщицам наплевать, продадут они ткань или нет, но верилось ей в это слабо. Ведь при таком небольшом количестве посетителей они должны хвататься за каждого – иначе магазин обанкротится, и они потеряют работу! Нет, наверное, своим равнодушием они попросту пытаются продемонстрировать презрение к капитализму! У советских же, как они сами говорят, «собственная гордость».
«Как глупо!» – подумала Клара, а вслух спросила у Маргариты:
– Сколько это стоит?
– Восемнадцать рублей семьдесят копеек за метр, – прозвучало у них за спиной на хорошем английском.
Из служебного помещения вышла эффектная женщина лет тридцати. С тщательно уложенными волосами, в костюме бирюзового цвета. В ушах у нее висели длинные изящные серьги, косметика была безупречной.
– Вам нравится эта ткань? – спросила она у Клары.
– Да, я подумываю, не сшить ли мне из нее подвенечное платье.
– Неплохая идея! – ответила дама. Ее интонация на мгновение покачнулась. И посмотрела она на Клару при этом как-то загадочно.
Девушки-продавщицы между тем тайком спрятали свой и дружно принялись разворачивать материал. Освободили несколько метров, Клара набросила ткань на себя, отступила в сторону и посмотрела в зеркало. Ей понравилось то, что она увидела.
– По-моему, замечательно! – произнесла дама. И, помолчав, добавила: – Желаю вам счастья в семейной жизни! – после чего снова скрылась за служебной дверью.
Клара купила десять метров – чтобы точно хватило, и на шлейф, и на пышную юбку…
Арне вернулся с конференции в отличном расположении духа. Доклад прошел хорошо. Другие выступления тоже были ему интересны. Он вообще считал, что советская наука развивается даже быстрее, чем шведская. Просто у них здесь имеются некие сложности с тем, чтобы претворять научные разработки в жизнь. После конференции был устроен небольшой банкет, но Арне специально не особенно на нем расслаблялся, помня о том, что они пригласили на ужин свою новую знакомую.
– Какая милая девочка, эта маленькая Таня, правда? Если бы у них было проще с выездом, можно было бы пригласить ее к нам этим летом, – произнес Арне.
– Я почему-то тоже сегодня об этом подумала, – отозвалась Клара.
Время подходило к восьми. Они, как и договаривались, вышли на улицу, чтобы встретить гостью. Подождали минут пятнадцать. Начали волноваться. Вспомнили, что не взяли у Тани телефон, а завтра утром они уже уезжают. Неужели она не придет, и они ее больше не увидят? Постояв у входа еще минут пять, Арне собрался было пойти в гостиницу и попытаться узнать номер телефона Тани у других горничных, как тут они заметили приближающееся к ним со стороны Невского ярко-розовое облачко…
В новых австрийских туфлях с бантами и в этом чудесном платье Таня шла на роскошный ужин, испытывая звенящее, сказочное счастье…
Надо отдать должное обедневшим шведским аристократам. Они просидели с Таней в ресторане целый вечер. Ели, шутили, смеялись. Им было хорошо вместе. И их абсолютно не заботило то, как это выглядело со стороны…
* * *
Через два месяца состоялась Кларина свадьба. Невеста было необыкновенно хороша в платье с длинным, ловко скользящим шлейфом и загадочно шелестящей юбкой.
Материал, из которого оно было сшито, в Китае использовали для погребальных саванов. Нелли Геннадьевна, директор магазина «Ткани», как-то ездила в Китай по профсоюзной путевке и случайно обнаружила там эту почти ничего не стоящую ткань. Сделка, которую они провернули с китайцами вместе с начальником ленинградского отделения Внешторга – с ним ее, кстати, связывали не только производственные отношения – сделка принесла им обоим весьма солидную выгоду…
* * *
Платье, впрочем, не помешало Кларе стать счастливой. Счастье ее – ровное, дисциплинированное, шведское. Мартин сделал хорошую карьеру. У них четверо детей, трое их которых уже оперились и уехали от родителей, а младшая дочь учится в гимназии. Живет семейство в добротном доме под Стокгольмом, в качестве дачи куплена бывшая рыбацкая хижина, когда-то принадлежавшая родовому имению Стьерлёв. Каждый год в июле они отдыхают в Испании. На одном и том же курорте.
После ужина с иностранцами в ресторане «Европы» Таню вызвали на комсомольское собрание. Туда же добровольно пришли все вышедшие из соответствующего возраста горничные – чтобы выразить единодушное осуждение и возмутиться поведением советской комсомолки.
После собрания Таня проплакала целую ночь. А наутро пришла к начальству с заявлением об увольнении по собственному желанию. Удерживать ее никто не стал.
Соседка тетя Вера вскоре устроила ее ученицей комплектовщика на свой военный завод. При заводе был самодеятельный театр, и уже через год Таня играла в нем две главные роли. Однажды на их спектакль пришли шефы из Театра сатиры. Одна пожилая актриса обратила на Таню внимание, немного с ней позанималась и помогла поступить на актерский факультет Института театра, музыки и кино – на курс к своему бывшему однокашнику и поклоннику. Еще через год Таня вышла замуж за студента режиссерского факультета из Татарской республики. Брак продержался недолго, но у них родилась необыкновенно красивая девочка, которую назвали Майей. После института Таню распределили в Театр сатиры. Ей здесь понравилось, и она ни разу – даже в самое последнее смутное время – не задумывалась о том, что можно сменить место работы.
Майя выросла за кулисами и тоже поступила в театральный. На третьем курсе снялась в фильме у молодого многообещающего режиссера, стала знаменитой, вышла за этого режиссера замуж и родила дочь. Таня доигрывает свои старые роли, делает это с прежней искренностью, но новых ролей не ждет – стараясь каждую свободную минуту проводить с внучкой.
Бывшая директриса магазина «Ткани» живет в каменном особняке за городом и содержит двух молодых любовников – капризную модель мужского рода и резинового культуриста, официально числящегося у нее охранником…
Альдебаран
В молодости у Ксаны Андреевны был неплохой аппетит на мужские сердца. Без зазрения совести она назначала на один и тот же час несколько свиданий у разных памятников, предлагая бывшему однокласснику Маяковского, однокурснику – Римского-Корсакова, а случайному знакомому – Владимира Ильича в кепке. Потом забывала, кого где разместила, и с обязательным опозданием появлялась у того пьедестала, до которого можно было быстрее доехать…
Тридцать лет назад на пятом курсе пединститута она для пробы вышла замуж и родила дочь, после чего произошел какой-то сбой в программе – материнство не позволило ей стать настоящей женщиной-вамп. Нет, это вовсе не означает, что с рождением Полины Ксана Андреевна превратилась в наседку-непоседу – просто любовь к дочери яркой лампочкой осветила почти всю поляну ее души, оставив лишь узенькое закулисье загадочного сумрака у самой кромки подсознательного леса. Мужчинам по-прежнему нравилась эта эффектная женщина, но вот стреляться и вешаться они из-за нее не хотели. Мужчины вообще стреляются и вешаются в исключительных случаях, и для этого необходима совершенно особенная женщина – эдакая таинственнейшая вещь, которая вся в себе и только в себе, а не в тройке по математике, учебнике по сольфеджио, коньках для фигурного катания или, извините, насморке.
Впрочем, несмотря на недостаточность демонических качеств, замуж Ксана Андреевна сходила три раза – и этим можно было гордиться. Правда все три мужа от нее сбежали, но об этом можно было умолчать. И в утешение раскрыть ту страницу памяти, на которой Ксана Андреевна вела убористую знакопись собственной привлекательности – вздохи соседа, взгляды сослуживца, неожиданный звонок от бывшего мужа подруги, букет от отца вполне благополучного ученика и множество других подробностей, которыми Ксана Андреевна потихонечку прикармливала чувство собственного достоинства. Кстати, романов со всеми этими мужьями, отцами и соседями она не заводила никогда, и, может быть, поэтому бутон ее дарования «вамп» так и не превратился в нескромную пурпурную розу, и ни разу в ее жизни не случилось ничего такого, где она металась бы по комнате, падали стулья, с диким сверканием распахивался зеркальный шкаф, а тот, кто преследовал ее… чей разум мутился от страсти, стрелял бы в зеркало навылет… Шесть выстрелов. Осколки. Тишина…
В прошлом году Ксана Андреевна добралась до границы, у которой ее встретила одетая в уютный халат фигура, представившаяся «пенсией». Вообще-то Ксана Андреевна считала, что жизнь поставила ей эти две пятерки по возрасту незаслуженно рано, но оспаривать правила не стала и уступила коллеге-приятельнице кабинет директора районной музыкальной школы, вечно окруженный звуками куда-то карабкающейся фортепианной гаммы, жалобами флегмы-флейты и пчелиным гулом настраивающихся скрипок. Чтобы совсем не заскучать, она оставила за собой уроки музыкальной литературы в начальных классах, проводившиеся один раз в неделю, на которых местные мальчишки, осваивавшие в школе гитару, обязательно хихикали над фамилией Люлли и именем Модест.
Оставив работу, Ксана Андреевна обнаружила, что у нее появилась масса свободного времени, и чтобы чем-то его заполнить, пристрастилась к книжкам по астрологии, нумерологии, хиромантии и мистике. Так что по пятницам и тринадцатым числам, по вечерам, освещенным полной луной и в условиях возмущенной электромагнитной обстановки она чувствовала себя обязанной немножко осатанеть. В этом настроении ей казалось, что жизнь ее – это не крепкое здание, а домик-вечный-недострой – покосившиеся окна, выпрыгивающая из проема дверь, всюду груды кирпичей и острые стопки грязного стекла. Если все установить на законное место и вывезти мусор, получится очень даже симпатичное строеньице, но с прорабами отношения как-то не складываются, да и сил все меньше и меньше… Рядом, кстати, растет роскошный сад, называется «Полина». Но в саду строят что-то совсем новое, современное, и, кажется, собираются возвести забор, оставив лишь маленькую калитку с ябедой-колокольчиком.
Прочитав как-то очередную книжку – на этот раз о том, как на судьбу человека влияет его имя – Ксана Андреевна решила, что во всем виновата буква «О» в ее официальном имени Оксана. Особенно ее разозлило, что эта «О» волочилась за ней повсюду, кочевала из одного ее паспорта в другой, от фамилии к фамилии, сохраняя все нажимы военно-писарского рондо и эту дурацкую вычурную буклю где-то надо лбом буквы, которой «О» цеплялась к настоящему имени – в результате чего жизнь Ксаны Андреевны и теряла ту самую заглавность. А вот фамилиям своим она не придавала никакого значения…
Ей повезло с внешностью – и не потому, что в молодости она считалась красавицей. Существует масса примеров, когда бывшие несомненные примы уже в сорок лет линяют до неузнаваемости. Привлекательность же Ксаны Андреевны оказалась отлично консервируемой. На открытом лице с некрупными правильными чертами неизбежные морщинки были почти незаметны, зубы добрались до пенсии ровным белым строем, так что никакие глубокие тайны никогда не мешали Ксане Андреевне смеяться. В последние годы стриглась она коротко, на манер комсомолок-энтузиасток: ровная густая челка прикрывала лоб, а острые боковые пряди – щеки. Получалось молодо и стильно. Стройность ей удавалось сохранять без особых усилий. В общем, не замученный жизнью свободный мужчина соответствующего возраста обязательно обратил бы на Ксану Андреевну наипристальнейшее внимание, но ведь всем известно, как трудно такого мужчину найти…
Дочь Полину Ксана Андреевна стремилась вырастить – как говорили раньше – всесторонне развитым человеком. Результат воспитания вызывал восхищение – Полина была серьезной бизнес-вумен в костюме обманчивой скромности и дорогих очках. За свои неполные тридцать она успела сделать успешную карьеру юриста-аудитора, работала с финансовыми потоками в фирме макроэкономического масштаба и была замужем за коллегой Стасом, носившим похожие костюмы и очки. И производили бы они экземплярно-глянцевое впечатление людей благополучных, но скучных – если бы не шестилетняя Анечка, которую самые отпетые вожди краснокожих, не задумываясь, выбрали бы своим старейшиной. Шумная внучка запросто могла бы заполнить жизнь Ксаны Андреевны без остатка, но эти «новые» дети нанимали для девочки каких-то специальных нянек и совсем не злоупотребляли бабушкой.
В день рождения, выпавшем на первый пенсионный август, Полина подарила матери тур на недельный отдых в Италии. Ксана Андреевна очень разволновалась. Много лет назад она ездила по профсоюзной путевке в Болгарию и еще один раз в ГДР со школьным оркестром на трехдневный слет детских музыкальных коллективов. Она помнила свои ощущения от пребывания за границей – все там вызывало живейшее любопытство, но постоянная неуверенность в собственных действиях и шаткость собственного шага как-то портили удовольствие. Это было как в детективном кино – с одной стороны, захватывающе и интересно, а с другой – страшновато и в глубине души хочется, чтобы фильм поскорее закончился. А еще ей не нравилось, что по возвращении стены ее родного дома, содержавшегося в любовном порядке, какое-то время казались немного блеклыми. Правда показывать подругам покупки было очень приятно…
Впрочем, это было давно, в другом царстве, в другой жизни, и с тех пор многое изменилось. Полинка с мужем побывали за границей уже много раз. Прошлым летом они даже Анечку брали с собой в Испанию, девочка потом еще пришла на традиционный воскресный обед к бабушке и потребовала себе паэлью…
Первым делом Ксана Андреевна купила англо-русский разговорник и начала усиленно заучивать слова, вытесняя из головы зубрежкой какие-то щекотные противоречия. С одной стороны, замечательно хотя бы раз в жизни пожить в гостинице-люкс! А с другой, что же тут хорошего, если ты ничего никому не можешь сказать. А если и скажешь, тщательно следя за произношением, что-нибудь простенькое, вроде «где у вас тут можно выпить чаю», а тебя все равно не поймут! И в душе твоей после этого сначала виолончелью зазвучит личная обида, а потом виолончельный же смычок извлечет из согнутой долларом музыкальной пилы завывающий звук сочувствия родным кавказцам и чукчам… С пляжем опять же – песок золотой, вода изумрудная – это прекрасно! Но если, кроме тебя, на золотом песке сидят одни бронзовые девицы, совершенно равнодушные к собственной голой груди, а обхаживающие девиц мускулистые парни спотыкаются о тебя, как о корягу, – тогда удовольствие от отдыха у моря существенно урезается!..
И потом, самое главное – а что надевать?
Ксана Андреевна осторожно попыталась поделиться всеми этими сомнениями с Полиной, но та только рукой махнула:
– Мама, я тебя умоляю! Там такие же люди, как и здесь: и молодые, и старые, и толстые, и худые! И до тебя им не будет абсолютно никакого дела! Так что, пожалуйста, не придумывай себе проблем. Ты едешь отдыхать!
Ксана Андреевна немного успокоилась, но в глубине души почувствовала, что больше всего ей все-таки хочется уже вернуться. Сидеть дома молодой, загорелой, красивой. Пить с подружками итальянское вино, которое она привезет с собой, и вручать им маленькие сувениры…
Оставшиеся до отъезда две недели Ксана Андреевна провела в приготовлениях курортного гардероба. У знакомой модистки заказала брючный костюм из легкого узбекского шелка, бирюзовый в зеленоватых разводах, черный в яркий мелкий цветочек крепдешиновый сарафан и платье в экологическом стиле. Платье было белое, полотняное. Как блестели на нем костяные пуговицы! Ей казалось, оно пахнет левкоями далекой Италии, и этот аромат развеивал все ее опасения и возвращал ощущение дерзкой молодости… Да, и шляпки! У приветливой женщины – «Не на рынке, Полинка, а на ярмарке!» – Ксана Андреевна купила три соломенные шляпки: одну оттенка нежной зелени, маленькую кругленькую, с полями руликом, вторую натурального соломенного цвета с большими, прикрывающими плечи полями, и третью – черную, блестящую со средней величины прямыми полями и тульей, перевязанной цветастым цыганским платком. Анечка пришла от шляп в такой восторг, что, для того, чтобы отобрать их у внучки, Ксане Андреевне пришлось срочно бежать в магазин за беременной Барби. Полина просто улыбнулась. Ксана Андреевна уловила в ее улыбке ментоловую дымку иронии, но значения этому не придала…
* * *
В самолете все тревоги как-то сами собой вдруг взяли и испарились. Сидевшая в соседних креслах публика была вполне узнаваемой: пожилая пара, вряд ли говорившая на каком-нибудь другом языке, кроме русского, три-четыре скучных ответственных лица, несколько мамаш с детьми, но в основном шумная молодежь двадцати – тридцати лет. Ксана Андреевна подумала, что Полинка обязательно выделилась бы в общей массе молодых красотой, серьезностью и некоей эксклюзивностью – даже если бы на ней были какие-нибудь джинсы. От этой мысли Ксана Андреевна почувствовала себя увереннее. Она посмотрела в маленькое зеркало, опустила глаза, оглядывая собственный наряд – и в целом осталась вполне довольна инспекцией. Перед отъездом она несколько раз сходила в солярий, чтобы не выглядеть на пляже неприлично бледной. Одета была по-дорожному, но элегантно: удобные кожаные туфли в дырочку, темно-синяя льняная юбка, длинная, почти до пят, белая шелковая футболка, белый хлопковый свитер – Полинкин – небрежно наброшен на плечи. Да, добавим еще джинсовую панаму, к маленьким полям которой Ксана Андреевна приколола значок, изображавший шпиль Петропавловки, – и получим весьма привлекательную женщину с по-европейски зашлифованным возрастом.
Сидевшая рядом пожилая пара о чем-то у нее спросила, пытаясь завязать общедорожный разговор. Ксана Андреевна ответила приветливо, но дала понять, что в развитии знакомства не очень заинтересована – вытащила из аккуратной дорожной сумки, которую она почему-то не сдала в багаж, томик Барбары Картланд и углубилась в чтение.
Яркие южные краски заявили о себе уже на посадочной полосе – за кромкой серого асфальта стремглав бежали пронзительно розовые, синие и желтые цветы. Рожденный их самолетом солнечный и поэтому видимый ветер старательно причесывал клумбы.
Прямо у входа в здание аэропорта Ксана Андреевна вздрогнула от собственной фамилии, выписанной мелом на красивой табличке, которую держал в руках пожилой итальянец с густопсовыми усами.
– It's me! – бодро произнесла Ксана Андреевна и, помахав рукой попутчикам, уселась на заднее сиденье большой блестящей машины.
Описывая матери гостиницу, Полина называла ее «хорошей» – она просто редко употребляла слова, вроде «роскошный» или «шикарный». В голове же у Ксаны Андреевны суетливой каруселькой вертелись именно эти буржуазные прилагательные. Прохладный мраморный холл и тропической сочности зелень в росе кондиционера, а за прозрачной, нисходящей в невидимость стеклянной стеной – бесконечное море и марево горячего воздуха. Приветливый персонал, и никаких неудобств с языком – едва усатый шофер распахнул перед Ксаной Андреевной дверь гостиницы, как к ним тут же подошла молодая девушка, на чистом русском языке представилась Мариной и сообщила, что в ее обязанности входит перевод и любая другая помощь, которая может понадобиться Ксане Андреевне во время отпуска. Быстро проделав все формальности, связанные с регистрацией, и показав, где сервируется завтрак, а где обед и ужин, она провела Ксану Андреевну в номер, поднявшись с ней в лифте на четырнадцатый этаж.
Здесь отдыхающую сначала порадовала ее собственная, где-то легкомысленно позабытая сумка. Потом Ксана Андреевна осмотрелась по сторонам и пришла от обстановки в полный восторг. В комнате было свежо и как-то неправдоподобно чисто. Отделка была более скромной, чем внизу, но стильной – белые стены, на них несколько морских пейзажей в деревянных рамках, плетеная мебель: два комода, шифоньер и кресла с совратительно пышными подушками, а еще огромная кровать, застеленная бельем в синей гамме: темно-синяя простынь, более светлое одеяло и десяток подушек разных размеров и разных оттенков синего. Во всю стену окно с видом на спокойное перламутровое море. А мраморный пол в ванной и голубой халат из махры самой нежной субстанции произвели на Ксану Андреевну настолько сильное впечатление, что она даже решила не спешить на пляж. Неторопливо распаковала вещи. Обнаружила в шкафу утюжок и притулившуюся к дверце гладильную доску, и основательно подготовилась для будущих променадов, развесив свои наряды на украшенных цветными ленточками плечиках и разложив их по надушенным шкафчикам.
На полке в ванной увидела вазочку синего стекла, а в ней несколько белых шариков величиной с мяч для пинг-понга. «Bath ballistic» – прочитала Ксана Андреевна на этикетке большие латинские буквы и маленькие, расползающиеся, написанные от руки русские: «Бомба для ванной». Решив испытать оружие, Ксана Андреевна налила в скользкую ванну голубоватой воды и бросила туда две «бомбы», которые тут же взорвались роскошной белоснежной пеной и ароматом конфет «Рафаэлло», которые так любит Анечка…
Невесомая пена садилась на ресницы, закрывала глаза и в уши нашептывала внучкины сказки про старух, нырявших в кипящие котлы и превращавшихся в молодых красавиц, после чего у них начиналась совсем другая жизнь… Нет, Ксана Андреевна не примеривалась к переменам! Она была женщиной трезвой и сказки дочитывала до конца, даже если Анечка теряла к ним интерес, и ей было доподлинно известно, что чудеса случаются исключительно с молодыми, а все переплавленные красавицы рано или поздно снова становятся старухами, а раз так – то стоит ли обольщаться? Она и не обольщалась – просто какая-то пружинка у нее в душе начала легонько так подрагивать, и, чтобы как-то унять эту дрожь, Ксана Андреевна после ванны расположилась среди синих подушек с романом Барбары Картланд и вскоре почувствовала себя дальней родственницей главной героини. Героиня была молодая, красивая, ее бурная личная жизнь разворачивалась в интерьерах дорогих отелей, на фоне зыбких золотых дюн, под театрально-бархатными небесами и упругими парусами океанских яхт. Пожилая «родственница» же наблюдала за страстями как бы со стороны, но находилась рядом. «Эту роль я могу играть с совершенно спокойной совестью, – решила Ксана Андреевна, – и мне вовсе не обязательно чувствовать себя при этом полной дурой…»
Вечером в огромное окно номера с цыганской бесцеремонностью постучались южанки-звезды. Они выманивали на улицу, обещая большую молочно-белую луну. Подумав, что перед сном, пожалуй, действительно стоит пройтись, Ксана Андреевна надела полотняное платье, черную блестящую шляпку с ярким платком на тулье и спустилась вниз.
Заморский юг был сладким, сочным, сливочным, шоколадным, фруктовым, марципановым – как большой праздничный торт, к которому страшно подступиться. Всюду были люди, они ели, пили, гуляли и громко разговаривали. Проходивший мимо негр что-то сказал Ксане Андреевне и, не дожидаясь ответа, пошел себе дальше, а она вдруг растерялась и начала судорожно искать какое-нибудь зеркало, умоляя его подтвердить, что она выглядит достойно и вообще здесь не чужая…
«А вот Полинка всегда и везде чувствует себя уверенно», – подумала Ксана Андреевна, но утешиться этой мыслью не успела – наоборот, вспомнила мятную улыбку дочери, которой та отреагировала на ее новые шляпки. Еще больше разволновавшись, Ксана Андреевна стала нервно рассматривать публику, пытаясь определить, носят ли женщины здесь что-нибудь похожее. Оказалось, что носят. Хоть и не все поголовно…
Ксане Андреевне вдруг остро захотелось увидеть дочь. К этому желанию прибавилось неожиданное чувство вины. Ну зачем девочка потратила такие большие деньги? Ведь гостиница очень дорогая, и вообще здесь за каждый шаг нужно платить по доллару! Полина со Стасом, конечно, хорошо зарабатывают и значения деньгам как-то не придают, но все равно! Ей вполне хватило бы и родного Сочи! Ксана Андреевна вспомнила неопрятную, но такую родную сочинскую набережную – лотки с рыхлыми пирожками и чурчхелой, очень вкусной, но произведенной в явной антисанитарии… энергичную чайку, терзающую на берегу серебряную рыбную мелочь, и рыжую дворнягу, отбирающую у птицы честно добытый ужин… А еще держащего тир карлика и какого-нибудь инженера из Сыктывкара, громогласного не хуже здешних, но которого – от здешних в отличие – запросто можно строго осадить…
Ксане Андреевне становилось неуютнее и неуютнее. Чувство вины расплывалось, собираясь превратиться в ощущение одиночества посреди всего этого яркого, но совершенно чужого мира, – и от этого в душе у нее уже конденсировалась маленькая слеза-роса, как вдруг она услышала за своей спиной:
– Синьора из России?
«Синьора» впала в полную панику. «Синьора» даже остановилась. И увидела поравнявшегося с ней высокого мужчину, черноволосого, с сильной проседью – то, что раньше называлось «соль с перцем». На вид ему было около шестидесяти, но жгуче-черные глаза блестели так, словно лет тридцать им удалось преодолеть экспрессом. Душа у Ксаны Андреевны испуганно закудахтала.
– Синьора приехала из России, – повторил незнакомец.
По-русски он говорил уверенно, но язык этот явно не был ему родным, интонация плавала и было непонятно, спрашивает он или утверждает.
Ксана Андреевна никак не могла сообразить, что же ей ответить, но на всякий случай кое-как отреагировала – недоуменно пожала плечами. В молодости она так поступала, если хотела показать, что обращенное на нее внимание явно хуже того качества, которое она заслуживает. Незнакомец широко улыбнулся. Ксана Андреевна испугалась еще больше – а вдруг он истолкует ее жест так, словно она сама не знает, откуда приехала!
«Ну и путь себе толкует!» – решила она уже в следующую секунду. – «Пусть думает, что я гражданка мира!» – Все эти мысли пробежали у нее в голове спринтерскую, а к слову «гражданка» немедленно приклеилась закрытая на ремонт станция метро «Гражданский проспект», где живет ее приятельница Юля, и куда теперь так трудно добираться… Потом явилось новое опасение: «А вдруг это плейбой, который кормится тем, что приглашает одиноких аристократок в дорогие рестораны и удирает, не заплатив?..»
Но, вообразив себя аристократкой, она немного успокоилась и подумала, что истинные аристократки никогда не заговаривают на улице с незнакомыми мужчинами. А додумавшись до этого, наконец-таки решила, как ей поступить дальше. И поступила вот как: так и не ответив на вопрос, Ксана Андреевна рванула вперед, почти побежала. А ошарашенный этим маневром «плейбой» остался стоять на месте, как вкопанный.
Минут пять она неслась мимо каких-то олеандров и рододендронов, придерживая черную шляпку и образовывая своим стремительным движением легкие завихрения в праздном течении южного вечера. Через какое-то время прислушалась – и, не услышав звуков погони, слегка притормозила, здраво рассудив, что аристократки не только не знакомятся на улицах, но и ходят по улицам с достоинством, а вовсе не бегают. А еще через несколько минут к ней окончательно вернулось самообладание, и, снизив скорость до нормальной прогулочной, она снова начала обращать внимание на то, что происходило вокруг. Прошло еще минут десять – и Ксана Андреевна уже почти жалела о том, что с такой непенсионной прытью убежала от приключения.
«Ну что, собственно, могло случиться, если бы я просто поговорила с этим человеком?» – думала она. Вокруг упругими походками ходили веселые люди в ярких одеждах. То и дело раздавался смех… И Ксана Андреевна уже раскаивалась, что упустила шанс и не поиграла в таинственную русскую душу, которая залечивает сердечную рану в каком-нибудь классическом Баден-Бадене и при этом случайно, против воли, смущает душу высокого седоватого господина в белом костюме и широкополой шляпе… с тростью…
Еще немного подобных фантазий – и она успела бы всерьез расстроиться. Но тут прямо перед ее глазами вдруг возникла шуршащая лиловая упаковка, из которой тянули шеи похожие на огромных бабочек цветы. Букет был перевязан ленточкой фразы:
– Какая красивая!
Эти восторженные слова незнакомец сказал с акцентом. И прозвучало мужественно. Из восторженности с поправкой на мужественность получилась застенчивая страстность. Ксана Андреевна попробовала улыбнуться. Незнакомец протянул ей букет. Она его взяла.
– Меня зовут Николо. Николай Кроче. По-русски Коротич. Мой отец приехал сюда в двадцатые годы. Это он научил меня русскому. Да будет земля ему духом.
– Пухом, – осторожно поправила Ксана Андреевна и немедленно смутилась.
– Я заметил вас в гостинице. Я тоже там живу. Может быть, я могу предложить вам свою компанию для прогулки? Здесь на побережье есть очень красивые участки…
Он говорил вежливо, вкрадчиво, немного растягивал слова. Ксане Андреевне на мгновение показалось, что он плетет вокруг нее дымку-паутинку, но она не испугалась, неожиданно осознав, что ей просто очень нравится стоять посреди итальянского бульвара с букетом итальянских цветов и слушать, как итальянский мужчина приглашает ее на прогулку «по красивым участкам побережья». А уж когда новый знакомый произнес: «Не гоньите меня, пожалуйста», – она и вовсе растрогалась.
– Как вас зовут? – спросил итальянец.
– Оксана, – ответила Ксана Андреевна, не понимая, зачем она вдруг прихватила эту букву «О».
– Оксана, – повторил Николо, – так, кажется, звали одну фею у Гоголя?
Ксана Андреевна давно не открывала Гоголя, но помнила, что про фей он не писал. Про них писал Гофман, которого она иногда читала Анечке. Но у фей Гофмана были другие имена. Ксана Андреевна собралась продемонстрировать эрудицию и высказать это вслух, но Николай ее опередил:
– Вы тоже похожи на фею. На добрую фею.
– Неправда, – включилось Ксанино кокетство, бесцеремонно вытеснив покушение на образованность. – Феи не бывают с короткими волосами!
– Нет, правда! – с чувством произнес Николо. – Это ведьмы не бывают с короткими волосами. А феи бывают со всякими. Феи бывают даже лысыми!
После «лысых фей» итальянец вдруг тоже смутился, словно сказал нечто нетактичное. В сердце же Ксаны Андреевны на этих словах что-то щелкнуло – и она рассмеялась с традиционной громкостью местных гуляющих. Ну ничуть не тише, чем остальные!
Прогулка получилась напряженной, но приятной – как когда-то экзамен по любимому, но не до конца выученному предмету. Ксана Андреевна подумала, что нужно было заранее предположить, что кто-нибудь захочет с ней познакомиться – и подготовиться, определиться, что и как говорить! Без подготовки же слова в разговор складывались с трудом, между фразами то и дело зависали паузы, а по-цыгански льстивые звезды, пользуясь тишиной, усиливали свой романтический свет, и Ксане Андреевне казалось, что они норовят ее обмануть…
Итальянец предложил зайти в маленькую кофейню. Обнаружив в меню около ста сортов кофе, Ксана Андреевна растерялась и заказала себе самый незатейливый черный чай без пирожных и кексов. Он пожаловался, что после смерти отца начал забывать русский. Ксана вдруг слегка огорчилась. Нет, она вовсе не очертила подозрение в том, что он познакомился с ней только для того, чтобы поговорить на ее языке – ей просто стало грустно, и все…
– Тогда расскажите мне какую-нибудь длинную историю, – предложила она, не отпуская свою грусть. – Расскажите об отце: кто он был, чем занимался, как попал в Италию.
«Это увлекательная история, только не будьте строги к моим падежам,» – предупредил Николай и начал рассказывать. В падежи он почти всегда попадал, но у его языка была непривычная мелодия, и Ксане Андреевне казалось, что она слушает литературные чтения на каком-нибудь иностранном радио. Содержание у «передачи» было весьма романтичным – ведомый знойной колористикой южного вечера Николай невольно придавал подлинным фактам легкий мыльно-радужный флёр.
Пятнадцатилетний юнга российского флота Александр Коротич попал в Италию в двадцатые годы. Нищенствовал, перебивался случайными заработками, потом какими-то, как выразился Николай, «игольными» путями, забрался в самую античную глушь, на остров, где жили красивые, но немного дикие люди. Женился на будущей матери Николая, дочери полусумасшедшего рыбака. Дед благословил этот брак только потому, что вообразил, будто этот пришлый «Алессандро» не просто чужеземец, а представитель русского дворянства, о котором дед что-то от кого-то слышал. Рассказывая о муже дочери соседям и родственникам, дед пытался провоцировать их зависть – те же над ним потешались. Островитяне сами считали себя прямыми потомками Аполлона – что за дело им было до каких-то там русских князей… Впрочем, со временем им все-таки пришлось признать, что русский не прост. Ведь именно он придумал бизнес, который помог семье выбраться из нищеты и которым до сих пор занимается Николай.
Поначалу островитяне изрядно веселились, говоря друг другу, что «только этому русскому кретину могла прийти в голову идея выращивать сорняк!» Да, розмарин был действительно чем-то вроде сорняка – разрастался на острове запросто, чувствовал себя в этой сухой и солнечной среде преотлично и, словно извиняясь за захват территории, придавал острову острый, свежий, слегка похожий на хвойный запах. «Потомки Аполлона» хорошо знали, что эту траву можно добавлять в пищу, ею лечили женские недуги и успокаивали припадочных, вот только связать все это со строительством в ближайшем порту крупного фармацевтического завода смог только пришлый русский! Ему было нелегко, но уже через несколько лет весь остров был покрыт культурно насажденным розмарином, и во время цветения «росы моря» становился голубовато-фиолетовым, обманывал корабли, притворяясь волной, приманивал моряков маяком сумасшедшего аромата…
– Неужели вы живете на острове? – восхищенно перебила Ксана Андреевна.
– Да, я живу на острове и по-прежнему выращиваю розмарин. Продаю его как сырье фармацевтическим и косметическим предприятиям, а еще сам произвожу кулинарные специи на небольшом заводе. У меня крепкий бизнес, – сообщил Николо не без гордости. – Вчера я, к примеру, заключил новый контракт с французами.
Ксане Андреевне показалось, что родственная цепочка, связывавшая ее с героиней Барбары Картланд, стала вдруг намного короче, и что теперь она по праву может считать себя не просто пожилой компаньонкой молодой красавицы, а ее старшей подругой, которая достойна отдельной сюжетной линии. Пусть даже эта линия не будет в произведении самой главной!..
– Оксана, вы замужем? – спросил Николай после небольшой паузы.
– Да! – ответила Ксана Андреевна без запинки. Потому что, во-первых, близкая родственница героини Барбары Картланд в возрасте Ксаны Андреевны обязана иметь мужа. А во-вторых, замужество как-то защищало.
Николай замолчал. Ксане Андреевне показалось, что он расстроился. Ее это обрадовало. На радость накладывалось страшное любопытство, но Ксана Андреевна медлила и тоже молчала. Спустя какое-то время Николай ответил сам:
– А я вдовец. Уже больше десяти лет. Джулия была доброй женщиной. Она оставила мне двоих сыновей… А у вас есть дети?
– Да, дочь Полина, она юрист. А еще внучка Анечка. – Скоро и споро ответила Ксана Андреевна, обрадовавшись тому, что разговор переключился на детей, и ей не нужно реагировать на сообщение о его вдовстве. А то она, во-первых, не знала, в каких выражениях это нужно делать, а во-вторых, трагический факт кончины этой Джулии почему-то вызывал у нее какое-то странное воодушевление.
– Моих сыновей зовут Джованни и Джузеппе. Они уже взрослые, но жениться не торопятся и совсем не говорят по-русски. Они тоже в семейном бизнесе и живут вместе со мной…
В холле гостиницы они чинно прощались. Николай был вообще-то не прочь пригласить новую знакомую куда-нибудь еще, но потом вспомнил, что на завтра запланирован серьезный разговор с представителем транспортной компании, обслуживавшей его предприятие, и он должен быть в форме, а разговоры на языке, которым пользуешься не каждый день, весьма утомительны…. «Она очень милая, – подумал он по-русски и, перебрав четки слов – бледная? блеклая? – нашел нужное: – Светлая!»
Ксана Андреевна была искренне рада возвращению в гостиницу, ей хотелось поскорее остаться одной и обстоятельно обдумать все, что с ней приключилось. Она искренне не хотела никакого продолжения, но, прощаясь, вдруг так разволновалась, что сердце ее, казалось, вот-вот выпрыгнет и разобьется на мраморных ступенях гостиничной лестницы.
«Вежливо пожелал спокойной ночи и руку поцеловал», – рассуждала она чуть позже в номере, сидя в кресле и осторожно касаясь одновременно трепетной и сочно-мясистой плоти диковинных южных цветов.
«Роскошный букет… Мне никогда ничего похожего не дарили. Впрочем, у нас такие цветы и не растут… И руки мне давно никто не целовал… Ну Стас Полинкин на день рождения и Восьмое марта, так это не считается… Хорошо, что я маникюр успела сделать! Хотя успела – не – успела… разве это важно? Ведь вся эта история ровным счетом ничего не значит! Случайная встреча двух людей, оба в чужом городе, знакомых нет… К тому же ему нужна языковая практика…»
Ксане Андреевне захотелось пить. Она открыла бар, нашла в нижней охлаждаемой части пакет апельсинового сока, открыла и налила себе полный бокал. На верхней полке бара располагалась батарея разодетых в яркое бутылок-иностранок. Ксана Андреевна узнала любимый Полинкин мартини, вытащила его из шеренги, повертела в руках. Потом вспомнила, что героини Барбары Картланд после каких-нибудь переживаний обязательно что-нибудь пьют: «А я чем хуже? Я же родственница! Мне тоже нужно выпить коктейль!» Ксана Андреевна решительно открыла бутылку, но звук лопающихся перепонок на металлической пробке как-то вдруг погасил ее пыл. Плеснув в бокал с соком ровно каплю мартини, она почувствовала странную жалость – то ли к себе самой, то ли к бутылке, которую она совершенно напрасно распечатала.
В дверь неожиданно постучали. Ксана Андреевна вздрогнула и уронила бокал на пол. Он не разбился, но на гладком дереве образовалась приличных размеров лужа. «Как же это я так?! – разнервничалась Ксана Андреевна, – тут же, наверное, и тряпки никакой нет!»
Стук между тем повторился, прозвучав требовательнее, чем в первый раз.
«Боже, кто же это может быть?» – подумала Ксана Андреевна и обреченно направилась к двери.
За дверью стояла служащая гостиницы Марина. С панорамной улыбкой на лице и большой матово-стеклянной вазой в руках.
– Оксана Андреевна, я видела вас внизу и подумала, что вам понадобится что-нибудь более вместительное, чем та вазочка, которая стоит у вас на комоде. Вам ведь подарили такой роскошный букет!
Протягивая вазу, Марина сделала два шага вглубь комнаты и заметила валявшийся на полу бокал и лужу.
«Я… хотела… только…» – промямлила Ксана Андреевна, проследив за ее взглядом. Улыбнувшись еще шире, Марина утешительно произнесла:
– Я сейчас пришлю к вам Лусию, она всё устроит.
Ксане Андреевне ее «утешение» показалось несколько неуместным. Она даже разозлилась, но развить раздражение в какую-нибудь внятную претензию не успела, потому что буквально через несколько секунд в комнате появилась глазастая пожилая итальянка в голубой униформе и резиновых перчатках. Она молниеносно управилась с лужей, вынесла свой инвентарь в коридор, тут же вернулась, уже без перчаток, прошла в ванную, вымыла руки и приготовила Ксане Андреевне новый коктейль с соблюдением всех рекомендуемых пропорций.
«Я, наверное, должна ее отблагодарить, – перепугано подумала Ксана. – А как? Что, просто так взять и дать ей доллар? Но у меня, кажется, нет по одному, только по пять. А пять это уже слишком!» – возмутилась она, вспомнив зарплату учителя районной музыкальной школы.
«Господи, ну зачем я вообще сюда приехала?!!» – вздохнула она про себя, а Лусия тем временем, улыбнувшись Ксане Андреевнее на прощанье, закрыла за собой дверь, не получив за свои труды даже какого-нибудь акцентированного «грацио». И то ли от этой своей неблагодарности, то ли от чего-то еще, Ксане Андреевне стало очень тоскливо. Она ходила по комнате, пыталась смотреть телевизор, читать роман, но внимание ее, ни на чем не удерживаясь, встревоженной птицей улетало в окно и кружило в черном небе, призывая сон. Сон же к ней не торопился, потому что был красивым и, как все красивые, хотел, чтобы его подождали-помучились.
Ей снился танец красок с зыбким сюжетом. Черно-белая зебра с гитарной линией крупа грациозно бегала по густо-зеленому лугу, с неба спускалось царственное солнце, где-то вдали мерцало зерцало моря, и розмарин нескромно себя расхваливал роскошным своим ароматом. Ксана Андреевна точно знала, что это был именно розмарин. А не какой-нибудь там орегано или фенхель…
Утро было легким и радостным. О вчерашнем знакомом Ксана Андреевна почти не вспоминала, но наряд для пляжа выбирала с особым тщанием. А что – она же впервые выходит на заморский пляж! Примеряя купальники, жалела, что их у нее только два: черно-белый раздельный и зеленый в желтую клетку закрытый. Раздельный был самого модного в этом сезоне фасона, ей его Полина купила, но зато с прикрытым животом она выглядела стройной, как девчонка. Повертевшись перед зеркалом минут десять, она всё же остановилась на втором варианте. Красиво повязала зеленоватую в зыбких рыбках юбку-парео и надела длинную шелковую желтую майку. Плюс изящные шлепанцы, большая соломенная сумка с деревянными ручками, модные солнечные очки и, разумеется, пляжная шляпа с ее широкими и немного меланхоличными полями.
Нет, она вправду не думала, что может повстречаться с Николаем в холле или за завтраком – но море у нее в душе волновалось. Ксана Андреевна пыталась строить какой-нибудь волнорез из трезвости, но волны не сдавались – устроили себе укромную бухту в какой-то там селезенке, которая ёкала и лишала аппетита. Увидев за завтраком феерическое разнообразие фруктов, сыров, соков, колбас и всего прочего диковинного и экзотического, Ксана Андреевна скромно взяла себе малиновый йогурт, манго – Полинка как раз покупала на ее недавний день рождения! – и кофе с маленьким круассаном. Села за столик на террасе с совершенно открыточным видом на море, которое, впрочем, доказывало факт своего реального существования легким шелковым ветерком.
Позавтракав, Ксана Андреевна спустилась к воде. Прошлась вдоль моря, осваивая пространство. Выбрала шезлонг в тени под навесом, обстоятельно расположилась и раскрыла новый роман Барбары Картланд. Читать старалась внимательно, но буквы суетились перед глазами, как муравьи, и всё норовили разбежаться по сторонам. Пыталась их, убегающих, ловить, Ксана Андреевна то и дело отрывала взгляд от книги и осматривалась. Себя она при этом убеждала, что вовсе никого не ищет… Просто рассматривает публику…
Впрочем, ищи – не – ищи, но на пляже его всё равно не было! А публика… Публика как публика! В Сочи такая же. Полинка как всегда была права: и толстые здесь были, и старые – всякие, в общем. Кстати, мужчины соответствующего возраста производили гораздо менее выгодное впечатление, чем ее вчерашний знакомый. «Неужели мне достался самый красивый итальянец?» – не без самодовольства подумала Ксана Андреевна, но тут же опомнилась и строго себя одернула: «Это кто тебе достался? И с какой стати ты вообще себя с ним объединяешь? Ну погулял с тобой человек по бульвару, и что с того?..»
Ей стало немного грустно. Утешая себя, она подумала, что мужчин-отдыхающих она видит раздетыми, а на Николае вчера была очень стильная одежда: легкие серые брюки и синяя шелковая рубашка… И неизвестно еще, как бы он выглядел в плавках – может, так же, как все эти слегка поплывшие пожилые мужчины…
«И вообще, какое мне до него дело?! – решила Ксана. – К тому же он, наверное, уже уехал, он же деловой человек, у него переговоры… Подписал все контракты и отправился домой, на свои плантации…»
Ксана Андреевна просидела на берегу часа четыре, отчаянно пытаясь следить за любовными переживаниями героини романа. Три раза осторожно окуналась в льстивую воду, наносила наносила на кожу защитный крем и снова возвращалась к книжке.
В час, обозначенный обеденным, отправилась в открытое кафе, где с большим аппетитом съела огромную тарелку спагетти с креветками, мидиями и прочей морской экзотикой и выпила целых два бокала легкого белого вина. Вообще-то второй она пить не собиралась, но официант проявил инициативу, и она решила – гулять так гулять…
Потом снова вернулась к морю и своему роману и еще через какой-нибудь час заметила, что книга приближается к концу, а она не помнит ничего, кроме последней страницы. «Вот так, наверное, и начинается склероз», – испуганно подумала Ксана и, сосредоточившись, попыталась вспомнить, с чего собственно начиналось повествование. Задумавшись, сняла солнечные очки, закусила их дужку и в этот раз посмотрела по сторонам действительно без малейшего интереса. И в следующую секунду обнаружила прямо перед своим носом разноцветный бокал, украшенный по краю зелеными листьями.
– Здравствуйте, Оксана! Я был занят с утра и боялся, что вы куда-нибудь уедете, и я вас больше не найду.
– Здравствуйте, – ответила Ксана с легкой хрипотцой, мгновенно почувствовав дрожь в руках, сухость в горле, участившееся сердцебиение, головокружение – словом, все то, что в ее возрасте должно сопутствовать склерозу и напоминать о районной поликлинике.
– Это вам! – Николай протянул ей похожий на фейерверк бокал. Здесь немного алкоголя, но в основном фруктовый сок. В баре говорят, что это самый популярный напиток на пляже…
Ксана Андреевна замешкалась и никак не могла отважиться взять бокал – боялась, что он заметит, как у нее дрожат руки.
– Может быть, вы хотите, чего-нибудь другого? Скажите, я принесу! – с готовностью предложил Николай.
– Да… Знаете… Принесите мне, пожалуйста, обычной минеральной воды, – заявила Ксана. Ей показалось, что у нее это неплохо получилось: с нужной дозой уверенности и смущения оттого, что она его обременяет.
«Идите-идите, – думала она, глядя в спину удаляющемуся Николаю. – Хорошо бы там еще очередь какая-нибудь организовалась… минут на двадцать-тридцать, как в поликлинике за талончиками к терапевту… Чтобы я успела справиться с этим дурацким волнением! Я же тысячу лет не заводила новых знакомств и совсем забыла, как себя при этом ведут».
На маленьком столике, вмонтированном в подлокотник шезлонга, рядом с закрытой книгой стояли два бокала. Ксане Андреевне остро захотелось выпить один залпом, но она решила быть последовательной. Вспомнила прочитанную как-то книжку – «Способы достижения эмоциональной стабильности в кризисных ситуациях». Там советовали в минуты тревоги представлять себе нечто родственное предмету, вызывающему беспокойство, но не страшное, привычное. Например, если путешествуя по горам, вы вдруг оказались у края пропасти, и вас охватил страх высоты, нужно срочно вообразить какой-нибудь хорошо знакомый балкон в квартире на высоком этаже, вспомнить детали: ящик с цветами, какое-нибудь обязательное эмалированное ведро со щербинкой по краю, веревку в прищепках. А потом посмотреть вниз и попытаться уравнять вид с обрыва с видом с балкона… Ксана Андреевна вспомнила своих мужчин.
Вообще-то все они хоть в чем-нибудь да уступали ей. Полинкин отец был и не глуп, и собой хорош. Но он приехал в Ленинград из провинции, и отсутствие прописки не позволяло причислить его к женихам высшей категории. Второй хорошо зарабатывал в качестве бригадира образцово-показательной бригады, но высшего образования так и не получил. Третий был из хорошей семьи, закончил престижный вуз, должность занимал солидную, но внешне выглядел неказисто и к тому же ростом был чуть ниже самой Ксаны, так что ей пришлось отказываться от высоких каблуков.
Когда от нее – к другой! – уходил первый муж, Ксана Андреевна злилась, страдала и, если бы не Полина, наверняка впала бы в депрессию. Разрыв со вторым мужем вызвал у нее удивление и обиду. Бригадир о них с Полиной заботился искренне и вообще был той самой каменной стеной. Развод Ксана предложила сама в запале какой-то мелкой семейной ссоры, а он вдруг взял и согласился. Ксана Андреевна потом всеми средствами пыталась отозвать инициативу, но ее «средне-технический» не поддался ни на какие уловки – развелся, благородно оставив Ксану Андреевну в полном недоумении посреди новой просторной квартиры, которую ему накануне выделил его завод. Расставание с третьим мужем Ксана Андреевна восприняла стоически и философски. Ей тогда было сорок пять, выглядела она значительно моложе. Подруги в один голос твердили, что мужья уходят от нее только потому, что она сильнее и ярче, и что у нее еще все впереди… Она соглашалась, допуская, что впереди, может, и не все, но что-то уж определенно есть… Правда, едва на горизонте проявлялись нечеткие контуры «чего-то», Ксана Андреевна тут же отступала – а сами мужчины ни на чем не настаивали. Ведь мужчины в возрасте редко бывают настроены завоевательски. По крайней мере, по отношению к женщинам в возрасте. Это, скорее, женщина в возрасте должна завоевать мужчину, предлагая ему опрятную таверну в уютной гавани под тихое журчание волны, которое иногда превращается в трогательные мелодии ретро… Ксане Андреевне завоевывать никого не хотелось, к тому же в глубине души она опасалась нового поражения – а поэтому просто и вопреки возрасту ждала конкистадора-энтузиаста.
По белому и мелкому, как в песочных часах, песку, поскрипывая кожаными сандалиями, к ней уверенно приближался Николо Кроче. В руке он держал запотевший стакан, украшенный по краю дольками ярко-зеленого лимона. «Кажется, этот цитрус называется лайм», – растерянно подумала про себя Ксана Андреевна, а вслух произнесла:
– Господи, мне так неловко! Дело в том, что у меня иногда случается аллергия на лимоны. Так что я, наверное, все-таки коктейль выпью…
Николай широко улыбнулся. «А она совсем другая, не похожая на знакомых женщин. Не самостоятельная и самоуверенная европейка, и не итальянка, громкая, дерзкая, но легко подчиняемая. Русская…»
Социально Николо Кроче был полноценным итальянцем, но русское прошлое отца всегда будоражило его воображение. Не потому, что он был местным-интеллектуалом-любителем-Достоевского, и не потому, что отец много рассказывал ему о России – наоборот, Алессандро нечасто вспоминал свое детство и русскую молодость. Николаю даже казалось, что отец совсем не скучал по стране, в которой родился. Но у Александра Коротича начисто отсутствовали способности к языкам, и итальянский давался ему с большим трудом. К тому же островитяне не умели учить и иногда нарочно говорили так, чтобы чужой их не понимал. Поэтому с сыном Алессандро говорил только на родном языке, испытывая удовольствие оттого, что может одевать свои мысли в более или менее соразмерные слова. Николай же действительно полюбил русский. После смерти отца ему редко выпадала возможность говорить на нем, но русские книги он читал постоянно, отдавая предпочтение классике и серебряному веку.
Два раза Николай ездил в Россию. Первый – сразу после объявления о перестройке, второй – недавно. В обоих случаях вел себя не как рядовой турист, от всех предложенных экскурсий отказался, всюду ходил сам, искал суть. Нашел что-то неясное и грустное. Десять лет назад его шокировало то, как похожие на заезженных лошадей женщины часами стояли в плотных очередях за какими-то мелочами, которые для Италии были настолько привычны и незаметны, что люди попросту забывали их названия. Во второй раз очереди исчезли, но Николаю показалось, что не все этому обрадовались. Он тогда даже перерегистрировал билет и уехал домой раньше намеченного срока, потому что, гуляя как-то в Петербурге по Невскому, вдруг понял, что здесь нужно либо останавливаться, окапываться и укореняться – либо отсюда нужно бежать без оглядки.
Он хорошо помнил подробности, образовывавшие рамку этого глубокомысленного заключения. На углу Невского и Михайловской, недалеко от гранд-отеля на расползающихся деревянных ящиках сидели полупьяные музыканты и с минами отвращения на лицах играли замечательный, искренний джаз. У подземного перехода трогательная седая бабушка торговала незабудками. Рядом на тротуаре лежала одетая в черное юродивая и в мелком, но не противоречащем джазу ритме трясла головой. С проезжавшего по Невскому троллейбуса упал провод, едва не изувечив и без того болезненного вида лошадь, верхом на которой прямо по проезжей части бесстрашно скакала ангелообразного вида девочка лет пятнадцати. У нее были черные локоны и глубокие карие глаза, и Николаю показалось, что она попала на Невский прямиком из Русского музея, сняв для конспирации шляпу и переодевшись в какие-то балаганные тряпки. Он уже собрался с ней заговорить, но «ангел» вдруг начал кричать в адрес водителя что-то явно дьявольское. А наблюдавший за этой сценой случайный молодой человек в дорогом костюме быстро сказал своей спутнице что-то очень умное, из чего Николай вычленил слово «коннотация», почему-то напомнившее ему белогвардейцев и рассказы писателя Бабеля… Немного повертев это имя в воображении Николай решительно направился к зданию «Аэрофлота», где поменял обратный билет на ближайший рейс.
В самолете он с грустью думал, что так и не встретил ни одну женщину, которая была бы похожа на музу поэта начала века – осторожную красавицу в платье из креп-жоржета цвета розового дерева с небрежно наброшенным на плечи боа из рыжей лисицы, перечеркнутой по хребту черной полосой. В маленькой черной шляпке без полей, которая, словно ладонями, охватывает коротко стриженную головку…
Ксана Андреевна пила коктейль небольшими глотками, иногда спотыкаясь носом о фруктовый декор бокала. Николай вдруг предложил воображению набросить ей на плечи какое-нибудь огненно-лисье манто… Дело происходило на пляже. Было очень жарко. К тому же экологический экстремизм докатился даже до модницы-Италии… Но после того, как его фантазия проделала этот несообразный сезону трюк, Николо Кроче, этот в общем-то малоимпульсивный, трезвый человек, взял и сказал:
– Оксана! А поедемте со мной ко мне на остров! Я вас приглашаю!
От неожиданности Ксана Андреевна поперхнулась и испуганно посмотрела по сторонам. Николай тоже испугался – самого себя. Ведь еще пять минут назад у него в мыслях не было даже намека на что-нибудь подобное. Вчера он случайно увидел, как в отель приехала туристка из России. Позже, вечером, опять же случайно заметил, как она в одиночестве прогуливалась. У него был тяжелый день, ему хотелось спать, но черная шляпка интриговала, и он решил познакомиться – просто так, из любопытства, а заодно русский освежить. После того, как Ксана так странно повела себя при его первой попытке, в нем проснулся веселый азарт. Добившись своего, он не разочаровался – русская оказалась красивой, спокойной женщиной, разговаривать с которой было очень легко. Она смущалась и думала, что он этого не замечает, и ее смущение придавало их знакомству какую-то особую вибрирующую нотку. За завтраком Николай с теплотой вспоминал вчерашнюю прогулку, потом позабыл о Ксане начисто, с головой уйдя в обдумывание способов сокращения перевозок. После переговоров пообедал в городе с директором транспортной фирмы и вернулся в гостиницу. На семь вечера был заказан маленький самолет частной авиакомпании, который за сорок минут должен был доставить Николая домой. До отлета оставалось чуть больше трех часов. Он снял костюм, надел шорты и футболку и отправился на гостиничный пляж, надеясь отыскать там Оксану, чтобы с ней попрощаться. И только! И вдруг такой пассаж!
«Она наверняка откажется, она же замужем,» – попытался успокоить себя Николай. – «Она должна отказаться!» – мысленно повторил еще раз, с изумлением обнаружив, что думает по-английски. Английский он знал намного хуже русского и вообще-то никогда на нем не думал. Словом, в голове у Николо Кроче наблюдалась явная путаница.
– Но как же я могу с вами поехать? – недоумевала между тем Ксана Андреевна. – То есть спасибо, конечно, за приглашение… Но ведь у меня путевка… Семь дней, шесть ночей…
– Я попробую это устроить. Хозяин гостиницы мой хороший знакомый, он наверняка что-нибудь придумает, – уговаривал Николай, по-прежнему не соображая, зачем он это делает.
– Я как-то не знаю… – растягивала слова Ксана, – это так неожиданно… – Потом помолчала немного и зачем-то добавила:… право…
– У меня на острове, право, вам будет ничем не хуже, чем здесь, – настаивал Николай, удивляясь, как это у него получается так убедительно говорить о том, в чем сам он нисколько не убежден. – Берег у нас даже лучше, природа нетронутая. К тому же вам никто не будет мешать…
Ксана Андреевна вспомнила придуманную Агатой Кристи мрачную историю про остров и десять негритят. И тут же обнаружила, что как раз в этом – детективном – смысле ей совсем не страшно. Хоть это, пожалуй, и крайне легкомысленно.
– Я понимаю, – продолжал между тем Николай, – вы, наверное, просто боитесь. И это правильно, всегда следует быть осторожным. Но мы можем зайти в полицию, там подтвердят, что я вполне порядочный гражданин… Или позвоните вашей дочери! Расскажите ей, что вас пригласили в гости, оставьте все мои телефоны…
«Дочери?» – растерянно повторила Ксана. Кажется, впервые в жизни она позабыла о том, что у нее есть дочь.
– Полина… она… – начала было Ксана Андреевна, но потом остановилась, не зная, как закончить фразу. Ей хотелось предположить, что обо всем этом сказала бы Полина, но авторитет дочери начал вдруг стремительно размываться.
«Она не должна согласиться, не должна,» – в панике думал Николай, а вслух спросил:
– Вы когда-нибудь видели цветущие розмариновые поля? Это очень красиво!
– Нет, но… Я не знаю… Это так неожиданно…
– Вообще-то, обычно розмарин цветет один раз в год, в феврале-марте. Но иногда он зацветает дважды, второй раз – в сентябре. Говорят, что если это случается, это значит, что произойдет что-нибудь особенное. Сейчас как раз такой год…
Ксана Андреевна представила вдруг свой домашний диван. Оставленный на диване махровый халат с патетически разбросанными рукавами. И купленную перед отъездом книжку «Как уберечь семью от энергетической интервенции».
– Нет, я не могу… Не могу… Наверное…
«Наверное» защелкнулось, как наручник. То, что это согласие, Николай понял, но вот рад он этому или нет – понять пока не мог.
«Еще не поздно что-то изменить, – спешно думал он. – Ведь неизвестно, что из этого получится… Как отреагируют сыновья… Может, просто превратить все в шутку?..»
В глаза нахально лезли золотые буквы на глянцево-розовом переплете книги. Оксана выбивала на ней пальцами едва слышный, но непростой ритмический рисунок.
«Сейчас я начну – как это у них называется – ёрничать… Она поймет, что я дурак, а приглашение несерьезное», – решил Николай и за неимением времени для детального продумывания клоунады сделал первое, что пришло ему в голову: припав на одно колено, уронил подбородок на грудь, приложил правую руку к сердцу – так делал в каком-то русском фильме один военный курсант, – а потом выбросил левую руку в сторону и очень выразительно спел:
– Поедем, красо-о-отка, ката-а-а-аться, не зря я тебя-а поджидал…
Ксана Андреевна сначала ошарашенно замолчала, а потом рассмеялась.
«Кажется, она поняла правильно… что это просто шутка… И сначала огорчилась, а потом обрадовалась», – подумал Николай. И сначала обрадовался, а потом огорчился.
– А что, вопрос с моей путевкой действительно можно как-то устроить? – спросила Ксана Андреевна, отсмеявшись.
Николай посмотрел куда-то вверх. Веником острорукой пальмы ветер усердно подметал дорогу в небо. «Я веду себя, как старый идиот, – подумал он. – Она наверняка меня таким и считает… И несмотря на это, собирается ко мне в гости.»
– Я все сделаю, не беспокойтесь!
«Какой он милый и странный, – думала Ксана. – Почтительный, вежливый, как настоящий джентльмен из кино. И вдруг этот эпатаж с «красоткой»! Это у них тоска по родине так выражается», – Ксана Андреевна вспомнила девушку Анну, которая приезжала как-то к Полинке из Швеции. Ее родственники оставили Россию во время Второй мировой войны, Анна вообще не говорила по-русски, но очень любила песню про то, как «по улице ходила большая крокодила», – и пела ее с большим чувством. Так же, как Николай про красотку.
– У меня заказан маленький самолет, до отлета еще есть время, так что вы можете спокойно загорать. А я пойду поговорю с директором гостиницы, – сказал Николай и быстро удалился.
«По-моему, прозвучало это как-то слишклм сухо», – подумала Ксана Андреевна и впала в оцепенение.
Во-первых, ей казалось, что она сошла с ума, и вся эта история ей попросту пригрезилась. Во-вторых – если это не галлюцинация – то как она вообще могла согласиться на такую авантюру? Куда она поедет? На какой такой остров? А если она захочет оттуда сбежать, что тогда? Вот он сейчас выпишет ее из гостиницы, и что дальше? Самолет в Петербург через пять дней – куда она денется?..
Но потом перед ней вдруг разверзлась настоящая пропасть – а если он сейчас исчезнет? Вот так просто возьмет и больше никогда не вернется! Не вернется… Из пропасти его невозвращения ей было не выкарабкаться. Ни одна новая мысль не образовывалась и не предлагала себя в качестве веревочной лестницы. Напряжение вытянуло Ксану Андреевну в трепетную струну. С мстительной медлительностью тянулись минуты, и солнце начало немилосердно печь. Через полчаса жаркого вакуума ожидания Ксана Андреевна почувствовала, что собирается расплакаться. Потом вдруг заметила, что в горячем воздухе летают маленькие мыльные пузыри.
«Я перегрелась. Нужно срочно идти в номер, там кондиционер и прохладно», – решила Ксана Андреевна и, подхватив сумку, направилась к отелю, стараясь контролировать «достоинство» походки.
Вернувшись к себе, сразу же встала под душ и простояла под прохладными струями минут двадцать, не расслышав ни телефонного звонка, ни стука в дверь.
Оставив Ксану на пляже, Николай снова испытал странную растерянность. За все его неполные шестьдесят с ним не случалось ничего похожего. Этот порыв с приглашением!.. Он никогда прежде не звал малознакомых людей к себе домой. Конечно, русская вызывала у него симпатию, но здравомыслящий человек не должен с разбегу звать в дом всех, кто ему понравился… Все связанные с ее поездкой расходы ему, разумеется, придется взять на себя. Беднее он от этого не станет, не в деньгах дело – просто что-то во всем этом было не так. Николай вдруг подумал, что отец, даже разбогатев и совершив то, что было не по силам и не по уму ни одному из островитян, все равно остался для них в каком-то смысле ущербным – пришлым, чужим, «русским князем», родством с которым гордился только полусумасшедший дед. Когда отец выселял людей с острова, предлагая им огромные суммы «отсталого», те криво усмехались, не испытывая к благодетелю ни благодарности, ни уважения. Оставшиеся на острове люди – примерно четвертая часть изначального населения – неплохо зарабатывали на плантациях и заводе фирмы «Розмарин Кроче». Но, даже несмотря на это, особенного почтения к первому хозяину никто не проявлял. Впрочем, Николо это уже не касалось – он уже был «своим». Но сейчас ему вдруг ясно представилось немое, но намекающее на наслед ную русскую дурь осуждение, с которым к его поступку отнесутся и мальчики, и Эльса, дальняя родственница покойной жены, испокон веков жившая у них в доме и отвечавшая за хозяйство…
Раздраженно думая об этом, Николай одновременно вполне приветливо общался с хозяином гостиницы, устраивая так, чтобы Ксана могла освободить номер и получить назад часть его стоимости за вычетом всех штрафных. Позвонил в авиакомпанию, предупредил, что с ними летит еще один пассажир. Зачем-то счел своим долгом объяснить хозяину гостиницы, что пригласил синьору Соловьеву к себе, потому что выяснил, что у нее есть родственники по фамилии Коротич: «Вы же знаете, мой отец был русским, наша семья просто подкроила его фамилию на итальянский манер». Хозяин гостиницы кивнул головой и понимающе улыбнулся. Николаю его улыбка не понравилась. Ему снова представилась малоразговорчивая Эльса и ее тяжелый антрацитовый взгляд. Она была так преданна покойной Джулии, а к Николаю всегда относилась настороженно. Вот возьмет и в знак протеста уйдет из дома, а что, она может…
«И зачем я в это ввязался? – сформулировал наконец Николай собственное раскаяние и в следующую же секунду перевел стрелки: – А она? Как она могла согласиться? А еще сказала, что замужем! Какое легкомыслие! Вот если бы покойная Джулия уехала куда-нибудь отдыхать, и там ее пригласили на остров…»
Странно, но проекция на бывшую жену не вызвала у него в душе ни ревности, ни негодования. Вместо этого явилась совершенно неожиданная мысль, звучавшая примерно так: «А на каком основании, синьор Кроче-Коротич, вы, собственно, решили, что эта женщина действительно согласилась ехать с вами в вашу благоуханную глушь? Вели вы себя, как достойный внук вашего сумасшедшего итальянского деда – хоть и пели при этом русскую народную песню! Да никуда она не собирается! Она просто пошутила!..» – Николай мгновенно расстроился, начисто позабыв о том, что злился на Ксану за ее готовность следовать за ним. Постояв минуту в нерешительности, подумал, что нужно поговорить с ней еще раз. Спустился к морю – ее шезлонг был пуст. Поднялся на четырнадцатый этаж и постучал в дверь ее номера – никто не открыл. Вернулся к портье, спросил о Ксане – ее не видели. Позвонил к ней в номер – ответа не последовало. Снова пошел наверх, громко стучал – и снова тишина.
Вернулся в холл, сел на диван и загрустил: «Она специально куда-нибудь уехала, чтобы не попадаться мне на глаза. Потому что я что-то сделал не так… Хотя «что-то»!.. Да я все сделал не так! Просто я так давно не ухаживал за женщинами, что забыл, как это делается. Я ее больше никогда не увижу…» – В синем небе за окном проплывала кружевная тучка, приглашая в мечтательное путешествие рассеянный взгляд пожилого человека, только что осознавшего, что он влюблен…
Примерно через час, когда их «игольные» пути наконец пересеклись, они оба выглядели немного виноватыми.
– Вы летите со мной? – осторожно спросил Николай.
– Ну, если вы не передумали… И если вас это действительно никак не обременит… – тихо ответила Ксана Андреевна, глядя куда-то в застекленную морскую даль.
* * *
Самолет был маленьким, а пилот – огромным, жгуче-черным и похожим на таксиста, который – подумать только! – всего лишь вчера вёз Ксану Андреевну из аэропорта в гостиницу. Сначала это ее успокоило, но как только они поднялись в воздух, ей вдруг стало страшно – она вспомнила фантастический фильм, в котором демон расставлял ловушки добропорядочным людям. Люди как-то выкручивались, отделывались от него, но дьявол неизбежно проявлялся снова – в измененном, но вполне узнаваемом обличье. Разговаривать во время полета было невозможно – маленький, но пламенный мотор работу свою выполнял с большим энтузиазмом. Николо ободряюще улыбался, Ксана Андреевна сосредоточенно смотрела на широкую спину пилота.
Полет занял около часа. Когда самолет начал снижаться, Ксана Андреевна выглянула в иллюминатор и испугалась – ей показалось, что они собираются сесть прямо в море. Николай поймал ее встревоженный взгляд и широко улыбнулся. Из густо-сапфировых волн проступили очертания бледно-фиолетовой суши.
– Это и есть цветущий розмарин! – сообщил итальянец. – Сверху кажется, что море просто изменило цвет.
Они приземлились на кудрявую зеленую поляну, которая показалась Ксане очень неустойчивой – голову кружило то ли от полета, то ли от разлитого в воздухе запаха. Аромат был хвойный, но не знакомый елочно-новогодний, а более терпкий, с горчинкой – осенний.
– Правда, приятно пахнет? – произнес Николо. – Сегодня вас может немножко покружить, но уже завтра вы привыкнете и, кстати, будете себя хорошо чувствовать. У эфирного масла розмарина масса полезных свойств, а в античности розмарин считался символом памяти. Студенты до сих пор прячут иногда его веточку в волосах перед экзаменом…
Они подошли к маленькой желтой машине, ожидавшей, видимо, возращения хозяина. Пока Николай укладывал вещи в багажник, повисла пауза.
– У ваших сыновей высшее образование? – испугавшись молчания, спросила Ксана и тут же смутилась. Собственный вопрос почему-то показался ей немного бестактным, но Николай, улыбнувшись, ответил:
– Нет, они закончили школу, а в университет поступать не захотели. Раньше у нас здесь была своя школа, детей было больше, и мы всегда приглашали учителей. Теперь остались только начальные классы. Потом родители отправляют детей в большие города к родственникам или в специальные пансионы… А мои парни вообще никогда не отлучались с острова дольше, чем на несколько дней. Они очень увлечены семейным делом.
– Моя Полина тоже очень любит свою работу, но они с мужем много путешествуют, и в Европе были, и даже в Америке… – с достоинством ответила Ксана Андреевна и снова почувствовала себя светской дамой из романа.
Они ехали по грунтовой дороге, с обеих сторон машину догоняли поля. По форме – нормальные российские сельскохозяйственные угодья, по цвету – фиолетово-лиловые импрессионистские полотна. Ксане Андреевне казалось, что время и пространство ее дурачат, а в голове у нее наперегонки бегали два слова – притворно-сердитое слово «сюр» и насмерть усвоенный в советской школе «реализм».
– Ребята должны вернуться часа через полтора, – сказал Николай, посмотрев на часы. – Ужинать будем в восемь. Вы сможете отдохнуть, а Эльса успеет приготовить что-нибудь особенное. Эльса – это наша дальняя родственница, она живет с нами много лет и занимается хозяйством.
Появление в контексте какой-то Эльсы, которую Ксана Андреевна тут же представила себе лиотаровской шоколадницей, по идее, должно было снова покуситься на Ксанино чувство уверенности в себе, но за последние сутки ей, наверное, надоело смущаться – она просто едва заметно пожала плечами и про себя произнесла: «Эльса так Эльса! Что я служанок не видела? Да сколько угодно! Правда в кино, но ведь в реалистичных же фильмах!..»
Хозяйский дом был просторен и патриархален: стены из крупно-тесанного серого известняка, выложенное светлым камнем невысокое крыльцо, входные дубовые двери с подслеповато-сонным толстым старинным стеклом. Два высоких этажа, на первом сразу большой холл-столовая с тяжелой, уверенной в себе дубовой мебелью – и ни души.
Николо проводил Ксану Андреевну на второй этаж в комнату для гостей. Пространство там располагало к неторопливому, без суеты, отдыху: стены скромный беж, дощатый идеально струганный пол с ловкой домотканой дорожкой, легкое кресло-качалка у окна, полки с книгами, среди которых Ксана Андреевна разглядела множество русских названий, уютная кровать под романтическим балдахином, на полу у кровати огромная стеклянная ваза в форме обыкновенного ведра, в ней сноп сухой пшеницы. На непогрешимо ровной стене висел телефон – старинный черный с пустоглазым белометаллическим диском и крупными полустертыми цифрами в пластмассовом «яблочке» центра – местный родственник-ровесник аппарата, по которому когда-то можно было попросить «барышню» соединить со Смольным. Ксана Андреевна улыбнулась:
– У вас очень хороший дом, хороший и добрый…
– Я был уверен, что вам тут понравится! – ответил Николо. – Так что осваивайтесь. Можете отдохнуть или выйти погулять, а в восемь увидимся в столовой.
Оставшись одна, Ксана Андреевна распаковала вещи, побродила по комнате, осторожно касаясь мебели, всевозможных мелочей и корешков книг. Взяла с полки нарядного в сафьяне Чехова, сборник назывался «Детвора», присела с книгой в кресло-качалку, но не успела прочитать и страницы, как уснула. Ей снились два лопоухих черноволосых мальчика, водившие вместе с Анечкой хоровод у новогодней елки под присмотром Эльсы-шоколадницы, которая вдруг превратилась в нечто среднее между Эллой Фитцджеральд и чернокожей нянькой Скарлетт О'Хара из кинофильма «Унесенные ветром».
Проснулась ровно за полчаса до ужина. Снизу доносились быстрые итальянские голоса, мгновенно отозвавшиеся в ее душе резонирующим волнением какого-нибудь зубно-губного музыкального инструмента из тех, которые так любят наши северные народы. Пытаясь отвлечься от волнения, Ксана разложила на кровати все свои наряды и долго выбирала, что ей надеть. Остановилась на ярко-синем платье из вискозы с рукавом три четверти – ему, правда, уже года три или четыре, но оно из «любимых» и ей очень идет. К нему черные летние туфли на небольшой, неудобной для курортных песков шпильке. Хорошо, что она все же взяла их с собой, а то ее мягкие в дырочку кожаные тапочки на покрытом ковром дубовом полу смотрелись бы как-то несолидно!
Перед самым выходом посмотрела в зеркало и поставила своему отражению твердую четверку. Даже четверку с плюсом.
В столовой вокруг покрытого сиятельной белой скатертью стола споро, но без суеты, перемещалась Эльса – крупная, высокая, глазастая и жгучая, похожая на таксиста и авиапилота, только без усов. Сдержанно улыбнувшись, она кивнула Ксане Андреевне. Та в ответ сказала «Хай» и нахмурилась, снова вспомнив кино про дьявола. Во внешности родственницы явно присутствовало что-то от ведьмы.
Ксана Андреевна вдруг представила, что она не первая, кого Николай привозит на остров. Потом вспомнила свой недавний сон и Эльсу, которая была похожа на Эллу Фитцджеральд… К Элле Фитцджеральд присоединился однофамилец по имени Скотт, писатель, автор страшного рассказа «Алмазная гора», в котором убивали всех, кто оказывался в каком-то особом месте, где были собраны все сокровища мира… Ни действующих лиц, ни других деталей рассказа Ксана не помнила, но возбужденное воображение предложило ей следующий родственный сюжет: Николай Кроче обманом привозит к себе на остров глупых старых теток, вроде нее, умерщвляет их, и из тел изготавливает какой-нибудь трансген для выращивания своего розмарина! А толстая Эльса работает у него на самых черных участках производства…
В столовую вошел улыбающийся Николай. Глаза его сияли так, словно по фамилии он был не Кроче-Коротич, а Сличенко. Брюки на нем были цвета кремового, а рубашка – шоколадного… Ксана Андреевна мысленно обозвала себя «дурой».
Вслед за Николаем появились двое почти одинаковых молодых людей.
– Оксана, знакомьтесь, это мои мальчики! Левый Джованни, правый Джузеппе! – представил Николай.
Мальчики опустили головы в почтительном поклоне.
Им было лет по двадцать пять – тридцать. Оба высокие, стройные, в черных брюках и черных сорочках. Черноволосые, с ярко-алыми губами и такой нежно-сливочной кожей, которая никогда не позволяет мужчинам выглядеть свежевыбритыми – словом, очень колоритные.
Сначала Ксане Андреевне показалось, что они похожи на грузинских сванов. Ей даже захотелось дать им в руки по посоху, а на головы надеть войлочные шапки, прошитые витой черной ниткой. Но потом она передумала, решив, что гораздо больше мальчики напоминают черных лебедей.
На ужин подавалась воздушная рыба и гогеновского вида овощи. Нет, Ксана Андреевна помнила, что география Гогена – это другие острова, но общая экзотичность ситуации оправдывала неточность. Ела Ксана неторопливо и с удовольствием. За столом по большей части молчали, и только изредка рассеянно и тихо вздрагивали серебряные приборы.
– Очень вкусно, – произнесла гостья.
– Эльса замечательно готовит. В этом смысле вы тоже не пожалеете, что приехали к нам, – ответил Николай и наикуртуазнейшим образом предложил Ксане добавку.
– О, нет-нет! Спасибо, я уже сыта! – воскликнула Ксана, которая на самом деле запросто могла бы съесть как минимум еще порцию.
Обращаясь к сыновьям, Николо что-то быстро произнес по-итальянски. Ей показалось, что прозвучало слово, похожее на «аристократико».
– Я сказал мальчикам, что русские аристократки всегда ели очень мало, – объяснил Николай, на что Ксана со скромным достоинством улыбнулась, а потом подумала, что аристократки не только мало ели, но еще умели вести непринужденную беседу.
– Как жаль, что ваши мальчики не говорят по-русски, – вздохнула она.
– Мне тоже жаль, – ответил он. – Но у меня вечно не хватало времени, и их воспитанием в основном занималась жена.
«Аристократки должны уметь вести непринужденную беседу в любой ситуации,» – с преподавательской строгостью определила про себя Ксана и вспомнила обложку англо-русского разговорника, который она усердно изучала две недели перед отъездом.
– Ай хэв э дотэ, – церемонно сообщила она «лебедям». – Хе нэйм из Полина. Она… Ши из… – Ксана Андреевна никак не могла вспомнить, как по-английски будет юрист, но после непродолжительного раздумья выкрутилась: – Ши из адвокат… Энд ай хэв э грэнддотэ… Анечка…. сыкс йеарз олд…
Черные лебеди растянули свои сочные красные клювы в улыбку, а Ксана поймала теплый взгляд Николая, и все английские слова журавлиным клином тут же упорхнули из ее головы.
Во время кофе и апельсинового желе Ксана Андреевна размышляла, стоит ли предлагать Эльсе помощь. По нашим меркам гостья обязана вызваться помыть посуду. А в синонимической Грузии такая инициатива может даже оскорбить хозяйку. Но, с другой стороны, Эльса же не хозяйка – Николай назвал ее родственницей, которая организует быт. А это значит, что к работе своей она вполне может относиться без трепета, присущего южным женам, и будет рада помощи… Ксана Андреевна уже собралась было дать Эльсе понять, что она тоже не прочь поработать, и попробовала мысленно подобрать для этого подходящий жест. Вспомнила пионерский салют. Мальчиша-кибальчиша. Буржуинов. Буржуины подсказали, что Эльса блюда принесла, но за стол со всеми не села. «Может, она не стала есть не потому, что не хотела, а по каким-нибудь иерархическим причинам?..» – задумалась гостья.
«Наверное, она жалеет, что приехала, – думал Николо, тайком читая на Ксанином лице растерянность. – Нужно дать ей возможность привыкнуть к обстановке, не докучать разговорами, не навязывать свое общество… Да и мне самому нужно привыкнуть к тому, что в доме находится незнакомая женщина. Пусть даже такая милая, как она…»
– Хотите, пройдемся перед сном? – предложил Николай. – Недолго, я вам только сад покажу.
Приглашение осмотреть темные аллеи сада Ксану взволновало и даже слегка испугало. Зато вопрос с Эльсой разрешился сам собой.
Разговаривать друг с другом наедине было еще труднее, чем при «лебедях». Первая палая листва под ногами старалась подретушировать неловкие паузы.
– Вам, наверное, хочется побыть в одиночестве, – произнес Николай, – Осознать шаг, который вы совершили?
Ксана Андреевна насторожилась – не совершала она никакого «шага»! Она просто поменяла гостиницу на лучшую. А что, избалованные курортники так часто поступают. В этом нет ничего особенного. Уловив ее тревогу, Николай поспешил оправдаться:
– Я имел в виду только то, что вы выглядите немного растерянной, но вам это идет! И потом в этом нет ничего странного – неожиданный поворот событий сродни наркозу, и нужно время, чтобы человек снова пришел в себя… «Он умный… красивый… добрый… богатый…» – думала Ксана, глядя в надменное кобальтовое небо. – И совершенно непонятно, зачем ему понадобилась я». – С какой-то случайной звезды нижнего ранга на Ксанины плечи упала украденная ветром темно-вишневая шаль из зябкой синтетики.
– У вас здесь замечательно, я нисколько не жалею, что приехала! – произнесла Ксана. – Но вы деловой человек, и я не хочу отнимать ваше время. Я, конечно, буду рада поговорить с вами по-русски, помочь с языковой практикой… Но, пожалуйста, не считайте себя обязанным меня развлекать! Я видела у вас на полках русские книги, так что скучно мне не будет. Я уже начала читать Чехова. – Потом помолчала немного и добавила: – Как врач Чехов хорошо разбирался в наркозе.
Николай улыбнулся. В синем небе остро сверкнула ревнивая звезда.
Следующим утром Николай пригласил Ксану на экскурсию. Расстояние из одного конца острова в другой машина проезжала минут за тридцать. Кроме хозяйского дома здесь был поселок с симпатичными бунгало, игрушечного вида заводик по производству специй, нестрашная роща и четыре розмариновых поля.
У каждого поля был собственный устав. На двух главных выращивали розмарин для фармацевтов, самый дорогой и высокий, до двух метров. На среднем поле зрело сырье для косметической промышленности, а из урожая самого маленького и низкого изготавливали кулинарную пряность.
Николай увлеченно рассказывал. О том, что размножается розмарин черенками, что для всех своих нужд человек использует листья и побеги, которые собирают во время цветения. Повторил, что дважды в год розмарин цветет не часто, и что островитяне испокон веков считали такие года особенными – после чего выразительно посмотрел на Ксану… Не без гордости упомянул, что его отец изобрел какой-то особенный способ омолаживания кустов, который позволяет значительно продлить срок эксплуатации участка, и что в пятьдесят девятом году об этом даже напечатали статью в бюллетене ботанического общества…
На всех полях работали люди. Завидев Николая, они почтительно кивали, но едва он отворачивался, по-деревенски становились фертом и пристально рассматривали Ксану.
– Розмарин очень любит тепло, от холода кусты быстро погибают. Зима у нас, к счастью, мягкая, но я помню, что однажды, когда мне было лет десять, неожиданно ударил сильный мороз. Мы тогда всю ночь выкапывали растения и прятали их в подвале дома…
Ксана Андреевна растрогалась, вообразив, как мальчик в штанишках на одной помочи укутывает розмариновый куст в старую отцовскую тельняшку. Но тут к ним подошла толстая итальянка, в темпе тарантеллы заговорившая с Николаем, – и Ксана, улыбнувшись, снова вспомнила Кавказ, а вскипевшая было слеза умиления испарилась.
Миновав поля и прозрачную разговорчивую рощу, они оказались на берегу у укромного мыса. С подветренной стороны берег защищала невысокая строгая скала, по склону которой катились градины дикого винограда. На вершине скалы, притворяясь белобородыми облаками, сидели какие-то неглавные античные боги, и дирижировали тишиной.
– Здесь вы сможете загорать и купаться, – сообщил Николай. – И вас никто не потревожит! Дорога простая, заблудиться нельзя.
Ксана посмотрела вверх. В легком шелковом небе со скромным достоинством катилась огромная жемчужина солнца, и влекомая солнечным блеском летела одинокая птица, похожая на запятую, которую случайно обронил сакральный журавлиный клин. В душе у Ксаны Андреевны внезапно зазвучал голосистый соловей, который, впрочем, очень скоро испугался мощи собственного соло и стал сползать в осторожную подпесню – а где-то в желудке у Ксаны Андреевны в это время взмахивала крыльями похожая на ветер белая бабочка.
Пять следующих дней прошли, как пять кругов на воде. Утром они завтракали вдвоем с Николаем. У Ксаны развился изрядный аппетит на сдобные булочки и фруктовые джемы – она даже начисто позабыла, что аристократкам негоже брать себе добавку. После завтрака он отправлялся работать, а она неторопливо шествовала к пляжу, где ее ожидало специально доставленное туда удобное деревянное кресло, на котором лежал сине-белый матрас, всякий раз радостно напоминавший Ксане Андреевне кинофильм «Полосатый рейс».
На берегу она проводила почти целый день – часы пролетали быстро, а минуты текли, как мед – тягуче и долго. Устав от солнца, она пряталась в тени скалы, купалась в море, слушала сердцебиение волн, наблюдала за метаморфозами облаков, ненадолго засыпала и читала чистую русскую классику.
Около пяти возвращалась в дом, где в ответ на ее улыбку Эльса наливала ей тарелку нарядного, с легкой дымящейся фатой, супа, в котором плавала всевозможная диковинная морская мелочь с романными наименованиями.
С Эльсой они так и не подружились, но молчание хозяйской родственницы больше не казалось Ксане враждебным – скорее, просто спокойным или, в худшем случае, равнодушным. Однажды гостья все же отважилась предложить свою помощь – ей даже удалось как-то объяснить, что она готова вымыть посуду. В ответ Эльса улыбнулась, открыла дверцу шкафа и показала посудомоечную машину, весьма смахивавшую на небольшую космическую ракету. Ксана поняла, что без ее содействия тут запросто обойдутся, и очень этому обрадовалась – а то ведь черта с два бы она разобралась с этой техникой!
После обеда Ксана отправлялась к себе в комнату – спала или сидела с книгой в меланхолично покачивающемся кресле у распахнутого окна, сквозь которое в дом залетало трепещущее, пахнущее розмарином полотнище ветра.
В девять семейство собиралось в столовой. Ксанины приготовления к ужину всегда были длительны и пристрастны – она придирчиво выбирала платье, медленно и тщательно накладывала свою условную косметику.
В самом начале вечера мальчики обычно обменивались с отцом несколькими короткими фразами, которые касались работы, потом же больше молчали. По телевизору показывали новости, Николай иногда переводил ей какие-нибудь сюжеты. Ни к местным, ни к общемировым событиям Ксана не испытывала ни малейшего интереса, но старалась это скрывать. Время от времени они с Николаем тоже говорили друг другу что-то легкое и неглубокое – как и в первый вечер, – но такого, как тогда, напряжения Ксана больше не чувствовала.
Позже, когда ночь слегка загустевала, они выходили на прогулку. Разговаривали по-прежнему мало, но зато внимательно прислушивались к интонации – следили за запятыми и опасались многоточий, которых с каждым вечером становилось все больше и больше…
Николай провожал ее до двери комнаты, целовал руку и желал спокойной ночи. Лежа в кровати, она снова пыталась читать, но ночью разумные чужие мысли почему-то не усваивались. Сон приходил не сразу, и его первое прикосновение вызывало у Ксаны легкую горечь разочарования. Впрочем, погружаясь глубже, уже почти в бессознательном, Ксана чувствовала, что разочарование переодевается в обещание – и спала она всегда очень сладко.
Пятый, последний полноценный день на острове выдался не по-сентябрьски жарким, с самого утра в воздухе звенел пчелиный зной. После завтрака Ксана поднялась к себе и на всякий случай проверила обратный билет – да, всё правильно, 15 сентября, аэропорт города Марсало, рейс на Санкт-Петербург в 12:40, время местное. Представила, как завтра в допетушиную рань на острове приземлится уже знакомый ей маленький самолет. Николай вместе с ней поднимется на борт по игрушечному трапу, убедится, что все в порядке, попросит пилота проследить, чтобы у нее не возникло никаких осложнений в большом аэропорту, произнесет что-нибудь формально-любезное, привычно поцелует руку – и уйдет!.. А она поднимется в неокрепшее утреннее небо, где очень скоро превратится в маленькую, но весьма категоричную точку…
«Точка» вдруг породила в душе у Ксаны Андреевны целый ряд коварно изогнутых вопросительных знаков. Вопросы формулировались стремительно и клевали Ксану в сердце, как нахальные вороны. Она их, как ворон, отпугивала. Они улетали – недалеко и ненадолго. В конце концов их собрался целый грай – и Ксана больше не могла притворяться, будто не слышит их истеричного клекота. – «Зачем он меня сюда позвал? Что ему было нужно? Если я ему нравлюсь, то почему он так странно себя ведет? Если он не влюблен, то какой во всем этом смысл? Языковая практика? Но почему он так мало со мной разговаривает? Что он собирается делать дальше?.. А я? Как я к нему отношусь? Он мне нравится, да? Я в него влюблена? Может быть, это и есть то самое чувство, которое… «на склоне лет»… «больней и безнадежней»?.. Неужели действительно последнее? И при этом безответное? Он же руки целует, но больше ничего не пытается!.. Что не пытается?.. Что это он должен пытаться?!..» – Тут Ксана Андреевна остановилась, обозвала саму себя старой дурой, после чего незамедлительно принялась саму себя жалеть.
А еще ей стало страшно оттого, что, не выдержав, она сама может выступить с какой-нибудь инициативой – выступить и всё испортить!.. Николай сидел за столом в кабинете, и, заметив его сквозь приоткрытую дверь, Ксана Андреевна бегом побежала на пляж от греха и искушения подальше.
То ли от жары, то ли от осознания того, что этот день последний, Ксану Андреевну охватило беспокойное томление – она заходила в воду, но тут же выходила на берег, садилась в кресло, раскрывала книгу, но читать не могла. Ей казалось, что ей хочется немного пройтись, но пройдя несколько метров, она чувствовала, что у нее заканчиваются силы…
Около полудня у моря неожиданно появился Николай с матерчатым зонтиком в руках:
– Что-то странное случилось с погодой. В предыдущие дни вам должно было хватать тени от скалы, но сегодня так жарко! – Николай раскрыл над ее полосатым креслом глубокий голубой купол.
– У вас голова не кружится? – спросил он.
– Да, есть немного, – осторожно ответила Ксана.
– Просто при высокой температуре действие эфирных масел усиливается. В результате головы у людей начинают вальсировать, а в душах происходят всевозможные мистические вещи… Не зря ведь монахи раньше использовали розмарин в качестве священного дымового растения…
Ксане Андреевне пассаж понравился, но виду она не подала и в ответ со старательным спокойствием сказала:
– Голова у меня слегка кружится, но по большому счету с ней все в порядке. С душой тоже. А запах я никогда не забуду. Поэтому я хочу побыть здесь сегодня подольше. Как никак последний день…
– Хорошо! – улыбнулся Николай. Потом помолчал немного и добавил: – Мальчиков сегодня не будет, они улетели на материк и вернутся завтра утром тем же самолетом, которым полетите вы. Так что мы с вами сегодня ужинаем вдвоем…
От слова «вдвоем» в сердце у Ксаны Андреевны что-то цельное надвое расщепилось – и душа ее со свистом унеслась в образовавшийся провал.
Душа Николо Кроче тоже уже ровно шесть дней, как была не на месте. Ничего похожего он никогда прежде не испытывал. Отношения с покойной Джулией с самого начала были ровными и крепкими, их цементировало семейное дело и дети. Коренная островитянка, она блюла традиции и дом вела по правилам, правила исключали романтику и душевные волнения после заключения брака. Николо любил свой остров, но русская кровь где-то в глубине его души полоскала убеждение в том, что местные жители – люди эмоционально ограниченные, не способные со значением помолчать, прочитать полутон, поиграть интонацией. Ему всего этого иногда не хватало, и в поездках он заводил скорые романы. Даже в России провел ночь с девушкой, с которой случайно разговорился в фойе гостиницы. Но при этом ему ни разу не пришло в голову задуматься о том, смог бы он прожить с кем-то из них год, два или оставшуюся жизнь? А с Оксаной, наверное, смог бы! В последние дни эта неожиданная мысль дразнила его постоянно, а еще ему было страшно оттого, что он-то прожить с ней мог бы, а вот она с ним – вряд ли! Здесь ведь край света, дверей никто не запирает. Она из мегаполиса, привыкла, что всё вокруг движется – а у них даже солнце с ленцой. К тому же у нее есть муж! Возвращаясь в дом, Николо представлял, как завтра в допетушиную рань она сядет в самолет и за считанные минуты превратится в маленькую, но весьма категоричную точку на неокрепшем утреннем небе, – и в душе у него росла решительность: «Я должен попытаться. Должен! Даже если из этого ничего не получится…»
Для прощального ужина Эльса приготовила суп из черепахи и ягнятину в розмариновом соусе. Накрыла стол, водрузила торжественные блюда и с достоинством удалилась, впервые ответив на Ксанино «грацио» открытой улыбкой. «Наверное, она просто рада тому, что я наконец уезжаю», – подумала гостья.
– Вкусно, – рассеянно произнесла Ксана, попробовав суп. – Когда-то очень давно, я тогда еще в институте училась, в Советском Союзе была популярна песня про солнечного зайчика и суп черепаший. Этот суп был чем-то далеким, нереальным, но романтическим и притягательным…
– В Европе он называется «тортю» и считается деликатесом. А знаете, в чем его секрет? – Спросил Николай. Ксана Андреевна пожала плечами.
– В букете гарни. Берут лаванду, можжевельник, шалфей, тимьян, мелиссу и розмарин. Составляют букет и опускают его в кипящий бульон на строго определенное время. А розмарин в букете гарни – это самая коварная специя. Стоит лишь немного увеличить его дозу или подержать чуть дольше положенного времени – и блюдо будет безнадежно испорчено.
– А если положить слишком мало? – спросила Ксана.
– А если слишком мало, то вы просто ничего не почувствуете. Важно взять ровно столько, сколько нужно.
– Это сложно, – глубокомысленно заключила Ксана Андреевна, позволив собственной рассеянности превратиться в невесомую грусть.
Сквозь распахнутые окна в дом ворвался теплый ветер, взволнованно позвав их на прогулку. В саду о личной жизни хозяина тихо сплетничали деревья. Крупные звезды самонадеянно пытались затмить своим сиянием бледную аристократичную луну.
– Вы знаете что-нибудь о звездах? – спросила Ксана, посмотрев в небо.
– Нет, – ответил Николо. – Помню только, что где-то вроде есть какой-то Арктур.
– И Бетельгейзе… – медленно произнесла Ксана
– И Антарес… – радостно вспомнил Николай.
– А еще Альдебаран, – добавила Ксана и рассмеялась.
«Неужели я ее люблю, – подумал Николай, – Смешно? Любовь старика – это смешит вас?..»
В синем небе повисла соловьиная пауза, а светила вдруг сами сложились в Южный Крест, обязавший Николо Кроче напечатлеть Ксане Андреевне страстный и продолжительный поцелуй…
Ночь была нежна и – соответственно – слегка безумна.
В пять утра по переодевшемуся в маренго небу изредка скользила острая рассветная искра. Ксане пора было собираться.
– Как мы будем жить дальше? – осторожно спросил Николай.
– Не знаю, – ответила Ксана. Потом помолчала немного и добавила: – Ты же сам говорил, что главное с розмарином – не переборщить.
– Ты хочешь сказать, что для тебя все это всего лишь специя? Что ты не заинтересована? Что ты любишь мужа?..
– Я ничего не хочу сказать! – воскликнула Ксана, испугавшись и вопросов, и того, что напрочь забыла о своем «замужестве». – Просто я должна подумать… Все, что произошло, не похоже на правду. Мне нужно время, чтобы попытаться в это поверить. Если я поверю, то остальное не будет иметь никакого значения…
– И сколько времени тебе нужно? – спросил Николай.
– Сегодня пятнадцатое сентября. Ровно через месяц я тебе позвоню. И мы оба посмотрим… Может, к тому моменту ты сам обо мне забудешь…
– А если мне захочется услышать твой голос раньше?
– А если тебе захочется услышать мой голос раньше, то ты все равно дождешься пятнадцатого октября! – стараясь звучать строго, ответила Ксана Андреевна.
Над крышей дома сердитым шмелем пролетел маленький самолет. А еще через несколько часов самолет большой и хищный вернул Ксану Андреевну домой.
* * *
В аэропорту ее встретила стремительная Полина. Клюнула в щеку, схватила сумку и помчалась к выходу, разговаривая по мобильному телефону и пугая Ксану Андреевну словом «франшиза».
– Ну так, ты довольна? – поинтересовалась дочь уже в машине, но, не дождавшись ответа, тут же начала жаловаться на то, что безумно опаздывает, и ругать водителя маршрутного такси, который не позволял себя обогнать.
– Полинка, а меня замуж зовут. В Италию… – тихо произнесла Ксана Андреевна.
– Мамочка, может, тебе хватит замужеств, а? Или ты думаешь, что за границей мужчины другие? Так они везде одинаковые. И от такой милой, но – извини меня – рохли, как ты, они имеют обыкновение убегать без оглядки…
Больше всего на свете Ксана Андреевна не любила ситуации, когда она была вынуждена обижаться на дочь. Замолчав, она посмотрела в окно. К стеклу прильнул полинявший кленовый лист. Странно, но сейчас Полинины слова ее почти не задели. Полина же опомнилась:
– Мам, ты что, серьезно? Если так, тогда давай-ка рассказывай! Со всеми подробностями!
– Да нечего рассказывать, я просто пошутила, – спокойно ответила Ксана Андреевна.
– Ничего не пошутила, я же вижу! – отрабатывала провинность Полина. – Мам, я не имела в виду ничего такого… Не сердись! Лучше расскажи мне, кто он!
– Да нет же, Полинка! Рассказывать не о чем. Ну гуляла по бульвару с одним знойным итальянцем, ну говорил он мне комплименты – и все! А про замужество я просто так сказала – чтобы ты помнила, что мама у тебя еще очень даже ничего!.. Но это такие пустяки! Ты лучше скажи мне, как Анечка?
– Анечка хорошо, – ответила Полина и начала рассказывать. О празднике в бассейне, о спектакле в ТЮЗе и о чем-то еще. А Ксана Андреевна едва ли не впервые в жизни слушала новости о внучке, совершенно в них не вникая – смотрела сквозь плотно закрытое окно на серый асфальт дороги и не могла понять, откуда сыплется в машину этот невидимый мелкий муслиновый песок, от которого слезятся глаза…
Ей казалось, что это был самый долгий месяц в ее жизни. Стараясь обмануть неповоротливое время, она придумывала себе якобы важные и неотложные дела, но на обман поддавалось время плохо, а иногда и вовсе дразнилось. Скажем, затевала Ксана Андреевна генеральную уборку на своей и без того опрятной кухне, вынимала из шкафов все банки и пакеты, проверяла содержимое, выбрасывала, сортировала, мыла кафель, мебель и всевозможную кухонную мелочь. Потом украдкой бросала взгляд на часы и с радостью обнаруживала, что провела за этим занятием почти полдня! Включала телевизор, вспомнив, что приближается время вечернего сериала, но случайно попадала на какой-то мелкий местный канал, по которому показывали спектакль «Ромео и Джульетта» в исполнении учащихся театрального лицея:
– Что, слова «розмарин» и «Ромео» не на одну букву? – интересовалась на экране полненькая девчонка лет шестнадцати.
– На одну, нянюшка, – отвечал похожий на херувима Ромео.
– Какие вы насмешники! – восклицала в ответ кормилица и с неоправданным презрением добавляла – Это же собачья буква!..
Настроение у Ксаны Андреевны почему-то резко падало. Она присаживалась у окна, рассеянно смотрела во двор, где под крепкой березой и сутулой городской яблоней деловито вертелись две местные дворняги. Осень не скупилась на резкие краски – береза была желтой, яблоня все еще зеленой, росший чуть в стороне клен – красным, а кусты сирени – агонизирующе пестрыми. Ксана Андреевна вспоминала нежные цвета ранних итальянских рассветов – осторожный голубой и нежный розовый, которые, как шелковыми лентами, опоясывали новорожденное небо… Потом подробно – секунда за секундой, минута за минутой, час за часом – воспроизводила в памяти последний день на острове. Доходила до последней ночи, смущалась и возвращалась в день первый. Потом во второй, третий, четвертый и снова последний, пятый… Удивлялась тому, что событий как таковых не было – они просто смотрели друг на друга, молча гуляли или о чем-то неглавном разговаривали… А в это время, их связывая, крепли невидимые нити, случайно осыпавшиеся с краешка шелковой ленты рассвета… Ксане Андреевне казалось, что она просидела у окна часа два, – а выяснялось, что всего лишь пять минут.
Девичник ей устраивать не хотелось, два раза она ходила в библиотеку, один раз в кино. Как-то вдруг отправилась к самой близкой приятельнице Юле на Гражданку – хотела ей обо всем рассказать, да так и не нашла слов, с которых можно было начать.
Заглянув однажды в книжный магазин, случайно заметила там толстый дорогой справочник «Лекарственные и пряные растения». Купила его, и, придя домой, со странным волнением стала читать раздел, посвященный розмарину. Ей вдруг показалось, что каждое слово здесь имеет тайный смысл, позволяющий прочитать будущее.
Оказалось, что «… пестик у розмарина с верхней четырехраздельной завязью и двурасщепленным столбиком. Плод состоит из четырех гладких буроватых орешков, заключенных в особую чашечку. Цветет с февраля по май, иногда зацветает дважды – в сентябре-октябре, плодоносит в июле. Растет на сухих солнечных склонах Средиземноморья, культивируется в Крыму, Закавказье и Средней Азии. Засухоустойчивый и любит тепло… Растет в открытом грунте. Размножается черенками. Лучшее время сбора – цветение, один гектар дает пять – семь тонн зеленой массы. Эксплуатация участка начинается со второго года и длится пятнадцать-двадцать лет. Каждые семь-восемь лет кусты необходимо омолаживать. В высоту достигает двух метров. Зеленые части пахнут. Стволик прямой, древеснеющий. Ветви округлые, кора легко отслаиваемая. Листья супротивные, почти сидячие, слабокожистые, продолговато-линейные, суженные к основанию, с цельными, завернутыми вниз краями, сверху темно-зеленые, почти голые, блестящие, снизу беловойлочные, длиной до четырех сантиметров, с резко выступающей средней жилкой и эфирно-масличными желёзками. Цветы почти сидячие, собраны по пять – десять штук в ложные кисти на концах веточек. Чашечка колокольчатая, двугубая, снаружи опушенная, с многочисленными эфирно-масличными желёзками. Венчик бледно-фиолетовый или голубой, изредка белый, длиной до одного сантиметра, двугубый с выемчатой или двухлопастной верхней и трехлопастной нижней губами. Тычинки числом две превышают венчик…»
Еще в справочнике сообщалось, что эфирное масло розмарина состоит из пинена (до 30 %), камфена (20 %), цинеона (10 %), борнеола (10 %), камфары (7 %), кариофиллена (8 %) и борнилацетата (2 %), а в листьях кроме всего прочего содержатся алкалоиды – розмарицин и урсуловая кислота. Растение применяется для лечения нарушений менструального цикла у женщин, как тонизирующее средство при упадке сил, а также в качестве желчегонного и успокаивающего – особенно при нервных расстройствах в климактерический период…
Ксане Андреевне показалось, что последняя фраза звучит издевательски.
* * *
Молочным утром пятнадцатого октября в хозяйском доме на розмариновом острове за немолодым, но мощным дубовым столом сидели трое мужчин. В глазах отца мелкой и острой галактической пылью вспыхивали искры, обжигавшие сыновей.
– Она должна позвонить, – говорил Николо. – Я уверен в этом. Я мог бы попытаться как-то узнать ее телефон и позвонить ей сам, но в России сейчас четыре утра… Ваша задача – объяснить, что я ее жду, что ничего не изменилось. А еще – записать номер телефона и сказать, что я перезвоню ей сегодня же вечером, когда вернусь домой… Вот, я написал по-русски нашими буквами – нужно только прочесть. А вот на всякий случай словарь… Вы обязаны мне помочь! Для меня это очень важно. Гораздо важнее, чем что бы то ни было! Даже важнее, чем наше семейное дело. Рано или подзно, но вам придется брать бизнес в свои руки. У вас обоих уже достаточный опыт… А мне пора на отдых – буду путешествовать и читать книги на языке вашего деда… А еще я хочу, чтобы вы знали, что она – не просто случайная знакомая. Она мне действительно нужна! Очень нужна! Вашу мать это не рассердит, уверяю вас…
«Черные лебеди» робко кивали головами и смущенно отводили в сторону глаза. Когда же за отцом закрылась дубовая дверь, их тяжелые взгляды втретились и завязались в безнадежный морской узел, после чего раздался тихий и рваный лебединый клекот:
– Мы должны сделать это…
– Но…
– Преступно…
– Она сказала нам… три слова…
– Да… адвокат… дочь… внучка…
– Адвокат…
– Она отберет у нас все!..
– Безумие… сохранить… в семье…
– Обязаны…
– Долг…
– Но преступно…
– Предотвратить…
– Безумие…
– Будь проклят этот Чьехов………..
* * *
За несколько часов до этого в густо-синем с мокрыми желтыми всплесками пространстве петербургского вечера на ужин к матери пришла Полина с мужем и Анечкой. Семья сидела за красиво накрытым столом, в супнице дымился топазовой прозрачности бульон, на большом блюде вальяжно разваливались по-осеннему разноцветные перцы, фаршированные мясом и грибами. На улице моросил мелкокрапчатый дождь. Полина рассказывала об Анечкиных успехах в школе раннего развития.
– Ну вот, опять так темно, что звезд не видно! – воскликнула внучка, выглянув в окно. – Нам вчера задали найти на небе Большую Медведицу и какого-то барана, – и без паузы продолжила: – Ба, а мороженым ты меня кормить собираешься?
В ответ Ксана Андреевна зарыдала. Слезы были похожи на пощечину и мгновенный летний дождь – хлопок и все мокрое.
– Мама, у меня есть хороший врач, – спокойным тоном заметила Полина. – Я позвоню ему на этой неделе. Не переживай, это не страшно. Сейчас продаются отличные препараты, они в два счета снимут все эти возрастные симптомы.
Ночью Ксана Андреевна долго не могла уснуть. Все вокруг казалось медицинским и горьким – словно она злоупотребила временем и передержала в сердце букет гарни. Но укачивавшая сознание мрачная уверенность в том, что завтра ее ждет разочарование, уже не здесь, а там, во сне, вдруг уступала место осторожному предвкушению чуда. Сердце от этого перепада подпрыгивало, Ксана Андреевна просыпалась – и горечь возвращалась снова.
Погода всю ночь негодовала. Гроза то и дело обнажала пульсирующие, наполненные густой кровью артерии неба, и исхлестанная ливнем сочная пышная осень к утру устала и собралась на пенсию. В сером небе неторопливо прогуливалась одинокая туча, похожая на даму с собачкой.
Ксана Андреевна чувствовала себя совершенно разбитой – не помог даже крепкий кофе. Весь этот месяц она согревалась воспоминаниями о пяти днях, проведенных на острове, но в будущее, боясь обжечься, не заглядывала. Теперь же стало очевидным, что зыбкая романтика так или иначе обретет очертания какой-либо реальности, а перекатывавшаяся в душе у Ксаны волна доберется до берега… И бог знает, каким он будет, этот берег – холодным и остро-каменным или нежным и бело-песочным.
Ксана Андреевна пыталась рассуждать. – «Если Николо влюблен всерьез, то за тридцать дней чувства его должны только окрепнуть. Но тогда почему он до сих пор не позвонил? Ну и что, что раньше срока! Да мало ли, что она ему наговорила! Мужчина всегда может что-нибудь придумать, если он, конечно, хочет… Или это другой случай – чувство, которое развивается от присутствия?.. Одно дело, замечать, что ты здесь, а другое – не замечать, когда тебя нет – как было написано в какой-то переводной книжке… Она уехала, все встало на привычные места, он понял, что так лучше, спокойнее. Ведь в их возрасте любые, даже самые незначительные перемены переживаются очень тяжело…
Или, может, вообще ничего не было? Ни Николо, ни острова?.. Ей это привиделось, приснилось! А на самом деле она отсидела положенную неделю на гостиничном пляже с книжкой Барбары Картланд, в которой как раз и описывалась вся эта история. У нее просто климакс!.. Мозги временно выключились, вот она и решила, будто все, о чем рассказывается на тонких серых страницах под розовой в золоте обложкой, – будто все это произошло с ней лично!.. Телефон? Так она его из книжки и переписала, там же были какие-то цифры… где-то в середине…»
И словно желая поскорее убедиться в справедливости последних подозрений, Ксана Андреевна набрала оператора международной связи и серым голосом попросила соединить ее с четырнадцатизначным номером затерянного в Средиземном море фиолетового острова.
Трубку забетонировала бесцветная тишина. Прохаживавшаяся по небу «дама с собачкой» дурнела и полнела на глазах.
– Говорите! – строго велела пробившаяся сквозь бетон телефонистка.
Ксана Андреевна молчала, не зная, что говорить, как и – главное – кому! На другом конце провода ответил мужчина, итальянец. Но не Николо Кроче. По крайней мере, не тот, каким Ксана Андреевна его запомнила. Или вообразила.
– Здравствуйте, – произнесла она после долгой паузы. – Хай… Мне нужен Николо… Николо Кроче…
– Нье-ет, – прозвучало в ответ.
– А где он? Вериз хи?
– Его нье-т. Он умьер. Хи из дэд. Три недьели… Сьердце, хард… Синьора… – И дальше, вызывая ужас, упругой струей холодной воды в лютую стужу, полилась быстрая итальянская речь…
* * *
Николо прилетел на материк около восьми утра. Встреча с директором фармацевтического концерна была назначена на десять. В аэропорту взял на прокат похожую на гончую собаку гоночную машину и рванул к центру, пытаясь скоростью заставить время побыстрее добежать до вечера.
У нужного адреса оказался минут за сорок, припарковал машину, вышел, огляделся по сторонам. На соседнем здании заметил новую вывеску: кафе «Любовь вне времени и границ». Улыбнувшись названию, решил, что, пожалуй, успеет выпить здесь чашку кофе.
Интерьер заведения был выполнен в стиле хай-тек – много хрома, никеля и многочисленные компьютерные мониторы на стенах. Николо вообще-то не очень уютно чувствовал себя в скользких и стремительных пространствах двадцать первого века, предпочитая уют свечи, льняной скатерти и дерева в возрасте. Народу внутри было немного, и он уже почти передумал оставаться, но уйти не успел – к нему подошла приветливая молодая девушка, и, попавшись на ее улыбку, он заказал один большой эспрессо.
Девушка быстро принесла заказ, оставив рядом с чашкой разграфленный бланк, на который Николо даже не взглянул, подумав, что это какая-нибудь ненужная маркетинговая анкета. Рассеянно глядя в окно, выпил кофе и кивнул девушке, сообщая, что готов расплатиться. Та принесла счет. Николо Кроче не был ни бедным, ни жадным – но если счет за чашку кофе превышает обычную цену минимум в двадцать раз, то вопросительно поднять бровь может даже самый щедрый и богатый человек.
– Синьор, видимо, у нас в первый раз? – отреагировала девушка. – Синьор, видимо, не знает, что, заплатив за чашку кофе в нашем кафе, он одновременно заказывает букет алых роз, который уже через три-четыре часа будет доставлен по любому указанному адресу, в любой части земного шара – хотите в Африке, хотите в Австралии, хотите даже в Сибири! Правда в крупных городах. К цветам вы также можете приложить небольшое письмо, максимум десять слов. Обо всем этом написано у входа. Мы открылись недавно, но о нас уже многие знают. Когда вы вошли, я почему-то подумала, что вы наш клиент – поэтому и объяснять ничего не стала… Но если вам эта услуга не нужна, вы можете заплатить только за кофе, для случайных посетителей у нас обычные цены!
– Скажите, а вы могли бы узнать адрес одной русской женщины из Санкт-Петербурга? Девятого сентября она приехала в гостиницу «Солана»?
– Если у вас есть ее полное имя, то, думаю, это возможно. Мы свяжемся с отелем, а если там по какой-то причине информация не сохранилась, обратимся к нашим партнерам в России, и они наверняка помогут! У наших партнеров мощнейшие базы данных…
«Я обещал не звонить. Но не присылать цветы не обещал», – думал Николо, улыбаясь и старательно выписывая в клеточки бланка буквы, из которых было построено звонкое Оксанино имя. Сначала латинские, потом русские. Русские, кстати, выглядели как-то элегантнее что ли…
* * *
«Я знала, знала, всегда знала… Так и должно было быть, именно так, только так… Я же старая, старая, старая…» – Где-то рядом с ней, вне ее, скакали ее мысли, стучалось сердце, и бегали обезумевшие нервы. Окаменев, Ксана просто ждала, когда этот сложный истерически подвижный механизм остановится. Она была уверена, что придет момент и, провозглашая запредельную, невыносимую скорость, прозвенит отчаянной длительности звонок, объявляющий конец самого последнего урока. А потом наступит полная и безвозвратная тишина…
В порыве страсти прильнувший к стеклу красный кленовый лист на мгновенье увлек ее внимание, и Ксанин взгляд случайно скользнул за окно. Сквозь потускневшие и поредевшие кроны деревьев просматривался двор. Во дворе гулял дождь и соседская собака Дайна. Из их подъезда вышел Николай Палыч, приветливый одинокий старик со второго этажа, хозяин бегавшей под дождем рыжей дворняги. Он выбросил вперед руки, и дождь с готовностью поставил на его раскрытых ладонях несколько редких крупных клякс. Николай Палыч вынул из кармана пронзительно-желтый полиэтиленовый пакет, надел его на голову, потом постучал по ноге, подзывая Дайну, и медленно направился с ней в сторону Большого проспекта. Навстречу ему шел молодой человек с выкрашенными в пронзительно-желтый цвет волосами и желтой же бородкой странной формы – узкой и длинной, то ли как у козла в деревне, то ли как у сфинкса в Египте…
«О, господи», – тяжело вздохнула Ксана Андреевна, почувствовав, что «механизм» остановился, но звонок не прозвенел, и бомба не взорвалась… Молодой человек, проходя мимо подъездов, сверял номера квартир. Когда с ним поравнялся Николай Палыч, желтоволосый юноша о чем-то у него спросил – и желтая полиэтиленовая голова старика кивнула, показывая куда-то в сторону их подъезда.
В руках молодой человек нес огромный букет красных роз…
В мире
Путешествие Нильса с дикими курями
В детстве Нильсу казалось, что мама сделала его из сахара – сварила, как конфету. Женщины, приходившие к ним в дом, видя его, неизменно восклицали: «Марта, какой у вас сладкий мальчик!» – и смотрели на него немного странно. «Нильс, поди на кухню, принеси нам коробку с печеньем», – просила мама.
«Наверное, им меня жалко, потому что я сахарный и могу растаять», – думал Нильс, глядя из кухонного окна во двор, где моросил жалобный дождь, и по серому булыжному камню у высокомерного фонаря суетливо бегала белая голубка, с легкой укоризной покачивавшая маленькой головой. Он всегда забывал отнести маме печенье.
Они жили в старом Стокгольме, в темно-рыжем каменном доме с выкрашенными черной масляной краской деревянными ставнями и лязгающими коваными шпорами запоров. Их квартира располагалась на втором этаже, на первом мать держала крошечное шляпное ателье. К середине пятидесятых Швеция почти начисто забыла о недавней войне, женщины обновляли гардероб к каждому сезону, так что заказов Марте Сундин хватало – по крайней мере для того, чтобы прокормить себя и сына.
Мужа у нее не было. Когда Нильс был совсем маленьким, мать что-то рассказывала ему о его отце. Но она прекратила, едва он подрос и научился по утрам вспоминать то, о чем они говорили вечером. Впрочем, некая одновременно пугающая и притягательная личность, называясь отцом, все же навещала его иногда по ночам во сне – притворяясь то святым Йораном, бесстрашно расправляющимся с драконом прямо над крышей их дома, то совсем уж страшным всадником без головы. Чем старше он становился, тем реже были эти посещения. А еще иногда в его уже взрослом сознании совершенно некстати обнаруживались смешные названия детства: шляпа-дагер, шляпка-памеда, шляпа-дерби, шляпка-ромео и шляпка Шарлотта…
Он очень любил узкие мощеные улочки Старого города, убегавшие от Королевского дворца за водой, любил море, оседавшее на памятниках белой солью и зеленой тиной, и разноцветные, чуть сутулые от возраста дома с похожими на пенсне окнами и шляпами крыш.
Лет с тринадцати он начал водить знакомых девчонок на прогулки по родным местам. Он нравился девочкам. В детстве он был игрушечно хорош собою. Период подростковой нескладности у него так и не наступил, и в пятнадцать лет он уже имел совершенно кинематографическую внешность – был высок, широкоплеч, со светлыми волнистыми волосами, прямым носом, большими синими глазами, белозубой улыбкой и высоким лбом, рассеченным чайкой врожденной морщинки, которая придавала его лицу выражение легкого сомнения.
Нильс знал, что его считают красавцем, но не любил, когда ему об этом говорили. Он приводил дочь маминой подруги к Святому Йорану, вспоминал свои фантазии об отце-памятнике и осторожно рассказывал девочке, как в детстве ему казалось, что каменный Йоран по ночам оживает и летает над их домом, оседлав побежденного порабощенного дракона и притворяясь… тучей. Девочка была в восторге и от Нильса, и от его истории. Не зная, как выразить свои чувства, она прикасалась к его руке и смущенно произносила: «Ты такой сладкий! Ты ни на кого не похож!» Нильс руки не отнимал, но в следующий раз звал на прогулку другую девочку.
В шестидесятые Швеция процветала. Трудолюбивые скандинавы построили у себя коммунизм, решили все экономические и социальные вопросы и занялись культурным наследием – государство развернуло крупномасштабную программу по развитию и поддержке музеев и охране исторических памятников. Во всех представляющих ценность домах за счет казны менялись коммуникации, осушались подвалы, проверялась прочность несущих конструкций, реставрировались окна, двери и осуществлялись все прочие операции, позволявшие законсервировать здание.
Однажды, как раз перед шестнадцатилетием Нильса, к ним в дом бесцеремонно позвонили. Открыв дверь, они с матерью увидели на пороге троих мужчин в чистой ярко-синей униформе. Эти трое заговорили хором. В их просторной прихожей стало тесно и шумно.
– Мадам, вас же предупреждали о начале работ! Вам звонили из коммунального департамента и сообщали, что в вашем доме полностью меняются инженерные сети! Вот здесь у меня отмечено, кто и когда с вами разговаривал! – Матери протягивали какую-то таблицу, напечатанную маленькими буквами на длинной, как свиток, бумаге с дырочками по краям.
– Вот ваши соседи подготовили условия для нашей работы, а вы, судя по всему, нет! – продолжал сердитый человек с усами. – Почему мебель в прихожей не убрана? Почему вы хотя бы не прикрыли мебель полиэтиленом? У вас же было достаточно времени для того, чтобы подготовиться!
Им действительно кто-то звонил, мама даже просила его что-то куда-то перетащить. Но он забыл. И теперь ими недовольны эти странные люди.
– Эй, парень! – обратился к нему самый громкий и, видимо, старший. – Ну-ка, давай, поторапливайся! И мать свою подгоняй! Вы же, наверное, сами заинтересованы в том, чтоб мы поскорей закончили, а? Так что давай, давай, быстро! Убирай отсюда эту хреновину! Давай помогу! Понимаю еще, если б мужика в доме не было! А то ведь вон какой здоровый! Давай же! Вон тот большой шкаф прикрыть, ковры снять, все ценные вещи из ванной и прихожей унести! Ну что ты застрял, как башмак в дерьме, давай же поворачивайся!..
Нильс растерянно соображал, что бы ему на это ответить, а «старший» вдруг остановился, нежно погладил стену в прихожей и строго сказал своим товарищам:
– Когда будем тут заделывать, ни пластик, ни акрил не пойдут! Здесь нужны только натуральные материалы – олифа, мел, и краски с земельными пигментами. По-моему, тут хромовая зелень, да? Кстати, рамы нужно будет тщательно осмотреть и, в случае чего, сообщить, чтобы столяры шли сюда в первую очередь! Здесь же подлинные окна! – Со свинцовой стяжкой и железным ветряком. Не дай бог что с деревом! Видели, какое у них шикарное фасетное стекло? В начале, наверное, вообще настоящий «бычий глаз» стоял, а мелкоформатную фасетку где-нибудь в конце прошлого века врезали… Так что, слышите меня, придурки? Чтоб никакой самодеятельности! Каждый шаг согласовывать со мной! Этому дому почти триста лет… – Взгляд «старшего» снова упал на слегка окаменевшего Нильса:
– Да что ж ты стоишь, как пень, а? Одни чокнутые в этом Старом городе, ей богу!..
Нильс подумал, что быть «чокнутым, пнем, башмаком и придурком» гораздо приятнее, чем «сладким мальчиком». Через два года он закончил реальное училище по специальности «многопрофильный строитель».
В начале семидесятых девушки благополучной Швеции остро захотели безоговорочного равноправия и независимости от мужчин. Это, впрочем, не означало, что у двадцатилетнего красавца Нильса стало меньше поклонниц – просто теперь девушки чаще называли его «классным», а не «сладким» парнем. Это его раздражало не так сильно, его романы получили большую протяженность, а студентка педагогического факультета Анна побила рекорд, умудрившись не надоесть ему целых семь с половиной месяцев! Но вообще-то он менял девушек до неприличия регулярно. Брошенные им подруги старались не подавать вида, что страдают, изо всех сил сохраняя модный суверенитет. Нильса это забавляло, но он не был жестоким, да и многочисленные любовные связи не были для него спортом – просто если отношения длились долго, ему становилось скучно. Нильс гулял с девушками в народных парках, танцевал в дансингах, ходил в кино, оставался у них ночевать или приводил на ночь к себе. Он тогда снимал однокомнатную квартиру недалеко от Старого города – на жилье в квартале детства, у него пока не было средств. «Долгоиграющую» Анну он даже как-то взял с собой на обед к маме.
Маме Анна не понравилась. На Анне были джинсы и футболка. Мама посмотрела на нее строго и сказала: «Мне нравится, когда на девушке шляпка», а потом не без гордости показала ей статью в старой рыжей газете. Точно такую же заметку в пятьдесят седьмом году семилетний Нильс собственноручно клеил теплым прозрачным клейстером на стеклянную входную дверь в салон. Мама тогда придирчиво выбирала точное место для газеты – так, чтобы она обязательно попалась на глаза посетительнице, которая будет поворачивать сияющую латунную ручку под хрупкий звук звонка-колокольчика… В заметке рассказывалось, как прогуливавшаяся по улочкам старого Стокгольма Коко Шанель случайно заглянула в шляпный салон Марты Сундин, где ее приятно удивили и ассортимент, и качество исполнения головных уборов. Мама тогда скупила почти все газеты, которые продавались в ближайшем пресс-бюро, и примерно раз в два-три года клеила на дверь новую копию…
– Мне нравится, когда на девушке шляпка, – воинственно повторила мама, на что Анна, нисколько не смутившись, ответила:
– Шляпки больше не в моде. Мы предпочитаем спортивный и практичный стиль. Хотя я понимаю, что вашему поколению это может показаться не очень эстетичным…
Для Нильса было совершенно не важно, в шляпке девушка или нет. Но с Анной они вскоре расстались.
Несколько лет Нильс проработал на разных строительных объектах по всей Швеции, параллельно закончив специальный курс по реставрации, восстановлению и консервации исторических зданий при Королевской Высшей Политехнической школе. Он принимал участие в реставрации Оружейной палаты, дворца Софии Альбертины и летней резиденции короля в Дроттнинхольме. Ему нравилось то, чем он занимался. Нравилось угадывать возраст дома по кирпичной кладке и форме оконной крестовины, нравилось ретушировать старые стены и самому варить для этого иловую краску по рецептуре старинной и обстоятельной: «На 5 литров готовой краски маляр берет 2 килограмма железного купороса и растворяет его в 50 литрах кипящей воды. В полученный раствор замешивается 2–2,5 килограмма ржаной муки мелкого помола, после чего смесь кипятится на слабом огне около четверти часа. По окончании кипячения в раствор при постоянном помешивании добавляется 8 килограмм «красной закиси», «английского красного» или «caput mortum», после чего маляру следует произвести вторичное кипячение раствора в течение дополнительной четверти часа…» У Нильса складывалась крепкая репутация хорошего реставратора.
В семьдесят девятом, когда Нильсу было двадцать девять, крупнейший строительный концерн, в котором он работал, получил подряд в Ливии. Заглянув как-то в здание головного офиса, он случайно обнаружил в столовой забытую кем-то книжку «Ливия – что мы о ней знаем». Об этой стране Нильс не знал почти ничего, разве что смог бы при необходимости найти ее на карте. Ему стало любопытно, он взял книжку домой. В ней рассказывалось, что у Ливии было богатое античное прошлое, что с 1911-го по 1943-й год тут господствовали итальянцы, и что после окончания Второй мировой войны страны-победительницы предоставили стране независимость. Управлять государством должен был король, которого звали Идрис и который принадлежал древнему бедуинскому роду. Его королевство было разрушено и опустошено, однако в пятидесятых в Ливии обнаружились богатые месторождения нефти. Этих ресурсов хватило бы для того, чтобы поднять страну из руин, но король Идрис считал, что его дружба с сильными державами гораздо важнее, чем благополучие собственного народа, и доходы от продажи нефти получал кто угодно, но не сами ливийцы. Народ начинал роптать.
В 1969 году молодой офицер Муамар Каддафи, воспользовавшись отсутствием на месте правителя, совершил переворот. Вел себя мятежник разумно – никого не убил, самых ярых сторонников Идриса посадил в относительно комфортабельную тюрьму, а сам, вдохновленный поддержкой большинства соотечественников, начал строить в стране новую жизнь. На нефтяные деньги осваивались новые сельскохозяйственные земли, возводились больницы и школы, заводы и военные объекты. К середине семидесятых ливийский руководитель решил, что пора подумать не только о хлебе, но и о зрелищах – у восточных немцев был заказан для Триполи огромный планетарий с отличной оптикой. В книге было написано, что небо для араба значит гораздо больше, чем для европейца, – в небе спрятаны все арабские тайны, арабы считают небо живым, именно небо переворачивает календарь и определяет судьбы правителей и простых людей.
Молодой ливийский лидер показался Нильсу вполне симпатичным. Особенно, когда он узнал, что теперь Каддафи электрифицирует Сахару. Освещает пустыню. И тот подряд, который получило их предприятие, предполагает строительство в пустыне сети трансформаторных станций…
Нильс не уснул, пока не дочитал книгу до конца.
Ночью ему снилась пустынная дорога, которую столетиями вытаптывали в песке угловатые ноги одногорбых ливийских верблюдов. Грустный осел с рыжей морковкой. И сухая, шершавая, растрескавшаяся от жары поверхность кожаного бурдюка, под которой перекатывалась тяжелая, как ртуть вода…
На следующее утро он пошел к начальству и попросил включить его в команду специалистов, выезжающих в Ливию. Ему пошли навстречу. Во-первых, потому что помимо богатого опыта реставрации у него были навыки всех основных строительных специальностей и репутация ответственного человека. А во-вторых, потому что из-за него вот уже второй месяц разыгрывалась настоящая атомная война между секретарем генерального директора Ульвой и главным офис-менеджером Петрой.
* * *
Приехав в Ливию, Нильс вспомнил слышанное им во время учебы слово «евритмия», то есть пропорции. Ливийская евритмия была совершенно не похожа на шведскую. Здесь было другое время, другое пространство. И время с пространством по-другому относились друг к другу.
Площадь их строительного объекта исчислялась тысячами квадратных километров. Вдоль древних караванных путей им предстояло построить сто двадцать восемь трансформаторных станций, возвести десятки тысяч опор, между которыми будут протянуты сотни тысяч километров кабеля. Утром они могли уехать за пятьсот километров от лагеря, а вечером вернуться. И это суммарное расстояние, превышавшее протяженность всей Швеции с севера на юг – на «вольво» или тяжеловатом, но быстром «шевроле» преодолевалась часов за шесть – три туда и три обратно. Когда здесь заканчивался сезон дождей, трава росла на глазах, и голая почва меньше чем за полдня покрывалась плотной малахитовой зеленью.
Ливия показалась Нильсу рыжей и горячей. Ливийцы – горячими и черными. А еще они никогда никуда не торопились. Европеец несся на своем автомобиле со скоростью, которую можно было измерять парсеками, окутывая облаками пыли и песка араба. Араб не спеша ехал по той же дороге на меланхоличном ишачке. А когда воздух снова становился прозрачным, смотрел вслед машине со снисхождением и даже жалостью.
В общем, было интересно, и Нильс ничуть не жалел, что напросился сюда. Ему поручили рекогносцировку, операцию которая имела стратегическое значение для всего объекта. Предполагалось, что работать он будет вместе с напарником, ровесником по имени Ульф. По результатам тестов, определявших так называемую способность к корпоративности, Нильс и Ульф должны были составить идеальную мини-бригаду. В их задачу входило исследование территории и выбор наиболее оптимального места для расположения станции. Они отправляются в пустыню самыми первыми, останавливаются в обозначенном на карте квадрате, обследуют условия, на заданном расстоянии от дороги находят участок земли с ровным рельефом, совершают все необходимые замеры, размечают землю под будущее строительство и рисуют план.
Потом на специальном строительном автомобиле с прицепным вагоном-кемпингом на место приезжает бригада в составе семи-восьми человек. Автомобиль, помимо бетономешалки, оснащен всем необходимым для работы в условиях пустыни. Бригада возводит здание – роет котлован, заливает бетонный фундамент, выстраивает опалубку из металлического ригеля, устанавливают на ригель жестяные перекрытия. Потом малярные работы и подготовка внутреннего помещения под установку самого трансформатора. Позже на место приедет подразделение электриков и займется монтажом оборудования.
В соответствии с расчетами плановиков, работа по разметке местности для одной станции выполняется за одну рабочую смену. После чего рекогносцировщики могут вернуться в лагерь. Либо – при условии, что рабочие запаслись всем необходимым, они ночуют в пустыне и утром отправляются дальше. В лагерь же можно приехать в любой момент – когда закончатся продукты, вода, или если просто захочется поговорить с товарищами. Кочевой быт в пустыне был продуман шведскими эргономистами до мелочей, и неудобства сокращены до минимума.
Перед командировкой Нильса отправили на специальные подготовительные курсы, предложив либо четырехнедельное обучение в Швеции, либо трехнедельные занятия и отъезд в Ливию на неделю раньше непосредственного начала работ, – чтобы можно было освоится на месте. Он предпочел второе.
В лагере заканчивался период обустройства – из модульных элементов быстро собирались аккуратные одноэтажные бунгало, организовывались производственные мастерские, принимались отправленные из Швеции машины и оборудование. В общем, дел у двадцати человек пионеров было много.
Предполагалось, что здесь – в зависимости от этапа строительства – будут проживать до ста пятидесяти человек, многие из которых возьмут с собой жен и детей. В каждом бунгало было четыре комнаты, два комплекта удобств и мини-кухня. В центре лагеря располагалось просторное здание столовой, которое одновременно должно было служить чем-то вроде клуба.
Йоста Ульссон, супервайзер, то есть постоянно присутствующий на месте руководитель, загорелся идеей построить бассейн. Вообще-то лагерь располагался недалеко от моря. Но, во-первых, у сорокапятилетнего Йосты была молодая жена – общеизвестная стерва, которая наверняка будет требовать себе условий класса люкс. А во-вторых, начальнику страсть как хотелось продемонстрировать арабам чудеса современной строительной техники и за рекордно короткое время соорудить настоящий бассейн с очищающими фильтрами и ионизатором.
И Нильс, и остальные ребята на строительстве бассейна работали с удовольствием. Вырыли яму, укрепили, проармировали, залили бетоном, проложили всю необходимую изоляцию, протянули трубы, поставили насос и очищающий фильтр, а потом покрыли бассейн голубой кафельной плиткой, выложив синим цветом на дне название своего предприятия. Землю вокруг разровняли, засеяли истерично растущей местной травой, в универмаге купили шезлонги а-la Баден-Баден и полосатые тенты, а под раскидистым мимозным эвкалиптом устроили что-то вроде бара – установили пару холодильников, дискретно спрятав их в желтых благоухающих ветках дерева.
– Мы уедем, а эти обезьяны еще лет двести будут тут своих детей купать и вспоминать о том, как шведы за несколько дней построили настоящий бассейн! – самодовольно заявил Йоста.
Накануне Нильс съездил в Лептис-Магну, удивительный город, построенный в первом тысячелетии до нашей эры. Увидел величественные руины форума с курией, базиликой и несколькими храмами, развалины рынка и огромный, обращенный к морю театр, высеченный из кружевного мрамора. А еще там были термы с потрясающими полами из ювелирной мозаики, открытым плавательным бассейном, палестрой для гимнастических упражнений и стройными, хоть и по большей части безрукими, статуями.
– Пусть, пусть эти черноголовые увидят, наконец, что такое современность! – продолжал Йоста.
Нильс снова представил пожилого ливийца, снисходительно и печально смотрящего вслед стремительному авто цивилизации – и ему захотелось сказать Йосте что-нибудь неприятное. Но он сдержался.
Он старался не сидеть в лагере, и как только предоставлялась возможность, уезжал куда-нибудь вглубь страны, всякий раз испытывая ощущение чуда, когда монотонный песчаный пейзаж вдруг превращался в цветущую рощу – апельсиновую, миндальную или оливковую. Нильс улыбался арабам, и те из них, кто замечал его улыбку, улыбались ему в ответ.
Его напарник Ульф запаздывал, у него возникли какие-то семейные обстоятельства, и в день, когда по графику они должны были впервые выехать на рекогносцировку, он еще не прибыл в лагерь. Нильсу же очень хотелось поскорее приступить к делу и он решил отправиться на место самостоятельно, предполагая поработать и вечером вернуться в лагерь.
Часа два он ехал на своем полугрузовом, похожем на ротвейлера черном «шевроле», дразня скоростью ветер и поднимая веером песок из-под колес. В машине звучала звонкая, энергичная «АББА», работал кондиционер, Нильсу было приятно ощущать прохладную пружинистую скорость. За окном неподвижно лежала жаркая желтая пустыня с редкими вкраплениями темных кустов на фоне рыжих гор, которые ливийцы называли Зелеными. Нильсу нравилось то, что они собираются освещать Сахару. И то, что его производственная операция была самой первой…
Добравшись до нужного километра, припарковал машину, вытащил свой геодезический инструментарий и начал долго осматриваться по сторонам. Они изучали рекогносцировку и выбор места в училище, у Нильса даже имелись кое-какие практические навыки, но запаздывавший Ульф был более опытным специалистом.
«Прежде чем строить, осмотри внимательно местность. Выбери такое место, чтобы здание не мешало природе», – было написано в старом уставе мастеров. Нильс мерил песок шагами, прикидывал на глаз, проверял приборами. При помощи теодолита искал ровную линию и нужный угол. Вписывал искомую высоту нивелиром. Секстантом определял позиционность, пытаясь искусственно посадить солнце за горизонт. И никак не мог принять решение.
О том, что прошло много времени, он догадался, почувствовав голод. Вытащил маленькую походную плиту – модернизированный примус, развел огонь, вынул из сумки-холодильника галеты и рагу из телятины с овощами в посудине из жаропрочной фольги, которое ему утром вручила пожилая повариха Берит. Он как-то помог ей что-то куда-то переставить, и два раза съездил с ней на рынок, который здесь назывался смешным словом «сук». А вчера вечером Берит постучала к нему в комнату и сказала, что для пустыни может приготовить ему что-нибудь особенное. И что вообще, если он чего-нибудь захочет, он должен сразу ей об этом говорить, не обращая внимания на меню, которое вывешивается в столовой по понедельникам. Она всегда с радостью приготовит ему что-нибудь персональное. Йоста, конечно, может посмотреть на это косо, решив, что так они нарушают производственную демократию, но тогда она объяснит начальнику, что блюда из общего меню не всегда подходят для походного питания…
Нильс не стремился к гастрономической исключительности, Берит и для всех готовила вкусно, но ее забота была ему приятна. «В общем меню телятины вроде не было», – с улыбкой подумал он и вспомнил мать. Нежность, с которой она относилась к нему в раннем детстве, сложные разговоры о любви, которые она вела с ним, пока он ничего не понимал…
Сварив себе настоящий мелкомолотый кофе в маленькой алюминиевой джезве с блестящими боками и немного потускневшим дном, он присел с чашкой на складной деревянный стульчик. Пил кофе маленькими глотками и думал, что так и не определил, где же ему все-таки расположить самую первую станцию так, чтобы она не мешала природе… Рыжий придорожный песок, уходя вглубь пустыни, превращался в желтый. По молочному небу не спеша катилось сливочное солнце.
Вокруг не было ничего и было все. Он сидел, почти не шевелясь – думая обо всем и не думая ни о чем. Снова вспомнил мать, ее очень прямые, по послевоенной моде, плечи, белую блузку и воротник с бантом, волосы, уложенные над высоким лбом золотой дюной. Их средневековую улочку и рождественскую ярмарку на Большой площади Старого города. То, как украдкой плакала Анна в их последнюю встречу. И маленький остров в Стокгольмских шхерах, и еще какие-то некрупные события и кадры, которые дробились-дробились, становились настолько маленькими, что все слова, в которые их можно было одеть, были им велики… Щебень, гравий, галька, песок…
А потом произошло чудо. Огромное солнце, которое целый день с восточной медлительностью катилось по небу, вдруг за считанные секунды – с европейской скоростью – ушло за горизонт. Словно в обморок упало. Белое небо с размаху опрокинулось куда-то в антимир, став на мгновенье абсолютно черным. Но уже в следующий миг чья-то невидимая рука щедро и неровно засеяла небо звездами. Словно вернула раздробленное на воспоминания солнце… А следом за ним в небе появилась луна под прозрачной чадрой.
Ничего похожего Нильс прежде не испытывал. Ему захотелось, чтобы все это повторялось еще и еще. Но только он должен быть один – что-то подсказывало, что впечатление утратит часть своей силы, если рядом будет другой человек.
Йоста вначале наотрез отказался разбивать мини-бригаду. Кричал, что работа в пустыне в одиночку противоречит нормам безопасности труда, что так они нарушат трудовое законодательство и положение о строительных предприятиях… Что ответственность за все, что происходит на стройке, лежит исключительно на нем, и что именно ему придется садиться в тюрьму.
Ульф между тем запаздывал еще как минимум на неделю. Лишних людей в лагере не было. Отложить работу рекогносцировщиков на целых семь дней означало сломать график – в результате знаменитые своей пунктуальностью шведские строители рисковали нарушить план поэтапной сдачи объекта. Этого Йоста допустить не мог ни при каких обстоятельствах. Йоста приехал сюда не просто строить – Йоста чувствовал себя миссионером от строительства, он обязан был продемонстрировать дремучим арабам безупречную строительную технологию, практикуемую на западе. Он должен был доказать им, что если в контракте указано, что объект сдается первого января в 00 часов 00 минут, то именно в этот день и в этот час будет подписан приемо-сдаточный акт. Без единого замечания со стороны заказчика!
График – графиком, но отпускать этого странного Нильса одного в пустыню он опасался. Не дай бог, что-нибудь случится – отвечать-то действительно придется ему. По норме техники безопасности вне лагеря рабочие должны были трудиться по крайней мере вдвоем. Йоста твердо придерживался нормы до того момента, пока за ужином не поймал адресованный Нильсу взгляд своей жены Эвы. Он хорошо знал, что означает это выражение ее глаз. И знал, что когда Эва смотрит так не на него, а на кого-то другого, он, Йоста Ульссон, впадает в плохоконтролируемую ярость и запросто может совершить что-нибудь противоправное. В общем, как ни верти, с безопасностью возникали явные сложности.
Мучительно проразмышляв целую ночь, начальник стройки решил как можно быстрее отправить Нильса куда-нибудь подальше. Ведь если этого кретина в Сахаре сожрут скорпионы, в тюрьму Йосту посадят ненадолго. А может, и вообще не посадят – всего лишь лишат права работать по специальности и заставят заплатить штраф. А вот если Йоста совершит убийство из ревности, тут ему уже вряд ли что-нибудь поможет…
Спустя две недели наконец приехал Ульф. К этому времени Нильс научился сам справляться с задачей. К тому же плановики подсчитали, что общий строительный процесс пойдет быстрее, если у них будет две единицы рекогносцировщиков – Нильс и опытный Ульф, которого решили объединить с Матсом Карлегардом. Матс был совсем мальчишкой, только что закончившим училище, его взяли разнорабочим, на подхват, но он оказался настолько толковым, что ему запросто можно было доверить более серьезную операцию. То есть без привлечения дополнительных ресурсов предприятие получало возможность организовать работу более продуктивно с тем, чтобы на завершающем этапе у них появился приличный люфт по времени для электрики. Электрика имела обыкновение преподносить сюрпризы даже дома, в Швеции, так что выигрыш по срокам на первом этапе шел на пользу всему проекту.
В общем, Нильсу сделали какую-то особую прививку и официально позволили работать в пустыне без напарника в течение максимум сорока восьми часов. После чего он обязан был вернуться в лагерь, дабы соблюсти свое – свято охраняемое шведскими профсоюзами – право на отдых.
Нильс всегда выбирал себе районы пустыни, расположенные подальше от лагеря. Все всегда происходило по одной и той же схеме. Он выезжал из лагеря рано утром, к полудню добирался до места. Устраивался, разбивал бивак. Заранее монтировал походный душ, представлявший собой складную конструкцию из легкого алюминиевого профиля с полиэтиленовой шторой, потом выкатывал большой бак воды, присоединял шланг к гусаку и маленькому насосу. Устанавливал примус. Откидывал сиденья машины так, чтобы вечером можно было лечь спать. Готовил геодезические инструменты.
Свив в пустыне гнездо и подготовив себе поле деятельности, устраивал перерыв – варил крепкий кофе и не спеша выпивал две чашки с кунжутовыми или тминными хрустящими хлебцами. Потом приступал к работе – выбирал место для станции, вымерял ландшафт, тщательно контролировал рельеф песка, определяя наиболее устойчивые участки, то и дело менял инструменты. Прежде, чем сделать окончательный выбор, обедал. Еду он возил в сумке-холодильнике. Повариха Берит его баловала.
Достать в Ливии свинину было практически невозможно. Многих его товарищей это возмущало. Особенно по субботам, за ужином, когда строителям официально позволялось крепкое пиво. Нильс этих жалоб никогда не поддерживал: во-первых, в жару вообще не очень-то хотелось мяса, а во-вторых, ему нравилась местная кухня.
Большая энтузиастка своей профессии, Берит подружилась с женой представителя заказчика Али, и та научила шведскую повариху готовить по-ливийски. В лагере новую кухню не приняли, а Нильс ее оценил – и ягнятину с розмарином, и кус-кус, чем-то похожий на рис, который по правилам надо есть руками, и все эти необыкновенные блюда из овощей. Открывая сумку с едой, он всегда улыбался, потому что, к каждой посудине из алюминиевой фольги Берит приклеивала скотчем маленькую записку, где сообщалось, из чего это приготовлено, и как это нужно есть – что-нибудь вроде «обязательно разогрей» или «если хочешь, можешь есть холодным». Иногда Нильсу хотелось чего-нибудь шведского, и его всегда поражало, что именно в такой день у него в сумке обнаруживалось классическое жаркое «искушение Янссона» или тефтельки с картофельным пюре. Нильс узнавал их, не поднимая крышку – по отсутствию инструкций. И улыбался еще шире.
Йосте, кстати, не нравилось, что Берит готовит Нильсу отдельно. Это противоречило шведской демократии вообще и положениям о производственной этике их предприятия в частности. Но запретить Йоста не мог. Ведь то, что Нильс столовался по-ливийски, экономило драгоценную свинину. Начальник умудрялся доставлять в Ливию шведских поросят – под видом то ли красящего пигмента, то ли сушильного агента, – в общем, такого специального стройматериала, о котором, по его словам, в Ливии еще и слышать не слышали. Материал, мол, транспортируется исключительно замороженным в непрозрачной упаковке и мгновенно портится при открывании… Йоста ждал от подчиненных восторгов и благодарности за свою заботу и изобретательность. Подчиненные благодарили и восторгались. Все, кроме этого хренова отшельника и этой стокилограммовой бабы с кухни! Которая к тому же попыталась поучить его жизни – мол, местная кухня лучше приспособлена к местному климату. Какой климат! У них свой климат! У них везде кондиционеры! И даже бассейн!
Сидя в пустыне на складном стульчике, Нильс ел вкусное и легкое овощное блюдо с труднозапоминаемым названием. Вспоминал Йосту и остальных соотечественников. И ему было приятно оттого, что он от них вдалеке… От всех вдалеке. И что скоро он увидит, как с пьедестала упадет солнце.
После обеда он совершал разметку выбранного участка, забивал маркировочные сваи, отмечал все нужные оси. Составлял план на бумаге, скрупулезно записывая все размеры и расстояния. Потом он передаст от руки сделанный эскиз чертежникам, а те при помощи потрясающе умной компьютерной программы «Автокад» превратят набросок в официальный документ, который будет храниться в государственном архиве Ливии…
Нильс совершал еще какие-то мелкие операции и со временем начинал готовиться к главному удовольствию дня. Принимал душ, надевал чистую футболку и шорты, вытаскивал из машины специально позаимствованный в лагере шезлонг а-la Баден-Баден, вынимал из холодильника бутылку джина, усаживался. И ждал падения солнца за горизонт.
Он наблюдал эту мгновенную перемену огромного мира уже много раз, но ощущения чуда не исчезало. Работая, он иногда поднимал глаза к небу, смотрел на солнце, которое казалось ему твердым, тяжелым, металлическим. Днем оно почти не двигалось – просто меняло металл. Утром светило поднималось энергично – со скоростью, но без спешки, сохраняя достоинство. Оно было молодым и серебряным. В жгучий от жары полдень тяжелело и становилось стальным. А вечером – платиновым. В предзакатные часы солнце было величественным и царственным. А потом вдруг убегало за горизонт, как сумасшедшее. То ли, по-мусульмански не доверяя женщинам, оно тянуло до последнего и не хотело уступать небо луне с ее ослепительной свитой. То ли, наоборот, по луне тоскуя, хотело невозможного – в последний момент пересечься с ней, оказавшись в небе одновременно…
Нильс ночевал в пустыне три-четыре ночи в неделю. Дни в лагере казались ему скучными. У бассейна вечно сидели жены коллег. Сухой закон строительства на женщин не распространялся. Они с утра до вечера пили мартини и выясняли отношения. Нильсу было их жаль – местные обычаи позволяли женщине появляться в общественных местах исключительно в сопровождении мужчин. Шведские мужчины же все время работали, а по выходным отсыпались.
В свои свободные дни Нильс всегда старался куда-нибудь уехать и с удовольствием брал с собой Берит, если их выходные совпадали. Они гуляли по Зеленой площади в Триполи, среди руин мертвых городов и по удивительным аллеям реликтового каменного леса. В путеводителях рассказывалось, что двести семьдесят миллионов лет тому назад в этом месте плескалось древнее море с огромными известняковыми отложениями на дне. Вода придавала известняковому камню обтекаемые формы, он был живым, он рос – и однажды, примерно двести миллионов лет тому назад, поднялся над уровнем моря, словно впитав его в себя. С тех пор над камнем трудились ветра, дожди и время. Словно надеясь, что вода вернется, здесь возникли озера, водопады и гроты. Одни глыбы были похожи на деревья, другие – на основательные патриархальные дома, третьи – на стариков…
Нильсу нравилась Ливия, ее прошлое и ее настоящее – в котором он многого не понимал. На месте все выглядело гораздо сложнее, чем на страницах книжки, которую Нильс когда-то подобрал в офисе. Борец за народное благополучие Каддафи как-то, к примеру, решил начать новое летоисчисление – обнулить календарь и заодно перекроить год, сделать так, чтобы год делился не двенадцать, а на восемь единиц. По той простой причине, что у него было не двенадцать, а восемь детей, каждому из которых он и хотел посвятить по революционному месяцу. К счастью, из этого ничего не получилось. Зато с дореволюционной памятью он расправился самым безжалостным образом – ливийский руководитель сжег государственный архив, и целую неделю улицы Триполи покрывал пепел прошлого…
В точном соответствии с нормами организации труда за рубежом, один раз в два месяца Нильс летал на выходные домой. В Стокгольме он встречался попеременно то с секретарем генерального директора Ульвой, то с главным офис-менеджером Петрой. Приглашал девушку в дорогой ресторан, гулял по городу, приводил домой. Среди ночи просыпался, подходил к окну, смотрел в северное небо с его дискретными звездами и чувствовал острую тоску. Ему хотелось назад в Ливию. К своему пронзительному одиночеству под диким небом пустыни.
* * *
Однажды он проснулся раньше других. Было воскресенье, по воскресеньям никто не работал. В лагере стояла абсолютная тишина, над бассейном висело утреннее солнце. Оно слепило глаза и делало невидимой густо-синюю надпись на дне бассейна, которой так гордился Йоста. Нильс собрался, прихватил карту, сел в машину и поехал куда глаза глядят.
Ненагруженный и без прицепа автомобиль мчался по безлюдной дороге, легко выжимая больше двухсот километров в час. За машиной зигзагами бежали Зеленые горы.
Али как-то рассказывал Нильсу, что в начале века, сопротивляясь итальянской экспансии, ливийцы устраивали в Зеленых горах тайные убежища. Прятаться в пустыне было невозможно. Да и горы были видны отовсюду. Но на высоте около тридцати метров от подножия в Зеленых горах располагались невысокие, но глубокие пещеры. Если смотреть снизу, то вход в пещеру выглядел просто как темное пятно, и итальянцы даже не догадывались, что в скалах есть пустоты. Самый ловкий ливиец поднимался в такую пещеру ночью, умудряясь как-то удерживаться руками на почти гладком камне. Потом он спускал вниз веревочную лестницу, и по ней в убежище забирались остальные. Из высоко расположенного укрытия отлично просматривалась окружающая местность. Ливийцы осторожно наблюдали сверху за перемещениями итальянцев, запоминали, как те разбивают ночлег и выстраивают охрану. По ночам мужчины спускались вниз, пробирались до лагеря врага, убивали одиноких охранников или поджигали военный городок. Силы были неравными – отлично вооруженные итальянцы значительно превосходили по численности. Ливийцы понимали, что им не победить, но их ночные набеги сеяли сильную панику среди итальянских солдат. Итальянцам ни разу не удалось захватить ни одного мстителя. Захватчикам казалось, что враг неуловим, потому что спускается ночью с неба и на небо же возвращается. В каком-то смысле так оно и было – ливийцы жили в твердой скале, которая висела в небе.
А еще в пещере всегда кто-то оставался. Если бы вниз спустились все до единого, на камне осталась бы шаткая веревочная лестница, которая сразу раскрыла бы тайну…
Заметив бедуинскую деревушку, приютившуюся у самой скалы, Нильс решил туда заехать. На стене сколоченного из щербатых досок барака узнал написанное по-арабски слово «магазин». Вошел внутрь. На полках почти ничего не было, в углу сидел пожилой араб в маленькой белой шапочке на макушке и смотрел телевизор. Телевизор был черно-белый, рябой, с надувшимся экраном и без звука. Подойдя ближе и вглядевшись в изображение, Нильс оцепенел. Какой-то арабский канал показывал центр шведского города Карлскруны – он узнал его по ратуше, на реконструкции которой работал несколько лет назад. В самом центре, у набережной, была «припаркована» советская подводная лодка. Камера переместилась и показала серьезное лицо шведского министра обороны, который что-то гневно говорил журналисту. Все лица, попадавшие в кадр, выражали крайнюю тревогу.
– Звук! Звук! – заорал Нильс по-шведски, по-английски и принялся крутить ручки и нажимать кнопки на аппарате. Араб, никак не отреагировав на крик клиента, просто выключил телевизор из розетки, взял его в руки и – от греха подальше – вышел с ним из магазина через заднюю, расположенную за прилавком дверь. Мол, мало ли на свете сумасшедших…
Нильс бросился к машине. Сюда он ехал со скоростью, которая обманывала время, и ему казалось, что он не мог уехать далеко от лагеря, а спидометр показал, что позади почти четыреста километров. Возвращался Нильс еще быстрее, но ему казалось, что стрелка часов, на которые он то и дело смотрел, стоит на месте. По дороге как всегда попадались неторопливые ливийцы на своем гужевом транспорте. Нильс думал, что сейчас он их ненавидит…
В семидесятых в Швеции много говорили о советской угрозе, но в последнее время ситуация немного изменилась, русские вроде ведут себя спокойнее. «Если это война, то все сломается, – думал Нильс. – Я не боюсь, просто все сломается, сломается…»
Это была не война. Это был скандал. Официальную причину появления советской подводной лодки у берегов Швеции еще не назвали, но русские уже принесли многочисленные извинения. Лагерь гудел от возмущения. «Даже если эти свиньи ни на кого не напали – это не значит, что нам нужно закрывать глаза на то, что они шастают у наших берегов!» – кричали все наперебой. – «Неизвестно, как они поведут себя в следующий раз! Они же дикие, как и эти проклятые арабы!» Толстый неразговорчивый Бьерн призывал «парней» сколотить группу, поехать к этим «медведям» и им показать! На столах в столовой стояли батареи пивных бутылок. Война не война, но стресс изрядный. Йоста позволил ребятам расслабиться…
На следующий день Нильс как всегда отправился в Сахару. Сначала день складывался как обычно: Нильс устроился, выпил кофе, поработал, пообедал, снова поработал. Ближе к вечеру Нильс посмотрел на солнце. Оно было не платиновым. Оно было алюминиевым. Нильса уколола смутная тревога, но он заставил себя продолжить привычные занятия. Принял душ, надел чистые белые шорты и белую футболку, установил свой «Баден-Баден», наполнил бокал джин-тоником и приготовился ловить самый первый момент внезапной арабской ночи. Тревога между тем не успокаивалось, тревога росла. А когда солнце, спешно схватив белую мантию дня, побежало за горизонт, Нильса вдруг охватил дикий страх.
Какое-то время он сидел в шезлонге, не решаясь даже пошевелиться. Пытался понять, чем вызвано это странное и прежде неведомое чувство. Залпом выпил бокал. И только после этого сообразил, что ему просто до смерти необходимо услышать живое слово. Или дыхание, или смех, или плач, или что-нибудь. В мгновение ока он собрал все свое хозяйство, завел машину и помчался к лагерю, преодолев триста километров за полтора часа стремительной езды.
Когда он приехал, было уже поздно. По будням мужчины ложились спать рано. Женщины, которым накануне поцарапал нервы международный конфуз с подводной лодкой, – женщины воевали друг с другом.
По закону все бытовые нужды шведа за рубежом, должен удовлетворять работодатель. В каждом бунгало был кондиционер, холодильник, моющий пылесос, стиральная машина и мини-кухня. А игравшая первую леди миссии Эва, жена Йосты, тайком выписала себе из Швеции микроволновую печь! Заказ как раз сегодня доставили – женщины едва успели успокоиться после всей этой истории с субмариной, и, пожалуйста – новый повод для волнений! В столовой, несмотря на поздний час, было очень шумно.
Заметив Нильса, женщины чуть приутихли. Ливия сделала его еще эффектнее – густые волнистые волосы от солнца стали совсем льняными, он загорел, брился через день, успевая обрасти хоть и золотистой, но мужественной щетиной. Сейчас ему очень шли белый цвет и тревога в синем взгляде.
– Аа, отшельник явился! – поприветствовала его жена супервайзера. – Ты такой сладкий, Нильс Сундин!.. Хоть бы ты женился наконец, что-ли?
Остальные, явно осуждая бесцеремонность Эвы, хором заговорили друг с другом.
От живых голосов Нильс не почувствовал ни успокоения, ни радости. Он уныло поплелся к себе в бунгало.
«Я, наверное, просто устал от пустыни и одиночества… – думал Нильс, ворочаясь в кровати и второй час безуспешно пытаясь уснуть. – Может, действительно, взять с собой кого-нибудь? Ульфа, рекомендованного по результатам теста?» Ульф носил очки со стеклами, которые слегка увеличивали его глаза. Нильсу это почему-то не нравилось.
«Может, лучше малоразговорчивый и ироничный Буссе? Или громкий веселый Бенгт?» – предполагал Нильс. Эти двое были самыми близкими его приятелями, но брать их с собой в Сахару почему-то не хотелось. Да и не факт, что они захотят поехать с ним. Все вообще складывалось по-дурацки. Он ведь так долго всех убеждал, что хочет работать один. Убедил – и пожалуйста! Плановики озвереют, когда узнают, что им нужно снова пересчитывать сроки.
Впрочем, он шел с опережением своего графика, так что минимум сутки на размышление у него были. Он надеялся, что утром на свежую голову само собой придумается какой-нибудь выход. И потом, может, это вообще временный кризис, может, он завтра пройдет…
На следующий день он завтракал позже всех. В столовой почти никого не было, и Берит была ему искренне рада. Он немного покопался в духовке, подтянул какой-то шуруп. Проверил посудомоечную машину, вспомнив, что Берит как-то жаловалась, что машина слишком громко моет посуду.
– Тебе нужна еще какая-нибудь помощь? – спросил Нильс. – Я сегодня целый день в лагере, так что можешь мной пользоваться.
– Да вроде нет… Хотя мне на рынок надо, но Йоста обещал прислать машину минут через сорок, – ответила Берит, посмотрев на часы.
– Поехали прямо сейчас, – предложил Нильс, – мне все равно делать нечего, а начальству не придется никого освобождать.
Яркие краски ливийского рынка солнцу выжечь не удалось. Всюду высились горы густо-кровавых помидоров и нежно-зеленых арбузов. На покрытых клеенкой прилавках лежали пышная малахитовая зелень и притворявшиеся маленькими сгущенными солнцами дыни с апельсинами. Остро пахли пряности и соблазняли сласти.
В отдельной части рынка, отгороженной невысоким покосившимся штакетником, торговали животными – верблюдами, коровами, лошадьми, ишаками. Народу здесь было не много. Чуть в стороне от всех, прямо на земле, сидел грустный пожилой араб. В руках он держал жесткую металлическую сетку с живой курицей. Наседка была коричневая, в крапинку цвета кофе с молоком, с красным хохолком и черными круглыми глазками. Ноги у курицы были связаны, она сидела неподвижно и только часто-часто моргала глазами.
– Сколько? – спросил вдруг Нильс по-арабски.
– Иншалла, – ответил араб. То есть «сколько аллах даст». Повинуясь внезапному порыву, Нильс вытащил десять драхм и протянул деньги продавцу. Это было по крайней мере втрое больше стоимости курицы. Ничуть не удивившись, араб взял деньги и отдал птицу.
Берит ни о чем не спросила, хоть и хотела – это было видно. Нильс молчал – он и сам себе пока не мог ничего объяснить.
Вернувшись в лагерь, отправился в столярную мастерскую. Сколотил большой ящик, выстлал дно опилками и тонкой, похожей на серпантин щепой. От ящика шел вкусный запах свежего дерева. Вернулся в бунгало, собрал свои вещи, зашел к Берит, взял пшена, погрузил курицу в машину и поехал в пустыню.
К вечеру добрался до нужного километра. К работе он приступит завтра с утра, а пока он просто обживал место и готовился – шезлонг, бокал, песок… Ожидание. Упало солнце. Зеркало неба перевернулось своей обратной стороной – черной, немного вязкой поверхностью, покрытой специальной зазеркальной мастикой. С восторгом играя свиту, засияли звезды. Снисходительно посмотрела вниз гордячка-луна.
Нильс удобно сидел в кресле. Рядом бегала курица. Гармония была полностью восстановлена.
А утром наседка снесла ему яйцо.
* * *
Еще почти три года Нильс ездил со своей курицей по Сахаре. Берит покупала птице какие-то специальные крупы. В лагере над ним посмеивались, но без зла. Правда Эва однажды попыталась развернуть против Нильса с его «боевой подругой» настоящую кампанию.
Как-то в отсутствие в лагере Йосты, она заглянула в комнату к Нильсу «поговорить». Он поговорил с ней о погоде, угостил кофе, который сварил прямо перед ее приходом. А потом стал жаловаться на головную боль и смотреть на дверь. У него действительно побаливала голова. Эва предложила массаж, «отличное средство» при мигрени. Нильс отказался. Она предложила принести виски – алкоголь, мол, тоже иногда облегчает мучения больного. Нильс снова отказался и вежливо, но решительно выставил жену начальника за дверь.
На следующий день Эва объявила в лагере, что Нильс сумасшедший. Или даже маньяк. «Ну скажите, скажите – разве может здоровый человек неделями жить в пустыне с курицей! Нет, вы ответьте мне!» – восклицала она, обращаясь ко всем, кого встречала.
К счастью, немногие хотели ей отвечать – а то ведь и вправду, могла бы добиться для Нильса какой-нибудь внеочередной врачебной комиссии.
Впрочем, иногда он и сам подумывал, не пора ли ему обратиться к врачу. Дело в том, что он начал страшно волноваться за курицыну жизнь – ее же мог укусить скорпион! У моря скорпионы были не опасны – ни для людей, ни для животных. Но чем выше по плато, чем суше и дальше в пустыню, тем больше концентрация яда в скорпионьем жале. Нильс всегда возил с собой сыворотку-противоядие, изготовленную из крови коня, которого укусил скорпион. Сыворотка вообще-то предназначалась для людей. На курицу она могла не подействовать. Нильс этого очень боялся.
* * *
Незадолго до окончания работ и возвращения на родину Али пригласил Нильса на свадьбу своего брата.
Это был удивительный праздник. Во дворе дома, выстланном известняковыми плитами, приготовления начались за неделю до торжества. На огромном вертеле целиком изжарился верблюд. В животе у верблюда помещалась нежная курдючная овца. В животе у овцы – курица. В курице – оливка. Оливка предназначалась самому дорогому гостю.
Ни готовивших угощения женщин, ни саму невесту никто из гостей не видел. Зато Нильс как-то с радостью поймал в остроарочном, луковичном окне женской половины дома крупную форму Берит. На Берит была чадра, и похоже, ей это очень нравилось.
Праздник шел по какому-то собственному, наполненному значениями порядку, и Нильсу в очередной раз стало жаль, что он не знает арабского.
Оливка досталась седому старику в белом. Старик почти ни с кем не разговаривал, а только внимательно и немного печально смотрел по сторонам. Однажды Нильс встретился с ним глазами и ему показалось, что пожилой араб прочитал всю его жизнь. Все тридцать три года – за то единое мгновение, вмещающее в себя один взгляд или один закат солнца в Сахаре.
На следующий день Нильс попросил Али передать белому старику свою курицу.
* * *
По окончании контракта Нильс вернулся в Швецию вполне состоятельным человеком. Для шведа работа за рубежом всегда означала высокую зарплату и льготный тариф налогообложения. На часть заработанных денег Нильс первым делом купил квартиру в Старом городе, недалеко от дома своего детства.
Мать по-прежнему держала шляпный салон, но из практикующей модистки она незаметно превратилась в полумузейную достопримечательность. У нее начала мелко дрожать голова, газета с заметкой о Коко Шанель на стеклянной двери пожелтела, и текст почти не читался. Это был предпоследний экземпляр. Абсолютно последний хранился в альбоме со старыми хрупкими фотографиями.
Шляпки окончательно утратили популярность. Утвердившиеся в своей самостоятельности шведские девушки предпочитали стиль уни-секс и готовили скоропостижное картофельное пюре из порошка. В неслыханных масштабах распространилась пластиковая посуда. Впрочем, экологи уже забили по этому поводу тревогу.
По настоятельной рекомендации руководства Нильс прослушал курс менеджмента на строительном факультете Высшей Королевской политехнической школы. После окончания учебы ему предложили должность заместителя начальника сектора реставрации. Конечно, за несколько лет, проведенных в Ливии, Нильс Сундин мог подзабыть технику восстановления и консервации зданий, но зато он приобрел солидный опыт практической работы за границей, который вскоре мог оказаться весьма полезным – концерн вел переговоры с Советским Союзом, где предполагалось реставрировать здание старейшей гостиницы в самом центре Ленинграда.
Однажды поздно вечером Нильс случайно оказался в районе Восточного моста. Отсюда открывалась панорама новостроек Рикнебю, дешевого квартала с однотипными многоэтажными домами, в которых жили главным образом «черноголовые» – то есть иммигранты. В невидимых в темноте зданиях горели окна. Щедро и неровно разбросанные огни напомнили Нильсу низкие яркие звезды в небе над Сахарой.
Время от времени он приезжал к Восточному мосту. Подолгу смотрел на далекий чужой свет и вспоминал свою нелепую курицу, которая давала ему ощущение того, что в каменной пещере кто-то его ждет. Что кто-то сторожит ту шаткую веревочную лестницу, по которой он спустился в этот непросто устроенный мир.
Ливийские звезды добавили загадочности в его синий взор. Врожденная чайка-морщинка на лбу стала более драматической. Несмотря на всю свою независимость, видя Нильса, девушки млели.
Однажды он чуть не женился. Ее звали Сесилия, она была похожа на Мерлин Монро. После университета ее взяли в концерн архитектором и сразу же дали персональный объект. Она была очень способной.
Нильс пригласил ее на обед к маме. «С такой внешностью можно и без шляпки», – примирительно шепнула ему Марта и мелко-мелко, по осеннему, затрясла головой. Ему казалось, что он наконец по-настоящему влюблен. Они объявили о помолвке, Нильс пригласил невесту на уикэнд в Париж. Она согласилась, но заявила, что заплатит за себя сама. Архитекторы прилично получали, а Сесилия стремилась к браку на равных.
В Париже они гуляли по набережной Сены, ходили в Лувр, сидели в крошечных ресторанчиках. Она рассказывала ему что-то о рококо, барокко и псевдоготике. Он смотрел на нее и улыбался.
Вернувшись в Стокгольм, на пути из аэропорта они проезжали Восточный мост. В самой середине моста Нильс затормозил.
– Почему ты остановился? Здесь нельзя останавливаться. У тебя что-нибудь сломалось? – обеспокоенно спрашивала Сесилия, выходя вслед за Нильсом из машины. Оперевшись о перила, Нильс смотрел в сторону Ринкебю.
– Что это значит? – снова спросила Сесилия.
– Ничего, – ответил Нильс, – обычные многоквартирные дома. Просто ночью, в темноте, когда в них загораются окна, они становятся похожи на небо в Сахаре…
Сесилия выдержала глубокую паузу, а потом вздохнула и произнесла на едином дыхании:
– Знаешь, Нильс, мне кажется, нам нужно подумать, прежде чем принимать окончательное решение. Я мирилась с твоими странностями. С тем, что ты ставишь туфли не так, как нормальные люди, а стоймя, впритык к стене – якобы никак не можешь привыкнуть к тому, что в Швеции нет скорпионов! Мирилась с тем, что дома у моих родителей ты всегда стучишь хлебом о стол, стряхивая воображаемых насекомых. А мне потом приходится два часа убеждать маму, что ты вовсе не имел в виду, что у них в доме водятся тараканы! Мирилась с тем, что ты не ешь цыплят и не веришь, что мой любимый арбуз не соленый, а сладкий! Да-да, я помню, что в твоей Ливии, чтобы сохранить арбузы от жары, их зарывали в прибрежный песок и они становились солеными. Но здесь не Ливия! Здесь Швеция! Здесь сладкие арбузы!!!
Нильс молчал, Сесилия распалялась сильнее и сильнее.
– Мы были в Париже, я рассказывала тебе о том, что мне интересно, чему я решила посвятить свою жизнь – и видела, что тебя это совершенно не волнует! Это читалось по твоему лицу! А теперь ты привозишь меня сюда и предлагаешь любоваться окнами каких-то халуп, в которых живут одни «кебабы»!..
В нескольких метрах от них стоял телефон-автомат. Нильс медленно направился к нему, набрал короткий номер и попросил такси подобрать пассажира на Восточном мосту. Потом сел в машину и уехал.
* * *
Через две недели концерн подписал контракт на реставрацию старейшей ленинградской гостиницы. Впервые за время, прошедшее после возвращения из Ливии, Нильс внятно обрадовался. Потом попытался произвести инвентаризацию своих знаний о России. Вспомнил, что когда-то там правил царь и устраивались роскошные балы. Царя свергли какие-то местные Каддафи, собиравшиеся строить рай для рабочих, но у них ничего не получилось. Еще он знал, что в центре Москвы есть Красная площадь. А в центре Триполи – Зеленая. Вспомнил, что несколько лет назад ливийцы очень гордились «проектом 48» – покупкой у русских завода по производству автомата Калашникова…
Подумав, что в Ливии ему очень мешало незнание языка, Нильс отправился в книжный магазин, купил словарь и учебник русского, который назывался «Тройка». Пришел домой, открыл первый урок. Буквы выглядели непросто – хоть в них и не было этих мудреных мусульманских кружев. Часа два Нильс заучивал алфавит.
От кого-то когда-то он слышал, что у славян загадочная душа, совершенно непонятная европейцу. Потом вспомнил, что по-шведски слова «славянин» и «раб» звучат почти одинаково.
«Интересно, может, у русских «раб» звучит так же, как «швед»? Он раскрыл шведско-русскую часть словаря и нашел нужную страницу:
slav I – en, er – славянин
slav II – en, ar – раб.
Сверившись на всякий случай с русским алфавитом и его транскрипцией, Нильс прочитал второе значение: «rab». Получалось почти arab. Вот как! А шведы? Он снова ракрыл словарь:
svensk – en, ar – швед.
«Schved» – почти бегло прочитал Нильс и полез в русско-шведский раздел.
швед – м svensk 2. – Было написано там. И никаких других значений. Правда перед «шведом» шла:
швабра – ж svabb 2,
а после «шведа»:
швейцар м – portvakt 3.
Получалось, что по-русски «швед» хоть и не «раб», но тоже где-то в районе обслуги. Нильсу стало весело.
* * *
В первый ленинградский вечер они с коллегами пошли в ресторан гостиницы, которую им предстояло отреставрировать. Стены в зале были покрыты красным слегка плешивым бархатом и облезлой позолотой, но что-то неуловимое все-таки напоминало о царских временах.
Они заказали водку, шампанское и блины с икрой. Народу в ресторане было немного, в основном, проживающие в гостинице иностранцы.
Через какое-то время в холл гостиницы с улицы ввалилась большая и шумная русская компания. Они раздевались в гардеробе, громко разговаривали и смеялись. Женщин было больше, чем мужчин, все были одеты ярко и нарядно. Нильс с интересом наблюдал за новыми посетителями сквозь распахнутую дверь ресторана.
Чуть в стороне от остальных он вдруг заметил странную женскую фигуру – в огромном, похожем на сугроб рябом пальто с коричневым воротником и в белом пушистом головном уборе, который отдаленно напоминал мамину шляпку-ромео. Оперевшись о стену, фигура сняла сапоги, надела туфли на высоких каблуках и стала еще нелепее – из-под громоздкого пальто виднелись худые лодыжки, которые, казалось, могут в любой момент сломаться под тяжестью «сугроба». «Ну и пугало!» – произнес проследивший за взглядом Нильса супервайзер Йоста. Теперь он был подчиненным Нильса. Нильс промолчал.
Пальто-сугроб, между тем, наконец попало к гардеробщику, оставив у зеркала молодую и очень худенькую девушку. На ней была черная юбка и остроотутюженная белая блузка с бантом у воротника. Немодная оправа прикрывала лицо, а собранные на макушке в хвост волосы скалывала красная пластмассовая заколка.
Компания вошла в зал, расселась за столом, на котором стояла табличка «reserved», и начала шумно веселиться.
Он ловил на себе заинтересованные взгляды нарядных подруг девушки из пальто-избушки. Два раза его приглашали танцевать. Первая пригласившая танцевала молча. Вторая, представившись Викой, заговорила на приличном английском и рассказала, что они празднуют день рождения главного редактора их газеты «Leningrad times». Газета выпускается на английском и рассчитана главным образом на иностранцев.
Вика поинтересовалась, успел ли Нильс побывать в Эрмитаже, он ответил как-то невпопад, потому что через Викино плечо наблюдал, как девушка в немодных очках пыталась помочь официантам расставить что-то на столе, и как принимавшие помощь официанты тайком обменялись насмешливыми минами. Она не увидела насмешку на их лицах – она догадалась. Сняла свои очки – верхняя изогнутая перекладина и уменьшающие глаза линзы без оправы – и стала тереть стекла носовым платком, часто-часто моргая и глядя куда-то вниз.
– Кто это? – спросил Нильс у Вики, которая рассказывала ему что-то об иконах и Русском музее, и с которой он, как оказалось, танцевал уже второй танец.
– Это? – удивилась Вика. – Это Зоя. Она у нас корректор. Ни одной ошибки не пропустит. Стережет английскую грамотность, как солдат границу. – Вика пожала плечами. Она была яркая, высокая, в розовом лайковом костюме. А Зоя маленькая и незаметная, в явно бабушкином наряде.
Нильс проводил Вику к ее столу и вернулся к своим. Йоста, выразительно посмотрев в сторону розовой лайки, рассказал анекдот – что-то про русских женщин и венерические заболевания.
– Ты ее уже занял или еще нет? – спросил Йоста у Нильса. – Если нет, то я тоже попробую. – Его законную жену Эву сушили в клинике для алкоголиков, Йоста был временно холост.
Не ответив, Нильс продолжал наблюдать за Зоей. Все ее коллеги танцевали, она сидела за столом одна. Перед ней стояла белая круглая вазочка с золотым ободком, в ней лежали маленькие чуть примятые оливки и по-лягушачьи перепончатый листик петрушки. Зоя взяла одну оливку украдкой. Потом решительно налила себе полный бокал вина и выпила залпом.
Неожиданно она поймала на себе взгляд Нильса. Смутилась, отвела глаза в сторону, но уже в следующую минуту снова посмотрела на него – без опаски и в полной уверенности, что он уже разглядывает Вику или кого-нибудь еще. Во всяком случае, не ее. Обнаружив, что это не так, залилась багровым цветом и, схватив, лакированную сумочку с белой металлической защелкой, побежала к выходу, одновременно семеня и подпрыгивая на своих высоких каблуках.
В углу зала играли в рулетку. Не на деньги – на «Советское шампанское». За игру на деньги здесь еще сажали в тюрьму. Нильс купил один жетон за один рубль и поставил на зеро. Несколько раз пробежав по кругу, стрелка остановилась. На нуле.
Публика оживилась. Метрдотель убежал куда-то в служебное помещение и вернулся с крученым из толстой алюминиевой проволоки ящиком, из которого тянули серебряные шеи зеленые бутылки. Кто-то сказал ему, что здесь никто никогда не выигрывал, потому что рулетка с магнитами. Что это первый случай…
В зал вернулась Зоя.
Нильс встал, медленно подошел к ее столу и церемонно произнес:
– Razreshite?
Зоя встрепенулась, огляделась по сторонам и посмотрела на него вопросительно, словно сомневалась, что он понимает, что говорит.
– Razreshite? – уверенно повторил Нильс и протянул ей руку.
Она смотрела куда-то в пол и легко повторяла его движения. За толстым коромыслом оправы прятались прямые шелковые брови и густые темные ресницы с рыжеватыми концами.
– Skazhite mne chto-nibud po russki, – попросил Нильс. Помолчав, она тихо, словно куда-то в пространство, произнесла:
– Далеко-далеко у озера Чад изысканный бродит жираф…
Нильс все понял. Чад – это рядом с Ливией, за соседней межой африканского огорода. Там по белому песку гуляют разнорыжие жирафы. А на зеро он только что выиграл целый ящик шампанского…
Первую бутылку они открыли на свадьбе.
В цирке
Ире Кузьменко
До катастрофы Карина шла по жизни грациозно и бесстрашно, как извилистая эквилибристка идет по нервному канату, протянутому на высоте обморока. Время от времени, удерживая равновесие, Карина размахивала в воздухе ярким зонтиком – а публике казалось, что она кокетничает и просто тестирует прочность внимания к собственной персоне.
К вниманию она за свои двадцать семь привыкла и точно знала, что оно состоит из сладкого, как шоколад, восхищения, неназойливой, как лимонная карамелька, симпатии и легкой зависти со вкусом лакрицы. Что до последнего, то злостные завистники встречались, к счастью, нечасто. Карина старалась их не замечать – равно как старалась не замечать и прочие щелочные мелочи жизни. Она видела и любила все масштабное и красивое – а все масштабное и красивое видело и любило ее. Ей очень нравилась эта взаимность. А в те редкие, но неизбежные для чуткой барышни минуты, когда в ее солнечное сознание случайно заплывала легкая тучка, которую Карина преувеличивала до слова «депрессия», – в такие мгновения она боялась одного: а вдруг тот, кто режиссирует жизнь, возьмет и возведет вокруг нее забор-частокол из тяжелых и занозливых обстоятельств, она не сможет из-за забора выбраться, будет сидеть внутри, постепенно превращаясь в угрюмую дуру, которую никто не любит… Впрочем, подолгу рассуждать на эту тему было некогда – надо было бежать дальше по невидимой дорожке у подножия купола, украшенного по ночам звездами, похожими на правительственные награды.
Карина вовсе не была той «вамп», которая напоминает круглую башню из кружевного мрамора, призывно пошатывающуюся в поисках опорного перпендикуляра. Фундамент у башни хрупкий и не соответствует грунту, за ее стрельчатыми окнами – лестничные провалы и опасные пустоты, но пыль там пахнет ванилью, и на этот запах покорно поворачивают русла реки мужского интереса. Приблизившемуся к башне мужчине кажется, что он вот-вот заполнит собой все пространство этого переживающего упадок архитектурного шедевра, но на самом деле ни выше, ни ниже цоколя мужчину не пускают. От этой вечной и беспокойной тектоники со временем устает сама башня – и пикантный пизанский крен рискует рано или поздно превратить изящное строение в руины…
Нет, Карина покоряла мужчин по-другому. Она была маяком и умела при необходимости по-павлиньи распустить свой почти солнечный свет на все его радужные составляющие. Суда устремлялись сюда целыми караванами. Любой корабль был бы счастлив, если бы ему позволили остаться в этой гавани подольше, но на самом деле не это было главным – главным было то, что на маяке всегда было тепло и весело. Даже если вокруг штормило, как в приключенческом романе…
В детстве Карина много читала, срывала совершенно заслуженные аплодисменты, с чувством играя на скрипке в музыкальной школе, без труда получала пятерки по всем общеобразовательным предметам и любила справедливость. Самые отъявленные школьные хулиганы таскали за ней портфель и доверяли ей тайны, над которыми ломали головы следователи по делам несовершеннолетних. Карина хулиганов – как могла – воспитывала, но тайны хранила свято.
После восьмого класса она поступила в музыкальное училище, предполагая потом пойти в консерваторию. Но в семнадцать лет на Карину из зеркала смотрела очень привлекательная брюнетка с таким ярким взглядом, что, когда она останавливала его на нотной странице, ноты разлетались в стороны на манер воробьев. Играть на одной из многочисленных скрипок в каком-нибудь пусть даже известном оркестре Карина не хотела. Одновременно она понимала, что муза незаурядности потребует от нее аскезы, а ей хотелось жить полнокровно. Поэтому вместо исполнительского факультета консерватории, Карина поступила на музыковедческий, который закончила привычным мажорным маршем, получив красный диплом музыкального критика.
В студенческие годы у нее была целая команда платонических поклонников, которых Варвара Львовна, ее колоритная бабушка, называла «сухими одоратерами». В свое время бабушка очень хотела, чтобы внучку назвали Корой – в честь красавицы-жены академика Ландау. Родители, принадлежавшие к ироничному поколению физиков-лириков, услышав это, сначала рассмеялись. Но потом отец новорожденной вспомнил, что в его русской крови присутствуют несколько армянских капель, а у армян есть имя Карина, которое неплохо сочетается с отчеством Андреевна и фамилией Владимирова. Так что теперь, наблюдая за тем, как Кору-Карину наперебой зовут в кино, театры, рестораны и на романтические променады, Варвара Львовна испытывала гордость и считала, что именно она поспособствовала тому, что девочка выросла всеобщей любимицей.
Помимо многочисленных невинно-необязательных встреч, у Карины за время учебы случились два полноценных романа. Первый был похож на петарду. Пока Карина горела сама, в воздухе зигзагом бегал яркий свет. Но как только она чуть-чуть охладела, молодой человек упал вниз отработанным капсюлем, начал припадочно кататься по земле, норовя попасться Карине под ноги, так что ей пришлось довольное долгое время возвращаться домой обходной дорогой…
Во втором романе ей казалось, что они подрядились стрелять из Петропавловской пушки. На расстоянии их чувства были похожи на нормальную влюбленность – они думали друг о друге с нежностью, звонили и говорили приятные слова. Но физическое пересечение их путей почему-то вызывало страшный шум. При встречах они громко ссорились из-за тихих пустяков, бурно мирились, стекла дрожали, случайные свидетели вздрагивали. Со временем Карина пыталась прогнозировать время и силу выстрела, но, как бы она ни старалась, элемент неожиданности всегда сохранялся. Ей это начало надоедать.
Но тут она встретила своего будущего мужа. Это был молодой человек совершенно новой породы: умный, богатый и – ненужный плюс! – красивый. Они прожили вместе пять лет, похожих на бесконечную новогоднюю елку. И среди красных на атласных ленточках шаров и пупырчатых, как огурцы, шишек, ее взгляд иногда обнаруживал ностальгического звездного мальчика в тулупчике навырост, подвешенного к колючей ветке за невидимую петельку на золотом колпаке. Он улыбался, но его черные тонкие брови уползали куда-то в минор, и Карине вдруг становилось грустно – словно она жалела о том, что все сложилось именно так, как она хотела. Или будто предчувствовала, что придет день, и все, что сложилось так, как она хотела, разрушится…
Однажды разноцветной осенью муж сообщил, что хочет пожить один. Она попыталась ответить шуткой – с легкостью побежала по канату, но ее тяжелое сердце не держало баланс, и Карина едва не упала вниз. Схватившись за веревку руками, в самый последний момент, она сохранила присутствие. А потом раскачалась, набрала высоту и начала вращаться вокруг каната на центробежных воспоминаниях…
Они познакомились, когда Карина была на пятом курсе. Ее родители к тому времени уже два года жили в Германии, отец-физик преподавал в университете, а за ней «присматривала» Варвара Львовна.
На зимние каникулы Карина собиралась поехать к отцу с матерью в Гамбург, а вечером накануне отъезда отправилась на день рождения к подруге. Там она и увидела Влада. Приглашенных в небольшом кафе было много – человек двадцать – двадцать пять, но высокий, в черных джинсах и стильном черном свитере Влад как-то сразу выделялся из общей массы. Глаза его в живом освещении свечей мерцали, мобильный телефон то и дело требовал его внимания, но не звонил, а дискретно вибрировал, и Влад выходил из шумного зала поговорить о чем-то безотлагательном и важном.
Понаблюдав за ним минут пятнадцать, Карина подошла к хозяйке вечеринки, имениннице Юле, и сказала:
– Я вот думаю, может, мне стоит выйти за него замуж, а?
Подруга восторгнулась и обалдела. Влад был «самым видным женихом» в солидном адвокатском бюро, куда ее, выпускницу юридического, недавно взяли на работу. Они еще не успели толком познакомиться, и Юля вовсе не строила на его предмет никаких планов, нет! Просто приглашая его на свой день рождения, почему-то немного волновалась. И собиралась при случае с ним потанцевать. А вот Карина сразу решила выйти за него замуж!
«Ладно, не факт, что у нее что-нибудь получится!» – подумала про себя Юля, а вслух произнесла:
– Партия достойная, так что пойдем, я вас познакомлю. Для начала.
– Это Влад, мой коллега, очень хороший адвокат, – немного жеманно представила Юля, – а это Карина, моя близкая подруга, еще со школы…
– Я только что собралась замуж, – бодро произнесла Карина. Пробежала по канату, элегантно держа в руках медный самовар, в котором кипели эти пять слов. И совсем не обожглась.
Влад немного растерялся, но потом включил свой адвокатский политес и церемонно произнес:
– Поздравляю! Хотя вообще-то жаль!
– Насчет «жаль» – напрасно, – еще быстрее побежала по канату Карина со своим резко увеличивающимся в размерах самоваром, – потому что замуж я собралась за вас.
Свидетельница разговора Юля была настолько поражена видом совершенно растерявшегося супермена, что даже забыла про себя назвать Карину «нахалкой».
Они проговорили весь вечер, и в аптекарском соответствии с ролью «жениха» он не отходил от нее ни на шаг. У дверей ее подъезда Влад осторожно поцеловал Карину в губы, потом посмотрел куда-то на землю и спросил, собирается ли она блюсти целомудрие до свадьбы?
– Ну вообще-то мы, конечно, живем не в прошлом веке… Но дело в том, что я… Не то, чтобы я передумала… Нет! Ты действительно потрясающий! Я, пожалуй, даже не встречала людей с таким полным комплектом достоинств – и умный, и красивый, и веселый! И даже богатый… Но кое-что в тебе меня смутило… – Карина выдержала паузу, продолжительностью в один рассеянный взгляд куда-то поверх его головы, а потом продолжила: – Так что я должна к тебе сначала немножко присмотреться…
– А что именно тебя смутило? – слишком быстро спросил Влад. Он старался, чтобы это прозвучало шутя, а получилось обеспокоенно.
– Я пока не могу выразить это конкретными словами, мне нужно подумать, – кокетливо ответила Карина и, дыханием обозначив на его щеке поцелуй, скрылась в подъезде.
На следующий день рано утром она улетела к родителям. А еще через три дня на улице недалеко от их немецкого дома обнаружила Влада, сосредоточенно разглядывавшего номера зданий. Вид у него был достойный, но томный, – словно он утратил способность спать ночами, размышляя над тем, что же такое смутило Карину в день их знакомства.
Даже намека на удивление при виде Влада Карина не проявила.
– Хочешь, я покажу тебе дрессированных немцев? – произнесла она вместо приветствия.
– Хочу, – ответил Влад с выражением, покрывавшим намного больше, чем просто желание смотреть на аборигенов.
Карина взяла его за руку и привела к ближайшему пешеходному переходу. Была суббота, семь вечера. Родители жили в спальном районе – домов много, а машин мало даже в будние дни, по выходным же здесь вообще проезжали два-три автомобиля в час. На пешеходном переходе горел красный. Обозреваемость проезжей части была минимум метров триста – и ни звука, ни тени движения. Трое мужчин и одна спешившаяся пожилая велосипедистка в овечьих кудряшках дисциплинированно дожидались зеленого сигнала.
Постояв у светофора несколько мгновений, Карина улыбнулась и решительно направилась через улицу. Она шла уверенно и энергично, но без спешки, а немцы, которые после секундного замешательства ринулись за ней, суетились и наступали друг другу на ноги. Замыкал шествие Влад. Он покорно и медленно плелся через дорогу и сам себе передавал привет от собаки Павлова. Почему-то страшно при этом радуясь.
Через два месяца он добился своего и привел ее в ЗАГС.
* * *
Внешне жизнь у них была яркая, звонкая, беззаботная. А внутренне ему иногда казалось, что, перейдя через гамбургскую улицу на красный, он сел в нарядный, украшенный ленточками паровозик, который со свистом повез его по мультипликационному ландшафту – трава с кузнечиками, шелестящие шелка осенней листвы, похожий на сахар снег и трогательные первоцветы. Опасностей нет и нет ловушек, но впереди ехидно подмигивает светофор. И что-то неуловимое – не так.
Несколько раз он пытался рассказать ей об этом ощущении, но в ответ Карина подозрительно спрашивала, не разлюбил ли он ее случайно. Он пытался объяснять то, чего сам не понимал, Карина обижалась, прекращала с ним разговаривать и в знак протеста уходила куда-нибудь с подругами.
А однажды совершенно незнакомым голосом Влад сообщил ей, что хочет какое-то время пожить один. А потом собрал свои вещи и ушел.
Его уход поверг ее в странное раздвоенное состояние. С одной стороны, она была уверена, что он пошутил. Ну или возомнил себя Сухомлинским и решил таким образом ее перевоспитать – сделать так, чтобы она безропотно терпела его деловые отлучки, а еще собственноручно пылесосила квартиру и стирала эти бесконечные белые рубашки, отказавшись от платной помощи по дому. Да, он и раньше фактурировал ей равнодушие к их общему быту. В ответ она спрашивала, чем конкретно он недоволен. Но – конкретно – он был доволен всем, потому что помогавшая им по хозяйству Вера не халтурила. Он пытался объяснить ей, что он недоволен ее безразличием к их быту-уюту вообще – а не конкретно недосоленным супом и пылью на книжных полках. К тому же пыли у них нет, а суп они чаще всего едят в ресторанах… На следующий день после разговора Карина покупала роскошный букет цветов. Долго ходила по квартире, выбирая для него наиболее подходящее место и таким образом доказывая собственную увлеченность эстетикой их совместного существования. Влад сначала смеялся, потом немного раздражался, потом снова смеялся…
«Ну хорошо, если ему очень надо, чтобы я сама стряпала и драила окна, я буду стряпать и драить окна! Только пусть прекращает все эти дурацкие воспитательные акции и поскорей возвращается! Он обязан вернуться!» – думала Карина, испытывая легкий голод и глядя в окно, на котором дождь вырисовывал какую-то путанную, похожую на кровеносную, систему.
Но уже в следующую минуту она вдруг с четкостью понимала, что он вряд ли вернется. Потому что новогодняя елка не может длиться вечно. Рано или поздно праздник заканчивается, оставляя в доме множество сухих колючих заноз-воспоминаний.
Ее попросту бросили. Первый раз в жизни. Прежде она никогда не проигрывала. Она по собственной инициативе оставила и человека-петарду, и стрельца из пушки. Не говоря уж о тех бесконечных случаях, когда она назначала свидания и не приходила, отключала телефон или просила родителей что-нибудь соврать. «Неужели теперь он будет от меня прятаться?» – с ужасом подумала Карина. И чтобы проверить это чудовищное предположение, тут же набрала его рабочий телефон.
– Ты заболела? – спросил он, услышав непривычную интонацию в ее голосе.
– Да, у меня температура почти сорок, – мгновенно сориентировалась Карина. – Может, ты заедешь, привезешь мне каких-нибудь лекарств, а то у нас, кажется, все кончилось… Заодно поговорим…
– Карина, мне пока не о чем говорить. Я должен сначала разобраться в себе… Насчет лекарств, посмотри внимательнее, в аптечке все есть, я сам недавно покупал. А молоко и мед тебе привезет Варвара Львовна, позвони ей, – ответил Влад и, не дожидаясь Карининой реакции, повесил трубку.
Карина чуть не разбила телефон от злости.
Минут пятнадцать она ходила по квартире из угла в угол, мучительно соображая, что бы ей предпринять в сложившейся ситуации. В голову лезли исключительно социальноопасные акции, вроде поджога его машины или выбивания стекол в квартире его родителей, где он, судя по всему, жил.
«Я должна, я обязана что-нибудь предпринять, что-нибудь придумать…» – говорила она себе скороговоркой. Минут через пятнадцать истерического перемещения по квартире, ей показалось, что их восемьдесят метров сжались до размеров собачьей будки. Карина схватила ключи от машины, выбежала во двор, завела свою девятку и куда-то нервно рванула.
Октябрь отчаянно молодился. Снисходительное к его потугам солнце появлялось на последних каплях ежедневного дождя. Притворно сердитый ветер гонял в темпе rubato взъерошенных воробьев.
Карине казалось, что в шесть часов – время, когда Влад обычно заканчивал работу – она оказалась возле его конторы совершенно случайно. Ну а раз уж оказалась, имело смысл остаться, посмотреть, как он будет выходить из офиса и попытаться прочитать что-нибудь по его лицу. Она припарковала машину в стороне от солидного подъезда и спряталась под лысеватой, слегка напоминающей ведьму городской ивой.
Влад показался в дверях почти сразу. На нем был длинный бежевый плащ, в руках он держал кожаную папку. Карина стояла далеко от входа, но ей казалось, что она слышит, как хитро поскрипывают его темно-коричневые ботинки. Они покупали их весной в магазине «Рики». Она вообще-то хотела, чтобы он купил другие, но Влад – редкий случай! – настоял на своем. Правда, в прошлом сезоне не надел эту обувь ни разу.
Влад между тем без спешки сел в машину, завел двигатель, опустил стекло, закурил и стал выжидающе смотреть куда-то в ее сторону. «Может, он чувствует мое присутствие?» – подумала Карина и уже собралась поставить после вопросительного знака обнадеживающее многоточие, как тут из офиса вышла коллега Влада Таня. Невысокая, толстоватая, староватая. Но, по слухам, очень умная. Таня подошла к его «тойоте», по-хозяйски открыла дверь, тяжело опустилась на переднее сиденье, после чего машина быстро тронулась с места.
Карине захотелось вырвать из земли худосочную иву вместе с ее корнями. Она пнула дерево ногой по стволу и побежала к машине. Та, как назло, завелась только с третьего раза. Ближайший светофор за это время зажегся красным, и Влад с его мымрой исчезли за поворотом…
Странно, но повидав его, пусть даже с потенциальной соперницей, Карина почему-то немного успокоилась. И потом, тоже мне – соперница! Ему же нравятся стильные девушки, а эта похожа на чернильницу!
Вернувшись домой, Карина почувствовала безумный голод. В бело-голубой пустоте холодильника обнаружились два бело-голубых яйца и не вписывавшаяся в арктическую среду густо-зеленая бутылка шампанского Asti Mondoro. Карина поджарила яйца на тефлоновой сковороде без масла, посыпала их каким-то специями, которые ей привезла из Германии мама, нашла в шкафу соленый крекер и открыла шампанское. Приличные люди, конечно, не обезображивают вкус праздничного напитка банальной яичницей, но ей плевать!
Вообще-то дома они, как правило, только завтракали. Влад считал, что она не любит готовить. Карина возражала: «Я люблю готовить! Но только то, что готовится быстро и красиво! А поскольку таких блюд я знаю мало, то я просто не могу допустить, чтобы ты питался однообразно! Ведь жалованье у тебя приличное, а вокруг полным полно приятных заведений!..» А еще ей казалось, что она успеет настояться у плиты. Ведь когда-нибудь у них будут дети, и ей придется волей-неволей включить хозяйственность на полную мощность. Ну неужели он этого не понимал?
Может, стоит попытаться как-то всё это ему объяснить? Карина подошла к зеркалу и представила, что оттуда на нее смотрит Влад.
– Понимаешь, – начала она вслух, – мне казалось, что мы с тобой пока пионеры. И что пока у нас каникулы. Нам не нужно торопиться домой, мы можем пойти поиграть в бильярд или боулинг, или потанцевать, или сходить в театр… Конечно, я могла бы готовить сама, но ведь в ресторанах так много толковых поваров! Ты же больше всего любишь рыбу, а хорошо приготовить рыбу дома совсем непросто… Это я люблю рыбу? Влад, ты действительно считаешь, что это я люблю рыбу? Не ты?..
От спроецированной реплики Карине стало совсем кисло. «Яичница без масла – еда очень невкусная… Почти как холодные яйца всмятку…» – подумала Карина и в утешение налила себе второй бокал шампанского.
Выпив его залпом, снова посмотрела в зеркало. Да, молодая и очень эффектная женщина – персиковые щеки с ямочками, карие глаза со скромно мерцающей печалью и нескромными, но быстрогаснущими огоньками, которые зажигаются во взгляде от мысли, что ее печаль незаслуженна… Густые блестящие волосы, несимметрично остриженные в дорогом салоне. Ему же нравилась ее экстравагантность! А эта сегодняшняя фефела – стандартная, как канцелярская папка! Карина вообще-то знала, что Влад и раньше с этой Таней общался, но ей и в голову не приходило заподозрить что-нибудь неладное. А теперь она задумалась. Там, в машине, взгляд Влада выражал какое-то незнакомое спокойствие. Плотное, явно привычное, не новоприобретенное. Наверное, оно было присуще Владу всегда – просто он использовал его для отношений другого качества, и она его не видела…
«Видела-не видела! – разозлилась вдруг Карина. – Ну что я тут сижу и накручиваю себя! Ведь из моей засады толком ничего нельзя было разглядеть! Черт знает чего насочиняла! Вместо того, чтобы подумать, что конкретно мне известно о его отношениях с этой Таней!»
Выпив еще немного, Карина вспомнила, что в последний раз видела эту тумбочку почти год назад на предновогодней вечеринке, которую адвокатское бюро устраивало для своих сотрудников. Влад тогда танцевал с ней или нет? Карина-то все время была ангажирована, а вот насчет Тани с Владом… По идее, у них должны быть фотографии с этой party, может, среди них найдется какой-нибудь снимок, который прояснит ситуацию. Карина полезла в шкаф.
В большом полиэтиленовом пакете фотографии лежали навалом. Она уже года три собиралась их рассортировать, разложить по годам и событиям. Кажется, даже альбом купила, но руки так и не дошли.
Немного полистав «воспоминания», Карина высыпала все снимки из пакета на стол. Они упали почти ровным кругом, образовав странный зубастый циферблат – каждая фотография заняла свою секунду, поймав собственный, до укола острый угол. Углы больно царапали память.
Вот они на лошадях в Ольгино. Среди белых кипрских камней. Под какой-то культовой чалмой в Турции. У ее родителей, у его родителей… Когда она наконец нашла фотографию той новогодней вечеринки, кадр уже вовсю размывали слезы. Нет, Влад не танцевал с Таней, он сидел в кресле с бокалом драй-мартини, а хохочущая Карина пыталась отобрать у него оливку.
«Черт, я должна, должна что-нибудь сделать!.. Даже если я была не права, если я что-то проглядела, где-то переиграла – у меня должна быть возможность это исправить!» – убеждала себя Карина.
«Я не могу просто сидеть на месте! Но доставать его звонками или якобы случайными встречами нельзя. Судя по сегодняшнему разговору, его это только разозлит… Нужно выяснить, как изменилась его жизнь за последние несколько дней. А потом действовать наверняка – исходя из новых условий!» – решила Карина.
На столе перед ней лежала раскрытая газета – бесплатная, пачкающая руки грязнуля, которую раз в неделю кто-то исправно опускает в ее почтовый ящик.
«Частный детектив. – Прочитала она первое попавшееся на глаза объявление. – Все виды поручений. Высокая результативность. Полная конфиденциальность». Не дав себе времени подумать, она набрала указанный ниже номер мобильного телефона. Первые три цифры, кстати, совпадали с номером Влада.
После шестого гудка вальяжный мужской голос сказал: «Алло».
– Мне необходима ваша профессиональная помощь, – произнесла Карина, пытаясь сконцентрироваться.
– У вас дело личного плана или бизнес? – с прежней вальяжностью поинтересовался сыщик.
– …Личное, – ответила Карина, вытащив из воздуха небольшую паузу-занозу. А потом добавила: – Мне нужно, чтобы вы установили наблюдение за одним человеком.
– С какой целью?
– Неважно, с какой, – внезапно разозлилась Карина. – Вам нужно просто понаблюдать за тем, кого я вам укажу! Остальное вас не касается!
– О'кей! – с неожиданной энергией в голосе ответил детектив. – Решительный настрой клиента есть, между прочим, залог успеха нашего нелегкого дела. А дело, как я понял, у нас срочное, верно? Поэтому никуда не отлучайтесь, я вам перезвоню в течение часа.
«Как же он перезвонит, если он не спросил у меня номер телефона?» – подумала Карина. Потом снова посмотрела на себя в зеркало, махнула рукой, изобразила кикимору и налила в бокал еще Asti Mondoro.
Телефон зазвонил ровно через пятнадцать минут:
– Владимирова Карина Андреевна? – спросил недавний голос в его энергичной редакции. – Вы не передумали пользоваться нашими услугами?
– Нне знаю… кажется, ннет! – ответила Карина.
И вместо того, чтобы удивиться или испугаться оттого, что какому-то сомнительному сыщику известно ее имя и номер телефона, – вместо этого Карина почувствовала вдруг непреодолимое желание спеть песню про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука».
– В общем, домой вы меня, наверное, не пригласите из понятных мне соображений безопасности, – продолжал между тем детектив. – Но если вы действительно не передумали, выходите во двор! Моя машина стоит у последней парадной вашего дома, а я сижу рядом на скамейке. Без розы в петлице, но с классическим «Огоньком» в руках.
– Хорошо, я спущусь минут через пять – десять, – сказала Карина.
Логика, вытесненная алкоголем и переживаниями куда-то в погреб подсознания, путанно подсказывала ей: мол, ничего сверхъестественного! У этого типа наверняка мобильник с определителем номера, а сам он явно бывший мент, сохранивший все производственные связи. После того, как номер высветился на его аппарате, он позвонил в милицию и поинтересовался, по какому адресу расположен данный телефон, и кто там проживает.
«Расторопный! – подумала Карина. – Но в конце концов это доказывает только то, что мне повезло и я попала на профессионала!»
Она освежила косметику, причесала волосы, надела любимый красный плащ с большим капюшоном. А перед самым выходом вылила в бокал остатки шампанского и выпила залпом.
«Клиент дозревает… Будь готов!» – строго сказала Карина самой себе. И сама себе, как в кино, ответила: «Всегда готов… идиот!»
– Я вас почему-то именно такой и представлял, – быстро проговорил невысокий крепкий молодой человек.
– Да, – хмыкнула Карина. – За пятнадцать минут вы успели узнать адрес, телефон и имя… А еще вы успели меня представить, и даже не обманулись в своих представлениях… Вы случайно не прототип Майкла Хаммера, или как там его…
– Меня зовут Виктор Бельский. И чтобы еще раз подтвердить собственную профессиональную состоятельность, попробую предположить, что следить мы с вами собираемся за Владиславом Игоревичем Березиным, вашим законным супругом. Я прав?
– А сколько это будет стоить? – с неожиданным раздражением спросила Карина.
– Давайте сначала определим объем поручения, – предложил Виктор.
– То есть?
– Расскажите мне о ваших пожеланиях более детально. Что конкретно вам нужно разузнать о вашем муже?
– Ну… чем он занимается, куда едет после работы, с кем встречается… Я видела его с одной девушкой, его коллегой. Не исключено, что их сотрудничество переросло в более тесные взаимоотношения…
– Он живет дома?
– Мы поссорились, – ответила Карина, почувствовав, что вот-вот взорвется из-за всей этой густомаразматической ситуации. Двор, скамейка, о которую трется местная дворняга Лада, хулиганского вида голубь, качаясь, ковыляет мимо, соседи выгуливают собак. А она сидит и рассказывает о том, что поссорилась с Владом, совершенно незнакомому человеку. И потом «поссорилась»! Никто ни с кем не ссорился! Он просто от нее ушел!..
– Какова ваша конечная цель? – спросил Виктор.
– В одной книжке, которую я читала в детстве, было написано, что насчет «цели» – это либо к попам, либо к очень юным комсомолкам, – сердито ответила Карина.
– Карина Андреевна, – терпеливо произнес Виктор, – я имею в виду, с какой целью вы собираетесь следить за мужем? Вы хотите его вернуть? Вы хотите обезвредить соперницу? Или собрать улики, которые помогут вам при разводе?
– Не знаю, – ответила Карина, капитулируя. Маскируя Каринины слезы, с неба услужливо закапал дождь.
– Дело в том, что если вам нужно просто удовлетворить свое любопытство, если у вас нет необходимости собирать доказательства класса А… То с учетом того, что моя работа практически не будет связана ни с каким риском, я смог бы предложить вам минимальный тариф.
– А минимальный это сколько?
– Минимальный – это всего двести пятьдесят долларов в день. Уверяю вас, ни одного приличного специалиста вы за эти деньги не отыщите.
– А что я за них получу? – поинтересовалась Карина, почему-то вспомнив, как на рынке в Египте они с Владом выторговывали у веселого араба паранджу.
– За эти деньги вы получите напечатанный на компьютере подробный отчет обо всех встречах и перемещениях клиента, плюс несколько подтверждающих фотографий. Разумеется, всякие накрутки, вроде записи разговоров, оплачиваются отдельно. Живой треп стоит дороже телефонного. Но объем дополнительных операций, как правило, определяется после двух дней общей наружки. Если в этом в принципе возникает необходимость.
– То есть получается, что за два дня «общей», как вы говорите, «наружки» я должна заплатить вам пятьсот долларов! – подытожила Карина.
– Получается, что так, – согласился Виктор.
– Я подумаю. – Карина встала и, не прощаясь, направилась в сторону универсама, вспомнив, что страдания страданиями, но едой запастись надо.
– Подумайте, Карина Андреевна! Подумайте! – бросил ей вслед сыщик. – Я буду ждать вашего звонка.
«Да уж, пустяк – всего-то полтыщи долларов!» – подумала Карина, вернувшись домой. Деньги как таковые ее никогда не интересовали, с деньгами у нее всегда все складывалось как-то само собой. По крайней мере, до недавнего времени. А как будет теперь? На одни гонорары за ее статьи, разумеется, нельзя будет существовать как прежде. В принципе, она может давать уроки английского или французского – Карина владела обоими вполне прилично. Но этого все равно будет недостаточно…
У нее осталась кредитная карточка Влада, и она расплатилась ею в магазине. «Он, наверное, скоро закроет кредитку, подумала Карина. – Так, может, стоит оплатить по ней детектива? Понаблюдать за Владом за его же счет!» Она чувствовала себя ужасно кровожадной.
«Хотя чего, собственно, я добьюсь, если буду «все» знать? – Кровожадность неожиданно начала линять куда-то в грусть. – И потом, что конкретно может означать это самое «все»? Что у него роман с этой занудой? Мне станет легче, если я буду твердо знать, что она по утрам варит кофе и тащит чашку ему в постель? А он млеет оттого, что его так куртуазно обслуживают… Тоже мне – Цезарь с Клеопатрой!..»
Карина вспомнила одноклассника Женьку, который от любви к ней в восьмом классе всерьез намеревался застрелиться. Из отцовского охотничьего ружья. Он тогда вынес завернутое в детское одеяло оружие во двор, потрясал им в воздухе, как повстанец, и требовал у Карины взаимности. Соседи вызвали милицию, их обоих погрузили в зарешеченную машину и увезли в отделение. Туда же своим ходом примчались родители. В целом, история довольно быстро перекочевала из трагики в комику, так как выяснилось, что ружье было не заряжено, и патроны хранились отдельно. Рослого взрослого Женьку отец тем не менее принародно выпорол. Каринины же родители во время публичных разбирательств больше молчали и делали страшные глаза, а потом дома на кухне громко смеялись и говорили что, кажется, вырастили Клеопатру…
От этих воспоминаний Карине стало немного легче. Она импульсивно набрала Женькин телефон. Его цифры сидели в памяти на маленьком, но прочном крючке где-то по соседству с совершенно ненужной во взрослой жизни формулой площади круга или каким-нибудь правилом буравчика.
После пятого гудка ответил сонный женский голос. Пока Карина соображала, стоит ли ей называться одноклассницей и спрашивать Женьку в двенадцатом часу ночи, где-то рядом со вторым вялым «алло» заплакал ребенок. Приподнявшееся было настроение снова стремительно рухнуло.
Карина попыталась читать, но слова не складывались в предложения. За окном предостерегающе звучал тамтам дождя и время от времени по-поросячьи визжали тормоза полуночных автомобилей.
Когда она наконец уснула, ей приснилось густое темно-зеленое поле и маленькая едва заметная голубая стрекоза, висевшая в воздухе на трепете своих прозрачных крыльев. У самой кромки поля, опираясь на ненадежную иву, стоял велосипед из ее детства – синяя металлическая рама, на ней золотыми буквами выписано слово «Орленок». У велосипеда было рыжее, вытертое, похожее на лису Алису седло… А где-то вдалеке звучал мощный баритон мотора, и ветер, как глашатай, сообщал о приближении роскошного никелированно-черного кадиллака, за рулем которого сидел Влад, рассуждавший вслух о превратностях любви голосом следователя Бельского.
Она проснулась со странным ощущением – словно где-то в полотне ее сна были спрятаны загадки будущего, которые она почти разгадала. Но просыпаясь и разминая сознание, она случайно стерла смысл сна из памяти и поэтому чувствовала себя обманутой.
В кухонное окно заглядывало лицемерно теплое октябрьское солнце. Латунная джезва, уловив театральность освещения, вовсю бликовала и притворялась золотой. Карина вспомнила их неторопливые субботние и воскресные завтраки. Тщательно копируя воспоминание, начала накрывать стол. На двоих. В веселой желто-синей тарелке приготовила фруктовый салат, с ювелирной аккуратностью нарезав банан, апельсин, курагу, чернослив и финики и залив их йогуртом. Сварила два яйца всмятку, на тминных хрустящих хлебцах приготовила бутерброды – немного творога, кружок помидора, кружок огурца, веточка петрушки и специи. Расставила посуду красиво и композиционно, поместив в центре свечу и сияющую джезву, из которой едва не убежал крепкий с ярким запахом кофе. Потом отошла чуть в сторону, придирчиво посмотрела на второй прибор, вздохнула, покрутила пальцем у виска и решительно спрятала в шкаф часть сервировки, предназначавшуюся «тому парню». После чего не без аппетита съела все приготовленное на двоих. После завтрака ей казалось, что Влад ее больше совершенно не интересует… Хотя, пожалуй, она не прочь как-нибудь ему отомстить…
На дне синей кофейной чашки будущее цвета мокрой земли прятало свои густые тайны. Вчерашняя газета-грязнуля лежала на полу под столом. Карина подняла ее, увидела объявление детектива Бельского, усмехнулась и перевернула страницу. Рядом с предложением «дорого купить антиквариат и прислать оценщика на дом» большими буквами предлагалась «МАГИЯ», а потом буквами помельче: «Приворот. Работа в причине и карме. Возврат любимых, коррекция любовных отношений. 100 % -я гарантия. Потомственный колдун, магистр белой магии Дэль».
Снова не дав себе времени задуматься, Карина набрала номер.
На другом конце провода ответила дама, явно намеревавшаяся на цыпочках пробраться к звонившему в душу.
– Я по объявлению. Вы можете навести порчу по телефону? – деловито спросила Карина.
– По телефону мы услуги не оказываем. Так, чтоб вам было известно, поступают только мошенники! – вкрадчивая дама явно демонстрировала обиду. – И потом, что значит «навести порчу»? Вы слышали о законе бумеранга? О том, что зло возвратно?
– Слышала, – ответила Карина воинственно. – Я как раз и собираюсь вернуть зло тому, кто первый мне его прислал.
– Видимо, у вас просто возникли проблемы, которые кажутся вам трудноразрешимыми. – Дама погасила все прочие интонации и зазвучала утешающе и мудро. – Если вы действительно нуждаетесь в помощи, я могу записать вас на прием к магистру. Скорее всего, он сможет вам помочь…
– А сколько будет стоить его помощь? – спросила Карина.
– Первая консультация у нас всегда бесплатно. А стоимость всей программы определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Есть одно время на сегодня, в семнадцать тридцать, и еще два приема завтра – ровно в полдень и в восемь вечера. Вам что-нибудь подходит?
– Подходит. Сегодняшнее, – мрачно ответила Карина. Потом записала адрес, выводя на серых полях газеты буквы в дурацких кружавчиках. Вежливо поблагодарила даму, попрощалась, повесила трубку. И в ту же секунду разрыдалась.
День был, как и вчера, дождливым. И, как и вчера, дождь иногда брал непродолжительные, но солнечные паузы. Каринино настроение менялось в точном соответствии с погодой – слезы претендовали на родство с дождем, и Карина начинала плакать, как только на подоконник падала первая тяжелая капля. Но когда выходило солнце, она пыталась над собой иронизировать, думала о чем-то другом и даже не без интереса посмотрела передачу про подводную одиссею команды Кусто.
В половине шестого она появилась в приемной магистра белой магии. Это был обыкновенный полуподвал в старом доме на канале Грибоедова. Низкие окна в решетках, стены, выкрашенные белой краской с наружной электропроводкой, похожей на позумент в муке. В прихожей висело овальное зеркало. Карина взглянула на себя. Выглядела она неплохо, но как-то прозрачно. Как поэтесса.
– Кто бросил, муж или друг? – спросил с порога магистр.
Немного помолчав, Карина ответила:
– Вы, конечно, проницательны, но до милиции вам далеко. – Колдун приподнял вверх бровь, изображая вопросительный знак. – Я вчера пыталась нанять сыщика. Позвонила по объявлению, сказала, что мне нужна его профессиональная помощь. А через пятнадцать минут он был у моего дома с полной информацией: кто я такая и кого я собираюсь искать.
– Ээ, дорогая моя, – покачал головой магистр, – милиция, она по части тел. А с телом всегда намного проще, у него есть паспорт и прописка… А мы по части душ… Так кто бросил? Муж?
– Муж. Мы даже в церкви венчались.
Карина сама не понимала, зачем добавила про церковь. Она, конечно, верила во что-то неясно-божественное, но культовые места посещала исключительно как туристка. Они с Владом действительно венчались, но только потому, что ей был любопытен сам ритуал. А теперь вот она взяла и зачем-то предъявила это факт магистру, как какую-то мелкую, но козырную карту.
Дэль между тем стал водить руками вокруг Карины и закатывать глаза к потолку. Под потолком летал сделанный из щепы голубь с флегматичной осенней мухой на крыле.
– В принципе, ничего страшного! Но аура в некоторых местах слабее нормы. Впрочем, в этом нет ничего удивительно, если учесть, что в последнее время вы, судя по всему, лишены привычной для вас энергетической среды. – Магистр звучал как врач в районной поликлинике.
– Это еще консультация, или это уже что-то стоит? – бдительно поинтересовалась Карина.
– Барышня, не переживайте, я не собираюсь красть ваши деньги.
В голосе «потомственного мага» прозвучали южноеврейские интонации. «А «доктор» у нас родом из Одессы», – подумала Карина. Не разубеждая ее в этом, он продолжал:
– Насчет гонорара мы обычно всегда договариваемся с клиентами. И потом стоимость в значительной степени зависит от того, что вы хотите поиметь в качестве результата.
– Как это «поиметь в качестве результата?» – не удержалась и передразнила Карина.
– Вам нужно определить для себя, хотите ли вы избавиться от ощущения того, что вас бросили? Или вам нужно вернуть вашего супруга во что бы то ни стало, даже против его воли? Или, может, вы стремитесь к покою, или к новому чувству, или к страданию?..
– Ну если вы действительно ясновидящий, то вы сами должны понять, что мне от вас надо.
– Да, так некоторые мастера поступают, – согласился Дэль. – Но я не сторонник этого метода. Я предпочитаю, чтобы человек вначале сам себя понял. Если это произойдет, остальное будет, как говорится, делом техники.
– Вот как! И какую же «технику» вы тогда применяете? – С ехидцей спросила Карина.
– А разную, – без затей ответил Дэль. Лично мне больше всего нравится симпатическая магия. Она работает со связями.
– С порочными? – вставила Карина. Маг оставил ее реплику без внимания:
– Понимаете, есть закон симпатии, согласно которому все вещи связаны между собой невидимыми нитями. Нужно только знать, за какие нити подергать, чтобы получить желаемое… Симпатическая магия сложна и требует предельного знания ситуации. Но мне она, как я уже сказал, нравится больше всего…
Карина вдруг растерялась. Маг как-то незаметно преобразился, ничего одесского в нем больше не было и в помине, теперь он скорее походил на очень современного священника.
– Но вы, к примеру, можете предпочесть гомеопатическую магию. Главный слоган ее сторонников: «подобное порождает подобное». Эта магия очень действенна, но и ответственность здесь большая. Самый известный ритуальный пример из гомеопатической магии – когда растопление восковой фигурки человека вызывает его смерть…
– Какой ужас! – прокомментировала Карина.
– А вот контагиозная магия очень удобна, особенно, когда необходимо от чего-либо излечиться. Она чем-то похожа на симпатическую. Ее принцип гласит, что если вещи однажды вступают в контакт, то они продолжают оказывать воздействие друг на друга даже на расстоянии. Например, рана может волшебным образом исцелиться, если натереть целительной мазью меч, которым рана была нанесена…
«Надо было оставить его прибор за завтраком», – с грустью подумала Карина. А вслух произнесла:
– А насчет расценок? Какая из магий подешевле?
Дэль открыто улыбнулся:
– Результат будет стоить до пятисот долларов независимо от школы.
Карина посмотрела в окно. Низко, у самой воды пролетела острокрылая чайка.
– Я подумаю и перезвоню, – с извиняющейся интонацией произнесла Карина и встала, намереваясь уйти.
– Подумайте и перезвоните, – по-прежнему улыбаясь, ответил Дэль.
– Вас ведь на самом деле зовут каким-нибудь Михаилом или Александром, да? – зачем-то спросила Карина у самых дверей.
Дэль не ответил – просто поднял указательный и средний палец в странном нерусском благословении. Карина пожала плечами.
Когда за ней закрылась старая, скрипучая, но свежепокрашеная белой краской дверь, магистр белой магии Дэль подошел к книжному шкафу, открыл нижний ящик, вытащил оттуда бордовый потрепанный паспорт. Лакиза Михаил Александрович. А Дэль – это цыганский бог, на которого хозяин паспорта так нескромно покусился несколько лет назад, когда его уволили из Института энергофизических исследований. «Девчонка-то – как ящерица с острым глазом – подумал он. У таких все несчастья имеют обыкновение отваливаться, как хвост – безо всякой астральной помощи».
Михаил Александрович вытащил из шкафа бутылку джина, плеснул в короткий четырехугольный бокал и выпил залпом. Потом сел за стол, мысленно представил лицо Карины. Начертил перьевой ручкой на белой бумаге большой круг, в центре написал «500» и начал совершать приворотный ритуал, в котором сердца должны были соединиться только по доброй воле, так, чтобы никто при этом не остался в обиде, и чтобы ничье сердце не страдало…
В глубине души Дэль совершенно не верил в то, что все это имеет хоть какой-то практический смысл.
Карина вернулась домой в еще более удрученном расположении духа. Она слонялась по квартире, не представляя, чем себя занять. Ей вдруг захотелось в какое-нибудь шумное людное место. И словно угадав ее внезапное желание, тут же зазвонил телефон.
Это была Юля, та самая школьная подруга, на дне рождения которой они познакомились с Владом.
– Как жизнь? – спросила она беззаботно.
– Нормально, – ответила Карина, пытаясь держать интонацию, – только как-то скучновато.
– У нас тоже ничего грандиозного не происходит, – согласилась Юля. – Хотя как раз насчет скуки: у меня тут на днях было такое кислое настроение! И я говорю Гагику: «Мне скучно, бес…», а он в ответ: «Дарагая, ну бэс чего тебе скучно, я же стараюсь все твои желания удовлетворять…» Представляешь, какое он у меня чучело, да?
Года три назад Юле поручили первое самостоятельное дело. Ей нужно было защитить колоритного армянина, которого обвиняли в нарушении правил торговли и уклонении от налогов. После того как процесс был благополучно завершен, она вышла за подзащитного замуж и теперь работала юристом в фирме мужа. Гагик был веселый и щедрый, но по-русски говорил со страшным акцентом.
– Привет мужу! С ним всегда весело… – произнесла Карина. Потом помолчала немножко и добавила: – тебе.
– В смысле, мне весело, а ты бы повесилась? – переспросила Юлька и искренне рассмеялась. – Ты права, мне кажется, что никто другой с этим типом не ужился бы. А как Влад?
– Нормально. Как всегда. Очень занят. – Быстро и отрывисто произнесла Карина.
– Еще не поздно, сходим куда-нибудь? – предложила Юля.
– Сегодня не получится, может, на следующей неделе… – ответила Карина и, сославшись на что-то невнятное, попрощалась.
«Теперь же придется как-то со всеми объясняться» – с тоской подумала она, повесив трубку. От желания выйти куда-нибудь в люди не осталось и следа.
Походив из угла в угол еще примерно полчаса, Карина вспомнила, что в понедельник ей нужно сдать в редакцию журнала «Новое искусство» заказанную статью о молодом композиторе-исполнителе. Она была на нескольких его концерта, последний они слушали вместе с Владом. Музыкант им обоим понравился, и хвалебная рецензия тогда сама собой сложилась у нее в голове. Оставалось только перенести ее на бумагу. Но последние события почти полностью стерли впечатление от молодого автора.
Карина включила компьютер и начала медленно стучать по клавиатуре, мучительно подбирая слова и еще более мучительно складывая их в предложения. Она просидела до ночи и чуть не уснула за работой.
Ночью ей снился сон без событий, но по форме пикообразный, как кардиограмма. Завтракать утром не хотелось, Карина сварила кофе, взяла банан и решила перечитать написанную вчера статью.
Это было отвратительно. Каждая вроде бы положительная фраза содержала слегка отдающий дегтем намек – пассаж про элементы экзотического хроматизма в творчестве композитора, и тут же зачем-то замечание о том, что вершины Стравинского и Скрябина по-прежнему недосягаемы; похвала исполнительской технике, но при помощи выражения «автоматическое совершенство»…
Писать отрицательные рецензии Карина не любила, но, при необходимости, умела быть острой. Сейчас необходимости не было – ей действительно нравился этот Феликс Райзман! А она еще всегда тайком посмеивалась над своими коллегами, ядовитыми дамочками, которые отрабатывали собственную неудовлетворенность в едких критических статьях, где все слова по отдельности сладкие, а общее впечатление – как пилюля. Досмеялась – теперь сама ничем их не лучше.
«Вот так нормальные люди и превращаются в злобных психопатов», – подумала Карина.
На столе перед ней лежала все та же газета. «В сложной ситуации вам может понадобиться помощь опытного психоаналитика» – увидела Карина. И, даже не дочитав объявление до конца, набрала указанный номер.
Ответил немного гнусавый голос, похожий на тот, который в советское время дублировал кино о жизни при загнивающем капитализме.
– Ваши услуги стоят меньше пятисот долларов? – спросила Карина вместо приветствия.
– О, деточка, вижу у вас все очень серьезно… – не растерялся психоаналитик. – Мои услуги стоят триста рублей за сеанс в поликлинике, и двести у меня на дому.
– А почему на дому дешевле? – подозрительно спросила Карина.
– Потому что, во-первых, без НДС. А во-вторых, я всегда предлагаю скидки, если мне удается избежать проезда в этом чудовищном муниципальном транспорте…
– Можно я приеду к вам на дом прямо сейчас? – спросила Карина.
– Конечно, можно! – с готовностью отозвался психоаналитик – Новоадмиралтейский канал, два квартира пять. По Английской набережной – до упора, поворачиваете вдоль канала, первый дом слева, вход под арку.
Через час Карина стояла у указанного места. Место было странным – в нескольких метрах от набережной с ее нарядными дворцами и яхтами-иностранками располагался двор-колодец и покосившийся дом. Фасад у дома облез, а первый этаж почти полностью ушел в землю. До входной двери нужно было подниматься по лестнице, сделанной из панцирных кроватных сеток.
Психоаналитик оказался маленьким мужичком с острыми глазками.
– Небось, любовь? – спросил он у Карины с порога.
– Не знаю, наверное, – честно призналась она.
– Взаимоотношения – штука сложная. Существование вдвоем это как часы. Масса колесиков, винтиков. Если что-нибудь выходит из строя, время прекращает движение.
– А колесики и винтики – это что? – спросила Карина.
– Колесики и винтики – это комплексы, которые человек пытается отработать, инфантильные мечты, которые он пытается реализовать. И детские травмы, которые он пытается залечить… У вас были в детстве травмы?
– Да. Однажды я упала с велосипеда и сломала ногу, – ответила Карина.
Психоаналитик усмехнулся.
– И все?
– И все.
– Наверное, у вас не развит механизм переживания поражений…
Она вдруг разозлилась на саму себя. Заявилась в дом к незнакомому человеку за какой-то психоаналитической помощью! Идиотка! Слава богу, что он хоть маньяком не оказался!
– Знаете, я, наверное, зря к вам пришла, – произнесла Карина. А потом добавила, точно копируя интонацией последнюю фразу, которую ей сказал Влад: – Мне нужно сначала самой во всем разобраться.
– Это правильно, – согласился психоаналитик. – Возвращайтесь только в том случае, если у вас после этого останутся какие-нибудь неясности! Тогда я буду рад вам помочь.
Когда Карина вышла на улицу, от внезапной злости не осталось и следа. Теперь ей было грустно и хотелось плакать.
«Ну и куда мне теперь деваться? Дома я зверею от одиночества. Друзьям придется что-то объяснять, сил на это у меня нет. От помощи незнакомого психоаналитика я только что сама отказалась…» – В углу двора стоял старый ржавый трогательный «москвич» с колесом на попе. В первый раз она его не заметила. Постояв какое-то время посреди унылого мокрого двора, села в машину и поехала домой.
«Он должен позвонить! Должен! Обязан! У него было достаточно времени для того, чтобы «разобраться в себе»! Если он не позвонит мне сегодня вечером, я позвоню ему сама. А если его не окажется дома, я не знаю, что я сделаю!.. Я киллера найму!»
Когда в квартире раздался телефонный звонок, Карине показалось, что это в нее невидимый наемник выстрелил из снайперского ружья. С трудом сдерживая дрожь, она сняла трубку.
– Привет, Карина! Это Виктор, сыщик. Я тут подумал-подумал и решил куда-нибудь вас пригласить.
– Мило с вашей стороны, – оперативно отреагировала Карина, взяв себя в руки.
– А можно на ты? – спросил детектив и, не дожидаясь ответа, продолжил:
– Я тут хожу и думаю: надо же, такая девушка страдает из-за какого-то придурка! Я ни на что не претендую, не думайте! – «Ты» без Карининого позволения детективу давалось плохо.
– Просто почему бы двум свободным людям не провести вместе вечер, а? Можно куда-нибудь сходить, в «Кристалл-палас» там или джаз послушать. А потом поужинать. К тому же можешь не волноваться, твой благоверный в двадцать два пятнадцать улетит в Москву. Я заезжал к ним в контору сегодня по своим делам и случайно узнал об этом. Кстати, у меня еще кое-какая информация имеется. За ужином могу рассказать. И мзды за это, заметь, не возьму…
– Я согласна, – ответила Карина быстро. – Давайте в восемь тридцать на углу Садовой и Невского.
При первой встрече Карина действительно произвела на детектива весьма приятное впечатление. А уж когда Виктор узнал, что она барышня светская – для всяких непростых журналов статьи пишет, да к тому же богатая – родители-ученые уже лет десять живут и работают в Германии, – тут он твердо решил заняться ею всерьез. Вообще-то он не рассчитывал, что ему удастся с первого раза пригласить ее куда-нибудь, и теперь от неожиданного успеха чувствовал легкое головокружение.
Карина сосредоточенно собиралась на свидание. «На сегодняшний вечер это просто спасение! – заявила она сама себе. – Объяснять ему ничего не нужно, притворяться тоже не придется, он же в курсе ситуации…»
Она приняла душ, нанесла хитрую косметику – краски были практически не видны, но ощущение собственной привлекательности становилось гораздо сильнее. Надела серый свитер, узкие черные кожаные брюки и такую же куртку, стильные ботинки на высоких каблуках, схватила черный зонтик и вышла из дома, громко хлопнув дверью.
На улице быстро поймала такси. Открыла дверь, села на переднее сиденье. На долю секунды задумалась, а потом решительно произнесла:
– В Пулково-1, пожалуйста.
Заплатив за билет кредиткой Влада и зарегистрировавшись, Карина спряталась за газетным киоском. Ей не хотелось, чтобы Влад заметил ее раньше времени. Будет лучше, если они встретятся в самолете – в ограниченном пространстве обостряются и чувства, и память, и она легко сможет найти нужную тональность разговора.
На посадку в самолет она пошла самой последней. Народу было много. Уже сделавший одну ходку до авиалайнера автобус и во второй раз был полон. Карина по-прежнему старалась держатся незаметной.
От мобильных телефонов самолет Санкт-Петербург – Москва звучал, как обезумевший механический оркестрион, перепутавший свои перфоленты и заигравший весь репертуар одновременно. Бритому бандиту дозванивались Сороковой симфонией Моцарта, циничному типу в бериевских очках – фугой Баха, а длинноногой модели – ламбадой. У телефона Влада, кстати, звонок был не музыкальный, а простой, почти дверной – один короткий, один длинный…
Карина нашла свое место – где-то в середине большого салона, с той стороны, где два кресла, у прохода. Села и начала осторожно осматриваться по сторонам. Поблизости Влада не было. Она привстала, пытаясь обнаружить его дальше, но публика еще не устроилась, многие укладывали пальто и плащи в верхние багажные отделения и пристраивали под сиденьями портфели и сумки.
– Вы кого-нибудь потеряли? – услышала Карина. Рядом с ней сидел молодой человек.
Даже не взглянув на него, Карина вдруг огрызнулась:
– А это совсем не ваше дело!
– Конечно не мое, – согласился сосед, – просто мало ли, я смог бы помочь…
Вместо ответа Карина сердито выдернула свой ремень безопасности, застегнула его и, ожидая взлета, уставилась в расположенный чуть впереди иллюминатор. В темноте предупредительно и обольщающе мерцали взлетные огни.
Пассажиры наконец расселись по своим местам, дисциплинированно пристегнулись и выслушали инструкции стюардессы. С азартом пробежавшись по взлетному полю, самолет легко поднялся в мокрое мягкое небо и быстро набрал высоту.
Едва голос бортпроводницы в динамике позволил расстегнуть ремни и пообещал кофе и чай, Карина встала и отправилась на поиски Влада.
Сначала она осматривала ряды бегло. Потом пристально. Среди сидящих пассажиров Влада не было. Минут пять она караулила у занятого туалета, но оттуда вышла какая-то сердитая дамочка. Карина нахально заглянула к пилотам – у Влада ведь так много знакомых, и среди них запросто мог бы оказаться какой-нибудь авиатор. В кокпите посторонних не было.
Совершенно расстроенная, Карина вернулась на свое место. В проход выкатили громоздкую тележку с кофейниками и чайниками. Карине захотелось выпить чего-нибудь покрепче.
– Хотите коньяку? – спросил сидевший рядом молодой человек ровно через мгновение после того, как она осознала свое желание.
– Хочу! – ответила Карина, не взглянув в сторону соседа.
Он вытащил из стоявшего на полу рюкзака никелированную флягу и два бумажных стаканчика. Разлил коньяк и протянул Карине.
– Меня, между прочим, зовут Денис. А вас?
– А меня Маруся, – ответила она не очень приветливо.
– Очень приятно, Маруся! Давайте за полеты в темноте!
Никак не обозначив одобрения, Карина выпила коньяк залпом.
– Вам нравится летать по ночам? Мне, к примеру, очень! – продолжал между тем попутчик.
Повернувшись наконец, Карина увидела молодого человека лет тридцати. Он сидел в задумчивой позе, склонив голову на бок, и чем-то напоминал васнецовкую Аленушку у болотца. Глаза у него были темно-зеленые, а ресницы очень густые, рыжие и чуть примятые, навевавшие воспоминания о каком-нибудь особо урожайном лете.
– Когда я лечу куда-нибудь ночью, у меня всегда складывается впечатление, что я проваливаюсь в черную дыру вне времени… И после этого у меня обязательно начинается какая-то новая жизнь…
– Вы что, поэт? – спросила Карина скептически.
– Я художник, – ответил он. – А вы кто?
– Не скажу! – резко произнесла Карина. И снова начала смотреть по сторонам – в неожиданно ожившей надежде, что Влад все-таки здесь, просто она его проглядела…
Встала и еще раз прошлась по салону. Вернулась злая, поняла, что это дразнился коньяк, выпитый залпом.
Ей показалось, что пятьдесят минут полета до Москвы пролетели ровно в пятьдесят раз короче. Не попрощавшись с попутчиком, Карина стремительно выбежала из самолета, словно в Москве ее ждали очень срочные дела.
Оказавшись в здании аэропорта, вдруг растерялась – и куда теперь? Наверное, нужно купить билет на обратный рейс тем же самолетом? Или, может, навестить московскую тетку? На часах было начало двенадцатого. Чтобы добраться до Большой Полянки, понадобится часа полтора, – приличные родственники без предупреждения в такое время не объявляются.
Нет, какая же она все-таки идиотка! Зачем она сюда притащилась?
В голове вдруг мелькнула похожая на молнию мысль: «А вдруг с Владом случилось что-нибудь серьезное? Авария по дороге в аэропорт?!» Впрочем, «молния» сверкнула и исчезла, вытесненная раскатами грома: «Господи, я же полноценная дура! Послушала агента национальной безопасности, который меня явно надул! Хорошо хоть ужинать с ним не пошла!»
Кое-как успокоившись, Карина вспомнила, как тоскливо ей было одной в квартире, и решила обратным рейсом домой не возвращаться: «Поеду к тетке, она будет рада, несмотря на неурочный час. Завтра погуляю по Москве, а к вечеру вернусь домой «!Авророй».
Приняв решение, она вышла на улицу и стала в очередь на маршрутку до метро.
– Карина! Карина Андреевна! – донеслось внезапно из остановившегося такси. Из машины вышел ее попутчик. – Я знаю, что вы хотели, чтобы я называл вас Марусей. Но я стоял у вас за спиной, когда вы покупали билет, и подсмотрел ваше имя в паспорте. – Денис открыто улыбался. – Давайте я вас довезу, куда вам нужно. Мне это по пути.
– А откуда вы знаете, куда мне нужно?
– Я понятия не имею, куда вам нужно! Просто у меня у самого нет определенного маршрута. Так что мне в любом случае по пути. Особенно в вашей компании! Поехали!
Поддавшись на космическую интонацию, Карина села в машину.
* * *
В четвертом часу утра душа Карины была наполнена теплом новорожденного чувства. Они прошли пешком весь центр Москвы. Видели, как сладко дремлет теплая осенняя ночь в узких люльках московских переулков. Как вальяжно почивает каменное купечество Замоскворечья. Как отдыхает мощная площадь, прихрапывая революционными и босяцкими мелодиями.
– Зачем ты прилетел в Москву? – спросила Карина.
– Сам не знаю! – ответил Денис. Столичное небо просыпалось нехотя. – Стих такой на меня нашел. И потом я действительно люблю летать по ночам. И после ночных полетов в моей жизни действительно что-нибудь меняется… Вообще-то у меня есть здесь одно дело, но оно запросто могло бы подождать…
В одиннадцать утра – после бесконечных прогулок, после ночных кафе, шумных с танцами и подозрительно тихих – Денис и Карина были очищены усталостью полностью – до той пустоты душевной полости, которую хочется заполнить чем-то новым и свежим. Но из последних физических сил они решили выполнить то самое необязательное «дело», которое послужило одной из причин их пересечения.
Приехали в небольшой художественный салон на Пятницкую.
– Ты посмотри пока, а я быстро! – сказал Денис и исчез за дверью с табличкой «Администрация».
В салоне было множество вещей и вещиц. Совершенно разных и по настроению, и по художественному уровню. Повертев в руках керамическое сердце, которое незатейливо называлось «Двое» и при желании разъединялось на две однобоко пузатые чайные чашки, Карина заметила на стене картину. Зеленая трава, в траве несколько суховатых кленовых листьев, рыжая стена, у стены велосипед. Велосипед старинный трехколесный – переднее колесо большое, два задних поменьше и высокое сиденье над тускло-металлической рамой. Чуть в стороне от велосипеда в траве лежал резиновый мячик, синий с красно-черной полоской…
Под картиной был прикреплен ценник: 500 у.е..
«Какая-то кочующая цифра, – подумала Карина, – бегает за мной по пятом!»
Потом она снова посмотрела на полотно: «Велосипед я видела в каком-то кино. Очень давно, в детстве. А до кино я била именно этим мячом по именно этой рыжей стене…»
– Нравится? – раздался сзади голос Дениса.
– Очень. – ответила она честно.
– В таком случае я тебе ее дарю!
– Дэн, с тобой все в порядке? – из служебного помещения вышла девица с синими волосами. – Я же тебе говорю, вчера на этот велосипед один француз вовсю пялился! Я абсолютно уверена, что он сегодня вернется!
– Жаль мужика! Вернется, а транспортное средство угнали! – жизнерадостно предположил Денис…
* * *
Влад собирался отправиться в Москву прямо из офиса, не заезжая к родителям. Но к концу рабочего дня почувствовал вдруг легкую головную боль и насморк. К своему здоровью он всегда относился крайне трепетно и поездку решил отложить. Попросил водителя сдать билет, а сам поехал домой.
«Нужно как минимум отоспаться,» – подумал Влад. В последнее время он много работал, пытаясь как-нибудь заглушить звучавшую у него в душе какофонию. Он сам себе не мог ответить, разлюбил ли он Карину или просто устал оттого, что все время чувствовал с ее стороны некий нажим, не позволявший ему дышать свободно.
Родителей дома не было. Влад принял таблетки, выпил чай с медом и, укрывшись теплым пледом, лег на диван с «Коммерсантом». Читалось ему с трудом. Мысли все время соскальзывали со строчек.
«Ей всегда было наплевать на мое здоровье! – думал Влад. – Впрочем, справедливости ради, нужно сказать, что на свое она тоже особого внимания не обращала. Сколько раз отправлялась на эти дурацкие вечеринки совершенно простуженной!..»
В середине статьи о чеченской нефти он вдруг вспомнил: «А ведь когда она звонила, она сказала, что у нее высокая температура. Скорее всего, соврала. Хотя, кто ее знает…»
Что-то его укололо. Он набрал номер. Ответа не было. Влад посмотрел на часы – стрелки показывали без четверти одиннадцать.
«Как всегда где-нибудь развлекается! В таком месте, где не протолкнуться и страшно накурено. Она всегда так поступает, когда нужно грусть проветрить. А температура – это мелочи!..»
Через час Влад позвонил еще раз. Потом еще. И еще. В два ночи почувствовал, что больше не может сидеть на месте. Начисто позабыв о собственной простуде, сел в машину и поехал к их дому: «Может, там просто телефон сломался?»
Телефон был исправен – Влад убедился в этом, позвонив по мобильному и услышав за дверью раздражающе заливистую трель.
Утром обзвонил всех ее подруг, но ничего не выяснил. Нервничал, строил страшные предположения, «выздоровел», отменил московскую командировку, работать не мог – просто сидел у себя в кабинете и через каждые десять минут звонил Карине.
* * *
Карина спала в самолете Москва – Петербург, положив голову на крепкое плечо Дениса. Теперь она тоже чем-то неуловимым походила на васнецовскую Аленушку. Впрочем, сон ей снился яркий и мажорный – по нервному канату, протянутому на высоте обморока, она ловко ехала на старинном велосипеде. Оркестр весело, но слегка вразнобой играл мелодию из какого-то старого советского фильма, а публика ей восторженно рукоплескала…
Вишневая косточка
Маме
Во дворе моего украинского детства росла цыганистого вида дикарка-вишня. Ягоды у нее были маленькие, кривобокие и кислые, их даже воробьи не клевали. Зато цвела она роскошно – живыми розовыми бабочками с черными усиками, припудренными на концах крупнозернистой желтой пыльцой. Когда дул легкий ветер, «бабочки» шевелили крыльями и взволнованно дышали. Дыхание их пахло сказкой и казалось, что сейчас вся эта кружевная стая вспорхнет и умчится в какие-нибудь далекие неведомые края, куда, шелестя страницами, имеют обыкновение летать все эти невзаправдашние гуси-лебеди.
Распускалась вишня исправно к первомаю. С утра принаряженные соседи отправлялись на демонстрацию, к обеду из распахнутых окон проливалось могучее, как река Днепр, пение. Репертуар всегда открывался размашистой песней, в которой хор – не обращая никакого внимания на сезонное несоответствие – умолял «мороз не морозить».
Дома у меня про мороз не пели – дома у меня на диване лежала мама и читала толстый журнал. Какие-то сложные обстоятельства обязывали ее прочитать его к завтрашнему утру. Мне почему-то очень не нравилось, что журнал называется «толстым» – звучало некрасиво, да и вообще что-то было не так… Уж лучше бы она со всеми про мороз пела! Но, устав от чтения, мама заводила свою музыку и не пела, а слушала – жуткого какого-то дядьку, который кричал хриплым голосом. В чужих окнах плавно и мелодично качались тонкие рябины, мне тоже хотелось праздника, и я с большим чувством начинала подпевать дядьке: «Это снова, это снова два билета, два билета…» А все почему-то смеялись и говорили, что правильно «бабье лето». Странно, конечно, как это лето – бабье? Лето еще ладно, раз у других мороз, то у нас, судя по всему, должно быть жарко. Но почему оно бабье?..
Зато однажды я услышала, что «глаза напротив» могут быть «чайного цвета» – и долго повторяла про себя эту фразу, впервые осознавая страшную силу поэзии. Вот только фамилия у певца была отвратительная – Ободзинский. Собачья какая-то. Очень хотелось как-нибудь его переименовать. Но как это сделать на практике, я так и не придумала – поэтому просто, густо-густо исчеркав пластинку, вымарала фамилию черным шариком. За что, помнится, была сурово наказана.
С самого раннего детства я считалась способной – главным образом потому, что быстро запоминала стихотворения. Класса до шестого я этим тихо наслаждалась. Потом вдруг остро захотелось доказать всем, что на самом деле я еще способнее, чем они думали. И услышав, к примеру, как мама, обсуждая с подругой роман из очередного толстого журнала, говорит: «Содержание – чепуха, но написано прекрасно», я приходила в школу и на уроке литературы бодренько так заявляла: «Содержание – чепуха, но написано прекрасно.» Про роман Александра Фадеева «Молодая гвардия».
Все часы в нашем доме почему-то всегда показывали разное время. «Главное, – говорила мама, – уметь организовать ближайшие минуты. Если это удается, то часы потом складываются сами собой…»
«Говорыть Кыйив, – сообщало настенное радио. – Пьятнадцять годын, пьятнадцять хвылын…» – «Все правильно, – глубокомысленно рассуждала я. – Годыны могут погодить, а хвылины, явные родственницы украинских хвыль, то есть русских волн, действительно должны волновать…» Еще я любила всевозможные совпадения – например, заметить на улице чумазый грузовик с номером, читавшимся как дата моего рождения; или на чужом балконе в другом конце города случайно обнаружить проветривающийся ковер, точно такой же, как у нас, при чем ковер не из тех, что продаются в центральном универмаге, а вещь с историей, попавшую в наш дом силою каких-то особенных обстоятельств. Совпадения всегда рассматривались как знаки удачи или исполнения желаний. Желания мелкие сменяли друг друга, как картинки в детском калейдоскопе, который можно было купить в магазине «Культтовары» за тридцать семь копеек. Масштабно же хотелось стать умной. Потом захотелось стать еще и красивой – исключительно для того, чтобы провоцировать достойные пересказа события, ну как в книгах, которые читались без разбора и счета.
Потом реальность на глазах развинтилась, классики постарели, я успела закончить университет, на случайной улице встретила человека и какое-то время после этой встречи жила ровно двумя абсолютно равными по силе чувствами. Чувство первое считывалось так: какое счастье, что я шла именно по этой улице именно в этот момент! Чувство второе, закрепляясь в том же пространстве и том же мгновении, повергало меня в глубочайшее отчаяние. Устав от этого маятника, в один прекрасный день я поняла, что даже если бы меня не было в тот момент на той улице, в следующий момент и на следующей улице этот человек все равно бы меня нашел. Сделав это открытие, я незамедлительно отправилась в Дом книги, купила толстый журнал, вернулась домой и улеглась на диван. Издание, кстати, заметно похудело за истекшее кровью десятилетие… А еще через год-другой все часы в моем доме вдруг сами собой начали показывать разное время. Я написала об этом незатейливый рассказ и отправила маме. «По содержанию – чепуха, но написано прекрасно», – сказала мама и заплакала…
Моя нынешняя квартира раньше принадлежала хохлам, уехавшим доживать пенсию на самостийную родину. «Я ж тоби тут вышэнку посадыв», – проникновенно говорил мне перед отъездом бывший хозяин, загрузив в машину все, что удалось отвинтить, включая внутренние двери и оконные ручки. А под моим окном действительно растет цыганистого вида дикая вишня. Цветет она скромнее, чем дерево моего детства, но зато в непременной дворовой питерской луже плавает упавшее туда с неба облако, сильно облагораживая собою общую картину.
Зрелища
Самым первым предметом, поселившимся в передней памяти Бори Кляймана, была латунная ручка на входной двери их калининградской квартиры. Ему тогда было чуть больше трех лет, он возвращался домой вместе с родителями, мама открывала замок, и в это мгновение прямо перед его глазами неожиданно вспыхнуло маленькое солнце. От удивления он сделал шаг назад – сияние исчезло. Вернулся на прежнее место – и ручка снова превратилась в небольшое пламя. Родители вошли в квартиру, а Боря еще долго оставался на лестнице и все ходил вокруг двери, рассматривая переливчатую игру луча и тени на желтом металле. Еще он помнил, что громко кричал, когда отец попытался затащить его домой, оторвав от этой горячей на вид и прохладной на ощупь штуковины. И что в конце концов ему показали такую же ручку, но только уже внутри квартиры, и он ненадолго притих, знакомясь с ней, но потом почувствовал себя обманутым и несчастным, потому что эта ручка только притворялась волшебной, но гореть не умела – сколько бы он вокруг нее ни ходил.
А за наружной ручкой Боря с тех пор следил самым пристальным образом и уже через год точно знал, что ярче всего она блестит летом, когда в потолке открыт лаз на чердак, и оттуда сквозь треугольное голубиное окошко падает на вздыхающий темно-рыжий дощатый пол подъезда рассеянный солнечный луч.
В шесть лет он решил, что ручка состоит в близком родстве с маминым обручальным кольцом, у них даже узор из царапинок был похож – как узор на его собственных и маминых ладонях. Только у колечка линии были помельче – так же, как черточки на его руке были тоньше, чем на маминой.
В третьем классе школы, возвращаясь как-то домой в крайне удрученном расположении духа, вызванном тройкой по математике, Боря сделал заключение, что ручка похожа на знак параграфа – хоть и витиеватая, в локонах, но очень строгая. А однажды бабушка сообщила ему, что по национальности Кляйманы немцы, и пару вечеров Боря провел, сравнивая их жизнь с жизнью семейства Димки Зайцева, его одноклассника, жившего на первом этаже. Вспоминал фразы, улетавшие иногда из их квартир к соседям сквозь открытые окна. Музыку их праздников – мамины пластинки, неровно кружившие на проигрывателе с красивым названием «Ригонда» и извлекавшие скучные, в общем, звуки, которые, переходя друг в друга, поскрипывали, как песок на берегу прохладного моря, – и пугающе громкие, раскатистые песни про коней и атаманов, доносившиеся с первого этажа… Поразмышляв об особенностях национальных характеров, Боря сделал вывод, что ручка скорее немка, чем русская. Вывод, впрочем, вовсе не противоречил истине – их двухэтажный, на шесть квартир, домик строили еще кенигсбергские мастера, а отец утверждал даже, что охристого цвета черепицу на крыше выкладывал собственноручно прадед Бориса Отто – в свое время самый известный в городе кровельщик.
Тайная жизнь латунной ручки не давала Борису покоя. Всякий раз загораясь от солнечного луча, как от спички, ручка словно заговорщицки ему подмигивала, предлагая не входить в собственную квартиру, а переместиться на много десятилетий назад, увидеть, как по зеленой улочке его высокий суховатый прадед, одетый в воскресный костюм, направляется к строгой церкви с острой колокольней, по пути церемонно приветствуя знакомых и удовлетворенно узнавая дома, крыши которых он сам покрывал черепцей – античной, голландской или татарской кладкой, а еще рисунком «бобровый хвост» или «монах с монашкой»…
В пятнадцать лет Боря написал об этом свой первый рассказ. Так долго дразнившая его воображение другая жизнь больше месяца скользила по строчкам ученической в линейку тетрадки, примеряла на себя сочетания слов, как костюмы, и бесследно растворялась в многоточии, которым Боре чаще всего хотелось заканчивать предложения. Написав фразу, он подолгу ее перечитывал, удивляясь тому, что получилось не совсем так, как Боре на самом деле хотелось. Но переписывать не решался, потому что его вдруг охватывала пронзительная жалость к словам – его собственным словам, которые он отбирал мучительно, выкладывая ими мозаику текста, почти так же, как прадед когда-то выкладывал причудливый черепичный рисунок города…
В рассказе почти не было действия, просто описывался один день жизни Отто Кляймана. В этот день он закончил крышу нового дома, в одну из квартир которого его семья должна была перебраться после окончания строительства. До конца рабочего времени оставалось еще больше часа, Отто предложил свою помощь плотникам и сам врезал в извилисто-филенчатую дверь своего будущего жилища замок и латунную ручку. А потом совершенно случайно заметил, как с чердака на свежеструганый, лесом пахнувший пол навзничь упал ровный солнечный луч – после чего ручка загорелась, и стало видно, как дышит воздух… Вот, собственно, и все, о чем шла речь.
Каждый вечер Боря перечитывал тетрадные страницы, но показать написанное кому-нибудь из друзей или родственников не отваживался – боялся, что рассказ покажется неинтересным, и у Бори спросят, зачем он вообще это написал. «Действительно, зачем?» – задумывался он, но найти хоть сколько-нибудь вразумительный ответ не мог.
Однажды на летних каникулах перед девятым классом они с Димкой Зайцевым решили впервые в жизни напиться. За гонорар в виде стоимости кружки пива уговорили какого-то забулдыгу купить им в вино-водочном бутылку портвейна, в автомате газировки стащили два сизых граненых стакана и расположились в темном, на курьих ножках домике во дворе выехавшего на дачу детского сада.
Когда в бутылке оставалось меньше половины, Боря решительно вскочил и побежал домой за заветной тетрадью.
«Рассказ? Твой?» – удивился Дима и принялся медленно читать, иногда шевеля губами и переспрашивая вслух. Вообще-то Боря и сам знал, что почерк у него неважный, но Димкина манера чтения да еще в сочетании с застывшей на его лице миной изумления страшно раздражали автора – и автор уже раскаивался, что поддался порыву и решил обнародовать свое произведение. Когда же Димка добрался наконец до последней страницы, Боре и вовсе захотелось наброситься на своего первого читателя с кулаками.
– Ну че тебе сказать? Нормально! – отреагировал между тем читатель. – Даже интересно, как они тут жили раньше. Мои-то предки в Калининград приехали по распределению после института, а у тебя здесь корни, и это чувствуется…
Бить друга Боре больше не хотелось, теперь он готов был крепко пожать ему руку или даже обнять.
– А ты Селедке показать это не хочешь? – спросил Дима. – У нее же муж в «Калининградской правде» работает, он к отцу на завод приходил интервью брать… Может, они напечатают, а?..
Получившая свое прозвище из-за крайней худобы и маленьких черных глаз Селедка преподавала у них русский, по которому Боря успевал ровно, но особо одаренным учеником не считался.
«Что вот так запросто взять и предложить ей, мол, Валентина Сергеевна, ознакомьтесь, пожалуйста, и выразите ваше профессиональное мнение?..» – задумался он и вскоре с удивлением обнаружил, что ему совсем не хочется, чтобы историю одного дня далекой жизни его прадеда узнали все, кому не лень. Борису даже показалось, что появление рассказа в газете будет чем-то вроде публичного раздевания.
– Понимаешь, Димон, я как-то не думал о том, что это надо где-то печатать, – растерянно произнес Боря, – Так, сочинилось что-то.
– Ты что, хочешь стать писателем? – спросил Димка.
Боре показалось, что вопрос прозвучал как-то слишком скептически, что ли. Он снова задумался: «Да, наверное, мне бы хотелось стать писателем… Но одного желания мало. Написал я всего несколько страниц, может, я больше ничего и не придумаю. А, может, придумаю, а все скажут, что это чушь собачья… Хотя пусть себе говорят… Главное, чтобы хотелось сочинять… Мне же хочется. А раз так, значит, я действительно хочу стать писателем!»
Решительно допив остатки вина, Боря уже собрался было признаться в этом, но Дима его опередил:
– А я хочу стать артистом! Кстати, тебе я об этом по секрету сообщаю, как другу. Никому больше не говори! Хочу сниматься в кино, ну или там в театре играть… Как думаешь, у меня получится?
Борю уколола легкая, как комар, обида. Он же не успел ответить на Димкин вопрос про писателя, а тот вдруг взял и начал рассказывать о своих планах. И потом какой из него артист?! Ну он, конечно, знает несколько аккордов на гитаре и поет под Высоцкого… А еще анекдоты рассказывает так, что девчонки от смеха покатываются, но они ведь все дуры, им палец покажи, и они уже смеются…
– Не знаю, – произнес Боря после небольшой паузы, – в театральный, говорят, конкурс большой, до ста человек на место. Если поступишь, то получится… Там тебя научат всему, что нужно!
– А на писателей где учатся? – поинтересовался Димка.
– Черт его знает, на филологическом, наверное, в университете…
В этом месте их доверительная беседа была прервана бдительной детсадовской дворничихой, которая, заглянув в окошко избушки, разразилась криком про хулиганов, алкоголиков, детей, милицию и горько плачущую тюрьму. Боря с Димой стремглав помчались к невысокому, выкрашенному в жизнерадостный желтый цвет забору и, перепрыгнув его, преодолели расстояние от детсада до родного двора с показателями, значительно превышавшими школьные нормы ГТО.
– А вообще у тебя классно получается! – заявил Дима, отдышавшись. – Я имею в виду, что ты неплохо пишешь. Ну может, конечно, не так хорошо, как О. Генри, но тоже вполне…
Весь девятый класс прошел у Бори под знаком О. Генри. Он выучил наизусть все новеллы писателя, с немецкой скрупулезностью составлял подробные конспекты сюжетов, тщательно высчитывал, сколько страниц ушло у автора на отдельные этапы действия, сколько слов он потратил на портрет героя, пытался разобраться в том, как срабатывает механизм неизменно неожиданной развязки. И пробовал писать – внимательно наблюдал за всем, что происходило вокруг, искал интересные типажи, записывал случайно услышанные разговоры, выстраивал отдельные сцены в историю, стараясь при этом соблюдать заранее выбранную схему О. Генри. Но получалось у него с трудом. Мешали детали, которые Боря всегда описывал со вкусом, не скупясь на прилагательные, в результате, когда посвященный какой-нибудь второстепенной подробности пассаж наконец заканчивался, интерес к действию в целом пропадал даже у автора, не говоря уж о потенциальном читателе. Детали поедали динамику. Боря и сам это прекрасно понимал, но его преданная любовь к ним не позволяла ему поместить в текст просто некий предмет и сразу же перейти к энергичным глаголам. Он тонул в существительных и прилагательных, а выбравшись из этого словесного моря и перечитав написанное, чувствовав себя мокрым, обманутым и несчастным – почти так, как в детстве, когда родители пытались убедить его в том, что ручка изнутри их квартиры тоже заслуживает внимания.
Читал Боря много и пристрастно, а хорошие книги вместе с восхищением всегда вызывали у него горьковатое недоумение: «Как же он это придумал? И почему это придумал не я? Ведь ничего же особенного – он, она, война, любовь… а оторваться невозможно, и прочитанное долго потом не выходит из головы…»
«Конечно, если в этот сюжет добавить еще что-нибудь… – осторожно рассуждал Боря. – Ну например, в сцене прощания, пусть это происходит не у серой стены госпиталя, а на раздетой осенней улице, по которой медленно едет блестящий черный «паккард»… Колеса у него с острыми спицами… Героиня замечает машину, и сердце ее пронзает острая, как игла, боль, а в воображении героя вдруг возникает вид веселого речного парохода, на котором они катались в последнее мирное лето… Так было бы еще гениальнее», – заключал Боря, а потом долго и печально рассуждал, должно ли прилагательное «гениальный» иметь степени сравнения.
Кстати, после того летнего разговора они с Зайцевым долгое время друг друга избегали. Свои новые рассказы Боря никому больше не показывал, а Димка в присутствии Бори почему-то перестал рассказывать анекдоты. И только к середине десятого класса между ними снова возникла прочная дружба.
В школе появился новый учитель, предложивший ребятам организовать театральную студию. После первой же репетиции Боря пришел домой, вытащил тетрадь, в которую записывал разговоры одноклассников, высказывания учителей, нотации директора и крики техничек. Несколько раз перечитав свои записи, легко и быстро, часа за два, сложил из этих элементов пьесу – историю про то, как их школа принимала участие в общегородской «Зарнице», на всякий случай заменив имена реальных действующих лиц на придуманные, слегка отдающие грибоедовщиной фамилии.
Перечитывая написанное, Боря обнаружил, что содержание как таковое его почти не волнует, а вот авторские ремарки хотелось развернуть пошире. Он принялся детально описывать место событий и внешность действующих лиц – подробности привычно порабощали, но он старался держать их под контролем.
Еще раз прочитав уже готовый текст, Боря вдруг поразился тому, насколько литературное отражение человека отличается от самого человека. Странно – он ведь старался наиправдоподобнейшим образом рассказать, как признанная школьная прима Вика Бегальская чуть не упала в обморок, когда ей пришлось не просто делать вид, что она перевязывает рану, а действительно забинтовывать кровоточащую ладонь Сереги Корнилова, который ради этого, собственно, и поранился… Вика в пьесе была уже не хорошо знакомая Вика, фифа и ломака, а почти Бриджит Бардо. Ее Боря знал по фильмам, и нельзя сказать, что он был от нее в каком-то особенном восторге, а она – надо же – вот так взяла и проявилась…
Руководитель театра внес в текст мелкие исправления, слегка поцарапавшие самолюбие автора, но успех, который Борина пьеса имела в школе, щедро залил неглубокие царапины коллодием. Димка Зайцев, кстати, с успехом исполнил роль пионервожатого Макса, одну из самых важных. И вот с этих пор они с Борей снова стали лучшими друзьями.
После школы Борис поступил на русское отделение филфака Калининградского университета, а Дима – в местное театральное училище.
Боря по-прежнему много читал, по-прежнему внимательно наблюдал за всем, что происходило вокруг, и пытался писать. Пережил несколько романов. На факультете было много симпатичных девчонок, но Бориным романам явно не доствало огня. Чувства интересовали его прежде всего как сырье для текста – и на сами отношения с девушками он смотрел слегка отстраненно, занятый вечным поиском слов. В результате девчонки его бросали, а Боря больше всего горевал не из-за того, что его бросили, а потому что не мог найти для своей горечи подходящего слова.
«У меня скудный эмоциональный опыт! – говорил себе Борис. – Только поэтому я не могу написать ничего стоящего. Но когда-нибудь я обязательно испытаю чувство древнегреческой мощности, и тогда все будет по-другому…»
Самоутешение, впрочем, работало недолго – он вспоминал, что многие авторы дебютировали рано, писали интуитивно, часто даже не осознавая, как это у них получается. Гете, например, так и говорил о своем Гёце: «Я написал его, когда мне было двадцать два года, когда еще ничего не знал, а потом пятьдесят лет убеждался, что написал правильно…»
От таких мыслей Боря мрачнел, а его любовь к подробностям превращалась в ненависть. Ему казалось, что именно внимание к подробности заставляет его искать красивые, но легкие, без веса слова. Те самые слова, которые, оккупируя строки и страницы, погружали в себя Борино сознание и так далеко уводили его от некой смутной идеи, о которой он вроде бы собирался рассказать людям, что он начинал сомневаться: а была ли у него вообще какая-нибудь идея.
Но потом он замечал, как перламутровым летним вечером в Балтийское море медленно опускается огромное ярко-красное солнце, ставя на бело-голубую страницу воды перевернутый – с небес нисходящий – восклицательный знак и угощая ощущением простора и восторга, не помещающимся в человеческий масштаб. И эта картина вызывала у Бориса острую потребность тут же, немедленно сесть и описать ее, поместить ее в любой сюжет – хоть о лесоповале, хоть о первой любви…
«Искусство – это игра, конечная цель без цели», – утешающе уверял Борю похороненный в самом центре Калининграда Кант.
«И все-таки искусство слов – самое конкретное из всех искусств, – печально думал Борис, навещая могилу философа. – Будь я живописцем, я бы просто нарисовал закат над морем, и пусть другие решают, что я этим хотел сказать. Краски абстрактны, а слова нет. Слова разоблачают и обязывают. А еще врут. Тебе кажется, что ты выражаешь ими одно, а получается – хоть немного, но другое. Словом, ложь. Слово – ложь… В общем, лучше бы я рисовал. Или играл на сцене. Артисту ведь тоже легче – он же не называет словами те чувства, которые хочет передать зрителю…»
Димка Зайцев тем временем стремительно набирал популярность. В тональности нового времени городской драмтеатр убрал из репертуара все идеологические спектакли и на два вечера в неделю предоставлял свою сцену студентам театрального. В нескольких постановках Дима играл заметные роли, у него появились поклонницы, а еще на него как-то обратил внимание режиссер местного телевидения и предложил ему стать ведущим молодежной программы. Боря ходил на все Димины спектакли, смотрел передачи, радовался успехам и глубоко – глубже признания самому себе – прятал свою творческую ревность.
Однажды он случайно попал на репетицию самого популярного спектакля с Диминым участием. На главную женскую роль вводили новую актрису, ради нее и репетировали. До этого Борис видел пьесу дважды, и оба раза все было правдой – и Димкин герой, и его чувства! Теперь же в небольшом репетиционном зале, Борис смотрел на своего друга и не мог понять, что происходит – Дима был похож на школьника, которого заставляют произносить твердо заученные, но совершенно ненужные ему слова – что-нибудь, вроде стихотворного приветствия участникам слета передовиков производства. Они сами когда-то «выступали» с таким стихами. Читать следовало с выражением, и пионервожатая подолгу их тренировала, добиваясь точности интонации и правильного выделения ударных слов. Получалось задорно, но картонно. Как сейчас у Димки.
– Понимаешь, я почему-то боюсь маленьких расстояний, – со смущением признался Дима по дороге домой. – На сцене, где до зрителя далеко, у меня что-то рождается. Я сам это чувствую и вижу, что мне верят. Но как только я оказываюсь в ограниченном пространстве – когда глаза в глаза, – во мне как-будто закрывается какая-то дверь, я становлюсь деревянным, как буратино. В училище меня из-за этого даже считали бездарным, но потом, когда мы сыграли первый спектакль на большой сцене, они поняли, что я не безнадежен, Моя правда возвращается, как только появляется пространство…
Борис подумал, что его правда ютится на извилистых тропках второстепенных подробностей, потому что в Бориной жизни ей тоже мало места. Потому что ей тесно на тех дорогах, по которым Боря ходит…
Дорога семейства Кляйманов между тем вильнула в сторону объединившейся Германии. Борины родители, бывшие дисциплинированные советские служащие, изрядно уставшие от нескольких лет шаткого нового времени, собрали нужные архивные справки и получили разрешение вернуться на историческую родину. Боря к тому моменту заканчивал университет. Идею смены места жительства он одобрил. В глубине души ему, конечно, было жаль оставлять в Калининграде их воспламеняющуюся латунную ручку, Димку, университетский двор и даже кое-кого из девчонок. Но сожаления таяли перед тайной надеждой на то, что это перемещение в пространстве, это новое расстояние и проявят наконец его писательский талант…
Немецкая жизнь оказалась опрятной, вкусной, строго упорядоченной и скучной. Вся семья училась. В начале это был немецкий язык, основы которого они, конечно, сохранили, но до беглости им всем было далеко. К концу программы языковой адаптации следовало решить, чем конкретно они будут заниматься на новой родине, после чего им предоставлялись места на соответствующих профессиональных курсах.
Борису казалось, что такое существование может вдохновить разве что на написание инструкций. Но однажды он оказался в театре. Это был совсем крошечный театр, не больше пятидесяти зрительских мест. Пьеса называлась «Контрабас», в ней действовал всего один герой – маленький человек, игравший на контрабасе в большом оркестре. Вернее, он даже не действовал, а просто рассказывал публике о себе.
«… Может, вы, как и я, принадлежите к тому привилегированному классу, что вынужден зарабатывать на хлеб руками? – спрашивал он у них. Может, вы один из тех, кто по восемь часов дробит отбойными молотками бетон напротив? Или из тех, кто ежедневно вываливает сотни мусорных ящиков в мусоросборник, чтобы мусор там сгорал в течение восьми часов? Это соответствует вашему таланту? И неужели вас уязвит, что кто-то вываливает мусор лучше вас?..»
Борис слушал, испытывая смущение от какого-то смещения текста, – ему казалось, что эти слова произносит не герой – одновременно симпатичный и жалкий, – а он сам, Боря Кляйман. Пытаясь избавиться от этого чувства, Борис оторвал взгляд от сцены и осторожно огляделся по сторонам. Зрители сосредоточенно смотрели и слушали. Справа, на самом верхнем ряду расположенных амфитеатром кресел, Борис заметил пару – молодую девушку в темных очках и толстого лысого мужчину лет сорока. Вели они себя странно – девушка сидела в застывшей позе, мужчина тоже молча и сосредоточенно смотрел на сцену – пока герой просто произносил монолог. Но едва на сцене происходило какое-либо движение – контрабасист открывал окно, наливал себе пива или переставлял свой громоздкий инструмент – как мужчина склонялся к девушке и начинал что-то быстро шептать ей на ухо.
После того как отзвучали по-немецки сдержанные аплодисменты и публика без суеты направилась к выходу, Борис снова заметил пару с верхнего ряда. Девушка спускалась по невысоким ступенькам медленно, опираясь на изящную трость, а толстяк одновременно осторожно и уверенно поддерживал ее за локоть.
«Спасибо вам, Курт, – расслышал Борис ее голос. – Мне кажется, я увидела все, что могла бы увидеть, будь я как все…»
Полтора года спустя Борис получил диплом визуального переводчика, а еще через какое-то время стал одним из самых известных во всей Германии специалистов в этой области.
Его работа заключается в сопровождении незрячих. Он ходит с ними в театры, кино, на концерты – и подбирает слова для тех самых подробностей, которые эти люди не могут увидеть. Он знает, что любая картина, – будь то сцена спектакля или фильма, кадр телепередачи или просто вид из окна – состоит примерно из одной тысячи слов. Знает, что в спектакле сцены иногда меняются так быстро, что за это время невозможно произнести и сотой части этого объема. Но в ловушку его взгляда всегда попадает именно та деталь, благодаря которой звук в воображении слепого превращается в рельефное, наполненное цветом полотно.
Иногда он позволяет себе вольности и придумывает что-нибудь сам – какой-нибудь предмет на сцене, деталь одежды или движение, которое артист не совершает, но мог бы совершить. От этого ему становится немного стыдно и, возвращаясь домой после спектакля, он пытается избавиться от стыда и убеждает себя в том, что все справедливо. Посреднику по закону положено комиссионное вознаграждение! Так что эта мелочь, которую он добавил в произведение большого автора, и есть его доля. Его собственный гонорар за посредничество чувств… И он почти оправдывает свою дерзость, а из строгих чужих окон, куда он иногда позволяет себе заглянуть, льется молочный свет, чистый, как не исписанная страница…
Летом
Калле Густавссон родился и вырос в доме, построенном в конце девятнадцатого века его прадедом-свиноводом. Дом был крепок, коренаст, не укладывался ни в один архитектурный канон и сильно походил на своего первого хозяина, по крайней мере, если верить фотографиям из семейного альбома. В этом, впрочем, не было ничего удивительного – разбогатевший и слегка возгордившийся собой прадед строил, руководствуясь исключительно собственными вкусами, и нарочно не обращал внимания на советы специалистов.
Три поколения спустя выяснилось, что Калле полностью разделяет эстетические представления предка – родной дом казался ему самым прекрасным зданием на свете. Густокоричневый кирпич стен с апреля по октябрь покрывал остролистый зеленый плющ. Если лето выдавалось особенно жарким, от энергичности плюща приходилось защищать небольшие с белыми рамами окна. Три каменные ступени провожали к строгой входной двери, а плоская, без изысков, крыша школьной линейкой подчеркивала синеву южношведского неба, в котором рифмой то к цветущим в саду яблоням, то к слабохарактерному здешнему снегу проплывали белые облака.
Современные Густавссоны от сельского хозяйства отдалились, но семья по-прежнему была простой и трудолюбивой. Отец служил в местном пожарном депо, мать выращивала цветы в парнике, разместившемся на заднем дворе в бывшем свинарнике, и торговала ими в маленьком цветочном магазине недалеко от железнодорожной станции.
На налоги и содержание большого фермерского дома уходили круглые суммы, но продавать родовую недвижимость Густавссоны не хотели и иногда позволяли себе, вроде бы шутя, примерить все эти расползающиеся от стремительной скорости двадцатого века аристократические кружева – называли свое жилище «усадьбой» или «родовым имением».
Калле был младшим, четвертым ребенком – двое его братьев уже давно жили в Стокгольме, а сестра вышла замуж за француза и перебралась на юг Франции, где у ее мужа была – вот она, петелька времени! – маленькая, но очень современная свиноферма.
Внешне Калле был типичным скандинавом, каким его представляют жители других стран, – льняные волосы, светлая кожа, слегка картофельный нос и обрамленные густыми рыжеватыми ресницами небольшие глаза. В глазах, впрочем, уже в детстве пряталась свечка, а если маленький Калле радовался или сердился, свечка гасла, но вместо нее во взгляде начинало осторожно волноваться то самое море, до которого от их «имения» никогда не превышавший дозволенной скорости «сааб» отца доезжал минут за сорок.
Море вообще манило, и однажды, когда Калле было лет тринадцать, он тайком ушел из дома, купил билет на автобус до города Мальмё, сел там на паром и через час оказался в портовом Копенгагене.
Это был необыкновенный мир, одновременно похожий и непохожий на шведский. Казалось, датчане нарочно проглатывают слова, чтобы не раскрывать свои тайны перед явившимися с другого берега. По улицам ходили странные люди в беретах, почти в каждом подвале располагались маленькие кабачки, за каждой дверью дразнилась чужая – такая яркая, опасная и притягательная – жизнь.
Ему, конечно, досталось тогда от родителей. В воспитательно-профилактических целях у Калле даже временно конфисковали все его собственные накопления, полученные за работу в оранжерее у матери. Но зато вместо свечек в глазах его с тех пор постоянно горели две яркие лампочки, которыми по ночам освещаются портовые улицы Копенгагена. Ну а если такая лампа загорается в помещении, то обыденные предметы начинают светиться по-особенному, и мысли тут же уносятся на берег дальний, где зыбким парусом маячит иная и неведомая жизнь.
Закончив естественную линию гимназии, Калле решил не торопиться с дальнейшей учебой. Около года проработал в маминой цветочной лавке, а потом его призвали в армию.
В семидесятых годах в шведской армии сохранялись и субординация, и дисциплина, а еще солдаты обязательно изучали русский язык – на тот случай, если все-таки развяжется война с Советским Союзом и им придется допрашивать военнопленных.
И в школе, и в гимназии языки давались Калле без труда. Но с учебой он в принципе никогда не усердствовал. В армии же, когда ему волей-неволей пришлось сидеть за столом и заниматься, у Калле обнаружились мощные филологические способности. Его товарищи еще никак не могли выучить этот хитрый алфавит, дружно путали русскую букву «в» и латинскую «b», русскую «m??» и родную «m», а из чащи шипящих не могли выбраться даже коллективными усилиями, – а Калле в это время уже запросто произносил фразу, вроде «какое звание у вас было в красной армии?» Его даже перевели из обычной части в специальную школу военных переводчиков, где весь его армейский долг собственно и ограничился изучением русского языка.
Отслужив, он по-прежнему не мог с определенностью сказать, чем ему хочется заниматься дальше. Как и в детстве, манила романтика – леса, моря и дикая природа. Но Калле понимал, что профессия должна кормить, – и после месяца раздумий остановился на лесном факультете сельскохозяйственного института. Уверенности, что именно этому делу он посвятит всю свою жизнь, не было. Но в глубине души Калле надеялся, что обстоятельства сами подбросят ему что-нибудь интересное.
И подбросили. Однажды ему позвонил его армейский командир, капитан Элен, которого на курсах военных переводчиков за глаза называли агентом 007.
Справившись о его делах и учебе, Элен сообщил, что Швеция и Советский Союз недавно подписали экспериментальный договор, включавший в себя несколько программ долгосрочного сотрудничества, одной из которых был обмен рядовыми специалистами в области сельского хозяйства. В связи с чем Калле предлагалось ни много ни мало, как отправиться в Россию, куда-то под Вологду, и шесть месяцев проработать простым трактористом в колхозе имени XXIII съезда коммунистической партии.
– Ты же вроде с сельским хозяйством в ладах! – заявил командир. – Видишь вот, и профессию выбрал родственную. И жилка приключенческая в тебе, как я помню, есть. Так что подумай, посоветуйся с родными и перезвони мне через неделю-другую!
«Вологда… Курлыкающее голубиное название…» – рассеянно повторил про себя Калле. После чего сосредоточился и решительно ответил:
– Мне не нужно время, я сразу могу ответить, что согласен…
Калле оформил отпуск в институте и временно перебрался в Стокгольм, где четыре месяца учился водить трактор, посещал интенсивные курсы русского и еще кое-какие занятия, разглашать содержание которых запрещал подписанный им специальный документ. Он ничего и не разглашал. Хотя, если честно, иногда ему казалось, что беседы с инструктором так скучны, что не вызовут ни у кого и мало-мальского интереса – даже если ему вдруг вздумается пересказать их в самых мельчайших подробностях. Но закон есть закон! И о том, как следует покупать еду в советских магазинах, как разговаривать с советскими девушками и сколько пить за советским столом, Калле не проронил ни слова – ни братьям, ни друзьям, ни родителям…
В Москву он прилетел в конце топленого тополиного июня 1978 года. В аэропорту его встретил ответственного вида малоразговорчивый мужчина, представившийся сотрудником шведского посольства. Формально поинтересовавшись самочувствием и тем, как прошел полет, он помог Калле загрузить чемоданы в посольское «вольво», и уже через час они оказались на территории дипломатической миссии Швеции, где Калле предоставили комфортабельный номер в маленькой гостинице.
Обращались с ним почтительно и церемонно. Калле это немного смущало. На следующий день для него была организована автомобильная экскурсия по Москве с заездом в Третьяковскую галерею. Калле показалось, что такого яркого, мгновенно порабощающего шарма, как у Копенгагена, у Москвы не было. А, может, она была слишком большой и хаотичной для того, чтобы ее очарование можно было почувствовать сразу. В Третьяковской галерее строгая русская женщина ровно полтора часа расстреливала в него пулеметные ленты гидовского текста. Но в сознание попадали только отдельные словосочетания и фразы – какой-нибудь, «золотистый декор», «классическая колористика» или «техника передвижников». При этом «техника передвижников» незамедлительно превращалась в шеренги мощных лапчатых тракторов, энергично перемещающихся по «золотистого декора» полю, – и Калле мысленно уносился в эту далекую неизвестную пока Вологду… Впрочем, и в советской столице, и в музее было много красивого – не заметить этого импортированный из Швеции сельхозрабочий не мог.
Вечером его привезли на вокзал и познакомили с двумя молодыми людьми – Виктором из Вологодского горкома комсомола и Сергеем, который работал трактористом в том же колхозе имени XXIII съезда партии.
– Они будут сопровождать вас на место, – сообщил тот самый встречавший его сотрудник посольства, фамилию которого Калле так и не смог запомнить.
– Ну что, за знакомство? За встречу? – предложил Сергей, едва они успели расположиться в купе. И из его сумки выпрыгнула бутылка водки. Калле неуверенно пожал плечами.
– Э-э, нет, так у нас не делается! – воскликнул Сергей после того как швед, сделав робкий глоток, поставил почти нетронутый стакан на столик. – Если ты так пьешь, значит, ты нас не уважаешь! Или показываешь нам свое капиталистическое превосходство! У нас принято до дна!
Калле вспомнил свои скучные секретные занятия, казавшиеся иногда даже глуповатыми. Ну разве можно было поверить в то, что его будут насильно заставлять пить?! Теперь же оказывалось, что инструктаж-то был весьма полезным!
– Понимаете, – произнес Калле, – я себя не очень хорошо чувствую. Устал немного, дорога… впечатления…
– Тогда тем более надо выпить! – не унимался его будущий коллега. – Водка, она же усталость в момент снимает!
– Нет, – с нарастающей решительностью, как и рекомендовали на уроках, ответил Калле, – дело в том, что у меня проблемы с желудком, я вообще пью очень мало. А когда устал, то совсем не пью. – И быстро, опять же в точном соответствии с инструкцией, переменил тему и вежливо поинтересовался: – Кстати, а вы не знаете, где здесь находится туалет?
В мокром туалете отвратительно пахло. Калле сначала даже подумал, что сопровождающие ему отомстили за то, что он отказался с ними пить, и показали не настоящий туалет, а что-нибудь другое. Правда, что?.. Похожий запах в Швеции использовался для наказания людей, которые плохо ухаживали за своими домашними животными. Если инспектор по защите прав животных, к примеру, обнаруживал, что какой-нибудь хозяин не соблюдает должную чистоту и гигиену, то он приходил к нему домой и вскрывал специальную ампулу, после чего по жилищу разносился жуткий запах, избавиться от которого можно было только через несколько дней. Но вообще такие истории случались крайне редко. А тут туалет в поезде – и такая вонь! Калле вернулся в купе, прилег на свою полку и почти сразу же уснул – под мощным гнетом только что полученного обонятельного шока, а также всего увиденного и пережитого в советской столице.
– Сразу видно, не наш человек! – глубокомысленно заключил Сергей, допивая водку и сочно закусывая помидором «бычье сердце». Помидор был тяжелый, дольчатый, с синеватыми венами, по которым, казалось, действительно текла алая бычья кровь.
– А ну, орел, давай потише! – строго одернул его больше помалкивавший комсомольский вожак. – С чего бы ему «нашим»-то быть? Он из вражеского лагеря. Но международные скандалы нам при этом совершенно не нужны! Так что ты, смотри, следи за собой!..
У вологодского вокзала их встретил водитель на белой «Волге».
– От города до колхоза ехать больше двух часов, – сообщил Виктор. – Председатель машину свою прислал, чтобы вы могли получше рассмотреть наши края. Я с вами дальше не поеду, но телефон горкома комсомола в колхозе есть, так что, если что – помощь там понадобится или вопрос какой возникнет – сразу же звоните!
Осторожно пожав друг другу руки, они попрощались.
Калле усадили на заднее сиденье машины справа. «На этом месте у нас только начальники большие ездят», – слегка насмешливо объяснил Сергей и тут же позабыл о шведском госте, увлекшись разговором с водителем.
Говорили они очень быстро, Калле почти ничего не понимал. А за окном было спокойно и красиво – бегали зеленые поля, мелькали малоподвижные коровы и высокие караулы телеграфных столбов. Вверху на столбах располагались белые фарфоровые катушки с проводами, по две с каждой стороны столба. Сначала Калле подумал, что они похожи на бараньи головы. Потом решил, что это скорее головки огромных музыкальных инструментов, катушки – это круглые колки, натягивающие сделанные из бычьих жил струны. Инструменты аккомпанируют, а пейзаж поет…
Водитель в серой помятой кепочке и Сергей по-прежнему без умолку разговаривали, и Калле представлялось, что все их слова сливаются в быстрое и бесконечное повторение названия Вологда.
Проехав примерно полпути, они остановились у обочины – шоферу понадобилось посмотреть что-то в моторе. Калле вышел из машины. Метрах в десяти от них, у небольшой дорожной развилки виднелся голубой указатель: «Свиноводческий комплекс Совхоз «Коммунист».
Калле вообще-то считал свиноводство весьма достойным занятием. И никогда не забывал, что их семья по-прежнему живет в доме, построенном на средства от продажи хряков, свиноматок и поросят. Но название совхоза показалось ему странным.
«Интересно, а если бы дед, голосовавший за партию трудовиков, восемьдесят лет назад назвал свое хозяйство «Свиноводческая ферма «Трудовик», что бы про него подумали?» – мелькнуло в голове у Калле, и он тихонько рассмеялся.
– Да чокнутый он, этот чех, я тебе, Петрович, отвечаю! – негромко сообщил водителю Сергей. – Я еще в поезде это понял. Видишь вон, стоит и сам с собой смеется… К тому же он больной какой-то, он нам вчера сам признался.
– Простите, пожалуйста, – церемонно обратился к ним «чокнутый», – а мы не могли бы заехать ненадолго в этот свиноводческий комплекс «Коммунист»? У меня прадед когда-то выращивал свиней, и муж сестры этим занимается. Мне было бы очень интересно посмотреть!
– Не положено! – строго ответил Сергей. – Нам поручили доставить тебя прямиком в наш колхоз, а обо всем остальном нужно договариваться дополнительно. Вот приедем на место, там у председателя и спросишь!
Калле снова вспомнил инструктора, который говорил, что иностранцы в России всюду ходят с сопровождающими, и каждый их шаг контролируется советским государством. Это тоже казалось ему преувеличенным и надуманным – и тоже оказалось правдой. Хотя странно, конечно… Ну что случится, если он просто посмотрит, как живут эти коммунистические свиньи? Неужели так же, как на ферме его шурина Мэтью? Там животных содержали в просторных, удобных и хорошо вентилируемых вольерах со стеклянными стенами. По периметру каждого вольера был построен коридор, по которому ходили ветеринары и прочий персонал, а корм подавался через специальные отверстия в стенах этого коридора. В каждом свинарнике была установлена мощная система аммиачных датчиков, так что, едва в воздухе появлялся лишь слабый намек на запах вчерашнего туалета, как в помещении автоматически включалась аппаратура помывки и просушки – что-то вроде дезодорирующего душа и для вольера, и для свиней. Предприятие Мэтью, кстати, называлось «Розовая хрюшка»…
Заметив, что Калле расстроился, Сергей немного смягчился:
– Понимаешь, ты не думай, что мы тебе не доверяем. Просто у нас такие порядки, без разрешения никуда не пустят. Нас самих бы не пустили! Но мы обязательно спросим у Петра Григорича, председателя нашего. Он позвонит, куда надо. И если там разрешат, мы покажем тебе всех наших хряков!
«Не разрешено… не положено… – задумался Калле. – Как называется такой тип предложения? Безличное? Неопределенно личное?..» Точно он не помнил. Зато в памяти снова зазвучал голос инструктора, предупреждавший о том, что в целях собственной же безопасности избегать сопровождения не следует, а лучше вообще никуда не ходить одному. И всегда быть максимально внимательным и сосредоточенным…
Сосредоточившись и мобилизовав внимание, Калле уставился за окно. А там по-прежнему кисть невидимого ветра размашисто смешивала зелень полей и голубизну неба. Мелькнул вдоль дороги маленький, неправильной формы домик – кривобокий, просевший, острым углом уткнувшийся в землю, с покосившейся дверью. Но свежевыкрашенный, белоснежный, чем-то похожий на острый парус.
Еще через какое-то время их остановили у небольшой будки – нелепой, металлической, на одной куриной ноге. Люди в синей униформе проверили документы у водителя. Неподалеку стояла темно-рыжая лошадь с подводой, груженой неряшливой морковкой. Нетерпеливо потоптавшись на месте, лошадь вдруг вильнула хвостом, ударила о землю копытом и пошла вперед, решительно набирая скорость. Из вздрагивающей повозки в панике начали прыгать на землю ярко-рыжие морковки, а юркий мужичок, спешно прервав разговор с милиционером, стремглав помчался за подводой, что-то крича и размахивая в воздухе серой кепкой. Абсолютно такой же, как у Ленина, с которым Калле встречался уже пять раз: четыре раза в Москве и один – на вологодском вокзале. Кстати, у их водителя на голове тоже был похожий блинчик.
Колхоз имени XXIII съезда партии считался одним из крупнейших в области. Четыреста гектаров пахоты, восемь длинных улиц с деревянными и каменными крестьянскими домами и одна короткая с так называемыми коттеджами, двухэтажными зданиями из белого кирпича, в которых размещались конторы различных технических служб и колхозное общежитие. В центре поселка располагалась главная усадьба с сельсоветом, клубом, магазином и площадью. На площади возвышался Владимир Ильич, назидательно указывавший пальцем куда-то в сторону туевых кустов – сильно разросшихся и с аппетитом поглотивших портреты победителей прошлогоднего социалистического соревнования.
Председатель колхоза оказался крепким мужчиной лет сорока пяти.
– Петр Григорич, – с важным видом начал Сергей, едва они переступили порог председательского кабинета, – тут этот Калле хочет на свинокомплекс съездить. Он по дороге у меня спросил, а я что? Вы ж мне сказали только привезти сюда и все, я ж не знаю…
– Потом разберемся, – прервал его председатель и спросил, обращаясь к шведу:
– Ну как доехал? Без происшествий?
– Спасибо, все хорошо, – вежливо ответил Калле.
– А что ж тебя молодого такого прислали? Лет-то тебе полных сколько?
– Двадцать три, – ответил Калле, неожиданно почувствовав какую-то неловкость.
– Как моему среднему, Сашке. Он в Москве, в институте, учится. Вот их за границу не посылают…
Калле никак не мог сообразить, как ему нужно разговаривать с председателем, и к общей неловкости почему-то прибавилось легкое чувство вины.
– Ну ладно, комсомол, дел у меня много, так что ты, Серега, давай отведи парня в общежитие, устрой там, проверь, что б все было как надо! Бабе Вере напомни, что мы с ней насчет еды для него договаривались. Ну и вообще бери шефство над нашим гостем!..
Колхоз Петра Григорьевича Сальникова миллионером не был, но и в отстающих не ходил. К делу своему председатель относился ответственно, показухи не любил и работал с утра до ночи. Поэтому, когда ему сообщили о том, что горком партии намеревается направить к нему в хозяйство иностранца, он совсем не обрадовался – и так, как говорится, в гору некогда глянуть: механический участок нужно за лето построить, столярку отремонтировать, в кормовом трубы заменить, плюс еще мост через Вислый ручей подправить! И это не говоря о том, что виды на урожай в этом году были не ахти какие, так что с планом наверняка возникнут осложнения! А тут еще этого шведа на голову навязали! И добро бы швед был какой солидный, а то ведь – пацан пацаном, а ты церемонься с ним, как с папой римским! Не дай бог, накачают колхозные молодцы этого птенца самогоном да втянут в какую-нибудь историю – вот и отвечай потом перед мировой общественностью… Петр Григорьевич, конечно, уже провел кое-какую идеологическую работу с местной молодежью, проинструктировал, как вести себя с капиталистом, но на всякий случай нужно бы еще раз поговорить… А вообще, возвращался бы этот Калле Густавссон поскорее к себе домой, в Швецию – всем бы было спокойнее!..
Калле Густавссон между тем изо всех сил старался осваивать новые условия жизни и не терять при этом присутствия духа.
Выделенная ему койка в общежитии по форме была похожа на гамак – металлическая сетка провисала почти до пола. Дома Калле всегда спал на жестком ровном матрасе, и теперь по утрам его мучили боли в спине. А еще у него все чесалось. Мысль о том, что по ночам его кто-то кусает, Калле мужественно гасил и уверял себя в том, что это просто аллергия на перемену климатического пояса.
Кроме него в общежитии практически никто не жил. Останавливались на ночь-другую командированные из соседних колхозов, а постоянно присутствовала только баба Вера, пожилая толстая уборщица-дежурная, которой Петр Григорьевич заодно поручил кормить шведского гостя. Но отношения с ней у Калле как-то не сложились. В первое же утро он отверг заботливо приготовленный ею завтрак – наваристый рубиновый борщ с таким сильным чесночным духом, от которого Калле временно утратил способность контролировать собственную мимику. Понятное дело, баба Вера обиделась. Она вообще была женщина легко ранимая и воспламеняемая. И будь на месте Калле какой-нибудь русский мужик, она бы, конечно, показала ему по полной программе. Но перед иностранцем, пусть даже таким «плюгавым», баба Вера слегка спасовала – кричать не стала, и решила, что отомстит тем, что будет готовить ему «без души», как для домашней скотины. И даже потом, когда испытывавший слабые угрызения совести Калле попытался извиниться и угостил ее купленными в сельмаге сушками, баба Вера не размякла. Но «заданием» своим она в глубине души гордилась, и всем товаркам с готовностью рассказывала, что, мол, «кому что, кому свиней пасти-то, а меня вот Григорич приставил Кольку-шпиёна стеречь…»
В поле у «шпиёна» все тоже складывалось непросто. Дома его, конечно, научили водить трактор, но особого опыта у него не было. Несмотря на это, уже в первый день Калле почувствовал, что мог бы работать быстрее и эффективнее остальных. Впрочем, уже во второй день стало ясно, что, если он будет вырываться вперед, то с остальными у него явно возникнут проблемы.
Русские вообще держались от него на расстоянии – то ли из-за председательской проработки, то ли потому что швед с самого начала наотрез отказался пить с ними после смены.
С утра и до обеда работать было легко. К полудню же солнце начинало злиться, и из-за горизонта, звеня по-деревенски разговорчивыми бидонами, появлялась телега с обедом. Вся «молодежная» бригада слезала с тракторов и шумно рассаживалась за грубоструганым столом под брезентовым навесом. Повариха Нюра – сама круглая, тяжелая и плотная, как бидон, одетый в меткотравчатое ситцевое платье и несвежий передник, – разливала в алюминиевые миски тяжело дышащий борщ. По трудовым рядам шелестело мелодичное – как казалось Калле – слово «пол-литра», а под столом происходила тайная возня.
Калле ел аккуратно, медленно, и иногда задумывался, глядя как по бело-металлическому краю чьей-нибудь миски осторожно скользит тонкий солнечный луч. А кто-нибудь из его товарищей при этом тихо, сквозь зубы, но без зла цедил: «У, шпиён, как зырит-то, прям и расслабиться простому человеку нельзя…»
После обеда становилось очень жарко. Нырнувший из Нюриного половника в его миску огромный кусок разварившегося мяса угнетающе действовал на трудоспособность, громко жужжали мухи, и Калле, отчаянно борясь со сном, был даже рад, что работают они не в полную силу, с ленцой.
После смены он возвращался в общежитие пешком через три поля. Шел медленно, дышал глубоко и, высматривая в небе голосистых русских птиц, иногда спотыкался о всякую подножную мелочь.
А его коллеги в это время все еще сидели за дощатым столом и под уверенную в себе, официальную вечернюю бутылку рассуждали о всякой мужицкой всячине: о последнем футбольном матче, о новой бане у Федьки Нечипоренки, и о программе мира, с которой Советский Союз выступал на мировой арене. Сергей почти каждый вечер рассказывал приятелям новые и новые подробности того, как он вез Кольку из Москвы. В конце первой недели трудового стажа иностранного пролетария Сергей по большому секрету признался, что в поезде у чеха – «тьфу, шведа» – случился настоящий припадок…
Душевая комната в общежитии была, но душ в ней не работал, и каждый день после наступления сумерек Калле шел мыться к Вислому ручью. Вообще-то это был даже не ручей, а небольшая говорливая речка со стареньким браслетом-мостом: вместо свай – мореные бревна, и на них небрежно брошены те самые доски, из которых выстругивались столы полевой кухни. Сооружение было ненадежное, но народ им все равно пользовался, потому что этот мостик срезал дорогу до города километров на пятнадцать.
Поздно вечером здесь обычно никого не было. Калле нравилось сидеть, свесив ноги, и смотреть на темную воду, по которой перемещались тени прибрежных кустов. Чтобы он не чувствовал себя совсем одиноким, ветер иногда приносил ему из поселка капроновую ленточку фразы, случайно прихваченную в каком-нибудь доме: «… Людк, а Людк! Где таку невестку-то взяла? Уж я глядела сегодня на речке-то, полоскать-то она у тебя ой не умет…» И невидимая лягушка откуда-то из-под свай, пуча от возмущения очи, продолжительно поддакивала Людкиной товарке.
А вообще и дни, и вечера были очень похожи друг на друга.
Однажды Калле заметил, как в мелких волнах Вислого ручья бьется отражение луны – и ему вдруг совершенно явно представился родительский дом, пахнущая цветами мама, серьезный отец… Яблоко из их сада, сливочно-желтое и круглое, как русская луна, а еще почему-то хрустящие кукурузные хлопья на завтрак и густоароматный кофе… И он с удивлением услышал стук собственного сердца, которое, почти попадая в такт сокращениям луны, громко выбивало тревожный римт почти осознанного одиночества.
Вдалеке пели про кружившиеся над городом желтые листья. Ожив то ли от звука, то ли от ветра, по деревянному настилу моста покатилась бутылка из-под вездесущей «пол-литры».
Калле закрыл глаза, и родной шведский калейдоскоп превратился в лоскутное одеяло, которое ему на днях, когда вдруг немного похолодало, выдала баба Вера. А потом его воображение навестила Галя, дочь Петра Григорьевича. Он увидел ее впервые в тот самый день, когда баба Вера позаботилась о том, чтобы он ночью не замерз. Калле тогда подумал, что Галя тоже похожа на лоскутное одеяло, – такая же разноцветная: золотые волосы, зеленые глаза с голубыми белками, рыжие веснушки, черные ресницы, коричневые брови, красные губы, белые зубы и синее в цветочек платье…
Медленно возвращаясь в этот вечер домой, Калле задержался у дома председателя, постоял в темноте минут пять, осторожно всматриваясь в зашторенные окна. Просто так стоял – безо всякой надежды поймать ночной, в карандаше выполненный эскиз яркого девичьего образа.
А на следующее утро, в самую раннюю рань, бдительная и проницательная баба Вера явилась к теще Петра Григорьевича доложиться, что «Колька-шпиён вчера все под окнами вашими стоймя стоял. Так что вы глядите! А то ить думается мне, он на Гальку-то вашу вид какой имет…»
Родившаяся от пульса луны и пробравшаяся в сердце шведа дымка одиночества за последующие дни уплотнилась до тумана, который в рассветные и предзакатные часы звучал густо-басовыми коровьими голосами.
Советские коровы, по наблюдениям шведа, вообще вели себя немного странно. Они были коллективистками и, наверное, поэтому совершенно не нуждались в пастухах. С первыми лучами солнца хозяйки выставляли своих буренок за ворота, и те – самостоятельно, без человеческого присмотра – направлялись к известному пункту сбора на околице. Там минут десять ждали опаздывающих, перетаптываясь на месте, трамбуя копытами пыль и время от времени сокрушенно и продолжительно вздыхая. Собравшееся стадо дружно направлялось на выгон, а вечером возвращалось в поселок. И если какая-нибудь корова, придя домой, оказывалась перед запертыми воротами, ее возмущенное и мрачное мычание было слышно даже на соседней улице.
Сам Калле и на работу, и с работы по-прежнему ходил один. А оказываясь перед закрытым общежитием, терпеливо, не ропща ждал прихода бабы Веры. Это начинало его угнетать…
Как-то в конце рабочего дня в поле приехал темно-зеленый русский армейский «джип», который его товарищи почему-то громко назвали «козлом». Из машины вышел странного вида мужчина – лет сорока, с длинными, свисающими почти до плеч унылыми волосами, в потертых джинсах и явно требующем чистки бархатном пиджаке, из нагрудного кармана которого торчал тем не менее пестрый носовой платок. Мужчину трактористы тоже назвали «козлом», правда тихо, так что сам «козел» вроде бы ничего не услышал.
– Меня зовут Валерий Харченко, – представился он и протянул Калле руку, не обращая на остальных никакого внимания. – Я корреспондент районной газеты «Передовик-колхозник». На следующей неделе в нашей газете будет напечатана заметка о том, как вы ударно трудитесь на нашей, так сказать, родной ниве… И в связи с этим редакция поручила мне сфотографировать вас за работой.
Калле кольнуло легкое, тонированное гордостью волнение, – заметка в газете! про него! с фотографией!
– А что мне для этого нужно сделать? – спросил он у корреспондента.
– Да ничего особенного! Просто залезайте на трактор, а я посмотрю, с какой стороны вас лучше снять.
Разговаривая, Валерий Харченко как-то неестественно тянул слова и пожимал пыльными бархатными плечами. Забравшись в кабину, Калле бросил осторожный взгляд на остальных членов бригады. Надо всем происходящим те явно потешались, хоть и старались откровенно этого не демонстрировать. Калле вдруг смутился. Корреспондент попросил его сесть поближе к рулю. Потом подальше. Потом положить на руль руки. Посмотреть немного вправо. Влево. Вверх, вниз, за горизонт… Калле чувствовал, как растущее смущение красит его щеки в наипередовой пролетарский цвет.
– Ну вот! Так, вроде бы, будет то, что надо! – заявил наконец Валерий Харченко, после чего не очень ловко запрыгнул на подножку кабины и очень заботливо поправил на Калле воротник его клетчатой рубашки. На что остальные члены бригады отреагировали раскатистым лошадиным ржанием.
«Интересно, а русские лошади на пастбище тоже ходят, как коровы, – то есть сами, без людей?..» – рассеянно думал Калле, прощаясь с корреспондентом. Валерий Харченко завел машину, сквозь опущенное стекло подмигнул шведскому трактористу, пообещав при этом лично привезти ему несколько экземпляров газеты с его фотографией – и русский армейский «джип», действительно по-козлиному подпрыгивая, побежал по густо-коричневому грунту, волоча за собой парашют придорожной пыли. Калле подумал, что корреспондент ему чем-то не понравился.
Чуть в стороне неровным кругом стояли отработавшие смену трактора. Разговаривая о чем-то привычном и мелком, мужики рассаживались за столом. Калле запер свою кабину и нерешительно направился к товарищам.
– Ты чё, Колька, выпить с нами, что ли, наконец собрался? – обрадованно спросил Сергей. В ответ Калле неопределенно пожал плечами. Вообще-то ему было жарко, рубашка противно липла к спине, и пить на самом деле хотелось, только холодной воды или молока… Но с другой стороны, если это как-то поможет найти общий язык… если он после этого научится разговаривать с русскими… вот так просто, как они разговаривают друг с другом, о чем-то привычном и мелком… Тогда почему бы и не выпить? Он же сам все время избегает их общества, но они вроде не обижаются, вон и Сергей обрадовался…
– Вот и молодец! Давай садись! – поддержал Михалыч, крепкий мужик лет тридцати, самый старший член их молодежной бригады.
Кто-то протянул Калле граненый стакан с мутной зеленоватой жидкостью. Калле заглянул в емкость с сомнением и легким испугом.
– Да не боись ты! – утешительно толкнул его в плечо Сергей. – Это тебе, конечно, не ром какой там и не коктейль, это наш продукт! Надежный, голова после него не болит. Танька Нечипоренко-то самолично варила! А она у нас в этом смысле знаменитость. Ей даже милиция ну не то, чтобы разрешает, но глаза закрывает… Говорит, только чтоб без переборов… А все потому что милиция сама у нее к праздникам отоваривается!..
– Ой ну и трепло же ты, Серега! – вздохнул Михалыч и предложил: – Ну что, хлопцы, давайте! За районную газету «Передовик-колхозник»! Пойдет за нее?
– А куда ж оно денется? – согласился Сергей, и все члены молодежной бригады дружно крякнули и опрокинули стаканы.
Калле собирался сделать только один – ознакомительный – глоток, но бдительный Серега поймал его руку, зажал ее и не позволил поставить стакан на стол.
– Э-э нет! Раз уж остался, то давай, чтоб как положено! Чтоб до дна! Это ж за твою газету «Передовик-колхозник»! Или ты что, может, газету не уважаешь?
Окончательно растерявшийся Калле как-то сообразил, что Сергей отпустит его, только если он выпьет водку залпом. Зажмурившись, он выпил, после чего Сергей выхватил у него стакан, потряс им в воздухе и победоносно заявил:
– Ну слава тебе, господи! Молодец! С первым почином тебя, товарищ капиталист!
На лице у молодца и вправду застыла гримаса капитализма, а внутри развязалась скоропалительная ядерная война, в огне которой должны были сгореть легкие, желудок, печень и все до единого прочие органы. Небо стало мутным, зеленым, и Калле с ужасом почувствовал, как из глаз его непроизвольно потекли слезы, – продолговатые и противные, как мелкие бесцветные гусеницы…
– Ну что, я ж тебе говорил, что проберет как надо! Ты давай, не дрейфь, держись! В начале оно всегда печет, но скоро ты почувствуешь, как пришла сила… Это ж тебе даже не «Столичная»… – говорил ему Серега, дружески подпихивая плечом.
Остальные о чем-то оживленно разговаривали. Сосредоточившись, Калле попытался понять, о чем. Но оказалось, что знаменитый продукт Таньки Нечипоренки каким-то образом лишил его способности понимать русский язык – Калле не узнавал ни одного слова. А когда он посмотрел на Михалыча, ему и вовсе показалось, что изо рта самого старшего члена молодежной бригады вылетают не слова, а связки белобоких сушек, которые Калле каждый день покупал в сельмаге… Надежда на то, что, выпив, он найдет с русскими общий язык, растаяла, не оставив даже легкого облачка. Калле почувствовал, что вот-вот заплачет, зарыдает взахлеб, как в далеком детстве от какой-нибудь совершенно непоправимой беды. И вряд ли русские трактористы смогут его при этом утешить так же, как когда-то мама…
Дабы избежать публичного позора, Калле встал и на чьих-то явно чужих ногах направился к стеклянному граненому горизонту, даже не попрощавшись с товарищами по работе.
Над полями стайками летали бабочки. Свободные и независимые, как здешние коровы, но только очень красивые. Сев на землю, Калле долго и пристально наблюдал за их трепетными перемещениями, с удивлением обнаруживая, что бабочки прямо у него на глазах увеличиваются в размерах и превращаются в диковинных птиц. Свободных и независимых… – в яркую разноцветную стаю, похожую на лоскутное одеяло.
«А вот я сейчас приду домой, приведу себя в порядок и отправлюсь к председателю. Приглашу Галю в кино! А почему бы и нет? Здесь же все в кино ходят, сеансы в восемнадцать ноль-ноль и девятнадцать сорок пять…» – неожиданно заявил себе Калле, после чего решительно поднялся и энергичной, хоть и слегка неровной походкой двинул к поселку.
Баба Вера была на месте. Поджидала его у самых дверей:
– Слышь, Колька, Галька-то председателева в этот, как его, в лагерь пионерский сегодня уехала. На Азовское море! У ей же лето-то ить последнее, на будущий год школу кончит, в институт, верно, отдадут. Аж в Москву, как Сашку-то их, среднего. Или в область, там их старший сын учился…
В этот вечер Калле пришел к Вислому ручью раньше обычного, еще засветло. На мосту, в его любимом месте, удила рыбу похожая на баранку старушка – коричневая, маленькая, сухая, но очень крепкая на вид. Ее волосы и лоб покрывал по-пиратски повязанный черный платок, который – как это часто случается у пиратов – немного съехал в сторону, обнажив одно загорелое ухо с круглой серебряной серьгой. В большом звонком ведре у ситцевых ног рыбачки билась в истерике маленькая перламутровая рыбка, обманом выуженная из Вислого ручья.
Калле вспомнил свой тайный, десятилетней давности вояж в Копенгаген, из которого так не хотелось возвращаться домой… И неожиданно охватившую его радость, когда он – нехотя! – но вернулся…
На обратном пути он зашел к председателю – сообщил, что хочет срочно съездить в Швецию. Еще на курсах в Стокгольме Калле говорили, что, раз в три-четыре недели он сможет прилетать домой на выходные. Для этого он должен сообщить руководству колхоза дату ближайшего предполагаемого отпуска, а колхоз обязан организовать доставку сельхозспециалиста в посольство Швеции в Москве, которое в свою очередь позаботится об авиабилете и прочих дальнейших деталях.
– Ты, Калле Густавссон, прямо без ножа меня режешь! – заявил Петр Григорьевич в ответ на его просьбу. – Одного-то я тебя отпустить права не имею – тебе же до Москвы положено два сопровождающих! А где я, спрашивается, их возьму? Ты на календарь смотришь? Сейчас же время самое горячее, каждая пара рук наперечет! У меня и так план срывается, а тут еще ты со своим отпуском… Ты когда конкретно ехать-то хочешь?
– Я могу прямо завтра, – тихо ответил Калле. Ответил несмотря на чувство вины, возникшее у него после слов председателя.
– Ладно, ничего я тебе, парень, не обещаю. Дела у меня в колхозе есть поважнее твоих капризов, но завтра с утра попробую позвонить в горком комсомола Виктору Дубовенко – ты его знаешь, он тебя сюда вез вместе с нашим Сергеем. Если они там придумают что-нибудь, так и попутного тебе, как говорится, ветра! А не придумают, так придется тебе подождать с неделю-другую, пока у меня люди в механическом не освободятся…
Калле вышел из председательского дома расстроенным. Смысл услышанного он понял не до конца. Нет, то есть суть он, конечно, уловил, но при чем здесь были, к примеру, «капризы» и «попутный ветер»? И потом, они все-таки отправят его в Москву или нет? И если отправят, то когда? Ведь он уже отработал почти три недели. Подождать еще неделю – это еще куда ни шло. Но две – это уже слишком! К тому же это противоречит договору! В договоре ясно сказано, что он имеет право на отпуск раз в три-четыре недели! А не в пять!.. Простое огорчение постепенно превращалось в сложную злость. Погода явно портилась – сверху падали редкие и тяжелые капли и, обещая нешуточный ночной ливень, шумели деревья. Калле шел по темной улице, сердито пиная ногой бутылку из-под вездесущей пол-литры, а ехидный «попутный ветер» в спину нагловато гнал его в далекую и родную Швецию, где свято соблюдаются все договора…
Ночью ему снился энергичный смычок и старая скрипка, густо-коричневая, как кирпич родительского дома. На скрипке играла разноцветная Галя. Смычок с отчаяньем самоубийцы нырял куда-то за Галину спину, но тут же возвращался, неся с собой испуганную и непривычно быструю мелодию шведского гимна, которая в какой-то момент незаметно превращалась в популярную советскую песню про желтые листья, которые кружатся над городом. Безжалостно избиваемые дождем оконные стекла дребезжали, привнося в сон ощущение тревоги и хрупкости.
Удивительные свойства продукта Таньки Нечипоренки товарищи по работе явно преувеличивали – следующим утром, едва открыв глаза, Калле поморщился от боли и почувствовал как в голове у него громко заработал трактор «Ивановец». Испуганное ночным дождем солнце пряталось, а белое непрозрачное утро было похоже на прокисшее молоко.
– Ну как оно? – поинтересовался Сергей, когда Калле наконец доплелся о работы. И не дождавшись ответа, продолжил: – Видок у тебя, Колька, конечно, не очень! Видно, что привычки нет, но не боись, за обедом хряпнешь опохмелку и будешь, как огурец! Кстати, слышал, мы с тобой сегодня в поле не работаем. Хутор за Вислым ручьем знаешь? Так там наводнение. Председатель велел два трактора с нашей бригады туда на помощь отправить, вот Михалыч нас с тобой и определил…
До хутора они добрались лишь к обеду. Колеса то и дело увязали в размокшем грунте, трактора по очереди глохли, и им приходилось вытаскивать друг друга на буксире, уворачиваясь от плевков коричневой жижи, целившихся прямо в лицо. Мысль от том, что, когда они наконец прибудут на место, им придется продолжить таскать что-то из грязи, – эта мысль парализовывала, и люминесцентная синь глаз на чумазом лице шведа превращалась в тускло-серый усталый алюминий, из которого были сделаны столовые приборы полевой кухни.
Но им повезло – на хуторе выяснилось, что почти все спасательные операции уже выполнены силами прибывших вовремя – коровник разобран и перенесен на сухой участок, дощатый настил у дома построен, затонувший мотоцикл вытащен из воды. И только на соломенной крыше какой-то хозяйственной постройки, которая наполовину ушла под воду, сидела бабушка в обнимку с козой. Над ними кружил небольшой вертолет, и из кабины пилота через мегафон лилась сердитая быстрая речь, в которой Калле распознавал множество хлестких слов и словосочетаний, освоенных им во время пути на хутор.
– Нет, милок, я уж без козы никак, я уж без козы с места не сдвинусь, куда ж я без козы-то… – громко кричала бабушка, когда вертолет отлетал чуть в сторону. И ее непокрытые седые волосы и белая шерсть козы, вставая дыбом, уносились вслед за пропеллером…
– Ну что, орлы, явились! Главное, как всегда вовремя! – поприветствовал их оказавшийся на месте председатель. Сергей начал сбивчиво оправдываться, рассказывая об их собственных неурядицах и жалуясь на плохие дороги и «раздолбанную» колхозную технику. Но Петр Григорьевич только рукой махнул:
– Да ладно, всегда причины найдете! Не понос, так золотуха! А то, что польза-то от вас известная, это и так все знают! – От этих слов Калле стало очень обидно. Они же действительно не виноваты, что дороги на полметра дождем размыло и что двигатели у тракторов ни с того ни с сего глохнут! Им самим было плохо! Им самим необходимо сочувствие! Острое желание так или иначе, но выразить председателю протест, снова зажгло в глазах Калле потухшие было лампочки. Он принялся мысленно подбирать слова, но Петр Григорьевич его опередил: – А насчет тебя я договорился с райкомом. В виде исключения они разрешили обойтись одним сопровождающим. С тобой поедет Харченко, корреспондент из районной газеты. Поезд из Вологды сегодня в двенадцать ночи. Машину я вам дам, так что давай дуй в общежитие, собирайся! Да смотри не забудь чего!
Радость оттого, что завтра или послезавтра он окажется дома, мгновенно вытеснила намерение добиваться справедливости, и Калле вежливо поблагодарил Петра Григорьевича за хлопоты.
«Вот бы ты, дорогой иностранец, и остался в своей Швеции! Хоть одной головной болью было бы меньше!..» – вздохнул про себя председатель колхоза имени XXIII съезда партии, а потом обратился к Сергею:
– А ты подойди ко мне на пару слов попозже! Во-первых, насчет вчерашнего пару горячих получишь! Я вам говорил, чтобы ему ни капли, или не говорил?
– Ну Петр Григорич, мы ж ничего… Мы ж, как вы сказали… – забормотал Сергей.
– Ладно, за это я с вас спрошу, не волнуйся! У меня другой разговор есть, так что ты, давай помоги ему попутку до поселка поймать и возвращайся, поговорим!..
Калле взял с собой весь свой багаж. Нет, он не думал, что что-нибудь пропадет во время его отсутствия – просто решил, что дома как следует перестирает одежду в их мощной стиральной машине.
Незадолго перед отъездом к нему заглянул Сергей.
– Слышь, Коль, я тебе это… – начал Сергей, – во-первых, счастливого пути пожелать хочу. А во-вторых, сказать, что этот Харченко, он, в общем… В общем, люди разное говорят, и кто его знает, верить или не верить… Но, ты не боись, мы с ним побеседовали! Так что он ни-ни, не посмеет… Даже если он действительно такой, как говорят. Ну ты понимаешь, да? Петр Григорич, правда, сказал, чтоб ты ничего не знал, но я подумал… Ну чтоб ты все равно был начеку. Понимаешь?..
Что-то Калле понимал. Но не до конца.
– А вообще возвращайся! – заявил на прощание Сергей. – У моего папани брательник троюродный на «Коммунисте» ветеринаром работает. Ну помнишь, ты на наших свиней хотел посмотреть? Так вернешься, я с ним договорюсь – и поедем!..
Когда во дворе общежития нетерпеливо просигналила председательская «Волга», в комнату к Калле зашла баба Вера.
– Ты Колька, слушай меня! Оно-то ить, может, и вранье-то все, кто ж его знает! Но Любка-то, Васильевых которая, ну что на почте сидит, вроде как слышала, будто вагон-то он двухместный заказал, этот Харченко-то… Так что ты вот, возьми на всякий случай! На самый верх в баул-то свой положи, а там и хлобысь его почем попадя! Ну если что… – И баба Вера протянула Калле густо-коричневую и, видимо, очень опытную скалку.
«Господи, это ж как тако быть-то может, чтоб мужчина с мужчиной, как муж с женой…» – прошептала баба Вера в дверях, после чего истеричным крестным знамением осенила собственный рот.
На заднем сиденьи машины сидел корреспондент газеты «Передовик-колхозник» в своем бархатном пиджаке с цветастым носовым платком в нагрудном кармане. Дверь была гостеприимно распахнута. Калле сел впереди рядом с водителем.
«В сложных ситуациях ты можешь притвориться, что плохо понимаешь русский язык, – говорил ему инструктор на секретных занятиях, – но на самом деле необходимо стараться, наоборот, понять как можно больше и обращать внимание не только на слова, но и на интонацию, с которой они произносятся…»
Валерий Харченко время от времени что-то спрашивал у Калле. По смыслу вопросы были вполне безобидными – например, чем отличается шведская кухня от русской, или каких русских писателей читают в Швеции. Отвечал Калле односложно и несколько раз намекнул, что русский понимает намного хуже, чем может показаться. А интонация у Харченко, между прочим, была явно подозрительная – неискренняя и заискивающая.
Купе у них действительно оказалось двухместным. Дополнительно этот факт Калле не испугал, но когда Валерий вышел в туалет, швед все же вынул из сумки полученную от бабы Веры скалку и быстрым движением сунул ее под подушку. После чего погасил верхний свет, не раздеваясь, улегся на свою полку и по самые брови укрылся колючим коричневым одеялом.
Закрыл глаза и почему-то вспомнил армию – самое начало службы, военные учения в лесу, на которых он однажды случайно повстречался с самим королем! Карл Густав приезжал к ним в часть с инспекцией, и случилось ему вместе с их генералом проходить мимо боевого поста, на котором Калле нес дежурство. Заметив короля, Калле оцепенел и от неожиданности зажмурился. Король сказал что-то генералу.
– Как тебя зовут, солдат? – спросил у него высокий военный чин.
– Рядовой Густавссон, – хрипло ответил Калле, по-прежнему ничего не видя, а потом набрался смелости, распахнул свои люминесцентные глаза, посмотрел прямо на короля и довольно бодро произнес:
– Рад служить Вашему Величеству!..
Вернувшийся в купе сопровождающий какое-то время подозрительно шелестел темнотой, но, устроившись и раздевшись, тоже лег на койку.
– Спокойной ночи, – произнес Харченко как-то, как показалось Калле, заговорщицки, что ли.
– Спокойной ночи, – буркнул в ответ швед.
– Скажите, Калле, а правда, что у вас в Швеции люди чувствуют себя действительно свободными? Что они могут говорить то, что они думают? Могут жить так, как им хочется, независимо от того, как на это посмотрят другие?
– Правда, – сдержанно ответил Калле. Но давившая затылок скалка не позволила ему при этом испытать полноценную гордость за свою родину.
Утром они молча пили густо-коричневый чай из разговорчивых стаканов с подстаканниками. На столе лежала раскрытая пачка печенья «Привет Октябрю» и сахар в дорожной упаковке: два небольших продолговато-четырехугольных брикетика в бледно-голубой обертке с изображением движущегося железнодорожного состава.
И когда уже у самой столицы Советского Союза поезд набрал финишную скорость, из-под подушки выкатилась, на пол упала и к дверям побежала бабы-Верина скалка. А ударившись о стену, скалка совершила лихой пируэт, напомнивший то ли о знаменитом советском балете, то ли о не менее знаменитом фигурном катании…
В колхоз имени XXIII съезда коммунистической партии Калле Густавссон не вернулся – расторгнул договор, невнятно сославшись на некие изменившиеся обстоятельства. Но Россия его не отпустила – он снова приехал в Москву в девяносто первом в качестве независимого журналиста. В девяносто втором не по-шведски страстное чувство женило его на русской девушке, которая всегда поступала вопреки тому, что в Швеции считалось здравым смыслом. Их быстроходная жизнь протекает по большей части в Москве, которая в рекордные сроки начисто позабыла свое недавнее прошлое, превратившись в мегаполис языческого капитализма. Но всякий раз, отправляясь с дежурным визитом на родину, Калле садится в самолет и внимательно смотрит в иллюминатор – ждет момента, когда лайнер наберет нужную высоту, и с этой высоты самоуверенная российская столица на мгновенье превратится в лоскутное одеяло, и обязательно подмигнет Калле голубым глазом случайного огорода…
Лиомпа
Тысячу лет тому назад где-то в этих краях волоокая Рогнеда покушалась на мужа своего Владимира. Покушение, как известно, провалилось – занесенный над спящим князем зеркально острый кинжал отразил гневно-огненный взгляд княгини и золотое шитье ее красного косоклинного сарафана, – от этого сполоха Владимир проснулся и отвел от себя коварную десницу…
Интеллигентные жители современного Жаславля любят рассказывать эту историю приезжим, в завершение всегда с легкой грустью добавляя, что материальные памятники того яркого времени сохранить, увы, не удалось. Впрочем, на величественное прошлое намекает местная природа с ее просторными горизонтами и высокой разговорчивой травой, в шепоте которой при желании можно услышать множество тайн, связанных с густо-алыми смертоубийствами и ослепительно сияющими сокровищами… А еще мраморная жрица-луна, и язычники-деревья, оберегающие серебряные в чернолощеных кубышках клады… И река, извилисто протекающая под змеиным именем Свислочь, и летающий летом над рекой плотный рой стрекоз, суховатый стрекот которых напоминает тихий перезвон трехбусинных семилопастных височных колец, обрамлявших когда-то белые лица славянских красавиц…
Дома же в городе по большей части скучные, из белого кирпича, обычные современные коробки. Живут здесь в основном сотрудники Жаславского мебельного комбината на десять тысяч рабочих мест – народ простой, в меру пьющий, работящий, засадивший крутобокой картошкой всю ближайшую пригородную буколику.
Единственное, что сохранилось в Жаславле от старых времен – это небольшая католическая церковь, бывший костел Святой Девы Марии, построенный в середине XVIII века, во времена, когда в Жаславле хозяйничала остробородая шляхта. Церковь стоит на пригорке, и ее строгий белый силуэт с удивленно вытянутыми узкими окнами, рыжей черепичной крышей и чудом сохранившимся крестом на колокольне виден издалека – так что какая-нибудь романтическая душа легко настраивается на волну трехсотлетнего прошлого, когда жизнь здесь текла чинно и размеренно, со слегка шипящей польской сдержанностью, а безумные цвета, звуки и ритмы давно искорененного язычества возвращались только четыре раза в год – на ярмарках, разрешение на проведение которых граф Пшздецкий получил лично у императора…
Впрочем, на закате социализма все эти воспоминания звучали так же, как звучит слово «филиокве» – таинственно, непонятно, смутно-ностальгически и бесконечно далеко. Усиливая загадочность, в канун весеннего половодья у подножия церковного холма иногда откуда ни возьмись появлялись странные черепки – обломки каких-то сосудов и темно-зеленых, водопроводного цвета изразцов с изображением чьих-то голов, рук, копыт и крыльев. Но партийному руководству района едва хватало времени для того, чтобы следить за выполнением и перевыполнением съездовских планов, так что проведение археологического исследования территории откладывалось из года в год. И только местные девчонки с жесткими капроновыми бантами в тугих косичках приходили за черепками регулярно – потому что реликвии отлично скользили по асфальту, и ими было очень удобно играть в классики…
В церкви располагалось профессионально-техническое училище. Он работал здесь освобожденным секретарем комсомольской организации. От жизни он твердо намеревался добиться многого, несмотря на то, что его возможности ограничивались еврейской национальностью отца – так ему казалось. Но при этом он вовсе не был сионистом и не считал, что положение евреев в Советском Союзе совершенно безнадежно. «Просто зеленый свет светофора как-то быстрее гаснет, если улицу переходит еврей!» – объяснял он сущность национального вопроса знакомым и кокетливо улыбался. Конечно, все это было немного обидным, но он утешал себя Дарвиным – ведь оказавшись в более жестких условиях существования, особь закаляется, учится ловкости, быстрее и выгоднее приспосабливается! Смог же отец – вопреки пятой графе – стать главным инженером мебельного комбината! И он сможет. Правда, лавры какого-нибудь ответственного технаря где-нибудь в провинции как-то не очень прельщали. Хотелось большего – скажем, поступить в МГИМО или на факультет управления плехановского института народного хозяйства, осесть в Москве, сделать карьеру, ездить за границу… Отцовские полномочия растворялись уже где-то на полпути к столице, так что рассчитывать нужно было только на себя.
Заканчивая школу и получая паспорт, он решил взять русскую фамилию матери. Понимал, конечно, что это вовсе не избавит его от всех вероятных осложнений, но все-таки. А двигаться к бисквитам решил по комсомольско-партийной дороге. Отец устроил его инструктором в горком комсомола, но через несколько месяцев он решил уйти оттуда на освобожденную комсомольскую работу в самое крупное в городе ПТУ. «Близость к народу» всегда рассматривалась как благоприятный для карьерного роста фактор, и на какого-нибудь ответственного за чужие судьбы функционера это могло произвести весьма выгодное впечатление. К тому же он не лишен был эстетического вкуса – понимал архитектурную ценность костела, и ему было приятно ощущать себя там хозяином.
К работе он, впрочем, относился ответственно – проводил политинформации и митинги, готовил представителей на всевозможные городские слеты и форумы, устраивал конкурсы «лучший по профессии», награждал, осуждал, поощрял, предупреждал… А по субботам устраивал дискотеки под музыку из утвержденного горкомом списка. Среди «согласованных» коллективов была его любимая группа «Smokie». Ответственный за идеологию второй секретарь, правда, велел называть ее «Курящие», и он строго следовал райкомовской инструкции. Хотя, какая разница, как называть, – главное, что пели они хорошо! И белые пятна светомузыки – цветные фонари никак достать не удавалось – прыгали под церковными сводами, как яйца в кастрюльке…
Его кабинет располагался в бывшей алтарно-престольной части, куда в прежние времена по праву входили только священники, а без прав – церковные крысы. Всевозможные срачицы, плащаницы, индитии и антиминсы заменили вымпелы и мощное переходящее знамя победителя соцсоревнования. Знамя было мохнатое, красно-бурого цвета, который раньше называли пюсовым или цветом мечтательной блохи. Правда, несколько пыльный вид гастролирующей социалистической реликвии намекал на то, что в последнее время «переходит» она не очень часто.
Социализм между тем агонизировал. Его приняли в партию именно в тот день, когда он понял, что долгожданное членство очень скоро потеряет всякий практический смысл. И действительно, после недолгого периода всеобщей растерянности жизнь начала стремительно меняться. Профессионально-техническое училище однажды превратилось в колледж. Комсомольские лидеры неожиданно заговорили о милосердии, благотворительности и религии, а их городской комитет преобразовали в «Фонд культурного и исторического наследия».
Какое-то время он чувствовал себя проигравшим – ведь партбилет и рекомендации больше не позволяли поступить в МГИМО вне конкурса, так что «бисквиты» снова оказались столь же недосягаемы, как и несколько лет назад.
Впрочем, вскоре он сориентировался, сообразив, что, как бы ни складывались обстоятельства, главное – находиться поближе к белой церкви. Она же была самой весомой материальной частью местного «исторического наследия», капиталом, с которым явно можно будет провернуть что-нибудь выгодное. Он убедил в этом директора «колледжа», и они вдвоем зарегистрировали кооператив, выступив в качестве его основных учредителей. В уставе расплывчато указывалось, что основным видом деятельности кооператива является разнообразная хозяйственная и культурно-просветительская деятельность в городе Жаславле.
«Это ты правильно решил, – ядовито заметил отец, услышав о его планах. – Паперть, она всегда прокормит…» Но он на отца не обиделся – знал, что, во-первых, в глубине души тот не простил ему смену фамилии; а во-вторых, что отцу сейчас нелегко – новый директор мебельного комбината, модернизируя производство, вынудил старого главного инженера уйти на пенсию, отец теперь с трудом привыкал к бездеятельности и отсутствию подчиненных, с ужасом понимая, что вместе со старостью надвигается бедность.
Он же твердо решил возродить костел и каким-то образом стать в нем главным. Правда, пути осуществления этих планов как-то пока не вырисовывались. Устраивать в церкви музей было опасно – в областном комитете культуры сидели сплошные акулы, которым только дай – ни кусочка от этого пирожка никому не оставят! Возобновлять в здании службу тоже было как-то боязно. То есть он, конечно, знал, что религия приносит неплохие доходы – и моральные, и материальные. Вопрос заключался в том, чтобы не дать прибыли уплыть в чужие руки. В потайные карманы, спрятанные в складках сутаны. Или рясы. Мысленно он даже примерил на себя что-то такое длинное и черное. А что – ему бы пошло! Но поразмыслив, снова «переоделся» в светское: во-первых, неизвестно, где на этих священников учат; во-вторых, даже если он выяснит, где и туда поступит, то бог знает, что может произойти за то время, пока он будет получать образование. А действовать нужно было немедленно! Конечно, если бы можно было купить диплом… Сейчас многие так поступают… Но с поповской профессией этот номер не пройдет. Вот инженеру с каким-нибудь там сопроматом было бы проще – сопромат даже настоящие студенты забывают сразу после экзамена! А все эти писания, предания поп действительно обязан знать…
Требовалось срочно придумать что-нибудь социально значимое, приличное, в духе времени и с уклоном в благотворительность – словом, «околоцерковное». И тщательно разработать систему контроля за деньгами. С этими зыбкими намерениями он записался на прием к областному архиерею. Оказалось, что у того были специальные часы приема по личным вопросам, а посетителей регистрировал сторожевого вида секретарь. Это его почему-то обнадежило.
Смутную суть своего «личного вопроса» он излагал по-комсомольски – многословно, цветисто и нечетко. Про учащихся ПТУ и возрастающую роль религии в воспитательном процессе, про памятник архитектуры и желание сделать для людей что-нибудь доброе, про зарегистрированный кооператив, про материальные сложности в системе образования и сокращение финансирования… Большой бородатый человек в черном слушал молча, смотрел внимательно, а потом перебил:
– Ты, раб божий, денег чистых хочешь?
– Так ведь не для себя хочу, – он вдруг заговорил, растягивая слова, как какой-нибудь сомневающийся персонаж советского сериала о жизни в постреволюционной Сибири. – Учащиеся у нас многие из неполных семей… хочу, чтоб они зарабатывали… чтоб с пути не сбились… Да и производственные мастерские обновить надо… И потом главное – чтоб церковь возродилась… как социальный институт! И наше учебное заведение готово принять в этом посильное участие… Поможем, чем можем. У нас же одно из зданий самое непосредственное отношение к церкви имеет… Памятник…
– Свечки из воска делайте, – сказал священник после паузы. – А мы покупать будем. Плавильную установку можете взять в Филипповском монастыре, у них есть одна лишняя. Там и насчет сырья подскажут. Много вы на этом не заработаете, но участие в процессе возрождения примите… – Священник беззлобно усмехнулся.
Он же собой гордился. Конечно, миллионером на свечках не станешь, тут поп был прав. Но главное – с чего-то начать. Пэтэушникам никто платить, разумеется, не собирался – у них в расписании появился новый предмет под названием «история религии», так их работа может рассматриваться как производственная практика по этому предмету. И потом, кроме церковных свечек, можно же и обыкновенные отливать! И продавать их на сторону. Кто там следить будет?
Свечной заводик в костеле проработал почти три месяца. Он даже успел выручить кое-какие деньги. Не бог весть что, конечно, но на теннисную ракетку хватило. Знакомая матери как раз ездила в Москву за дефицитом и привезла две штуки на продажу. Одну взял бывший парторг мебельного комбината, который теперь работал директором городского рынка, а другую – он. Вообще-то в теннис он почти не играл, но научиться собирался давно – а тут вроде как и пасьянс обстоятельств для этого наконец складывался…
Но однажды ночью в новых производственных помещениях случился пожар. Сгорело все – разливочная установка, сырье, которое он предусмотрительно закупил на полгода вперед, деревянные перекрытия здания и оконные рамы, вся мебель, находившаяся в соседних комнатах, включая его рабочий стол и шкаф с архивом комсомольской организации. Поскольку церковь располагалась чуть в стороне от города, пламя обнаружили поздно, и опоздавшим пожарным спасать уже было нечего.
Увидев следующим утром ископаемый скелет колокольни, зияющие провалы окон и густую черную копоть на белых стенах, он, схватившись за голову, вдруг тихо забормотал что-то ему самому непонятное, какой-то звукоряд, который в его досознательном детстве произносила его еврейская бабушка…
Виноватых искали, но не нашли. Его оторопь длилась несколько дней. А потом он решил, что все к лучшему. Возиться со свечками, получая за это юродивые копейки – разве это может стать делом всей жизни? Конечно, нет! А теперь он найдет какой-нибудь фонд, возьмет денег на основательную реконструкцию и устроит в церкви что-нибудь по-настоящему грандиозное!
Поиски средств оказались долгими и утомительными. Но оптимизма и настойчивости он не терял и в конце концов оказался в Варшаве, у потомков графа Пшздецкого, того самого аристократа, который три века назад построил костел. Там ему наконец повезло – его обходительность, фотографии, архивные справки и относительно скромная смета реставрационных работ произвели на семидесятипятилетнюю пани Пшздецкую весьма выгодное впечатление. Собственных денег у ее не было, но благодаря кое-каким полезным связям, ей удалось найти нужную сумму через какой-то европейский фонд поддержки культурных проектов.
«Я обязательно приеду на церемонию открытия, – пообещала она ему на прощанье. И, помолчав немного, добавила: Если, конечно, буду к тому времени жива»…
Он снова собой гордился. На счету кооператива, срочно переименованного в совместное российско-польское предприятие, лежала вполне солидная сумма. Ну не миллион долларов, конечно, но на ремонт должно было хватить. Правда, получив деньги, он вдруг засомневался – а стоит ли восстанавливать костел в качестве культового объекта. Может, лучше устроить здесь что-нибудь вроде элитного клуба для тех, кто успел разбогатеть? В Варшаве он как-то заглянул случайно в такое заведение. Там было очень круто – в темноте зала, покачивая бедрами, ходили полуголые официантки, за барной стойкой жонглировали бутылками высокомерные бармены, а афиша обещала, что в 24:00 начнется тайское эротическое шоу…
«Может, что-нибудь в этом духе? – рассуждал он. – С легким церковным уклоном?.. Ресторан, бар и развлекательная программа «Игривые монашки»… А что? Это раньше все притворялись, что секса вообще нет, а сейчас он есть. Его теперь даже днем по телевизору иногда показывают!..»
Он осторожно поделился новыми планами со своим партнером. Директор ПТУ в ответ испуганно замахал руками и даже перекрестился. Он разозлился. Ведь всю работу выполняет он! Он в свое время договорился с попом! Он достал денег на ремонт после пожара! Он теперь сидит здесь с утра до ночи, контролируя этот бестолковый стройбат! А директор палец о палец не ударил, а еще смеет при этом возражать! Однако решительности устраивать стрип-клуб у него поубавилось. Внедрять в обществе нечто новое, будучи в полном одиночестве, все-таки было боязно. Даже с учетом того, что в этом обществе уже признали существование секса.
Примерно через год церковь отреставрировали. Фасад снова стал белым, окна удивленными, крыша рыжей, колокольня стройной. С крестом он, правда, решил повременить, поскольку идея на предмет развлекательного заведения, хоть и была заморожена, но окончательно не умерла. «Жизнь сама подскажет, что здесь можно устроить», – думал он.
За качеством работ во время ремонта он следил самым тщательным образом и столь же тщательно при этом экономил – в результате у него остались кое-какие наличные деньги. Воспоминания о поездке в Польшу дразнили память, и он решил снова отправиться за границу – за новыми впечатлениями в какую-нибудь еще более интересную страну: «Может, там и определюсь, каким бизнесом заняться». В областном бюро путешествий ему предложили автобусный тур в Голландию. Стоила поездка недорого, даже на эротическое шоу кое-что оставалось. Он был уверен, что заслужил этот отдых.
Вечером, накануне долгожданного отъезда, заглянув в ближайшую от дома булочную, он встретил там Володьку Юрченко. Года четыре назад тот учился в ПТУ на шофера и слыл самым отпетым хулиганом. Сейчас бывший пэтэушник был в ярком спортивном костюме, а на запястье у него болтался толстый золотой браслет.
– Ну, как оно, товарищ? – насмешливо произнес Володька, увидев бывшего идеолога. – Все политинформации проводишь или теперь другую нычку нашел?
Возле булочной стояла иномарка. Володька бросил на машину равнодушно-хозяйский взгляд. Экс-комсомольскому вожаку вдруг страсть как захотелось перебить Володькино ленивое самодовольство и он рассказал о совместном предприятии, о зарубежном финансировании, о разворачиваемой на базе костела коммерческой деятельности, которая скоро охватит весь Жаславль, а, может быть, и областной центр.
– Та ты чё, в натуре? – удивился Володька. – Ну дела… А я ведь, как от вас уехал, так ничего и не знаю, что тут теперь происходит. А посмотреть-то на все это можно?
– Запросто, – ответил он, – хоть сейчас, у меня как раз и ключи с собой.
Ездить в иномарке было намного приятнее, чем в отцовских «Жигулях». Особенно под громкие голоса вчерашних пионерок, которые разрывали динамики песней про «три кусочи-ика колбаски». До группы «Smokie» им было, конечно, далеко, но качество звука все-таки подкупало.
По дороге Володька почему-то то и дело оглядывался по сторонам. «Впечатление от своей тачки ловит», – подумал он.
Сторожа на месте не оказалось. Открыв тяжелую дверь костела, он начал демонстрацию собственных достижений. Похвастаться было чем. В здание протянули водопровод, канализацию и отопление, провели газ, из износостойкой плитки настелили полы, а внутренние стены выкрасили белым. Все было чистым и свежим.
– Тут бы такой, знаешь, центр досуга устроить! – авторитетно заявил Володька. – Ну там сауна, бассейн, бильярд, девочки… А чё, в Москве таких уже полным полно!
Не успел он обрадоваться появлению нежданного единомышленника, как вдруг свежепокрашенные двери распахнулись, и на пороге возник незнакомый человек в таком же, как у Володьки, спортивном костюме. Увидев его, Володька побелел и жалобно заблеял:
– Шмук, ну я прошу тебя, Шмук, ну ты же знаешь, не брал я у них ничего… И не подставлял… Это люди Вартана сделали…
Не обращая внимания на его слова, Шмук быстро вытащил из кармана пистолет и несколько раз выстрелил в Володьку. Потом резко повернулся, навел курок на него и сказал:
– Вякнешь кому, на такую легкую смерть не рассчитывай! Понял?.. – Он судорожно кивнул, и уже через секунду во дворе взвизгнула отъезжающая машина.
«Как хорошо, что я никому не рассказал про Голландию», – думал он, спустя какое-то время, когда к нему вернулась способность соображать, и он понял, что каким-то образом оказался дома и теперь бросает в дорожную сумку свои вещи.
«И хорошо, что родители уже месяц, как у бабушки в Минске, и тоже ничего не знают! На последний автобус я вроде успеваю… Завтра вечером перееду границу, за это время они вряд ли что-нибудь выяснят…»
Бодрая гидесса в автобусе говорила без умолку. Туристы шутили, смеялись и пили пиво. Он готов был их всех убить. За окном бежали разнокалиберные деревья, автобус останавливался в каких-то городах и поселках. В его воображении снова и снова возникал вид грузного тела, лежащего в темной луже на светлом полу. А то, как он потом закрывал дверь и как добирался домой, он так никогда и не вспомнил.
На границе его никто не задержал.
В Амстердаме их привезли в небольшой аккуратный домик с черепичной крышей, похожей на крышу его церкви, и разместили в комнатах по двое. Он боялся, что у руководительницы группы есть какой-нибудь старый кагэбэшный канал связи с родиной, и оттуда вот-вот придет сообщение о розыске подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Поэтому, как только им предложили «отдохнуть с дороги», он, не распаковывая сумку, направился к выходу.
– У меня здесь подарки друзьям, мы договорились, что первым делом я приеду к ним, – сообщил он молодому человеку, с которым его поселили. Вообще-то новые свободные времена уже успели окрепнуть, и никто больше не требовал, чтобы советские люди за границей держались кучно и отчитывались друг перед другом о каждом предпринятом шаге, но он решил оправдаться. Сосед в ответ равнодушно пожал плечами.
Закрыв за собой ажурные металлические ворота, навеявшие горькие воспоминания о кресте, снятом с его колокольни, он на всякий случай переписал на бумажку малопонятные буквы на табличке с адресом и спрятал ее в кошелек. Возвращаться сюда он не собирался, но бог знает, как сложатся обстоятельства… Потом сел в первый подвернувшийся автобус и часа через полтора оказался где-то в районе порта.
Несколько суток он бомжевал в Амстердаме. Дни были более или менее сносными. Он не спеша бродил по улицам достойных кварталов. Крутые арочные мостики, отражаясь в шелковых каналах, образовывали немного разъезжающееся удивленно-восторженное «О». Время от времени в душе у него начинали звучать прохладно-солоноватые мелодии пластинки «Тюльпаны из Амстердама», которую любила мама, и он чувствовал под ресницами странную влагу, от которой чистые улочки начинали сверкать так, словно их только что вымыли, и они еще не успели высохнуть.
К вечеру он перебирался поближе к порту. Там был совсем другой мир – разноязыкий, многоцветный, неопрятный и пугающий. Никто никого не понимал, никому ни до кого не было дела. Стрип-шоу показывали прямо на улице, и пахло марихуаной. Он спал на ящиках в каком-то подвале, положив под голову сумку. О будущем не думал – ему казалось, что все должно сложиться как-нибудь само собой. Что кто-то должен подвернуться и обязательно ему помочь… Но дни шли, а спасители не торопились. Деньги, которые он с крайней экономностью тратил только на еду, заканчивались. Он давно не мылся, попытка выяснить у бородатого старика с серьгой в ухе, нет ли поблизости какого-нибудь пляжа, не удалась – старик его не понял. А потом у него украли сумку с одеждой. Он опасался оставлять ее днем в своем подвале и всегда с тихими проклятьями таскал с собой. Как-то присел на скамейку, ношу поставил рядом на землю и задумался. Вроде даже не дремал, и рядом, кажется, никого и не было, но сумка исчезла. Слава богу, хоть кошелек и паспорт оказались при нем, в кармане.
Вернувшись в «нору», почувствовал, что в душе набрякло тяжелое, но неизбежное решение. Ночью не спал, ходил из угла в угол, спрашивая себя: «Ты уверен? Уверен, что другого выхода нет? Уверен?..»
Под утро к нему в подвал неожиданно заявился тот самый старик с серьгой, с которым он пытался поговорить накануне. До этого они несколько раз встречались на улице, бродяга, видимо, тоже обитал где-нибудь по соседству. Усевшись на ящик, старик заговорил на непонятном языке.
– Откуда вы приехали? – спросил он, вспомнив школьные уроки английского.
Не обращая внимания на вопрос, гость продолжал свой непонятный монолог. Проговорив сам с собой минут пятнадцать, вытащил из грязного кармана несколько сигарет, завернутых в газетный обрывок. Закурил сам и предложил ему. Секунду поколебавшись, он взял сигарету и крепко затянулся. В сыром подвале запахло тяжело и приторно. Через несколько минут он тоже заговорил вслух:
– Я ни в чем не виноват, понимаешь! Я хотел как лучше, бизнес организовать, деньги зарабатывать! А тут встретил случайно этого козла на крутой тачке, и дернуло же меня похвастаться… Вот и сижу теперь здесь. А что было делать? Оставаться? Так менты наверняка подумают, что я тоже с бандитами связан. На меня и так в городе косо смотрят. У нас же не любят тех, которые что-то пытаются… что-то делают… А если я милиции всю правду расскажу, то меня этот Шмук убьет… Вот я и уехал… Но, видно, зря. Что мне теперь всю жизнь в этом подвале сидеть? И вещи как назло украли… Надо, наверное, возвращаться! В конце концов можно же им сказать, что не Шмук этот, а кто-нибудь другой стрелял. Я этого Шмука и не помню-то толком. Можно же описать ментам кого угодно… Да вон хоть тебя… с серьгой в ухе… Хотя, а вдруг у него тоже серьга, а я ее не заметил? Тогда он подумает, что это я милицию навел… – Старик тоже о чем-то ему рассказывал. Тяжелый с запахом старости дым клубился в подвале. – …А здесь я пропаду! Ни языка, ни профессии. Ну попрошу политического убежища, а они узнают, что меня подозревает уголовный розыск, и что тогда? Вышлют на родину, а там та же тюрьма. Нет, надо возвращаться, пока не поздно. Будь, что будет…
Он открыл кошелек и нашел клочок бумаги с адресом гостиницы, в которой остановилась их группа. Протянул листок старику:
– Ты случайно не знаешь, как туда добраться? Я на каком-то автобусе ехал часа полтора… – Недоуменно глядя в бумажку, старик продолжал говорить что-то на своем непонятном языке. – Ничего ты не знаешь – ни где пляж, ни где моя гостиница, – заключил он, выбираясь из подвала. – Но все равно тебе спасибо! За то, что хоть выслушал…
В розовых лучах утреннего солнца игрушечные домики и молодая зелень живых изгородей отливали перламутром. В небе паслись белорунные мериносовые стада. На свежеполитом, зернисто поблескивающем тротуаре стояла девушка. С длинными льняными волосами, высокая, стройная, в короткой юбке. Он протянул ей бумажку с адресом гостиницы и, мобилизовав воспоминания о школе, сказал по-английски:
– Ай нид зис адрес. Бас намбер…
Взглянув на буквы, девушка вдруг громко рассмеялась:
– Ты из России, да? Знаешь, что здесь написано?
– Ну, название гостиницы и адрес… наверное… – ответил он растерянно, не успев даже обрадоваться тому, что может говорить на родном языке и рассчитывать на понимание.
– Здесь написано: «Частные владения. Убедительная просьба без звонка не входить». Ясно?
– Ясно, – ответил он, заливаясь пюсовым цветом знамени победителя соцсоревнования.
– А где это тебя так обтрепали? – поинтересовалась девушка, присмотревшись к нему. – В порту, что ли, приключения искал?
– Да что-то вроде того, – ответил он со странным и совершенно неуместным чувством довольства собой…
Потом он так и не смог определить, была ли это та самая любовь, мощная и настоящая, или Яне просто удалось на какое-то время развинтить его личность, воспользовавшись положением, в котором он оказался.
К тому времени Яна прожила в Голландии около года, зарабатывая на жизнь шаржами, а до этого закончила два курса английского отделения филфака Ленинградского университета. Рисовала она, если честно, не очень, но туристы реагировали на ее длинные ноги и мгновенно подкупающую манеру говорить. С ней было легко, и все происходящее казалось очень веселым.
Выяснив, что художественных способностей у него нет, но он более или менее уверенно поет и знает десяток гитарных аккордов, она предложила ему просить милостыню у картонной вывески «Подайте югославскому беженцу» и исполнять при этом какие-нибудь выразительные песни!
– Это же роскошная бредятина! – восклицала Яна. – Наши люди, конечно, не поверят и посмеются, но наших здесь мало! А все эти наивные старушки в кудряшках обязательно помогут, чем смогут. И так ты запросто заработаешь на билет в Штаты! Ты же не собираешься возвращаться в этот твой жуткий Жаславль? – убеждала она его, смеясь. Ей очень хотелось в Голливуд. Она заразила его своим желанием. И вообще он подчинялся ей безоговорочно. Как и было велено, просил милостыню, притворяясь беглым югославом и негромко, но проникновенно напевая что-то про «любовь, комсомол и весну». Главное, что она со своим мольбертом стояла рядом и время от времени бросала ему заговорщицкие взгляды, от которых он млел.
Это было совершенно не похоже ни на один из его предыдущих романов. Раньше он легко находил общий язык с девушками, и легко с ними расставался. Несколько раз в него основательно влюблялись энергичные пэтэушницы, одна даже как-то утопиться от любви обещала. Он поклонниц поддразнивал и собирался когда-нибудь жениться в Москве на дочери министра. Теперь же он забыл обо всем – о церкви, о Володьке, о сановных постах и выгодных невестах. Главное – чтобы Яна всегда была рядом.
«Всегда» закончилось через четыре месяца. Они действительно заработали на билеты до Нью-Йорка и успели туда прилететь. Но в аэропорту она от него сбежала с их попутчиком, бледным европейским аристократом лет сорока.
Он снова потерянно бродил по чужим нарядным проспектам и убогим трущобам. Но вспоминал не Яну, а ту самую девицу, собиравшуюся сигануть в Свислочь… А еще стихотворение Маяковского про мост самоубийц, которое они проходили в школе. И подолгу смотрел с Бруклинского моста вниз, на головокружительные глубины Гудзона…
Через пару лет все как-то устроилось. Он получил грин-карту, выучился на таксиста и зачем-то начал со вкусом материться. А на макушке у него разместилась округлая розовая ранняя лысина, беззастенчиво притворявшаяся мудрой тонзурой…
В восстановленном костеле Святой Девы Марии живет вполне симпатичная крыса. Крыса хозяйничает, стучит тарелками, открывает кран, шуршит в ведре. «Эге она, судомойка», – думает маленький мальчик, который пришел сюда вместе с бабушкой. И в голову ему приходит беспокойная мысль, что крыса может иметь собственное имя, неизвестное людям. – Лиомпа?..
Любовь
Юхан Стенмарк родился в пятьдесят втором году на самом севере Швеции в крошечном городе, название которого переводится с саамского как Санный След. С октября по май запорошенный сухим блестящим снегом городок незатейливо жалуется на строгую, требовательную зиму – поскрипывает, как дверь в гостеприимном деревенском доме, трещит, как огонь в работящей печке. Краснобокие белоголовые дома в освещении круглосуточно работающих фонарей выглядят модниками, хоть и очень неохотно надевают на себя рекламные щиты и прочие современные урбоукрашения. Закованные в ледовую броню деревья от порывов ветра звенят ветками, как лошади колокольчиками, а под фонарями, притворяясь диковинными насекомыми, увлеченно летают всякие искрящиеся снежные мелочи. Небо цвета маренго, опротестовывая северную сдержанность, переходящую в скуку, иногда самовозгорается. И несмотря на то, что местные жители не отличаются особой тягой к знаниям, латинское название северного сияния – Aurora Borealis – горожане запоминают с самого детства.
Где-нибудь к середине июня Ботнический залив окончательно освобождается ото льда, и наступает краткое, но пронзительно светлое лето. Спешно зацветают острова архипелага, шумно машут перистой листвой крепкие березы – белокожие, многоглазые, с черным саамским прищуром. По нежно-розовому небу изредка прохаживается белооблачный обоз, и свежий молочный воздух утоляет жажду лучше воды. Пожалуй, только прожорливые комары слегка портят общее удовольствие. Спокойствие характеров и событий не позволяют жизни меняться, но это никого не огорчает – скорее наоборот.
Впрочем, полвека назад, сообщение о появлении на свет Юхана Стенмарка вызвало среди обитателей Санного Следа заметное оживление. Об этом узнал каждый из сорока девяти тысяч девятиста девяносто девяти жителей города – потому что Юхану посчастливилось родиться пятидесятитысячным горожанином. На первой странице местной газеты напечатали их семейную фотографию, а от муниципалитета родителям подарили красивую керамическую тарелку с городским пейзажем и большую оленью шкуру. Так что Юхан с самого детства ощущал собственную исключительность – хоть ему и приходилось прятать это чувство за стенами родного дома, носить его как приватную пижаму. По социальным нормам Санного Следа публичная демонстрация собственного – пусть даже заслуженного! – превосходства считалась верхом неприличия. В почете были такие добродетели, как скромность, немногословность и трудолюбие. Последнее было для Юхана совершенно естественным, первые два давались с трудом, и их все время приходилось изображать, лавируя волей.
Юхан никогда не сидел без дела. В детстве не хулиганил, хорошо учился, помогал родителям по дому, ходил с отцом и старшим братом на охоту. И очень любил свой дисциплинированный холодный край. Организовывал для одноклассников походы в окрестные леса, знал всех северных птиц и запросто мог изобразить, как поет какой-нибудь крохаль, оляпка или утка-гнилушка. Подзаработав как-то летом на сборе морошки, купил дорогой бинокль для наблюдения за птицами. Мама закатила глаза и хлопнула в ладоши – мол, безумные же деньги! – но на самом деле ей нравился поступок сына, и втайне она тоже считала, что ее мальчик не такой, как остальные дети…
В соответствии с известным правилом личность, считающая себя избранной, должна стремиться в столицу – и после окончания гимназии Юхан отправился в Стокгольм, где поступил на естественный факультет педагогического института. Столица, прятавшаяся до этого в небольшом экране чуть пузатого телевизора, поразила его размахом и цветом. На первом курсе Юхан столицы побаивался. На втором – страстно ее полюбил. На третьем – разочаровался. В конце учебы ему казалось, что огромный город стирает его о свои адреса, как ученический ластик. Дома у него был почти почетный титул, его часто узнавали на улице незнакомые люди. Здесь же он иногда сам себя не узнавал – ловил собственное отражение в случайном зеркале и с грустью думал, что ничто не выделяет его из толпы, и никто в этом мегамуравейнике не обращает на него никакого внимания…
В общем, получив профессию педагога-естественника, Юхан твердо решил вернуться домой. Правда, столичный диплом показался ему недостаточно солидным трофеем. Помимо него Юхан решил привезти в Санный След столичную жену и сделал предложение однокурснице Тине. Красавицей Тину можно было назвать с большой натяжкой, но зато в каждом ее шаге и жесте чувствовалась раскрепощенность, которая обычно взращивается только на самых центральных улицах главного города государства.
Их отношения, завязавшиеся еще в начале учебы, к четвертому курсу как-то незаметно успели приобрести ту ровность, по которой в Санном Следу узнавалось среднестатистическое семейное благополучие. И хотя где-то в глубине души Тина и понимала, что Юхану не хватает блеска и лоска, но с ним ей было намного удобнее, чем со скользко-отполированными столичными типами. К тому же она хотела детей, а Юхан решительно заявил, что потомством обзаведется только на родине – там, где ему не нужно предварительно латать тылы и где у него есть личный номер! Нет, не номер регистрации в органах налогообложения, который присваивают каждому шведскому новорожденному, а нечто особенное! Обязывающее его совершить что-нибудь выдающееся на благо городка, поставившего на нем печать избранности.
Поразмышляв для вида около недели, Тина начала паковать чемоданы. Будучи житейски-обыденным, столичный антураж особой ценности для нее не имел. Будущее же интригующе поскрипывало, как рассыпчатый северный снег, который, тая, никогда не превращается в грязь…
Их обоих взяли в самую большую в городе школу – целых двести пятьдесят учеников с четвертого по одиннадцатый классы. Юхан увлекся работой искренне, преподавал с душой, охотно брал всевозможные дополнительные нагрузки, занимался с проблемными детьми, со временем даже закончив для этого специальные курсы по психологии подростков. Тина относилась к работе более формально. К тому же за десять лет у них родились четверо детей. Тинина мечта о материнстве была поставлена на поток, а за те непродолжительные периоды, когда она возвращалась к работе, вникнуть в профессию по-настоящему она как-то не успевала. Когда же дети подросли, стали воспитывать друг друга и требовали меньше ее внимания – было поздно, стереотип труда уже сформировался. «За меня Юхан старается», – оправдывалась она на каких-нибудь школьных посиделках.
Муж действительно работал за двоих и не только в школе. Он первым развернул в городе кампанию по улучшению состояния окружающей среды. Разнообразные эко-движения набирали обороты по всей стране. С учетом невысокой плотности населения и обширных лесных массивов экологическое положение северных областей было не самым бедственным, но и здесь многое можно было усовершенствовать. У них в районе, к примеру, располагались два промышленных гиганта: целлюлозно-бумажный комбинат и сталелитейный завод. Их трубы иногда дымили так безжалостно, что небо с раскраской радужной форели превращалось в бурую чешую салаки горячего копчения… Юхан с учениками инициировал несколько акций под общим девизом «Сделаем наш край чистым». Поначалу эта деятельность была похожа на внеклассную работу, но масштаб ее рос, и со временем им удалось привлечь внимание муниципалитета. Мэр выделил им кое-какие средства, школьники начали выпускать собственную газету, в которой печатали популярные статьи на экологические темы, интервью с ответственными лицами и отчеты о собственных делах.
Искренне восхищавшаяся энтузиазмом мужа Тина настояла на том, чтобы Юхан съездил в Стокгольм и поговорил с ее кузеном Биргером, который в то время руководил общественной организацией «Экология и демократия».
Биргер с интересом выслушал рассказ об их проектах, глубокомысленно заметил, что человечество спасется только в том случае, если научит молодое поколение жить и мыслить по-новому, после чего сам предложил организовать в далеком северном городке филиал их сильной и богатой организации. Дело сладилось споро и скоро, и Юхан возглавил местное отделение «Эко и демо». По уставу организация имела право содержать освобожденного руководителя, но Юхан сам не захотел бросать школу, без особых усилий совмещая обе работы.
Новое общественное объединение быстро приобрело популярность среди жителей Санного Следа. Сначала в организацию вступали школьники-старшеклассники, потом их родители. И уже через год бюджет «Эко и демо», благодаря членским взносам и шефской помощи столичного центра, составлял весьма внушительную сумму. При этом вся финансовая деятельность организации была прозрачна и безупречна, как хрусталь. Юхан расходовал средства разумно, предпочитая разнообразные экологические проекты, за участие в которых школьникам выплачивались небольшие суммы.
– Дети должны с детства понимать, что любое экологическое мероприятие прежде всего выгодно! Они должны твердо знать, что если кто-то выбросит на берег канистру с остатками моторного масла, то он за это обязательно заплатит государству штраф! А государство израсходует эти деньги по назначению – проследит, чтобы канистра оказалась на заводе вторичной переработки или, в крайнем случае, на специально оборудованной свалке! А так как мы с вами, к счастью, живем в демократической стране, то наша организация и берет на себя эту государственную функцию! – убежденно объяснял Юхан. «Брать на себя государственную функцию» ему лично было чрезвычайно приятно.
За семнадцать лет своего существования северное отделение «Эко и демо» действительно сделало много хорошего. Особенно Юхан гордился тем, что им удалось добиться присвоения статуса национального парка одному из близлежащих островов. В прошлых веках в сезон путины на этом острове селились рыбаки, ставившие в море сети на салаку, которая тогда была стратегическим продуктом питания, и благополучие местных жителей напрямую зависело от улова. Теперь же остров постепенно приходил в запустение. Юхан еще с детства любил приезжать сюда летом на небольшом катере, и ему было грустно наблюдать, как под прессом времени и невостребованности оседают бывшие рыбацкие хижины, как сутулится стройная часовенка, из последних сил удерживая себя в ребрах бревен…
Он долго и упорно писал в самые разнообразные инстанции, собирал подписи «в защиту исторического наследия северного края» и, в конце концов, добился признания ценности этой территории. После того как остров объявили национальным парком, Юхан оформил самого себя официальным смотрителем. Все отлично устроилось – «парк» мог функционировать только летом, когда школа закрывалась на каникулы, и времени у Юхана было достаточно. Он с увлечением правил часовню и обессиленные домики. Строгал, пилил, рубил, выкорчевывал, строил специальные мостки для перехода по болотистым участкам, прокладывал экскурсионные тропинки в березовом лесу и сосновом бору, которые пристроились с разных сторон острова. Кстати, деньги, которые он – исполняя государственную функцию! – сам себе платил, в почасовом выражении были такими же, как и те суммы, которые получали за свои акции ребята. Этот факт Юхан всегда с особой настойчивостью подчеркивал в отчетах…
В общем, все складывалось как надо. И иногда, после пары бокалов крепкого пива Юхан мог даже открыто заявить об этом Тине:
– Может, я, конечно, и не легендарный герой своего края. Может, я так и не совершу ни одного настоящего подвига. Но жизнь я сделал крепкую и достойную! И разместил ее в единственно правильном месте!!!
Тина с ним всегда соглашалась.
А как-то летом в конце девяностых с совершенно неожиданным предложением Юхану позвонил кузен жены Биргер, который теперь был большим человеком в департаменте природоохраны. Он спросил Юхана, не хочет ли тот поехать в Россию и прочитать там лекцию о демократии, экологии и школьном образовании.
– Россия сейчас переживает сложный реорганизационный период, – объяснял ему Биргер. – Русские поняли, что авторитарная система преподавания себя изжила, но что делать дальше не представляют. И им крайне необходим наш положительный опыт! К тому же там чудовищное положение с экологией. А материальное – и того хуже. Это мы здесь уже понимаем, что экология – это прежде всего образ жизни и разумное потребление. А они там ничего еще не понимают! И нужно попытаться это им объяснить! В общем, мы подумали и решили, что лучшего кандидата для этой миссии, чем ты, не найти во всей Швеции! – На этих словах Юхан приглушенно вздохнул. А еще ему понравилось слово «миссия». Биргер между тем продолжал: – Ты же и педагог, и эколог, и демократ в самом широком смысле! Два месяца у тебя в запасе, мероприятие намечено на середину сентября. Подготовишь лекцию на четыре часа – общие сведения о шведской концепции школьного образования, принципы содержательного обучения, то есть основы демократии на экологическом материале. Кое-что из практических примеров – ваши акции, опыт работы руководителем общественной организации в небольшом населенном пункте. Словом, ты и сам лучше меня знаешь, о чем тут можно говорить.
– Ну, в общем, кое-какой опыт у меня, конечно, имеется, – согласился Юхан.
– Русские хотят провести это как общую для Северо-Запада кампанию. Начало и окончание проекта в Петербурге, а между ними другие города региона, всего пять лекций. Тебе дадут шведоговорящего переводчика, перемещаться будете на машине с русским водителем, жить в гостиницах. Не пять звезд, конечно, но условия вполне сносные, я специально интересовался. В общей сложности мероприятие займет дней десять. И гонорар, между прочим, весьма приличный, из фонда поддержки международных экопроектов…
Сразу же после состоявшегося разговора Юхан бросился писать текст своего будущего выступления.
«Вот уже больше двадцати лет я работаю рядовым школьным учителем-естественником. Кроме этого я принимаю самое активное участие в деятельности общественной организации «Экология и демократия», а в летнее время совмещаю это с работой смотрителя небольшого, но очень красивого национального парка, расположенного на одном из островов Северного архипелага… С самого начала я хочу сказать, что приехал сюда не для того, чтобы давать вам рекомендации по вопросам экологии или воспитания молодежи. Для этого нужно хорошо знать вашу ситуацию, а этим я похвастаться не могу. Я просто хочу рассказать вам о нашем опыте. Мы многого добились, но я не стану утверждать, что все наши проблемы решены раз и навсегда, поэтому я очень надеюсь, что наш семинар пройдет в форме взаимоинтересного диалога, который обогатит и наш, и ваш опыт, поможет более полно увидеть проблемы, актуальные для наших стран…»
Юхан просидел за компьютером до глубокой ночи. Текст получался убедительным, содержательным и демократичным. Ему нравилось над ним работать, и, чтобы поскорей продолжить творчество, на следующий день он пришел из школы непривычно рано, отменив все, что удалось отменить. «Министерство экологии поручило мне очень ответственную миссию! Я еду в Россию с лекциями о шведской модели формирования демократического и экологического сознания!» – объяснял Юхан коллегам и ученикам. В масштабе Санного Следа это казалось таким весомым, что «лектору» даже простили открыто зазвучавшую в его голосе гордость. А семидесятипятилетний почтальон и по совместительству информатор «Эко и демо» Абель Закриссон в связи с этим известием вспомнил рассказ своего отца о том, как в 1917 году по узкоколейке в Финляндию через их северный край проезжал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин…
Два месяца до поездки прошли в странном темпе – словно грандиозность предстоящего мероприятия сбила время с ритма, и Юхану казалось, что оно то застывает неповоротливой совой, то летит куда-то со свистом, на манер стремительного стрижа.
В тот момент, когда Юхан вышел в переполненный зал аэропорта Пулково, у него в последний раз случился хронологический столбняк. Преодолеть оцепенение ему помогло собственное имя, надвигавшееся на него форматом А4. Лист держала в руках невысокая серьезная женщина с монументальной прической. Ее сопровождали двое мужчин – молодой человек в очках и с рыжей бородкой и небритый, слегка примятый дядя лет пятидесяти. Юхан подошел к ним, улыбнулся и узнавающе кивнул.
– Добро пожаловать, – произнес молодой человек по-шведски, – меня зовут Александр, я ваш переводчик. Это Наталья Леонидовна, руководитель отдела народного образования, а это Виктор, наш водитель.
Наталья Леонидовна протянула Юхану чуть дрожавшую руку и, усердно артикулируя, сообщила по-английски, что рада видеть его в своем городе. Виктор, схватив чемоданы, быстро пошел на улицу. Переводчик спросил, хорошо ли прошел полет. Без особого, кстати, интереса.
Машина громко дребезжала, ехала быстро, но в салон успевали заглядывать мощные дома.
– Это самая большая улица? Невский проспект? – поинтересовался Юхан.
– Нет, проспект называется Московским. Но это действительно самая длинная улица в городе. В этой части Московского архитектура в основном современная, а старые дома сохранились ближе к центру. Кстати, завтра мы вам покажем все достопримечательности Санкт-Петербурга.
В общей интонации переводчика Юхана что-то настораживало, но по-шведски Александр говорил безупречно, с грамматической стройностью и без акцента.
– А как случилось, что вы так хорошо знаете шведский? – спросил Юхан. – У вас есть родственники в Швеции?
Усмехнувшись, Александр ответил, что все его родственники по большей части живут в Москве, Америке и Израиле, а шведский он выучил в университете, это его профессия.
– И вы постоянно переводите?
– Перевожу, если есть что. А вообще-то я пишу исследовательскую работу, сравнительный анализ произведений Стриндберга и Достоевского.
О Достоевском Юхану было известно, что тот написал роман «Преступление и наказание». Стриндберга когда-то проходили в гимназии. Юхан пытался выкроить из двух этих фактов какую-нибудь ответную фразу, но у него ничего не получалось. В голове почему-то завертелась назойливая мысль о том, что вся его родня испокон веков жила в Санном Следу или где-нибудь поблизости. Помолчав, Юхан наконец произнес:
– Я тоже в свободное от основной работы время занимаюсь исследованиями. Изучаю птиц, гнездящихся на севере Швеции!
Наталья Леонидовна, сидевшая рядом с водителем, прервала их беседу предложением обсудить программу завтрашнего дня. Юхан мгновенно сосредоточился и серьезным голосом сообщил, что намерен явиться на место проведения семинара заблаговременно – для того, чтобы, во-первых, проверить исправность проектора и видео – он сообщал о необходимой технике по факсу – а во-вторых, чтобы проникнуться атмосферой и настроиться на соответствующую волну. Произнесенный пассаж получился довольно долгим, Юхан посмотрел на переводчика. Александр же, убедившись, что швед действительно взял паузу, без запинки произнес длинную фразу на русском. «Ну конечно… Стриндберг… Достоевский…» – рассеянно подумал Юхан.
Гостиница оказалась мощным полукруглым зданием, на крыше которого было написано: «Москва».
– Мокба, – прочитал Юхан вслух и поинтересовался: – А что это значит по-русски?
– По-русски это значит Москва, столица нашей необъятной родины, – ответил Александр, усмехнувшись. – Это не латинские, а русские буквы, они читаются по-другому…
Юхан решил, что переводчик ему не нравится. Как человек.
Ночью он долго не мог уснуть. В номере было душно, откуда-то снизу доносилось осатанелое диско. Предстоящая лекция начала вдруг казаться чем-то страшным и сложным, вроде медицинской операции. За два месяца подготовки Юхан продумал текст до последней интонационной детали, много раз проверял его при помощи таймера, точно знал, как и какими словами он объявит два маленьких перерыва и один большой, заменяющий обед, во время которого участники будут пить кофе с бутербродами. Он даже попытался спрогнозировать вопросы и заготовил несколько общих фраз, которыми можно будет манипулировать в ответах. Теперь же, листая в уме воображаемые страницы текста, Юхан думал, что слова слишком примитивны, что ему не удастся удержать внимание аудитории, что его вообще не поймут… И что Александру с этим его странным – то непроницаемым, то насмешливым выражением лица – вряд ли удастся правильно передать дружественный эмоциональный окрас лекции. А доброжелательность, между прочим, есть самое важное условие развития в коллективе демократических отношений…
Сомнения, ворочавшие Юхана с боку на бок, прервал телефонный звонок. Ядовито-зеленые цифры настенных электронных часов показывали без пяти два. Юхан снял трубку, хрипло и вопросительно сказал «хэлло».
– Добрый вечер, – произнес на другом конце провода манерный женский голос по-английски, – может быть, гость из Швеции хочет встретиться с красивой русской девушкой? С целью приятно провести вечер?..
«Гость из Швеции» растерялся и слегка онемел. «Красивая русская девушка» продолжала что-то курлыкать в трубку.
«Это общество действительно нездорово! – заключил Юхан, стряхнув наконец замешательство. – Им нужно срочно развивать педагогику определения ценностей! Так что какой бы банальной моя лекция ни была – она пойдет им на пользу!»
– Гудбай! – сердито сказал Юхан «красивой девушке» и повесил трубку. Потом плотно закрыл балконную дверь, проверил входной замок, перестелил сбившуюся простынь, улегся и наконец уснул.
Водитель Виктор, забравший Юхана из гостиницы в половине девятого утра, ехал по переполненным улицам быстро, нахально и часто сигналил другим машинам. Ремень безопасности на пассажирском сидении не пристегивался. На каком-то повороте их остановил человек в униформе. Виктор, заговорив с милиционером жалобно и ласково, почему-то стал повторять слова «гринпис» и «шеф». Юхан вообще-то знал, что существует международная организация, которая называется «Green Peace», но в мягкой Швеции она была не очень популярна, так как практиковала слишком радикальные методы достижения результата… Впрочем, в России ведь другие буквы и другие звуки, «Мокба» оказывается Москвой, и вполне вероятно, что «шеф» у них означает совсем не начальника, а «гринпис» не имеет никакого отношения к экологическим экстремистам… К тому же полицейский Виктора отпустил, взял под козырек, заглянул в салон и улыбнулся Юхану. Вполне демократично…
А еще через несколько минут они приехали в совершенно недемократичное по виду здание, которое демократично называлось Дворцом Труда.
– Вот здесь мы и будем проводить нашу лекцию! – радостно сообщила Юхану встретившая их у входа Наталья Леонидовна. – До начала еще минут сорок, так что вы вполне успеете и проверить технику, и привыкнуть к обстановке.
Лектор слегка обескураженно смотрел по сторонам. По широкой лестнице с реками-перилами и низкими – для торжественного шага – ступенями шли серьезные женщины. Огромные в золотых кудрявых рамах зеркала отражали их строгие костюмы и непростые прически. Юхан поймал в зеркале свои голубые джинсы и клетчатую рубашку, из расстегнутого ворота которой выглядывала белая футболка. Так одевались все шведские учителя, независимо от пола. Это было удобно и демократично. Юхан посмотрел на Александра. На том был серый костюм и неброский, но явно шелковый галстук. Иезуитски тонкая оправа очков прятала ироничный взгляд. Юхан почувствовал, как внутри у него образуется опасная смесь из волнения и раздражения.
– Российские учителя народ очень ответственный. А к мероприятиям, вроде нашего, они вообще относятся с истерическим почтением. Стараются выбрать место попрезентабельнее и одеться понаряднее… – как бы безадресно произнес переводчик.
Юхан посмотрел на него с сомнением. Александр, видимо, пытался как-то его приободрить – это было по-дружески. Но с другой стороны, Юхану не нравилось, что его так просто раскусили.
– Мы собираемся говорить о демократии! – со значением сообщил шведский гость. – А для подлинной демократии так называемые условия не имеют значения. Демократическое сознание может с равным успехом существовать и в правительственной приемной, и в скромном крестьянском доме…
Зал, в котором Юхан собирался обо всем этом говорить, был похож на музыкальный салон царского дворца в социалистической аранжировке. На невысокой сцене стояла кафедра для оратора и стол со стульями для – как объяснила Наталья Леонидовна – «президиума». Слушатели сидели рядами на обитых красным бархатом витиеватых креслах с белыми спинками. На стенах висели большие зеркала, а потолок украшала лепнина с рельефными музами, змеевидными лирами и щекастыми, чем-то похожими на нахохлившихся воробьев херувимами.
Пока руководительница отдела народного образования официально открывала мероприятие, Юхан сидел в президиуме.
«Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашей конференции, посвященной вопросам реформирования школьного образования. Под реформами я прежде всего имею в виду назревшую и требующую безотлагательного решения потребность экологизации и демократизации учебного процесса, в результате которого мы должны воспитать у наших детей принципиально новое сознание… Сегодня нам с вами предоставляется возможность прослушать лекцию Юхана Стенмарка, нашего гостя из Швеции, выдающегося педагога и ученого…»
Александр шепотом переводил произносившиеся с трибуны слова. Слово «ученый» заставило Юхана задуматься. Конечно, в каком-то смысле это было преувеличением – он не может называться настоящим ученым, у него нет опубликованных трудов. Ведь статьи о птицах, которые много раз печатались в «Новостях Санного Следа» не считаются? Или считаются? Но с другой стороны, он действительно изучает северную природу, может говорить о ней часами, – и выходит, что с этой точки зрения титул вполне заслужен…
Эти рассуждения отвлекли Юхана от вступительной речи, и лишь нестройные аплодисменты, под которые Наталья Леонидовна покидала трибуну, заставили его встрепенуться и понять, что пришел его час. Юхан занял место за кафедральной стойкой, тихонько крякнул, пробуя голос, и в волнении начал:
«Вот уже больше двадцати лет я работаю рядовым школьным учителем-естественником. Кроме этого я принимаю самое активное участие в деятельности общественной организации «Экология и демократия», а в летнее время совмещаю это с работой смотрителя небольшого, но очень красивого национального парка, расположенного на одном из островов Северного архипелага…»
Тревога рассеялась быстро – как дымок от стартового пистолета, и уже минут через пятнадцать Юхан улыбался, говорил уверенно, длинными интонационно четкими отрывками. Александр держал темп и хорошо справлялся с переводом, несмотря на то, что в русских фразах явно отсутствовал эмоциональный колорит оригинала.
Слушателей было человек шестьдесят, одни женщины. Все сидели смирно, слушали внимательно и усердно писали в тетрадках.
«Им же, наверное, неудобно писать на коленях», – подумал Юхан где-то в начале третьего часа выступления, когда окончательно освоился в роли лектора и прекратил во время перевода мысленно ощупывать начало своей следующей фразы. В Швеции на подобных мероприятиях вообще никто ничего не пишет – каждому участнику выдается папка с предварительно подобранным реферативным материалом. Юхан подготовил такую информационную памятку и для российского семинара, а в департаменте природоохраны ее даже перевели на русский и отправили в Петербург по факсу. Но Наталья Леонидовна сказала, что у нее возникли сложности с копировальной техникой, и поэтому материалы передадут участникам позже, после конференции. Юхан своевременно сообщил об этом слушательницам, но они все равно конспектировали каждое его слово. Даже то, что ему самому казалось совершенно неважным, например, цвета школьных контейнеров для мусора: зеленый – для пищевых отходов, желтый – для бумаги, красный – для батареек и прочих опасных вещей… Ведь главное для педагога – понять, что детей нужно с самого младшего возраста учить потреблять эффективно и следить за тем, что происходит с отходами потребления! А цвета мусоросборников при этом не имеют никакого значения!
Но вообще, ощущение оттого, что шестьдесят человек сидят и скрупулезно записывают его текст, действовало на Юхана как-то противоречиво. С одной стороны, это его раздражало – это же было признаком старой, изжившей себя педагогики учительского диктата, против которой он всегда так энергично выступал! Учителя нового поколения давно признали, что задача школы заключается не в том, чтобы транслировать детям фактические знания. Информационное поле за последние десятилетия стало таким обширным, что научить всему просто невозможно. Кроме того, человечество начинает осознавать, что истины, долгое время казавшиеся абсолютными, на самом деле не так уж безупречны. Поэтому молодым не нужно оглядываться на авторитеты, они не должны сидеть и под диктовку записывать отцовские догмы. Гораздо важнее, чтобы они, выслушав отцов, попытались определить собственное отношение к опыту старших. Но если ученик, слушая учителя, пишет, то на анализ собственного мнения у него уже не хватает физических возможностей…
Юхан твердо верил в школу свободной мысли. Но высокоскоростная сосредоточенность, с которой русские женщины записывали его слова, доставляла ему некое слегка щекотное удовольствие. В самом начале лекции он предупредил участниц, что они могут в любой момент перебивать его вопросами, и был действительно готов к тому, что время от времени ему придется давать какие-нибудь дополнительные объяснения, но женщины, казалось, видели свою задачу в том, чтобы увековечить на бумаге как можно больше, по возможности, все, что произносил лектор… Юхану Стенмарку это нравилось. Несмотря на то, что это противоречило демократической педагогике, которой он посвятил свою жизнь…
В конце мероприятия Юхан настоял на «диалоге со слушателями», предложив публике задать вопросы или просто высказать свое мнение. Во-первых, ему на самом деле было интересно, как русские восприняли материал. А во-вторых, он уже рассказал все, что хотел – на перевод ушло меньше времени, чем предполагалось при подготовке. После объявления «диалога» повисла пауза, но Юхан молчал и приглашающе улыбался. Наталья Леонидовна отправила в зал из президиума требовательный и немного гневный взгляд. В конце концов молодая симпатичная девушка, явно преодолевая робость, поднялась и спросила, во всех ли школах Швеции отказались от традиционных парт и используют круглые столы, за которыми все дети сидят лицом друг к другу – ну как на фотографиях, которые им показывал господин Стенмарк. Юхан ответил, что кое-где еще сохранилась старая меблировка, но заверил, что в стране «делается все для создания демократичных и комфортных условий обучения».
– Еще вопросы, комментарии, – призывно воскликнул Юхан по-шведски, потом выбросил вперед руки и добавил по-русски: – Пашалуста! – Публика умиленно заулыбалась, а пожилая женщина с красиво, как в довоенном кино уложенными седыми волосами, не вставая с места, спросила:
– А сколько у вас в стране получает педагог с сорокапятилетним стажем?
– Да и вообще, сколько учитель получает? – негромко повторили сразу несколько голосов. Наталья Леонидовна посмотрела на коллег очень сердито, покачала головой, но погасить в глазах собственный интерес к заданному вопросу не смогла.
Юхан же немного растерялся. Он не привык к тому, чтобы публично рассуждать о зарплате. Но если попытаться подумать обобщенно, то, пожалуй, можно сказать, что труд шведского учителя оплачивается незаслуженно низко.
– Назвать какую-то конкретную цифру я не смогу, – произнес лектор. Потом хитро улыбнулся и продолжил: – Но шансов стать миллионером у шведского учителя нет. Ведь для того, чтобы получить профессию педагога, нужно четыре года учиться. А если сравнить зарплату дипломированного учителя с тем, что получают представители других специальностей длительного обучения – юристов, скажем, или инженеров, – то учитель рискует оказаться на самом последнем месте…
– А у нас учитель получает двадцать пять долларов в месяц, – грустно отозвалась из зала та же седоволосая женщина.
– Это переводить необязательно, – шепотом сообщила Наталья Леонидовна Александру, но тот уже успел повторить сказанное по-шведски. Юхан растерялся. То есть он, конечно, слышал, что российская экономика нестабильна, но не настолько же, чтобы учителю платили двадцать пять долларов в месяц! И потом как это увязать – двадцать пять долларов и все эти золотые зеркала, и президиум, и туфли на высоких каблуках? У Тины тоже есть одна пара нарядной обуви, она надевала ее в прошлом году на свадьбу племянника, а потом у нее три дня болели ноги. И эти их костюмы с прическами… Это все – на двадцать пять долларов?.. Что же ему ответить?
Наталья Леонидовна, «прочитав» замешательство шведа, пришла на помощь:
– Дорогие друзья! – произнесла она с итоговой торжественностью. – У вас наверняка осталось много вопросов, но я надеюсь, что господин Стенмарк приезжает к нам не в последний раз и что впереди у нас много интересных встреч, на которых мы сможем продолжить начавшийся разговор. А сейчас наше время приближается к концу, и я хочу от вашего лица поблагодарить господина Стенмарка за интересное выступление и на память о нашем семинаре подарить ему книгу о Санкт-Петербурге.
Юхан принял подарок, прижал его к сердцу и проникновенно произнес заготовленное заключительное слово:
– На прощанье я хочу рассказать вам одну индийскую притчу о пяти слепцах. Однажды пятерых старцев привели в некую комнату и предложили отгадать, что за предмет в ней находится. Каждый из них подошел к предмету со своей стороны, потрогал его, понюхал, погладил. И вскоре каждый был точно уверен, что знает ответ. «Это кирпичная стена, я чувствую пальцами шершавый раствор и крепость глины», – решил первый. «Нет, это мраморная колонна, я могу обхватить ее руками», – возразил второй. «Это веревка, которую раскачивает ветер», – сообщил третий. «Да нет же, это ковер-самолет, он вот-вот унесется в небо, я едва удерживаю его на земле», – заявил четвертый. А пятый был абсолютно уверен, что в руках у него извивается огромный питон. Будь у них зрячие глаза, они бы поняли, как далеки их ответы от истины. Умей они слушать друг друга, они могли бы догадаться, что перед ними – слон! Но они не могли видеть и не умели слушать. Они – это мы с вами! Ни один из нас не может утверждать, что ему или ей известна абсолютная истина. Поэтому давайте слушать друг друга! Давайте слушать наших детей! Ведь именно им придется, исправляя ошибки всех предыдущих поколений, строить на нашей маленькой планете лучший мир!..
Юхану хлопали так долго и громко, что ему вспомнился спектакль в Стокгольмской опере, куда как-то в студенческие годы его и Тину пригласили Биргер с женой…
По окончании семинара планировалась экскурсия по городу, после которой Юхану предоставлялось, как сказала Наталья Леонидовна, «свободное время», а следующим утром они с Виктором и Александром должны были отправиться в Выборг.
Санкт-Петербург был чем-то похож на Стокгольм – только сильнее и как-то нахальнее. А может, Юхану так казалось, потому что малоразговорчивый Виктор ездил быстро и дерзко, и этот непривычный с неожиданными торможениями темп, в котором за окном автомобиля бегали мощные улицы и площади, повергал Юхана в некое хронологически-географическое замешательство. Ему казалось, что он в режиме ускоренного воспроизводства смотрит фильм о чем-то великом и малопонятном. Александр время от времени что-то рассказывал, они останавливались то у терракотовых маяков, то у голубого монастыря необыкновенно женского изящества, то у строгой ограды, за которой сквозь живейшую зелень просматривались беломраморные фигуры прошлого.
Потом они оказались у Медного Всадника. Александр говорил о Петре Великом и Карле XII. Слушая вполуха, Юхан рассматривал змею, ползавшую по граниту извилистого пьедестала, по-ослиному торчавшие листья лаврового венка, указующую длань императора и копыта его скакуна. Царь на вздыбленном коне производил на Юхана неприятное впечатление – он подавлял, в нем не было ничего демократического! И хотя Юхан понимал, что это история, что к прошлому нельзя примерять критерии современности, но сделать с собой ничего не мог – каменный правитель его раздражал. Не нравился он ему – и все тут!
Юхан посмотрел на расположенный за памятником собор с огромной золотой головой. Это было красивое сильное здание, но оно чем-то напоминало старинный чернильный прибор, который он видел в музее Дроттнинхольма, куда они как-то ездили с ребятами на экскурсию. Юхан вдруг вспомнил, с каким увлечением участницы семинара записывали его лекцию. «Нужно отредактировать текст, сделать его весомее что ли… Уж если они так старательно конспектируют, то пусть каждое слово будет действительно важным и значимым», – ответственно подумал шведский лектор, усаживаясь в автомобиль, который, рванув с места, помчался строго в направлении, указанном недемократическим императором.
«И еще внешний вид! – продолжил рассуждения Юхан. – Может, здесь не принято ходить на официальные мероприятия в джинсах? Ему лично все равно, он, как известно, демократ. Но это не значит, что демократу нужно нарушать социальные традиции страны, которая так тепло его принимает…»
– Александр, скажите, а у вас в России пиджак и галстук являются более привычной одеждой для семинаров, вроде нашего? – осторожно поинтересовался Юхан у переводчика.
– Трудно сказать, – ответил Александр, – в нашем случае, строгая одежда не обязательна. Вы же рассказываете о демократизации общества и иллюстрируете ваши слова вашим же внешним видом. А если говорить вообще, то в России любят… – Александр помедлил, подбирая слова, – любят определенную внешнюю солидность, вес что ли…
«Солидность, вес…» – повторил про себя Юхан, а вслух сказал:
– Я как-то об этой стороне совсем не подумал. Думал, мы будем много ездить, жить на чемоданах, посещать обычные школы. Поэтому у меня с собой только полуспортивные вещи. Может, имеет смысл заехать в какой-нибудь магазин мужской одежды, чтобы я мог купить что-нибудь более подходящее для… – Юхан хотел сказать «солидности», но сказал:…атмосферы? Ведь впереди еще целых четыре семинара!
– Да без проблем, – ответил Александр, – тут совсем рядом Гостиный Двор. Это самый большой и старый универмаг города, сам по себе достопримечательность…
Войдя в Гостиный с Невского, Юхан решительно направился к нарядной двери, на которой было написано «Галерея Моды». У входа в универмаг толпилось множество народа, а за дверью галереи оказалось прохладно и безлюдно, тихо звучала классическая музыка, и лишь кое-где вдоль стильных в пастельных тонах стен висели какие-то, скорее декоративные, костюмы и платья. Юхан в легком замешательстве оглянулся назад, надеясь увидеть Александра. Переводчик появился – с кислой миной.
– Господин говорит по-английски? – растягивая слова, спросила растянутая в длину девушка в длинном до пят, но почти прозрачном одеянии сложного фасона, сквозь которое просматривалось условное нижнее белье.
– Yes, – ответил Юхан хрипло. Александр скептически смотрел по сторонам.
– Вы желаете подобрать что-нибудь из одежды? Меня зовут Рита, я консультант по дизайну и могу вам помочь. В нашем бутике представлены эксклюзивные, штучные модели ведущих зарубежных и отечественных модельеров, так что мы можем удовлетворить самый взыскательный вкус.
Юхан собрался было поинтересоваться насчет уровня цен и наличия скидок на какой-либо товар. В Швеции такой вопрос прозвучал бы нормально даже в самом дорогом магазине, но Юхан замешкался и спросить почему-то не решился. Вместо этого он произнес:
– Ээ… Меня интересует… ээ демократический пиджак, который можно носить с джинсами… Ну может, еще однотонная рубашка… или две… и подходящий галстук.
– У господина есть особые пристрастия к торговым маркам? Может быть, Хуго Босс? Лапидус? Гуччи? – продолжала тянуть слова консультант-Рита.
Юхан растерянно пожал плечами. Александр вдруг лениво и немного недовольно сказал продавщице что-то по-русски – какую-то длинную фразу, в которой Юхану удалось расслышать собственную фамилию. В ответ девушка послушно улыбнулась и скрылась за зеркальной дверью.
– Я сказал ей, что вы известный в Швеции дизайнер, который в следующем месяце открывает собственный бутик в центре Парижа. Что сюда вы приехали с частным визитом, что ваш багаж задерживается, и поэтому вам срочно необходимы перечисленные вещи. И что вы принципиально не платите большие деньги за раскрученные, но отнюдь не гениальные имена конкурентов. Так что самое дорогое они предлагать не будут… – Александр немного помолчал, потом улыбнулся и добавил: – Вы же вроде сами говорили, что среди шведских учителей миллионеры не встречаются.
Юхан снова растерялся. С одной стороны, разговор с этой фифой был на самом деле неуютным – и Александра стоило поблагодарить за помощь и находчивость. А с другой стороны, Юхану казалось, что в этом пассаже присутствует скрытый элемент то ли иронии, то ли насмешки… Особенно во фразе про учителей-миллионеров…
«А вообще, надо же! Сочинил, будто я сам дизайнер!..» – удивленно подумал Юхан, прекратив искать подвох в действиях переводчика. «Дизайнер одежды!» Применительно к нынешнему Юхану звучало это, конечно, совершенно абсурдно. «Ну а вдруг обстоятельства моей жизни могли сложиться как-нибудь так, что в результате я действительно оказался бы дизайнером? Или артистом? Или крупным политиком?..» – рассуждал про себя Юхан, пытаясь одновременно определить собственное отношение к утраченным возможностям.
Выкатив элегантную тележку, в салон вернулась продавщица. На тележке висели три пиджака и несколько рубашек с галстуками. Недавние рассуждения о пусть и несостоявшихся, но потенциях, как ни странно, придали Юхану уверенности. Он бодро отправился в примерочную, где без особых колебаний выбрал темно-синий полуспортивный пиджак и две рубашки разных оттенков серого. А барышня Рита, которая после разговора с Александром стала вести себя чуть-чуть энергичнее, помогла ему выбрать подходящий по цвету галстук.
– Сколько это стоит? – спросил Юхан как бы между прочим, уже после того, как сообщил, что намерен купить отобранные вещи. Вообще-то ценой он всегда интересовался в первую очередь. Но в обратном порядке тоже, оказывается, что-то было! А можно было вообще не спросить о деньгах!.. Но на это Юхана Стенмарка все же не хватило.
– Пиджак от российского модельера Чилихина стоит триста пятьдесят долларов, рубашки по семьдесят пять, галстук пятьдесят. Всего пятьсот пятьдесят долларов. Ваш охранник сказал, что сейчас вы не хотите тратить реально большие деньги, – проворковала длинная и прозрачная Рита.
В душе у Юхана снова зазвучала какофония эмоций. Она думает, что у него есть охранник! Александр! С его Стриндбергом и Достоевским! Но пятьсот пятьдесят долларов! Пять с половиной тысяч крон! Это же огромные деньги! Реально огромные, очень реально! Неужели для нее они нереально маленькие? А ему еще придется как-то объяснять свое мотовство Тине! В Швеции, конечно, тоже можно найти магазины, где продаются вещи по таким ценам, и даже дороже. Но их семья делает покупки в демократичных универмагах, на распродажах…
– Кстати, – протянула Рита. Силы, казалось, снова ее оставляют. – Я чуть не забыла… Каждому клиенту, который делает в нашем бутике покупку на сумму свыше пятисот долларов, мы предоставляем талон на одно бесплатное посещение модного салона красоты, где вы можете по вашему усмотрению выбрать либо стрижку, либо стандартный комплекс услуг косметолога или визажиста. Вот, пожалуйста! – Вместе с кредитной картой, которой Юхан расплатился за почитаемую в России «солидность», Рита протянула ему пригласительный билет в парикмахерскую.
Юхан посмотрел на себя в зеркало. Он стригся две недели назад у Петры, Тининой приятельницы и матери его ученика. Конечно, можно было бы пойти и сделать новую прическу, хуже от этого не станет… К тому же бесплатно! Но Юхан вдруг вспомнил одну дурацкую историю из своей молодости.
Как-то на четвертом курсе Юхану попалось газетное объявление – выпускники школы парикмахеров приглашали желающих молодых людей бесплатно подстричься в качестве моделей для дипломных работ. По вечерам Юхан подрабатывал официантом в маленьком кафе, но денег ему все равно вечно не хватало, поэтому он обрадовался возможности сэкономить на стрижке и в нужный час пришел по указанному в газете адресу. Еще и Тину с собой захватил. Сначала было замечательным – его классно подстригла приветливая девица, уложила волосы каким-то кремами, так что в результате Юхан сам себе очень понравился. Но тут выяснилось, что девице нужно «защитить» свою работу. А для этого облагоображенному Юхану вместе с другими «моделями» придется выйти на сцену и несколько раз профланировать перед приемной комиссией, показав стрижку с разных сторон. Отказываться было поздно. Остальными «моделями» были в основном дети и подростки. Жюри состояло из напомаженных женщин и женоподобных мужчин. В зале сидели друзья выпускников и Тина. При демонстрации каждой новой работы включалась специально отобранная парикмахером музыкальная тема, которая должна была отражать дизайнерскую идею. Когда на сцену вышел Юхан, зазвучало что-то агрессивное со словами «I'm too sexy for your body…» Публика хлопала, Тина смеялась, Юхану хотелось провалиться сквозь землю, но он отчаянно штопал это желание улыбкой. Потом он споткнулся и чуть не упал…
– Нет, спасибо, у меня сейчас нет необходимости посещать парикмахерскую, – ответил Юхан Рите. Прозвучало это немного высокомерно. Продавщица пожала плечами, спрятала пригласительный билет куда-то в стол, механически улыбнулась Юхану на прощанье и снова впала в свою томную дрему.
Вечером в гостинице Юхан собрался позвонить домой. Набрал половину цифр номера, но, увидев на кресле большой нарядный пакет из «Галереи Моды», испугался и резко бросил трубку на рычаг. И почти тут же – под грузом впечатлений – уснул как убитый.
На втором семинаре в Выборге народу собралось еще больше, чем на первом – человек семьдесят-восемьдесят. Мероприятие проводилось во Дворце культуры. Дворец культуры был скромнее, чем Дворец труда, зеркал и золота здесь было намного меньше, но ораторская кафедра и стол президиума, казалось, перекочевали сюда прямиком из предыдущего зала.
Вооруженный первым опытом и пиджаком от «известного российского модельера», Юхан волновался немного меньше. За три часа дороги он мысленно внес в текст выступления кое-какие коррективы. Решил, к примеру, представляться не рядовым школьным учителем, а – более обтекаемо – педагогом. Не смотрителем, а хранителем национального парка – ведь поселение на острове это же музей под открытым небом, а работник музея с полномочиями Юхана – это уже не просто смотритель, это хранитель, у хранителя статус выше… Фразу «принимаю самое активное участие в деятельности общественной организации «Экология и демократия» Юхан заменил на «являюсь руководителем северного отделения общественной организации «Экология и демократия»…
Произнося слова обновленной презентации, Юхан украдкой посмотрел на переводчика, но Александр перевел новую редакцию текста, не моргнув глазом.
В остальном же второй семинар прошел почти так же, как первый. Вопросы участники задавали чуть более активно, но тема зарплаты снова прозвучала. Финальная притча об индийских слепцах снова вызвала бурные овации. Юхан снова почувствовал удовлетворение от сделанного. Во второй раз чувство удовлетворения было даже более глубоким, чем в первый.
После окончания семинара местные женщины-организаторы пригласили его в отдел народного образования на «скромный, по-домашнему, маленький банкет». Юхан с восторгом принял приглашение. Во-первых, это была экономия на ужине – хоть какая-то, но компенсация расходов, вызванных его недавним покупательским припадком. Во-вторых, ему было любопытно, что подают на русском «домашнем» празднике. Поить по идее должны водкой. А кормить, наверное, чем-нибудь особенным, чисто русским.
Банкет сервировался на двух составленных вместе письменных столах в кабинете руководительницы. Она, кстати, была очень похожа на Наталью Леонидовну, и внешностью, и начальственным поведением. И звали ее тоже Наталья, только не Леонидовна, а как-то иначе, отчества Юхан так и не запомнил.
Застолье началось с того, что выборгская Наталья позвонила своей питерской тезке и долго выражала признательность за «оказанную честь принять шведского лектора». Александр переводил разговор, Юхан слушал и думал, что в Швеции никто не обращается к начальству так высокопарно. Это же недемократично!.. Но с другой стороны, благодарили-то за «честь» принять его, Юхана Стенмарка! И не шведы, а русские. Значит, здесь действительно нуждаются в его знаниях и опыте! Значит, можно смело гордиться тем, что его работа заслуживает таких ярких, выразительных слов! И ради этого единственного случая позволить легкое отступление от демократической социальной нормы…
На русском банкете шведскому гостю предлагались водка, сок, соленые огурцы, маринованные грибы, квашеная капуста, соблазнительно румяные пирожки и разложенные веером непривычно толстые кусочки сыра и колбасы. Помимо Натальи, за стол уселись пятеро ее коллег, одни женщины.
– В России дамы обычно не наливают себе алкоголь. Это делают мужчины. Так что хозяином party придется быть вам. Следите, чтобы у всех были полные рюмки! – негромко сообщил Юхану Александр.
В каком-то смысле это тоже было недемократичным. Здесь даже чувствовался намек на половое неравенство. Но «хозяин party» звучало, в этом была определенная «солидность»!.. И Юхан с удовольствием взял на себя эту роль.
Первый тост подняли за сотрудничество, второй за школу, третий за экологию. После третьего все слегка расслабились. Громкая общезастольная беседа распалась на отдельные быстрые, но тихие разговоры. Юхан ел с аппетитом, все время подкладывая себе на тарелку то хрустящую с клюквенными глазками капусту, то соблазнительно пахнущую колбасу, то скользкие и неподдающиеся, но очень вкусные грибочки.
Женщины по очереди обращались к Юхану с выражениями восторгов по поводу его родины. «Какие вы молодцы! Вы столького добились! Нам об этом можно только мечтать! Но вы же понимаете, у нас совсем другое экономическое положение… Мы вам не завидуем, нет! У нас тоже есть заслуженные учителя, мастера своего дела… Просто вы должны знать, что вы молодцы!»
Подогретый водкой Юхан млел. В голове у него шумело, шум напоминал приглушенные овации. Хотелось поблагодарить этих милых женщин как-нибудь очень выразительно. Недемократично. И еще сказать им, что в Швеции действительно хорошо! Даже еще лучше, чем им кажется!..
Они заговорили об экологических проблемах маленьких городов. Начальственная Наталья рассказала, что в подвале их дома без разрешения жильцов разместили небольшую лако-красочную фабрику, и теперь в подъезде всегда пахнет какими-то растворителями. «Вот как с ними можно бороться?» – поинтересовалась она у опытного шведского борца.
– Нужно написать письмо мэру! – решительно заявил Юхан. – Нужно организовать демонстрацию протеста! Однажды мы, например, развернули кампанию по запрещению использования свинцовых красок для катеров и лодок. Я дошел до генерального директора концерна «Акро-Нобель»! А «Акро-Нобель» это даже не местный мини-завод! Это транснациональный гигант! Но я добился результата!.. Мы добились…
Русские женщины, слушая, качали головами. В их добрых усталых глазах читался транснациональный восторг и местный скепсис…
– Так приятно было с вами пообщаться! – вздохнула в конце застолья Наталья. – Жаль только, что вы так быстро уезжаете, а то мы бы вам детей наших показали. Знаете, какие у нас замечательные дети! У нас школы нищие, любая техника – страшный дефицит, а ученики все равно призовые места на предметных олимпиадах занимают! И в Питере, и даже в Москве! Жаль, очень жаль, что вы не смогли поприсутствовать на каком-нибудь открытом уроке!..
– Мне тоже жаль, – искренне согласился Юхан, – Но, к сожалению, времени у меня действительно мало. Завтра я уже должен ехать в город Peskoff…
Он посмотрел в окно. На дремучей тополиной ветке сидела стайка воробьев и ответственного вида ворона. «Мне нравится эта страна, – подумал Юхан, – Тут, конечно, многое по-другому, не так, как дома… Но в целом мне здесь нравится…»
Переночевав в маленькой гостинице, следующим утром они направились в сторону Пскова. По опыту дороги до Выборга Юхан знал, что Александр предпочитает в машине молчать, а Виктор любит слушать русское диско. Кстати, к шальной езде водителя швед кое-как привык, так что от размышлений о предстоящей лекции опасная дорога его почти не отвлекала.
«Мне кажется, в России уделяют большое внимание точности определений», – думал Юхан. Вспомнил, что, беседуя в перерыве с одной учительницей биологии, он говорил «приспособление», а она – «аккомодация». А еще кто-то сказал «вторая сигнальная система», имея в виду «речь»…
«Я должен усовершенствовать текст! Еще раз тщательно его проверить и использовать только научную терминологию!» – решил Юхан.
Кстати, когда он предложил участникам выборгского семинара спрашивать или комментировать, одна молодая женщина задала ему вопрос на фактические знания – спросила, определили ли ученые, какую роль в экосистеме играют особи-квартиранты, то есть те, которые, эксплуатируя других, не наносят им вреда, вроде рыбы-прилипалы. Но «нахлебничество» или «квартиранство» она назвала каким-то мудреным словом, то ли «комментаризм», то ли «коммонсаризм». Юхан даже не сразу сообразил, о чем шла речь.
– Александр, вы случайно не помните, какой термин использовала женщина, которая спрашивала о рыбах-прилипалах? – поинтересовался Юхан у дремавшего на переднем сиденье переводчика.
– Ну что вы, – зевнул Александр, – я никогда не запоминаю то, что перевожу. Я работаю только на оперативной памяти, без перспективы, и уже через полчаса в моей голове пусто. То есть там, конечно, может что-нибудь осесть, но это должна быть информация, которая интересна мне лично…
На следующий день, прямо перед началом третьего семинара, Юхан неожиданно вспомнил, что переводчик работает только на «оперативной» памяти. Вспомнил – и дерзнул представиться президентом общественной организации и директором национального парка.
Обогащенный научной терминологией семинар прошел на ура. Слушатели усердно писали. Финальные аплодисменты раскачивали сцену зала заседаний псковского Дворца профсоюзов, как энергичный морской ветер – романтический галиот. У Юхана даже голова закружилась. Руководительница местного отдела народного образования в наипроникновеннейшей манере произнесла официальные слова, вручила сувениры, но публика расходилась неохотно. К лектору то и дело подходили какие-то люди, благодарили за «интересную встречу», желали успехов, спрашивали о Швеции и выражали восторги.
В этот раз среди слушателей попадались мужчины – человек шесть на примерно пятьдесят женщин. Один из них подошел к Юхану самым последним, представился Сергеем Алексеевым, протянул напечатанную по-русски визитную карточку и с помощью Александра пригласил шведа «на чашку чая» к себе домой.
– Что, прямо сейчас? – удивился Юхан.
– Ну конечно! А чего тянуть! – ответил Сергей. – Я спрашивал у Тамары Петровны из отдела образования. Она сказала, что мероприятие официально закончено, что вы сейчас либо пойдете на экскурсию по Псковскому кремлю, либо просто будете гулять по улицам. Так на город мы с вами можем посмотреть по дороге ко мне! А потом придем домой, сядем за стол, чайку попьем или чего покрепче! Поговорим! Мы же с вами коллеги, нам будет о чем побеседовать…
Юхан растерялся – в Швеции не принято приглашать и ходить в гости к малознакомым людям. Но ему стало любопытно. Он посмотрел на Александра и спросил, может ли тот пойти к Сергею вместе с ним.
– Я прошу прощения, но по договору мне оплачивают работу только на семинаре, – произнес переводчик. – Впрочем, дело даже не в этом. Будь мы в любом другом месте, я бы с радостью помог вам пообщаться. Но в Пскове у меня живет друг, мы с ним договорились заранее и встречаемся через час. – Как-то слишком формально извинившись, Александр пожал плечами и повторил сказанное по-русски.
– А ничего страшного! – ответил ему Сергей Алексеев. – Мой сын уже четыре года учит английский в школе, так что мы и без вас как-нибудь поймем друг друга. Я точно знаю, что если у людей общее дело – то они и язык общий сумеют найти!
Условились, что Сергей отправится с Юханом к себе, а Александр на обратном пути от своего друга заедет за шведом по указанному адресу, и они вместе вернутся в гостиницу.
Дорога до дома российского коллеги оказалась непростой. Сначала они минут двадцать простояли на остановке. Потом, когда автобус наконец появился, едва в него втиснулись. Самостоятельно Юхан ни за что бы не сообразил, как себя нужно вести в такой ситуации, но Сергей его подталкивал, дергал, тянул за рукав – и Юхан понял, что нужно быть активным. В салоне он даже попытался отвоевать пространство, слегка орудуя локтями.
Сергей время от времени повторял: «Транспорт… проблем…» Потом что-то по-русски и снова: «Транспорт… проблем…» Многочисленные попутчики смотрели на Юхана очень внимательно. Несколько раз ему наступали на ноги. Он пытался улыбаться, но человек, ловивший его улыбку, тут же отводил свой пристальный взгляд. Юхан никак не мог понять, демократично это или нет.
За окном автобуса мелькали синева и зелень, старинный красный кирпич, белые стены и золотые купола. Сергей что-то рассказывал. Громко, внятно, медленно, по нескольку раз повторяя одно и то же слово. Но Юхан все равно ничего не понимал.
Минут через сорок они наконец добрались до места. Это была окраина города, спальный район, застроенный однотипными многоэтажками.
– Вот здесь я и живу! – сообщил Сергей, пропуская Юхана в небольшую темную прихожую.
По тону швед понял, что ему сказали что-то вроде традиционного «добро пожаловать!» И словно подтвердив его догадку, откуда-то сбоку выскочила огромная темпераментная собака, которая начала с визгом прыгать до потолка, выражая тем самым всяческое жизнелюбие и гостеприимство.
Сергей громко закричал на пса и попытался ударить его ботинком. Юхан же испуганно попятился к двери – разглядев, что собака – это запрещенный в Швеции боевой ротвейлер.
Кое-как справившись с собачьим восторгом и затолкав пса в какую-то комнату, хозяин оглянулся на гостя, подфутболил ему стоптанные тапочки и сказал:
– Ну что ты, Юхан, прям как неродной! Давай проходи, чувствуй себя, как дома.
Юхан догадывался, что сказанное тоже имело отношение к гостеприимству, но ему показалось, что прозвучало это как-то сердито что-ли… Впрочем, может, у русского языка вообще такая интонация, кто его знает…
Говорящего по-английски сына дома не оказалось. Сергей провел Юхана на кухню. Там было тесно, но как-то специфически уютно – немного беспорядочно и совсем не по-шведски. На подоконнике за белой тюлевой занавеской прятались комнатные цветы в разнокалиберных горшках, из большой треснувшей глиняной вазы, стоявшей на холодильнике, торчали натуральной величины пластмассовые подсолнухи. Кухонная мебель из сосны, не новая, но причудливая, вся в каких-то струганных загогулинах. У окна обитый гобеленом угловой диванчик и покрытый клетчатой клеенкой стол.
– Давай присаживайся! – велел Сергей и даже слегка подтолкнул Юхана к дивану – ну чтоб тот точно понял, куда нужно садиться.
Юхан осторожно присел. Бесцеремонно открыв дверь лапой, в кухне появилась собака. Осмотрелась по сторонам, подошла к своей миске, понюхала еду, фыркнула. А потом, заискивающе заглянув в глаза Юхану, полезла под стол, где благополучно улеглась гостю прямо на ноги. Гость при этом окаменел.
– Ну ладно, черт с тобой, лежи охраняй! Хотя невоспитанная ты у нас все-таки псина! – добродушно прокомментировал поведение собаки Сергей, одновременно вынимая из холодильника водку, колбасу, соленые огурцы, капусту и еще какие-то банки. Он расставил на столе тарелки, вилки, рюмки, нарезал колбасу и разложил ее на блюде уже знакомым Юхану веером. Положил бумажные салфетки и приглашающе выбросил руки в стороны:
– Ну давай, начнем! Давай за Россию и Швецию! За дружбу, так сказать, между народами!
С перепугу Юхан опрокинул первую рюмку залпом.
– А вот это по-нашему! – одобряюще похлопал его по плечу Сергей и тут же налил по второй.
После третьей Юхан почувствовал себя немного свободнее. Собака, которая по-прежнему лежала на его ногах, больше не казалась ему такой страшной и тяжелой. Колбаса была очень вкусной. Сергей что-то рассказывал по-русски, Юхан узнавал кое-какие слова: «экономика», например, или «бизнес», а еще фамилию российского президента.
После пятой рюмки Сергей принес из комнаты гитару, фотоальбом и толстый русско-английский словарь.
– Ты вообще петь любишь? – поинтересовался хозяин у гостя. Гость, хоть и понимал, что у него что-то спрашивают, но в ответ только беспомощно улыбался.
– Так, ну-ка подожди! Щас мы с тобой во всем разберемся! – заявил Сергей. Потом полистал словарь, выписал что-то на салфетку, выразительно прочитал: «Юхан, ю лав синг?» – и для пущей наглядности показал на гитару.
Вопрос швед понял. Проблема заключалась в том, что он не знал, как на него отвечать. На праздничных застольях Юхан пел в общем хоре коротенькие заздравные песни, но самостоятельно даже гимн Швеции не решился бы исполнить – слух был слабоват.
– I don't know… Maybe… so-so… with others… – ответил он после небольшого раздумья. Слова Сергей не узнал, но по слегка скептическому выражению лица гостя понял, что солировать тот не собирается.
– Тогда я сам сейчас спою тебе песню! Моего любимого автора – Высоцкого. Слышал, наверное? Он и за границей широко известен, его на все языки мира перевели…
Располагающе прозвучал первый гитарный аккорд. «… А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты…» – с чувством пел Сергей. У него хорошо получалось – ритмично, искренне и убедительно.
На втором припеве Юхан узнал слово «нейтральный». Потом вспомнил, что в России, как оказалось, «нейтральной» называют его родину, Швецию.
«Так может, эта песня нам и посвящается?» – подумал швед. Он старательно вслушивался в текст, но ни одного знакомого слова больше не услышал.
«Впрочем, неважно – нам или вам! – в конце концов решил Юхан. – Главное, что он поет о чем-то хорошем, это и так понятно!»
После громкого финала Сергей отложил гитару в сторону и взял в руки фотоальбом.
– Смотри, Юхан, это моя работа. Ну, моя арбайтен. Видишь, почти как у тебя в твоем парке. Красиво, да?
На снимках были роскошные пейзажи, деревья в снегу и зелени, блестящая река, случайно пролившаяся на землю из голубого неба.
– Is it national park? – спросил Юхан. Потом вспомнил, что Сергей несколько раз повторял, что они коллеги, и добавил: – Are you director of this national park?
– Ну не директор, а инспектор, – ответил Сергей. – Это, между прочим, тоже ответственная должность! Инспектор рыбнадзора! Подожди, щас я посмотрю, как это будет на твоем тарабарском языке. – Сергей начал листать словарь:
– А, вот! Ну так и будет: инспектор, прям точно как по-русски. Инспектор фиш! А директора у нас и вообще нет.
От слова «директор» Юхану на мгновение стало неуютно. Но где-то под столом шевельнулась собака, и ощущение дискомфорта каким-то странным образом исчезло. Кстати, пес уже казался Юхану созданием милейшим, добрейшим и, главное, очень теплым. Юхан даже дал ему кусок колбасы, почесал за ухом и поговорил с ним по-шведски.
– To be exact I am also something like an inspector. Not director. – Неожиданно для самого себя признался Сергею Юхан и для наглядности даже ударил себя в грудь: – I am also an inspector!
– Ну я ж тебе сразу сказал, что мы коллеги! – обрадовался Сергей. – И за это надо срочно выпить!
После того, как они решительно опрокинули еще по полной рюмке, Сергей спросил:
– Слушай, а какое у тебя оружие? Табельное оружие? Ну, как же это… вот… ган, чтобы браконьеров отстреливать? Ну пиф-паф!
Юхан недоуменно захлопал глазами.
– Ну вот смотри в словаре – gan, оружие, – настаивал Сергей, – чтобы kill этих, смотри, браконьеров… Нет тут такого слова… Ну пусть будет преступников… вот криминал. Ганг килл криминал?
Юхан хлопал глазами еще недоуменнее.
– Ладно, сейчас я тебе свое покажу. Тогда ты сразу поймешь. У меня очень классная пушка!
Сергей ушел куда-то вглубь квартиры и через пару минут вернулся, держа в руках завернутый в старую тряпку настоящий боевой пистолет.
– Вот видишь, – Сергей с гордостью протянул оружие шведу. Тот инстинктивно отшатнулся. Внизу нервно вздрогнула собака. Юхан окончательно растерялся. При чем здесь пистолет? Да еще настоящий! Сергей же, прищурив гордый веселый глаз, целился в ворону, беззаботно отдыхавшую на ветке за окном. Юхан не понимал, что происходит, и от этого его охватил едкий страх.
В следующую минуту в квартиру резко позвонили. Бросив оружие, Сергей пошел открывать. Вскоре из прихожей донесся разговор. Сначала просто приглушенный гул, но уже через минуту выделился высокий женский голос. Женщина была явно очень сердита, но пыталась это скрыть. Сокрытие ей удавалось плохо – не помещаясь в шепоте, эмоции отчаянно хотели зазвучать на полную мощность. Сергей бормотал в ответ что-то быстрое, но иногда переходил на крик… Под столом сидела боевая собака. На диванчике лежал боевой пистолет. Юхан был абсолютно парализован страхом…
– Да ты просто чокнутый! – говорила Сергею в коридоре жена. – Ну как же так можно? Привести домой иностранца! Просто так взять и привести, без предупреждения! В квартире неделю не пылесосили! На кухне черт знает что творится! В холодильнике пусто! Чем ты его угощал? Огурцами с колбасой? Так эта банка была неудачная! Я же тебе говорила! Хоть бы додумался новую открыть, что ли! Ты как был дурень еще в школе, так и остался! Мне надо было за Лешку Мальцева замуж выходить, а с тобой всегда один вечный позор! Да отстань ты от меня! Что «все в порядке»? Что в порядке? Что Оль? А они теперь у себя в газетах напишут, что в России живут дикие люди! И будут правы! Потому что ты действительно дикий!
– Да брось ты, Оль, брось! – отвечал ей муж. – Мы с ним отлично посидели. Классный парень, я тебе говорю. Я на него как посмотрел, так сразу понял – классный парень! Главное – свой! В доску! Даром, что президент и директор!
– О господи, только президентов мне здесь не хватало! – восклицала Оля. – Ты, ей богу, сумасшедший! Тебе уже ничего не поможет!
– Так ведь он нормальный президент! Нор-маль-ный! Водку пьет совершенно по-русски! Понимаешь ты это или нет? Он демократический президент! Он на этой своей лекции три часа про демократию долдонил! Это тебе не эти придурки из телевизора!..
– Ой, я не могу больше! Я сама с ума с тобой сойду! А заранее нельзя было сообщить, что собираешься приводить в дом президента? Чтоб я хоть убраться успела, а? Чтоб хоть раз все как у людей было, а? Гостей ведь по-человечески принимать надо! Особенно президентов…
«Президент» в это время сидел на кухне и из всех сил пытался совладать со страхом. Страх превращался в мелкую дрожь – на дрожь реагировал ротвейлер – ротвейлер подозрительно рычал – и от его рычания «президенту» становилось еще страшнее…
В дверь вдруг снова резко позвонили. Осторожно привстав, Юхан выглянул в окно – второй этаж… не очень высокий… Потом бросил решительный взгляд на пистолет, но ничего кинематографического, к счастью, совершить не успел, потому что из коридора донесся спокойный голос Александра.
Сергей, прощаясь с новым другом, обнимал его крепко и долго, несколько раз на протяжении объятья пытаясь взбить Юхана, как подушку… Симпатичная молодая женщина смотрела на них и скованно улыбалась.
У подъезда Юхана и Александра ждала новенькая белоснежная «ауди». За рулем сидел молодой мужчина с открытым приветливым лицом.
– Это Юхан, шведский лектор, а это мой друг Никита, мы вместе в армии служили, – представил Александр, после чего бывшие армейские друзья продолжили прерванную беседу, а шведский лектор уставился в окно.
По дороге они несколько раз останавливались у строгих старинных зданий. Ненадолго отрываясь от разговора с Александром, Никита переходил на хороший английский и рассказывал им обоим какие-то любопытные исторические подробности. Юхан слушал с интересом, но странное дело – уже через несколько минут не мог вспомнить ни слова, из того, о чем ему только что говорили.
«Наверное, это и называется оперативной памятью, – рассеянно думал шведский лектор. – … Или, может, это называется «склероз»? Надо проверить, что я помню, а что забыл…»
Нарядная машина летела по улицам, как ласточка. Новенькая кожа автомобильных сидений ехидно поскрипывала.
«Свой «сааб» я покупал в девяносто первом году, шестнадцатого июня, – вздохнул Юхан, – Так что с памятью вроде пока порядок…»
Прощаясь в холле гостиницы, Никита и Александр сначала как-то церемониально били друг друга по рукам, как будто в ладоши хлопали, а потом обнимались. Между прочим, точно так же, как Юхан с Сергеем.
Взяв ключи от своих комнат, Юхан и Александр позвонили от дежурной Виктору и еще раз сверили время завтрашнего отъезда. Следующий семинар проводился в Новгороде, и им предстояла дорога длинною почти в целый день.
По пути к лифту они, не сговариваясь, заглянули в приоткрытую дверь ресторана. В зале не было ни души, два молодых официанта за стойкой бара лениво играли в карты.
– Вы голодны? – спросил Александр.
– Не очень. У вас в России вкусная колбаса, и едите вы ее такими большими кусками, что она вполне заменяет горячую еду, – ответил Юхан. Потом помолчал и добавил: – Но я, пожалуй, что-нибудь выпил бы…
Жители Санного Следа испокон веков относились к спиртному не очень строго – север же все-таки, холодно. Пили часто, но спивались редко, а даже если и спивались, то почти никогда не дебоширили – темперамента не хватало. Юхан предпочитал крепкое пиво, но по какому-нибудь особенному поводу мог запросто самостоятельно осилить грамм пятьсот «Абсолюта». У Сергея они выпили пол-литровую бутылку на двоих – внутренний ресурс еще не был исчерпан. А за последние дни впечатлений у Юхана было так много, что ему остро захотелось какой-нибудь разрядки.
– Александр, а давайте я вас приглашу на пиво или шнапс! – решительно предложил Юхан.
По условиям договора с департаментом природоохраны за эту программу лектору выплачивался солидный гонорар, но без дополнительного покрытия его личных командировочных расходов, которых, впрочем, было немного – завтраки входили в оплачиваемое работодателем гостиничное проживание, за транспорт и бутербродные обеды в дни семинаров отвечала принимающая сторона, и только за остальную еду нужно было платить из приватного кармана. Питание в России не было дорогим, но Юхан все равно тратил деньги по-спартански – особенно после разорительного посещения модного бутика. Но сейчас ему почему-то захотелось быть щедрым.
– Мы не будем долго сидеть, – вроде как уговаривал он Александра. – Завтра же у нас тяжелая дорога. Но на какие-нибудь полчаса расслабиться можно.
– Пойдемте, я ничего не имею против, – согласился переводчик. – За приглашение угостить, кстати, спасибо, но я вообще-то предпочитаю платить за себя сам. – В ответ Юхан развел руками – мол, было бы предложено – и настаивать на финансовой ответственности за их предстоящее возлияние не стал.
Официанты, обрадовавшись посетителям, вдвоем проводили их к симпатичному столику напротив сцены, у окна. Ресторан отремонтировали совсем недавно, стены были выкрашены в сине-зеленые тона, столы покрыты синими льняными скатертями и украшены свернутыми конусом зелеными салфетками и живыми острыми астрами. Интерьер был вполне на уровне. Юхан с интересом осматривался по сторонам. Рестораны он посещал очень редко. Когда-то в студенчестве они, конечно, выходили в люди, но их развлекательные маршруты пролегали в основном по недорогим барам. Уже в Санном Следу они с Линой и детьми иногда обедали в пиццерии у железнодорожной станции – хозяйка была их приятельницей и всегда делала им скидки. А вот в таком настоящем ресторане с персональными официантами и льняными скатертями Юхан в последний раз был очень давно. Пожалуй, еще до того, как он купил свой «сааб».
Александр перевел ему меню. Немного поколебавшись, Юхан заказал бефстроганов и двести «Столичной». Александр от еды отказался и попросил принести нераспечатанную бутылку грузинского красного вина с непроизносимым названием. Рассмотрев доставленную бутылку, велел открыть ее и налить ему глоток. Попробовав, сдержанно кивнул официанту – мол, не то, чтобы я в восторге, но за неимением лучшего и это сойдет. Официант, кстати, вел себя послушно-почтительно. Юхан наблюдал за их действиями с любопытством. Он знал, как по правилам выбирают вино, но к вину как таковому был равнодушен – оно казалось ему кислым и невкусным, а значит, не заслуживало всех этих церемоний. Впрочем, надо признать, что у Александра все получилось очень естественно, хоть он при этом и демонстрировал какое-то усталое достоинство…
Официант принес Юхану водку в маленьком графине.
– Ну что, за половину пути? – предложил Александр. – Вернее, даже за три пятых. Остался Новгород и заключительный Питер. Давайте за то, чтобы не сбавлять темп!
Тост был поднят в точном соответствии со шведской традицией – сначала они произнесли магическое застольное слово «skal», посмотрели друг другу в глаза, выпили и снова обменялись взглядами.
Юхан было заподозрил двойное дно во фразе «не сбавлять темп», но тут ему принесли огромную тарелку, украшенную невиданными фигурами, вырезанными из огурцов и помидоров, – и о своих подозрениях он забыл.
Водка оказалась крепкой и быстродействующей, уже после первой рюмки в голове у Юхана увлеченно захлопали крыльями целые стаи его любимых северных птиц. Он смотрел по сторонам и улыбался.
«Жаль, что здесь никого, кроме нас, нет! – думал швед. – Было бы интересно посмотреть, как отдыхают русские, как ведут себя на людях…»
«Впрочем, черт их знает, – продолжал он уже через минуту, – говорят, тут у них полным полно бандитов и запросто можно попасть в перестрелку!.. Так что, может, и хорошо, что здесь никого нет – безопаснее!..»
Юхан вспомнил Сергея с его пистолетом. Теперь он понимал, что ничего плохого его новый знакомый совершать не собирался, пистолет скорее всего и заряжен-то не был, но пережитый страх заковал воспоминание в неудобную броню. Юхан даже не решился рассказать обо всем Александру – суховато сообщил, что они смотрели фотографии, а Сергей пел песни – и все. Александр, кстати, на подробностях и не настаивал.
«Переводит он, конечно, хорошо, – думал Юхан, – но как человек он немного сноб. Впрочем, оно и понятно – Достоевский, Стриндберг…»
В воображении Юхана вдруг четко нарисовалось здание музея Стриндберга на Дроттнинггатан в Стокгольме. Неподалеку от него кафе, в названии еще присутствует какая-то роза – то ли золотая, то ли пурпурная… Они с Тиной пили там кофе лет пять тому назад, когда ездили на юбилей тестя. Вся улица в этом месте вымощена цитатами из Стриндберга. В музей они тогда, конечно, не пошли, но афоризмы читали с интересом. Юхан сосредоточился и попытался вспомнить хоть что-нибудь из того, что было выписано металлом по асфальту. Приободренная алкоголем память неожиданно мобилизовалась и предъявила Юхану начало фразы: «Убеждений нет, есть Божий закон выжить…», потом шел провал, а в конце – «…нужно жертвовать честью». Между «убеждениями» и «честью» было что-то еще, какая-то связка, но какая именно, Юхан вспомнить не мог, как ни старался.
В зале зажгли дополнительный верхний свет, помещение заиграло нарядными яркими красками. Юхан с Александром вели не очень упругий разговор о школе. Шведу вдруг захотелось сказать что-нибудь эдакое… светское, что ли. Чтоб стало понятно, что он тоже не так прост, как кажется.
– Изменение убеждений процесс очень сложный, – произнес он. – Но я верю в успех. Верю, что человечество образумится и начнет мыслить по-новому… – Юхан выдержал паузу и как бы между прочим добавил: – Хотя ваш любимый автор утверждал, что убеждений вообще нет, а есть только «Божий закон выжить», но для того, чтобы выжить, часто нужно жертвовать честью…
В это время на сцену поднялись двое музыкантов. Один включил синтезатор, другой стучал по микрофону, настраивая громкость. Юхан на них отвлекся.
– Мой любимый автор говорил немного иначе, – ответил между тем Александр. – Он говорил, что только бедняки, борясь за выживание, вынуждены жертвовать честью. А остальные могут при желании выкрутиться…
«Точно, там на асфальте как раз про бедняков и было написано, – вспомнил швед и расстроился. – «Все мы в определенном смысле бедняки», – подумал он и уже собрался было озвучить собственную мысль, оставив за собой последнее слово, но тут произошло нечто особенное!
Со сцены громко зазвучала страстная мелодия, и из боковой двери в зал заплыла танцевальная пара в нереальных одеждах. На молодом человеке был черный фрак. На девушке – огромное боа из белого лебяжьего пуха и расшитое блестками розовое платье, длинное, но с обнажающими ноги змеевидными разрезами. Танцоры были совсем молодыми, лет по пятнадцать-шестнадцать. Их еще детские лица покрывал толстый слой грима. В такт музыке двигались тонкие угольно черные брови юноши, а приклеенные кукольно-длинные ресницы девушки роняли трепетные ритмичные тени на ее густо нарумяненные щеки.
Танцевали они очень хорошо. Но слишком близко от единственных посетителей ресторана, прямо у столика. Получалось, что танец предназначался персонально им. Юхану от этого было как-то неловко. Александр же спокойно наблюдал за парой.
– Может, это какая-нибудь репетиция? – поинтересовался швед.
– Да нет, это что-то вроде шоу, – ответил Александр, – наемные танцоры, развлекающие публику. Жиголо и жиголетта. А у них здорово получается, да? Профессионалы, наверное…
– А за это нужно платить дополнительно? – у Юхана включилась финансовая бдительность.
– Не знаю, посмотрим, когда счет принесут. Если шоу будет выделено специальной строкой, придется платить. Если нет, то на наше усмотрение. В крайнем случае «пожертвуем честью»…
Весь следующий день по дороге в Новгород Юхан дремал. На последнем семинаре ему показалось, что совершенствовать текст больше не нужно – за ораторской кафедрой в Пскове он почувствовал ту азартную легкость, с которой обычно проводил уроки на любимые темы в любимых классах. То есть любимых классов у него, конечно, не было! У учителя-демократа их в принципе быть не может. Но ведь случается же, что одна группа учеников активнее другой…
Когда он засыпал, ему снилась рваная российская дорога, которая превращалась сначала в волнообразное лебяжье боа, потом в подвижную жгуче-черную бровь грустного клоуна, а потом снова в дорогу – с караулом из коварных пней и нежных березок. Дорога бежала стремительно, но как-то вдруг остановилась, и Юхан разглядел на влажной земле свернутые трубочкой сто рублей, которые вчера ему пришлось заплатить за шоу лауреатов какого-то престижного конкурса…
К Новгороду они подъехали около пяти вечера. Долго искали улицу, на которой располагался отдел народного образования, там их должны были ждать местные организаторы. Когда до нужного адреса оставалось всего несколько кварталов, их громкий, но быстрый автомобиль неожиданно вздрогнул и остановился. Виктор нажимал на рычаги, дергал за провода, заглядывал всюду, куда можно было заглянуть, – но автомобиль, по-ослиному упрямясь, ехать дальше отказывался.
– Как вы думаете, это серьезная поломка? – спросил Юхан у Александра.
– Не знаю, – ответил тот, – странно, что мы вообще успели проехать так много. Я предполагал, что машина сломается еще где-нибудь в Выборге.
– Что же нам делать? – озабоченно поинтересовался швед.
Александр, поговорив с шофером, сообщил:
– Мы с вами сейчас возьмем самые необходимые вещи и пойдем пешком. Тут, судя по всему, недалеко, минут десять-пятнадцать. Виктор попробует остановить какого-нибудь доброго человека и отбуксировать машину на ближайшую ремонтную станцию. А вечером мы встретимся в гостинице. Она называется «Волхов» и должна быть где-то в центре…
Юхан и Александр еще вынимали из машины свои вещи, а «добрый человек» уже успел остановиться. Виктор, заговорив с ним по-свойски, пару раз кивнул в сторону Юхана. Шведу показалось, что он снова услышал что-то похожее на «гринпис» и «шеф». Ну, шеф – это и в России начальник, – теперь Юхан знал это точно. «А насчет «гринпис» надо как-нибудь спросить у Александра», – подумал он. Александр же, слушая разговор водителя, хитро и явно одобрительно улыбался.
В отделе народного образования их встретила усталая серьезная женщина лет сорока пяти. Она пожала Юхану руку, сказала «Wellcome to Novgorod» и заговорила по-русски с Александром.
– Вроде бы все в порядке, зал они подобрали хороший – в каком-то центре социальных инициатив, примерно сто мест. Участников будет человек шестьдесят-семьдесят. А еще удачно, что здесь все рядом – гостиница в пяти минутах ходьбы, место семинара тоже примерно столько же, но в другую сторону, – перевел Юхану Александр. – А еще Марина Сергеевна спрашивает, хотите ли вы есть.
По опыту предыдущих семинаров Юхан знал, что если русские спрашивают, хочет ли он есть, это значит, что они намереваются заплатить за утоление его голода. Из хозяйской любезности. Отказываться в такой ситуации неумно. И потом он действительно изрядно проголодался. Бутербродов, купленных перед отъездом в буфете псковской гостиницы, оказалось маловато. К тому же одним он угостил Виктора. Александру тоже предлагалось, но тот отказался – купил гамбургер в придорожном «Макдональдсе» где-то на полпути.
– Я бы с удовольствием съел что-нибудь горячее, – ответил Юхан. Марина Сергеевна снова быстро заговорила о чем-то с Александром, и в ее речи Юхан дважды расслышал слово «администрация».
– Нужно немного пройтись, тут недалеко, буквально на соседней улице. – Как-то непонятно перевел Александр.
Они втроем вышли из здания. Через несколько метров Марина Сергеевна, встретив знакомую, приостановилась и заговорила с ней. Юхану показалось, что она снова произнесла слово «администрация».
Из общения с учителями Петербурга, Выборга и Пскова Юхан уже усвоил, что администрацией в России называют власть. От нее все зависит, и ее все ругают, потому что она никому не дает денег.
– Мне послышалось, или речь каким-то образом касается администрации? – спросил Юхан у Александра.
– Нет, Юхан, вам ничего не послышалось. Речь действительно идет об администрации. Именно туда мы с вами и направляемся.
– Мы? – удивился шведский лектор. – А зачем?
– А затем, чтобы встретится с ее главой. С главой администрации. Будем три часа обсуждать актуальные проблемы школьного образования.
Юхан растерялся. В Швеции он, конечно, бывал на приемах у самых разных чиновников, в том числе и министерского уровня. Но чтоб вот так без подготовки, с дороги, не продумав вопросы… И потом, что они могут обсуждать? О российской школе Юхан знает слишком мало. О шведской так просто не расскажешь. Да и потом у них нет унифицированной системы, школы очень отличаются друг от друга. Он может рассказать только о своей. Но это ведь достаточно специфичный опыт – преподавать в небольшом городе…
«А здесь они «небольшим» называют Новгород! Где проживает четыреста тысяч народу! – недоумевал про себя Юхан. – И вообще все здесь как-то навыворот. Зовут незнакомых людей в гости и пугают их оружием! Не считают нужным предупреждать о визите к мэру!.. А он и одет-то по-походному, не солидно…»
Где-то между невысокими современными домами неожиданно блеснула река и показалась мощная крепостная стена.
«Новгород это же известное историческое место, – вспомнил вдруг Юхан. – Когда-то здешние земли были шведскими, викинги строили на них крепости… А через тысячу лет сюда приехал он, Юхан Стенмарк…»
Эта параллель показалась Юхану совершенно удивительной. Он представил, как будет рассказывать о своей поездке ученикам, коллегам и знакомым. В «Новостях», наверное, статью об этом напечатают. Даже не наверное – наверняка напечатают! С фотографией, на которой будет он и мэр Новгорода!
От мысли о снимке Юхан вздрогнул – фотоаппарат! Он же остался в машине! Надо что-нибудь придумать! Встречу с мэром нужно во что бы то ни стало запечатлеть на пленке!
– Александр, скажите, а мы не могли бы как-нибудь найти Виктора? – осторожно начал Юхан.
– Сейчас? – удивился Александр. – А для чего?
– Дело в том, что я бы хотел взять из машины свой фотоаппарат.
– Но мы же договорились встретиться с ним позже, вечером, в гостинице. Он привезет туда все наши вещи. Пофотографируете завтра после семинара. На завтра, кстати, и погоду обещали солнечную, – ответил Александр.
– Понимаете, я бы хотел пофотографировать сейчас, в администрации… Снять нашу встречу с мэром, – с набирающей обороты решительностью произнес Юхан.
– С каким мэром? – успел удивиться Александр и только потом сообразил. А сообразив, остановился, посмотрел Юхану в глаза и заговорил каким-то не своим, очень искренним тоном: – Юхан, простите меня, ради бога! Я вас очень прошу, не сердитесь! И не подумайте, что я сознательно вас разыграл! Я всего лишь неудачно пошутил! У меня иногда бывают переборы. Просто дорога была такой утомительной, и мне показалось, что самое страшное, что с нами сейчас могло бы случиться – это если бы нас отправили на встречу с каким-нибудь скучным надутым индюком, вроде мэра…
– А при чем здесь тогда администрация? – тихо спросил Юхан.
– Там хорошая и недорогая столовая. Марина Сергеевна великодушно предложила нас туда проводить и накормить горячей едой!
– И все? – спросил Юхан, пытаясь улыбнуться.
– И все! – виновато ответил Александр. – Встречи с официальными лицами всегда назначаются заблаговременно. Если бы у нас было что-нибудь такое в программе, мы бы знали об этом с самого начала…
Юхан похлопал Александра по плечу и сказал, что «он понимает, что нет проблем, что все о'кей…» Он старался улыбаться, но в глубине души чувствовал нечто, отдаленно напомнившее ему прогулку по подиуму после бесплатной стрижки.
«Скучный надутый индюк!.. Про мэра! – думал Юхан через полчаса, пережевывая мягкие мелкие косточки рыбы, тушеной в морковке. – Им не демократии, а общей культуре надо поучиться! А еще носится со своим Стриндбергом и Достоевским!..»
На следующий день, представляясь участникам новгородского семинара, Юхан назвал себя президентом, директором и – не педагогом, а «просветителем». Назло Александру.
В целом же все и в этот раз прошло хорошо. У него спросили, сколько сотрудников работает в возглавляемом им национальном парке. Сосредоточившись, Юхан вспомнил, что летнюю практику на острове проходят почти все старшеклассники его школы. То есть больше пятидесяти ребят. И примерно треть из них – энтузиасты-активисты.
– Точные данные я назвать не могу, – уклончиво ответил Юхан, – мы часто привлекаем людей по разовому найму. Ну, в среднем, может быть, человек двадцать – двадцать пять…
А к финальным аплодисментам он уже даже привык.
Возвращение в Петербург на не до конца отремонтированной машине было непривычно медленным. Виктор часто останавливался и проверял двигатель. И то ли от сбившейся скорости, то ли от вида по-утиному выныривавших из-за деревьев мрачновато-коричневых деревенских домов Юхану стало грустно.
«Завтрашний семинар последний, – думал он, глядя за окно. – А послезавтра вечером я уже буду дома…»
В Санном Следу у него накопилось много дел. Подготовка к русскому проекту заставила Юхана временно отложить некоторые из его привычных обязанностей. В результате остров был немного запущен. Юхан, к примеру, так и не привел в порядок маленькую поляну, где почти сохранился круг, выложенный каменными горками. В девятнадцатом веке в центре каждой груды камней возвышался деревянный шест. Между шестами вывешивались на просушку рыбацкие сети. Сети тогда плелись из льна вручную, и это был очень ценный капитал… Юхан собирался восстановить поляну – сложить должным образом камни, вытесать шесты, заказать имитацию старых сетей, – чтобы можно было удивить посетителей живой картинкой из прошлого… А еще неплохо было бы успеть подкрасить катер, положить новую гидроизоляцию в подвале их дома и поменять проводку противопожарной сигнализации на мансардном этаже. Сейчас все эти заботы почему-то не вызывали в душе у Юхана ни малейшего воодушевления.
Он вспомнил, что собирался поискать в России наборы технического инструмента. Ему Кристер Мартинссон посоветовал, сосед через два дома, у которого сын женился на русской женщине из Мурманска. Он говорил, что в России такие наборы стоят дешево – не то, что в Швеции. В Швеции они стоят дорого. Примерно столько же, сколько демократический пиджак в галерее моды…
Приехав в уже знакомую гостиницу, Юхан первым делом отправился в бизнес-центр и послал по электронной почте коротенькое сообщение Тине: мол, все хорошо, скоро возвращаюсь. Можно было, конечно, позвонить из номера, но он убедил себя, что это очень дорого.
В холле отеля шла сложная жизнь. В креслах скучали крепкие молодые люди с автоматически внимательными глазами. В переливающемся огнями ресторане бабочками-капустницами летали юркие официанты. В подвал с вывеской «Ночной клуб «Сахара» то и дело направлялись девушки – такие призывно-яркие, что взгляд от них отрывался с большим трудом. Одна из них, кстати, отреагировала на внимание Юхана – улыбнулась и помахала ему рукой. Юхан испуганно отвел взгляд в сторону.
У себя в номере он лишь присел на кровать – и почти сразу же уснул, подкошенный незаметно подступившей усталостью энтузиаста-кочевника.
Ему снилось крепкое темное бревно дуба-топляка, которое безуспешно пытался подточить тонконогий остроносый комар.
В комнате в это время вовсю звонил телефон. От его долгого заливистого визга Юхан даже на секунду проснулся. Но размять сознание ему так и не удалось, он снова уснул – и звонки в конце концов прекратились.
Последний семинар тоже проводился среди муз и амуров во Дворце труда.
– Но в этот раз мы пригласили учителей из районов, – объясняла Юхану старая знакомая Наталья Леонидовна. – Эта категория наших специалистов сейчас в самом сложном положении. У тех, кто живет в городе, есть хоть какой-то доступ к новинкам педагогической мысли: они могут обратиться непосредственно к нам, во многих школах появляется интернет. А деревенские живут далеко, до методических кабинетов им не добраться, вот и получается, что в районах ничего не меняется целыми десятилетиями…
«Это, наверное, правда, – думал Юхан. – Даже наверняка правда». Но только внешне деревенские учителя ничем не отличались от своих городских коллег – те же прически, те же строго-нарядные костюмы. Юхану даже казалось, что некоторых он уже где-то встречал. Это ощущение впервые возникло у него еще в Новгороде, и он тогда поделился им с Александром.
– Это абсолютно нормально, – ответил переводчик. – Несколько лет назад я подрабатывал гидом. Так у меня уже после пятой группы сложилось впечатление, что в Россию все время ездят одни и те же шведы…
Представляясь публике на заключительном семинаре, Юхан обтекаемо сообщил, что, помимо осуществления педагогической и общественной деятельности, также является сотрудником дирекции национального парка. На сцене в президиуме Наталья Леонидовна одобрительно кивала головой.
Грусть от приближающегося конца «проекта» как-то незаметно погасила в голосе лектора былой азарт. Оригинал и перевод уравнялись в интонации – получалось солидно и почти без эмоций. Женщины слушали с уважением, а в конце никто не решился задать традиционный вопрос про зарплату.
Однако Юхану показалось, что хлопали в этот раз сдержаннее и расходились быстрее. Его это немного расстроило.
– Вы знаете, Юхан, такая подача материала мне лично показалась еще интереснее, чем на первом семинаре! – авторитетно заявила ему Наталья Леонидовна. – Присутствует явный рост, и текст стал глубже. Вы полностью овладели спецификой чтения лекций для нашей аудитории… Но чувствуется, что вы немного устали, – в голосе ответственной за народное образование жалейкой зазвучало сострадание. – Это и неудивительно – вы же совершили настоящий подвиг! Мыслимое ли дело – такая нагрузка и за такое короткое время! Здесь нужна выносливость викингов!..
В ответ на комплименты и сочувствие Юхан благодарно улыбался. И, отказываясь признавать собственное огорчение оттого, что нужно возвращаться домой, думал: «Я, наверное, действительно немного устал… просто устал, даже с викингами это случается…»
После семинара Юхан решил походить пешком, посмотреть на город. Но подробной, со вкусом прогулки не получилось – он шел медленно, а Невский бежал быстро, и Юхану не нравилось это несоответствие. К тому же непривычно низкое, плотно заселенное тучами небо, казалось, вот-вот уронит одну из них прямо Юхану на голову. Съев кусок пиццы в каком-то fast-food-кафе, он вернулся в гостиницу.
В номере включил телевизор и попытался понять, о чем говорят с российского экрана. Поймал несколько слов: фонд, президент, кредит и финансы. С внезапной радостью узнал словосочетание schkolnaje abrazavanije, о котором рассуждал солидного вида мужчина… А потом ему показали прогноз погоды из космоса – голубые реки под музыку побежали к синим морям, из зелени выныривали коричневые горы, а на экране мелькали непонятные буквы и понятные цифры: от – 2 до + 30.
О жесть подоконника вкрадчиво постучал дождь.
«Уже двадцать четвертое сентября, – рассеянно думал Юхан, – дома скоро начнутся заморозки…»
Он вдруг вспомнил длинноногих девушек, исчезавших вчера за дверью ночного клуба «Сахара». В «Сахаре», наверное, и вправду ослепительно и жарко – на многих из них были солнцезащитные очки… И тот звонок среди ночи с предложением познакомиться… Кстати, вчера, кажется, тоже кто-то звонил, он что-то слышал сквозь сон. Или не слышал… В душе у Юхана что-то разворачивалось, медленно и беспокойно.
Электронные часы на стене показывали 20:50. Юхан вспомнил, что в девять договорился встретиться в фойе с Александром, чтобы забрать у него фактуру за его услуги. Зачем-то повязав галстук и надев пиджак, Юхан вышел из номера.
Переводчика внизу еще не было. Юхан подошел к лотку с сувенирами. Рядом с матрешками, платками, деревянными ложками, шкатулками, буденовками и янтарными бусами лежали презервативы. Стоимостью 1 USD. В странном порыве, Юхан вдруг ловко вытащил из бумажника доллар, протянул его продавцу и угловато цапнул с прилавка одну упаковку. Это произошло так быстро, что он даже понять себя не успел. Зато заметил, что презервативы называются «Visit».
Минут через пять вернулось сбежавшее благоразумие. Спрятанная в кармане пиджака покупка излучала какое-то постыдное тепло. «Поднимусь к себе и сразу выброшу», – думал Юхан, прохаживаясь по холлу. Упаковка в кармане тихо, но раздражающе шелестела.
Чтобы отвлечься от этого звука и обдумывания своего странного поступка, Юхан решил переключить мысли на что-нибудь другое. На Александра, к примеру. За десять дней Юхан к нему, в общем, привык – и к его манере разговаривать, и к своеобразному юмору. И потом Александр был хорошим специалистом. Во время перерывов некоторые участники пытались поговорить с лектором по-английски, но Юхан почти ничего не понимал. Александр же прекрасно владел терминологией, переводил быстро и длинными отрывками, так что языкового барьера между лектором и слушателями практически не было.
«Но ведь ему и платят не так, как учителям», – подумал Юхан. В департаменте велели взять у переводчика фактуру из расчета сто долларов за день семинара и пятьдесят за день переезда. В последствии деньги будут перечислены на счет Александра в Швеции.
«С одной стороны, хорошо, что его труд оценивают по заслугам, – рассуждал Юхан. – Но с другой стороны, он зарабатывает за день столько же, сколько школьный учитель за четыре месяца!..» Получалось как-то несправедливо. Недемократично… Впрочем, сумму определял не он, а сектор поддержки международных экопроектов при департаменте. То есть шведское государство. А это значит, что цифры имеют под собой реальную базу, а не берутся с потолка. Значит, щедрость обоснована. И, как гражданину демократического государства, Юхану было приятно ощущать и себя лично немного благодетелем…
Александр появился с опозданием минут на пятнадцать. Отдал Юхану бумагу и поблагодарил за то, что тот «рискнул приехать в Россию, обеспечив таким образом его халтурой». Юхан в ответ сказал спасибо Александру и заверил его, что и в следующий свой визит – если таковой состоится – он будет работать только с ним… А потом швед снова совершил то, что заранее не планировал. Спросил вдруг, не могут ли они вместе выпить по случаю завершения большого и сложного дела – махнув при этом рукой куда-то в сторону «Сахары».
– А запросто! – ответил Александр. – Пойдемте! К тому же клуб этот – наиживописнейший гадюшник. Так что там будет интересно.
В полумраке «Сахары» мерцали стекло и никель. Девушка с едва прикрытой грудью и в набедренной повязке принесла им меню. От еды они оба отказались, Юхан заказал бутылку «Столичной» («Заберу с собой, если всю не выпью»), Александр – бокал драй-мартини.
Выпив первую рюмку залпом, швед осмотрелся по сторонам. Аншлага не наблюдалось, к тому же было плохо видно – столики осторожно освещались откуда-то снизу так, что разглядеть можно было только ноги, руки и бокалы, лица же исчезали в темноте. Время от времени, заглушая музыку, по помещению разносился женский смех.
– Вы бывали здесь раньше? – спросил Юхан у Александра.
– Один раз, со шведским журналистом, который готовил репортаж о российской преступности.
Юхан выпил еще рюмку. Вибрирующей походкой на сцену в центре зала вышла девушка в туфлях на высоких каблуках, чулках и черном кожаном купальнике.
– Вам нравится стриптиз? – поинтересовался Александр.
Юхан задумался. Неуверенно пожал плечами. Теоретически стриптиз ему не нравился. Но практически он его никогда не видел. Впрочем, отвечать ему не пришлось – зазвучала громкая чувственная музыка, и разговаривать стало невозможно. Юхан снова выпил.
Девушка вертелась вокруг металлического шеста, приседала, наклонялась, ложилась на пол и выбрасывала вверх ноги. Юхан внимательно наблюдал за происходящим. «Интересно, это стоит дороже, чем шоу лауреатов конкурса бальных танцев?» – подумал он. Потом заметил, что туфли у нее с очень острыми каблуками, а она при этом так энергично дергает ногами, что легко может пораниться. «Интересно, а больничные ей в этом случае оплатят? Какой профсоюз?..» А когда девушка сбросила с себя бюстгальтер, Юхан вдруг почувствовал, как в кармане у него зашелестел презерватив…
Откровенно признаться самому себе в намерении использовать «Visit» по прямому назначению Юхан не мог. Но он почему-то вспомнил книжку инструкций для скаутов-новичков. Помимо всего прочего, там были советы, как скауту вести себя в условиях дикой природы. В условиях дикой природы нужно внимательно осмотреться и выбрать наиболее безопасное место для стоянки – чтобы поблизости не было ни болота, ни следов пребывания лесных зверей… И самое главное – расспросить об особенностях местности жителей близлежащих населенных пунктов.
Когда стриптизерша ушла на перекур, Юхан с невинным видом начал:
– Александр, вы много общаетесь со шведами, которые занимаются в России бизнесом или просто часто сюда приезжают. Скажите, ведь случается же, что между шведским мужчиной и русской женщиной возникают… отношения.
– Конечно, случается, – с готовностью подтвердил Александр.
– И… как эти отношения обычно развиваются?.. Я имею в виду… какие у них возникают проблемы… Чем все заканчивается?.. Мне просто интересно. Любопытство и больше ничего. За эти десять дней я понял, что у нас много общего, но есть и различия… Вот я и подумал, если возникает такая ситуация, то… то что из этого в результате может получиться?
– Да что угодно может получиться, – ответил Александр, – по-разному, канона нет. У меня был один знакомый, ваш соотечественник, он долгое время работал в питерском представительстве «Вольво». Так вот он завел серьезный роман с русской женщиной, автогонщицей к тому же. И скрывал от нее, что женат. Их отношения длились около двух лет, а потом ей стало известно, что в Швеции у него семья.
– И что дальше? – с тревогой спросил Юхан.
– А дальше она приехала к офису «Вольво» на своем гоночном автомобиле, подождала, пока он выйдет на улицу, и устроила на него настоящее сафари! Гоняла его по двору как какое-нибудь африканское парнокопытное.
– А он?
– А он бегал-бегал, а потом споткнулся и упал. Очнулся – гипс. И две недели в больнице с вывихом лодыжки. При чем без медицинской страховки, он ее не продлил вовремя…
– Какой ужас! – воскликнул Юхан. Мимо их столика прошел продавец русских сувениров. Узнав недавнего покупателя, он ему по-приятельски улыбнулся и подмигнул. Юхан опустил взгляд под стол.
В одежде Александра что-то запищало. Вытащив из кармана пейджер, он прочел сообщение и извиняющимся тоном сказал:
– К сожалению, мне нужно идти. Сафари мне, пожалуй, не угрожает, но скандалиоза гарантируется – если я немедленно не поеду домой.
– Конечно-конечно. Я, кстати, тоже пойду. А то самолет завтра рано… Стриптиз мне не нравится. А водку я возьму с собой в качестве русского сувенира, – ответил Юхан и тщательно завинтил металлическую пробку на бутылке «Столичной». Расплатившись каждый за себя, они направились к выходу.
У лифта попрощались, без особой энергии пожав друг другу руки. Юхан подумал, что, если бы Александр не рассказал ему историю об автогонщице, их расставанье было бы более теплым. По крайней мере, с его стороны.
Вернувшись в номер, Юхан обнаружил, что разгулявшийся дождь отчаянно стучит в окно, изображая сложную музыку африканских барабанщиков. Ту самую, под которую по телевизору показывают сафари на парнокопытных…
Фонари и стремительные автомобильные огни за окном стараниями дождя превращались в огненно-красные и бело-лунные кляксы. Юхан снял трубку телефона, неожиданно решив позвонить домой. Но, набрав половину длинного номера, снова, как и в свой первый русский вечер, передумал. «Не стоит тратить деньги. Мейл я послал, так что Тина знает, что все в порядке. Завтра около двенадцати я буду в аэропорту Стокгольма. Там пересяду на самолет до Лулео и уже в шесть вечера окажусь на месте. А на послезавтра, кажется, назначена встреча с матерью Ленни Блумгрена. Нужно выяснить, что там у них происходит, а то мальчишка в последнее время стал много прогуливать…»
Остро, как сирена, зазвонил телефон. Юхан вздрогнул, застыл и только после пятого звонка отважился произнести хрипловатое и немного растянутое «хэлло».
– Здравствуйте, это Юхан Стенмарк? – спросил слегка дрожащий женский голос по-английски.
– Да, – ответил Юхан испуганно.
– Извините меня, – продолжили на другом конце провода. – Вы, пожалуйста, только слушайте меня и все. Вам не нужно отвечать… Я знаю, что вы и не можете ничего ответить. И это нормально. Но я, я должна сказать вам об этом.
Девушка говорила по-английски с сильным акцентом, интонация прыгала, но Юхан все понимал.
– Меня зовут Светлана. Я работаю в отделе образования методистом. И я пришла на ваш первый семинар. Могла не приходить, потому у меня сейчас отпуск. Но так получилось, Наталья Леонидовна попросила. И там… я увидела вас и поняла, что вы… что вы очень хороший человек… У вас такие добрые глаза! Как у одного артиста. Его фамилия Гарин, он играл короля в фильме «Золушка». Вы, наверное, не видели… Это советский фильм, очень старый… На семинаре вы так хорошо обо всем рассказывали! Это тоже было похоже на кино… или театр… А потом я взяла у Натальи Леонидовны вашу программу. Там было написано, что второй семинар в Выборге. Я купила билет на электричку и поехала в Выборг. Оттуда на автобусе в Псков. Потом в Новгород… А сегодня была на последнем… Я не жалею. Каждый раз я слышала что-то новое… И, если бы вы проводили еще пять семинаров, я снова пришла бы на все! Потому что вы необыкновенный человек! Искренний, честный, вы любите детей и природу…
Юхан слушал и смотрел в окно. Отраженные огни играли на стекле жгучими красками, отдаленно напоминая Aurora Borealis, то самое северное сияние, латинское название которого жители Санного Следа запоминают с самого детства.
– Мне от вас ничего не нужно, я просто хочу, чтобы вы знали, что вы очень хороший человек, – продолжала Светлана. Потом она помолчала и, вздохнув, перешла на русский: – Мне действительно совсем ничего не нужно. Ведь я могла бы подойти к вам как-нибудь в перерыве, заговорить, познакомиться… Дело не в этом. Я прекрасно понимаю, что между нами ничего не может быть. А если так, то не имеет значения, знакомы мы или нет… Но когда я смотрела на вас, слушала… я чувствовала, что счастлива. Это было такое… очень простое счастье. Как одуванчик… – Помолчав, она снова перешла на английский: – Вот и все. Я только хотела, чтобы вы это знали. До свидания, удачи вам во всем… – и не дав паузе затянуться, Светлана повесила трубку.
Она сидела у окна в маленькой аккуратной кухне. На столе лежал исписанный английскими словами двойной листок в линейку. На подоконнике стоял большой кактус, и его длинные колючки ловили отражения желтых уличных звезд.
Юхан смотрел в окно. На темном стекле появлялись яркие желтые пятна. Через какое-то время они становились белыми, а потом исчезали. Как одуванчики на его острове.
Мы в центре города
Всякий раз перед тем как отправиться в «Центр Города», я подолгу смотрю на себя в зеркало, уговаривая его растворить родственную совести смутную тревогу, имя которой никак не могу подобрать. Зеркало у меня маленькое, старое, с мутной окалиной времени и черными мушками. Меня оно любит и поэтому немного врет ретушью. Впрочем, мне и в самом деле есть чем гордиться – немногие доплывают до пристани старости с таким тугим парусом. Пару-тройку заплаток в расчет не берем.
Мне много лет. Я бывшая актриса, так и не добившаяся широкой известности. Я сыграла шестьдесят четыре неглавные роли, жила в девяти городах и пять раз была замужем. У меня была густая жизнь, я долго намагничивала себя, привлекая события, и только лет восемь назад слегка замедлила движение и прекратила сопротивляться седине. Но вскоре выяснилось, что седина моя тоже актриса. Я стараюсь уложить ее в скромнейший пучок – она же бросается всем в глаза и нахально преувеличивает благородство моего образа. У меня хорошая кровь и крепкая форма, но я никогда не играла императриц, даже тех, кому в спектакле отводилось второстепенное место. Седина же, разгулявшись, как-то хитро подчеркнула яркие выразительные глаза, и они – в сочетании с мягкими румяными щеками – теперь намекают на более стройную, но несомненную Екатерину Вторую. Я понимаю, что так говорить о себе не скромно, и поэтому не ропщу, когда надо мной посмеиваются эти мелкие современные зеркала. Я их даже побаиваюсь и стараюсь не смотреть в них на себя прямо. Но если им удается меня поймать, они, не скрывая иронии, показывают мне профиль нелепой старой женщины с кругленькой серебряной сережкой в дряблом ухе, похожем на маленький старомодный кошелек с застежкой-поцелуйчиком, с которого время стерло черную кожу, обнажив слабую серую основу. Все сбережения из этого кошелька давно растрачены, осталась лишь одна неразменная монета, которая притворяется то золотом, то медью – в зависимости от освещения и нашего с Павлушей настроения.
Павлуша был моей первой любовью. Много лет и городов тому назад он катал меня на ловкой лодке, мы дразнили скользивших по поверхности воды уток и смехом старались ослабить тот странный ток, который движение весел вырабатывало в наших сердцах. Мы стояли с ним под щедрым дубом, и превратившееся в солнечные лучи будущее слепило нам глаза. Он собирался стать военным, но легко смущался, а я уже тогда знала, что жизнь у него будет крепкая и упругая, но генералом он не станет.
Недавно он ко мне вернулся.
А перед этим от меня ушли все, даже последняя подруга, такая же, как и я, актриса-неудачница, с которой мы чаще всего ссорились. Все вокруг было горьким. Больше всего я боялась незнакомых старух, выгуливавших пучеглазых дворняжек. Мучила себя воспоминаниями о единственном аборте, плакала, складывала и отнимала какие-то даты. Чтобы хоть как-то заполнить пустоту, устроилась смотрительницей в Эрмитаж, сидела у египтян и каждый день, про себя сетуя, молила чужие мумии изменить мою сирую жизнь. Кто знает, может быть, кто-то из их странных богов меня и услышал, – потому что однажды на Дворцовой набережной мне вернули Павлушу в облике аккуратного старика с застывшим оловом грусти в глазах.
Эта встреча меня спасла. Моя жизнь вдруг взяла и разложилась пасьянсом времен с тройкой в будущем, семеркой в настоящем и тузом в прошлом. Нет, горечь не исчезла, но Павлуша добавил сухих пряностей воспоминаний, – и горечь стала гармоничной. Какое-то время я даже была по-настоящему счастлива. Но потом, словно наказывая за несвоевременное счастье, от меня начала бегать память. Поначалу я очень пугалась, но вскоре привыкла и теперь всегда готова к тому, что память, неожиданно смешав времена и карты, может стремительно поднять меня на опасную высоту отстранения от действительности и на мгновение открыть мне сверху похожий на грецкий орех лабиринт моей путаной жизни. У меня закружится голова от бесконечного количества извилистых поворотов. Какое-то время память будет удерживать меня на этой звенящей высоте, а потом, превратив мое сердце в воробья-беспризорника с увядшей гвоздикой в клюве, бросит его вниз – в случайный тупичок лабиринта… На зеленую лужайку детства… к черной лязгающей машине, в которую превратилась пахнувшая яблоками школа, отобрав у моего отрочества четыре долгих года… в институтский репетиционный зал… в полотняную постель, где рядом со мной какое-то молодое тепло, имя которому память не возвращает… в стремнину зрелости, на дощатые сцены… или в терновое новое время…
Я уже не боюсь этих полетов – просто существую в предложенном пространстве событий, лиц, запахов, звуков. Наверное, отсутствие страха и заставляет память возвращаться… К тому же я заметила, что именно в этих провалах я лучше всего зарабатываю.
Я продаю умиление, в фантастическом мире, который отделяют от меня десять минут езды на трамвае.
Вот я схожу с трамвая.
Высокие дома.
У скрещенья трамвайных линий стоит дом, похожий на пожилую американскую кинозвезду, все живые ткани которой заменены силиконом в результате изощреннейших косметических операций. Это старый красивый дом, его тщательно отреставрировали и разместили здесь «Центр Города», современный и очень дорогой магазин. Здесь торгуют успехом. А на сдачу я доживаю свою жизнь.
За огромными окнами на голубоватом фоне сияет чужое будущее – яркое, разноцветное, блестящее, хромированное, никелированное, хрустящее нарядной упаковкой и новенькими купюрами, с банкоматами, выплевывающими кредитные карточки под дискретную отрыжку, с отутюженным персоналом, умело скрывающим внутреннее равнодушие за наружной радушной улыбкой… Эта картина порой настолько ослепительна, что я вспоминаю операционную, в которой мне делали аборт.
Однажды я зашла сюда просто так, решив купить «в будущем» что-нибудь на ужин. Я знала, что выгляжу скромно, но достойно, и что предельная опрятность моего старомодного пальто полностью искупает вину его возраста, и слово «подержанный» почтительно уступает место слову «антикварный». Меня могли принять за профессорскую жену, мать преуспевающих детей, которая не желает расставаться со старой одеждой из-за «давно разоблаченной мороки», тоски по родине, которой нет. Я старалась играть такую даму, но боялась неубедительности и сама на себя злилась.
Неторопливым шагом я дошла до мясного отдела. Под стеклом лежало живое мясо, преступной свежести и преступной же стоимости. Наверное, у меня хватило бы денег на какие-нибудь полкило, но потом за мотовство меня обязательно упрекнуло бы выглянувшее из овощного киоска недоступное яблоко. Пожалуй, только импортную мороженую говядину можно было бы купить, не травмируя карман и совесть. Но она была нарезана такими ровными круглыми кусками и покрыта таким мультипликационным инеем, что я вдруг увидела зимний лесоповал и услышала звук бензопилы, которой мой первый муж валил деревья в лагере, куда его отправили за безобиднейшее знакомство, квалифицированное как сопричастность к деятельности врагов.
Тогда я вышла из магазина и была горда тем, что у меня хватило смелости просто уйти – протиснуться через тесный загончик у кассы, не взяв для погашения неловкости от встречи с нарядной кассиршей даже маленькую шоколадку. А на улице я подумала, что освещение будущего противопоказано тем, кто живет прошлым. Им оно кажется покойницким. Так же, как люди будущего кажутся персонажами фантастического фильма. Хотя именно эти люди меня и кормят…
Они очень разные. Я понимаю, что они умнее меня, энергичнее, они другие. А еще мне их немного жаль – наверное, потому что их плата за умиление – это та же просьба о прощении.
Вон у кассы стоит похожий на слона бандит. Бандиту жарко. Его дыхание слышно по крайней мере в пяти метрах. Глаз его похож на человеческий. Я даже улавливаю в его внешнем виде какую-то кротость форм. Чем-то он похож на младенца. Которого написал маньерист. Бандит выходит на улицу и видит меня – с узлом пышных седых волос под серой шляпкой. На шляпке печально зимует кустик бумажных незабудок. Видит мое синее пальто с прямыми плечами и черные блестящие ботики, застегивающиеся шеренгой белых круглых кнопочек…
«Опа…» – произносит бандит цирковое слово, и я понимаю, что произвела на него впечатление. Потом он замечает мои безукоризненно чистые нитяные перчатки и несколько пучков свежей зелени, перевязанных подарочными голубыми ленточками, которые я держу в руках.
«Почем зелень, мать?» – спрашивает он. – «По три рубля», – отвечаю я тихо. – «Эта-а, – произносит бандит со смущением, – давай все!» – Протягивает мне сто рублей, забирает пять пучков и уходит, не оглядываясь. «А сдачу?» – шлю я ему вслед, но он только рукой машет и уходит чем-то огорченный. Да, не Раскольников…
Мне тоже вдруг становится немного не по себе. Я вспоминаю, что раньше нитяные перчатки носили только лакеи, меня охватывает грусть, и сейчас я была бы даже рада, если бы память куда-нибудь ненадолго отлучилась…
Чтобы развеять настроение, я снова смотрю в магазин. За стеклом ходит человек, похожий на пингвина. С неуклюжими ножками и столбиком тела, запакованными в черный костюм и белую рубашку. У него компактная голова, а на мелком лице выделяется сочный алый рот. Мне кажется, что он должен быть адвокатом, – умным, красноречивым и беспринципным. Наверное, у него какая-нибудь смешная фамилия. Он академически рассеян и вообще меня не видит. Не я не в обиде. Мне и так бандит переплатил…
Потом ко мне подходит компания увешанных рюкзаками молодых иностранцев. Они горластые, длиннолицые, длиннозубые – кенгуру. На первый взгляд очень чужие, но если приглядеться, в лицах не обнаруживается ничего особенного, обычные лица соседей, сослуживцев, родственников. Как и с кенгуру – видим ее мордочку, нежную, с рыжеватыми подрагивающими бровями и задумываемся: кого же она нам напоминает? Да собаку! Это же песья мордочка! Как у маленькой, ничем не примечательной, но очень милой дворняжки. Так и с иностранцами…
Ко мне иностранцы относятся с приветливым вниманием, я для них историческая реликвия, которую им иногда показывают в кино наши знаменитые режиссеры. Теперь я держу в руках веточки вербы, унизанные пушистыми, с перламутровым отливом почками, над которыми через неделю вырастет цыплячьей желтизны глория.
«О-о-о, да это же вьербная недьеля», – произносит один из них, с самым большим рюкзаком. А потом сосредоточенно спрашивает: «Сколко это стоит?».
«Два», – отвечаю я и предлагаю памяти позабыть о том, что там, откуда только что выскочила эта стая, цены исчисляются в этих неприличных у.е. «Кенгуру» залезает своей длинной рукой в огромный рюкзак, достает кошелек и протягивает мне пять долларов. «Итс о'кей», – говорит иностранец, а из его рюкзака падает на землю книга. «Leo Tolstoy», – успеваю прочитать я, и совесть снова меня царапает.
Потом я с удовольствием смотрю на длинные ноги модели и восхищаюсь, когда эта лань, раскрашенная, как мухомор, уйдя в чащу магазина, сама вдруг превратится в высокосортный продукт и растворится среди ярких упаковок и пестрой колористики элитной торговли. Но я уверена, что при выходе она обязательно купит у меня зелень, или вербу, или простую деревянную подставку для чайника, или что-нибудь еще – потому что мой возраст, достоинство и предприимчивость внушат ей уважение.
А вот у павы-жены-крупного-бизнесмена все зависит от настроения. Эта может профланировать мимо. Она очень богата и ей еще не скучно. Она не то чтобы некрасива, нет, но если бы не деньги, на улице ее заметил бы только тот, кого судьба определила ей при рождении. Солидные средства откорректировали ее внешность, сделали всю ее гладкой, ладной – идет и, как антенна, улавливает внимание. На паве несколько оттенков лилового: ювелирной работы светлолиловые сапожки, отороченные норкой, короткое, норковое же, манто и юбка из кожи какого-то диковинного тропического пресмыкающегося. Если кто-нибудь из восхитившихся ее образом дерзнет к ней обратиться, «антенна» тут же начнет отстреливаться электрическими разрядами и эффектным лицом своим изобразит целый калашный ряд, хотя в глубине души ей льстит посконное внимание. А вообще она совсем не глупа и подозревает, что деньги растворяют жизнь так же, как царская водка растворяет золото. Она боится задумываться, действительно ли ей нужен ее летучий муж, бывший студент из общежития, за которого она выходила по безумнейшей страсти, – или она просто привыкла к бездеятельному существованию в поэтической гамме благополучия.
Ее деловой муж иногда тоже появляется в магазине. Он тигр. Он смотрит вдаль. Нельзя поймать его взгляда. Как бы вы ни старались встретиться с ним глазами, вам это не удастся. Он всегда смотрит поверх вас. Куда? Неизвестно. Куда-то вдаль. Причем вам кажется, что он знает, что вы ловите его взгляд. Меня он так ни разу и не заметил. Зато она никогда не берет сдачи, а иногда даже улыбается.
Надо сказать, что умиление является вообще одной из самых частых реакций моего покупателя. Я нравлюсь. Мне от этого стыдно.
Идея о том, что умиление можно продавать, пришла мне в голову после встречи с Павлушей. Я пригласила его на ужин. На остаток от пенсии и зарплаты эрмитажной смотрительницы можно было купить картошку, селедку, погонный метр парникового огурца и майский кекс на десерт. Неплохо, конечно, но мне-то хотелось кутежа – хотя бы на один вечер! Где-то и там я получила такой сильный заряд света, который излучали его глаза, что этой энергии мне хватило на всю жизнь. Поэтому здесь и сейчас я должна была что-то придумать, чтобы отблагодарить его за благословение любовью. Мне хотелось шального праздника – а не стариковского скулежа над треснувшей чайной чашкой.
На улице тогда стояла нарядная весна. Я отправилась за город, нарвала ландышей, нашла на антресолях несколько старых шляпных коробок, принадлежавших матери моего последнего мужа. Выбрала подходящую по размеру – неглубокую, бледно-розовую, с некогда белыми, а теперь желтоватыми атласными лентами. Крышку коробки украшала тряпочная фигурка птички с глазками из черного стекляруса и вполне еще бодрым хвостом из одного черного и двух красных перьев. Мне кажется, я даже помнила шляпку из этой коробки по фотографии, на которой свекровь была в головном уборе, украшенном перьями и чучелом настоящей пичуги…
Я поставила букетики ландышей в коробку, красиво выстелив дно кстати подвернувшейся шуршащей красной бумагой, из которой лет тридцать назад мы вырезали новогодние украшения. Потом придала «товарный вид» себе – слегка припудрила лицо, подкрасила губы, уложила волосы в черную вязаную сеточку с крошечными шелковыми бантиками, оставив открытыми локоны надо лбом. Надела платье из кремового крепдешина, засеянного мелким красно-черным цветочком, чудом сохранившиеся черные чулки со швом по бокам, черные лаковые туфли на низком каблуке и темный пыльник. Да, и еще черные, ажурной вязки перчатки – в пару сеточке для волос. Взяла шляпную коробку с цветами и впервые отправилась в «Центр Города». На гранитный пол у входных дверей магазина постелила газету «Правда» за 1955 год, найденную на тех же антресолях. Сняла крышку с коробки – и не успела опомниться, как у меня все раскупили. А потом вдруг возникла стремительная девушка в облаке рыжеватых волос, представилась шведской журналисткой и за безумные деньги уговорила меня продать ей коробку с птичкой, в которой моя последняя свекровь когда-то хранила остромодную из Парижа доставленную шляпку.
В тот вечер алхимия воспоминаний без труда растопила олово в наших глазах, превратив его в звонкое серебро молодости. На следующий день Павлуша переехал ко мне от своего сына. Я была этому очень рада, вот только о своем новом «бизнесе» рассказывать ему опасалась, так что недели две мы с ним жили, совсем как в сериале. Я врала, что преподаю актерское мастерство в детской театральной студии при фабрике газовых плит – по старой школе. Одевалась этой «школе» сообразно, ехала за город, собирала ландыши, потом на скамейке у вокзала вязала букетики и спешила к магазину. Домой возвращалась усталая, но с подарками и вкусностями. Павлуша заговаривал о деньгах, я что-то вскользь отвечала о наследстве, оставленном мужем, о том, что не нужно экономить, что нам мало осталось… Павлуша же замыкался в себе, говорил, что не может жить на чужие деньги, смущаясь, протягивал мне свою пенсию – несколько купюр, похожих на медицинские рецепты. А когда в конце второй недели нашей роскошной семейной жизни он заявил, что больше так не может и собирается вернуться к сыну, я расплакалась и рассказала ему правду.
Сначала он отнесся ко всему этому настороженно. Но на следующий день встал рано и отправился со мной за цветами. В лесу мы почти не разговаривали. Потом так же молча и сосредоточенно составляли букеты и селили их в другую шляпную коробку – из простой фанеры, более глубокую, с ней всегда приходится помучиться. Пока я продавала, Павлуша стоял за колонной и внимательно наблюдал за происходящим. Наверное, это была моя самая ответственная роль. Кажется, она мне удалась, потому что тем же вечером мы снова смеялись неприлично молодым смехом.
С тех пор всю подготовительную работу выполняет он, а я отвечаю за художественную часть. После «смены» Павлуша всегда меня встречает. Домой мы возвращаемся пешком и иногда заходим в кондитерскую выпить чаю с буше.
«Аврора», такая же, как и я, старая маразматичка, которую мальчишки принарядили в разноцветные флажки, всегда приветливо нам ими машет. А в солнечную погоду с голубой стены морского училища даже подмигивает цыганистый император Петр.
Наташа
Он сел за стол, накрытый к завтраку. Стол был накрыт на одного. Стояли чайник, масленка, стакан в подстаканнике с ослепительно горящей в солнечном луче ложечкой и блюдечко, на котором лежали два яйца.
«Вечером я увижу Наташу», – подумал он. По оконному стеклу скользнуло отражение трамвая. Ложечка в стакане вздрогнула.
«Ей скоро тринадцать. Интересно, она будет так же сильно любить мороженое, когда вырастет? Вот уже почти шесть лет дважды в месяц мы ходим с ней в это кафе… Шесть лет на двенадцать месяцев на два раза – сто сорок четыре порции. Вернее, двести восемьдесят восемь, если считать и его долю. Одна порция пять «у.е.», между прочим». Получалось, что они съели около полутора тысяч долларов. Ну и что? Для Наташи он вообще готов отдать все, что у него есть. Все то немногое, что у него есть.
Когда-то ему хотелось владеть всем миром. Так сильно хотелось, что он даже слегка потоптался у той черты, преступать которую добропорядочным гражданам не рекомендовано законом. Против них с его приятелем-однокурсником Сашкой даже собирались открыть уголовное дело по обвинению в хищении государственного имущества, но из военкомата вовремя пришла повестка. Это было в восемьдесят третьем. Они с воодушевлением думали об Афганистане. Им казалось, что личности, владеющие миром, не должны бояться экстремальных обстоятельств – ни нар, на которых гитарной струной тебя может задушить уголовник, ни ран, рваных и алых, как в индийском кино… В восемьдесят четвертом Сашку вернули домой в цинковом гробу, в котором не было даже стеклянного окошка для лица. А он уцелел, хоть сам долгое время в это не верил. Он не принимал участия в военных действиях – был водителем бензовоза, и несколько раз в неделю ездил на терминал за горючим для части. Полтора часа в один конец. По открытой дороге. В любой момент мог раздаться выстрел, в любой момент машина могла взорваться. За время его службы – два года минус три месяца учебки, минус две сорокапятидневные желтухи – так погибли пятеро солдат. Одним из них был Сашка. Его же бог уберег, а в качестве платы за спасение навсегда отнял у него желание быть хозяином мира.
Вернувшись из армии, он заново знакомился с тем, чем собирался безжалостно овладеть всего два года назад. В «эпицентр» его больше не тянуло, он старался примоститься где-нибудь на окраине жизни. Кое-как доучился в университете. А потом встретил Лизу. Ярко-рыжей осенью она рисовала Летний сад. Солнце бесцеремонно разрывало кисейную листву и навзничь падало на аллеи. Солнце превращало пруды в пожароопасно отражающие зеркала. В самом центре пламени сидела с мольбертом Лиза. Ему показалось, что его машина взорвалась, и что сейчас он сгорит в этом огне без остатка.
Они прожили вместе шесть лет. Он всегда знал, что рано или поздно они расстанутся, что Лиза обязательно станет известной художницей, что у нее будет увлекательная жизнь, правила которой он так и не сможет выучить. Он оказался прав. Однажды она ушла от него к своей маме, потом уехала за границу, потом целый год работала в Москве. У нее было много выставок, ее картины уже купили Третьяковская галерея и Русский музей. Два года назад она переехала от мамы в квартиру в отреставрированном доме и организовала там настоящую жизнь «рафине» для себя и их дочери.
У него часто появлялось опасение, что он не тянет на роль Наташиного отца и Лизиного, хоть и бывшего, но мужа. Он гасил это чувство – водкой или прыжками с вышки «тарзан» в ЦПКиО. Вот и сейчас он на себя разозлился: «Жлоб! Сидел и подсчитывал, во сколько ему обходятся встречи с Наташей…» Злоба не уходила – услужливо предлагала напиться и перенести свидание с дочерью на завтра. Но он вспомнил, что Петрович, его бывший афганский командир, в конторе которого он теперь работал, завтра вернется с дачи, а это значит, что у него не будет возможности взять машину. Обозвав себя мудаком, он набрал номер телефона бывшей жены.
Наташа сидела за письменным столом в своей комнате и в пятый раз читала условие задачи по математике. Она не любила этот предмет, хотя ей нравились математические термины. Они красиво звучали, но мир, для которого их придумали, казался ей бесконечно скучным. Ей хотелось сочинить для этих сочных слов какую-нибудь другую реальность, поселить их в какой-нибудь сказке. Пусть бы там была принцесса Константа, чем-то похожая на саму Наташу, а при ней подружки – ехида Мантисса и добрая Координата, и еще толстая кормилица Кубатура и долговязый учитель танцев Перпендикуляр, ну и, разумеется, главный герой – искренний почитатель принцессы, храбрый рыцарь Логарифм, он же поэт. Пусть Логарифм каждый вечер появляется у Константиного замка, который, кстати, мог бы называться, ну допустим, Факториал… да, и пусть он появляется не просто так, а верхом на мускулистом коне по кличке Вектор, пусть прячется в саду под покровом узорной кроны клена, и ловит зыбкую, как волну, Константину тень, осторожно падающую на тонкую шелковую штору… Пусть подбирает слова, которые клен роняет в виде листьев, и сплетает их в венок сонетов, чтобы потом преподнести его Константиному отцу, и просить у него руки дочери. Короля, кстати, зовут Максимум, он правит страной, которая называется Бесконечность…
«Интересно, чтобы сказала математичка про мое мышление, если бы я рассказала ей эту сказку?» – подумала Наташа.
На прошлом уроке учительница поставила ей тройку, заявив при всех, что у нее явные проблемы с логическим мышлением, и что, если ее мама согласна, то математичка готова позаниматься с ней дополнительно. Наташа хорошо знала, что мама согласится на любые дополнительные занятия, но что в глубине души ей будет совершенно все равно, успевает Наташа по математике или нет. «Занимайся тем, что доставляет тебе радость, – часто повторяла мама, – это главное, а оценки не имеют никакого значения».
На тройку Наташе действительно было наплевать, но то, что учительница вовсеуслышание заявила, что у Наташи «проблемы», девочке не нравилось. И уж тем более она не собиралась решать эти проблемы при помощи дополнительных уроков. Она еще раз внимательно прочитала условие задачи. Слова снова никак не связывались друг с другом. «Почему я не понимаю? Ведь считать, делить, умножать я могу! Сколько угодно и без каких бы то ни было проблем!» – раздраженно подумала девочка и, чтобы убедиться в собственных математических навыках, решила выполнить какое-нибудь математическое действие попроще. «Нужно самой придумать какую-нибудь задачу!» – И в это мгновение, предлагая задаче условие, раздался телефонный звонок.
– Привет, папа… Да, хорошо… Конечно, хочу. Хорошо, как всегда, у канала Грибоедова… Ладно. Обязательно…
Ей почти тринадцать. Родители развелись около семи лет назад. С тех пор как она пошла в школу, она встречается с отцом два раза в месяц. Каждый раз отец ведет ее в дорогое кафе-мороженое. За шесть лет получается – двенадцать умножить на два умножить на шесть – сто сорок четыре порции. Сегодня она съест сто сорок пятую.
Наташа представила, как через несколько часов у нарядных дверей кафе остановится огромный «БМВ». Отец выйдет первым, в одно мгновение окажется с левой стороны машины, распахнет дверь и подаст дочери руку. Наташа заметит, как взгляд отца в этот момент попытается поймать реакцию свидетелей. От этого ей станет неприятно, но она постарается убедить себя в том, что ей показалось, что в ней просто проснулась бабушка, которая всегда была чрезмерно строга к отцу… А потом Наташа будет изображать увлеченное поедание мороженого, желательно нового сорта.
Наташа очень любила отца, не очень любила мороженое и совсем не любила те два дня каждого месяца, когда отцу выдавали жалованье. Слово «жалованье» состояло в явном родстве со словом «жалость», а им обозначалась та теплая влага, которую вызывали в Наташиной душе бездомные кошки и собаки. Эта теплота не была неприятной, но от нее хотелось поскорей избавиться. «Жалованье» было отцовским словом, так называлась плата за его труд, исчисляемая в некой сумме. Из этой суммы он кроил свою жизнь, главным удовольствием которой были их посещения дорогой мороженницы. Они всегда встречались в районе пятнадцатого и тридцатого числа каждого месяца, но не строго в эти числа, потому что для того, чтобы программа была полной, требовалось соблюдение еще одного условия – шеф должен был отпустить отца с работы пораньше и оставить ему эту огромную монстрообразную машину, катание на которой Наташа очень любила. Как думал отец.
Он говорил ей, что работает телохранителем. Раньше она в это верила, ей это даже нравилось. Теперь она стала старше и понимает, что отец – простой водитель. «Шофер с образованием», – как говорит Наташина бабушка.
А у Наташиной мамы, по словам той же бабушки, помимо образования, есть еще талант, энергия и воля. И жизнь ее – жизнь модной и востребованной художницы – наполнена необыкновенными событиями, а для оценки ее работы существует гордое слово «гонорар».
Они были очень разными, ее родители. Наташа знала, что они никогда больше не будут жить все вместе. Она этого и не хотела. Ей вообще было легче общаться с отцом и матерью поодиночке. Иногда они ее сердили, каждый по-своему.
Наташе всегда было неприятно видеть, как отец вытягивает шею, проверяя не покусился ли кто-нибудь на доверенное ему транспортное средство. Иногда ей еще казалось, что отец тайком «ловит» производимое впечатление. А вот мама никогда ничего не ловила, зато Наташу иногда очень раздражала мамина независимость. Ей казалось, что мама совершенно свободна от всего, и от самой Наташи в том числе. Она обижалась, не разговаривала с матерью, на неизбежные бытовые вопросы отвечала односложно, как бы тестируя, когда же мама начнет всерьез о ней беспокоиться. Мама же только подтрунивала: «Наташка, у тебя, кажется, начался пубертатный период». В ответ Наташа готова была стены крушить от злости.
Правда, потом те же самые стены помогали ей маму прощать. В дом приходили новые друзья и начинали стенами восхищаться. У них дома дело было не в дороговизне, вернее, не только в ней. Дело было в том, что мама умела ставить ударения. В терракотовой прихожей, к примеру, на гранитном полу стояли два огромных старинных сундука каурой кожи, обитые медными лентами, с хитрыми замочками, и лежала гора разнокалиберных шляпных коробок. В никелированной кухне-столовой в стиле «техно» над столом на стене висел стул с медными шашечками заклепок, вполне заурядный старый стул, на котором запросто могли сидеть первые хозяева квартиры, жившие здесь лет сто тому назад. Вот только в спинку стула, как в раму, мама вставила свою собственную картину, изображавшую воображаемых первых хозяев, сидящих на таких же стульях и откушивающих завтрак. В большой дубовой гостиной, служившей одновременно библиотекой, мама устроила подиум для книг, оградив его перилами из крепких, совершенно естественных дубовых веток. А в ванной на мозаичную плитку, которая имитировала серый, чуть тронутый эрозией времени камень, повесила старую стиральную доску, странную такую штуку – неровно сизая волнистая металлическая поверхность в деревянной рамке на ножках. Дерево такое совратительно мягкое, что Наташе хотелось выцарапать на нем «Владик – дурак». Хотя Владик – одноклассник, сосед и сын маминых друзей – был круглым отличником и даже вел на телевидении детскую передачу. В Наташиных поклонниках он ходил с первого класса. Ему, кстати, больше всего нравилась Наташина комната. Там стояла строгая белая мебель, обязывавшая соблюдать порядок, стены тоже были белыми, но на одной висели четыре пустые рамки разного размера и цвета – черная, желтая, синяя и зеленая, а на другой, напротив рамок – четыре скрипки: взрослая полноразмерная, три четверти, половинка, и крохотная четвертушка. И единственный смычок, древко которого было выкрашено красным. «Каждый человек, Наташка, слышит собственную музыку, видит собственные цвета и собственной кровью рисует собственные картины», – сообщила Наташе мама. «Каждый человек, Владька, слышит собственную музыку, видит собственные цвета и собственной кровью рисует собственные картины», – сообщила Наташа Владьке. С тех пор Владька был убежден, что вся музыка, которую он сочинит, и все картины, которые нарисует, будут посвящены Наташе.
Наташа не была красавицей-школьной-примой, но ее всегда помнили – прямые длинные светлые блестящие волосы и открытое лицо с выразительными зелеными глазами. Она была похожа на отца. На этом строилось ее самое первое воспоминание.
Ей лет пять, она уже что-то понимает. Мама и отец смеются, и она смеется вместе с ними. К папе приходят большие громкие люди с веселыми погремушками на одежде, они повторяют какое-то воронье слово «Кандагар», а папа говорит что-то про маму, а они ему про то, что Наташа – это просто его копия. Так хором и повторяют: «Копия, копия…»
А потом люди расходятся, и кто-то перед уходом подбрасывает ее к потолку. Папа обнимает маму и говорит, совсем как в сказке: «Поеду-ка я на охоту за окорочками, а то у нас опять в холодильнике пусто». – «Мы с тобой», – отвечает мама, и они садятся в большую красную машину, катаются по городу и громко поют песню про горную лаванду. Иногда к ним подсаживаются незнакомые дяди и тети, они везут их туда, куда те прикажут, и тогда поет одна Наташа – и все смеются, включая незнакомых дядь и теть. А машина у них очень хорошая и недорогая, папа ее так и называет: «копейка». Но она быстрая-быстрая, катится по улицам, как монетка по полу. А еще они покупают мороженое, она сама покупает, протягивая тете какую-то синюю бумажку. И они его едят, громко хохоча и пачкая одежду…
Потом что-то произошло. Наташа оказалась у бабушки, там было скучно. Еще там были вкусные пирожки, которые Наташа отказывалась есть. У мамы начались бесконечные выставки и вернисажи, она надолго уезжала. «Вернисажи» нравились Наташе больше, чем выставки – потому что «выставка» – это за дверь, из класса, а в слове «вернисаж» звучало обещание того, что мама вернется. Бабушка что-то читала ей вслух и говорила, что Наташа должна гордиться мамой. «У тебя очень талантливая мама, – говорила она. И после паузы продолжала – И добрый отец».
Однажды Наташа случайно услышала, как бабушка говорит кому-то по телефону:
– Он же ничего не хотел. Ничего не предпринимал. Институт кое-как закончил и все. Кто его знает, может, это у него контузия после войны… Конечно, хороший, добрый… Но добрый человек не профессия, жизнь на этом не построишь, далеко не уедешь. А Лизе нужен муж-движитель…
«Муж-движитель», – повторила Наташа и представила эскалатор в ДЛТ. Теперь, оказываясь в там, она всегда поднималась на верхние этажи пешком.
Как-то Наташа увидела отца на улице. Он ее не заметил, она пошла следом, села в метро и приехала за ним на последнюю станцию. Купив в киоске сигареты и пиво, отец вошел в подъезд неопрятного от разнородных балконов и лоджий блочного дома. Она позвонила в дверь на первом этаже.
При виде ее он очень удивился. Она прошла сначала в тесную прихожую, а потом в небольшую комнату с низким потолком. Вдоль одной стены стоял сервант – четырехугольный, невысокий, полированный с подслеповатыми стеклянными створками. Наташа подумала, что сервант похож на щелкунчика. Рядом с сервантом – мелкое жесткое кресло на непропорционально высоких ножках, которые разъезжались, как у новорожденного жеребенка. На кресле лежало бледно-зеленое хлопчатобумажное одеяло. Наташе казалось, что она помнит, как ее когда-то заворачивали в это одеяло.
Отец позвонил маме: «У меня Наташка. Ты приедешь или мне ее привезти?» Телефон был красный, у гантелеобразоной трубки откололся край, шнур запутался, а дырочки микрофона хотелось почистить спичкой. Отец посмотрел на Наташу с грустной улыбкой. Ей захотелось прижаться к нему крепко-крепко.
– Ты знаешь песню про горную лаванду? – спросила Наташа.
– Что-то такое… было… да, помню… – ответил он. – А почему ты спросила? Ты же тогда была слишком маленькой…
– Я была большой. И ездила с вами на охоту…
Очень быстро пришла мама и забрала Наташу.
Две следующие встречи отец пропустил. А на той, которая в конце концов состоялась, они увлеченно обсуждали новый сорт мороженого, который назывался «виноградный лед». Язык от него становился синим, как у покойника. Они над этим смеялись.
«Я неправильно подсчитала – шесть лет на двенадцать месяцев на два раза минус два прогула – равняется сто сорок два. Сегодня будет сто сорок три, а не сто сорок пять…»
«Как папа?» – спросит позже вечером мама. «Хорошо», – ответит Наташа. И немедленно позвонит Владьке. Он придет, и она устроит ему легкий скандал из ничего.
Полет
Я приехала на вокзал. Мне предстояло ехать из Харькова в город в уборе двойного имени – в платье верхнем, сановном, покроя бального, пышного, с турнюрами и жабо. Этот наряд совсем недавно извлекли из дубового, охрипшей медью битого сундука, уцелевшего в коммуналке у случайной старушки с волосами цвета цветущей черемухи. Она хранила его на всякий случай – вместе с письмами и фотографиями, защищая свою память от моли сухой горьковатой лавандой. Впрочем, годы все же истощили нежную ткань, и сквозь худые швы, одинаково презирая и сексапил, и смущение, проступает платье нижнее – вполне еще крепкое, гладковыглаженное, полотняное, льняными нитками шитое дезабилье передовой ткачихи.
Я училась в городе в то время, когда его переодевали и, пронаблюдав акт смены одежды в всей его интимности, решила, что отныне могу считать город своей родиной. Хотя на самом деле родила меня неопрятная, вся в цветных ленточках Украина.
Как и везде, Харьковский вокзал был самым лязгающим местом в городе. Здесь «подползали поезда лизать поэзии мозолистые руки…» Впрочем, к поэзии относился, пожалуй, лишь шорох подсолнечной шелухи на перроне, беззастенчиво косивший под палую листву. Остальное было весьма прозаичным.
Худой человек в темно-синей униформе купил сосиску у круглой тети в грязном белом халате. Покупатель был похож на замусленный химический карандаш, продавщица – на сдобную, в серой наволочке подушку из поезда, обманчиво уютную, но с обязательным острозубым насекомым внутри.
Откуда-то с юга неспешно подкатил поезд. Остановился со вкусом, так, словно никуда и никогда больше ехать не собирался, хотя станция была транзитной. Где-то на багажных антресолях и на полу под полками возмущенно звякнули банки. Осенью полные банки едут на север. А весной северяне везут их пустыми к своим южным родственникам. «Получается такое сезонное перемещение энергии», – глубокомысленно подумала я, но развить идею не удалось – проводник сердито прикрикнул, велев поторапливаться, и мое философическое настроение, бросившись в облако броуновской суеты на перроне, растворилось в нем без следа. Большая и как бы вырезанная в декорации дверь пропустила меня в вагон.
На транзитные поезда билеты, как известно, продаются без мест, но народу было немного. Я нашла купе с тремя пассажирами, пообещавшими выйти через пару часов на неубедительной, но задиристой российско-украинской границе в Белгороде. Мне даже заранее уступили нижнюю полку, я устроилась и раскрыла книжку.
Рассказ назывался «Полет». Автор приехал в аэропорт, ему предстояло лететь из Одессы в Москву. Он сидел в буфете на диване, где-то рядом возвышалась гора арбузов зеленой кружевной окраски. Я огляделась по сторонам в поисках какого-нибудь знака. Из-под столика ответно звякнула мирная, но отчасти нетрезвая компания пустых пивных бутылок. Нужного зеленого цвета, с пенным кружевом, осевшим на дно и превратившимся в нижнюю юбку из школьного воротничка-стоечки.
В купе заглянула женщина, чем-то похожая на мою бывшую школьную учительницу по украинскому языку. У нее были выпуклые зеленые глаза и большой рот, и поэтому вся школа называла ее «Жабой». Хотя – если мне не врет воспоминание – она скорее была похожа на растолстевшую Софи Лорен. Жаба-Лорен по-украински говорила не только на уроках, что на востоке застойной Украины считалось признаком отсталости и социально эвакуировало Жабу в гетто, где даже «негры преклонных годов» уже не жили. А еще она проявляла публичную слабость и иногда начинала жалобно нас корить:
– Ну за шо вы мэнэ жабою называетэ? Я ж нэ квакаю, нэ плыгаю….
Наверное, ей казалось, что капли той обиды, которую она кипятила в своем зеленом глазу, оросят наши черствые души влагой сострадания. Но тогдашние пионеры сострадали только Зите, Гите и Штирлицу.
В предкомсомольском возрасте мне очень хотелось быть похожей на мультипликационную редакцию киплинговской Багиры. Для конгруэнтности образа я томно растягивала слова и распускала волосы, как-то там их даже начесывая. А Жаба мне говорила:
– Ну шо, знов та дивчына пателькамы зависылася? Быстро! Чуешь? Быстро иды до цирульныка! Або маты в школу зовы!..
Чувством юмора «Багира» еще не вооружилась и страдала от этой бесцеремонности бесконечно. К тому же самой себе она казалась безумно привлекательной, хоть и была на самом деле скорее похожа на Маугли…
Теперь же с приветом от Жабы в дверях купе стояла женщина и, по-украински смягчая слова, просила у меня позволения «на минуточку» оставить в купе «сумочку». Конечно, я ей позволила. И уже через минуту страшно веселилась, потому что женщина оказалась офеней, а «сумочка» – баулом на пару кубов, набитым какими-то халатами и полотенцами, которые мне тут же и предложено было приобрести. Покупать я ничего не стала, но тетя не расстроилась, заявив:
– Ну тогда ты просто посиди здесь, деточка, вещи покарауль! – и направилась с образцами товара в соседнее купе.
– Возьмите халатик, недорого, – донеслось из-за стены. – В магазине в два раза дороже! Это же чистый хлопок, бархат на хлопковой основе. И стирается хорошо, и не линяет! И цвета, смотрите, какие яркие! – А потом немного тише: – Видели в моем купе девушку? Такую симпатичную, модную девушку видели? Так вот, она такой халатик только что у меня купила!
Где-то в дебрях моей души стоит бамбуковая хижина, в которой, давно привыкнув друг к другу, но беспрерывно ссорясь, живут Багира и Маугли. И в момент торжества справедливости – когда Жаба наконец по достоинству оценила мою привлекательность – они почувствовали вдруг острую взаимную симпатию и отправились на ближайшую пальму испить кокосового молока…
Я снова раскрыла книгу. Там, за стеклом иллюминатора, совершались круговращательные движения и какие-то начинающиеся и незавершающиеся повороты огромных пространств. За моим окном бежал смычок авторской строчки, озвучивая каждую мелочь, превращая мелочи в головастые, на тонких высоких ножках ноты, заворачивая мелочи в изящные скрипичные ключи. А солнце, сердито встряхивая истеричное бельецо, развешенное вдоль дороги всякими станционными смотрителями, зависало на зыбких проводах до слез пронзительными длиннотами.
В купе налетело так много теней, что мне не удалось удержать при себе сознание, и оно унеслось в уютный мягкого ритма сон с незаметной, как у хорошего романа, протяженностью.
Проснувшись, я обнаружила, что в купе никого нет. Но уже в следующую минуту на третьей багажной полке что-то подозрительно зашевелилось, а еще через мгновение сверху свесились две ноги и показался молодой человек лет шестнадцати. Выражение лица у него было осматривающее. Он спустил вниз дорожную сумку, задиристо сказал мне: «Драсте!», расположился на соседней нижней полке, достал из сумки два яйца, хлеб и с каким-то воровским звуком «пссыы» открыл бутылку пива.
– Хочешь? – без церемоний спросил у меня попутчик.
– Не хочу! – ответила я с интонацией фифы.
В это время дверь открылась и проводник, вдохнув в купе наваристый украинский борщ с чесночными пампушками, быстро произнес:
– Хлопчик, ховайся!
«Хлопчик», послушно бросив еду и пиво, снова полез на багажную полку. Проводник вышел. А через несколько минут он, как фрейлина, чинный и предупредительный, сопровождал шествовавшего по вагону проверяющего. У моего купе они остановились. Восполняя недостаточную выразительность сцены с ревизором, по псевдомрамору пластика покатилось, на пол упало и там разбилось несъеденное хлопчиково яйцо, зацепившееся за хвостик случайности-мышки…
Неразоблаченный безбилетник слез вниз, допил свое пиво и сообщил мне по-украински, что пошел искать приключения: «я пишов шукать прыгоды» – а меня попросил присмотреть за его вещами, чему я обрадовалась в надежде, что никто больше в купе не подсядет, и оставшийся путь я проеду в мечтательном одиночестве.
В окне стремительно неслись поля навстречу. Луна то и дело ныряла в облачные пучины за окатными жемчугами звезд. Фонари ныряльщицу дразнили, окатными жемчугами нахально притворяясь.
Совсем поздно, уже заполночь, когда пробегавшие мимо деревья ожили и обзавелись руками, ногами, головами, в моем купе появился дед. Такой – сразу стало понятно – живописный, но ядовитый пенек, элитное жилье мухоморов. Уселся на место хлопчика и, показав на его сумку, спросил:
– Это ваши вещи?
– Нет, – ответила я, – это не мои вещи.
– Нет, это ваши вещи, я точно знаю, я давно за вами наблюдаю и видел, что больше здесь никого нет! Так что вы, давайте-ка, убирайте ваши вещи, мы сейчас сюда переедем!
– С какой такой стати?
– С такой стати, – ответил дед, сощурив глазки, – что вы здесь одна едете, а мы там вчетвером и еще дите малое! Так что хотите вы или нет, но мы сюда переселяемся! Давайте сами убирайте ваши вещи! А то я их выброшу!
– Это вещи моего мужа. А он, между прочим, бандит и сейчас на деле! Так что если вы к ним прикоснетесь, он вас потом зарежет, и ничего ему за это не будет, потому что он в законе! – сказала я равнодушно. Дед, в общем, не испугался, но повел себя немного осторожнее:
– Ну тогда мы на верхние полки ляжем. Там никто не едет и ничьих вещей нету… – и не дожидаясь моей реакции, начал что-то наверху устраивать.
Я уже собралась было произнести что-нибудь едкое, но тут в купе заглянула замечательная темноволосая и черноглазая девочка в пышном и совершенно не подходящем для дороги платье с длинной юбкой. Почти та самая цыганская девочка величиной с веник.
– Аа, вот где теперь будут ехать мои вторые люди, – произнес «веник».
– А твои «вторые люди» – это кто? – не удержалась я.
– Вторые люди – это дед Степан и дядя Резо, – с терпеливой неторопливостью объяснил «веник» и на всякий случай добавил: – А первые – это мама и папа…
В дверях появился черный мохнатый, со скорпионьим колоритом Резо, а где-то на заднем плане возникла мама Степановна и папа-с-Резо-ксерокс.
Словом, мелкокалиберная злость, которой я собиралась в них стрелять, как-то растворилась, всерьез я на них не сердилась, но крови решила попить. Время было позднее, дед с Резо явно хотели спать. Вот только свет, который я не гасила, и дверь, которую не закрывала, им мешали – они ворочались на своих верхних полках, а я злорадствовала и намеревалась всю ночь читать.
Но через час-другой колесному ритму все же удалось заморочить мне голову, я уснула. Сколько проспала, не знаю, но проснулась в трубе нетолченой – кто-то кого-то колотил и громко кричал при этом:
– Гэть звидсиля, гадына, ползуча! Шо ж вы, пассажиры, двэри нэ зачиняетэ, га? Тут же бомжи ходять! А як що вин маньяк, га? Хиба ж так можно? – орал проводник, выталкивая какое-то оловянное существо со стоптанным лицом.
Дед, обозначивший свое пробуждение глухим ударом головы о полку, моментально сориентировался:
– Товарищ проводник! Товарищ проводник! Это она, та, которая внизу. Она с бандитами связана, я точно знаю! Я даже хотел заранее заявить, но потом решил сам посмотреть, как оно пойдет. Примите меры, товарищ проводник! Зовите милицию! Я могу и свидетельские показания дать, если понадобится! Я сразу заметил, что здесь что-то нечисто…
Но проводнику было некогда. Крякнув: «От сучи диты», он ловким движением закрыл дверь, опустив на ней предохранитель, и побежал за бомжом, который мчался по вагону за абсолютом свободы, выбивая салюты голыми пятками и развивая неслыханную для бомжей скорость. Наверное, это вообще был никакой не бомж, а леший из подмосковного леса…
Дед, замедляя темп, продолжал что-то говорить про стражу и гражданский долг и про то, что собирался предупредить всех заранее…
«Герой», – подумала я и снова уснула, оказавшись совсем в другом времени – среди белых одежд инициации тридцатых годов, среди юношей с открытыми взглядами и крепких девушек, носивших красные косынки и спортивные блузы в скользкую шелковую полоску, среди знамен и горных рек демонстраций под раскатистым камнепадом коммунистических лозунгов… А потом во сне появился человек в черной шинели с красными погонами, который громко закричал: «Караул! Караул!»
Я открыла глаза.
– Караул! Спасите! На помощь! – голосил дед, а дверь купе при этом кто-то пытался открыть снаружи. – Караул! – не унимался «герой».
– Та вы шо, диду, сказылися, чи шо? – недоумевал за дверью «хлопчик-ховайся», вернувшийся после своих «прыгод», а молчаливый Резо со своей полки сонно, но глубокомысленно произнес:
– Стэпан Василиевич! Тот первий бил жюлик, а этот – пассажир…
– Как доехала? – спросил меня на перроне муж.
– С ветерком, – ответила я. А пробегавшая мимо рыжая привокзальная дворняга на это весьма скептически вильнула хвостом.
Цепь
2000-ый год прошел очень быстро – прокатился на своих нулях, как на колесах. Казалось, за годом не успевали его времена. Лето так в такт и не попало. Теперь запаздывала неповоротливая в своей толстой шубе зима. И, воспользовавшись ее медлительностью, на декабрь нахально покушались демисезоны – осень заставляла первый зимний месяц плакать, а весна мыла ему небо. И только в самых последних числах, понимая, что на новогодних праздниках им не место, они обе наконец-таки опомнились и уступили время первому и осторожному снегу.
В опрятной двухкомнатной коммуналке на улице Рубинштейна две пожилые женщины готовились к встрече Нового года. Шестидесятилетняя Вера Федоровна нарядила в мишуру елочную ветку, поставленную в невысокую немного мутную вазу из крепкого советского хрусталя. Погладила блузку и проверила, что все в порядке с черным костюмом джерси, который она собиралась надеть на концерт. Попасть в филармонию 31-го декабря – это был рай. Билет в рай ей подарила племянница Ирочка. Забежала сегодня с утра на минуту – вручила его и еще небольшой узкий пакет: «Теть Вер, это вам. Вам понравится, я еще в сентябре с Мальты привезла, специально для вашего новогоднего концерта хранила». Вера Федоровна открыла пакет и обомлела…
Соседка Веры Федоровны, семидесятипятилетняя Лидия Алексеевна сидела за круглым столом, покрытым некогда тяжелой скатертью – на темной немного шершавой основе цветы и листья, гладко шитые желтым шелком, и такая же бахрома по краю. За много лет почти вся растительность на скатерти увяла, истончилась, но шелковую бахрому по-прежнему хотелось заплести в косички. Лидия Алексеевна считала деньги и раскладывала их по конвертам с именами внука и внучки. А еще то и дело поглядывала на часы, чтобы не пропустить концерт Людмилы Сенчиной по одиннадцатому и последнюю серию «Истории любви» по шестому.
В эту квартиру они въехали одновременно лет тридцать тому назад. Старый, начала века дом после капремонта передали НИИ полупроводников, в котором тогда работали Вера Федоровна и ее муж Михаил. Лидия Алексеевна сидела за кассой в Елисеевском, а ее супруг Григорий Назарович служил в ГАИ, сотрудникам ГАИ давали площадь в ведомственных домах. Вот так они и оказались соседями.
В обеих семьях было по одному сыну, но, несмотря на общую территорию, и жены, и мужья, и дети всегда держались друг от друга на расстоянии. Наверное, потому, что между ними было почти поколение. А еще потому, что Вера Федоровна в глубине души была уверена, что соседи не вполне их круга – хоть внешне она старалась эту уверенность не проявлять. Лидия Алексеевна же порой вполне открыто стремилась занять главенствующее положение – в гастрономе номер один кассовые кабины стояли на возвышении, и она привыкла смотреть на людей свысока.
Лидия Алексеевна стать имела достойную, волосы укладывала в кичку, а губы красила бантиком. Она очень любила, когда муж – обязательно в форме – приходил в магазин к закрытию, и они под ручку возвращались к себе по Невскому. Дома она часто покрикивала на своих, а иногда пыталась заодно воспитывать сына Веры Федоровны Витьку, отчего та начинала немедленно раздражаться. Лидию Алексеевну ее раздражение раззадоривало, она впадала в настоящий нравоучительный раж и ждала мгновения, когда в глазах соседки зажгутся красные лампочки настоящей злости. Дождавшись, с невинным видом поворачивала русло тирады в сторону собственного взрослого сына Валентина – на него можно было кричать по праву, да и повод всегда находился.
Вера Федоровна, невысокая худощавая короткостриженная шатенка в очках, плохо себя чувствовала, если в доме кричали. А сосед и вообще порой приводил ее в ужас. У нее была заветная мечта – научиться водить автомобиль. Лейтенант ГАИ Григорий Назарович всегда крайне издевательски высказывался о женщинах за рулем, а, выпив, мог даже назвать их засранками. Случайно услышав что-нибудь подобное из комнаты соседей, Вера Федоровна в изнеможении опускалась на стул, ставила на стол руку с раскрытой ладонью и отчаянно бросалась себе в ладонь собственным лбом. Рядом присаживался муж Миша, поглаживал ее по плечу и говорил: «Ничего-ничего, это же коммунальная квартира, бывает хуже. Бывает, что у людей соседи – алкоголики!..» Витька тут же с готовностью вставлял: «А у нас тоже алкоголики! Валентин вчера пьяный домой пришел, я слышал, как они на него ночью орали!» Валентин дразнил Витьку и подолгу болтал по телефону с девушками. Разумеется, Витька его недолюбливал.
А вообще-то – по сравнению с другими квартирами – жили они действительно мирно. До громогласных скандалов, или – упаси боже! – драк не доходило никогда.
Чаще всего все их более или менее продолжительные конфликты разражались из-за ванной комнаты. Она была заколдованной. Ведь никто из них не любил часами плескаться в воде – а ванная почему-то всегда была занята. Все они, включая ребят, были экономны и дисциплинированны по части быта – а в ванной почему-то всегда горел свет. Ну и самое страшное – соседское белье там всегда сохло дольше собственного!
Квартира их располагалась в бельетаже. В подвале прямо под ванной комнатой находился общедомовой водопроводный узел, в котором вечно что-то протекало, поэтому в ванной на самом деле всегда было влажно. Они учитывали это при составлении графика стирки. В точном соответствии с этим графиком Вера Федоровна стирала и развешивала вещи на просушку. Наступал правоочередной банно-прачечный день Лидии Алексеевны – а Верино белье еще было мокрым. Лидия Алексеевна предъявляла претензию. Вера Федоровна отвечала бережно припрятанным воспоминанием о том, как Валентин два часа брился в ванной именно тогда, когда к ним в гости пришел Мишин начальник, так что тот даже рук помыть не смог. Лидия Алексеевна возражала, что руки можно было помыть на кухне. Вера Федоровна торопливо разворачивала новый аргумент – мол, раковина на кухне была заминирована грязной посудой Лидии Алексеевны, – но, перебивая контрудар, Лидия Алексеевна крыла упреком Витьке, который тайком от всех вздумал проводить в ванной химические опыты и вообще «чуть нас всех не взорвал».
– Можете выбросить мои вещи! – в сердцах восклицала Вера Федоровна. – Только сделайте это сами! Своими руками! Снимите и снесите на помойку! Давайте-давайте! С вас станется!
В коридоре появлялись их мужья, обменивались недружелюбными взглядами и разбирали своих женщин по комнатам. Лидия Алексеевна продолжала что-то громко говорить – сначала про соседей, потом переключалась на членов собственной семьи. «У меня начинается мигрень», – вздыхала в своей комнате Вера Федоровна. «Ничего-ничего, – утешал ее муж, – бывает хуже… Ну что ты хочешь, Верочка, она же торговый работник…» В ответ на это научный сотрудник Вера Федоровна готова была взорваться совершенно «торговым» скандалом, нацелив его на кого угодно – хоть с мужа, хоть на сына. А еще ей хотелось от души поплакать.
«Давай сходим в филармонию», – предлагал муж. Она, утерев злую и обиженную слезу, говорила: «Спасибо тебе, Миша», – и послушно собиралась.
Они с мужем любили классическую музыку. Лидия Алексеевна посещала только театр музкомедии. И то нечасто. Ну и еще концерты в БКЗ, посвященные дню милиции, куда ее муж получал официальное приглашение на открытке, изображавшей орден Ленина и «спутницу тревог» красную гвоздику…
Кстати, после конфликта они всегда составляли следующий график с большим запасом времени на сушку. Но белье все равно не успевало к сроку.
Прошло много лет. Мужья у них обеих умерли, сыновья разъехались. Верин Витька закончил Макаровку, получил распределение в Севастополь, обзавелся там семьей и в Питер за последние пять лет приезжал всего один раз. Валентина занесло на север, но в городе жили его сын и дочь, навещавшие Лидию Алексеевну по праздникам. На Новый год она всегда дарила внукам конверты с деньгами, сэкономленными от пенсии и денежных переводов Валентина.
У них обеих были какие-то неназойливые старушки-подружки, к Вере Федоровне еще частенько забегала племянница Ирочка, дочь ее сестры. Ирочка, как когда-то сама Вера Федоровна, приехала в Питер из Новгорода учиться, а потом вышла замуж и на малую родину так и не вернулась.
Последние восемь лет Вера Федоровна и Лидия Алексеевна жили в квартире вдвоем, и главным источником всех их нечастых, но крупных конфликтов по-прежнему оставалась ванная. Точнее, не ванная, причины могли быть самые разные. Однажды, к примеру, Ирочка подарила Вере Федоровне на день рожденья маленького кенара Гошу. Лидия Алексеевна очень просила хоть иногда выносить клетку на кухню, и, конечно, Вера Федоровна шла ей навстречу, понимая, что соседке тоже одиноко. Через два месяца кенар умер, а дворник Таня, рассказала ей потом, что однажды она заходила к ним в квартиру и видела, как Лидия Алексеевна – известная любительница жирной пищи – тайком кормила птичку салом! В душе у Веры Федоровны все заклокотало! Но открыто обвинить соседку в том, что та извела со свету живое существо, она смогла только, дождавшись от Лидии Алексеевны упрека в том, что якобы забыла задернуть целлофановую штору, и на пол в ванной натекло слишком много воды. Ей пришлось ждать почти две недели!
За время ожидания она проводила тщательную инвентаризацию прегрешений соседки. Раздраженно вспоминала, как Лидия Алексеевна назвала Ирочкиного мужа-грузина не Гочей, а Геной. Перепутала, якобы. А Гоча мальчик хороший, очень хороший. Но только ревнивый. Они все такие, грузины, с этим ничего не поделаешь. Гоча слышит, что он «Гена», и отказывается понимать, что у Лидии Алексеевны просто память слабеет – думает, что Ирочка приводит в этот дом еще какого-то Гену. Или приводила…
«Ванная» дает ей наконец повод высказать все свои мысли вслух. Обвиняя, они повышают друг на друга голос, но, от базарного крика удерживаются. Хлопают дверьми, расходятся по комнатам, пьют валерьянку. Через какое-то время Вера Федоровна задумывается: «А может, кенар умер вовсе и не из-за сала? Может, он и раньше был чем-нибудь болен? Может, и не давала она ему никакого сала, а дворник Таня все придумала…» В это время по телевизору Таня Буланова поет песню про брошенного папой маленького мальчика, и Вера Федоровна, искренняя любительница глубокой и сложной музыки, утирает стыдливую слезу. А потом решительно говорит себе: «Ирочке пора воспитывать своего мужа! А то он относится к ней, как к собственности! Так тоже нельзя!..»
Лидия Алексеевна сидит у себя и со страстью обзывает соседку «дурой». А еще «интеллигенткой чертовой». Подумаешь, сало! В сале – сила, от сала никто никогда не умирал! Лидия Алексеевна вспоминает блокадную пайку хлеба и то, как хоронила умершую от голода мать. «А эту и угостить-то ничем нельзя! По утрам от запаха шкварок морщится, все кашу свою пустую ест!» На Новый год Лидия Алексеевна всегда покупает самый шикарный торт – чтоб крем желтым густым зигзагом по краю, а еще зеленоватые кремовые листики и огромная кремовая роза в центре – и приглашает эту идиотку на чай. Так она же почти ничего не ест! А если и ест, то с таким видом, будто давится… Правда вот подарки всегда дарит хорошие, тут ничего не скажешь – то прихваточку какую-нибудь на кухню в виде варежки преподнесет как раз тогда, когда у Лидии Алексеевны ни одной тряпки не осталось, то спички, которые всегда кончаются! И не какие попало, а красивые, даже жечь жалко – упаковка большая яркая, а в ней штук двадцать маленьких коробков, и сера на спичках в каждом коробке разного цвета. Лидия Алексеевна думала, что Вера тоже будет своим подарком на кухне пользоваться, но та ни разу ни одной цветной спички не взяла! Впрочем, у нее всегда свои есть… А еще как-то шнурок для очков подарила – Лидия Алексеевна мучилась, вечно очки теряла. Умеет, словом, соседка угадать и угодить. Сама-то Лидия Алексеевна и не видит в магазине всех этих мелочей. Им-то и цена, наверное, копеечная, да ведь найти их надо! Она вот купит самый дорогой торт, а эта морщится… Дура!..
По телевизору поет Таня Буланова. Лидия Алексеевна ее очень любит. «Хорошая девочка, – думает она, – красивая, скромная, с голосом… На ее Ирку чем-то похожа…»
Спрятанное в глубине серванта зеркало с радостью умножает на два принаряженных Веру Федоровну и елочную ветку.
«Мне всегда говорили, что я умею делать подарки, – думает Вера Федоровна, – Наверное, это у нас семейное! Вот и Ирочка молодец! Как здорово придумала! И хорошо, что до Нового года ждала и вместе с билетом вручила…» Они с Гочей вернулись с Мальты в конце сентября, племянница тогда привезла ей красивый набор салфеток и белую блузку с кружевным воротником, в которой она сейчас пойдет в филармонию. Блузка замечательно гармонирует с новогодним подарком – роскошным веером, который она вынула из белого узкого пакета, перевязанного красной ленточкой с завитыми в локоны концами. Веер был сказочный, как у принцессы! Сливочного цвета, кружевной, шелковый, с основой из гладкого легкого дерева, которое наверняка называется как-нибудь по-особенному: амарант какой-нибудь или палисандр. Открываясь, веер предлагает обратить на него внимание негромким и мелодичным, как у кастаньетов, щелчком. Кто-нибудь из публики наверняка его заметит. Впрочем, это не главное – Вера Федоровна ходит в филармонию для того, чтобы слушать музыку, а не показывать себя.
А вообще в филармонии многие дамы обмахиваются веерами, особенно летом, потому что летом в зале действительно очень душно. У Веры Федоровны есть один веер, самый обыкновенный, игрушечный, для девочек – деревянный, выкрашенный в черный цвет со слегка облезлым трафаретным рисунком. Им она пользуется не только в филармонии, но еще и в поезде, когда ездит летом к сыну в Севастополь. Но он не волшебный – он просто помогает справляться с духотой. А вот Ирочкин подарок она возьмет сегодня на новогодний концерт и там ему будет законное место, даже если филармонию успели вдруг оборудовать самыми современными кондиционерами.
«Кстати, – вспомнила Вера Федоровна, – я же еще должна поздравить соседку. Ей мой подарок тоже, наверное, понравится…»
Лидия Алексеевна очень любила латиноамериканские сериалы – их жаркие страсти, красивую обстановку и то, что там все просто и неперемешанно: глупость так глупость, любовь так любовь, подлость так подлость. Перед началом показа Лидия Алексеевна всегда старалась привести себя в порядок, снимала халат, надевала «цивильное», причесывалась и подкрашивала губы. Оттого что она старалась приодеться к сериалу ей было слегка неловко перед соседкой. Нет, она знала, что Вера Федоровна, во-первых, сама смотрит эти фильмы, а во-вторых, в любом случае не станет смеяться или злословить. Ее смущало то, что Вера Федоровна красит губы, отправляясь в филармонию, а Лидия Алексеевна – смотреть телевизор! Поэтому сразу после очередной серии Лидия Алексеевна шла на прогулку – и получалось, что она просто заранее готовится к выходу на улицу.
31 декабря показывали заключительную серию «Истории любви». По магазинам Лидия Алексеевна уже прошлась и выходить на улицу больше не собиралась. Но ведь 31 декабря женщина по праву может накрасить губы хоть с самого утра. До начала фильма оставалось полчаса. Лидия Алексеевна уложила кичку по-новой, надела свой парадный жакет и открыла сервант в поисках губной помады. Тюбик нашелся. Внутрь у него была вставлена спичка, которая уже больше месяца служила шахтой для добывания остатков помады. Лидия Алексеевна старалась и так и эдак, но со дна ей ничего извлечь и не удалось – тюбик был совершенно пуст. Лидия Алексеевна расстроилась. В дверь постучала соседка.
– Лидия Алексеевна, хочу вас поздравить с Новым годом. Пожелать вам здоровья и чтобы у ребят ваших все было хорошо! А это вам маленький подарок! Я так обрадовалась, когда увидела в галантерейке на Васильевском рижскую помаду! Помните, какой раньше был дефицит?! Теперь тоже дефицит – теперь ведь везде сплошная Франция. А рижская помада совсем такая же, как и была, и пахнет по-прежнему земляникой…
Вера Федоровна протянула Лидии Алексеевне круглый тюбик, голубоватый с выгравированным серебром рисунком.
– Вот спасибо, Вер Федоровна, вот спасибо! – растроганно воскликнула Лидия Алексеевна. – И как же вы всегда догадываетесь, чего мне не хватает? Я вот только что сидела и ругала себя, что не заметила, как кончилась помада. Вернее, заметила, но как-то денег все жалко было… Теперь вот Новый год – а я как старуха. Даже не знаю, как вас и благодарить!.. Когда вернетесь, будем пить чай с тортом! А вообще вы, конечно, молодец! Спасибо вам! И с наступающим!..
Вера Федоровна повторила свои поздравления и пошла на кухню ставить чайник, намереваясь перекусить перед концертом.
Оставшись одна, Лидия Алексеевна открыла тюбик. «Надо же, действительно рижская! Клубникой пахнет!.. И цвет розовый, как я люблю!»
Она подошла к шифоньеру, вынула старую коробку из-под ботинок фабрики «Скороход», открыла ее, убрала несколько скомканных газет и достала со дна конверт со своими сбережениями. Вытащила пятьдесят рублей, повертела в руках, потом положила купюру назад, взяла взамен сотню и решительно пошла на кухню.
– Знаете, что, Вера Федоровна, – начала она, – вы всегда меня поздравляете, а я все как-то не наловчилась покупать что-нибудь полезное. Я тут подумала, должна же я хоть раз в жизни что-нибудь вам подарить! Давайте я подарю вам деньги? Сто рублей. А вы себе что-нибудь купите – и это будет мой вам подарок… – Лидия Алексеевна положила купюру на нейтральный кухонный подоконник.
– Нет-нет, ну что вы! Спасибо, конечно, но я не возьму у вас деньги! С какой стати? И потом, как это вы меня не поздравляете? Вы же меня всегда угощаете пирожными…
– Я от чистого сердца… от души! – перебила Лидия Алексеевна.
– Нет-нет, спасибо, но не ставьте меня в неловкое положение, помада вовсе не такая дорогая… – Вера Федоровна юркнула в ванную, чтобы забрать оттуда постиранные накануне вечером колготки. Очень хорошие колготки, тонкие, но теплые, с шерстью, ей невестка подарила. Замечательные колготки… Только опять мокрые…
Вера Федоровна огорченно вздохнула. Но тут в голове у нее вдруг щелкнули маленькие робкие кастаньеты. Она вернулась на кухню.
– Лидия Алексеевна, я вот что подумала: если вы действительно хотите что-нибудь мне подарить, то давайте с вами купим такую специальную веревку! Я видела в нашем хозяйственном – на одну стенку крепится такой вроде блок, а на другую крючки. Мы можем прибить это в кухне на эти две стены, вот сюда блок, а сюда крючки. Вечером мы веревки из блока вытаскиваем, протягиваем через кухню и закрепляем на противоположной стене. А на кухне все будет сохнуть моментально! Ну, по крайней мере, если вечером повесить, то к утру точно высохнет! Давайте, а?
– Ну давайте, – ответила Лидия Алексеевна несколько озадаченно. – А сколько это стоит?
– Девяносто семь рублей. Я точно запомнила цену…
– Ну раз так, то давайте… – Согласилась Лидия Алексеевна с неким ей самой пока непонятным сомнением.
Вера Федоровна была настолько воодушевлена этой неожиданной перспективой, что сомнений соседки не заметила, а быстро оделась и побежала в расположенный неподалеку хозяйственный магазин, страшно опасаясь, что у них будет короткий день по случаю праздника. Ей повезло – день в магазине был длинный, ей продали веревку и даже пожелали счастливого Нового года.
Вернувшись, она радостно распаковывала коробку, показывала Лидии Алексеевне цвет и говорила, что он хорошо сочетается с их коричневатыми обоями, и что следующим летом, наверное, приедет Витька и вообще обои переклеит.
Лидия Алексеевна стояла у окна и волновалась. Да, у них сырая ванная, и все в ней сохнет долго. Но на кухне у приличных людей никогда никакие веревки не протягивались! И простыни не сушились!
«Она, наверное, считает, что я этого не знаю! Она и так всегда нос задирала! Считала нас людьми другого сорта! И в те времена, когда всем всего не хватало, она ни разу не попросила меня принести что-нибудь с работы! Ни разу! Ни на Новый год, ни на Витькин день рожденья! А сейчас я хотела сделать ей подарок, а она с этой веревкой!..»
Вера Федоровна продолжала о чем-то восторженно говорить.
Лидия Алексеевна собралась с духом и произнесла:
– Я думаю, Вера Федоровна, мы с вами что-то не то делаем! Помнится мне, в нормальное время люди, которые ходят в филармонию, не натягивали в кухне веревки. А то ведь как-то не по-людски получается: панталоны, трусы – и на кухне! На коммунальной, к тому же…
Вера Федоровна замолчала на полуслове, потом медленно пошла в прихожую, вернулась на кухню с сумкой, вытащила из сумки кошелек, вынула из него сто рублей и подчеркнутым жестом положила на стол Лидии Алексеевне. Зашла к себе, взяла веер, надела пальто, сапоги, шапку, после чего позволила собственной злости громко хлопнуть входной дверью.
Концерт начинался в семь, у нее оставалось больше часа. Она медленно шла по нарядному Невскому. Вокруг то и дело взрывались петарды. Ей казалось, что она снова и снова хлопает дверью. Она вспомнила, что соседская «подарочная» сотня так и осталась лежать на подоконнике. А когда она уходила в магазин, в кошельке у нее было ровно двести рублей. Сто она заплатила за веревку. Вторые сто, не разобравшись, «вернула» Лидие Алексеевне. Значит, у нее совсем нет денег. А она подумывала о том, чтобы выпить шампанского в антракте. Может, она и не выпила бы, но возможность у нее была. А теперь ее нет. А Лидия Алексеевна, кстати, запросто может взять и забрать обе купюры. Она ведь внимательна только к расходам, а к тому, что приходит, не внимательна – просто гребет все подряд, как снегоуборочная машина. Торговая закалка… К тому же у нее начались проблемы с памятью… Впрочем, не только с памятью – похоже, она скоро совсем прекратит соображать. Она же сначала согласилась! Конечно, по большому счету не дело сушить на кухне, но сколько можно мучиться!.. Под ногами Веры Федоровны тихо поскрипывал белый снег, и громко взрывались огненные петарды.
Филармония была похожа на невесту – белое кружево и красные розы. Вера Федоровна посмотрела на себя в зеркало. Белая блузка, черный длинный жакет, черная юбка – беспроигрышная классика. Блузка новая, красивая, и неважно, что костюм в возрасте. Она тоже не девочка. К тому же у нее есть необыкновенный веер. Веер у Веры.
А потом зазвучал Россини, и она забыла о том, что у нее нет денег на шампанское.
После концерта ей не хотелось возвращаться к себе, но идти было некуда. Теоретически она могла поехать к Ирочке, но практически она не сделала бы этого никогда. Вера Федоровна просто гуляла по улицам, вспоминая новогодние капустники на работе и то, как они с мужем водили маленького Витьку на елку во Дворец пионеров.
В начале двенадцатого, почувствовав, что замерзает, она нехотя направилась домой. Дверь старалась открывать как можно тише, надеясь, что Лидия Алексеевна ее не услышит. Но та ждала ее возвращения.
– Вера Федоровна, ну-ка идите-ка сюда, моя дорогая! – громко прозвучало из кухни, едва она ступила на порог. В прихожей появилась Лидия Алексеевна, взяла соседку под локоток и, не даже не дав ей снять обувь, потащила за собой в кухню. – Ну? Смотрите, что у меня получилось!
На одной стене висела красноватая пластиковая коробка, на другой никелированные крючки, между ними шли упругие веревки. Из толстой лески, не вооруженным очками пенсионным глазом – практически незаметные.
– Даже если мы забудем их спрятать, ничего не случится, – гордо сказала Лидия Алексеевна. И после небольшой паузы продолжила: – У Гришки в хозяйстве всегда был такой беспорядок! Я еле молоток нашла!..
На нейтральном подоконнике стоял маленький торт – «Восточный», безе с орехами, не очень жирный, похожий на старый «Киевский». Вера Федоровна его любила. На ее столе лежали две сторублевые купюры.
– Ну что, – спросила Лидия Алексеевна, – чай сразу или подождем двенадцати?
– А давайте ровно в полночь, чтоб по правилам, – ответила Вера Федоровна. – В рюмки, кстати, можно накапать валерьянки…
Утром они одновременно вышли на кухню. Вера Федоровна вытащила из ящика своего стола прищепку и повесила ее на новую веревку. Прищепка была старая деревянная с немного ржавой скрепляющей проволокой посредине и раздвоенным, как у ласточки, хвостом.
– А, может, мы все-таки зря тут все завесили? – то ли спросила, то ли просто произнесла Лидия Алексеевна.
Вера Федоровна тяжело вздохнула в ответ.
Прищепка с большим, предназначенным для толстых полотняных веревок прошлого отверстием в середине, ловко прокатилась по гладкой леске, отсчитав единицу, но стукнувшись о противоположную стену, не удержалась и упала на пол со звуком, отдаленно напоминающим щелчок кастаньет…
Человеческий материал
Ане Пиотровской
Я – квартира.
Я обширна, высока и в прошлом шикарна. Но время выкосило мою роскошь почти без огрехов.
Распахнута моя балконная дверь, и дворовый клен-старожил бесцеремонно метет ко мне воспоминания. Этот ветер добирается до моих костей сквозь кожу штукатурки и множество одежд из ветхих линялых обоев, вскрывает сухие трещины на масляной краске, которые, называясь кракелюрами, доказывают мою подлинность, и по телу моему мелким шорохом осыпающейся цементной пыли бегут мурашки.
А когда-то, почти сто лет тому назад, я была необыкновенно привлекательна и занимала целый этаж нового необарочного дома в зелени. Мой первый хозяин, господин Теонов, был, как говорили в старину, уличанином вящим, серьезным, обстоятельным, должность занимал в Певческой капелле, почти первую, принципальную. Служил с душой, не стяжая, а унаследованное от родителей состояние позволяло ему жить с изяществом и размахом. Женщин Теонов любил, но жен-премьером не слыл. Мною же обзавелся в связи с собственной женитьбой – я была его главной предсвадебной прелиминарией.
Он меня любил. Прихотливо выбирал уверенные цвета и осторожные оттенки для спальни, гостиной, музыкального салона и прочих моих помещений, которые я великодушно предлагала в качестве интериорных конструктов его семейного счастья. Из-за границы выписывал тяжелые материи для моих занавесей, а долее всего выбирал легчайшие репсовые шелка, в которые решено было разодеть стены спальни. Строго следил за соблюдением рифмы потолочной лепнины и филигранных рельефов пяти моих печей. Кладку самих печей контролировал тщательнейше, проверял тягу и поштучно отбирал рукой в плотной лайковой перчатке голубые с зеленцой изразцы. А однажды, поддавшись странному порыву, замуровал в одну из печей крохотную каменную шкатулку, положив в нее два старинных невычурных обручальных кольца – женское серебряное и золотое мужское. Такими кольцами обменивались венчающиеся в веке восемнадцатом, если таинство брака совершалось в точном чинопоследовании.
Печник-чухонец, изрядно, кстати, подуставший от хозяйского соучастия, уверял, что печи прослужат ровно сто лет. Теонов отсчитал от 1913 года столетие вперед. Змеевидной извилистости двойка из будущего отчего-то тотчас же покусилась на его спокойствие. Что-то смутное им вдруг овладело и, пытаясь избавиться от волны, полоскавшей его сердце, он и устроил тайник. Сам не понимал, был ли это привет – через век – другому тысячелетию. Или этим действом Теонов надеялся если не окольцевать, то хотя бы прикормить сизую воркующую удачу. Он был смущен, в голове у него дразнилось нелепое слово «столоверчение», но я его вовсе не осуждала – во-первых, по молодости я любила тайны, а во-вторых, понимала, что больше всего хозяину хочется, чтобы его будущая супруга, Эмилия фон Гроссе, особа в себя влюбленная с такою чрезмерною силою, какая всех слепит и глушит, – чтобы она чувствовала себя здесь превосходно. Мне же было все равно – я и без ее чувств отлично знала себе цену.
Моя парадная дверь с порога приглашала в гостиную a-la ротонда – по форме круглую, с куполом и двумя колоннами в карауле у августейшего арочного окна. В центре ротонды, задавая концертное «ля» всему моему звучанию, возвышалась каменная ваза с живыми цветами. Из ротонды уходили шесть дверей. Это был пучок моих значений. Которые я после постепенно растеряла.
Одна из дверей вела в лазурную горизонталь спальни с уборными в наидобрейших зеркалах и сиятельной медью кранов в ватерклозетах. О, эти поэзы нового быта моей молодости! Вторая дверь открывала червленую вертикаль музыкального салона, чьи цвета хотелось назвать серизовыми, бакановыми, сольфериновыми. Теонов гордился этим пространством, где у крылатого рояля стояла рафинированнейшая арфа, и ее треугольная тень в ранних сумерках уносила в окно все семейные околичности, оставляя лишь блестящие звуки счастья. О, память, эстетка, истеричка и гизела, не пугай дном своего сосуда, не извлекай оттуда медовую виолончель, и древнюю австриячку виолу да гамба, и и юную, безродную, но нежного голоса скрипку – троицу граций музыкального салона, умевшую звучать так хрустально, что, казалось, звуки могут разбиться, расколоться на тысячи безжалостных осколков…
За третьей дверью был до черни серьезнейший кабинет и библиотека в сером атласе. Рядом чуть сдержанная, не покинувшая дозволенной колористики диванная-курительная, в фиолетовом облаке то ли дымки табачной, то ли сомнения. Коллекция трубок на причудливой подставке у дивана-генерала, сменные мундштуки из янтаря и огромный, старинный, женским волосом шитый кисет, который Эмилия имела обыкновение разглядывать подолгу, недоумевая от контрапункта прельщения и отвращения. И еще разные мелочи – диванчики, резные шкафчики для кубинских и манильских сигар. И даже пара кальянов из уважения к прошлому.
Дверь четвертая уводила в зелень. Предполагалось, что здесь будет детская, но в ожидании будущего комната приютила мольберт, куда Эмилия изредка лениво приглашала участок реки, принадлежавший моим окнам, и одинокую городскую вербу, что единожды в год становилась похожей на нежного кролика.
За пятой дверью скрывалась парадная столовая и разнообразный гостевой пурпур. За шестой цвета не было – была столовая в простом деревенском стиле, а потом тяжелый афедрон кухни и постыдный анус черного хода. Здесь суетилась прислуга, которой командовала Настя-кухарка. Мою физиологическую, ей принадлежавшую часть Настя называла «мой бабий кут», а горничных – «покоювками». Настя уважала мирские чистоты и религиозные святыни и жизнь вела благообразную, занимая с законным мужем, дворником Афанасием, отдельную опрятную дворницкую. Афанасий был неизменно трезв и взгляд имел острый – потому-то ему, верно, и удалось потом овладеть мною полностью.
Эмилия никогда не входила на кухню. Зато здесь часто бывала Ольга, троюродная сестра хозяйки, жившая при семействе Теоновых в качестве экономки. Собою Ольга была хороша – робкой красотой бедной родственницы. Мои благородные зеркала-любители-справедливости иногда пытались намекнуть ей, что та куда красивее Эмилии, но неблагополучие окаменело в Ольгиных глазах, и взгляд ее никогда не проникал вглубь зеркала, не умел зацепиться там за крючок возвратного «-ся». Но на прислугу Ольга смотрела долго и пристально, и была тошнотворно педантична, за что прислуга ее немного побаивалась.
Что до Эмилии, то та очень скоро пресытилась семейным счастьем и по модному канону стала считать жизнь свою бесконечно скучной. От скуки она начала презирать приличия – сначала, опротестовывая условности, изящно зевала при гостях, потом завела себе любовника. Отправившись как-то в сопровождении Ольги кататься на роликовых коньках, познакомилась с чернокожим Джимом, мастером Поля. Он обучал ее фигурам под затейливые рассказы о собственных предках, которые якобы когда-то служили телохранителями императорской семьи. Джим был сочным рассказчиком, и однажды, когда Теонов отлучился из города, Эмилия пригласила Джима домой. Ольга слышала их разговор, но в суть его не углублялась – так же, как не углублялась в зеркало. И только позже, черной матовой ночью, когда Эмилия сама открыла входную дверь и впустила человека в шляпе-чадре, у Ольги вдруг по-лошадиному застучало сердце, а мои толстые стены, совершив ловкий акустический трюк, усилили стук ее сердца многократно. Шагом неровным и нервным Ольга ушла на кухню, опустилась там на деревянный до прожилок выскобленный Настей табурет и снова не успела ни о чем задуматься, как я – сама не понимая зачем – устроила сквозняк стервозности, позволив бестрепетному ветру распахнуть маленькую форточку в кухонном окне – и Ольга услышала постыдно громкий смех Эмилии, подчеркнутый крахмальным до оскомины скрипом снега. Наверное, мне тогда хотелось как-то ее расшевелить.
А потом время заболело. Не все это осознали сразу. Теонов уехал в Париж, взяв с собой Эмилию, которая стараниями любовника пристрастилась к морфию. Ольгу звали, но она осталась со мной – сказала, что будет беречь меня к их возвращению. Они не вернулись – пришли чужие. Во мне поселились похожие на тараканов жильцы, дворник Афанасий стал среди них главным.
Вначале я их возненавидела. Сыпала им на головы штукатурку, стараясь отколоть кусок покрупнее, заливала водой, а однажды даже пыталась отравить их газом. Но они сделали мне капитальный ремонт, ампутировав мои дымоходы. Я поняла, что мои печи больше никогда не будут работать – и заболела астмой.
Долгое время я жила словно под наркозом и сейчас совсем не помню, как заколачивали мой парадный вход, как устраивали перегородки и закрашивали изразцы моих печей серой масляной краской. Однажды я заметила, что у статного голландца, украшавшего верхнюю часть печи в библиотеке каплей краски на носу выросла отвратительная бородавка, и мне захотелось ослепнуть. Мне пришлось поменять иерархию привычек. Раньше я любила тепло, тишину, негромкий ноктюрн на рояле. И иногда из озорства могла покачнуть сдержанный натюрморт на стене в скромной столовой. Эта картина была единственной собственностью Ольги, она нравилась ей, потому что на ней не изображались неприличного правдоподобия лимоны, заставлявшие помимо воли сглатывать слюну…
Теперь я считалась благополучной, если во мне было шумно, как на рынке. Неплохо, если люди ссорились – со временем я поняла, что в новое время тишина признак нехороший. Теперь только несчастье гасило недоброжелательность и заставляло замолчать обитателей моих помещений, чьи многочисленные имена мне так и не удавалось запомнить. А еще во мне появилась целая система новых, незнакомых мне самой зеленых коридоров и двадцать, да, кажется, двадцать тупиков, в каждом из которых кто-то жил. Трое – в так и не состоявшейся детской, пятеро – разделенной на две части парадной столовой. Ротонду занял Афанасий, но он вышел из круга – выровнял стены досками, проложив между ними косматую паклю, и круглый зал превратился в кривое, угловатое помещение меньшей площади – «нормальное жилье без буржуазных выкрутасов». Афанасий как-то преуспел, где-то подучился, получил должность, но переезжать в отдельное жилье не спешил, наверное, потому, что ему нравилось ощущать себя здесь главным. Он был по-прежнему деловит и не пил, а Настя по-прежнему исправно вела хозяйство, и ее стараниями вся я вскоре превратилась в одну большую кухню, но получила при этом звание «квартиры образцовой культуры и быта». Я опасалась, что Ольга начнет служить этим новым хозяевам, но, слава богу, обошлось – у больного времени были иные принципы и принципалы.
Ольге достался музыкальный салон с роялем. Теонов увез с собой только дорогую виолу, скрипку же и виолончель однажды сожгли. Это была страшная пора, в любой момент я могла погибнуть, превратившись в груду камней. Но я выжила, и мой рояль уцелел – вынести его из перекроенного пространства оказалось невозможным, Ольга же к себе никогда никого не пускала, а у нее не хватило сил, чтобы самой распилить инструмент на дрова…
Ожив после чумы, я перестала вспоминать молодость. Мне даже захотелось познакомиться с новыми обитателями поближе, но память моя ослабела, да и их по-прежнему было слишком много. Они толкались на кухне в ворсистых одеждах их домашней пеструшки. Я старалась их различать.
Как-то в конце серой зимы так же молча, как и жила, умерла Ольга. Я подумала, что это безвкусие смерти было ей чем-то вроде утешения за безвкусие жизни. Потом от болезни умер Афанасий. Дольше всех жила Настя, но я не видела, как она уходила, потому что, почувствовав срок, она уехала в орловскую деревню, откуда в год моего рождения в Петербург пришел ее муж.
В Ольгиной комнате поселился скрипач. Его я невзлюбила, потому что он был хорошим музыкантом и игрой своей заставлял трепетать мои старые стены. Я плакала, протекали трубы, а он жаловался, что живет в плохих условиях, в «аварийной комнате». Репетировал бы в своей консерватории – условия были бы лучше!
Был еще водитель метро, крепкий мужик, чем-то напоминавший Афанасия в молодости, и жена его, воспитательница детского сада, чем-то походила на Настю. У них, кажется, было двое детей. А еще фотограф, и передовой рабочий с семьей, кассирша из Елисеевского, вечно покрикивавшая на мужа-милиционера и алкоголик Гена, которого все воспитывали…
А потом из черного радио на зеленой стене в кухне, покрытой мохеровой сажей, трижды прозвучала музыка, которую когда-то любили Теоновы, и я решила, что это знак – то ли конца моей несчастной несостоятельности, то ли просто перемены.
Уж не знаю, к концу ли это было иль к перемене, но меня начали «расселять». «Боже, как же долго я живу! – подумала я. – Сначала я была просто хорошей квартирой. Потом стала коммунальной. Потом квартирой образцовой культуры и быта. А теперь я снова квартира «элитная, видовая». А вид у меня был тот еще!..
Какое-то время меня занимали блиц-хозяева, владевшие мной по полгода максимум. Однажды меня подкрасили, подклеили и сдали «под офис», в моих комнатах поселились несолидные, но называвшиеся «юридическими» лица, каждое из которых торговало, чем могло. Потом, разогнав несолидных, пришло одно солидное и завалило меня коробками с компьютерами. Но вскоре явились какие-то люди и подожгли меня вместе с компьютерами. Сгореть дотла я не успела – спасла меня печь с тайником Теонова, каким-то чудом умудрившаяся освободить залитый бетоном дымоход.
Больше года я стояла пустой и опаленной, с заколоченными окнами. Потом меня купил крупный головастый человек с толстой цепью на шее, куда отчаянно хотелось повесить колокольчик. Он собирался одеть меня в золото и красный бархат, а вместо печей поставить мраморные надгробия каминов. Я наблюдала за ним равнодушно, просто отдавшись на волю судьбы. Впрочем, снести мои печи он так и не успел – его расстреляли во дворе под старым кленом как раз в тот день, когда нанятые им рабочие убрали косматые доски, которыми Афанасий когда-то выравнивал ротонду.
А потом круг замкнулся – и пришла Анна. Расстелила на полу огромные с шелковым шелестом листы, и я вдруг поняла, что это мой собственный чертеж, бог знает, как уцелевший в каком-то архиве. За окном восклицательным знаком прозвенел трамвай. От волнения я вздрогнула так сильно, что один из изразцов освободился от свивальника краски – и на пол упала каменная шкатулка Теонова. Анна взяла подарок и без затей сказала мне спасибо. А я ответила ей хриплым водопроводным вздохом.
– Я не хочу уничтожать в себе мелкие чувства, – сообщила Анна сопровождавшему ее молодому человеку. – Вот здесь в центре мы устроим что-нибудь вроде постамента, на который будем класть всякие предметы ready made!
– Реди мейд? – переспросил спутник. – Снова какая-нибудь штучка, которой тебя научили в Англии?
– Понимаешь, – ответила Анна, – можно взять любой предмет, но показать его так, чтобы все поняли, что он красив!
– Те самые «случайно найденные объекты»?
– Наверное… Хотя если тебе удается доказать красоту случайного объекта, он уже перестает быть случаным…
– Ну вот, как всегда все запутала, – улыбнулся молодой мужчина и, рассматривая раскрытую на ладони шкатулку, добавил: – На обручальных кольцах можно, пожалуй, сэкономить. Им же, по крайней мере, лет двести, а то и больше. И в этом что-то есть…
– Я знала, что здесь произойдет что-нибудь особенное, – спокойно произнесла Анна, выходя на мой балкон. – А на балконе я, кстати, посажу самый обыкновенный овес в алюминиевых ведерках. Получится очень красиво, вот увидишь!
– Может, лучше олеандр в кадке?
– Нет, здесь лучше овес…
Они ушли. Я подумала, что овес в алюминиевом ведре – это привет от каретного сарайчика, который снесли в нашем дворе в год моего рождения. На этом месте сейчас стоит наш клен. Подумала и, вздохнув, попросила солнце разложить моими окнами какой-нибудь блистательный пасьянс в тот момент, когда Анна оглянется посмотреть на меня с улицы…
Я смотрю в прошлое
В самом центре Петербурга, недалеко от Петропавловки, опираясь спиной на неопрятный городской тополь, по-деревенски на корточках сидит Владимир Петрович, охранник здешней автомастерской, которая скромно прячется за деревьями сквера и – оправдываясь перед соседней достопримечательностью – нескромно называется «Старой крепостью».
Лето, синеют небеса, Владимир Петрович читает, книга лежит на коленях. В городе пусто, все на дачах, и только подъезжающие к Иоанновскому мосту туристические автобусы заставляют воскресный день ненадолго встрепенуться – торговые ряды у входа в крепость оживают, матрешечники и платочники, стряхивая с себя сонный тополиный пух, манят клиентов громкими обещаниями продать им нечто уникальное, ручной работы и к тому же очень недорогое…
Время от времени Владимир Петрович отрывает взгляд от страницы и смотрит в сторону крепости, на красный кирпич и зелень. По кирпичу движется листва. Кажется, что игла Петропавловского собора нечаянно проколола солнце, и раненое светило, придерживаясь за крыло верховного городского ангела, застыло на месте и бесконтрольно льет горючие июльские слезы, превращая остро-золотой шпиль собора в самый свой мощный луч. От его слепящего сияния не спасают даже густо-черные солнцезащитные очки. А ветер и тополиный пух при этом усердно убеждают всех, что на дворе вьюжная зима. Владимир Петрович по этому поводу усмехается, закушенная сигарета подпрыгивает, и сизое табачное облачко несется вдогонку пыльному театральному снегу.
Следом за своей скользкой рогатой тенью на траву с шумом садится прогулочный вертолет. По каналу проносится гидроцикл – блестящий, похожий на дельфина, с высоким упругим фонтаном сзади. Очень подходящий транспорт для этой самоуверенной виниловой молодежи. По сравнению с ним неспешные прогулочные катера так и хочется назвать какими-нибудь «корытами» или «калошами»… А ведь лет тридцать назад, когда Владимир Петрович служил в водной милиции, они казались такими быстрыми, такими современными! У него самого был такой – номер 1608, синий корпус и белая полоса. Владимир Петрович плавал на катере по начальственной Неве и иерархически подчиненным ей рекам, каналам и протокам. И заметив где-нибудь, у той же Петропавловки, симпатичных девушек, всегда нарочно набирал скорость, поднимая вдоль бортов воду шикарным павлиньим хвостом. Мотор азартно трещал, в перламутровых брызгах за катером бежала изумрудная трава, и стучали белые зубы красной крепостной стены…
В принципе, Владимир Петрович вполне доволен собственной судьбой. Жаловаться он не любит – даже если для жалоб есть причины. Но сейчас, в эту мохнатую тополиную жару, он искусственными мерами, воспоминаниями о чем-то дальнем и давнем, вызывает у себя чувство, похожее на обиду.
Горько и едко пахнет дорога. Из киоска громко заявляют о себе шаверма и группа «Руки вверх». И только в мгновения редкой благосклонности ветра можно почувствовать чуть солоноватый запах воды.
«Тридцать лет назад реки в городе пахли совсем по-другому, – думает Владимир Петрович. – Я точно помню, запах был сильный, свежий, особенно рано утром, в начале смены…»
Ему кажется, что в Ленинграде семидесятых никогда не было так жарко – даже если температура поднималась до тридцати градусов. Сейчас ведь почти все фасады в центре города зашиты этой пестрой, нагло лезущей в глаза рекламой, которая в два счета раскаляется. А тогда Питер был серо-голубым, каменным, прохладным… Нет, то есть кое-какие знаки времени можно было, конечно, встретить. Владимир Петрович, к примеру, помнит, что на крыше соседнего дома по вечерам зажигался призыв досрочно завершить пятилетку, у входа в сквер обещали «миру мир», а еще где-то поблизости что-то такое было про Госстрах… Машин опять же было намного меньше. Степенно ездили старые округлые «Победы» и «Москвичи», водители новых, более угловатых моделей пытались лихачить, но ГАИ была бдительна. А каким совершенством казались первые тольятинские «Жигули»! Впрочем, Владимир Петрович до сих пор твердо убежден, что это действительно хорошая машина – там же ручная сборка и металл толщиной в палец. У шурина как раз семьдесят третьего года «копейка», так он за ней следит как положено, и она ничего, бегает!..
А вот Петропавловка совсем не изменилась. Но тут ничего удивительного нет – для ее возраста тридцать лет это то же, что один день для человека. Владимир Петрович улыбается, вспоминая, как он радовался, узнав, что его, вчерашнего дембеля, определили не просто в милицию, а именно в водный отряд. Получалось, как в кино – провалы разведенных мостов над Невой, упругие волны, полощущие белую ленинградскую ночь, медлительные баржи и солидные корабли… И где-то рядом он – в красивой униформе на голубом катере.
Ему очень нравилась его работа. Хулиганов было мало, к тому же он их совсем не боялся – дважды в неделю Володя занимался самбо и демонстрировал неплохие результаты. Как-то он даже доказал это на деле – перебравшие мужики возле пивного ларька у Тучкова устроили драку, так Володя их, как тогда говорили, «на раз» в чувство привел. Конечно, они не были достойными соперниками – забулдыги, что возьмешь? Но ведь их было человек десять, а он один! Так что грамоту Володя принимал с чистой совестью… А в семьдесят втором командование направило его на учебу в высшую школу милиции, на вечернее отделение. Теперь он работал днем, и в этом был минус, потому что больше всего он любил вечерние и ночные смены. Но с другой стороны, занятия тоже были интересными. Особенно уголовное право, которое у них вел майор милиции Свирский. Владимир Петрович от кого-то слышал, что Свирский сейчас большой человек в Большом доме. Что ж, справедливо – мозги у мужика тогда еще были очень крепкими!
Владимир Петрович закрывает глаза и вспоминает, как майор входил в аудиторию, устраивал на столе свой портфель-дипломат, открывал его и вытаскивал учебник: «Ну что, товарищи курсанты, хотите заняться возвышенным – например, кражами антиквариата? Или будем сегодня разбирать что-нибудь более земное – какие-нибудь незатейливые бытовые преступления, а?..» Говорили, он даже за границу ездил по обмену опытом! Володя любил его слушать, даже дух иногда захватывало. Вот только, когда речь заходила об изнасилованиях, ему становилось как-то неприятно, что ли. То есть он понимал – в жизни всякое случается, они как раз и учатся для того, чтобы это «всякое» случалось пореже… Но рядом сидела Марина, и Володе очень хотелось, чтобы упражнение из учебника по делу об изнасиловании было поскорей выполнено…
Марина тогда работала в архиве Дзержинского отделения. Глаза у нее были голубые, а волосы густые и гладкие, заплетенные в тугую косу, которая ловила солнечные блики так же ловко, как какая-нибудь городская речка… После занятий они стояли в коридоре, Марина восхищенно отзывалась о преподавателе. Володя, полностью разделяя ее восторги, ревниво тем не менее молчал, а энергичная тень майора – распахнутый плащ и солидный портфель – мелькала где-то у выхода. Кстати, дипломат у Свирского был совершенно роскошный – с одной стороны пластмассовый, с другой кожаный, а еще никелированные заклепки по углам и кодовый замок! Да… дипломат…
Как-то вечером Володя подплывал к Петропавловской крепости со стороны Большой Невы. На Иоанновском мосту стояли туристические группы, экскурсоводы быстро и громко рассказывали посетителям о том, что это первый в городе мост, построенный собственноручно Петром Великим, и что сохранился он почти в первозданном виде…
Володе крепостной мост очень нравился. И даже не потому, что он представлял собой историческую ценность – у него была удивительная конструкция. Суставчатые деревянные опоры издалека чем-то напоминали первые летательные аппараты. Внизу мелькали тени, шелком блестела вода, и иногда создавалось впечатление, что мост летит! Низко, как речная птица. Приближаясь, Володя всегда рассматривал мост внимательно, пытаясь понять, что именно делает его похожим на планер, но вблизи это сходство почему-то исчезало.
В этот раз ему вдруг показалось, что где-то справа между внутренними сваями мелькнуло что-то металлическое. Или это был просто солнечный зайчик? «Нужно на всякий случай проверить», – решил Володя.
«Надо же, – удивился он, остановив катер прямо под мостом, – если смотреть снизу, то можно подумать, что это не мост, а чердак сельского дома…» В прошлые выходные Марина позвала его с собой на дачу к своему старшему брату. То есть это была даже не дача, а добротный дом в псковской деревне. Так вот, чердак там выглядел точно так же, как изнанка Иоанновского моста – такие же деревянные стропила и бурые металлические стяжки… Вблизи, кстати, ничего подозрительного не наблюдалось – никаких блестящих предметов. Но Володя решил убедиться в этом наверняка и, вытащив весло, отплыл немного вправо. Дотянуться до свай, стоя на днище катера, было довольно трудно. Волны дурачились и лишали равновесия. Изловчившись, Володя подпрыгнул и, ухватившись руками за горизонтальную опору, повис в воздухе. Привыкнув к висячему положению, отпустил одну руку и пошарил в небольшой, скрытой от глаз плоскости между настилом моста и нижними балками. Там ничего не было. «Может, еще правее?» – подумал Володя и, сгруппировавшись, на руках переместился на метр вправо. Там тоже ничего не обнаружилось. «Ладно, – решил он, – силы вроде есть, так что попробую еще чуть-чуть в сторону, и все. Если ничего не найду, значит, показалось».
Сил вообще-то оставалось немного. Совершая последний «осмотр», Володя уже мысленно представлял себе тарзанью траекторию возвращения к катеру, как вдруг рука его действительно на что-то наткнулась. Что-то плоское, вроде твердой коробки. Мгновенно забыв о подступившей было усталости, он подтянулся на обеих руках и заглянул в зазор. Дипломат? Похоже, что да! Тайник! Что в нем может быть? Одной рукой подпихивая кейс к середине моста, Володя кое-как вернулся к исходному пункту экспедиции. Потом покрутил его в поисках ручки и, схватившись за нее, спрыгнул в покачивавшийся внизу катер вместе со своей находкой.
Дипломат был почти такой же, как у майора Свирского. Пожалуй, даже лучше – потому что у Свирского ручка просто кожаная, а здесь она вся отделана металлическими заклепками. Ручка-то, наверное, и сверкнула! Ну а кожа, пластмасса и хромированные уголки были в точности, как на преподавательском портфеле. И кодовый замок такой же. Минут пять Володя безуспешно набирал цифры наугад. Потеряв терпение, вытащил из кармана тонкий плоский инструмент, что-то вроде отмычки. Такие были у всех милиционеров, этой штукой при необходимости взламывали не очень сложные запоры. Провозившись еще какое-то время и несколько раз при этом беззлобно выругавшись – полностью ломать замок не хотелось, а поддавался он плохо, – Володя наконец открыл портфель.
Внутри лежали два полиэтиленовых пакета. Непрозрачные, белые, с изображением решетки Летнего сада и надписью «Ленинград» по-русски и по-английски. Ими еще бабки в общественных туалетах спекулируют, цена им, кажется, пятьдесят копеек, а перекупщицы продают по рублю! А импортные, с рекламой сигарет «Мальборо» – по три! У импортных пакетов ручки прорезанные, а у «ленинградских» полиэтиленовая лента по краю протянута, так что закрываются они плотно, как мешок… Володя потянул ленту на одном пакете и, заглянув внутрь, окаменел.
В пакете были деньги! И не советские рубли, а доллары! Они же в прошлом семестре изучали дензнаки различных государств, слайды смотрели, а еще им объясняли, как отличить настоящую купюру от фальшивой. Американцы на своих деньгах изображают президента – круглолицего, похожего на какую-нибудь вологодскую бабу. Володя его сразу узнал.
Ощупав второй пакет, он понял, что там тоже деньги – крепкие, перевязанные нитками пачки.
«Что-то похожее я, кажется, видел в одном детективе рижской киностудии», – подумал Володя, и сердце его подпрыгнуло куда-то к горлу. Ощущение, будто в груди у него упругий мячик вообще-то было знакомым и приятным – оно возникало, когда Володя катался на американских горках или смотрел в кино, как наши догоняют преступника… Но сейчас-то он был не в луна-парке и не в кинотеатре… Сейчас он сидел в катере один на один с целым чемоданом иностранных денег! Сколько здесь? Миллион? Полмиллиона?..
Володе вдруг стало страшно. Он с опаской посмотрел по сторонам. Никаких плавсредств вблизи не было. По набережной гуляли люди. Народу было много, все шли своей дорогой, но одна компания – человек шесть – стояла и наблюдала именно за ним. Так ему, по крайней мере, показалось.
«Спокойно! – строго приказал себе Володя. – Они же могли случайно заметить, как я обыскиваю мост. А потом просто следили за развитием событий. Из любопытства. Увидеть, что находится в мешках на таком расстоянии, невозможно! Так что нужно вести себя как обычно, чтобы не вызывать никаких подозрений…»
«А если их внимание не случайно? – промелькнуло в голове, но эту мысль он тут же пресек: Для рассуждений времени нет, действовать нужно немедленно!» На всякий случай расстегнув трогательную, как на школьном портфеле, кнопочку кобуры служебного пистолета, Володя резким движение завел мотор.
Отделение находилось на Мойке – минут пять-семь через Большую Неву, а там еще четыре минуты пешком. Если бегом, то даже две.
Погони по воде вроде не было. Никаких подозрительных личностей на берегу – тоже. Но излишняя предосторожность в таком деле не помешает – а вдруг хвост все-таки есть? В ВМШ они проходили наружное наблюдение, Володя знал, что методов здесь может быть масса, и среди них есть очень хитрые, практически незаметные даже для опытного человека.
«Преступник, спрятавший такие деньги, это вам не алкаш из-под пивного ларька, здесь все намного серьезнее…» – спешно рассуждал Володя, подплывая к берегу.
«Дипломат будет трудно удержать в руках, если его попытаются вырвать бандиты – если они все-таки за ним следят! А если слежки нет, то на солидный и дорогой портфель теоретически может покуситься какой-нибудь случайный хулиган! А что? Шапки же зимой у прохожих с головы срывают!.. При этом двумя руками держать портфель нельзя – нужно, чтобы пистолет был в боевой готовности!..»
На набережной, в месте парковки, как назло никого из ребят не было. Володя быстро вынул пакеты и спрятал дипломат в запирающийся ящик под сидением. Крепко затянув полиэтиленовые ленты, завязал их на запястье левой руки, этой же рукой прижал мешки к груди. В правую взял пистолет и, прикрывая им ношу, стремглав побежал к отделению.
Домчался за минуту и на лестнице в здании, уже среди своих, чуть не сбил с ног Ларису из канцелярии, Маринину знакомую, – все никак скорость снизить не мог.
Не по уставу, без стука и начисто забыв о положенном обращении, вломился в кабинет к начальнику, бросил пакеты на стол, выкрикнул: «Вот! Нашел между балками Иоанновского моста!», – и слегка при этом запутался в веревках.
Через месяц в торжественной обстановке общего собрания ему вручили премию в размере месячного оклада и грамоту за смекалку и мужество, проявленные при выполнении операции государственной важности. Грамоту он повесил у себя дома над кроватью. А премию вернул в бухгалтерию, велев перечислить ее на счет подшефного детского дома…
Оставшиеся полтора года учебы он ходил на занятия с шикарным дипломатом, который был ничем не хуже, чем у майора Свирского. Даже лучше – с учетом блестящей хромированной ручки!
Майор, кстати, как-то попросил его остаться после занятий и еще раз подробно рассказать историю о долларах. Володя рассказал, слегка запинаясь на предложениях, в которых мог бы фигурировать портфель. Свирский выслушал, не перебивая, поблагодарил и, уже прощаясь, вроде как не в тему то ли спросил, то ли просто так сказал:
– А премию, значит, в детский дом отдал… – В ответ Володя покраснел, как самый робкий детдомовец. – Ничего, парень, все в порядке! – улыбнулся Свирский и выбил какой-то веселый ритм на пластмассовой поверхности дипломата…
Портфель до сих пор цел – лежит у обувной полки в прихожей, – Владимир Петрович хранит в нем всякие нужные в хозяйстве вещи. Квартира, она ведь тоже стареет, – Марина вон третий год требует, чтобы они основательный ремонт сделали, да все не получается. Так, по мелочам-то Владимир Петрович постоянно суетится: прибьет что-нибудь, подкрутит, подклеит. И инструменты всегда под рукой – в старом дипломате.
Владимир Петрович и сам не прочь обновить дом – вон сейчас какие красивые обои и кафель появились! Но времени вечно не хватает! Четыре года назад он ушел из милиции в охрану. Марина уже год как на пенсии, но без дела она сидеть не умеет, – печет пирожки и торты для нескольких кафе. Она всегда была знаменитой кулинаркой, мужики из Дзержинского чуть ли не драки на праздничных посиделках устраивали из-за ее выпечки… С женой ему вообще очень повезло. Она в их семье всегда была главной. А в начале нового времени, когда привычная жизнь стала вдруг стремительно рушиться, Владимир Петрович и вовсе растерялся – никак не мог сообразить, как теперь вести себя на работе, не понимал, почему зарплаты больше не хватает на самые элементарные вещи… Многие его коллеги как-то приспосабливались, через подставных лиц открывали всевозможные кооперативы и даже совместные предприятия. Владимир Петрович дерзнул лишь поиграть с мыслью о побочном бизнесе, но предпринять что-нибудь конкретное так и не решился, понимая, что вряд ли освоит все эти новые нормы… А Марина сориентировалась – начала печь на заказ. В первое время доходы были невелики – она же халтурить не умеет, не экономит, не использует маргарин вместо масла или повидло вместо свежих фруктов… Но за несколько лет она сделала себе «имя», и теперь три элитные кофейни числятся у нее в клиентах. Нет, назвать это легкими деньгами, конечно, нельзя. Но зато совесть чиста, и с выходом на пенсию стало поспокойнее, да и Владимир Петрович с сыном Сергеем стараются помогать ей, чем могут…
Сергея они, кстати, ждали почти десять лет. А дождавшись, вырастили великаном – рост у парня под два метра. Марина его отваром шиповника в детстве поила, поэтому, наверное, такой и вымахал. Баскетболист, за городское «Динамо» играет! Хорошая, кстати, команда, вот только денег на раскрутку не хватает, со спонсорами вечные проблемы. В прошлом месяце они в Испанию ездили на матч городов-побратимов. Так, во-первых, поехали вообще без запасных игроков, потому что еле-еле наскребли денег на дорогу для основного состава. А во-вторых, по прибытии на место обнаружили, что форма у команды не соответствует регламенту соревнований. По правилам, если футболки у спортсменов светлые, то бутсы должны быть темными. А наш тренер так обрадовался тому, что ровно за день до отъезда по дешевке нарыл где-то пять пар обуви, что совершенно не обратил внимания на то, что бутсы такие же белые, как и футболки… В Испании на новую экипировку пришлось бы потратить пять раз по триста долларов! Это же нереальные деньги! Вот тренер и купил черные фломастеры – по полдоллара штука, всего штук сорок – и всю ночь перед матчем ребята раскрашивали свои тапки! На поле вышли злые, в бутсах цвета «маренго» – с легкими серыми проплешинками на общем черном фоне. Всю игру носились, как маньяки, без единой замены! И, представьте себе, выиграли!!!
Когда Владимир Петрович рассказал об этом на работе, то хозяин – черный густопсовый носатый грузин с нежным именем Мамули и прозвищем Белый Орел – растрогался и посодействовал: замолвил, так сказать, словечко перед знакомым представительством западного автомобильного концерна. Те в результате расщедрились и купили ребятам по два комплекта спортивной формы на всю команду, включая всех запасных. Спонсорский логотип сейчас, правда, виден на футболках четче, чем номера игроков, но это уже второстепенные подробности! А Белый Орел за свое посредничество теперь всегда требует у Владимира Петровича билеты на все баскетбольные матчи.
Но вообще-то он мужик ничего, нормальный. В золоте, правда, весь, но это у грузин в крови – цацки на себя вешать! Рабочих, главное, не обижает, и сам вкалывает, как проклятый, с утра до ночи, а что на блестящее, как ворона, падок – так это его личное дело.
Бывших милиционеров сейчас берут в охрану главным образом из-за их связей. Дорабатывая пенсионный стаж, Владимир Петрович потихоньку присматривался к разным фирмам. Торговые предприятия отметал сразу – там же сплошное жулье, дурят друг друга, а ты за них потом отдувайся! Нет, нужно было найти такое место, где люди деньги зарабатывают собственными руками. Охраннику там спокойнее. И со «Старой крепостью» Владимир Петрович вроде не ошибся – за четыре года ему пока ни разу не пришлось обращаться к бывшему начальству. Ну в налоговую ездит раз в месяц с подарками для их инспекторши, она подруга жены бывшего сослуживца, но это так, мелочи… В основном же его работа заключается просто в присутствии на месте. Иногда он по собственной инициативе помогает в мастерских, особенно, если привозят какой-нибудь навороченный автомобиль – а что, интересно же! Да и мужики там веселые. Левон, армянин-механик, даром что лет десять, как в Питере живет, а по-русски говорить так и не научился. Как скажет что-нибудь – умора! «Фольксваген» «фольксвасгеном» называет! Но руки у него действительно золотые!
А тут недавно в конце дня Мамули на машине во двор влетает – щебенка из-под колес павлиньим хвостом покруче, чем вода под голубым катером 1608. Остро сверкают белые Мамулины зубы и черные глаза:
– Петрович, – говорит, – если останешься после работы и поможешь колеровщику, две дневные ставки дополнительно заплачу! Срочно нужно двадцать литров краски хаки приготовить!.. Нэт, ти толко представь! – от возбуждения Белый Орел начинает говорить с сильным грузинским акцентом, – Представь, эти баальбесы, которие бившее Россвооружение, нашли где-то списанные бэтээры и продали их вьетнамцам! И не помили-и, не покрасили-и, а прям со свальки на корабл и в Ханой! Обрадовались! А вьетнамцы машины увидели и говорят: «Холосый масина, но глясный осень! Насад весите, помойте, покласте! А то деньги не дадим!..»
Изображая вьетнамцев, Мамули растягивает в стороны свои огромные глаза и между двумя грядками пушистых черных ресниц гордо торчит орлиный нос:
– Но с другой стороны, молодцы! Нам же с вами допольнителный прибыл!..
Неровными воронками в горячем воздухе летает белый тополиный пух. Пожилая чета иностранцев направляется к Иоанновскому мосту по аллее мимо мастерской. Оба седоволосые, в белых шортах, белых футболках и белых кроссовках. Идут медленно, держась за руки…
«Там были фальшивые доллары», – вдруг заявляет себе Владимир Петрович. Тушит сигарету и рассеянно смотрит вверх – туда, где иголка солнечного луча беспорядочным золотом расшила неяркую, «долларовую» зелень городской листвы, и одним нечаянным стежком прикрепила к трепещущей ветке слегка взъерошенного воробья.

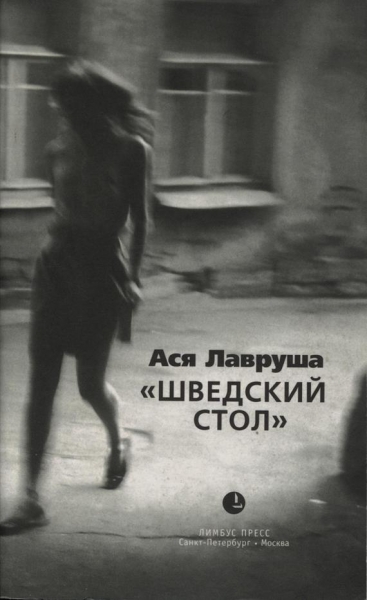
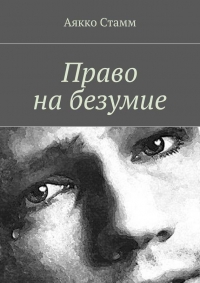
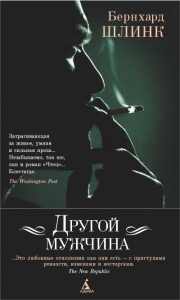
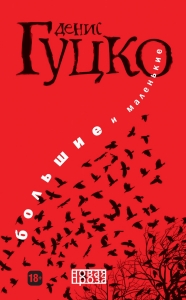
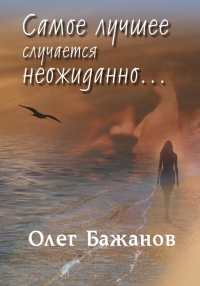
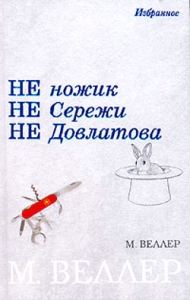

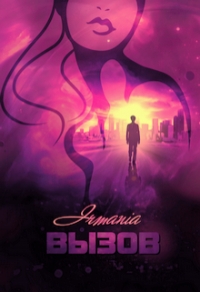
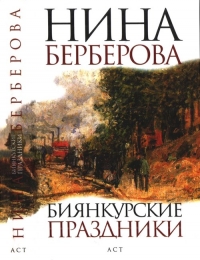

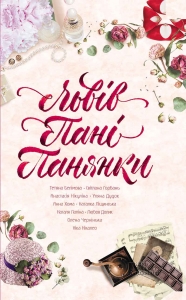

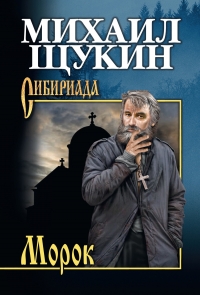
Комментарии к книге «Шведский стол», Ася Лавруша
Всего 0 комментариев