Александр Эдуардович Фурман Книга Фурмана. История одного присутствия
Часть II. Превращение
Радикальная операция
С начала второго класса Фурмана отдали заниматься плаваньем в огромном открытом бассейне «Москва». В ноябре, после того как на одном из занятий равнодушный тренер куда-то надолго удалился, оставив группу мерзнуть у бортика под медленным снежком, упрямо не таявшим в заградительных облачках пара над бассейном, Фурман сильно простудился. Простуда вскоре перешла в хронический гайморит: разбухшая тяжелая голова, забитый нос, «баба» вместо «мамы», «ди дада» вместо «не надо» и «дет» вместо «нет» – все это постепенно стало привычным и родным, как плохая погода.
В шестом классе Фурман болел особенно часто. К весне его гайморитные дела ухудшились настолько, что потребовалось более серьезное обследование. В Филатовской больнице фурмановским случаем неожиданно заинтересовался, как было сказано, талантливый молодой врач и ученый, кандидат медицинских наук Лисицын. Он готовил докторскую диссертацию как раз по этой теме, поэтому Фурманам было предложено немедленно, не дожидаясь конца учебного года и в обход всякой очереди, лечь в больницу. На предварительной консультации высокий, внимательный, вкрадчиво мощный Лисицын произвел на Фурмана с мамой довольно приятное впечатление; но, как выяснилось позднее, за убаюкивающе мягкими манерами и немногословной спокойной рассудительностью скрывался опытный и насмешливый хищник-хирург.
В больницу Фурман взял с собой читать двухтомного «Домби и сына» Диккенса. В первые, особенно тоскливые дни он почти не отрывался от волшебно-печальной книги, сдерживая слезы над странно неотвратимыми чужими несчастьями, – а когда там все кончилось, родители передали ему четыре тома «Отверженных» Виктора Гюго. Фурман был даже благодарен больнице – когда бы еще он мог вот так, не думая о времени, погрузиться в чтение? Вынужденный по тому или иному зову извне поднимать глаза от страницы, Фурман каждый раз на несколько секунд как бы подслеповато зависал между двумя накладывающимися друг на друга мирами… и смиренно возвращался к будням своего тягучего плена.
Кого-то из мальчишек утром уводили на операцию, а обратно привозили на каталке – забинтованного и беспомощного; другие – после чего-нибудь, по местным представлениям, «легкого» – возвращались слегка оглушенными, но на своих двоих; кому-то объявляли о выписке, и он отбывал здесь последние часы – бессовестно счастливый и уже наполовину чужой; а на его месте на следующий день начинал осторожно обживаться новичок.
Однажды после завтрака сестра проводила заранее задрожавшего Фурмана в холодную процедурную, где его уже поджидал расслабленно-внимательный Лисицын. Через минуту появился еще один молодой доктор, тоже высокий, но более полный и жизнерадостный. Фурмана с насмешливым сочувствием предупредили, что он может не бояться: делать ему сегодня ничего не будут – им нужно только посмотреть его аденоиды. Ну, смотрите… По указанию Лисицына Фурман переместился со стула на круглую вертящуюся табуретку, выдвинутую на середину помещения, и с удивлением занял там предписанную глупую и неустойчивую позу – подложив руки под задницу ладонями вниз, – при этом второй доктор ласково и ободряюще обнял его сзади за плечи. Фурман, как велели, открыл рот («давай, открой пошире» – терпеливо сказали ему), высунул язык («дальше! дальше!») – и вдруг Лисицын, мощный, точный и гибкий, как хлыст, пальцами правой руки вцепился в фурмановский язык, будто клещами, а сзади и сверху на его плечи в ту же секунду всей тяжестью навалился второй врач, наглухо сдавив тело железным кольцом. «Кк-х!» – изумленно вылетело из Фурмана, прочно сидящего на своих собственных ладонях. Ноги его были больно зафиксированы нижними конечностями Лисицына, который отстраненно и сосредоточенно заглядывал Фурману внутрь.
За эту растянувшуюся секунду Фурман уже почти свыкся со своим ужасным положением, но оказалось, его ждало кое-что еще: Лисицын, прищурясь, вдруг просунул пальцы левой руки глубоко-глубоко в фурмановскую глотку, ухватился там за что-то и дернул… Он почти сразу отскочил, заботливо потирая левую руку, а Фурман, все еще прижатый сзади, зашелся в кашле. «Укусил?» – с веселым удивлением спросил второй врач. Лисицын, хитровато усмехнувшись, показал, что нет, укусить его не так-то просто. «Все!..» – прохрипел Фурман, давая понять, что с ним все в порядке, он за них, можно его отпустить. «А ты не будешь нам мстить?» – на всякий случай поинтересовался доктор и, после того как Фурман, внутренне улыбаясь, отчетливо помотал головой, разжал объятия. Сидеть на руках – это они, конечно, здорово придумали…
Через пару дней в той же процедурной Фурману сделали знаменитый «прокол». Ребята рассказывали, что это не слишком больно, хотя, конечно, неприятно, и он готов был терпеть. Тем не менее его приковали к специальному креслу.
Сначала куда-то далеко-далеко в нос остренько вставили одну за другой несколько длинных прямых проволок с маленькими ватками на конце – видимо, для «заморозки» – и так оставили на некоторое время. Ощущение было очень необычным и почти смешным: Фурман казался самому себе чем-то средним между живым усатым насекомым и тем же насекомым, но уже насаженным на булавку.
Когда «усы» были выдернуты из головы бедного насекомого, к фурмановскому креслу подкатили медицинский столик с инструментами, от одного вида которых у него мороз пошел по коже. Наиболее угрожающе выглядела толстая кривая игла с отдельно лежащим гигантским шприцем (почти таким же прибором кололи снотворное артисту Моргунову в «Кавказской пленнице»).
– Что, страшно? – хмуро спросил Лисицын, перехватив фурмановский взгляд.
Нет-нет, ведь «проколоть» такой иглищей ничего невозможно, она слишком широкая, вы что!..
Однако Лисицын покамест всего лишь настойчиво высматривал что-то в онемевшем фурмановском носу через конусообразные металлические трубочки, грубо выворачивая их вместе с ноздрями то в одну, то в другую сторону.
Сориентировавшись, он некоторое время звенел инструментами на столике, загораживая его спиной, а потом мягко повернулся к Фурману с той самой ужасающей иглой.
– Сейчас мне надо будет пройти твой хрящик, – со спокойным интересом сообщил Лисицын. – Это неприятно, но ты уж потерпи, пожалуйста. Тебе, наверное, ребята в палате уже говорили, что это не смертельно? Так что постарайся не сопротивляться, а лучше помоги мне, ладно? Так мы быстрее закончим.
Фурман судорожно кивнул, вжавшись в подголовник и приготовившись терпеть, как в подвалах гестапо.
…Похоже, у Лисицына что-то не получалось – тяжело дыша, он давил на иглу уже чуть ли не со всей силы, кряхтя и постанывая вместе с Фурманом, которому казалось, что его нос взламывают, как дверь. Никакой это был не «прокол»! Если бы Фурман не был пристегнут к креслу, его бы, наверное, давно перекувырнуло через голову с помощью этого вставленного в нос рычага! О-о-о, он весь обливался холодным потом, боясь, что беспощадный Лисицын следующим усилием свернет ему шею, мечтая потерять сознание и судорожно цепляясь за кресло. Наконец что-то, сопротивлявшееся в глубине его черепа, отчаянно хрустнуло и подалось, изогнутая игла продвинулась в образовавшуюся дыру, и Лисицын отвалился… Увлекшись своим занятием, он уже чуть ли не сидел на Фурмане верхом, этакая кобылина костлявая.
Что же дальше? Это ведь еще не все?! Дальше Фурману освободили трясущиеся руки и велели держать у подбородка большой полукруглый таз. К торчащей из бесчувственного носа игле привинтили тяжелый поллитровый шприц, нажали на поршень… и вдруг в самые фурмановские мозги щекотным ударом влетел, диким восторгом пронесся по дальним уголкам и игриво захороводил водяной вихрь. Фурман чуть не охнул от небывалого удовольствия, но побоялся захлебнуться теплым желтым потоком, который начал извергаться в таз из дырявой головы.
После этого Фурман по праву почувствовал себя больничным ветераном. Однако чисто медицинские результаты промывания мозгов были неутешительными: левая гайморова пазуха оказалась настолько забитой, что стало ясно – для ее очистки требуется более серьезная «радикальная» операция.
В течение следующей недели Фурману сделали рентген обеих пазух, еще раз промыли их – уже почти совсем не больно, без всякого «прокола» – и взяли кровь из вены. Он очень старался не смотреть, что там происходит, уставлялся на потолок, на голую стену, в пустое окно, но блуждающий взгляд, словно веревкой, тянуло туда, туда – где большая пробирка жирными ритмичными толчками наполнялась черной жидкостью…
– Нюхай! Нюхай!!! – и после машинального вдоха пронзительная струя нашатырного спирта звонким горном пробуждает мозг от обморочного полусна…
Постепенно выяснялись и некоторые подробности предстоящего. Правда, сейчас в отделении не было никого, кому бы уже сделали такую операцию, но старожилы смутно припомнили, о чем идет речь, и охотно объяснили Фурману, что ему должны «продолбить дырку». Для чего, в каком месте и как – это было уже вне их компетенции. Чем долбить? – да обычным долотом! И все принимались смеяться, обсуждая возможные технические подробности «долбления».
После долгих колебаний Фурман подступил с тревожным вопросом к своему палатному врачу, но тот сказал, что это все вообще не должно его заботить, тем более что операцию будет делать даже и не сам Лисицын, а его научный руководитель – крупнейший специалист в этой области, доктор наук, профессор и вообще светило. Фамилия профессора была с неопределенным армянским окончанием, и врач добавил, что это женщина, а Фурману просто фантастически повезло, поскольку в последнее время она очень редко проводит собственные операции. Это, кстати, настораживало (может, она вообще забыла, как это делается?), но врач говорил с таким неподдельным уважением и даже восхищением, что Фурману оставалось только смириться с неминуемым. Хотя, надо сказать, полусерьезные планы побега (например, через окно с помощью простыней – отделение находилось на высоком втором этаже) периодически обсуждались в палате.
Население ее было разновозрастным: от нескольких малышей, ютившихся здесь скорее всего из-за нехватки мест в других, более подходящих им по составу палатах, до обросшего девятиклассника из какого-то сибирского города, безвылазно жившего в больнице уже чуть ли не второй год. На шее у него болталась узкая неряшливая повязка, которая должна была прикрывать торчавшую прямо из горла короткую резиновую трубочку с пластмассовой прокладкой. Разговаривать он мог только странным свистящим шепотом, зажимая трубочку пальцем. После еды трубочку полагалось вынимать и чистить. Он уже перенес несколько операций, но перспективы его выздоровления оставались туманными. Несмотря на свои трудности с речью, этот больничный старожил, полнеющий от недостатка движений, любил поговорить и, сипя трубочкой, охотно сообщал «новеньким», что горло ему «перерезали» прошлой зимой, во время катания с горы на лыжах: он упал на спину, и по нему на полном ходу случайно проехали чьи-то санки. Сам он больше ничего не помнил, но, со слов врачей, спасло его только то, что скорая в тот раз приехала действительно скоро. Кровищи, говорят, было…
Во всех «старших» палатах большим успехом пользовались его рукописные сборники анекдотов и – выдаваемые по особому доверию – «тайные» рассказы. На вид это были обычные тонкие школьные тетрадки, аккуратно заполненные разборчивым почерком. Фурман впервые столкнулся с литературной порнографией и не сразу смог поверить, что все это сочиняется писателем с соседней койки. Сюжетный фон там был довольно разнообразный: так, например, действие одной «исторической» новеллы происходило в России в эпоху до отмены крепостного права. В описываемый день богатый и могучий русский красавец-помещик с утра парился в собственной бане в окружении небольшого крепостного «гарема». Конечно, бабы были деревенские, но, как видно, весьма и весьма подготовленные. После обычного набора барских банных удовольствий ему привели «попробовать» пугливую новенькую. Несколько женских образов – зрелой заправилы оргии, ее добродушной бесстыдной товарки и по-звериному теряющей невинность девушки – были очерчены безупречной рукой мастера и, помимо автоматической ненависти к самодержавию (ослабленной, впрочем, детской завистью к его возможностям), вызвали у Фурмана пугливое недоумение своей «психологией» – а точнее, не по-рабски заинтересованным и совершенно антиреволюционным сладострастием… В другой новелле, с более лапидарным сюжетом, великолепный во всех отношениях западный разведчик мгновенно соблазнял прекрасную, но подозрительно отзывчивую жену какого-то иностранного посла (впрочем, поскольку никаких секретных сведений ни до, ни во время, ни после романтически описанного полового акта сторонами не передавалось, «шпионская» тема служила исключительно для приманки доверчивого читателя). Динамичное действие свершалось в обозначенных скупыми деталями великолепных интерьерах: в первом абзаце герой, готовясь к выходу в высший свет, брызгал на себя каким-то суперодеколоном, поправлял кобуру под мышкой и бабочку на шее, во втором появлялся ледяной бокал головокружительного шампанского, в третьем – прелестная, сверкающая драгоценностями и чудно пахнущая героиня, а в последнем герой, снова поправляя бабочку, раздвигал тяжелую бархатную портьеру и спешил к новым приключениям. Фурману хватило одной тетрадки, и он, утирая испарину, вернулся к своим «Отверженным».
Но вскоре ему опять пришлось отвлечься. В отделении время от времени появлялась девушка-няня, привлекавшая к себе всеобщее внимание: невысокая, иссиня-черноволосая, с презрительным взглядом и стройными голыми ногами, вызывающе сиявшими из-под неприлично коротенького халатика. Стоило ей слегка нагнуться – с веником или же над чьей-нибудь постелью, – как стая мальчишек, которые с недобрым весельем кучковались у нее за спиной, начинала ронять случайные предметы или с криками падать на пол, якобы в борьбе. Лицо девушки и холодный взгляд ее накрашенных глаз Фурману совсем не нравились, но теперь, когда возбуждающие откровения «тайной» тетрадки тесно соседствовали в его голове с не менее возбуждающим благородством «Отверженных», ему каждый раз делалось невыносимо стыдно перед великим Гюго и его героями за это мальчишеское безжалостное шутовство – тем более что он заметил, как растерянно оглядывается глупая девушка, одергивая свой бесстыжий халат. Во время очередной такой потехи он попытался убедить двух своих наиболее «интеллигентных» больничных приятелей, что такое поведение является «издевательством над человеком», но они совершенно не захотели его понять. Разочарованный своим окружением, Фурман вновь погрузился в чтение.
Как-то днем, перед самым обедом, одного маленького мальчишку из их палаты привезли на каталке после тяжелой операции, делавшейся под общим наркозом. Голова у него была почти сплошь забинтована, как в кино про войну, и подходить к нему строго-настрого запретили. Вечером он еще был явно не в себе – даже сесть не мог без помощи, движения у него были замедленные и пьяные. В какой-то момент он начал то ли тихонько напевать, то ли постанывать, вызывая у игроков в шахматы смех и раздражение, поскольку не реагировал на обращения с просьбой заткнуться, – наконец догадались позвать дежурную сестру, она прибежала, обняла его, и он вдруг заплакал так жалобно и горько, что и у всех остальных на глазах выступили слезы.
Наконец настала очередь Фурмана. За дверью с надписью «Операционная», как оказалось, скрывалось множество помещений. В маленькой проходной комнатушке незнакомая медсестра заполнила на Фурмана карточку и велела ему раздеться до трусов. Сестра зачем-то предупредила, что, поскольку операцию проводит профессор, на ней будут присутствовать студенты, и Фурман застыдился, что пришел в старых заношенных синих трусиках, – как раз в последний момент перед выходом из палаты он решил сменить их «после всего», когда вернется. Но тоже ведь странно: операцию делают на голове, а раздеваться надо до трусов…
Ему дали какие-то маленькие таблетки, потом сделали укол в плечо. «Это наркоз?» – деловито поинтересовался уже приготовившийся отключиться Фурман. Но сестра безразлично сказала, что наркоза не будет – только успокоительные и местная анестезия. Фурман растерялся: как же это, без наркоза? Но тут в комнатушку ввалилась шумная веселая толпа в белых халатах, и сестра, велев Фурману ждать здесь и разрешив пока накинуть на плечи рубашку, пошла показывать дорогу. Люди все входили и входили, и по их шуткам и раскованному поведению Фурман догадался, что это студенты, хотя выглядели они все как взрослые дяди и тети, кое-кто даже с сединой. Три тети помоложе остановились поздороваться со смущенным Фурманом и подбодрить его, а пара явившихся одновременно с ними буйных шутников представилась ему по полной форме, с коротким поклоном и щелканьем каблуками. Сделали они это, конечно, не для жалкого Фурмана в синих трусиках, а исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание добрых девушек – и им это, к сожалению, удалось…
Наконец поток иссяк. «Неужели все они приперлись сюда смотреть, как мне будут долбить башку? – подумал Фурман. – Ну да, они же учатся… Только бы профессор не вздумала поручить этим двум шутникам тренироваться на мне».
Он сидел на холодной клеенчатой кушетке и прислушивался к голосам. Первоначальное волнение потихоньку сменилось легкой скукой. Зевнув разок-другой, Фурман решил, что это уже начало действовать успокоительное лекарство, и его вдруг охватило веселое равнодушие к тому, что с ним будет.
Уже лежа в просторной полупустой операционной (студенты находились пока где-то в другом месте), он удивился, какими толстыми – совсем «не детскими» – канатами и как крепко его привязывают. Сопротивляться он не собирался в любом случае, но эти путы были явно рассчитаны на какого-то очень страшного зверя… Неужели могли быть такие дети, которые заслуживали этих предосторожностей? Или их здесь так доводили?! Фурман попробовал представить себя на их месте: корчи, рывки, попытки укусить… Да. Кто знает, может, и с ним через каких-нибудь десять минут случится такой ужас? Как начнут долбить долотом без наркоза… Тут не только профессора, всех студентов перекусаешь.
Привязанного Фурмана накрыли с головой простыней, а сверху еще чем-то, более плотным, так что внутри стало совсем темно, но рот и нос попали в какое-то специально прорезанное окошечко – можно было дышать и прислушиваться. Хотя лучше, конечно, было бы сразу заснуть и проснуться, когда все уже закончится. Наркозу они пожалели…
Судя по шуму, в операционную ворвались студенты. Они окружили фурмановское ложе, и он из-под простыни узнал и тех двух кривляк (они продолжали отпускать громкие шутки во все стороны), и одну из добрых девушек – она мягко пыталась их сдерживать, но только разжигала еще сильнее. Другие будущие врачи громко беседовали вокруг о своих домашних делах, о купленных по дороге продуктах – точно перед накрытым столом, где затаившийся Фурман был одним из блюд… Наконец властный профессорский голос попросил всеобщего внимания – операция началась.
Профессорша заговорила на медицинском языке, описывая студентам фурмановскую болезнь и ее особенности. Некоторые слова были Фурману известны по больничному обиходу, и он, наверное, слегка задремал, потому что, очнувшись в какой-то момент, вдруг понял, что его нос и губы куда-то пропали, а на их месте находится что-то другое – какие-то странные тряпки – и там, в этих тряпках, что-то происходит, кто-то в них копается. Справившись с мгновенным испугом, Фурман догадался, что ничего у него не исчезло, ничего ему не удалили, а просто это так действует «заморозка».
Голос профессорши за покрывалом продолжал монотонно читать вводную лекцию, и, судя по отзывающимся на фурмановских щеках грубым движениям, снаружи приступили к изучению его отсутствующего носа с помощью трубочек. «Как бы они мне там не разворотили все на фиг, я ж ничего не чувствую! – забеспокоился Фурман, ощущая толчки на лице. Он незаметно пощупал кончики своих канатов. – А, ладно… Мне ведь даже говорить нечем».
Некоторые прилежные студенты задавали уточняющие вопросы, радуя профессора, а один из насмешников – видимо, когда до него дошла очередь заглянуть в трубочку, – громким шепотом удивился: «Ух ты-ы! Наташенька, дорогая, ты только посмотри, какие у него ноздри-то волосатые изнутри! Как же он дышит?» Все засмеялись, но Фурман спустя секунду застеснялся и обиделся. Он же не виноват в этом, вообще первый раз об этом слышит! А эти привязали его, делают с ним что хотят и еще издеваются. Даже рот нельзя закрыть им назло… Добрая Наташа, сдерживая улыбку, шепотом заступилась за Фурмана: «Прекрати, он же все слышит!» – «А он разве не …?» – «…» (Фурман горько усмехнулся.) – «…Нет, а что тут такого? Я серьезно: впервые сталкиваюсь со случаем, э-э, столь обильного обволошения [что-то на латыни]. («Вот дурак-то».) Меня правда это заинтересовало с чисто научной точки зрения, как будущего медика, так сказать». – «А ты посмотри вечером в зеркало. У вас ведь в общежитии, наверное, есть зеркало, дорогой? Мне, как будущему медику, кажется, что твой […] (наверное, латинское название носа), с точки зрения обволошения, представляет гораздо больший интерес». Вокруг зафыркали, и профессор попросила уважаемых товарищей практикантов быть серьезнее. «Наташенька, позволь обратить твое внимание, как будущего медика, что я в некотором смысле представляю собой уже вполне половозрелую мужскую особь, – продолжал шептать посаженный в лужу шутник, – в расцвете сил, так сказать, а он – еще мальчик, поэтому меня это и удивило». – «Ладно, половозрелая особь, не мешай слушать», – отрезала Наташа.
«А кто вообще здесь может быть виноват? – печально думал Фурман. – Но если так уж по-глупому считать, то, наверное, папа – у него из носа волосы торчат. А я должен отвечать…»
Между тем из слов и постукиваний профессора вроде бы следовало, что операция будет проводиться вовсе не через нос, как предполагал Фурман, а через рот, тряпки и деревяшки которого были давно уже раздвинуты и распялены при помощи специальных зажимов. Главное, что уловил Фурман, это то, что дырка (под научным названием «устьице», т. е. проход для очистки левой носовой пазухи) будет проделана над каким-то верхним шестым зубом. (Если над ним будет дырка, то на чем же он тогда будет держаться?..)
– Ты меня слышишь? – почему-то спросила профессорша. До сих пор она ни к кому на «ты» не обращалась. Лишь со второго раза, обратив внимание на слово «мальчик», Фурман сообразил, что это, наверное, к нему. Он торопливо напрягся и не пойми чем издал нечленораздельный утвердительный сигнал. Но тут же весь покрылся потом: а вдруг он ошибся?!
– Хорошо, я убедилась, что ты меня слышишь. Сейчас я приступаю к операции. Благодаря анестезии ты не будешь испытывать острой боли. Но это не значит, что ты вообще ничего не будешь чувствовать. Ты, наверное, уже знаешь, что так не бывает – даже когда мы лечим зубы у стоматолога… Мне предстоит проделать достаточно серьезную и тонкую работу, поэтому для меня важно понимать, как ты переносишь операцию. Конечно, это не означает, что ты должен каждые пять минут взвизгивать от любого пустяка. Тебе следует знать, что никаких ужасов, ничего такого, чего не способен вытерпеть обычный нормальный ребенок твоего возраста, мы с тобой не собираемся делать. Поэтому постарайся терпеть и не мешать мне делать мою работу. В крайнем случае, если тебе станет совсем уж плохо, я разрешаю тебе тихонько застонать – на это я среагирую. Договорились?
– …Э-а-а, – покорно согласился Фурман, поняв, что больно все-таки будет.
Его несколько раз кольнули чем-то в верхнюю десну и на некоторое время оставили в покое, потом он уплывал куда-то под негромкое бормотанье и пришел в себя, когда строгий профессорский голос произнес слово «долото». «О, началось. Значит, и вправду долотом будут башку долбить! Господи, это же смешно…»
Последовавшие после короткого копошения удары Фурман ощущал просто как тупые сотрясения. Жаловаться, в общем-то, было пока не на что, хотя в голове все как-то муторно мутилось. Когда проникновение углубилось, ощущения сделались немного острее, но Фурман решил терпеть – до самого неизвестно какого конца…
– Приготовьте мне, пожалуйста, ложечку, – попросила профессорша голосом, в котором можно было различить привычную борьбу с утомлением.
«Ложечка. Что это еще за «ложечка»? – подумал Фурман. – Чайная ложечка, что ли?..»
– Мальчик, я опять к тебе обращаюсь. Я понимаю, что ты уже устал, но осталось недолго. Должна тебе сказать, что до сих пор ты держался просто молодцом. Я думаю, мои уважаемые коллеги, а также наши сегодняшние гости, студенты-практиканты, могут это подтвердить. – Все с энтузиазмом загалдели, и в механически дышавшей фурмановской груди виновато потеплело. – Пока можешь немножко отдохнуть…
Уважаемые коллеги! Я прошу вас сделать небольшой перерыв – благо, у нас есть такая возможность. К моему огромнейшему несчастью, мой возраст уже дает о себе знать: мне необходимо собраться с силами, прежде чем я продолжу. Да, да, я понимаю… Тем не менее все так и есть.
Но, чтобы не тратить попусту наше драгоценное время, давайте посвятим имеющуюся у нас в запасе пару минут тоже работе, хотя и несколько иного характера – работе ума. Не стоит удивляться, мои друзья, в нашей профессии это тоже немаловажно. Я собираюсь затронуть достаточно сложный вопрос, который может быть интересен особенно для тех из вас, кто по окончании нашего вуза, а это время уже не за горами, решит избрать профессию практикующего врача. Некоторые предпочитают говорить об этом как о призвании – и возможно, они не так уж и не правы… Вы можете делать удивленные лица, можете спорить, но я уже давно живу на свете, и для меня не секрет, что далеко не все из вас намерены сделать этот выбор. Нет, я не буду переходить на личности, это каждый сам для себя выбирает… Пожалуйста, не надо шуметь! Мы с вами не в аудитории… Я вообще начала говорить о другом. Все, тишина!
Общеизвестно, что главная и, по сути, единственная задача любого медицинского работника – это борьба с болезнью и облегчение страданий пациента. Собственно, в способности решать эту задачу и заключается уровень нашей профессиональной подготовки. Однако тут скрывается одна интересная вещь: вольно или невольно, но мы всегда подразумеваем, что врач борется с болезнью один на один. Пациент при этом является пассивной фигурой, он – как бы арена борьбы, исход которой от него самого зависит в очень малой степени. Конечно, я сейчас намеренно несколько заостряю эту позицию. В жизни она присутствует в более стертом виде и сопровождается массой всяких оговорок, но тем не менее я возьму на себя смелость утверждать, что это – общепринятая у нашей широкой медицинской общественности точка зрения, лежащая в основе неписаных канонов поведения врача.
Фурман стал потихоньку проваливаться в забытье…
– Возможна и другая точка зрения, при которой врач и пациент вместе, так сказать, на равных правах борются с общим врагом…
Фурман на какое-то время отключился.
– …Таким образом, желая помочь этому мальчику, который мужественно переносит довольно неприятные, надо признать, процедуры, я вынуждена буду пойти на определенные нарушения нашей врачебной этики. Вы, конечно, не должны подумать, что это является чем-то обычным в моей практике. Это именно исключение, которое я сегодня решила сделать.
В нашей медицинской среде действительно как-то не принято, чтобы врачи откровенно обсуждали с пациентом проблемы, связанные с его заболеванием. Я говорю именно о нашей стране, потому что за границей, где мне в последние годы была предоставлена возможность не только побывать, но и поработать в нескольких ведущих клиниках – во Франции и еще в других местах, – там с этим делом обстоит немного иначе. Насколько это целесообразно, мы сейчас, конечно, не имеем возможности обсуждать – не будем забывать, что мы здесь собрались, так сказать, по другому поводу. Но я считаю, что в каком-то смысле мы с нашим мужественным мальчиком, моим уважаемым пациентом, делаем одно общее дело. И я надеюсь, что моя откровенность поможет ему и дальше держаться так же хорошо.
Мальчик, я надеюсь, ты еще слышишь меня? Боюсь, наши скучные взрослые разговоры утомили его даже больше, чем операция…
…
– Да он уже давно спит! – ехидно предположил кто-то. Все облегченно рассмеялись.
Фурман на всякий случай пошевелил ногой, но вроде бы никто этого не заметил. Было непонятно, ждет ли профессорша, чтобы он опять подал голос, поэтому он решил подождать более четких указаний.
Шутливые предположения о его состоянии продолжали сыпаться.
– Ну-ну, друзья мои, давайте все же оставаться в рамках приличий.
Лично я думаю, он столько натерпелся, что ему пока не до сна. Мальчик, я права? Если слышишь меня, дай знак.
Стесняясь, Фурман коротко «акнул».
– Ну вот, видите, что значит опыт. Пока он меня не подводит… Итак, мальчик, теперь послушай меня внимательно. Я собираюсь, ни много ни мало, раскрыть тебе некоторые наши профессиональные секреты, чтобы ты был готов к тому, что нас ждет дальше. Мы уже проделали большую работу, которую можно считать предварительным этапом. Подробности я опускаю, чтобы не засорять твои мозги лишней информацией. Сейчас нам нужно будет как следует почистить твою носовую полость. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем твой гайморит не так осложнял тебе жизнь. Возможно, во время чистки ты почувствуешь определенную боль. А возможно, и ничего не почувствуешь. Но я специально тебя предупреждаю об этом, рассчитывая на твою разумность и силу воли. До этого момента ты проявлял их в полной мере. Надеюсь, так будет и дальше. Поверь мне, в любом случае ничего страшного тебя не ждет. Ты уже мог в этом убедиться: никаких ужасов с тобой до сих не случилось. Просто в том месте, где мы сейчас будем работать, действие «заморозки», как вы ее называете, может проявляться немного слабее. Мне придется работать очень аккуратно, буквально по долям миллиметра, поэтому я рассчитываю на твою помощь. Я могу тебе сказать совсем откровенно: если ты вдруг начнешь дергаться, ты можешь каким-то одним случайным движением все испортить, всю нашу тонкую работу. И нам тогда, не дай бог, придется все начинать сначала, все переделывать. Я думаю, ни ты, ни я в этом не заинтересованы. Поэтому в наших общих интересах – сделать все, что нужно, сделать это хорошо и побыстрее закончить. Я отвечаю за свою часть работы, а от тебя потребуется еще немного терпения. Я уверена, что все у нас с тобой пройдет нормально, но на самый крайний случай, если уж почувствуешь, что тебе совсем невмоготу, можешь немножко постонать, как мы и договаривались, – я пойму и постараюсь что-нибудь придумать, чтобы тебе стало легче. Ты меня понял?
Фурман тихо и печально проревел из своей темной ледяной берлоги.
– Ну что ж, тогда вернемся к работе. Все, товарищи, наш маленький перерыв закончен! Прошу извинить меня за импровизированную лекцию, но мне этот вопрос представляется важным. Если у вас появится желание продолжить обсуждение, мы сможем вернуться к этому на нашем четверговом семинаре…
Эта их «ложечка» оказалась ужасно, безумно острой. Медленные, огненно-скребущие движения, совершавшиеся в буквальном смысле внутри черепа (казалось даже, прямо по мозгу), были почти непереносимы. Какой-то дикий, гадский, абсолютный, абсолютный кошмар – и не шевельнуться! Чтобы выдержать еще хоть сколько-нибудь эту пытку, Фурман намертво вцепился в свои перетяжки, влажные и скользкие от пота, и с такой силой напряг все свое никчемно-протяженное тело, мешающее ему терпеть – или наоборот, как раскоряченный якорь, удерживающее его от окончательного безумия, – что оно само собой стало – да нет, просто спеклось – в черный кусок угля, а вся жизнь, которая водилась в нем до того, тончайшим пылающим отрезком поместилась под ползущий и жгуче-выскребывающий ее до самого последнего донца кончик «ложечки»… «Я слышу, слышу, мой мальчик. Потерпи, осталось совсем чуть-чуть». – «Она не поможет! Не поможет!!! Не остановит!!!! О-О-О. ТЕРПЛЮ».
Выжил Фурман или нет – было уже все равно.
В палату он пришел на «своих» – плохо пригнанных – ногах, бережно поддерживаемый сестрой.
Все его чувства были выжжены, и смутно знакомые схематичные ходы больничной реальности – ничуть не изменившейся, в то время как его тело странным образом вернулось из безвоздушного и бесчеловечного космического приключения, – некоторое время вызывали в нем недоверие и слабую тошноту. Здешняя налаженная реальность казалась «подставленной», ненастоящей. Он машинально погрузился в «Отверженных» и в какой-то момент с удивлением осознал, что Мариус Понмерси, Жан Вальжан и даже инспектор Жавер с его навязчивой идеей – все они кажутся намного живее и ближе ему, чем механически бодрые соседи по палате, исчезающие один за другим без всякого следа, словно приснившись.
Между тем весна за облезлыми оконными переплетами набирала ход. Форточку стали дольше держать открытой, и с прохладным сыроватым воздухом из неподвижного больничного парка отдаленно доносился тревожный, «перелетный» запах воли.
Итак, все, что требовалось, было уже сделано. Пора было выписываться?..
Но нет, палатный врач, занявший авторитетное место тоже куда-то бесследно пропавшего Лисицына, решил ЗАОДНО избавить Фурмана еще и от небольших аденоидов.
Произошло это один на один. Фурман был опять крепко пристегнут к специальному креслу и, сидя лицом к окну, с каким-то отвлеченным волнением и радостью ждал встречи с болью. Никакая новая боль не могла быть большей, чем ТА, – а ТУ он уже вынес. И теперь ему было даже интересно, что может сделать с ним НОВАЯ.
Она оказалась очень короткой: две серии из двух резких движений, – но такой свежей, что при первой подсечке он громко вскрикнул, забрызгав фартук и защитные очки врача алой кровью («Ничего, не беспокойся, это нормально!..»), а при второй – когда он уже знал, что сейчас будет, – его тело, несмотря на привязь, выгнулось в кресле мгновенной жесткой дугой…
* * *
Отходив в школу две последние предканикулярные недели, Фурман получил дневник с удивившими и огорчившими его отметками: из-за того, что он много болел, многие из них – и четвертные, и годовые – были просто снижены на балл, и он из нормального ученика вдруг превратился в троечника. По большому счету, это было несправедливо, и Фурман безнадежно обиделся на школу.
За миллион лет до нашей эры
Начались летние каникулы, но впервые за шесть лет Фурмана вроде бы решили не отправлять в пионерский лагерь. Врачи из Филатовской больницы мягко рекомендовали после операции некоторое время не рисковать: один случайный удар по лицу, и весь результат сложной работы может пойти насмарку; кроме того, и на взрослых членов семьи, и на самого Фурмана все-таки давило воспоминание о его прошлогоднем побеге из лагеря… Поэтому последнее слово родители оставили за ним. Желая избежать ответственности, Фурман тянул волынку и все откладывал ответ «на потом», а в наиболее острый момент принятия окончательного решения на семейном «совете» попытался скрыть свое душераздирающее нежелание ехать за рассудительным взвешиванием всех «за» и «против». Но, как видно, несколько переусердствовал, расписывая многочисленные и неминуемые опасности коллективной жизни, – и мама, не удержавшись, сделала ему язвительно-разоблачительное замечание. Фурман тут же слезливо взвился, в спор с готовностью влез Боря, и завязалась общая скандальная перепалка, конец которой положила предложенная миролюбивым папой и устроившая всех формулировка, что лучше все же прислушаться к мнению врачей…
Проблема заключалась еще и в том, что бабушка Нина находилась в Москве и могла поехать в Покров только недели через две. Но Фурман утверждал, что он найдет, чем заняться, и скучно ему не будет. Впрочем, выбора у родителей все равно не было.
К седьмому июня в Москве уже не осталось никого из ребят. Неинтересно повзрослевшая зелень прочно вписалась в городской пейзаж, и легкое весеннее ощущение беспричинного праздника незаметно растворилось в глубокой, с маревом, перспективе наступившего лета.
С утра Фурман, выполнив мамино требование, сходил в парикмахерскую, где знакомый ему с детства лысый мастер привычно обкорнал его под полубокс, потом помылся в ванной, немного почитал и – опять-таки исполняя данное маме обещание дышать свежим воздухом – собрался «куда-нибудь погулять». Дедушка стал уговаривать его пообедать перед уходом, но он отказался. Смутная цель прогулки неожиданно побудила дедушку вручить любимому внуку трехрублевую бумажку «на карманные расходы» (куча денег, если учесть, что самое дорогое мороженое стоило 28 копеек).
Радостно выкатившись из дома в легкой рубашке с коротким рукавом, Фурман в сомнениях дошел до угла и повернул обратно – утепляться. На улице оказалось совсем даже не жарко, хотя утром солнышко пригревало вполне по-летнему. У себя в комнате он мимоходом заглянул в зеркало: противно свежепостриженный – уши торчат, на бледном треугольном личике – странное беспокойное выражение, и синяя шерстяная олимпийка тоже сидит как-то криво – напялил ее прямо поверх рубашки, а она и без того уже тесна… – а, ладно, сойдет!
Вариантов, куда бы можно направиться с деньгами, было, собственно, раз-два и обчелся, поэтому для начала стоило изучить киноафишу. Ближайшая доска находилась рядом, в самом начале тенистого скверика между Оружейным и Садовой – так что только улицу перейти.
С растущим разочарованием скользя взглядом по волнистой, неровно наклеенной поверхности афишного листа, испещренной мелкими и какими-то сырыми красненькими строчками, Фурман убеждался в том, что летняя Москва не собирается его баловать: всех этих «разбушевавшихся фантомасов» и «неуловимых мстителей» он уже видел по сто раз каждый… «За миллион лет до нашей эры» – тоже смотрел, про динозавров, хороший фильм, идет в двух кинотеатрах, но оба расположены неизвестно где. Тащиться куда-то далеко неохота. Может, «Человек-амфибия»? Надоело, да и сама книжка Беляева интереснее. Вот сняли бы фильм по «Ариэлю»: бетель, красные губы… Как он летает и вообще… Но это, конечно, трудно. Какие-нибудь мультфильмы, на худой конец?..
– Да, смотреть нечего… – задумчиво протянул жилистый мужик в кепке, тоже вперившийся в афишу.
Фурман вежливо промолчал. Не обязательно же сегодня все деньги тратить, можно и потом как-нибудь… Так, надо сосредоточиться. В «Эрмитаже» делать нечего, парк ЦэДэСА? Озеро, тир…
– Каникулы-то начались уже или нет еще?
Фурман глянул мельком, кивнул и незаметно поморщился: проснулся тоже, детей, что ли, нет, какое сегодня число-то… Ну ладно, пора трогаться.
– А чего в Москве? Ехать некуда?
(Вот пристал… Сейчас я тебе отвечу!..)
– После операции… (Фу, пришлось откашляться.) В больнице лежал. Скоро поеду на дачу.
– Понятно. Болел, значит. – Мужик вздохнул.
(Ага, болел… Понятно ему… Ну и чао-какао!)
– Закуришь?
Протягивает открытую красную пачку «Примы». Шутит?
– Бери, не стесняйся.
Вот это да…
– Не, спасибо, я не курю.
– Не куришь?! Молодец! А, ну да, ты ж после болезни. Здоровье бережешь. Тоже правильно. А я закурю. Мне уж беречь нечего…
Фурману казалось неудобным просто повернуться и уйти, после того как этот дядька был с ним так приветлив. Поэтому он подождал, пока будет сделана первая глубокая затяжка, и сказал:
– Ну, до свиданья, я пошел.
Дядька быстро выдохнул дым:
– Подожди, куда это ты «пошел»? «Пошел» он… А я-то как?
Фурман растерянно остановился.
– Мы же с тобой собирались в кино пойти, забыл?
– А там ничего нет, – скованно произнес Фурман.
– Ну как это нет? Не может такого быть. Иди-ка сюда. – Ддядька властно положил тяжелую руку Фурману на плечи и повернул его лицом к афише. – Давай посмотрим. Ты – с этой стороны, а я – с той. Нет, придется все-таки очки надеть… Тебя как звать-то?
Фурман уже немножко испугался этих нежданно завязавшихся отношений и наскоро попытался выбрать себе какое-нибудь другое имя, но, так ни на что и не решившись, тихо признался:
– Саша.
– Саша. Александр, значит. А меня – Николай Иванович. Можно дядя Коля. Будем считать, что познакомились. Ну как, нашел что-нибудь подходящее, Александр?
Фурмановские глаза невидяще метались по строчкам, и он только покачал головой, соображая, как бы ему половчее выбраться из-под руки этого «дяди Коли». Хватка была крепкая. И такая – не случайная. Но как быть-то? Фурман легко представил себе, как он ставит мужику подножку и толкает… Нет, такое только в кино бывает. Если вдруг начать орать и звать на помощь, люди, допустим, сбегутся – а на что жаловаться-то? Подумаешь, руку на плечо положили… Вот дурацкое положение.
Дядя Коля предложил наугад несколько фильмов, но Фурман все строго отклонил. И вообще, он вдруг вспомнил, что ему срочно надо бежать домой по одному делу!
– Подожди, ты чего, испугался меня, что ли? – заметно расстроился дядя Коля и сразу убрал свою руку. – Нет, если не врешь, что надо «срочно», то чего ж, иди, я же тебя не держу. Я просто подумал, что вдвоем будет веселее. У тебя каникулы, у меня выходной. Мне одному-то скучно эти детские фильмы смотреть, я ж не пацан. А так сходили бы куда-нибудь вместе, по дороге поболтали бы, анекдотики потравили, то да се… Но ты чего-то струсил, я смотрю. Перебздел… Я понял… Ты мне лапшу-то не вешай, что тебе «надо»!
– Я не струсил, – с виноватой убежденностью сказал Фурман. – Мне правда надо…
– Я понял, что тебе надо. А мне не надо?.. В общем, обидел ты меня, Александр. Честно говорю, крепко обидел. Сперва-то ты мне вроде понравился – так, лицо у тебя ничего… Я с тобой по-хорошему, как мужик с мужиком… Закурить тебе предложил, все по чести. А ты тут начал какую-то ерунду мне пороть… Что, небось, обхитрить меня вздумал, сука, блять? На кривой козе объехать? Смотри у меня. Ты меня еще не знаешь. Мал ты еще, сучонок! Хочешь бросить меня на хуй одного? Так и скажи!
Фурман совершенно ошалел от этой внезапной атаки.
– А ну, какая твоя фамилия? – сузил дядька глаза, и его вторая рука тоже вцепилась в фурмановское плечо.
(Зачем ему фамилия?! Почему он стал так страшно ругаться? – Все вдруг перевернулось…)
Угрюмо:
– А зачем вам?
(БЕЖАТЬ. Бежать?.. Машины идут потоком – погонится и у светофора поймает… Или еще хуже: в подъезде… И что тогда будет? – Фурман все никак не мог понять, чего этот взрослый дядька хочет от него, для чего он устраивает весь этот жуткий спектакль? И вдруг его пронзило простейшее, исчерпывающее объяснение: «дядя Коля» – это СУМАСШЕДШИЙ УГОЛОВНИК, УБИЙЦА!..)
– Надо. Говори, как фамилия?
Фурман побелел и дал своим губам произнести:
– …Корольков.
(ВОТ – ОТ СТРАХА ПРЕДАЛ ЛУЧШЕГО ДРУГА.)
– Как? Королев?
(ЗА ЭТО ТЕБЕ ПОЛАГАЕТСЯ СМЕРТЬ.
«Я не хочу! А как же родные? …И с Пашкой ничего не может быть – адреса-то он не знает…»
ТЕПЕРЬ ЭТО УЖЕ ВСЕ РАВНО.)
– …Корольков.
– Не врешь?
Раздавленный своей низостью и непроходящим страхом, Фурман с машинальной покорностью помотал головой.
Чуть отвернувшись, мужик неразборчиво забормотал, как бы объясняясь сам с собой: «А, ну, тогда ладно, ладно. А то мало ли. Может… Залетишь еще… По лицу-то не скажешь… или еврей какой… Черт…»
Фурман вдруг почувствовал, что ноги его почти не держат. Так ведь и убежать не смогу – буду ковылять, как инвалид. Вот вляпался… – Он все еще не мог поверить, что все это происходит с ним на самом деле. Да как это вообще получилось?!! С чего все началось?! – Да нет, он ЗАСЛУЖИЛ. И бежать теперь – ни к чему…
– Ты, это, как тебя, Сань, ты извини, я тут малость погорячился. Понимаешь, я ведь инвалид… («Так, он тоже. Два инвалида подрались и приползли в милицию…») Не веришь? Честно. Могу книжку показать! Ага, нет, это не та, – вот, смотри, видишь?.. Со мной бывает, завожусь с пол-оборота. Так что ты извини. Давай забудем. Закуришь? А, забыл… Ну, дай пять! Все, мир?
Холодно злясь на собственную слабость, Фурман брезгливо кивнул и сунул ладонь в протянутую чужую руку.
– Все, теперь я могу идти?
– А, иди, конечно, – с равнодушным видом сказал палач.
Рука-то осталась у него в плену.
ОТПУСКАЕТ МЕНЯ БЕЗ РУКИ. ЮМОР МЕРТВЕЦА.
От отчаяния (вот ведь как – и дом родной совсем рядом, даже виден отсюда) он презрительно сказал:
– Я не могу уйти – вы же меня сами держите.
– А? Да перестань, Сань, мы же с тобой друзья! Ты не обижайся на старика. И меня не обижай, не надо, понял? Ты учти, пацан: я тебя всего наскрозь вижу и еще на три шага под землей. Так что… не балуй. Мы с тобой сегодня гуляем!.. Слышал анекдот?.. – Не выпуская Фурмана, сумасшедший инвалид принялся безудержно болтать, шутить, рассказывать похабные анекдоты и какие-то дикие короткие истории из своей (а может, и не своей) жизни – и сам же хохотал, привычным жестом вытирая слюну в уголках губ. – Вот так, Сань… Ты понял, да?
Неизвестно было, что он может выкинуть еще через минуту. А если у него с собой нож? Господи, что ж это такое… Почему я?! Что же мне делать?..
Кто может меня спасти?!
В голове у Фурмана стали проноситься мгновенные картины: если вдруг на той стороне он увидит дедушку… – бедный дедушка, он кинется на сумасшедшего – нет! Пусть лучше мимо будет идти сосед – тяжелый, вечно выпивший мужчина… или пройдет Боря… Боря… – на самом дне своего отчаяния и страха он невидимо усмехнулся: самоуверенный Боря всегда всех пытается учить, как они должны себя вести, – а что бы он сейчас посоветовал своему младшему брату? Который находится в лапах психа-убийцы?.. Фурман содрогнулся.
Боря перед ним поучительным тоном сказал: «Не можешь действовать – наблюдай, оценивай, прикидывай разные варианты». – «Ну, и что я должен тут наблюдать?» – «У психа меняется настроение. Когда он начинает злиться, он становится очень опасен». – «Да, а так он добрый и хороший…» – «Значит, надо постараться действовать на него как-то успокаивающе, а там будет видно…» – Фурман продолжал возражать, хотя Боря уже пропал.
Однако, уцепившись за Борину мысль, Фурман все же сосредоточился и стал наблюдать за «дядей Колей». Как ни странно, почти сразу его охватила жалость: так искренне и увлеченно не подозревающий о наблюдении псих делился с врагом (то есть с Фурманом) горячими запасами своей скудоумности. Через некоторое время запасы стали иссякать, и их место заняли планы: поехали в новый цирк! Или в парк Горького! Покатаемся на аттракционах! Нельзя? С головой не так? Ну, постреляем в тире! Пожрем в пельменной!.. Не хочешь? Почему?! Не разрешают ездить так далеко? А они и не узнают! Ты им не скажешь… Ну давай, давай, соглашайся скорей хоть на что-нибудь, не тяни! Не-е-ет, без тебя я никуда не поеду. На хрен мне это? Только вместе!
Фурман с упорной вежливостью от всего отказывался, кривя губы в улыбке, обливаясь холодным потом и все острее ощущая при этом, что играет с сумасшедшим огнем. Совсем уж обнаглев, он предложил: раз вы никуда не хотите ехать – ну хорошо, не хотите без меня, – надо еще раз посмотреть афишу: может, мы что-то пропустили. Да, поищем вместе, конечно. А потом, дядя Коль, если чего-нибудь найдем, вы меня отпустите, ладно?.. Ну меня правда дома ждут… Я не вру. Они будут беспокоиться, если я не приду. Начнут меня искать… Отпустите меня, пожалуйста?
– Ищи давай, хватит ныть.
Ничего интересного, кроме все того же «За миллион лет до нашей эры», воспаленным фурмановским глазам так и не встретилось. Поэтому он начал страстно убеждать «дядю Колю» посмотреть этот отличный, «зэканский» фильм – тем более, что чокнутый мужик внезапно сообразил, что живет рядом с одним из двух указанных в афише кинотеатров. Это была удача, но ехать без своего друга дядя Коля никак не соглашался. Фурман попытался словчить: мол, ладно, согласен, только я на минутку заскочу домой, предупрежу своих и сразу вернусь (дедушка вызовет милицию… нас спасут… А ЧТО ПОТОМ? ЕГО ЖЕ НЕ ЗА ЧТО ПОСАДИТЬ? В МИЛИЦИИ ОН УЗНАЕТ, ЧТО Я НЕ КОРОЛЬКОВ, И НАЧНЕТ ОХОТИТЬСЯ ЗА ВСЕМИ НАМИ…), – но псих и сам весело не поддался и на эту жалкую хитрость.
Невдалеке, по открытому солнечным лучам месту, неторопливо прошла немолодая женщина в шляпке, с видимым удовольствием подставляя лицо сияющему теплу. Фурман понимал, что лучше бы ей чуть-чуть поскорее идти своей дорогой, а ему – не дергаться, и со слезами на глазах старался больше не смотреть в ее сторону, даже задал какой-то вопрос, чтобы отвлечь внимание сумасшедшего… Там, где они уже так долго – наверное, целый час – стояли, царила глубокая тень. От пережитого в этой тени ужаса Фурман так замерз, как будто сейчас была зима. У него разболелась голова, и он мечтал только о том, чтобы согреться, хотя бы просто выйти из этой ледяной тени. Все разговоры между тем истощились, и надо было немедленно решать: либо прямо здесь, буквально в следующую же секунду, начинать безумную, дикую драку со взрослым мужчиной (у которого, возможно, в кармане нож!) – т. е. бить его по яйцам, кусаться, царапаться, визжать – что угодно; либо… И изнутри спустившейся на него последней смертной тоски Фурман согласился ехать.
Троллейбус, потом трамвай… Конечно, было бы правильно на всякий случай запоминать дорогу, но, безнадежно отделенный от всех других людей хрупким стеклом своей жертвенной тайны – «СОПРОВОЖДАЮ УБИЙЦУ» – и поминутно соскальзывающий в беспросветно черный туннель ближайшего будущего, Фурман мог совершать лишь простые механические движения: шевелить ногами, кивать, цепляться за поручень. Ему не удавалось даже заставить свои ноги как следует реагировать на трамвайную тряску, и они смешно подгибались в неподходящие моменты, так что он чуть не падал. В скорбном молчании, но уже не пряча взгляда, он расставался с теми соседями по вагону, кто, наверное, еще мог бы попробовать его спасти: крупным бородатым мужчиной в яркой гавайской рубахе навыпуск, скромным парнем спортивного вида, двумя толстыми подполковниками с набитыми портфелями, – и прощал им всем то, что они ничего не замечают рядом с собой и ни о чем не догадываются. В конце концов, это он сам так решил. Благодаря этому все они будут живы и смогут вернуться домой, к своим родным. Вот они выходят один за другим, а он – маленький глупый беспомощный мальчик – остается прикрывать их отход, как в бою, – и неизвестно, увидят ли его еще когда-нибудь мама и папа. Как они вообще узнают, куда он делся?.. Нет, лучше об этом не думать.
Пока что ничего страшного не происходило: они действительно добрались до кинотеатра, зашли в кассу – на двухчасовой сеанс, конечно, опоздали, и, несмотря на слабые предложения Фурмана по этому поводу разойтись, дядя Коля купил на свои деньги два билета на четыре часа. (Фурман при этом тупо подумал, что лучше бы он взял его трешку да и отпустил бы его…)
Времени впереди было еще навалом, и дядя Коля сказал, что надо бы перекусить. Фурман решил, что он имеет в виду здешний буфет, но они вышли из кинотеатра и отправились на поиски чего-то другого. Зайдя в продуктовый магазин, дядя Коля приобрел четвертинку водки («Алкаш проклятый! Впрочем, этого следовало ожидать…»), одну бутылку пива (от второй Фурман презрительно отказался), бутылку лимонада «Буратино» и – еще чуть дальше по улице, в дымящемся и пахнущем подгоревшим маслом ларьке – большой пакет свежеиспеченных пончиков без сахара. Пакет досталось нести Фурману. На бумаге сразу начали проступать жирные пятна, пончики были просто раскаленные, и пакет приходилось все время перекладывать с руки на руку.
Дядя Коля со странной целеустремленностью продвигался по улице вдоль трамвайных путей. Сделанные покупки, казалось, привели его в благодушное настроение, и Фурмана это немножко радовало. В голову ему пришла развеселившая его дурацкая мысль: не станет же людоед есть меня вместе с пончиками?..
Дядя Коля вдруг спросил:
– Ну как, Сань, бабы-то у тебя были уже?
Фурман даже не разобрал, о чем вопрос:
– Что?
– Я говорю, с бабами уже имел дело? Ну, девка-то у тебя есть, наверное? Ебешься с кем-нибудь?
ГОСПОДИ, ЧЕГО ОН ОПЯТЬ ПРИСТАЛ?! ЧОКНУТЫЙ!
Дядя Коля сказал, что живет он один, жена от него ушла, – приходится как-то перебиваться. В общем, бабы – они ведь и есть бабы, так, Сань? Понимаешь, о чем я говорю? Ухватываешь суть? Я вижу, ты понимаешь!.. Но, конечно, бывают и среди баб исключения. Вот дяди Колина дочь, Светкой ее звать, – это девка что надо. Ей и лет-то еще не много, но все, что бабе положено иметь, все уже при ней – и тут, и тут… Надо будет, кстати, тебя с ней познакомить. И характер у нее такой, общительный. Живет-то она отдельно, с матерью. Приходит иногда навестить меня. Но озорная девка! Веселая! С ней не соскучишься. А на язык остра! Бывает, придет ко мне, а у меня ребята сидят, ну, знакомые мужики, со двора, – они, конечно, сразу к ней клеиться, слово за слово, смотришь – она уже одного приложила, он аж красный сидит, второго… – обхохочешься! Бой-девка, никого не боится! В споре ни одному мужику не уступит! Но так-то она добрая, даже слишком… – Дядя Коля вдруг помрачнел и какое-то время шел молча.
– Тебе, Сань, сколько лет-то будет? Шестнадцать небось стукнуло уже?
Польщенный Фурман признался, что ему еще только тринадцать недавно исполнилось, и спросил наконец, а куда они идут? Дядя Коля отмахнулся.
– Тринадцать, значит. Ну, моя-то Светка немного постарше, пятнадцать ей…
Дядя Коля решил поделиться с Фурманом своими отцовскими заботами, чтобы тот, выслушав, посоветовал, как ему быть: оказалось, что Светкина общительность и доброта явно переливаются через край, гранича уже с какой-то бабской ненормальностью. Даже мать ее, уж на что дура, корова, сука жадная, но с этим делом у нее было все в полном порядке, без вопросов. По крайней мере раньше. Как сейчас, не скажу – честно, не знаю. Вроде, говорили, ходит к ней один мужик, слесарь из ихнего дома… Ну и трах-тах-тах. А эта пигалица, Светка, она со всеми дяди Колиными друзьями уже успела того… прокрутить. Переспала, значит. И даже не по одному разу! Но это бы еще ладно. Это свои мужики, они не обидят. Гораздо более серьезное беспокойство у отца вызывало то, что она вообще дает всем, кто ни попросит. Причем не то что за деньги или, там, за шмотки, – а просто так! Я уж и не знаю, может, из жалости или из какого бабского интереса – кто их, баб, разберет… Как тут быть, что делать – ума не приложу. А ты что посоветуешь, а, Сань? Надо тебя, конечно, с ней познакомить…
Фурман все время представлял себе эту дикую Светку и пытался придумать, что ответить, но тут они неожиданно свернули во двор, и дядя Коля сказал другим голосом:
– Ну вот, Сань, мы уже, считай, пришли.
– Куда пришли? – опешив, спросил Фурман, который до сих пор пребывал в полной уверенности, что они просто гуляют по улицам, а выпьет дядя Коля где-нибудь в скверике.
– Как куда? Ко мне домой. Я же тебе говорил, тут недалеко.
Цепенея от безудержного страха, Фурман машинально сделал еще несколько шагов и слабо уперся в землю. Последний шанс. Вокруг пусто, в окнах никого не видно. Кричать? Кинуть горячими пончиками в лицо? Они уже остыли… Фурман с тоскливым ужасом вдруг осознал, что в беге его тело не сможет ему подчиниться: первая волна страха так ударила по нему, что ноги сейчас просто тряслись от слабости. Работали только губы, и он забормотал:
– Нет, не надо, пожалуйста, я не хочу, я не пойду. Я вас боюсь…
Старый убийца засмеялся и мягко обнял его за плечи, не выпуская бутылок. Так они и вошли в один из ближайших подъездов, и убийца уговаривал его не бояться.
…Затхлый темный узкий коридор (может, это коммуналка? – но все тихо, никого нет), большая душная комната с очень высоким потолком и разномастной обшарпанной мебелью, несемейный дух отдельных вещей. Все запущенно, но довольно чисто. Точнее, пусто.
Хозяин заставил Фурмана присесть на разложенный диван возле закрытого окна, а сам начал суетливо рыться в разных отделениях буфета, бормоча, что, мол, сейчас все будет. В результате этой суеты на темноногом обеденном столе, покрытом старой клеенкой, появились, в дополнение к принесенным с улицы бутылкам и промасленному пакету с пончиками, два граненых стакана, чашка и видавший виды консервный нож с открывалкой для пива и лимонада. Пиво убийца убрал в стоящий в дальнем углу холодильник, а оттуда достал бумажный сверток, в котором оказалась вареная колбаса – судя по всему, «Любительская», – нарезанная толстыми неопрятными кружками. На чистый край колбасной бумаги была выложена также половинка белого батона и небольшой кухонный ножик, почерневший от службы.
Фурману никак не удавалось оторвать глаза от этого старого ножа. Схватив его и несколько раз с силой наугад пырнув им «дядю Колю», он понял, что – нет, не сможет.
Хозяин предложил Фурману сесть поближе к столу и, не стесняясь, угощаться чем бог послал (последний раз в жизни?).
– Ну, Санек, давай – за знакомство!.. – старик жутковато передернулся и через минуту, уже с набитым ртом, добавил: – Хорошо пошла. Сразу полегчало, да?
От вида и запаха жирной розовой колбасы Фурмана замутило. Сделав пару осторожных глотков приторно-сладкого лимонада, он отставил чашку со старым коричневым налетом подальше от края стола и стал медленно запихивать в себя резиновые кусочки еле теплого пончика. Убийца, поморщившись, выпил еще четверть стакана водки, уже более спокойно закусил бутербродом с колбасой и озабоченно спросил, что это Фурман так плохо ест – аппетита нет? Давай-ка, налегай, тебе после больницы надо отъедаться… Он в три укуса сожрал пончик и налил себе еще. Бутылка заметно опустела.
Впереди у Фурмана была беспросветность.
Большие настенные часы с равнодушной покорностью показывали, что до начала кино остается сорок пять минут – целый урок.
Глаза убийцы сыто замаслились, он вежливо рыгнул, закурил папиросу, тоже взглянул на часы и начал убирать со стола, попутно снова заведя разговор на неприличную тему.
Интересно, неужели этот человек потратил деньги на билеты только для отвода глаз? И нарочно не торопился, чтобы точно опоздать на два часа… А какое мне теперь до этого дело? Или вот сейчас, прямо сейчас ЭТО произойдет – он зарежет меня (а труп куда? – на кусочки и на помойку?) – и пойдет в кино? Один? Или на второй билет найдет еще одного бедного дурака-мальчишку?.. И с ним все повторится так же, как со мной? Господи, о чем я думаю в свою последнюю минуту?! Мне нужно попрощаться со своими родными! Как хорошо, что они не знают, где я и что со мной…
Мужчина, не прекращая своей болтовни, отвел побелевшего дрожащего мальчика к дивану, усадил его на краешек и, подвинув стул, сел перед ним. Прямо за спиною у мужчины оказался старый одежный шкаф с огромным печальным зеркалом. Мужчина спросил, большая ли у мальчика игрушка, но ему пришлось пояснить ругательным словом, что он имеет в виду. Он попросил разрешения взглянуть, заставил мальчика подняться и, с бережной настойчивостью преодолев его слабое сопротивление, – мальчик тряс головой и загораживался руками, – расстегнул и приспустил с него штаны вместе с трусами. Увиденное немного разочаровало мужчину. Он грубо попытался вызвать у мальчика возбуждение, но это у него не получилось.
Мужчина был озадачен и с легким подозрением спросил, не болен ли мальчик, часом. Отвечать нормально мальчик не мог, ему явно было нехорошо, и мужчина, зачем-то взглянув на часы, сказал, чтобы он не боялся: ДА НЕ СДЕЛАЮ Я ТЕБЕ НИЧЕГО ПЛОХОГО! ЧЕГО ТЫ ТРЯСЕШЬСЯ?
Однако он не разрешил мальчику одеться, а заставил его прилечь на диван, подложив ему под голову старую жесткую подушечку. Затем мужчина тоже забрался на диван с ногами, занял место у стенки и велел мальчику повернуться спиной. НЕ БОЙСЯ! ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
В огромном зеркале напротив мальчик вдруг заметил на диване какое-то мелкое пугающее существо белого цвета и не сразу догадался, что этот зверек – его лицо. Он ждал, что сейчас увидит в зеркале свою собственную смерть, как в кино. Остановить ничего было нельзя. Это был абсолютный ужас.
Убийца копошился с чем-то у него за спиной, готовя смерть мальчику. В зеркале ничего не происходило. На больших часах унылыми короткими рывками двигалась секундная стрелка.
Напомнив о себе, убийца приказал лежащему на боку мальчику слегка приподнять ногу. Потом, странно захрипев, он придвинулся вплотную, его рука прижала мальчика сверху, а в узкой щели, образовавшейся у мальчика между ногами, вдруг оказалось что-то теплое и мягкое – другая рука? палец?.. Убийцу что-то мучило: он дергался, тяжело дышал и приговаривал «сейчас!.. сейчас!..» – у мальчика мелькнула мысль, что у него за спиной убийца напоролся на свое орудие, но тут его с такой силой оттолкнули, что он чуть не свалился с дивана.
Мужчина с кряхтеньем вскочил – брюки у него почему-то оказались спущенными, одной рукой он крепко сжимал свою страшно вспухшую, торчащую, с тупой багрово-коричневой головой пипиську – и мелкими неудобными шажками побежал к холодильнику.
Поранился? Хочет спрятать ее туда? Что-то достать?
Мужчина встал рядом с холодильником спиной к мальчику, уперся свободной рукой в стену и снова захрипел и задергался. Вдруг у него из живота что-то резко брызнуло, он сразу наклонился, и по дощатому полу громко зашлепали крупные капли – реже и реже…
Отступив от стены, дядя Коля несколько раз встряхнул свою огромную пипиську – как будто только что сходил «по-маленькому» – и потом вытер ее взятой с холодильника белой тряпицей или платком.
Фурман не понимал, что происходит. А где же его смерть?
– Вот так. Зря боялся, – криво усмехнулся дядя Коля, встретив его взгляд. – Давай-ка одевайся. А то опоздаем.
Пока Фурман обессиленно возился с пуговицами, дядя Коля привел себя в порядок, быстро допил остававшуюся в бутылке водку, закусил уже оторванной половинкой пончика и закурил, нетерпеливо позвякивая связкой ключей.
Было уже без двенадцати минут четыре.
Всю дорогу они почти бежали. На ходу дядя Коля устало повторял свой рассказ о веселой, развратной и доступной Светке и опять обещал непременно познакомить ее с Фурманом: «Вот увидишь, вы друг другу понравитесь!..» – кажется, ни тот ни другой в это уже не верили. Фурман вяло поддакивал, прикидывая, как бы ему сбежать от этого человека, который, слава богу, оказался не убийцей.
На пороге кинотеатра дядя Коля вдруг спохватился, что забыл дома пиво. Пришлось ему покупать еще одну бутылку – без пива он не мог, – поэтому к началу журнала они опоздали и искали свои места в мерцающей темноте. Воспользовавшись этим, Фурман «потерялся» – незаметно ушел вперед (на билетах было написано «амфитеатр») и после нескольких коротких перебежек занял самое дальнее кресло в пустом первом ряду. Отсюда можно было бежать в обе стороны – в зависимости от приближения противника – или уж, в крайнем случае, за кулисы.
Когда по окончании журнала ненадолго зажегся свет, он пригнулся и с больно колотящимся сердцем стал высматривать между голов своего усталого врага. Вот он! – прикладывается к бутылке и весело, как ни в чем не бывало, болтает с соседом-мальчишкой – совсем не на своем месте! Свинья! Свинья! Может, устроить скандал? Наброситься на него – чтобы вызвали милицию… А уж потом ему покажут! Посадят – будет знать, как делать такое с детьми!.. Но ведь тогда придется всем об этом рассказывать? В фойе сухо протрещал последний звонок. Свет в зале, и без того неполный, стал таять с грустной быстротой, шторки экрана, жужжа, разъехались, и начался фильм «За миллион лет до нашей эры».
С края первого ряда изображение на широком изогнутом экране странно искажалось и выглядело искусственным, а глухая сила звука была буквально на грани выносимости, но Фурман пока еще не решил, высиживать ему до конца или попробовать прорваться сквозь темноту с ее неожиданными угрозами. Как бы то ни было, здесь было спокойнее, а фильм – черт с ним, все равно он все это уже видел… И вообще, не до фильма. Может, подремать? Устал, как собака… – Нет, спать нельзя. Кто его знает, этого психа «дядю Колю»? Вдруг он как раз сейчас крадется по проходу? Лучше смотреть в оба.
На экране ревели, сталкивались и пожирали друг друга громоздкие и неуклюжие заводные динозавры, хитрый крепкий герой из каменного века остроумно увертывался от них и попутно спасал красивую девушку-дикарку из чужого племени, в котором люди ели людей; оскорбленные в лучших чувствах людоеды, естественно, пускались в погоню, парочка пыталась замести следы, заодно справляясь со всевозможными опасностями; внезапно начиналось землетрясение: рушились горы, летели и разбивались в крошку каменные глыбы, пыль стояла столбом, в земле раскрывались ужасные трещины, извергался вулкан, заливая все вокруг кипящей лавой… В конце счастливая парочка пробуждалась на рассвете на очищенной остывающей земле.
Едва пошли титры, Фурман, преодолевая жуткую боль и немощь в отсиженной правой ноге, выскользнул из душного зала на вечереющий белый свет и, хромая, побежал к трамвайной остановке. Все-таки приятно остаться живым. Можно даже считать, что победил! Только очень измучился. И ДЕДУШКИНЫ ТРИ РУБЛЯ УЦЕЛЕЛИ… Можно оставить их на память. Или не стоит?.. Если бы не они… Эх, надо было сразу пойти в парк. Да что теперь об этом говорить.
На остановке Фурман тревожно оглядывался. К счастью, ждать трамвая пришлось недолго. Когда он приблизился, Фурман спросил у старушки, как доехать до метро, – оказалось, этот годится. Проклятые двери наконец закрылись, трамвай мягко тронулся. Все! Совершенно обессиленный, Фурман плюхнулся у ближайшего окошка, стал освобожденно смотреть – и вдруг среди идущих по тротуару людей наткнулся на «своего» дядю Колю. Вид у него был потертый и не очень довольный жизнью. Так, – старик какой-то… Прощай. Прощай. Больше мы никогда не встретимся. Живи как знаешь. Отпускаю тебя…
Трамвай качало. Голова у Фурмана просто раскалывалась от усталости и голода. «Надо было есть колбасу… когда давали… И пончики… Вообще, объесть этого гада… – Его аж передернуло от отвращения. – Нет, нет, забыть о нем срочно. Скорее бы доехать… Таблетку и спать…»
Уже у самого дома он ясно почувствовал, что оставлять у себя эти три рубля нельзя. Надо от них избавиться. Просто вернуть дедушке? Но слишком долго он отсутствовал, все, наверное, уже дома, а как объяснить, где был? Если деньги целы?
Пришлось на последнем усилии возвращаться на другую сторону Садовой и в тамошней булочной покупать что-то на примерную стоимость билета…
Родители еще не пришли с работы – это было хорошо. Фурман сказал дедушке, что был в кино, обедать не будет, голова трещит, – жадно проглотил таблетку, скинул одежду, плотно закрылся со всех сторон одеялом, тихонько всхлипнул и уснул.
Музыка ночью
1
Многокомнатный и безлюдный покровский дом летом наполняла особая полудеревенская тишина, чей сонный порядок сурово поддерживался застывшими со времен незапамятного «дореволюционного благородства» семейными вещами: высоким зеркалом в тяжелой резной раме, голландской белокафельной печью, старинными настенными часами в деревянном футляре с маятником за стеклом – устало, тонко и педантично отбивающими получасовую закономерность, и темным буфетом с закругленным гребешком, за которым лежала в своем сухом черном гробике дедушкина скрипка.
Этого дедушку никто из внуков не видел живым. По рассказам, он работал в городской парикмахерской, давал уроки скрипки и иногда выступал с концертами, на которых юная фурмановская мама аккомпанировала ему на фортепьяно.
Бабушка Нина перед войной тоже работала парикмахером. В нижнем отделении буфета хранился ее походный чемоданчик с четырьмя немецкими механическими машинками для стрижки и инструментами для бритья. Каждое лето, поближе к первому сентября, в бабушку вдруг вселялся «бес парикмахерства»: у нее странно загорались глаза, могучими руками огородницы она ловила со смехом разбегающихся и испуганно отмахивающихся внуков, по очереди усаживала их перед высоким зеркалом, накрывала простыней, жутко затягивая ее вокруг горла, и начинала с какой-то жадной сосредоточенностью щелкать старинной тупой машинкой, вырывая ею целые пучки волос и доводя несчастных «клиентов» до безумия бесконечными давящими приглаживаниями металлической расческой по одному и тому же месту головы… Качество стрижки после всего этого, конечно, уже никем не могло обсуждаться всерьез.
Почти до середины лета Фурман коротал тягучее дачное время вдвоем с бабушкой Ниной. Поднимался он не раньше одиннадцати, после завтрака подолгу читал, меняя позы на глубоком диване и развлекаясь ласковыми приставаниями к терпеливо дремлющим здесь же кошкам: пестрой зеленоглазой умудренной жизнью Муське и ее уже взрослому серо-полосатому сыну Андрюшке, в любых ситуациях державшемуся с простым и неизменным офицерским достоинством.
Только во второй половине дня бабушке наконец удавалось выгнать Фурмана «на воздух»: в пустой, но приятно затененный двор, в незамолкающий, кропотливо и неутомимо шевелящийся сад, за ворота – играть с соседскими мальчишками или же одиноко катиться на стареньком «дамском» велосипеде вдоль длинной, тянущейся вдоль половины города, улицы Октябрьской Революции – от обколупанных белых стен простодушно-помпезной покровской церкви до толстой белой стены покровской тюрьмы и еще дальше, к последним домам и вышке ретранслятора, – воображая себя водителем троллейбуса, аккуратно объявляя остановки, мягко тормозя и трогаясь с места с заботой о пассажирах…
Желанные гости из Москвы приезжали обычно через выходные. Перво-наперво разгружались полные сумки продуктов (колбаса, связки сосисок, темные куски мороженого мяса, завернутые в десять газет, свежие огурцы и помидоры, фрукты – ничего этого в Покрове не было), затем все выходили в сад, смотреть, что выросло с прошлого раза. Немножко отдохнув, отправлялись на Черное озеро, а вечером счастливо наполняли дом голосами и зажигали свет во всех комнатах… Но уже на следующий день, в воскресенье, спустя какие-нибудь полчаса после большого обеда и нервного ухода гостей, опаздывавших на электричку, все в доме начинало на глазах увядать и погружаться в прежнее будничное сонное забытье. Бабушка по привычке вновь включала радио на полную громкость; и на закате, когда бесконечное небо, изгибаясь и грязнея от тоски, заставляло все на земле ощутить подлинную цену расставания, лишь угрюмый и жалкий спазм взрослого молчания мог заменить наворачивающиеся детские слезы.
* * *
У Вовы кончились занятия в его художественно-ремесленном училище, и он приехал в Покров на неопределенно долгий срок. И бабушка, любившая «моего Вовуню», кажется, горячее, чем остальных внуков, и Фурман (в глубине души вполне согласный с ней), и даже сам старый дом – все были счастливы.
Вообще-то у старших Фурманов мнение о «Вовке» уже довольно давно было опасливо-нехорошее. Признавалось, что он – безусловно, парень талантливый, но безвольный, да еще и связался с плохой компанией. Поэтому его прибытие в Покров и перспектива совместного проживания с младшим Фурманом оказались для родителей неприятной и тревожной неожиданностью. Но что делать, не забирать же Фурмана в Москву посреди лета?
В первый праздничный день – после того, как радостная суета вокруг милого гостя уже немного спала и обед с его любимыми блюдами закончился, Вова с Фурманом поднялись по крутой лестнице на второй этаж, на балкон, чтобы, как сказал Вова, осмотреться и поболтать.
Широкий шестиметровый балкон выходил на двор и сад. Прямо перед глазами настороженно колыхалась густая крона двух старых дворовых кленов, поднимавшихся вровень с домом или даже чуть выше. Налево просматривался кусочек улицы за воротами, а направо, над коротко сбегающими с холма и недовольно толпящимися внизу крышами близкой городской окраины, открывался манящий грустный простор – с перемежающимися полосками лесов и долетающим из-за горизонта расширенным спешащим эхом женственно взвизгивающих электричек и низким неуступчивым мычанием товарняков, проходящих невидимую станцию Покров.
Пока Фурман, гордый оказанной честью братского уединения, растроганно вертел головой над перилами, Вова задумчиво рылся в своих карманах: билеты, какие-то скомканные бумажки, полупустой коробок спичек, тщательно пересчитанная мелочь, отделенная от просто крошек… Вова вздохнул.
– Сашка! Можно, я тебе задам один бестактный вопрос: ты вообще куришь?
Смутившись, Фурман отвечал неопределенно: так, мол, покуриваю иногда…
– Ну понятно… А мелочи у тебя случайно никакой не завалялось? Извини. Курить страшно охота, а я сейчас тоже на полной мели… Чего бы нам с тобой такое придумать?
Фурман из детской солидарности поинтересовался, нельзя ли самим сделать табак. Едва заметно усмехнувшись, Вова терпеливо объяснил, что табак – это растение, его специально выращивают, а листья потом высушивают и размельчают, так что весь процесс занимает много времени. Но на вопрос, чем листья табака отличаются от листьев, к примеру, того же клена и почему нельзя курить клен, Вова толком ответить не сумел и предложил просто попробовать. Фурман, не вполне понимая, шутит Вова или вправду собирается провести эксперимент, согласился, и они пошли вниз собирать сухие кленовые листья.
От папы Фурман слышал семейную легенду о том, как однажды дядя Арон, здесь, в Покрове, застукал курящих тайком Вову и Борю и решил раз и навсегда отучить их от этой вредной привычки. Он набрал сухого куриного дерьма, набил им две папиросы и угрозами заставил мальчишек «выкурить» их до конца. Результаты были сомнительные: Боря (как и все Фурманы) не курил, а на Вову, который теперь не слишком охотно вспомнил, что какая-то похожая история когда-то очень давно и впрямь произошла, это тем не менее не подействовало.
С ворохом листьев они вернулись на террасу. Вова посоветовал отобрать наиболее чистые и свернул из газеты две огромные нелепые «козьи ножки». Для пробного закуривания листья решили не измельчать – слишком хлопотное дело. От первой же спички Вовина самокрутка так занялась, что он и затянуться не успел – пришлось срочно тушить маленький пожар. Усовершенствованная конструкция показала себя уже получше: из тлеющих листьев медленно, точно змеи, выползали тяжелые струйки едкого дыма. Однако спустя минуту дегустация была закончена – курить эти гадкие листья клена оказалось невозможно. На меланхоличное Вовино предложение попробовать еще чего-нибудь Фурман, закашлявшись, ответил, что сегодня, наверное, уже хватит. Вова улыбнулся, но было непохоже, что он издевается.
Вова все детство провел в Покрове (как ни странно, он ухитрился даже и родиться здесь, а не в Москве) и до сих пор поддерживал дружбу с несколькими местными парнями, своими ровесниками. В первый же день он надолго ушел в город по каким-то своим таинственным делам, а в конце недели внезапно собрался на пару дней в Москву, ужасно расстроив этим бабушку. Бабушкино нежелание отпускать Вову в Москву оказалось настолько скандально острым, а Вовино намерение ехать – настолько жестко неотменимым, что Фурман не мог не заподозрить во всем этом еще какого-то, скрытого от него, плана. Но и Вова, и бабушка почему-то уклонились от объяснений. Оба страдали от своей размолвки, но так и расстались, закованные каждый в собственную правоту… Через два дня Вова вернулся, и жизнь потекла по-прежнему, а о той ссоре никто больше не заговаривал.
Все в девятнадцатилетнем Вове по-мальчишески подражательно нравилось Фурману: и его плотная, сутуловато расслабленная фигура, и мягкий темный ежик, и круглые серо-голубые глаза с выражением беспричинной и немножко нагловатой печали, и всегдашнее спокойствие… На руках у Вовы с аппетитной мощью округлялись бицепсы (а у Борьки, к примеру, когда он их напрягал, они были длинными и жилистыми, как палки). Жевал Вова всегда с таким завораживающим удовольствием, что хотелось есть то же, что и он, даже если это было просто сорванное в саду и обтертое о рубаху неспелое яблоко. Вова и свистеть умел не как все – складывая губы трубочкой, – а наоборот, слегка растягивая их уголки в задумчивой шепелявой улыбочке: «ше-ши-ши»; и еще он мог, раскрыв рот в глубоком беззвучном «О», звонко и отчетливо выстукивать на верхней части своей как бы пустой головы известные мелодии – больше ни у кого так красиво не получалось, хотя старались многие.
Естественно, Фурман пытался увязываться за Вовой и в его загадочных прогулках по городу. Они заходили почти во все покровские магазинчики, деловито осматривали маленький рынок, шлялись по тихим жарким улицам, иногда вдруг начиная преследовать какую-то непонятную, ускользающую цель или шпионить за вроде бы совершенно незнакомой и даже некрасивой девушкой, идущей куда-то по своим делам, причем Вова очень убедительно делал вид, что это преследование крайне важно для него и они могут куда-то опоздать или что-то упустить, о чем потом оба пожалеют… Именно этим чаще всего и кончалось: цель внезапно исчезала, и Вове приходилось чуть ли не на себе тащить разочарованно ноющего и усталого Фурмана. Кстати, несколько раз они встречали по дороге местных Вовиных друзей, и хотя Фурману было несказанно приятно, что Вова представляет его как своего брата (не уточняя, что он – всего лишь двоюродный), некоторые из этих парней даже при мимолетном знакомстве показались Фурману самыми настоящими уголовниками. Во время приятельских разговоров с ними Вовина речь мягко приспосабливалась к его «срединному» положению: она грубела, но все же не настолько, чтобы совсем не учитывать присутствия стесненно жавшегося к нему Фурмана.
После поездки в Москву у Вовы появились карманные деньги. Он теперь курил сигареты без фильтра «Дымок» (пару раз Фурман составил ему компанию, но поскольку он не умел затягиваться по-настоящему, Вова решил больше не тратить на него ценный продукт), время от времени выпивал бутылку-другую пива, а однажды в испепеляюще жаркий полдень (и, возможно, уже с утра пребывая в легком подпитии) вдруг купил большую бутылку портвейна и тут же, почти залпом, неаккуратно обливаясь, прикончил ее, несмотря на слабые протесты, а потом и посильное участие Фурмана, решившегося ради спасения брата первый раз в жизни отпить часть этой гадости. Дело происходило на самом солнцепеке, на пыльной дороге возле церковной ограды; на закуску у Вовы оказались припасены три карамельки и пара сушек. Проходившая мимо женщина стала возмущаться тем, что молодой алкаш на глазах у всех спаивает малолетнего. Это было ужасно смешно. Отсмеявшись, возбужденные своими победами, они пошли домой обедать. Бабушка заметила, что Вова пьян, но ничего не сказала и только осуждающе поджимала губы, а после обеда он завалился спать, объяснив свое необычное поведение невыносимой жарой.
У Вовы и дома появлялись занятия, отделявшие его от Фурмана. То он ни с того ни с сего начинал сосредоточенно мастерить что-то в сарае, веля Фурману «отвалить» до конца работ; то по-хозяйски располагался за большим столом с фурмановскими рисовальными принадлежностями и за один присест всем чем можно вполне профессионально набрасывал с десяток картинок (или уж картин?), заполненных странными, плавно прорастающими друг в друга образами; а то просто читал, с завидным удовольствием развалившись на диване и совершенно позабыв об окружающем.
Одной из совершенно секретных и опасных вещей, над изготовлением и усовершенствованием которой Вова довольно долго трудился, был настоящий пистолет. Стрелять он должен был крупными гвоздями. На испуганные вопросы Фурмана, зачем ему вообще понадобилось оружие, Вова в основном отшучивался всякими людоедскими страшилками.
В двух шагах от дома, на центральной покровской улице Ленина, за высоким облезлым забором из плотно пригнанных досок находились руины монастыря, скрываемые беспорядочно разросшимися деревьями и джунглеподобными зарослями одичавшего кустарника. Дореволюционная кирпичная кладка монастырских стен и фундамента оказалась настолько прочной, что в тридцатые годы их так и не смогли взорвать до конца. В заборе был проделан лаз, рассчитанный на взрослого человека, и, судя по общей загаженности местности, покровчане регулярно наведывались в развалины, так что передвигаться там надо было осторожно.
Именно в это глухое и нехорошее место, благо, оно было рядом, Вова ходил опробовать свой пистолет. Каждый раз, пока он готовился – разматывал тряпки, в которые были тщательно завернуты детали оружия, собирал его и заряжал, – Фурману приходилось торчать неподалеку «на атасе». В пистолете постоянно что-то заедало или не срабатывало, время шло, и Фурман все больше дергался. Наконец Вова подзывал его. Через несколько томительных секунд, в течение которых Вова прицеливался, раздавалось короткое эхо выстрела, и из-за стен со всех сторон сразу с паническим хлопаньем взлетали обезумевшие голуби, недовольные вороны и еще какая-то юркая мелочь. Искать отскочивший от стены гвоздь было уже некогда, некогда, надо было сматываться – вдруг милиционер на перекрестке услышал выстрел! – но противный Вовка всегда нарочно не торопился, изводя Фурмана своей невозмутимостью…
Как-то, собираясь в город, Вова обмолвился, что идет знакомиться с девушками. Фурман был крайне заинтригован – ведь до сих пор ни о чем таком и речи не было. Где, да как, да что это значит и чем кончится – Вове, не ожидавшему столь бурного натиска, пришлось пообещать, что они поговорят об этом немного позднее.
И большая доверительная беседа действительно состоялась: Фурман представлял в ней фигуру (почти) ненасытной любознательности, а Вова по-братски аккуратно отбивался, заботясь о сохранении своего естественного авторитета и присущей ему доли тайны. Фурман и без того услышал много интересного. Особенно поразила его воображение история о первой Вовиной девушке.
В то далекое время Вове только-только исполнилось шестнадцать, он был младшим во взрослой компании (наверное, той самой, «нехорошей», догадался Фурман, но не подал виду, что что-то знает), и, хотя все относились к нему очень по-доброму, ему приходилось постоянно «держать марку» (а точнее, выпендриваться при каждом удобном и неудобном случае).
Однажды теплым майским вечером компания отмечала чей-то день рождения. Дело происходило в большой трехкомнатной квартире одного из знакомых, и гостей туда набилось неожиданно много. Играла приятная музыка, все – и парни, и девушки – потихоньку поддавали, танцуя или же расслабленно беседуя о том о сем. В какой-то момент разговор, как водится, зашел о «вечной загадке женской природы», и тут захмелевший Вова позволил себе изречь некую необычайно глубокомысленную и – увы! – столь же необычайно наглую (в смысле, бескомпромиссную) истину об устройстве женской души. К несчастью, как раз в самом начале его выступления танцующие решили поменять пластинку, и в наступившей тишине Вовины слова были услышаны слишком многими, так что все сразу же проснулись и сосредоточились на высказанном юным оратором весьма спорном тезисе. Защищаясь, он поневоле забрел в тему еще дальше, и в конце концов одна из взрослых девушек задала ему прямой вопрос, мол, откуда тебе все это известно, малыш? Однако симпатичный малыш продолжал раздуваться, хорохориться и настаивать на своем. Слово за слово, подвыпившая девушка тоже заводилась все больше, дело явно шло к дуэли, и, поскольку ни драка, ни настоящая дуэль между ними, конечно, не могла состояться, насмешница предложила при всех заключить с ним пари на бутылку водки, что он ДАЖЕ НЕ СМОЖЕТ ЕЕ РАЗДЕТЬ ДОГОЛА – вот прямо сейчас, в соседней комнате… Отступать Вове было некуда – вокруг хохотали и завидовали, – пришлось идти.
Запальчивой девушке было двадцать шесть лет, ей все было нипочем. Краснея и храбрясь, Вова более или менее успешно справился с тонкой блузкой на пуговичках и даже с юбкой, а вот как расстегивается этот чертов лифчик, догадаться не сумел… Кончилось тем, что разгоряченная соперница, не вынеся его бестолкового ковыряния, сама скинула лифчик, и они стали целоваться, но вскоре она сказала, что на первый раз этого достаточно, он и так молодец, она даже не ожидала…
– И все?! А как же пари? Кому досталась бутылка водки?
– Бутылка?.. Да я уж сейчас и не помню. Наверное, выпили все вместе.
– Ну, а эта девушка? Ты с ней больше не встречался?
– Почему не встречался? Встречался.
– И что?
– Ну, что… Потом, через полгода примерно, когда мы уже немного получше узнали друг друга, у нас с ней начался роман. Довольно долго все это длилось… А потом она решила, что ей пора замуж, – ну, и вышла. За одного знакомого мужика, старше ее. Он такой, обеспеченный – квартира своя, машина, деньги, видно, у него были – тогда, по крайней мере… Я пытался ее отговаривать, но она не захотела меня слушать.
– И вы с ней поссорились?
– Потом помирились. Я ее как раз недавно встретил, она живет в соседнем дворе.
– И что?
– Ничего. Поболтали. У нее ребенок родился. Сын.
– А в гости она тебя не звала?
– Нет. Зачем?
– Ну, так просто…
– Да ты о чем говоришь-то, Сашка?!
– …
Вовино приключение отложилось у Фурмана в тот темный, сухой и прохладный чуланчик, образовавшийся в нем в последнее время, где неизвестно зачем сохранялись вот такие, ни с чем другим в жизни не связанные, почти сказочные, но странно манящие и сбивающие дыхание истории: переперченные новеллы больничного «писателя», лживо обещанная, возможно-невозможная встреча с веселой «давалкой», дочерью старого маньяка, а также один поразивший сновидца сон о прежней классной руководительнице, в котором она с томительной неохотой пригревала его, внезапно осиротевшего, в своей постели…
А насчет доброты и общительности покровских девушек, будто бы даже угощавших Вову крыжовенным вареньем, он, скорее всего, все навыдумывал – ничего определенного там не происходило. Хотя «клеиться» к местным девчонкам, изображая прожженного столичного жителя, у него действительно получалось мастерски, чему Фурман несколько раз бывал молчаливым, восторженно-смешливым свидетелем. Дразня его (да и себя тоже), Вовка деловито обсуждал с ним возможные планы «охоты на женщин»: от простого подглядывания в бане сквозь замочную скважину в двери, разделяющей два отделения, до сложнейших маневров, охватывающих чуть ли не весь город.
2
Вова с Фурманом спали в одной комнате (бабушка Нина, естественно, была против, но они победили). Как-то ночью Фурман все не мог заснуть. Он то бесконечно ворочался на измятой простыне, переворачивая и заново взбивая тяжелую теплую подушку, то забывался, уносясь в ночной тишине в разные далекие края, – как вдруг Вова, еще за минуту до этого вроде бы вполне погруженный в свой сон, пружинисто поднялся и стал быстро одеваться. Вообще-то туалет был внутри дома и одеваться не требовалось…
– Ты куда?
– Тс-с!.. Никуда! Спи!
Фурман пристал как банный лист: куда да куда, – того гляди, бабушку разбудит.
– Ладно: я иду погулять. Доволен?
– Как это? Ночью?..
– Да. Все, спи!
– …А куда?
– Просто. Подышать свежим воздухом захотелось.
Фурман не мог в это поверить.
– Ты идешь встречаться с теми девушками?
Вова искренне удивился:
– С какими еще девушками?
– Ну, помнишь, ты ходил знакомиться… Они тебя еще вареньем угощали.
– Ты чего, Сашка, обалдел? Какие сейчас девушки? Все спят давно!..
После еще одного короткого раунда вязкой борьбы Фурман остался лежать в темноте в недоумевающем одиночестве. Вовиного возвращения он не дождался – заснул. А утром Вова дрых в своей кровати как ни в чем не бывало.
Днем на все расспросы он отвечал по-прежнему невнятно или неубедительно: да, мол, гуляю, и все… не в первый раз, просто раньше уходил незаметно… беру с собой маленький приемник и слушаю музыку, ночью лучше ловится… если хочешь, пойдем вместе… Фурман сказал, что подумает. Все-таки по его понятиям это было что-то очень рискованное и безрассудное…
Перед тем как идти в ночь, Фурман взял с Вовы обещание, что они не будут приближаться ни к каким опасным местам и ничего плохого с ними не случится. Вова – с легким раздражением – пообещал.
В условленный вечер они наперебой притворялись внимательными и послушными, но сегодня чтой-то очень уставшими бабушкиными внучиками и, к ее радости, залегли спать даже чуть раньше обычного. («Сашка, ты не перебарщивай! А то все испортишь…» – шепнул Вова.)
Ждать, пока бабушка закончит все домашние дела, уляжется, скрипя сеткой, на своей железной кровати и, наконец, с устойчивой мощью захрапит (давящийся смех в подушки), пришлось очень долго. Вова советовал подремать перед выходом, чтобы набраться сил, но Фурман не мог.
Когда часы в большой комнате с унылой утонченностью повторили единственный удар, Вова дал сигнал вставать. (Вообще-то Фурман уже стал засыпать от напряжения.) Быстро и достаточно бесшумно одевшись, они принялись складывать из заранее припасенного тряпья двух лежащих под одеялами и «крепко спящих» кукол, «Сашу» и «Вову». (Настоящий Вова вскоре начал сердиться на глупо перевозбудившегося Фурмана, который сгибался и валился с ног от еле сдерживаемых приступов беспричинного смеха. Из комнаты его пришлось в полном молчании выволакивать за шиворот и подгонять пинками.)
Поскольку на ночь бабушка запирала все двери на внутренние крюки и щеколды – и так это и должно было оставаться для полной конспирации, – Вова, как выяснилось, выбирался наружу через окно в большой комнате. Окно выходило прямо на улицу, и он просто плотно прикрывал его с той стороны. Догадаться, что Вова ушел из дома, было почти невозможно: запоры на месте, а «тело» – в кровати…
– Ну что, куда пойдем? – спросил Вова после того, как они, пригнувшись, отбежали подальше от своих окон.
Тщетно пытаясь сдержать дрожь, Фурман пожал плечами:
– Не знаю… А куда ты обычно ходишь?
В ту первую вылазку Фурман всего пугался: от каждой метнувшейся через дорогу кошки подскакивал, словно это была змея, в неосвещенных местах панически жался к Вове и постоянно изводил его просьбами выключить или хотя бы немножко приглушить чудовищно хрипящий приемник, с тоскливой покорностью ожидая, что вот-вот кто-нибудь из разбуженных местных жителей швырнет в них из темноты чем-нибудь тяжелым или, того хуже, выскочит с топором выяснять отношения… К тому же он не переставая стучал зубами (надо сказать, и ночь выдалась не самая теплая). Поэтому, часа за полтора обойдя медленным шагом окрестные улицы, в три они уже грелись под одеялами, вполне удовлетворенные прогулкой.
При следующих выходах Фурман чувствовал себя уже более уверенно. Оглушающее беспокойство понемногу отпустило его, и он мог обращать внимание на всякие тонкие подробности, вроде печально-глубокой игры ночных теней, тихой собачьей задумчивости старых деревянных домов или игривой инопланетной расторможенности растений, перестающих в отсутствие людей притворяться полуживыми.
Вообще же город был маленьким и исхоженным: от ночи к ночи в нем почти ничего не менялось. Лишь по медленно остывающему асфальту Горьковского шоссе (одновременно служившему центральной улицей Ленина) с одиноким воем, слепя фарами, проносились – в основном в сторону еще далекой Москвы – редкие машины. При непредсказуемых встречах с предрассветными прохожими Фурмана охватывало неизменно-странное «морское чувство»: словно два корабля в бескрайней пустыне океана, скрывая страх и надежду, сближались, с горделивой независимостью проплывали мимо и навсегда расходились, полные облегчения и грусти…
Средоточием публичной ночной жизни Покрова оказался маленький и такой невзрачный при дневном свете беленький домик городской автобусной станции с освещенной площадкой перед ним. В левом крыле домика при свете настольной лампы дремала дежурная кассирша (она почти не подавала признаков жизни, но само ее присутствие действовало на Фурмана успокаивающе). Рядом с центральным входом, дверь которого была по-летнему распахнута, у стены стояла сильно покореженная, но еще пригодная для сидения и никем не занятая в это время суток скамейка. Ближайший погруженный в сон жилой дом находился на достаточном расстоянии, и Вова мог здесь врубать свой приемник на любую громкость (правда, как-то раз к ним вышла нервная молодая кассирша и начала ругаться, угрожая вызвать милицию, – пришлось уходить). В основном так они и проводили время: посиживая на этой скамейке, разговаривая и слушая наполовину забиваемые «глушилками» музыкальные передачи «Би-Би-Си», «Немецкой волны» и «Свободы». Бодрые заграничные интонации ночных ведущих, звенящие гитары и оптимистично постанывающие голоса начала 70-х, прерываемые треском, хрипами и густым гудением, так странно разносились над пустым шоссе и безлюдными, недоверчиво прячущимися в темноте окрестностями. «Ай кен гет ноу сэ-тис-фэкшен!..» – «Я ни в чем не могу найти удовлетворения…» – отбивая такт и торопясь поделиться волнующим смыслом, пересказывал Вова специально для Фурмана краткое содержание любимой песни. Фурман почтительно соглашался, что это классно, но на самом деле все это задевало его как-то слабо.
Примерно раз в час к низенькому асфальтовому «причалу», отдуваясь, подваливали тяжелые темно-вишневые «Икарусы» дальнего следования. Для них этот маленький городишко, Покров, был всего лишь десятиминутной стоянкой в начале или уже достаточно близко к концу долгого пути. В автобусах, прибывавших из Москвы, пассажиры обычно продолжали спать, только иногда кто-нибудь ненадолго выбирался покурить на свежем воздухе. А к приезду в столицу здесь уже потихоньку начинали готовиться: зажигали сумеречный свет над креслами, озабоченно вглядывались в заоконную темь, а некоторые выходили размяться после многочасового скрюченного сидения. Вова с Фурманом, чуть-чуть приглушая радио, с ленивым весельем наблюдали за провинциальными приезжими. Пикантность ситуации была в том, что те, вероятно, принимали их за типичных представителей никчемной местной молодежи.
Однажды на исходе ночи, когда до появления первых слабых признаков рассвета оставалось еще минут сорок, к платформе с недовольным фырканьем подкатил горбатый потертый автобус Львовского завода (с неудобными «полумягкими» сиденьями) – такие тоже ходили по маршруту, но реже, чем «Икарусы». В Москву он направлялся из затерянного где-то «в диких муромских лесах» старинного города Коврова. Усталый водитель пошел отмечать путевой лист у дежурной, а из узкой салонной двери, поеживаясь и негромко переговариваясь, выбралась покурить группа атлетического вида молодых мужиков в одинаковых тренировочных костюмах – вероятнее всего, офицеров. Вслед за ними появилась помятая женщина с ребенком – этим, судя по всему, срочно требовался туалет, находившийся в задней части автовокзала. После небольшой паузы из затихшего автобуса, поскользнувшись на ступеньках, бойко вывалился невысокий гладенький мужичок лет тридцати, с не по возрасту большими залысинами. Подняв плечи и упрятав руки под мышки, словно на улице был мороз, он по-птичьи повертел головой по сторонам, потом попросил у курящих сигаретку и с бурной благодарностью долго прикуривал из чьих-то рук (при этом в лицах и позах всей компании читалось явное неодобрение – наверное, такое попрошайничество происходило уже не в первый раз). Сказав парням что-то грубовато-смешное (вежливо улыбнулся только один – тот, кто давал ему прикурить), мужичок странной подпрыгивающей походкой вдруг направился прямиком к скамейке. Фурман слегка заволновался и с вопросительной улыбкой посмотрел на Вову, но никаких сигналов тревоги не уловил – Вова лишь мимолетно скользнул по нему своим всегдашним спокойным, всеотражающим взглядом. Что ж, он старший, на него и надо полагаться.
– Ребят, – с силой выдохнув в сторону дым, приветливо обратился к ним общительный мужичок, – вы г-г-г-гандоиминеикути?
Вова непонимающе нахмурился, а Фурман, от неожиданности нарушив субординацию, переспросил: «Что?..»
От мужика страшно несло перегаром, он выпучивал глаза, мелко дергался, заикался и потирал руки:
– Ну-ну-ну, я говорю, ребят, г-г-гандон не купите у меня?.. Презерватив. Новый, английский! За трояк всего отдам. Не, вы не думайте, он вообще-то стоит д-дороже. Мне просто на опохмелку не хватает. Видите, трясусь весь… – Он криво ухмыльнулся. – Возьмете?
Вова отрицательно качнул головой и стал равнодушно смотреть в сторону.
Мужик с трудом выковырял из кармана приготовленный к продаже помятый пакетик и зазывно повертел его в трясущейся руке. Не дождавшись реакции и, видимо, уже плохо соображая (а может, просто от отчаяния), мужик с трудом навел выпученные глаза на Фурмана:
– Я сам-то в Москве живу… В командировку ездил, во В-в-владимир. А там так-кие ребята оказались… Три дня пили, не просыхая. – Он содрогнулся. – Теперь еду назад воще пустой. Все, ничего нет! Хорошо хоть, билет был обратный з-заказан… Во, бля, а, как бывает… – Он стал выгребать из другого кармана копейки. – Одна мелочь осталась. На пиво даже не хватит… Ладно, я вижу, в-вы ребята хорошие – берите даром, мне он не нужен. На! За рупь отдаю. А? Мне только на опохмелку. Берете?
Поскольку Вова продолжал сидеть с отсутствующим видом, обращался он в основном к Фурману, которому и пришлось расстраивать собеседника, говоря ему «нет, спасибо, не надо». Вообще-то этот маленький, дрожащий мужичок с потными залысинами вызывал уже скорее жалость, но рубля у них все равно не было. Да и зачем им нужен – «презерватив»… Английский!.. Просто смешно! И почему он так дорого стоит?
– Ты лучше иди обратно, а то вон автобус сейчас без тебя отправится, – вдруг посоветовал Вова. – Все уже сели.
Нахохлившийся бедняга испуганно встрепенулся и на негнущихся ногах скорей-скорей поскакал к своему кораблю, делая на ходу неуклюжие жесты: мол, нет, вы что, ни-ни!.. Как только он взобрался на ступеньки, складчатая дверца закрылась. Громко фыркая, старый автобус вырулил на шоссе и укатил. А Вова с Фурманом, решив на этот раз не дожидаться рассвета, пошли домой спать.
Фурман все представлял себе того неудачника: он ведь на самом деле был вполне модно, даже щегольски одет, хотя и немного потерт. И манеры у него такие, в общем-то мягкие, несмотря на нелепое и какое-то совершенно слепое стремление со всеми завязывать «свойские» отношения. И никому ведь это не нравится! В лучшем случае – вызывает жалость и неловкость. Он что, сам этого не понимает? Интересно, кем он работает? И как живет в Москве? У него, наверное, бывает много денег… А с женой (кольцо-то было на пальце) он тоже так общается? Странный человечек…
Да, кого только не увидишь, сидя на обочине «большой дороги»…
Вове, в отличие от Фурмана, уже надоело обходить одни и те же улицы или тупо торчать на автостанции, поэтому в следующий раз он настоял на том, чтобы после традиционных посиделок они отправились на Черное озеро встречать восход солнца. Путь к озеру вел мимо окраинного городского кладбища, так что Вове удалось вдоволь потешиться: он даже предлагал идти не в обход, а напрямик – пусть, мол, трусливый Сашка проверит на собственном опыте, существуют на свете призраки, или это выдумки. Вова считал, что в любом случае самое главное – сохранять спокойствие и правильно себя вести, тогда ничего плохого с тобой не произойдет. Фурман не преминул отметить, что пока с ними ничего и не происходит, – возможно, это означает, что он ведет себя правильно, не позволяя Вове «разгуляться».
Населенные места остались позади, но во влажной предутренней мгле почему-то еще сильнее, чем под осуждающими взглядами темных окон или под завистливо косящимися – низкорослой кладбищенской толпы, хотелось понизить голос, а лучше – просто молчать. Тонкие березы и знакомые старые сосны по сторонам дороги были в этот час так мрачно неподвижны и замкнуты, словно оцепенело досматривали внутри себя какой-то нехороший сон – один на всех. Птиц не было слышно, и даже тяжелые базарно-неуправляемые вороны хранили общую тишину, время от времени ошарашенно встряхивая перьями в верхушках деревьев. Только сырой гулкий воздух в полном одиночестве вовсю наслаждался жизнью да пара тщательно маскирующихся комаров уныло несла свою службу в прибрежных зарослях.
Вся полуторакилометровая ширь Черного озера, включая дальние лесные берега, оказалась накрыта непроницаемо-густым «запретным» туманом. «Туристам» любоваться тут было явно нечем. Вдобавок Фурман почти сразу насквозь промочил ноги в росистой траве.
Стоя на открытом месте и стесненно упираясь глазами в призрачную серую стену, сливающуюся с серым мутным небом, он с особенной остротой ощутил абсолютную неправильность их присутствия здесь в это время. Они были лишними – словно без спросу и, главное, без всякого серьезного дела сунулись в чужой дом, где происходило что-то важное и совсем не предназначенное для посторонних глаз… От стыда Фурман даже догадывался, что там: в сердцевине тумана с могучей колдовской медлительностью цвел и заваривался, как каша, источник того чудного покоя, о котором после, днем и на закате, все будут говорить как о «необыкновенной красоте» Черного озера.
Внезапно с дальнего берега над всей спрятанной поверхностью озера с ужасающей отчетливостью разнеслись чьи-то крики, сменившиеся шлепаньем по воде, визгливым смехом и пьяным пением. В первую минуту осквернения у Фурмана замерло сердце, ему показалось, что сейчас все будет навсегда испорчено, остановлено, исковеркано – и озеро больше никогда не откроет своей красоты…
Кощунственные вопли то затихали, то долетали с новой силой, и вскоре Фурману сделалось просто до смешного ясно, что все это мелочное безбожное безобразие не то чтобы прощается, а даже не замечается, не берется в расчет той суровой, бесконечно взрослой силой, которая правит здесь красотой и покоем. И сила эта не нуждается ни в сочувствии, ни в защите, потому что люди при всем желании не могут унизить ее или оскорбить – только друг друга…
Между тем наступление рассвета почему-то задерживалось. Слабо светящаяся серая пелена по-прежнему плотно забивала все кругом. Похоже, никакого солнца вообще никогда и не было на этом старчески тяжелом, бегущем в никуда небе. Накопившаяся в теле усталость холодно подсказывала, что они уже не ориентируются во времени и им давно пора возвращаться домой…
Рядом с кладбищем им повстречалось торопливо выходящее из города коровье стадо, подгоняемое яростными выстрелами бича и кошмарной этнографической руганью обветренного пастуха. На улицах уже появились идущие на работу люди. Пожалуй, ни разу еще Вова с Фурманом не подходили к дому так поздно.
Пока они, чувствуя себя все более утомленными, плелись восвояси, из-за блеклых крыш на незаметно очистившееся небо выкатилось золотое солнышко. Его веселое нежное тепло было таким чистым и приятным, так все кругом засияло и заискрилось в его лучах, что Вова с Фурманом захотели еще на минутку задержаться, побыть в общем потоке радости и оживления. Они присели на узенькую неудобную завалинку под крайним окном большой комнаты и, щурясь, с полусонным счастьем следили за игрой света.
Вдруг, коротко шаркнув и чуть не треснув Фурмана по башке (он еле успел пригнуться в последнее мгновение), прямо над ними со страшной силой распахнулись обе оконные створки. Ударившись в боковые упоры, они тут же полетели в обратном направлении, но на полдороге застряли и потом снова – уже мягко – раскрылись… руками бабушки Нины.
– Сволочи! – хоть и не на всю улицу, но очень отчетливо произнесла бабушка.
Когда отскочившие с запоздалым испугом Вова и Фурман подняли головы и обернулись (Вова чуть не выронил свою «Селгу», а Фурману поначалу показалось, что это дом рушится или стена), они увидели в окне высунувшуюся по пояс бабушку Нину – с распущенными на ночь волосами, в застиранной ночной сорочке с голыми плечами, – и встретили ее ненавидящий взгляд.
– Что, нагулялись, скоты? – сухо поинтересовалась бабушка.
– Ты что, совсем?! – отчаянно выкрикнул Вова. – Ты чуть Сашку не убила!
Бабушка молча разогнулась и стала закрывать окно. Тюлевая занавеска задернулась.
Огорченные и растерянные, они, подбадривая друг друга шуточками, снова присели на завалинку – подальше от окон, на всякий случай… Затем была выработана общая позиция: да, конечно, пару раз – когда им обоим не спалось – уйдя ночью из дома без разрешения (это особенно относилось к малолетнему Фурману), они поступили не слишком хорошо. Вова, как старший и как зачинщик, готов был взять всю вину на себя. Но ведь это теперь – только одна сторона дела. А вот как бабушка посмела с такой нескрываемой злобой и такими черными словами ругаться на вроде бы любимых внуков (о чисто случайном отсутствии телесных повреждений можно уж не говорить) – вот главный вопрос! Как с этим жить?!
Было, правда, не до конца понятно, что может в такой ситуации предпринять бабушка. Вдруг она соберется и уедет в Москву? (Это предположение пришло в голову Фурману, и он высказал его дрогнувшим голосом.) Что они тогда будут делать?..
Ладно, устало решили они в конце концов, будь что будет, а сейчас надо пойти и поспать.
Следующие два дня враждующие стороны почти не разговаривали друг с другом. Потом оскорбленные и жаждущие справедливости Вова с Фурманом предложили все-таки обсудить случившееся, но бабушка пренебрежительно отказалась принимать во внимание самостоятельную позицию Фурмана и ругалась только с Вовой. Все это было уже так скучно и нехорошо, такая между Вовой и бабушкой пролегла трещина, что он на другой день, даже не пообедав, уехал в Москву и больше не возвращался.
Фурман с бабушкой доживали теплый остаток лета опять вдвоем. Он занялся своими прежними играми и рисованием, у бабушки было много дел в огороде – все шло своим чередом. На душе у Фурмана было тяжело и тоскливо, но разобраться в том, что и по какой причине произошло, он не мог. Часть вины, безусловно, лежала и на нем, спорили они не совсем честно… но Вова уехал и оставил их с бабушкой в таком подвешенном состоянии… а она тоже виновата – слишком разъярилась тогда, а потом упрямо, до конца, настаивала на своей взрослой правоте… Но зачем, зачем он уехал? Он не должен был бросать их вот так!.. Что же делать?
И это на редкость неудачно кончающееся лето, и потерянного себя, и одиноко замкнувшуюся бабушку Нину было ему жалко до слез.
Zoon politikon[1]
1
С тех пор как во втором классе «хорошие мальчики и девочки» по наущению родителей начали приглашать друг друга на свои дни рождения, Фурман оказывался непременным участником всех этих торжеств. Каждый раз, идя в новое место, он ощущал себя путешественником-первооткрывателем, приближающимся к чужому берегу. При этом самым удивительным было обнаруживать, что одноклассники вполне по-хозяйски населяют освоенные им с детства окрестности: квартира одного располагалась как раз над помещением его детского сада, несколько других жили в соседних дворах на Краснопролетарской, еще двое – в домишках-развалюшках, выходивших окнами прямо на школу. Знакомство с семьями приятелей всегда как-то жалостно углубляло их привычный «школьно-урочный» образ. И хотя дома, перед гостями, все старались показать себя «маленькими господами», действие местного духа подчинения ощущалось здесь гораздо острее, чем в дрессируемой по-цирковому школьной массовке.
Квартира Фурманов (точнее, четыре их комнаты в шестикомнатной коммуналке) была едва ли не самой просторной. Поэтому именно у них чаще всего проводились групповые занятия английским языком и собирались приятели младшего Фурмана. Родители приходили домой только к ужину, а бабушка следила лишь за тем, чтобы частота посещений, количество гостей и производимый ими шум не превышали нижних пределов разумного.
Когда настольные игры уже всем приелись, Фурман вдруг вспомнил о том, чему учил его Боря, и начал строить из подручной мебели и больших диванных подушек подводные лодки и летательные аппараты, в которых обвешанные разнообразным снаряжением исследователи отправлялись в глубины мира на поиски неизвестно чего. К сожалению, ни сам Фурман, ни его приятели даже приблизиться не могли к широте Бориных научно-приключенческих познаний и, главное, его речевой находчивости, так счастливо заполнявшей скучную пустоту что океана, что космоса…
В третьем классе, когда был впервые прочитан Дюма, наступила эпоха мушкетеров. К школьному костюмированному балу бабушке пришлось шить сразу четыре коротких накидных плаща с белыми крестами – в трех других семьях отказались браться за столь сложные заказы. Сам Фурман на балу взволнованно щеголял перед новой молодой классной руководительницей в узком камзоле-безрукавке с черно-золотыми пуговицами и в поразившей всех настоящей мушкетерской шляпе с белыми перьями (найденную в кладовке дедушкину дырявую соломенную шляпу обтянули кусочком черной «бархатной» ткани, к тулье приметали серую ленту с пряжкой, а пучок гусиных перьев после долгих упрашиваний раздобыли через родственников-охотников).
Следующей весной, после не слишком удачного выступления класса в школьном футбольном чемпионате, Фурман загорелся идеей организовать с ребятами настоящую футбольную команду и тем самым довести постоянное соперничество с параллельным классом «бэшек» до их полного и окончательного разгрома. Естественно, идея была всеми одобрена. Уже начались регулярные тренировки ударной боевой шестерки в парке, но серьезность дела мучительно требовала, чтобы постоянные члены команды были одеты в одинаковую настоящую футбольную форму.
Несколько раз Фурман ходил прицениваться в спортивный отдел магазина «Пионер» на улице Горького, но увы: цена полного комплекта мечты (даже если напрочь забыть о существовании волшебно-шипастых бутсов) оказалась совершенно запредельной для большинства участников проекта. Самая дешевая майка нежного салатового цвета и белые трусы – этим в основном пришлось ограничиться (да и то Фурман с наглым отчаянием упросил свою бабушку втайне от родителей одолжить деньги двум нападающим и вратарю). Дополнительное снаряжение – сползающие грязно-рыжие гетры и коротенькие щитки на голень – смогли позволить себе только двое игроков, считая и самого Фурмана. Бегать со всем этим вызывающе изысканным барахлом было не очень удобно, но от ударов спереди по ногам щитки действительно спасали.
Параллельно всем этим увлечениям продолжала вяло тянуться многолетняя деятельность Штаба Командиров Петрова и Фурмана (сокращенно ШКПФ). Впрочем, она уже давным-давно свелась к обычным мальчишеским посиделкам во дворе у Петровых, куда Фурман изредка продолжал наведываться по старой памяти. Его неоднократные предложения придать штабной жизни более активный характер за счет привлечения кого-либо из его одноклассников – к примеру, тех же Пашки Королькова и Ирки Медведевой, живших за глухой кирпичной стеной в соседнем доме девять, – не вызывали у братьев Петровых никакого интереса. Все же спустя некоторое время в организацию в качестве второго рядового члена был с несколько хитроватой торжественностью принят Колька Панкратов по кличке Панкрат – крикливый сын глухонемых родителей из петровского двора, – но его участие, конечно, ничего не изменило.
Однажды зимой Фурман подрался с Панкратом. Обычная перепалка перешла в ужесточающееся толкание, потом уже повалявшийся на снегу и великодушно отпущенный Колька неожиданно оказался на упавшем Фурмане сверху, скинуть его плотное тело почему-то никак не удавалось, оба Петровых хитренько посмеивались рядом, а торжествующий и не верящий своему счастью Панкрат стукнул своим крепким лбом Фурмана по зубам, мазанул по его лицу грязной варежкой и с уже запредельной наглостью собирался повторить свое движение еще разок, – но тут Фурмана вдруг охватило дикое бешенство: он укусил эту мерзкую варежку вместе с ее содержимым, а когда Панкрат, ойкнув, на миг ослабил хватку, перебросил его через себя и, тут же зажав, стал душить. Колька сипло замяукал, Фурман сам испугался своей злобы и вскочил на ноги. Страшно ругаясь, завывая и размазывая слезы, Панкрат побежал к своему подъезду, а растерянный Фурман, вдобавок обидевшийся на братьев Петровых, которые и стравили его с этим психом, побрел к себе домой.
Во время ужина раздался звонок в дверь. Дедушка пошел открывать, и, поскольку его долго не было, все стали прислушиваться: из прихожей доносились незнакомые голоса и странный шум. Бросив ложку и на ходу попросив всех оставаться на своих местах, туда поспешил папа, а еще минуту спустя в столовую заглянул дедушка и хмуро сказал младшему Фурману: «Это к тебе».
Оказалось, идиот Колька привел свою разъяренно-растрепанную глухонемую мать и теперь наперебой с ее страшным мычанием плаксиво жалуется, что Фурман его избил и покусал. Вышедшие в прихожую взрослые еще раз сдержанно выслушали объяснения сторон и попросили Кольку показать свои синяки или раны. Поскольку никаких зримых следов побоев на Колькином теле не было, стало непонятно, в чем проблема: ну, поспорили мальчишки между собой, повозились немного – с кем не бывает? Теперь надо помириться, и делу конец.
Однако мириться гости не хотели, а продолжали угрожающе мычать, взвизгивать и размахивать руками. Колька даже выкрикнул, что они сейчас пойдут в милицию! Ну, это было уже просто смешно, идите себе на здоровье, там-то с вами и разговаривать не станут, – а поскольку угрозы и грубости набирали силу, буянов, которые не понимают человеческого обращения, вскоре дружно потеснили за дверь. Они напоследок злобно стукнули с той стороны кулаком и растворились в ночи.
Фурман долго остерегался заходить к Петровым во двор и даже из школы стал возвращаться кружным путем, через Косой переулок, лишь бы не идти мимо низкой темной подворотни дома семь: кто его знает, а вдруг Колька все еще продолжает подбивать своих пугающе-непонятных глухонемых родственников на какую-нибудь чудовищную месть? Выскочат оттуда с мешком, и… поминай как звали.
Потом, правда, все как-то потихоньку вроде бы наладилось по-старому, но в конце мая, зайдя к Петровым попрощаться перед своим отъездом в пионерский лагерь, Фурман неожиданно для себя рассорился с ними – уже навсегда.
2
Главным занятием следующей эпохи стала охватившая треть класса и бурно развивающаяся игра в солдатики. Фурман и думать забыл о ШКПФ – как вдруг о его «секретном штабе» ни с того ни с сего завел разговор пухлый и странно погруженный в себя отличник Илья Смирнов. Как-то после уроков он в очередной раз пошел провожать Фурмана и между всяких остроумных шуточек сообщил, что у него тоже есть своя тайная организация. Они как раз дошли до маленького садика во дворе дома девять и остановились там «немного побеседовать».
У интеллигентного толстощекого Смирнова была одна неудобная манера: в разговоре он никогда не смотрел прямо на собеседника, а непрерывно косил зрачками куда-то вбок, что создавало впечатление необъяснимой уклончивости или даже хитрости. Прохаживаясь вокруг Фурмана и сбивая прутиком длинные сухие травинки, Смирнов самодовольно заявил, что, несмотря на глубочайшую законспирированность фурмановского «Центра», ему уже довольно многое известно о его деятельности. Фурман почти искренне изобразил удивление: мол, вы меня, наверное, с кем-то путаете… Смирнов вежливо похвалил его за избранную тактику и предложил отнестись к ситуации «чисто гипотетически»: допустим, что в этом – и только в этом – разговоре каждый из них представляет некую условную, воображаемую организацию. Пусть Фурман выслушает его, а дальше будет видно.
По словам Смирнова, численный состав представляемой им тайной организации («воображаемой», уточнил Фурман) не превышал двадцати пяти человек. Не стоит, конечно, и сравнивать с «гипотетически существующим» фурмановским Центром, который работает, насколько известно Смирнову, уже несколько лет и охватывает своими щупальцами чуть ли не пол-Москвы!.. Тем не менее люди у Смирнова тоже все надежные и проверенные в деле. (Интересно, в каком таком «деле», насмешливо подумал Фурман, может, они старушкам дрова колют?) Однако уточнить, чем конкретно занимается организация, и даже назвать имя своего главного руководителя Смирнов пока отказался. Собственную должность он обозначил как начальник отдела контрразведки. Помимо постоянных членов, организация располагала еще и мощной агентурной сетью, о возможностях которой, как считал Смирнов, должен был свидетельствовать уже хотя бы сам факт этой беседы между двумя высокопоставленными и чрезвычайно засекреченными руководителями. В качестве дополнительного подтверждения своего информационного могущества Смирнов привел несколько «неприятных фактиков» из жизни одноклассников (типа курения втайне от родителей, хранения порнографического календаря, мелких денежных махинаций и т. п.). Часть обстоятельств была и так известна Фурману из личного общения, а другая часть заставляла задуматься скорее о том, кому и зачем вздумалось коллекционировать подобный «компромат». Между прочим Смирнов намекнул, что поставляемая его агентами особо ценная информация в некоторых случаях может оплачиваться тем или иным способом. Выражался он, как всегда, с ироничной витиеватостью: Фурмана называл «господином» или же «монсеньором Фурманом», – а закончил официальным предложением сотрудничества, для начала на уровне «братского» обмена информацией. Начитавшийся шпионских романов Смирнов, оказывается, ничуть не сомневался в том, что у Фурмана (или у его организации, что, в общем-то, одно и то же) имеется секретный архив с «материалами» и «досье» на всех знакомых, включая одноклассников. Его нелепое предположение основывалось на том, что Фурман будто бы всегда оказывается в центре любых событий общественной жизни класса, со всеми поддерживает близкие приятельские отношения (что, безусловно, очень правильно с тактической точки зрения) и к нему наверняка стекаются самые разные сведения об окружающих, так сказать, «персонажах», в чем Смирнов, кстати, уже имел возможность убедиться во время их предыдущих бесед. (Действительно, с удивлением вспомнил Фурман, Смирнов недавно задавал ему какие-то вопросы об одноклассниках, и он что-то болтал, не придавая этому никакого значения…) Кто знает, что может пригодиться в нашей работе, не так ли, господин Фурман?
Ошарашенному Фурману довелось сегодня выговорить слова «гипотетически» и «досье» первый раз в жизни. На всякий случай он решил поподробнее разузнать о сомнительных смирновских делах и не стал сообщать ему скучную правду о печальной судьбе ШКПФ. Вместо этого он представился – «чисто гипотетически, ты же понимаешь» – заместителем также неназванного командира своего штаба и пообещал на ближайшем заседании «Совета» (?!) доложить о поступившем предложении, а затем известить «господина начальника отдела контрразведки» о принятом решении.
На этом высокопоставленные собеседники распрощались, с подчеркнутой иронией отдав друг другу честь. Фурман направился дальше утомленной спотыкающейся походкой, а свернув из подворотни на улицу и мучительно отсчитав двадцать шагов, остановился, чтобы покрепче завязать шнурки. Убедившись, что за ним никто не следит, он наконец вздохнул полной грудью и облегченно рассмеялся. Так и вошел домой, улыбаясь.
Но потом задумался. Во-первых, следовало понять, через кого Смирнов добывал свою «информацию». Вообще-то Фурман был несколько разочарован: даже названия «ШКПФ» он не знал – что, между прочим, очерчивало и круг его возможных информаторов. Конечно, Фурмана так и подмывало позвонить Смирнову и, «как профессионал профессионалу», посоветовать разогнать его «мощную шпионскую сеть с оплачиваемыми услугами». (Кстати, откуда у них деньги?.. Сэкономили на школьных обедах?) Но лучше было еще немного продлить игру – раз уж так случилось, что господин начальник контрразведки сам в нее напросился.
Оставалось также под вопросом, насколько реальны те «двадцать пять верных людей», о которых говорил Смирнов. Вряд ли это ребята из класса – неужели ни один не проболтался бы? У себя во дворе Смирнов из-за слабого здоровья не играет, в детский парк не ходит, да и на свои дни рождения он «посторонних» ни разу не приглашал – откуда же у него столько никому не известных друзей?
Фурман решил для сравнения выписать на листочке «гипотетических» членов своего штаба: с Панкратом, Пашкой Корольковым и Иркой Медведевой набралось всего шесть человек. Ну, допустим, еще Оля Полякова (хотя это и нехорошо) – седьмая… К этому «основному составу» можно прибавить трех «верных» – или нет, чего уж там мелочиться – пятерых ребят из пионерского лагеря (он ведь и в самом деле принял их в свой штаб, причем один жил аж во Владимире – вот тебе и всесоюзный охват!). Тринадцатым стал Мишка Спевак (живет в Кузьминках – тоже хорошо).
На этом Фурман застрял. Заниматься простой припиской одноклассников было бы глупо. Можно, конечно, с кем-нибудь завтра договориться, чтобы совсем уж задурить бедному Смирнову голову. Но что, если кто-то и вправду окажется двойным агентом? Ну и мешанина тогда получится!.. Ладно уж – он записал еще четыре полувыдуманных фамилии и решил, что этого пока хватит. А люди у нас тоже все надежные и проверенные.
Осторожные переговоры продолжались. Параллельно Фурман расспросил кое-кого из класса и пришел к выводу, что те случайные крохи информации о существовании штаба, которыми так хитро жонглировал противник, он мог получить только через Мишку Павлова, – а это, в свою очередь, означало, что «утечку» организовал сам Фурман, когда-то мягко подготавливавший Мишку к принятию в ШКПФ. Не удержавшись, он через пару дней поделился с «братской контрразведкой» результатами этого маленького служебного расследования. В ответ раздосадованный Смирнов начал похваляться «бойцовскими» качествами своих соратников – и вскоре на свет вышли такие подробности, которые заставили Фурмана пожалеть о затеянной им игре. По крайней мере пять членов смирновской организации были известными и внушающими трепет юными бандитами каляевских дворов. Конечно, была вероятность, что Смирнов тоже попросту «приписал» себе таких «сверхпопулярных» личностей, как Боря Соломонов или Абрак – смуглое чудовище с ледяными глазами и сатанинской усмешкой, частенько собиравшее дань на выходе из школы. Может, стоит набраться наглости и спросить у него как-нибудь, не знает ли он такого парня, Илью Смирнова? Но уже то, что интеллигентному отличнику вообще могло прийти в голову набирать в свой воображаемый «штаб» подобный контингент, вызывало сильное недоумение. Он что, сидя у себя дома, мечтает руководить таким отребьем?
Между тем, поскольку Фурман продолжал ускользать, скармливая вражескому контрразведчику бесконечные «завтраки» и обещания, тот однажды от заверений в дружбе и почтении внезапно перешел к угрозам «позвать кое-кого для ускорения дела». Фурман, «держа лицо», вынужден был дерзко посмеяться в ответ.
На следующую встречу Смирнов без предупреждения привел двух ребят потрепанного хулиганского вида, представив их уважаемыми членами своей организации. Оба с равнодушной усмешкой наемных убийц смерили взглядами потенциального «клиента». От страха и возмущения смирновским коварством худенький маленький Фурман ужасно завелся и неожиданно для всех напал первым: сверкая глазами и жестко возвысив голос, он, словно Ленин на трибуне (или как Боря во время ссоры с родителями), обрушился на противников с бесстрашно-откровенной, нагло-разящей, страстно-обвиняющей и мужественно-зовущей речью, в упор направленной на этих двух «представителей простого народа» – с безумной целью соблазнить и покорить их своим огнем, отсечь от опешившего гадюки Смирнова и тем самым сорвать задуманную им террористическую операцию. Все это получилось как нельзя лучше. Несколько попыток Смирнова вставить словечко были мгновенно и жестоко подавлены. Через сорок минут (!) праведно опустошенного, но еще постреливающего яркими искрами Фурмана и растроганных (чтобы не сказать – раскаявшихся) «наемников» (особенно одного из них, поумнее и посимпатичнее) объединяло такое безусловное взаимное уважение, что впору было тут же перевербовать их, приказав прогнать пинками прежнего подлого шефа. Впрочем, Смирнов очень вовремя признал свое, как он сказал, «моральное поражение», добавив, что недооценил такого серьезного противника. Прозвучало это как плохо скрытая угроза продолжить борьбу, и Фурман, взвившись, обрушил на увертливую клавиатуру несдающегося гада заключительный аккорд… На прощание все обменялись твердыми рукопожатиями – все, кроме Смирнова, чья мягонькая ладонь притворялась безразлично-неживой.
Пока Фурман шел домой, апрельский воздух звенел от аплодисментов и криков «браво!»…
Однако Смирнов на этом, конечно, не мог остановиться. И Фурман, который, в конце концов, сохранял все шансы оказаться единственной жертвой в неминуемой битве двух армий и для которого любое иное окончание явилось бы чистой победой, в отчаянии придумал решительный последний ход.
На этот раз он сам назначил Смирнову встречу все в том же тихом, но уже начинающем прозрачно зеленеть садике во дворе дома девять. Из школы они вышли втроем – «лишним» был тщательно подготовленный к своей роли Пашка Корольков. Смирнов был абсолютно уверен, что Пашка направляется к себе домой, а к ним примкнул просто для компании. Поэтому, когда Фурман, словно бы забываясь, вдруг затрагивал «конфиденциальные» темы, бедный контрразведчик начинал лихорадочно подавать ему тайные знаки: ты что, мол, он же ничего не знает?! Фурман, мстительно веселясь, как бы спохватывался и в притворной досаде демонстративно кусал свой кулак.
Они проводили Пашку до его подъезда, минуту выждали в подворотне и вернулись в садик, где Фурман терпеливо выслушал очередную порцию всяких хвастливых историй и деловых предложений. Через условленное время Пашка снова появился во дворе и направился прямиком к ним. Раздраженный его навязчивостью, конспиратор Смирнов заговорил о чем-то для отвода глаз, но Фурман строгим голосом прервал его: господин-товарищ начальник отдела контрразведки, позвольте вам представить секретаря Совета ШКПФ, начальника отдела информации ШКПФ, сына директора школы, победителя районных олимпиад, члена редколлегии дружинной стенгазеты и т. д. и т. п. – были педантично перечислены все возможные Пашкины звания и регалии. Смирнов растерянно улыбался и хмыкал, сильно поводя глазами то в одну сторону, то в другую. Пока все шло по плану. Фурман торжественно объявил, что Совет Штаба уполномочил их передать официальное сообщение (Пашке отводилась роль молчаливого свидетеля), и попросил разрешения сначала сказать несколько слов от себя лично, чтобы кое-что объяснить.
Известно, что дети во все времена любили создавать свои тайные организации, начал он задушевным лекторским тоном. Это даже описано в художественной литературе: можно вспомнить «Тимура и его команду» или книги Льва Кассиля… – Все это очень хорошо, но нельзя ли поближе к делу, усмехнулся Смирнов. – Чем меньше ты меня будешь перебивать, тем скорее я закончу… Ни для кого из присутствующих не секрет, что отношения между двумя нашими организациями складываются очень непросто, сказал Фурман. Главная мысль, которую я хочу до тебя донести, заключается в том, что наша игра в «штабы» – это не что-то такое совершенно небывалое в истории человечества, а наоборот, вполне обычное и, в общем-то, достаточно часто встречающееся в жизни явление… Ну хорошо, хорошо, пусть не часто встречающееся, если тебя это так задевает. Что из этого следует?.. Я же просил не перебивать меня!.. Из этого следует одно важнейшее положение. И я, и Пашка, и ты, и все остальные члены наших «тайных организаций» – это ДЕТИ, и мы всего лишь играем в обычную детскую игру. Да, может, для тебя это и новость, но это именно так… Спасибо, что ты мне разрешаешь, я продолжаю.
Как ты знаешь, в любой игре – и в детской, и во взрослой – должны быть правила, которые обязательны для всех ее участников. Если хотя бы часть игроков перестает соблюдать правила, игра разрушается. Без правил она просто не может продолжаться – надеюсь, ты с этим согласен?
У нашей игры были хорошие правила, и она нам очень нравилась. Когда на горизонте возник ты со своей «организацией», мы поначалу, естественно, подумали, что теперь играть станет еще интереснее. Но тут мы почему-то ошиблись: стало хуже. Сейчас можно даже прямо сказать, что ХУЖЕ – ПРОСТО НЕКУДА… При этом я могу со всей ответственностью заявить, что до сих пор – заметь, я специально подчеркиваю это: до сих пор «игроки» моей «команды» – или члены моего штаба, как угодно, – ни в чем не нарушили правил ДЕТСКОЙ игры.
Понимаешь, Илья, как только начинаются угрозы и битье по морде – это уже не игра. Хорошо, это просто «плохая» игра. Она не всем нравится – и взрослые, кстати, не разрешают детям так играть. Нет, не только малышам! Когда у детей любого возраста начинается такая «игра», взрослые обычно вмешиваются и прекращают ее – иногда даже силой… Ты хочешь сказать, что пока ничего «такого» еще не произошло. Слава богу, как говорится. Но кое-что все-таки произошло, и вам теперь придется с этим считаться. На сегодняшний день положение таково: ровно половина участников общей игры – а именно подавляющее большинство ребят нашего штаба – отказывается ее продолжать. Почему? Потому что для многих она стала неинтересной и неприятной, а для кого-то попросту страшной. Зря ты ухмыляешься. В отличие от вас, наша команда состоит не из одной дворовой шпаны, которой лишь бы с кем-нибудь подраться, а из нормальных ребят… Да, мы можем и подраться, если надо, но просто мы не любим это делать. Кроме того, у нас есть и девочки, и малыши. И они, естественно, опасаются, что их теперь начнут выслеживать ваши хулиганы, чтобы «поиграть» с ними по-своему… Нет, мы оба знаем, что происходит на самом деле. Вы можете думать, что хотите, а нам здесь все уже ясно и понятно… Хорошо, стоп! Теперь я перехожу к официальной части.
Итак, первое. Сообщаю тебе, что Совет нашего штаба – кстати, несмотря на свою хваленую агентуру, ты ведь так и не узнал, как он называется, – так вот, на своем экстренном заседании, которое состоялось вчера вечером, наш Совет обсудил создавшуюся ситуацию и большинством голосов принял очень жесткое решение: с сегодняшнего числа Штаб прекращает свою работу, а все его члены распускаются. Игра закончена. Мы в нее больше не играем. Нет, не только с вами, а вообще. Все, точка.
И ты еще меня спрашиваешь почему? Ну и ну!.. Пожалуйста, я тебе отвечу: к этому нас вынудили исключительно вы своими идиотскими угрозами. Не надо, Илья, угрозы были, и вполне определенные. Да, мы очень нервные… Никакого желания мериться с вами физической силой у нас нет. Еще умом можно было бы помериться, но это вам даже и в голову не пришло… Нет, решение пересмотрено не будет. Да, вот именно: мы сами себя решили наказать. Значит, есть за что… Если вам так хочется, можете считать, что вы нас «победили». Радуйтесь, пожалуйста, мы вам не запрещаем.
Теперь еще кое-что. Прошу тебя отнестись к тому, что я скажу, очень и очень серьезно. И передай это всем членам вашей организации, чтобы потом никто не обижался и не говорил, что он этого не знал. Правильно, запиши. Можешь на манжетах… Уже пишешь? Значит, так. Если тебе лично или кому-нибудь еще из членов вашей дурацкой организации… – Давай-давай, пиши! – дур-р-рацкой детской организации… спорить будем потом!.. а также вашим друзьям, знакомым или друзьям ваших знакомых и т. д. и т. п. – короче, если кому-нибудь из вас захочется продолжать играть с нами в том же духе, то есть угрожать бывшим членам нашего штаба, преследовать их, даже просто пытаться разыскивать, кого-то о них расспрашивать и вынюхивать, – как только нам станет известно, что происходит хоть что-то подобное, мы – говорю это без всяких шуток и при свидетеле, надеюсь, ты и без своей тупой агентуры догадываешься, что его мать работает директором нашей школы, – так вот, как только хоть одному из нас просто покажется что-то такое, мы немедленно, в ту же секунду, обратимся за помощью к взрослым: к нашим родителям, к твоим собственным, к учителям, в администрацию школы, в милицию – и поднимем вокруг вас и вашей «игры» такой шум, что… Короче, ты умный человек и, я думаю, сам понимаешь, что лучше бы ничего этого не произошло.
Мы вас честно и прямо обо всем предупредили. А вы уж сами выбирайте, что вам делать.
Хау, я все сказал. Теперь, если хотите, можете возражать.
Смирнов был разочарован и заметно огорчен, но изменить уже ничего не мог – игра-то закончилась!
3
За год до этих событий Фурман с Пашкой Корольковым вовсю занялись государственным строительством и упорядочиванием быта своих многочисленных солдатиков. Страна Фурмана (первоначальное население – 120 чел.) получила «естественное» название Фурманитания, а Пашкино государство решили назвать Пантелея – по фамилии его матери, поскольку напрашивающийся вариант «Корольковия» звучал как-то нелепо.
Стремление подражать «настоящей жизни» с самого начала диктовало им определенный стиль, позволявший легко справляться со всеми возникающими государственными проблемами.
Первым делом Фурман построил из кубиков три населенных пункта: столица Александрия, пограничный форт Независимый и прибрежное село Мирное (оно же – единственный в стране военный порт). После этого он упросил папу напечатать на машинке «Список важных лиц», в который вошли командующие родами войск, а также директора двух заводов: «машинного» и военного (под загадочным, но достаточно распространенным в СССР названием «почтовый ящик»). Чтобы отбиться от растущих потребностей Фурмана в перепечатке официальных документов, папа подарил ему маленький блокнот и посоветовал все государственные дела записывать туда – «для истории».
Вскоре в Александрии состоялось совещание на тему «Положение в стране», открывшееся речью командующего артиллерией генерала-майора Филипченко (текст выступления приводится по стенограмме без исправлений):
«Товарищи! Сейчас, хотя и мирное положение, нам с вами, командирам Армии, необходимо усиливать мощь наших боевых сил. Артиллерия имеет большое значение, как в наступлении, так и в обороне городов, фортов и прочих рубежов. Я считаю, что нашей стране необходимо закупить небольшое колличество пушек. Нам нераз придётся защищать нашу Родину. А для этого нужно усилить наши силы!»
Следующим был вице-адмирал Гончаров: «Я совершенно согласен с тов. Филипченко! Но ведь нельзя забывать, что и флот имеет в жизни и дальнейшем процветании страны огромное значение. Сейчас у нас на вооружении два ракетных корабля. По вооружению они превосходят эскадру противника. Но стоит ему потопить один из них как другой ничего не будет значить. Я прошу Совет поставить на повестку дня вопрос о военно-морских силах страны».
Заслушав еще несколько типовых выступлений, Совет удалился на совещание. В блокнотике торжественная запись, за которой слышится отчетливый дикторский голос:
«Члены Совета входят в зал. Объявляется решение Совета.
Закупить у соседних стран [то есть в магазине «Детский мир»] военные корабли и несколько пушек.
Заседание Совета объявляю закрытым.
Члены Совета и правительства выходят из зала.
10/XI-69 г.
20 час.20 мин.».
* * *
К Новому году в игре произошли кардинальные изменения. Во-первых, в нее вошли еще несколько ребят: троечник Мишка Павлов стал президентом Социалистической Республики Эвлетерия (СРЭ), Илья Смирнов принял имя эрцгерцога де Иля, главы герцогства Ильгенау, а Костя Звездочетов – новенький, появившийся у них в начале пятого класса, – назвал свою страну Соединенными Штатами Археландии. (Фурман почти сразу почувствовал к Косте симпатию и решил его незаметно опекать: это был тщедушный, похожий на гномика мальчик в толстых очках, придававших его глазам напряженно-колючее выражение, и с большими стариковскими ушами, осторожно выглядывавшими из-под необычно длинных, артистически непослушных волос. Костя часто, особенно поначалу, проявлял какую-то неадекватную обидчивость и чуть ли не задиристость по отношению к «более развитым физически», как он это называл, одноклассникам, поэтому фурмановская «закулисная дипломатия» была отнюдь не лишней.)
Во-вторых, было решено, что все действие будет происходить на планете Архос (географически – полной копии Земли: благодаря этой простой идее каждое государство получало устойчивую территорию с невыдуманными очертаниями, вдобавок можно было использовать «земные» контурные карты). Незамедлительно созданная Организация Объединенных Наций на первом же своем заседании рассмотрела вопрос о правилах ведении войн: в частности, было твердо установлено максимальное расстояние, на которое могут передвигаться за один ход и стрелять солдатики и различные виды военной техники, включая флот и авиацию (в качестве снарядов на Архосе использовались разнокалиберные резиновые шины от игрушечных автомобилей). Позднее ООН ввела систему международных денежных расчетов, в соответствии с которой 1 золотая единица (желтенькая советская копейка из «параллельного мира») приравнивалась к 10 условным валютным единицам любого государства Архоса (каждый должен был «напечатать» определенную сумму собственных денежных знаков).
На волне всеобщих изменений древняя Фурманитания переименовалась в Демократическое Государство Вундерланд (ДГВ). Местное издательство «Знание» опубликовало брошюру крупнейшего вундерландского историка Генри Фраэрмана «Развитие социализма в Фурманитании», представлявшую собой слегка замаскированную историческую фантазию на тему ШКПФ (тираж – 2 машинописных экземпляра).
«Впервые социалистический порыв, – писал Г. Фраэрман, – был замечен в 1966 году. Это было при правлении царя Игоря (Игорь был хитрым, глупым и злым человеком). [Как видно, у подлинного автора произведения еще свежа была обида на своего прежнего напарника по ШКПФ.] Поскольку у тогдашнего государства были лишь небольшие отряды, защитить страну от нападения «варваров» они не могли. Именно поэтому Игорь вынужден был взять к себе на службу наемников [под «наемниками» подразумевался Панкрат]. Плохое отношение к ним, испорченная пища, подосланные в армию шпионы и агитаторы быстро делали из организованной, дисциплинированной армии оборванных и голодных людей. Игорь не щадил ни солдат, ни полководцев. Беспрестанные бои изнуряли и без того уставшую армию.
В скором времени произошло восстание оставшихся сил и жителей страны. Оно окончилось полным поражением сторонников тирана. Сам же он вынужден был подать в отставку и уехать из страны за границу.
На престол взошел молодой «полусоциалист», близкий советник бывшего царя АЛЕКС. Он сразу же начал основывать СВОЮ армию. Алекс был прямой противоположностью своему учителю и предшественнику. У него был острый и хладнокровный характер. К началу своего царствования он уже заключил мир со всеми странами, которые лишь недавно вели ожесточенные бои с армией Игоря [имелись в виду мальчишки из соседних краснопролетарских дворов].
Во время царствования Алекса и произошел сильный поворот в сторону социализма.
Воспользовавшись тем, что Алекс набирал все новых и новых сторонников, его враги стали засылать к нему не то чтобы шпионов, а людей, которые были верны социализму лишь на словах. Они-то и помешали дальнейшему развитию страны и социализма в ней. «Передовые» люди страны устроили заговор против Алекса, в результате чего страна фактически прекратила свое существование. Многие предатели уехали в другие страны, заняв там немалое место при дворе. Лишь немногие уцелевшие после заговора социалисты оставались в разгромленной и разграбленной стране. Постепенно они организовали небольшое, но все разрастающееся социалистическое государство. СТРАНА НАЧИНАЛА ЗАНОВО СВОЮ ЖИЗНЬ!»
(Нижнюю часть последней страницы в обоих экземплярах занимал рисуночек шариковой ручкой: белокожий молодой человек цепко и зовуще держит за руку сомневающегося синекожего.)
Организация Объединенных Наций строго потребовала от каждого государства сдать письменный отчет о важнейших событиях и достижениях. В Рапорте закулисного главы Пантелейской Социалистической Республики (ПСР) Пашки Королькова перечислялись такие события:
«1. Князь Андрей [Пашкин троюродный брат] прислал генераллисимусу Ганебалу [номинальному главе ПСР] в помощь 16 человек солдат и офицеров, 2 военных музыканта, 8 самолетов, 1 танкетку, 1 броневик, 1 ракету, 20 футболистов, гараж, 3 «Волги», 1 «Победу», 1 грузовик.
2. Построены города:
а) Пентос
б) Филантина
в) Биексдроубут-на-Мейне
г) Хёра
д) Свентентис
е) Бригисман [Пашку необъяснимо тянуло к «германо-скандинавским» названиям, об которые другие ломали язык].
3. Состоялся III съезд Коммунистической партии Пантелеи (сокр. КПП).
4. Заселяются города. Проведены футбольные и настольно-бильярдные игры и чемпионаты ПСР.
5. Будут выпущены книги: «I съезд КПП», «II съезд КПП» и «III съезд КПП», писатель Генни Пантернон» [жалкий иностранный двойник-писака с невыговариваемой фамилией, так и не осуществивший ни одного из своих широковещательных замыслов].
В январе руководителем Вундерланда стал Александр Палангский. Им была разработана и блестяще осуществлена тайная военная операция по объединению с Пантелеей. Правда, дело кончилось международным скандалом. Вышедшая по этому случаю машинописная газета «Заря» (четыре лилипутских полосы) предлагала вниманию читателей официальную вундерландскую интерпретацию происходящего:
СОЮЗ ЗАВЕРШЕН!
13 января 1970 года заключен СОЮЗ между социалистическими республиками ДГВ и СРП. Как сообщает наш специальный корреспондент, СОЮЗ был заключен на экстренном заседании
Организации Объединенных Наций. Новое государство будет называться ВУНДЕРЛАНД, что означает «страна чудес». (Наш специальный корреспондент)
ЕЩЕ ОДИН ШАГ К МИРУ
После выхода из так называемой Организации Объединенных Наций разорвались связывающие нас оковы капитализма и феодализма.
Оставшиеся «с носом» капиталисты бесятся при виде расцвета нового социалистического государства.
Под этой заметкой была помещена двойная карикатура (плод подражания популярному в Советском Союзе датскому художнику-коммунисту Херлуфу Бидструпу): «1969 год» – толстяк «Капитализм» в черном цилиндре, покуривая трубку, сидит верхом задом наперед на лежащем молодом «Социализме»; «1970 год» – вскочивший крепыш «Социализм» грозит кулаком перекувырнувшемуся и потерявшему цилиндр лысому жирдяю «Капитализму».
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В социалистическом государстве Вундерланд сейчас проводятся строительства подвесных и стержневых дорог, автобусных линий. Строятся новые заводы, парки отдыха, города, банки.
Про водится прямая пассажирская авиалиния, по которой идет сообщение с разными концами страны.(Объединенное Телеграфное Агентство, 15 января 1970)
Архосское сообщество было поставлено этими событиями на грань мировой войны (стоит отметить особую поджигательскую роль ильгенауских политиканов). Напряжение продержалось еще пару недель, после чего участники социалистического заговора решили вернуться к прежнему раздельному существованию. При этом Пашкина страна превратилась в Социалистическую Республику Фьютинланд (от английского «future» [фьюче] – будущее), а фурмановская, отбросив «демократические» примочки, стала откровенно называться Социалистическим Государством Вундерланд. Влиятельным людям из среды высшего офицерства пришлось позаботиться о судьбе некомпетентного и к тому же окончательно спившегося штатского самодура Александра Палангского, заведшего страну в политический тупик: на одном из ближайших военных парадов он был застрелен личным адъютантом министра обороны маршала Фурмоша. «Психически больного» адъютанта расстреляли на месте, а талантливый стратег Фурмош немедленно принял на себя руководство могучим государством. Армия восторженно приветствовала своего ставленника.
* * *
К весне на Архосе почти не осталось свободных земель, и постепенно стал проясняться геополитический расклад сил. Интерес каждого участника игры к своей основной территории изначально опирался на некие туманные культурно-исторические или, точнее, психо-стилистические ассоциации. Так, Смирнов почему-то сразу запросил себе Китай (что на фоне недавних земных событий на советско-китайской границе выглядело крайне экстравагантно). Пашка заполучил свою любимую Северную Европу, США, две трети СССР и долю колоний в Африке. Костя Звездочетов с настораживающей скромностью угнездился в Японии, Мишка Павлов занял Центральную Америку, а Фурман, который сперва попытался обжить далекую сонную Австралию, потом оставил ее и переместился в Западную Европу, одновременно получив важнейшие из бывших земных колоний и протекторатов Англии и Франции.
В конце марта (как раз в это время Смирнов начал приставать к Фурману с разговорами о своей «секретной организации») захватившие всех подковерные интриги вылились в небольшую войну передовых стран социалистического лагеря с маленькой отсталой Эвлетерией (т. е. Мишкой Павловым), которая, по абсолютно достоверным сведениям вундерландской разведки, вступила в тайный военный сговор с главным врагом мира на планете (им стал уже понятно кто). Война эта послужила как бы пробой сил для всех заинтересованных сторон, поскольку в составе армии Эвлетерии в боевых действиях принимал участие «добровольческий» экспедиционный корпус герцогства Ильгенау. Что ж, попробовали – убедились:
ДОГОВОР О КАПИТУЛЯЦИИ
Проигравшая сторона Социалистическая Республика Эвлетерия обязуется:
а) Подписать договор о капитуляции.
б) Уплатить воюющим государствам по 3.000.000.000 контрибуции в валюте.
в) Уплатить техникой:
1. По 1-й пушке каждому.
2. По 1-му танку на 2 государства.
3. По 1-му самолету каждому.
4. По одному кораблю каждому.
Договор был подписан руководителями всех стран – участниц конфликта (естественно, за исключением его главного зачинщика).
Поражение тайного союзника было воспринято в китайском Ильгенау с огромным раздражением, о чем свидетельствовали два совершенно секретных документа, позднее попавших в руки вундерландской разведки. 26 марта с обращением к элитным частям 1-й гвардейской армии выступили представители высшего командования Ильгенау генерал де’Эллер и комиссар де’Крабонет:
«Солдаты! Воины Первой гвардейской армии! Положение наше трудное – 1 шахматный корпус в Плутонии, но в начале апреля он вернется. Хуже дела с 47 солдатами, взятыми в плен вундерландцами. Наш эрцгерцог после каникул позвонит в Совет Министров Вундерланда и потребует их возвращения. Мы должны искать пропавшие вещи, быть верными нашим союзникам и главное – бить вундерландцев и их приспешников. В этом нам помогут: Плутония, государства Шпиндлера, Сударикова, Петухова, Румянцева, Силена [верные Смирнову двоечники и троечники, расселившиеся не на самом Архосе, а на множестве внезапно открытых планет его Солнечной системы]. Архос – означает старый. Свергнем этот ветхий идол крепостью наших штыков!
Летчики! Первое место нашей авиации обеспечено. Небо будет нашим!
Сегодня мы проведем маневры с дружественной армией Шпиндлера. Предстоят маневры общие, для всего Союза.
Ура 1 гвардейской армии!
Ура нашим союзникам!
Долой Вундерланд!»
Вторым документом было официальное обращение Ильгенау к государствам Плутонии, Силене, Сударикова, Павлова, Петухова, Шпиндлера:
«Господа члены дружественных правительств! Мы приносим вам заверения в глубочайшей преданности нашей общей борьбе против чудовищного спрута – Вундерланда, охватившего щупальцами весь Архос. Но нам непонятно, почему государства Архоса столь легко подчинились влиянию вундерландских политиканов. Мы возмущены тем, что Эвлетерия, забывая о составленных нами договорах, продолжает утаивать действительную численность войск Ильгенау, находящихся в ее пределах. Мы должны сплотить наши ряды, упрочить наше боевое могущество, приложить все силы к борьбе против Вундерланда и его Союзников. Итак, вперед! В бой!!!
Обращение подписали:
эрцгерцог де’Иль
герцог, генерал армии де’Эллер
генерал де’Крабонет
генерал фон Фикс
генерал Федькин
бригадир де Огильви
генерал фон Ерве
генерал-интендант фон Ремю».
Министерство иностранных дел Вундерланда в отчаянии попыталось остановить развивающийся кризис самыми радикальными мерами, подготовив проект Договора об исключении герцогства Ильгенау из состава планетной системы Архоса, «ввиду того, что оно пренебрегает правилами Жизни, ведет нечестную игру, шантажирует правителей социалистических государств и мешает осуществлению планов коммунизма на Архосе». Однако в тот момент ситуация еще не созрела для окончательного решения вопроса, и бумажка так и осталась «проектом».
Лишь после победоносного завершения в «параллельном мире» «битвы несуществующих штабов» Фурману удалось заставить остальных архосских правителей дать неохотное согласие на исключение из игры китайского интригана, шантажиста и насильника, перешедшего все допустимые границы нормального сосуществования. Казалось бы, теперь на планете должны наступить долгожданное всеобщее согласие и мир, но история почему-то пошла по другому пути.
Более того, Фурман с болезненной остротой ощущал, что все затаили против него какую-то обиду. Даже верный Пашка осторожно сказал ему, что он, видимо, «перегнул палку».
Хроника событий отражена в китайской «Книге жизни» (рубрика «Последние новости»):
20 апреля 1970 года. Заключен договор с Археландией и Ялмез. Находившиеся там войска Китая вернулись.
Осложнилось положение. Едва не была объявлена война между Вундерландом, Эвлетерией и Ялмез.
21 апреля. Китай исключен из Архоса.
23 апреля. Государство Эвлетерия начало нападения на мирные суда и объявило себя пиратской державой.
15 мая 1970 года. Положение на Архосе.
Архос разделился на два лагеря. Один – Вундерланд и Эвлетерия [Пашка исполнял роль двойного агента],в другом – мы и наши союзники (9 государств).
16 мая. Праздник в Фьютинланде [Пашкин день рождения]. Присутствовали представители всех государств.
* * *
Летом Фурман тщательно перерисовывал карты Франции и Великобритании, намереваясь включить в игру свою коллекционную модель электрической железной дороги – с мостами, аккуратными домиками, деревьями, уличными фонарями и прочей пленительной жизненной мелочью. Вся эта весенняя «борьба за социализм» представлялась ему теперь нелепой и разрушительной. Наверное, он с самого начала игры сделал ошибку, зачем-то решив подражать «настоящему большому миру». Ведь никто из них на самом деле не «капиталист» и не «социалист». Если говорить серьезно, то социализм – это очень сложная вещь, вершина всего мирового исторического развития, к которой человечество шло длительным путем. И даже до сих пор еще не пришло. Или пришло, но не все… Социализм и в настоящем мире еще строить и строить! А Фурман хотел сразу в него «превратиться», словно в сказке. Кстати, если уж взаправду подражать «большому» миру и его истории, то надо было начинать с первобытного общества – или с обезьян (ха-ха), а «социализм» должен возникнуть уже в самом конце, после феодализма и капитализма. В общем, сам виноват – никто ему эту роль не навязывал. Мог бы, конечно, чего-нибудь попроще и поприятнее сочинить. Ладно, и сейчас еще не поздно…
В начале учебного года сильно смягчившаяся в вопросах идейного противостояния Демократическая Республика Вундерланд (ДРВ) перешла к президентскому правлению (Фурман придумал давать своим солдатикам имена героев из любимых книг, и первым президентом страны стал Дж. Меллоун – симпатичный журналист из «Затерянного мира» Конан-Дойля; в дальнейшем источником имен служили собрания сочинений Жюля Верна и Джека Лондона). На Архосе был подписан всеобщий договор о ненападении сроком действия до 1 ноября.
Между тем 26 октября в Ильгенау (все уже так запуталось, что было непонятно, на каком свете существует исключенное из состава Архоса эрцгерцогство) на Совете офицеров генерал-капрал Умберт сказал: «Господа! Началась колонизация Нью-Архоса (Аргоса). Нужно добиться возвышения Китая на нем. Долой Вундерланд!» А уже 27 октября на этом самом «Аргосе» состоялись совместные маневры вооруженных сил Археландии, Аэландии, Фьютинланда и Китая (обнаружилось, что хитрец Костя Звездочетов давно сошелся со Смирновым; Пашка же продолжал действовать как двойной агент).
С трудом преодолев расстройство от предательского поведения друзей и вняв в конце концов Пашкиным уговорам принять новую реальность, дабы избежать окончательного поражения, Фурман предложил всем завести одну общую толстую тетрадь, в которой фиксировались бы события на обеих планетах. На титульном листе этой тетради было написано:
АРХОС И АРГОС
(Договоры, истории войн, фирмы, списки войск,
видные деятели и т. д. и т. п.)
17/XI-1970 г.
Итак, катастрофа не состоялась, можно было жить дальше. Отныне оплотом Фурмана сделалась благородная Франция.
Вскоре состоялось совещание глав государств Архоса, на котором был принят Закон о торговле. Это необыкновенно оживило международные отношения. Первые страницы новой Общей Тетради были заняты договорами о продаже и перепродаже одной и той же легковой машины марки «Победа», цена которой всего за один день выросла почти в 10 раз. Всем участникам рынка, кроме последнего покупателя, такая игра очень понравилась. Спустя неделю в торговлю была вовлечена земля. Меньше чем за месяц были проданы или обменены территории Албании, Болгарии, Югославии, Колумбии и европейская часть СССР.
В начале декабря во Франции произошел мятеж монархистов, в результате которого к власти пришел король Реджинальд I (история у Фурмана развивалась как бы задом наперед). Руки доблестного французского генералитета, таким образом, были окончательно развязаны, и 11 декабря объединенные войска Франции и Швеции (Пашка) напали на Испанию (бывшую «планету Ялмез», морально поддерживаемую с Аргоса осторожным Китаем). Одержанная победа была торжеством самой современной военной техники (беспилотная авиация плюс ракеты морского базирования). В живых был оставлен 1 испанский солдат.
В наступившем 1971 году всеми владело миролюбивое настроение. В Тетради появился даже договор о сотрудничестве между контрразведками Франции и Тай-тянь-го (в другой транскрипции «Да-жень-го» – бывшая Археландия, она же Океания, она же Японская Империя). Костя Звездочетов углубил свою часть игры до такой степени, что все имена собственные рисовал настоящими (?..) иероглифами. Так, подпись его начальника контрразведки состояла из трех иероглифов: первый напоминал русскую У, поросшую длинной шерстью, которую ветер всю целиком задул налево, кроме одной шерстинки, «упавшей на пол» справа; второй – разлапистую А с двумя висящими над ней неодинаковыми черточками; а третий – в виде «шалашика» – был точной копией корявой письменной Л.
* * *
17 апреля Франция, Швеция и Океания (т. е. Фурман, Пашка и Костя Звездочетов) заключили договор о ненападении сроком в две недели. Но уже 20-го Швеция по какой-то весьма запутанной причине нарушила этот договор и коварно напала на маленькую беззащитную Океанию (видимо, дело не обошлось без определенного ревнивого подзуживания со стороны Франции, не простившей Косте его иезуитского сближения со Смирновым). Однако все расчеты были опрокинуты нежданным вмешательством в конфликт могучей, но до этого вполне нейтральной Бразилии – возможно, при секретной поддержке с Аргоса («Бразилией» был отличник и тяжелоатлет Олег Заваруев, по кличке Быча, подключившийся к игре после Нового года; до пятого класса он учился в параллельном «Б» и был там лучшим учеником и одновременно лучшим футболистом – после его перехода футбольное соперничество с «бэшками» сошло на нет).
Развязывание новой мировой войны не входило ни в планы растерявшихся шведов, ни в намерения явно заигравшейся в тайную дипломатию Франции. Чтобы отделаться меньшей кровью и спасти Швецию от неминуемого разгрома, Франция пустилась на еще большую хитрость: в праведном гневе на агрессора и нарушителя мирных договоров она присоединилась к Бразилии и тоже объявила Швеции войну. Шведы были совершенно деморализованы этим предательством, но для сохранения необходимой «естественности на лице» Фурман не мог раскрыть Пашке свои карты раньше времени.
В немыслимо короткий срок прославленный французский генштаб разработал безупречный план военных действий новых союзников, по которому Швеция проигрывала сражение буквально после первого же выстрела (избежать первого залпа было просто невозможно: по правилам он принадлежал объявившему войну). Битва должна была состояться дома у Фурмана, и главная роль в ней отводилась планом самим французам.
Передовую линию союзников в соответствии с французской диспозицией занимали японский пограничный гарнизон и отборные боевые части бразильского экспедиционного корпуса. Расположение армии шведов (чьими тайными военными советниками были все те же вездесущие французы) напоминало фалангу Александра Македонского. Оба войска выстроились на открытом пространстве на полу в бабушкиной спальне, а глубоко под кроватью, в узких щелях между шкафами и в других укромных местах в тылу у шведов пряталась заранее подготовленная французская мотопехота и ударный артиллерийский полк на тягачах-вездеходах.
По правилам, первый ход был за несчастным и обиженным на весь свет агрессором. После его не слишком уверенного артобстрела на передовой союзников появились жертвы. Но двинуться вперед шведы так и не успели: без всякого предупреждения (на этот раз война была объявлена Фурманом и право первого хода принадлежало ему) прямо в расположение их частей вдруг ворвался моторизованный французский десант. Шведской армии было предложено сдаться под угрозой полного и немедленного уничтожения. Бедным северным воякам, конечно, ничего не оставалось, как принять это предложение подлых французских бандитов. Тем не менее все шведы были целы, а их военная техника не пострадала.
Жестокий Пакт о капитуляции обязывал проигравшую сторону отдать в виде контрибуции территории Швеции и Финляндии – Бразилии, территорию Китая – Океании и территорию Алжира – Франции (на этом настояли благодарные «союзники», отказаться было нельзя).
Отдельный Пакт был подписан Пашкой с главным победителем – Японской империей (Океанией) – и носил по-звездочетовски скрупулезный, утонченно-издевательский и в то же время странно небрежный характер:
Королевство Швеция обязуется:
а) покинуть территорию Квантунского полуострова
b) покинуть территорию Алеутско-Командорских островов и Курильских о-вов
с) отдать в виде контрибуции на Корейском полуострове приморску часть лежащую в 35 градусах долготы и 128 градусах долготы
d) отдать в виде контрибуции о-в Цейлон.
Командующий Японской Армией хан [?] … …
[два иероглифа: первый похож на слегка раздавленную русскую письменную «х» – но как бы в «треуголке» с завернутым вправо плюмажем; второй напоминает схематичное изображение радарной установки].
Пашка был смертельно обижен на Фурмана, несмотря на все его объяснения, что иначе было бы еще хуже. Столкнувшись с Пашкиным упрямством, Фурман в конце концов тоже вспылил, и они на несколько дней поссорились.
Фурман, который в очередной раз заболел гайморитом и грустно готовился к предстоящему ему перемещению в Филатовскую больницу, засел за «Трех мушкетеров» и «Таинственный остров», выписывая оттуда имена для своих государственных деятелей: де Лавальер, де Вард, дю Валлон, де Жюссак; Сайрес Смит, Гедеон Спилет, Дик Кеннеди…
И тут вдруг разразилась мировая война… Китайские записи, как обычно, кратки:
27 апреля 1971 года. В четырехчасовом упорном сражении Бразилия, Япония и Китай выиграли битву у Швеции и Франции, сбросив на них атомную бомбу.
[Вот в какой ужасной военно-политической обстановке Фурман вынужден был покинуть этот мир!..]
8 мая. Вест-Индия капитулировала. Наши [т. е. китайские] доблестные войска взяли в виде контрибуции 5 округов и много денег.
В Японию введены союзные китайские технические части.
11 мая 1971 года. Заключен договор с Японией и Бразилией.
Фон Ерве отправился с дипломатической миссией в Японию.
Китай вновь вступил в Архос.
[И вот что они сделали, пока Фурман лежал в больнице…]
4
Осенью Кости Звездочетова в классе уже не было. Даже фотографии не осталось, лишь несколько страничек в прошлогодних Общих Тетрадях с потихоньку усыхающими иероглифами, да еще, пожалуй, одна «фирменная» Костина шуточка, которая была как-то раз выговорена им в «припадке дичайшего остроумия». Это была переделка по созвучию его собственной фамилии Звездочетов (точнее, первой ее части): получалось, что «звездочет» считает не звезды на небе, а нечто непристойное на земле… Никто другой не рискнул бы так шутить над самим собой. Когда Фурман наконец решился пересказать Пашке этот поразивший его пример звездочетовского юмора, тот не только не засмеялся, но, покачав головой, произнес что-то вроде: да, все-таки, согласись, странный был Костя человек…
Тусклые учителя и их скучные уроки вызывали у Фурмана все большее отвращение, так что по некоторым предметам он постепенно стал съезжать на тройки. При этом много сил и времени у него по-прежнему занимали непрекращающиеся простуды, а также работа в школьной пионерской стенгазете, главным редактором которой он был уже второй год. В качестве авторов он с удовольствием привлекал всех «своих»: Пашку, Бычу и даже хитроумного Смирнова, под неустанным давлением Фурмана сочинявшего смешную научно-фантастическую ересь с продолжением. На городском конкурсе во Дворце пионеров их состряпанное на скорую руку произведение вошло в десятку лучших, и после этого они уже совершенно безнаказанно могли пользоваться покровительством старшего школьного пионервожатого Лени (в просторечии – Леньки): случалось, члены редколлегии по его просьбе на целый день «снимались с уроков», чтобы за пару часов нарисовать в пионерской комнате какой-нибудь плакатик или объявление. В школу Леня пришел работать сразу после армии, отслужив три (или даже четыре – из-за напряженного международного положения) года в морской пехоте. Как-то раз, с трудом «свалив» очередной номер газеты и расчувствовавшись за чаем с сухарями, он «по очень большому секрету» поделился своими личными воспоминаниями о службе: во время последнего арабо-израильского конфликта наши военные корабли были направлены в Средиземное море, и находившиеся у них на борту морпехи несколько месяцев жарились в трюмах под палящим солнцем (при дневном свете им строжайше запрещалось появляться на палубе), на одних сухарях, в окружении враждебного Шестого американского флота и в полной неизвестности о том, что их ждет дальше…
Что касается Архоса, то в интеллектуальном отношении он процветал, втягивая всю доступную семерым участникам игры информацию (Фурман, к примеру, весьма активно использовал имевшееся дома многотомное первое издание Малой Советской Энциклопедии, частично еще довоенное, – пряно устаревшие карты и комментарии лишь сближали различные реальности). Любимыми предметами у всех сделались история и экономическая география.
28 февраля 1972 г. Министерство внутренних дел Французской Республики опубликовало очередные данные о политическом положении и развитии экономики страны: «Франция является одной из самых сильных и могущественных держав Архоса. Республика Ф. – лидер буржуазной (капиталистической) группировки планеты. Ф-кая валюта, франк, котируется на международном валютном рынке как самая высокая и устойчивая по отношению к золоту. Во Франции проживает около 350 000 000 человек. Часть населения занята в армии, остальное население – в сельском хозяйстве и в промышленности. Во Франции выращиваются фрукты и овощи, мелкий рогатый скот, птица. Развито авто-, авиа– и кораблестроение. Совместно с Федеративной Республикой Бразилия, Франция имеет монополию на нефть. Высшая власть Ф. Р. – Совет Министров».
ООН к этому моменту распределила имеющиеся на территории государств естественные природные ресурсы и утвердила систему обязательного международного экономического обмена. Было даже установлено, сколько и на какую сумму требуется иностранных продуктов для пропитания одного человека в архосский год. (Правда, в результате применения этой системы у некоторых стран почти сразу образовался чудовищный государственный долг.)
В начале марта состоялись выборы во французский парламент (победитель среди нескольких кандидатов определялся по наибольшему числу очков, выпавших на игральном кубике, и Фурман вконец замучился, весь вечер кидая кубик и записывая результаты). Тогда же французская газета Humanité сообщала в отделе международных новостей: «Происходит ожесточенная борьба между крупными монополиями, в первую очередь между громаднейшим нефтепищевым франко-бразильским концерном “Repablik Brazil and France Oil” и Российским пищевым концерном [ «Россией» стал Пашка – после того, как враги отняли у него Германию со Швецией]. Борьба доходит до вооруженных провокаций со стороны России».
События на Архосе оказывали непосредственное влияние и на жизнь в классе. Так, Фурмана, которого с детского сада все звали Фуриком, теперь переименовали во Фрукта – в честь одного из основных производимых Францией продуктов питания и торговли. Любимый учитель экономической географии удивлялся и сердился, когда в классе начиналось хихиканье при упоминании фруктовых и овощных культур, а также крупного и мелкого рогатого скота. Стилизованное изображение яблока стало «геральдическим» знаком Фурмана на всех внутриклассных карикатурах, наравне с Пашкиной короной и Бычиными могучими рогами. (За Смирновым с легкой руки Фурмана еще раньше закрепилась «внеэкономическая», но столь же эмблематичная кличка: некоторое время он приходил в школу в такой огромной и нелепой шапке, что иначе как «шапугой» ее трудно было назвать. Головной убор Смирнов вскоре сменил, но кличка «Шапуга» осталась.)
До середины апреля продолжалась беспорядочная подковерная возня, создавались изменчивые и предательские коалиции, все бесконечно объявляли войны друг другу, так что понять, кто за кого по-настоящему, было почти невозможно. Во время уроков шел непрерывный обмен тайными дипломатическими посланиями. В одном из них, написанном на обороте четвертушечного обрывка листа с корявым заголовком «Вписаный угол измерения», анонимный автор предлагал безымянному адресату: «Мы можем продать тебе Канаду при условиях: Мы вместе нападем на Шапугу. 2. Ты не будешь драться за Власку в войне и помогать ему. 3. И заключить договор о ненападении на 3 месяца».
19 апреля в Общей Тетради зафиксировано, что «Мексика объединилась с Россией на правах автономии перед угрозой нападения Бразилии и Франции». А следующая запись информирует международную общественность о том, что 20 апреля «состоялись секретные переговоры между Россией и Францией. Результаты совещания неизвестны». Так они и остались неизвестны никому…
В апреле же в классе появились студенты-практиканты, будущие учителя: двое молодых мужчин и девушка. Довольно долго они молча сидели во время уроков на задних партах и присматривались к классу, потом, волнуясь, провели несколько занятий – не слишком удачно, надо сказать. Учебный год уже подходил к концу, все были расслаблены.
И вдруг по классу разнеслась ошеломляющая новость: будто бы Ирка Медведева написала заявление о приеме в комсомол.
Новостью тут было буквально все, даже то, что нужно писать какое-то заявление. Почему-то всем было известно, что в комсомол принимают только с восьмого класса, и большинство ребят продолжало по утрам тремя машинальными движениями завязывать пионерские галстуки, превратившиеся у многих мальчишек в едва ли не самый потертый элемент обязательной школьной формы (а какое волнение и гордость все испытывали в первое время, когда узел им еще завязывали родители и каждая шея могла ощутить прохладное шелковое веяние кроваво-огненного символа Великой Борьбы, к которой каждый вступивший в пионерскую организацию торжественно обещал быть всегда готовым…). А вот Ирка считала, что ей пора дальше. При этом как бы автоматически получалось, что она, всего лишь «первой встав в очередь», тем самым оказывалась и наиболее достойной из всех. Ее странное рвение удивляло: зачем ей нужно становиться комсомолкой именно сейчас, да еще вот так, срочно? Ведь впереди лето! Почему она не может подождать и через три-четыре месяца спокойно вступить в комсомол вместе с другими – не первой, но наверняка одной из первых? Вообще-то никто лично против Ирки ничего не имел, но неужели она всерьез считает себя самой лучшей? Ведь это не они ее выдвинули, а она сама так захотела. Слушайте-ка, может, это нужно ее родителям для оформления каких-нибудь документов на загранпоездку? Ну, тогда так прямо и сказала бы!.. По крайней мере, это было бы всем понятно. Но сама Ирка никому ничего не говорила. Она ходила с застывшей шальной улыбочкой, слегка задрав нос и не глядя по сторонам, бдительно сопровождаемая, словно больная, своей верной подругой Любкой Гуссель, которая твердо пресекала любые попытки остальных одноклассников подобраться к Ирке поближе и задать ей необходимые вопросы.
Мнения о происходящем разделились: одни пожимали плечами и, посмеиваясь, утверждали, что им все равно; другие бурно обсуждали ситуацию, постепенно переходя от смущения и сомнений к негодованию; третьи поддерживали Ирку, говоря: мол, а вам-то всем какое дело? Раз она так хочет, пусть вступает! В комсомольской организации как-нибудь сами разберутся, достойна она или не достойна!
Однако вскоре стало известно, что не все так просто: оказывается, прежде чем подавать заявление о приеме в комосомол, Ирка должна еще получить рекомендацию класса, и этот вопрос будет поставлен на ближайшем собрании. Кулуарные страсти разгорались с космической скоростью, так что даже архосские дела на время были отложены.
Фурмана все это почему-то до такой степени задело и разволновало, что он почувствовал необходимость объясниться с самим собой: почему он, Саша Фурман, так сильно – ну прямо ни в какую! – не хочет, чтобы Ирка Медведева стала первой комсомолкой в их классе? Кстати, она – в общем-то такая же пионерка, как и он сам. Она даже немного лучше учится, что для пионеров важно. Но зато он – редактор дружинной газеты, а она отвечает за какую-то ерунду в классе. Конечно, все их пионерские мероприятия – типа сбора макулатуры, торжественных линеек, конкурсов строевой подготовки и выпуска стенгазет – были чем-то не вполне серьезным, «детством». (Хотя, например, во время войны и дети могли совершать настоящие подвиги наравне со взрослыми; но глупо же из-за этого хотеть, чтобы началась новая война?..) Но комсомольская организация – это уже что-то совсем другое.
Комсомольцы были настоящими коммунистами, пусть и молодыми. (Это им не мешало, а иногда даже и помогало выполнять те задания, которые требовали ловкости и быстроты и с которыми взрослым было бы намного труднее справиться.) Комсомольцы свято верили в будущую победу коммунизма на всей Земле и вместе со своими старшими товарищами, не щадя жизни, делали все для того, чтобы приблизить эту победу.
Но ведь Ирка, как и все нормальные советские дети, тоже в это верит – или, по крайней мере, скажет, что верит (она, может, никогда и не задумывалась об этом), – ну, допустим, она по-своему, по-Иркиному, верит, что когда-нибудь в отдаленном будущем должна наступить эпоха коммунизма. И что это для нее означает – вот сейчас, в ее жизни?..
А ты сам-то думал об этом? – вдруг спросил голос честного коммуниста у него внутри. …Ну, я немножко думал, и еще Боря мне объяснял кое-что, – скромно нашелся Фурман.
Ты давай-ка отвечай по правде, не увиливай!
Ну, хорошо… Я уже сказал, что коммунизма у нас пока еще нет, он только должен наступить. Вообще-то Боря говорил, что коммунизм – это идея… Что значит «идея»? Ох, ну, идей много, разных, – это что-то вроде мечты о чем-то, о чем-то таком конкретном. Тогда что такое «идея коммунизма»? Идея коммунизма, или ее еще называют коммунистической идеей (Давай не тяни!), – это мечта о построении на Земле такого справедливого общества, где все будут относиться друг к другу как братья и где не будет ни войн, ни денег, но будет полное изобилие. Вот что такое коммунизм!
Фурман был очень доволен собой. Выходит, не такой уж он «клинический идиот, дебил и олигофрен», раз сложные Борины слова все-таки осели в нем! И вот, даже пригодились! Он их понимает!.. Но интересно, а почему тогда не все верят в коммунизм? Более того, ведь есть люди, которые не только не верят в него, но и являются его врагами. Откуда же у такой вроде бы абсолютно хорошей, доброй, справедливой идеи могут быть враги?.. То есть с главными-то врагами понятно: это богачи, буржуи, капиталисты – те, у кого есть много денег, и они, естественно, не хотят ими ни с кем делиться. Еще фашисты – с ними тоже все ясно… Раньше в России врагами коммунистов (они тогда назывались большевиками, но это неважно) были царь и те, кто за царскую власть: дворяне, помещики, белогвардейцы. Но ведь их уже давно нет? Кто же у нас сейчас враги?.. О шпионах я, конечно, не говорю. Наверное, это всякие воры, бандиты, хулиганы, пьяницы, матерщинники и прочие мелкие гады… С ними, конечно, тоже придется бороться, пока они не исчезнут.
Но Боря-то говорил, что как раз сегодня, в наше время, у коммунизма есть еще один и, может быть, самый страшный и могущественный враг – ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАВНОДУШИЕ. То есть когда людям на всё и на всех других наплевать: «ПОСЛЕ НАС – ХОТЬ ПОТОП!..» Это ЭГОИЗМ. МЕЩАНСТВО. ПОШЛЯТИНА. Тупость и глупость человеческая. Именно из-за них во все века гибли самые лучшие и талантливые люди, гении человечества. А теперь, когда есть атомные бомбы, может погибнуть и вообще весь мир! Вот против чего выступают коммунисты! И вот почему в капиталистических странах на них идет настоящая охота: их сажают в тюрьмы, убивают, они вынуждены уходить в подполье… САККО И ВАНЦЕТТИ. А ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ?! Поэтому и с нами, первым в мире государством, где правят коммунисты, идет такая борьба! Может, скоро даже начнется настоящая война. Но пока об этом лучше не думать… Конечно, у нас в стране коммунистов сейчас уже (или еще пока?) не убивают. Но если вспомнить… – «Путевку в жизнь», например, – ее, кстати, недавно опять показывали по телику. СМЕРТЬ Мустафы (слезы сами выступают на глазах)… За что Жиган его убил? Всего лишь за то, что он больше не хотел воровать, а хотел честно работать! Ну, а нынешние хулиганы и бандиты? Они что, дадут нам нормально жить? Или, может, они сами собой исправятся? Конечно, как же, исправятся они… Им и так хорошо. Нет, это вовсе не «мелкие», а самые настоящие ГАДЫ – те же самые, с которыми коммунисты сражались всегда, еще со времен Революции!
Да, и в стране, и во всем мире продолжалась жестокая, кровавая – не на жизнь, а на смерть – война за светлое будущее. И вступление во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи означало готовность перейти от прежней детской беззаботности к чему-то такому… к таким самоотверженным клятвам юности… – короче, оно означало
АБСОЛЮТНУЮ ГОТОВНОСТЬ
НЕМЕДЛЕННО УМЕРЕТЬ, ПОГИБНУТЬ,
ОТДАВ СВОЮ ЮНУЮ ЖИЗНЬ
В СВЯЩЕННОЙ БОРЬБЕ
ЗА ДЕЛО ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
…Об этом можно было только молча мечтать – как о счастье, как о высшей судьбе… И тут вдруг эта Ирка. Понятно же, что ей дела нет до всего этого. Зачем она туда лезет?! Тем более первой!.. Может, она хочет погибнуть первой?.. Впрочем, сейчас не до смеха. В Иркином намерении было что-то нелепое, несуразно-жалкое, но – видимо, из-за ее целеустремленной деловитости – не смешное, а унизительное для всех. Неужели она настолько тупа, что совсем не чувствует этого?
Кроме того, была еще и та давняя история с их игрой в «фашистов». Самому Фурману, например, сейчас было стыдно за их детскую глупость: ничего себе, придумали, во что играть, идиоты… И, между прочим, для него так и осталось непонятным, что Иркой двигало в тех ее «раздеваниях»: наивность или развратность? Дело, конечно, прошлое… Но вот ведь что интересно: она же и сегодня строит глазки и приветливо здоровается на выходе из школы с этим преступным чудовищем Абраком, который чуть ли не при ней бесстыдно грабит всех идущих мимо!.. Она даже как-то призналась, что он ей симпатичен – «не как человек, естественно, а как мужчина»… И вот теперь может так получиться, что она (по ее собственным словам, «уже вполне сформировавшаяся женщина», – дура!) будет среди них – детишек в пионерских галстуках – единственной комсомолкой?.. Фу, какая все это мерзость.
Но главное, никому бы и в голову не пришло думать об Ирке так, если бы она сама не заварила всю эту кашу. Фурман-то знает ее с детского сада, они если и не друзья, то, можно сказать, старые приятели. И он совершенно искренне не понимает, зачем она это делает и зачем идет на конфликт с большинством класса. Может, правда, это родители ее заставляют срочно вступить в комсомол?..
Фурман осторожно спросил у папы, пускают ли за границу пионеров – или надо обязательно быть членом ВЛКСМ? Папа удивился: ни о каких таких ограничениях он не слышал. Да и как бы тогда дети вообще смогли выезжать за границу? А они же ездят – участвуют в детских спортивных соревнованиях, например, да и просто с туристическими группами… Версия давления родителей отпала.
Тем временем в прежде всегда едином общественном мнении класса стали обнаруживаться некие странные тенденции. Так, откровенное равнодушие и наплевательство почему-то проявляли в основном мальчишки из «середняков» (что, между прочим, очень серьезно огорчало Фурмана, который этого от «ребят» не ожидал). Сонные двоечники (некоторые из них даже и пионерами-то не были), напротив, вдруг превратились в активистов общественной жизни и с каким-то нехорошим праздничным возбуждением выступали против Ирки, предлагая самые разнообразные, но одинаково агрессивно-неадекватные меры. Большинство девчонок Ирку осуждали, однако среди них имелись какие-то свои очень сложные групповые размежевания и схождения. Открыто за Ирку выступали вроде бы немногие. Но самым важным было то, что раскол произошел и в так называемом ядре класса.
Если Пашку, решившего «по личным мотивам» сохранять строгий нейтралитет, все же можно было понять: они с Иркой соседи, им еще рядом жить да жить, – то тайное формирование мальчишеской «партии поддержки Медведевой», которую возглавил Смирнов, было – после всех предыдущих разговоров и обсуждений – совершенно неожиданным. К Смирнову по непонятным причинам примкнул уважаемый всеми в классе Быча, а следом за ним и еще несколько менее влиятельных фигур: толстенький Влас-Колбас, рыжий Зюзя, Колеся и Миклухо-Маклай (Мишка Николаев, прозванный так в удачный учебный момент за кучерявость). С самой Иркой новая «партия» никак не контактировала (Фурман нарочно выяснял это у Любки Гуссель), выступая как бы и не за нее, а за какие-то свои особые принципы, о которых «партийцы» пока дружно умалчивали, обещая (или, может, угрожая) «всенародно» заявить о них на собрании.
Необычно нервное поведение старого фурмановского приятеля Власа, который при попытках поговорить с ним то пунцово краснел, то бледнел, обливался потом и испуганно мямлил что-то невнятное, заставило Фурмана заподозрить, что дело тут нечисто. Собственно, на эти подозрения его навел сам Смирнов, по дороге из школы как бы между прочим поинтересовавшийся, цел ли еще знаменитый секретный архив фурмановского Штаба, где он теперь хранится и давно ли пополнялся в последний раз. Фурман тогда лишь насмешливо отмахнулся, а потом задумался. Полностью исключать возможность использования Шапугой для своих целей определенного «компромата» было нельзя, и хотя Власка давно поделился всеми своими «тайнами» с друзьями, существовали ведь еще и родители… А что, если и могучий Быча оказался в сетях у Смирнова таким же образом? Да нет, конечно: скорее всего, его соблазнил какой-нибудь сложный и благородный с виду интеллектуальный аргумент, специально разработанный Шапугой для данного случая, – скажем, необходимость защиты «идеи абсолютной свободы человека» (то бишь Ирки Медведевой), о которой Быча так любит вещать в последнее время, или еще чего-нибудь в этом роде…
Быстро происходящие события, полностью заменившие собой историю Архоса, тем не менее странно пересекались с ней. Извечное архосское соперничество китайцев с вундерландцами явно продолжалось теперь на другом поле – никак иначе Фурман не мог объяснить себе причину, побудившую Смирнова, да и всех остальных всерьез желать вступления Ирки Медведевой в комсомол. Фурман уже несколько раз спрашивал себя, хорошо или нет, что Костя Звездочетов не присутствует при этом новом повороте их «игры»? Как бы он повел себя теперь? Кстати, к своему пионерскому галстуку он всегда относился с кокетливо подчеркиваемым цинизмом, слегка даже пугавшим Фурмана. И сейчас Костя, пожалуй, присоединился бы к партии Смирнова – тоже не из каких-то идейных соображений, конечно, а из свойственной ему хитроватой смутьянской вредности…
Как бы то ни было, противостояние внутри класса с каждым днем становилось все более ожесточенным, приобретая какой-то в буквальном смысле грязный характер. Враждующие стороны распускали друг о друге анекдотически порочащие, а то и прямо подлые слухи, на уроках полкласса было занято производством все хуже рисуемых и все более обидных карикатур, а на переменах «активисты» расходились по своим «могучим кучкам» и переглядывались издали, понимающе усмехаясь друг другу.
Как бы почти помимо своей воли, Фурман оказался в центре самой, наверное, необычной по составу «компании» в истории класса. Кроме разбушевавшихся двоечников, которые теперь явно пытались разом отыграться за все предыдущие годы своего неучастия в общественной жизни, о своем нежелании пропускать Медведеву первой в комсомол уже заявили подавляющее большинство девчонок и примерно четверть парней. Имеющегося количества голосов должно было вполне хватить для победы, и на этом можно было бы уже успокоиться. Но Фурман, занимавший твердую позицию и одновременно пытавшийся удерживать всех «своих» от крайностей и откровенной несправедливости, считал это недостаточным. Ему хотелось, чтобы нелепые Иркины притязания были не просто отвергнуты голосованием, без всякого объяснения причин, но, учитывая крайнюю серьезность вопроса, и она, и все в классе должны были осознать, почему все это произошло именно с ними.
Основные контраргументы «смирновцев» в общем-то были уже известны, и вероятность появления в последний момент каких-то новых убедительных и понятных для всех доводов была крайне мала. Но не такая же Ирка дура, чтобы на классном собрании объяснять свое желание поскорее вступить в комсомол «идеей» собственной абсолютной свободы? Правильно, что она держится от них подальше – такая «поддержка» может только окончательно все испортить. По-настоящему, им же нет никакого дела до Ирки и до того, что с ней будет. Для Шапуги самое главное – выступать против Фурмана. Все равно за что, лишь бы против него! А остальные просто пляшут под его дудку… Дураки.
Фурмана так и подмывало выступить на собрании с пламенной речью и расставить все по своим местам (обрывки этой не только возможной, но и уже близко подступающей к горлу речи преследовали его, сами собой вспыхивая и сгорая в его мозгу). И все же ему почему-то казалось, что это было бы неправильно. Хотя ощущаемый им огненный прилив вдохновения, скорее всего, легко позволил бы ему убедить большинство класса в своей правоте, но… – по справедливости, они должны принять верное решение сами, без такого «воздействия». И так уже слишком много чего было наговорено в последнее время…
Одной из самых яростных «антимедведевских» активисток почему-то оказалась толстая белобрысая, бесстыдно острая на язык и рано созревшая троечница Оля Пыркина. Вообще-то она считалась в классе «полухулиганкой», и вряд ли ей самой в будущем светило принятие в комсомол, но вот ведь – ее тоже задела Иркина «наглость», как она говорила. Фурману теперь приходилось довольно много общаться с ней как с «представительницей народных масс» (т. е. широкого круга девчонок-троечниц), и с близкого расстояния его удивило, что Пыркина способна не только очень трезво разбираться в происходящем, но и четко выражать свои мысли, – почему же она тогда так плохо учится и слывет «безнадежной»? Неожиданно для себя – и несмотря на постоянно выскакивающие из нее резкости и грубости – Фурман проникся к ней странной симпатией и даже зауважал ее. До этого он Пыркину слегка побаивался: была между ними одна давняя история, которую она сама, возможно, и забыла, а он все продолжал злиться и в то же время чувствовать себя виноватым.
Это была обычная для пятого класса рискованная игра между мальчишками и девчонками перед уроком физкультуры: с грубым врыванием друг к другу в раздевалки, обидным хохотом, разнообразными цепляниями-отниманиями и прочими буйными развлечениями. В тот раз девчонки-мстительницы устроили неплохую засаду на выходе из мальчишеской раздевалки – и, надо же, им попался Фурман, о-го-го! Налетев сплоченной группой, они обвили его, как паутиной, своими цепкими и не такими уж, как оказалось, слабыми ручками и поволокли – т. е. буквально понесли на руках! – в свою раздевалку. Почти до самой их двери он сопротивлялся вполне умеренно (ведь девки все же), рассчитывая, что вскоре они надорвутся и сами его бросят или уж, на худой конец, ребята его «отобьют», как не раз бывало с другими. Но почти все мальчишки были уже в зале, и только один Пашка с беспомощной самоотверженностью неуклюже скакал вокруг, а девки, наоборот, как будто взбесились: ожесточенно пыхтя, щипаясь и царапаясь, они с неожиданной ловкостью пропихнули незваного гостя через дверной проем, вызвав жуткий визг у тех, кто там мирно переодевался, и… – так, что же теперь делать с такой знатной добычей? – О! – решили запереть его (или уж ее?) в своем туалете.
Если до этого момента бедный Фурман с трудом, но мог – или, по крайней мере, старался – отнестись к творимому над ним насилию как к весьма интересному и в каком-то смысле даже почетному приключению (все-таки не каждого вот так, на руках, можно сказать, вносят прямо в святая святых, заветную цель многих устремлений), то теперь происходящее грозило превратиться в простое и совершенно недвусмысленное унижение, а может, даже и в настоящий позор (оказаться не по своей воле запертым в девчоночьем туалете – это, знаете ли…). Он решил, что ему пора освобождаться: расчетливо рванулся раз, другой и уже в полную силу – ближних придавило, они взвизгнули от боли и чуть отодвинулись, – но тянущихся рук с растопыренными когтями было слишком много. Вдобавок Пыркина так мощно наперла на него своим бесстыжим пузом, что он, споткнувшись, повалился на спину, прижав под собой несколько мелких хрупких зверюшек… В последовавшей затем кутерьме им все-таки удалось затолкать его в тесный туалет со странным чужим запахом (свет тут же погасили), но закрыть дверь до конца он им пока не позволял, удерживая ее ногой, по которой с той стороны нещадно молотили чем попало. Его охватило злобное отчаяние: зря он их жалел, вот до чего дошло, ну все, погодите же!.. Ногу пришлось убрать. С первого броска дверь почти не поддалась – видно, они там приперли ее всей кучей. Тогда он, мрачно выждав три секунды в сверкающей темноте, ударил, уже не жалея себя, как дикий зверь, как воин, как мужчина, – там ОХНУЛИ И ОТПУСТИЛИ – он брезгливо дожал и вышел. Еще не понимая, с кем имеют дело, они с хищным весельем снова двинулись к нему. «Я сейчас ударю, по правде. Лучше отойдите», – хрипло предупредил он, с видимостью спокойного гнева показав свои сжатые кулаки, но на самом деле дрожа от ненависти и страха, что они не отступят. Передние выжидающе остановились с оскаленными улыбками. Но тяжелая крупная Пыркина не побоялась: «Ух ты какой смелый нашелся! Вот я тебя сейчас!.. Хватайте его, девчонки!» Она пошла на него животом, и он с тоскливой злобой коротко ударил ее туда, во внезапно провалившуюся мякоть, кулаком. «Ай!» – жалко выдохнула она, мгновенно побелев и отшатнувшись. Он тут же сам испугался своей жестокости – какую-никакую, но девчонку, кулаком, в живот… «Ты что, с ума сошел?!» – сердито спросил кто-то. «Пропусти!» – хмуро храбрясь, он прошел сквозь краснолицую, распаренную, медленно приходящую в себя толпу девчонок и с трясущимися ногами сел на лавочку в своей пустой раздевалке. Ему хотелось только одного – исчезнуть, исчезнуть, исчезнуть куда-нибудь… Почти сразу раздался звонок. С трудом управляя разносортными, обледенело болтающимися деревяшками, Фурман проковылял в зал и занял свое место в строю.
Пыркиной на уроке не было. Две-три девчонки посматривали на него с осуждением…
Никакого продолжения эта история не имела.
И вот теперь он чуть ли не дружил – с ПЫРКИНОЙ. Чего только в жизни не бывает… Более того, чувствуя странную зависимость от нее, от ее женственности и товарищества, он именно с ней захотел поделиться сомнениями по поводу своего ожидаемого всеми – и друзьями, и врагами, – но кажущегося ему самому ненужным и даже вредным выступления на будущем собрании. Как ни странно, но Оля вполне поняла его закрученные и сбивчивые объяснения (между прочим, он их даже отрепетировал, но когда дошло до дела, застеснялся). Сначала она, конечно, очень расстроилась, а потом согласилась, что, наверное, так будет лучше. «Тебе, Сань, виднее». У Фурмана внутри все пело – она же, озабоченно прищурившись, молчала и, видимо, готовилась к тому, что теперь вся их подготовка с треском провалится и борьба окажется бесполезной…
Но Фурман-то придумал другой, неожиданный ход! На собрании с «главной речью» должна выступить именно она, Оля Пыркина, – да, вот такая, как есть, «простая троечница», «хулиганка» (только, прошу тебя, без мата) и к тому же – лицо, совершенно не заинтересованное ни в каком собственном продвижении, ведь так? Но как раз только такой человек и вправе сказать в этой ситуации простую, понятную всем, даже самым тупым, голую правду… – пардон, я не виноват, это так говорится. Нет, ты не должна быть голой – на собрании-то уж точно… Тебе никто не сможет возразить – убеждал он опешившую от его предложения Пыркину. Мы с тобой все обсудим и потом еще десять раз отрепетируем! Ты сможешь! Ты должна! Это будет правильно! Если так скажу я, то эти наши «умники» во главе с Шапугой – они тут же начнут со мной спорить о какой-нибудь ерунде. Я не смогу удержаться, стану отвечать им – получится каша, а они только этого и хотят: запутать всех нормальных ребят, чтобы уж никто не понял, о чем идет речь, вокруг чего спор, – это их единственный шанс! А с тобой они побоятся спорить! Правду тебе говорю – так и будет! Они же от тебя этого не ожидают и будут молчать в тряпочку. А когда сообразят, что происходит, будет уже поздно: все остальные тебя уже услышат! Они будут тебя слушать, потому что никто ведь не привык к твоим выступлениям на собраниях – так что наоборот, это будет очень свежо и неожиданно! Послушай, что я тебе говорю! Да никому не нужно об этом сообщать!.. И «своим» тоже. Пусть это будет наша с тобой тайна, наша секретная операция…
За день до собрания к Фурману домой вдруг приперся Шапуга. Остановившись на пороге, он сказал, что заходить не будет, но хочет задать один-единственный вопрос и получить на него честный и прямой ответ.
– Должен предупредить тебя, – с мрачной решимостью сказал Смирнов, – что сейчас очень многое поставлено на карту и от твоего ответа зависит будущее многих хороших людей…
– Знаешь, Илья, не надо меня запугивать, – сразу рассердился Фурман. – Я уже пуганый. Ты пока еще не следователь, и я на твои вопросы вовсе не обязан отвечать. Так что ты или притормози слегка, или давай попрощаемся. Завтра увидимся в школе, и там задашь мне свой вопрос. Он ведь может подождать до завтра, ничего с ним не случится?.. А-а, ну так если тебе нужно что-то узнать у меня, то ты, согласись, немножко не с того начал… Ну хорошо, короче, я правда сегодня устал, какой у тебя вопрос? Да я отнесусь, отнесусь серьезно… Только не тяни волынку.
– На самом деле я уже несколько раз тебя об этом спрашивал, – капризным голосом произнес Смирнов, – но раньше тебе всегда удавалось уворачиваться и уходить от прямого ответа. Сегодня я спрашиваю в последний раз.
Внезапно Фурман ощутил, что его собственное тело словно бы подключено к какой-то подземной электрической сети и по нему, как по пустому мешку, быстро и плотно заполняя его от ног к животу, неостановимо поднимается сухая, как песок, волна злобной напряженности, исходящей от собеседника. Фурман испугался, что, когда «заражение» дойдет до конца, до «горлышка», он совершит что-нибудь ужасное, но ничего не мог с собой поделать, а Смирнов продолжал давить:
– Имей в виду, сейчас от твоего поведения зависит очень многое.
– Ты мне это уже говорил…
– Хорошо, но я все же вправе надеяться, ты отдаешь себе отчет в том, что все висит на волоске?.. Я не хочу тебя пугать. Ответь мне только «да» или «нет»: у тебя есть досье с компроматами на кого-либо из наших ребят? Я имею в виду – из нашего класса. Да или нет? Собираешься ли ты их использовать в сложившейся ситуации? Или уже использовал? Кто именно находится у тебя на крючке?!
– Ты, кажется, собирался задать мне только один вопрос, – не удержался от кривой усмешки Фурман. (Господи! Так вот о чем он думает и в чем меня подозревает!.. Да он совсем обезумел…)
– Оставь, пожалуйста, свои шуточки для другого раза! – раздраженно попросил Смирнов. – Ну так что, ты будешь отвечать?
– Илья, я правда не пойму, ты нарочно придуриваешься, что ли? – устало спросил Фурман.
– «Да» или «нет»?
Фурман стал машинально прикидывать, что может быть дальше. Допустим, я принимаю его условия и говорю «нет». Так он ведь все равно не поверит! Ему все известно заранее… А что будет, если я скажу «да»? Непонятно… Заманчиво, конечно, еще разок поводить его за нос, но… На хрена мне это надо? Как же все-таки втемяшились в его башку эти дурацкие «досье с компроматом»… А у самого-то у него они есть? Почему он все время о них заговаривает? И слово-то какое: «досье». Сказать, что есть? Откуда они у меня могут быть? Что я, псих, что ли, – заводить эти досье? Я даже не знаю, как они могут выглядеть: папки?.. И где же я их должен держать? В шкафу, что ли?.. Тьфу, зачем мне вообще об этом думать?! Но неужели кто-то еще из ребят подозревает, что У МЕНЯ может быть что-то подобное?! Но ведь это же… предательство! Как же все это мерзко…
Таинственное «электричество» куда-то утекло само собой, и на его место пришла нарастающая головная боль. Фурман начал бессильно упрекать Смирнова в подлости и сумасшествии, а потом, чувствуя, что сейчас упадет или его стошнит, стал уже просто умолять его уйти «по-человечески». Но Смирнов еще долго стоял, как камень, не давая закрыть дверь. В конце концов, когда Фурман уже чуть не хныкал от отчаяния, он ушел – неудовлетворенный и, кажется, убежденный, что соперник опять с ним играет в какую-то игру. Ну и черт с ним! Пусть сходит с ума, если ему так нравится… А я умираю.
Распластавшись на диване, Фурман бредово прислушивался к пока еще смутному действию уже второй – спасительной – таблетки… Постепенно обручи стали разжиматься, туман рассеялся, и он вдруг понял, почему Шапуга так уперся в эти «досье». Однажды, в очень давнем разговоре, Фурман сказал ему, что было бы интересно описать их класс в каком-нибудь «художественном произведении». Смирнов спросил, собирает ли он уже материалы или говорит абстрактно, и Фурман с хвастливой глупостью ответил, что да, мол, в каком-то смысле собираю… Видно, эти слова застряли у него в голове, а уж все остальное довершила его извращенная фантазия.
Вот глупой Ирке достался союзничек-то – как нарочно! И как же он сам-то будет вступать в комсомол со своими идиотскими тайными заговорами?
Напоследок Фурман сделал попытку убедить Ирку отказаться от предстоящего обсуждения или, в крайнем случае, просто перенести его на осень: «Я тебе же хочу помочь! Как друг! Зачем ты нарываешься?..» Но она гордо отказалась от его советов.
И вот наступил день, на который было назначено собрание. После уроков рамы в кабинете приоткрыли пошире, и в ожидании появления классной руководительницы все с осторожным наслаждением вдыхали свежий уличный воздух… Точно перед смертельной битвой.
Прибежали никчемные запыхавшиеся практиканты. Зря торопились. Они даже и не подозревали, что здесь должно произойти…
Через какое-то время все начали нервно позевывать. Наконец один из практикантов отправился на поиски классной. Вернувшись, он растерянно сообщил, что начать придется без нее: она на совещании у директора и попросила его вести собрание вместо нее.
– Никто не возражает? Ну что ж, тогда давайте начнем…
Бойцы обеих армий коротко вздохнули, сели поудобнее и затихли в своих окопах.
Известная процедура развивалась по начертанному пути. Наконец ведущий предложил дать слово желающим выступить.
Староста класса, вынужденная заменить отсутствующего по болезни председателя пионерского отряда, предпочла ограничиться официальной характеристикой члена пионерской дружины Медведевой Ирины, которую вы все и так хорошо знаете. На место она вернулась под недовольное шипение публики. Да, похоже, больше ее не переизберут… Но, похоже, она задала плохой тон: вылезшие следом за ней один, другой, третий бодро промямлили что-то невнятно-оптимистичное – и если бы не знать заранее их «партийную принадлежность», то вряд ли можно было бы понять, что, собственно, хотел сообщить каждый из ораторов.
Поймав с другого конца класса возбужденно-вопрошающий взгляд Пыркиной, Фурман незаметно подмигнул ей и сделал успокоительный знак ладонью: мол, потерпи, всему свое время. Он хотел, чтобы первыми выступили «они».
– Есть еще желающие что-нибудь сказать о вашем товарище Ире Медведевой?
Ну что, кто кого пересидит?.. Он сделал «смирновцам» приглашающий жест – давайте, не стесняйтесь, милости просим, сцена свободна! Посовещавшись, они выпустили Бычу. Говорил он, против ожидания, недолго, то и дело поправляя тяжелые очки и безжалостно вертя тоненькую шариковую ручку в своих огромных ладонях, как всегда, густо испачканных с обеих сторон какими-то формулами, конспектами и загадочными татуировками. Суть его выступления вкратце сводилась к тому, что каждый человек имеет полное право делать все, что он считает нужным, и не надо ему в этом мешать. Может, оно и так, а может, и нет, но только все это получилось у Бычи как-то мимо цели: судя по неопределенной реакции, большинство вообще не поняло, к чему он клонит, но лично Бычу, как хорошего человека, все приветствовали. Практиканты тоже одобрительно покивали, скрывая покровительственные улыбки. Между прочим, один из них, самый невзрачный, оказался не комсомольцем, а членом партии. Ну, что ж, очень хорошо, пусть посмотрит! Но неужели это все, что они подготовили? Это было бы просто смешно… Вид-то у Шапуги довольно мрачный.
После следующего – и уже почти острого – выступления еще одного «смирновца», Зюзи, Фурман показал Пыркиной: пора! Вперед! Так держать!..
Она все сделала правильно, хотя и не так красиво, как ему представлялось в воображении, – более растрепанно (забыла сказать некоторые важные вещи, а кое-что добавила от себя)… Зато так получилось естественнее – и правда, вполне по-пыркински! Класс заволновался. Стали брать слово девчонки, одна другой резче. Практиканты заметно растерялись, а когда попытались вмешаться с миролюбием, было уже поздно – покатился праздник без взрослых. Фурмановское «итоговое» выступление – с обращенными к Ирке объяснениями, самокритикой и критикой неназванных провокаторов, тщетно хотевших расколоть классное «общество», – лишь чуть притормозило, но не остановило всеобщего подъема. Дали слово двоечнику, и он своей нелепой клоунадой вызвал дружный хохот. Даже примолкшие было и опечаленные «смирновцы» тоже невольно заулыбались. Что ж, не такие уж они и плохие ребята, в конце концов. Ну, ошиблись… Победа! Победа была рядом!
Дошло дело до голосования. Переглядываясь, возбужденно хихикая и демонстративно загораживаясь друг от друга, все черканули что-то в своих листочках, быстренько сложили их и поскорее сдали специально назначенным людям. Те понесли собранные пачки на переднюю парту и начали считать там голоса, а изъявивший свою волю народ пока тревожно отдыхал в торжественной тишине.
Но вдруг, не дождавшись подведения итогов, Ирка сорвалась с места и вылетела из класса, громко хлопнув за собой дверью. Нервы у нее все-таки не выдержали… Следом за ней, забрав ее портфель и выкрикнув: «За что вы ее так обидели?! Что она вам всем плохого сделала?!» – побежала Любка Гуссель. Фурман почувствовал мгновенный укол вины, стыда и жалости: действительно, бедная Ирка… Но… Он сжал зубы. В общем, зря она полезла на рожон… Практиканты тут уже просто выпали в осадок. Девушка заметно сердилась, ведущий собрание сидел с растерянной улыбкой пассажира, опоздавшего на поезд, а по виду бледного коммуниста ничего нельзя было сказать (правда, он пару раз озабоченно взглянул на часы).
Объявили итоги голосования. Неожиданным в них оказалось лишь то, что «смирновцев» было чуть ли не вдвое больше, чем голосов, поданных «за». Видно, переметнулись в последний момент… Что ж, вот и все. Пора по домам.
Загремели стулья и закрываемые рамы, и все в каком-то странном изнеможении вяло потянулись к выходу. Неужели это недавно пережитый праздник их всех так опустошил?.. Впрочем, собрание-то продолжалось три с половиной часа, а ведь все без обеда…
Собравшись с силами, Фурман аккуратно подрулил к Пыркиной и поблагодарил ее как бы от всего класса и от себя лично – она того заслужила. Хорошая оказалась девчонка… А вообще-то ему очень хотелось пойти домой одному, без провожатых. Что он и сделал (правда, для этого пришлось пилить кругом, через Каляевскую, и еще слегка наврать что-то кому-то).
Ирка не появлялась в школе неделю. Пашка сказал, что она болеет – вроде бы по-настоящему, без обмана, с температурой. Потом она вышла, как будто ничего и не было. Ну, поболела и выздоровела. Все нормально.
Фурман нарисовал серию красочных карикатур в честь посрамления Шапуги и его прихлебателей. Они ему чем-то ответили, и больше никто об этом вроде бы не вспоминал.
Но с игрой в солдатики что-то случилось. Во время какого-то очередного, но уже очень жесткого и грубого «межпланетного» спора на переменке правитель Ялмеза Сашка Дрожжин, все предыдущие годы скромно державшийся в тени, вдруг с яростным презрением крикнул Фурману: «А ты давай, заплачь еще из-за солдатиков – вон, у тебя уже и слезки на глазах выступили!..» Фурман был так изумлен, что и вправду почувствовал наворачивающиеся слезы, – быстро огрызнувшись, он сбежал в туалет и умыл лицо. Конечно, он был очень расстроен, но не до слез же?.. Неужели они могли его так довести? С чего бы? Что это с ним происходит? Наверное, он просто слишком расслабился…
Последняя запись в Общей Тетради гласит:
11 мая. Всеобщая аппатия… Везде царит разруха. Никто не выходит на работу. Резко повысилось число самоубийств. Во многих провинциях начался голод.
Над Архосом рядом с Солнцем уже сияет ослепительная огромная звезда. С каждым днем она приближается.
Наступают последние дни Архоса.
Проверки на дорогах
I. Ояврик
По телевизору несколько раз показывали детский художественный фильм про чукотского мальчика, который вместе со своими родителями-оленеводами кочевал по бескрайней тундре. Однажды кто-то из взрослых в шутку подарил ему волчонка, случайно уцелевшего после массового отстрела обнаглевших хищников. Несмотря на определенные сомнения окружающих, волчонок быстро одомашнился и получил странно звучащее чукотское имя Ояврик. Так они и росли вместе. «Ояврик! Ояврик!» – то и дело звал мальчишка.
Потом мальчику подошло время учиться, и его на вертолете (до которого еще нужно было добираться сколько-то суток на оленьей упряжке) отправили в город, в школу-интернат. После отъезда друга у Ояврика, превратившегося в огромного умного волчару, начались серьезные жизненные трудности – как, впрочем, и у самого мальчика, столкнувшегося с совершенно непонятными ему городскими нравами. Отдельные эпизоды фильма, связанные с жестокостью по отношению к животным или показывающие интернатское глумление над простодушным мальчиком, даже при повторном (от нечего делать) просмотре заставляли фурмановские глаза печально увлажняться…
У них в классе тоже был изгой – тихий, нелепо изогнутый, с нелепой картавой отчетливостью выговаривающий неуместно-интеллигентные фразы… Он был последним, поздним ребенком из хорошей семьи: двое его старших братьев с отличием закончили эту же школу – и он тоже старался в меру сил, делал дома уроки, хотя его и к доске-то почти не вызывали. В классе к нему давно привыкли и в свое время даже в пионеры приняли: мол, все равно он «наш», «наш дурачок». А в общем-то, никому и дела до него не было. Никому – кроме Смирнова.
Начиная где-то класса с шестого, он стал почти на каждой переменке приставать к этому беспомощному существу, устраивая целые представления и собирая на них падкую на ярмарочные развлечения мальчишескую публику. Это могло быть и публичным «интервьюированием» прижимаемого к стенке дурачка, вызывавшим у зрителей гомерический хохот, и чем-то, больше похожим на допрос без применения силы, и просто презрительным поддразниванием, переходившим в откровенно унижающие формы «борьбы». До настоящего битья дело никогда не доходило, но зато особым спросом пользовались моменты, когда жертву удавалось-таки расшевелить и довести до стадии «благородного возмущения» – тут уж на беднягу набрасывались всем скопом, и возникала замечательная «куча-мала», прерываемая только звонком на урок. Помятый, взъерошенный дурачок вылезал из-под груды тел и с видом старенькой больной обезьянки озабоченно потирал придавленные члены.
Как-то ему три дня подряд во время возни отрывали белый накладной воротничок с пиджака. Это, конечно, было уже слишком: на ближайшем собрании его родители пожаловались учительнице на развернувшуюся в классе травлю, однако при разбирательстве выяснилось, что он так и не выдал никого из своих постоянных обидчиков. Пару раз он был на грани слез – и тем не менее все это измывательство как бы входило в рамки его терпения, не становилось для него чем-то непереносимым. Его неспособность разгневаться или хотя бы обидеться на своих мучителей даже могла вызывать раздражение.
У маленького изгоя были светлые, чуть кудрявящиеся волосы, странно густые черные брови, крючковатый нос и печально-овечий взгляд полуприкрытых веками серых глаз. Смирнов, который, как видно, тоже посмотрел фильм про дружбу чукотского мальчика и волка, почему-то присвоил ему кличку Ояврик (в этом имени действительно слышалось что-то совсем не волчье, а скорее уж овечье: «ая-а-а-а-врик!» – издевательски блеял Шапуга на переменках).
Фурман, считавший важным поддерживать в классе остатки «традиционного морального порядка», иногда сердито вмешивался в эти нехорошие Шапугины развлечения. Особенно его вывела из себя история с отрыванием воротничка – в конце концов, пришивать-то его приходилось родителям, а смирновской маме тоже вряд ли бы понравилось, если бы ему каждый день по новой отрывали рукав пиджака или воротник на рубашке. Публично прозвучавшая угроза подействовала на «загонщиков» отрезвляюще, и таких отчетливых следов они больше не оставляли.
Но наиболее устраивающим всех способом временной приостановки «террора» оказались немедленные ответные силовые действия добровольных сотрудников из «полиции нравов» и организация веселой общей потасовки. Постепенно участие Фурмана в потехе сделалось не только обычным, но и необходимым, а жертва стала играть роль всего лишь «приманки для тигра».
Между прочим, пухлый Смирнов, даром что был по-прежнему освобожден от физкультуры, в последний год стал заметно уплотняться и наливаться какой-то квадратной чугунной тяжестью, так что любая «возня» с ним превращалась в проблему. Когда он упирался, сдвинуть его с места можно было только с разбегу. Шапуга умело использовал это свое тяжеловесное качество, непробиваемой спиной-стеной загораживая от Фурмана главное место действия.
Так оно и шло. С годами Шапуга становился все изощреннее, Ояврик – все глупее, а большинство мальчишек – грубее и бессердечнее… Это был уже восьмой класс. Об Архосе и не вспоминали. В очередной потасовке – третьей по счету за этот день – Фурман остался в одиночестве, все его верные соратники с половиной Шапугиной братии помчались в буфет, но пара мелких усердных палачей продолжала гнуть, давить и пинать и без того растерзанного Ояврика, пока сам Смирнов обеспечивал им прикрытие «в воздухе и на земле». Фурман уже замучился бесконечно пробивать эту мягкую передвижную стену и от бессилия начал злиться. «Ладно, кончайте! Я уже не играю! Отпустите его! Хватит!» – крикнул он через плечо Смирнова, но это не подействовало. Наоборот, предвидя конец, парни заторопились и, как видно, слишком сильно завернули руку бедному Ояврику: обычно он с молчаливым пыхтением претерпевал любые экзекуции, а тут коротко вскрикнул.
Фурман рассвирепел и кинулся на штурм. Проклятая жирная серая стена-спина не поддавалась, он замолотил по ней кулаком, словно по двери, – она только поежилась, как от щекотки. Не оборачиваясь, Шапуга неожиданно попытался схватить досаждающую ему мушку и раздавить ее об свою спину. Прием почти удался: устало распахнутый фурмановский рот вдруг оказался прижатым к грязной мерзкой плотно набитой материи – задохнувшись, он с внезапным наслаждением по-бульдожьи вцепился всей пастью во вражескую плоть. Конечно, это было нечестно и дико, но вполне заслуженно: «Ай!» – громко крикнул Смирнов, вскидывая руки и быстро освобождая дорогу. Разобраться с остальными уже не представляло труда, хотя попытки сопротивления продолжались до самого звонка на урок.
Через несколько дней класс проходил диспансеризацию в детской поликлинике. Во время осмотра на спине у Смирнова, прямо над лопаткой, обнаружилось отчетливое лиловое клеймо из двух неровных точечных полумесяцев – Фурман даже испугался: ведь это сквозь пиджак, рубашку и майку! Небось бедному Шапуге было ужасно больно… «Что это у тебя тут такое?» – брезгливо спросила врачиха, и Смирнов с ироничным возмущением сказал, что его покусали одноклассники. «Черт знает что! Совсем уже одичали?!» – пробормотала она. Присутствующие слабо захихикали.
Смирновская мама каким-то образом тоже узнала про шрам и на ближайшем родительском собрании интеллигентно выразила свое недоумение Басе Иосифовне. «Сашка, ты совсем с ума сошел, что ли? – недоверчиво спросила мама, вернувшись. – Это правда, что ты искусал Илюшу Смирнова?» Оскалившись, Фурман сказал, что правда, но только мясо было очень жирное и вдобавок с грязным пиджаком. Но – на войне как на войне…
II. Серебряные коньки
Прерванная игра в солдатики в восьмом классе уже не возобновилась. Пустота требовала заполнения, и осенью в среде бывших государственных деятелей возникла идея объединения в некий закрытый клуб, деятельность которого способствовала бы взаимному просвещению его членов, поскольку их познавательные потребности и интересы возмутительно не удовлетворялись школьной программой. Актуальность этой идеи подтверждалась тем, что уже много лет регулярно отмечавшиеся в узком кругу дни рождения в последнее время стали приобретать какую-то пародийно-гибридную форму «научных заседаний» – с заранее подготовленными застольными докладами и дискуссиями, перемежаемыми лимонадными тостами. Пора было придать всему этому более органичный и разумный вид. Название тайной элитарной организации предлагалось соответствующее: «Birthdays Club» («Клуб дней рождений»). Однако благородное начинание, вызвавшее поначалу немалое возбуждение в некоторых умах, почему-то тихо увяло после первых же организационных собраний.
Ближе к Новому году в классе сложилась другая небольшая компания, без лишних слов возродившая уже почти забытую традицию совместного катания на коньках.
Благодаря папиным усилиям, Фурман довольно рано научился уверенно держаться на льду. С самого начала они стали ходить не на «дикую» бугристую площадку в детском парке, а на относительно ухоженный стадион рядом с Селезневскими банями: там была уютная теплая раздевалка с буфетом, и места на льду обычно хватало всем. Несколько раз ездили на пробу и в другие места – например, в Центральный парк культуры имени Горького, где можно было кататься не только на огороженном круге, но и по залитым аллеям вдоль набережной. Правда, народу там везде было полным-полно, и двигались все так хаотически, что рябило в глазах и невозможно было расслабиться.
Папа надевал коньки только в первые годы фурмановского катания, а когда дело дошло до клюшки с шайбой, он уже просто «стоял на воротах», замерзая и смешно поскальзываясь на льду в своих единственных выходных ботинках.
В классе хоккеем увлекались почти с тем же рвением, что и футболом. Всеобщим излюбленным развлечением было разыгрывать матчи с участием лучших советских команд (ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Крылья Советов»): все брали себе фамилии известнейших игроков и сражались под пародийный комментаторский «голос Николая Озерова», который непрерывно «транслировался» несколькими признанными мастерами этого жанра. Интонации этого голоса были настолько у всех на слуху, что каждый дурак мог на ходу выкрикивать собственные дополнения к «основному тексту».
Как ни странно, но на ледовой площадке в детском парке порой происходили и встречи третьеразрядных взрослых команд – чаще всего, соседней типографии «Красный пролетарий» и какой-нибудь другой фабрики или завода. Команды эти состояли в основном из тяжеловатых мужиков средних лет, наряженных в полусамодельную хоккейную форму. Играли они неуклюже, грубо и бестолково и во весь голос орали друг на друга матом, хотя кругом было полно детей.
В одном из таких не слишком интересных матчей, который мальчишкам пришлось пережидать, перебрасываясь шайбой на главной аллее, упавшему на лед игроку случайно коньком выбили глаз. Дополнительный ужас заключался в том, что среди немногочисленных зрителей и болельщиков оказалась жена пострадавшего – начались рыдания, вопли, угрозы… Потом шатающегося мужика с окровавленным лицом под руки провели мимо мальчишек к въехавшей прямо в парк машине скорой помощи – и после этого случая впечатлительный Фурман перестал кататься на коньках, ограничиваясь «пешим» хоккеем с Пашкой Корольковым у него во дворе.
Теперь же ему пришлось, как он говорил, «вспомнить молодость»: на антресолях раскопали слегка заржавевшие Борины «гаги», примерили их младшему Фурману, наточили, и он снова вышел на лед – уже без всякого хоккея, а просто ради удовольствия.
Поскольку старенький стадион на Селезневке закрылся на ремонт, для вечерних гуляний был выбран платный каток «Динамо» на Петровке. Фурману там не очень понравилось из-за постоянно возникавшей беспорядочной толчеи, но в любом случае это был самый близкий из приличных взрослых катков.
Общий сбор «пятерки» был, как обычно, назначен у Фурмана, однако явились в тот вечер только двое: узколицый, напряженно-манерный Колеся и могучий весельчак Быча, с которым Фурман стал все теснее сходиться после крушения Архоса, – остальные отказались в самую последнюю минуту. Слегка заскучавший Фурман попытался отменить прогулку (Быча с Колесей представлялись ему, мягко говоря, не слишком сочетающейся парой), но ребята настояли: погода, мол, что надо, да и раз уж мы пришли…
Несмотря на действительно сказочную погоду, каток оказался полупустым, поэтому после двадцатиминутного элегантного накручивания кругов «на скорость» решили поиграть в салочки. Когда людей бывало побольше, чем сейчас, зануда Фурман старался всячески задавить это естественно возникавшее «детское» предложение: все-таки они были уже достаточно большими парнями для того, чтобы беспорядочно носиться по льду и мешать всем тем, кто мирно двигался в основном течении. Но сегодня, по его мнению, «было можно». И они принялись гоняться друг за другом, маскируясь под «посторонних» в реденьких компаниях катающихся, прячась за многоствольными фонарями, утопающими в свежих сугробах, или убегая в дальний угол площадки, отгороженный от основного круга строительными вагончиками…
Спасаясь от приближающегося Колеси, но еще сохраняя остатки «невидимости», Фурман на корточках медленно перемещался вокруг широкой снежной насыпи под фонарным столбом. Положение было отчаянное: ни спрятаться, ни отступить, в нескольких метрах за спиной – только высокая металлическая сетка забора. Сняв шапку, Фурман осторожно выглянул из-за своего укрытия. Колеся стоял совсем рядом, но как раз в этот момент отвернулся: что-то привлекло его внимание на другой стороне катка. Пригнувшись, Фурман помчался в обход снежной кучи, собираясь вырваться на простор и на полной скорости затеряться где-нибудь там, где Колесе его уже не догнать… – правда, для этого ему пришлось двигаться против «правильного» течения, которое, как назло, именно сейчас и именно здесь неожиданно сгустилось. Он еще не успел как следует разогнаться, поэтому сумел кое-как объехать двух ковыляющих малышей и ловко увильнул от рассердившегося пожилого мужчины, после чего предупредительно-угрожающим криком заставил испуганно расступиться нетвердо стоящую на льду парочку. Все это было очень нехорошо, но впереди уже появился просвет. Фурман специально побежал по самому краю льда, распиливая правым коньком слежавшуюся снежную пыль, – никто из нормальных людей не стал бы здесь ехать, – но тут кто-то маленький, повернувший голову назад, вдруг выскочил из-за поворота, Фурман попытался тормознуть, выставив вперед руки, – поздно! – оба свернули в одну сторону, врезались и повалились в снег. Причем Фурман, как более тяжелый и двигавшийся с большей скоростью, оказался сверху.
С испуганной быстротой поднявшись на ноги, он наклонился к лежащему:
– Я тебя не ушиб?.. Извини! Тебе помочь? – В момент «аварии» он решил, что сбил маленького ребенка, но перед ним лежал на спине мальчишка всего года на два младше его. Кажется, он был цел и невредим, хотя на лице у него застыло крайне недовольное выражение. Вообще, в этом лице имелась какая-то неуловимая странность: вполне по-детски неопределенное, оно одновременно могло показаться и каким-то очень старым, заношенным, морщинисто прокуренным, – особенно вокруг темных глаз, которые смотрели на Фурмана так пристально, что он забеспокоился. Может, это взрослый карлик? Да нет – просто такая кожа… Наверное, именно так должен был выглядеть Мальчиш-Плохиш…
Успокоенно выдохнув, Фурман дружески поддержал заворочавшегося парнишку «под локоток»; тот неловко встал, оказавшись ему по грудь, отряхнулся, и вдруг откуда-то – Фурман даже оглянулся, сперва не поверив своим ушам, – из его маленького, страдальчески искривленного ротика началось какое-то чудовищное извержение матерной брани, а потом, доведя себя до остервенения, он еще и ткнул растерянно застывшего Фурмана кулаком в живот – т. е. уже просто полез драться!.. Конечно, бить его в ответ Фурман пока не стал, хотя и был очень удивлен и обижен таким наглым напором. Все еще признавая за собой вину за их столкновение, он зажал мальчишке руки и попытался вразумить его: «Ты чё, сбесился?! Я же тебе сказал «извини»?!» Но бешеный коротышка продолжал дергаться и с пеной на губах выплевывать какие-то свои дикие угрозы. В конце концов Фурман с брезгливой силой оттолкнул его и уехал.
Настроение было испорчено. Растерянно хмурясь, Фурман выехал на открытое место и помахал руками, объявляя перерыв.
В гулкой пустой раздевалке Быча с Колесей стали по очереди травить анекдоты (вот тебе и раз, ну прямо спелись, как два соловья, кто бы мог подумать…), а Фурман с застывшей отстраненной улыбкой выжидал, не уйдет ли охватившая его ледяная тоска сама собой. Не дождавшись, он невпопад предложил на сегодня закончить, но ребята возмутились: ты что, такая погода и вообще так отлично, да мы только-только разгулялись!.. Все, хватит сидеть, пошли кататься!
Пришлось снова выходить под незряче-черное, ослепленное резкой искусственной подсветкой зимнее небо – но как раз в этот момент, словно по чьему-то утешительному заступничеству, из его темного, растерянно отпущенного подола просыпалась и с бесконечно нежной задумчивостью начала оседать в замершем от ласки воздухе сверкающая и пушистая праздничная мишура… С блаженными улыбками проплавав с минуту в этом волшебно-замкнутом образе вечного тихого счастья и не без усилия отведя глаза от гипнотического падания измельченных в мохнатую труху небес, они посчитались, кому сейчас водить, и разъехались.
Фурман, которого периодически сотрясали приступы дрожи, охватившей его еще в теплой раздевалке, сразу направился за вагончики, намереваясь постоять там немного, потянуть время и хоть чуть-чуть собраться с силами. Обогнув крайний вагончик и с разгону вкатившись на отгороженную неосвещенную часть площадки, переходившую в совсем уж темные служебные дворики стадиона, он по инерции вынужден был проехать сквозь неизвестно откуда взявшееся здесь скопление мальчишек, – до этого, да еще и в таком количестве, их на катке вроде бы и не было. Некоторые – с клюшками, кто-то – вообще без коньков, они кружились, то и дело сбиваясь в небольшие кучки, внезапно разлетаясь и вновь ненадолго собираясь вокруг каких-то неуловимых центров. «Может, у них тут секция? Занятия кончились?..» – озадаченно подумал Фурман, отметив при этом несколько странно острых, насмешливо-внимательных взглядов, брошенных в его сторону.
Такой ничем не мотивированный интерес Фурману сразу не понравился, однако все надо было делать спокойно, тем более что выход отсюда был только один. Развернувшись и притормозив, он встал спиной к вагончику, затем с показной невозмутимостью достал из кармана носовой платок (кстати, уже весь мокрый), нашел на нем свободное местечко, посморкался, тщательно вытер нос, сложил платок и – как будто только за этим сюда и приезжал – неспешно тронулся к выходу, с неожиданной радостью подумав про Бычу с Колесей: ладно уж, придется побегать…
В тот же миг, словно учуяв его мысли, из-за крайнего вагончика появилась знакомая гибкая фигура Колеси. Фурман машинально остановился: а вдруг он – «вода»?.. – и сразу пожалел об этом. Колеся, конечно, тоже его увидел, но не кинулся к нему, как должен был бы поступить водящий, а замер на месте. Потом он с подчеркнутой осторожностью посмотрел назад, в сторону большого круга, как бы опасаясь преследования.
Значит, «сала» – Быча?..
Колеся медленно кивнул Фурману и сделал приглашающий жест: мол, все спокойно, можешь приблизиться… Но какая-то «кукольная» жесткость его демонстративно-успокоительных движений заставляла Фурмана не верить ему: ведь могло быть и так, что Колеся просто хитрил, желая подобраться к нему поближе.
Фурман отрицательно покачал головой и потихоньку начал откатываться назад, готовый в любую секунду рвануть в сторону. Колеся сделал удивленное лицо, а потом обиженно махнул рукой: мол, не веришь, ну и ладно! Я тогда поехал!..
Тут Фурмана пихнули в спину. Испугавшись, что опять наехал на кого-то, он начал поворачиваться, но вдруг получил тяжелый удар по затылку (хорошо еще, что родители заставили его надеть толстую меховую ушанку), и одновременно спереди его резко толкнули в грудь. От каждого из этих ударов он должен был бы упасть, но они самортизировали друг друга, и он – с трудом, но все-таки устоял на коньках. Это во многом решило дело: дополнительные тычки, посыпавшиеся на него с разных сторон, были уже не столь болезненными, и вскоре энергия первой внезапной атаки иссякла.
Сколько всего было нападающих, Фурман так и не понял: в непосредственной близости кружили трое или четверо, и кто-то еще, возможно, находился у него за спиной. Оглянуться он не успел: спереди на него стал наскакивать какой-то наглый мелкий шибздик с непокрытой головой и в нелепо элегантном белом шарфе, обмотанном вокруг шеи, а сзади чьи-то крепкие руки предусмотрительно взяли его в кольцо на уровне груди. «Стой спокойно! Не дергайся!» – насмешливо посоветовал голос из-за спины…
Нечто подобное Фурману не раз доводилось наблюдать со стороны (видимо, это была стандартная тактика многих хулиганских стай): вперед выпускали маленького шакала, задачей которого было спровоцировать жертву на сопротивление и вызвать «ответную» атаку всей банды.
Пока Фурман не испытывал ни особого страха, ни злобы. Главной его заботой было сохранять вертикальное положение: упади он на лед, – и его могут просто случайно зарезать коньками… А ту возню, которая происходила между ним и шибздиком, даже нельзя было назвать настоящей дракой: несмотря на сковывающий обхват сзади, Фурману удавалось мягко сдерживать почти все агрессивные движения коротышки, лишь иногда защищаясь локтями от попыток маленьких настырных кулачков пробить его в корпус или дотянуться до лица. Кроме того, пару раз ему пришлось увертываться и закрываться коленом при угрозе удара ногой в пах. Проделывая все это, он упорно ловил своим взглядом яростно выпученные глаза дикого мальчишки и непрерывно убеждал его остановиться и сказать, чего ему надо: «Не старайся – я не буду с тобой драться! – запыхавшись, твердил он. – Видишь, у тебя все равно ничего не получается! Ты лучше объясни словами, из-за чего вы ко мне пристали?!»
(Необычное поведение Фурмана было следствием его недавнего разговора с Борей: они как раз обсуждали различные способы защиты от хулиганов, и Боря усиленно рекламировал изобретенный им новейший прием рукопашного боя. Как всегда, братское наставление вылилось в целую лекцию, а банальная ситуация мордобития предстала сложнейшим мировым явлением.
Тот, кто желает приступить к мордобою, учил Боря, прежде всего должен заставить своего будущего противника заговорить с ним на одном и том же «ритуальном языке драки». Элементами этого древнейшего языка являются обмен оскорбительными выражениями, принятие угрожающих поз, взаимное пихание в грудь и прочие «вступительные номера», без которых на самом деле не может начаться ни одно единоборство. Суть нового приема как раз и заключалась в том, чтобы, не поддаваясь собственному вполне естественному желанию ответить «ударом на удар», навязать агрессору иную модель поведения: так сказать, «не-драку».
Одним из сильнейших внешних раздражителей для человека является речь, утверждал Боря. Она отменяет или по крайней мере тормозит действие всех прочих раздражителей. Невозможно серьезно беседовать с человеком на какие-нибудь отвлеченные темы и одновременно драться с ним же на кулаках… К сожалению, в жизни еще достаточно часто встречаются ситуации, которые можно квалифицировать как абсолютно бесчеловечные. Попадая в такую «бесчеловечную» ситуацию, ты всегда оказываешься перед выбором: либо действовать по принципу, выраженному в известной поговорке «с волками жить – по волчьи выть», то есть так же бесчеловечно, как твои противники; либо, несмотря ни на что, продолжать вести себя с людьми – какими бы они ни были – по-человечески, а не по-звериному. При этом эффект может быть совершенно поразительным: ведь продолжая разговаривать с людьми на человеческом языке, ты как бы помимо своей воли неизбежно разрушаешь саму эту «бесчеловечную» ситуацию! Даже если твой противник не остановится сразу, а будет по-прежнему с чудовищным упорством хотеть почесать об кого-нибудь кулаки, ему очень скоро наскучит с тобой возиться. Он будет вынужден просто-напросто сбежать от тебя, как от чумы, – ведь ты не даешь ему осуществить его желание!..
Боря считал свой прием совершенно неотразимым: не раскрывая подробностей, он сообщил, что уже несколько раз применял его на практике. «Могу тебе дать стопроцентную гарантию, что никакое мордобитие при этом не сможет продлиться сколько-нибудь долго! В крайнем случае, ты просто лишишься парочки лишних зубов… У тебя ведь их и так слишком много?..» – «А ты-то как же? Остался без зубов?» – обиженно парировал младший Фурман. – «Я – нет. А ты – посмотрим», – холодно отвечал Боря, завершая лекцию.
И вот теперь Фурману представилась отличная возможность проверить действие Бориного рецепта на своей шкуре… Правда, и выбора особого у него не было.)
Краем глаза Фурман пытался уследить и за остальными, кружившими пока на некотором расстоянии. То ли они привычно рассчитывали, что наглый коротышка самостоятельно разделается с очередной обескураженной жертвой, то ли ожидали какого-то более очевидного сопротивления, чтобы броситься на помощь своему «обиженному» шакальчику… Однако случилось нечто неожиданное: противного малыша в конце концов ужасно утомила эта вязкая безуспешная возня, да и нестандартное поведение жертвы, вероятно, как-то разрушительно повлияло на его первоначальное психическое состояние, – короче, они с Фурманом расцепились…
Как только бедный коротышка отступил на безопасное расстояние (вид у него при этом был не просто разочарованный, а какой-то постыдно раздавленный: возможно, это вообще была первая неудача в его отлаженной «практике»), руки, «страховавшие» Фурмана сзади, были убраны, – но секунду спустя он получил внушительную «прощальную» затрещину. Пошатнувшись, он развернулся с такой неуклюжей быстротой, что стоявший у него за спиной высокий худой автор подзатыльников в испуге отпрыгнул от него, словно кенгуру или большущая обезьяна, и резво засеменил по льду черными ботинками.
– Спокойно! Спокойно! Только не надо меня бить! – весело проговорил он, остановившись и примирительно выставив ладони.
Выражение добродушной озабоченности, застывшее на его лице, заставило Фурмана растеряться. Неужели этот здоровый парень вправду опасался, что его бывшая жертва, вооруженная страшными острыми коньками, тут же набросится на своего обидчика?
Да, драки что-то не получалось…
Фурман огляделся.
Неподалеку двое хулиганов сторожили Колесю: припертый к стенке вагончика, он держал напряженную боксерскую стойку и был бледен как мел. Однако, судя по спокойным позам его охранников, никаких проблем с ним не возникало – наверное, он просто нервничал…
У въезда на площадку Фурман обнаружил Бычу: без очков тот был особенно похож на огромного, поднявшегося на дыбы и презрительно осматривающегося медведя, удерживаемого кучкой мелких шавок. «Стоять, толстый! Стоять, сука, не то хуже будет!» – задорно потявкивали они своими тоненькими голосами.
Пока за обоих приятелей можно было не слишком беспокоиться: хотя они и находились «под арестом», бить их вроде бы никто не собирался. Серьезному нападению подвергся только Фурман… Поскольку до сих пор у него не потребовали ни денег, ни чего-либо из вещей, единственным разумным объяснением происходящему была месть за его столкновение на катке с тем первым коротышкой. Видно, тот оказался членом какой-то местной банды и пожаловался своим: мол, наших бьют! А уж они, как водится, среагировали на этот клич совершенно автоматически и накинулись всей стаей… То, что сам Плохиш при этом не показывался, в принципе могло подтверждать версию Фурмана: ему наверняка посоветовали временно не высовываться, и он с удовольствием наблюдал за спектаклем из-за чьей-нибудь широкой спины, – Фурман даже мог примерно предположить, где и за кем он скрывается…
Между тем неудача второго коротышки довольно неожиданно отразилась на настроении остальных членов банды. Так, жутковатая пара старших хулиганов, в неугомонной злобе круживших поблизости, теперь обменивалась язвительными матерными замечаниями в адрес опозорившегося провокатора; еще один большой парень поддержал их, метко прокомментировав случившееся грубой шуткой, после которой многие стали отворачиваться от коротышки, пряча лукавые усмешки, а кто-то, на скорости проехав мимо временно оставшегося не у дел Фурмана, неожиданно подмигнул ему. Вот это да!.. Выходит, что и среди «своих» малыш пользовался не слишком большой симпатией… Фурмана вдруг пронзила жалость к этому несчастному уродливому существу, которое вдобавок так вычурно украсило себя «вещью благородного человека» – явно с чужого плеча… А может, этот шарф и вправду был бандитским трофеем?! Всякое сочувствие тут же испарилось, и Фурман погрузился в кошмарные и даже отчасти эротические представления о том, как был добыт белый шарф…
Тем временем подвергнутый осмеянию и окончательно обозленный коротышка решительно направился куда-то в темноту. Почти сразу все остальные как-то странно притихли.
– Опять, небось, к /…/ жаловаться побежал, сучонок… – с ненавистью пробормотал один из старших.
Кому именно вознамерилось ябедничать мерзкое существо, Фурман не разобрал, но, с усталым любопытством присмотревшись к его возможной траектории, он обнаружил коротышку стоящим возле какого-то одноэтажного деревянного домика, пустое крыльцо которого неизвестно зачем освещалось единственной на всю округу тусклой желтой лампочкой.
Рядом с малышом находился еще кто-то, кого раньше там вроде бы не было. Вероятно, этот человек недавно вышел из домика… хотя все его окна и прежде были черны. А может, его просто скрывала тень… Но что он там мог делать, в полной темноте? Человек сохранял странную неподвижность, точно был статуей, малыш же по-детски бурно жестикулировал, расхаживая перед ним по снегу, и даже несколько раз топнул ногой, как бы проявляя свое крайнее недовольство, – расстояние было слишком велико, чтобы услышать, о чем они говорят.
Фурману все же удалось заметить, что человек время от времени совершает мягкие, почти не улавливаемые глазом движения: медленно переместил тяжесть с одной ноги на другую, пошевелил плечом; более того, вдруг оказалось, что он курит!.. Постепенно, благодаря этим едва заметным шевелениям, его фигура как бы сфокусировалась – и Фурман наконец испугался.
Ведь коротышка побежал жаловаться на своих же ребят. И тот, к кому имело бы смысл обращаться с подобной жалобой, по определению не мог быть обычным хулиганом. Более того, вряд ли он был и «вожаком» здешней хулиганской стаи. Не зря же он стоял там, скрываясь от всех. И не зря все вокруг так притихли…
Один из старших жестко цыкнул на парочку мелких пацанов, беззаботно веселившихся у него под боком, – он-то, похоже, знал (или тоже только догадывался), чего можно ждать от этого покуривающего в темноте молодого бандита, юного громилы с вкрадчивыми – и узнаваемыми каким-то русским чутьем – повадками Вечного Уголовника (пожалуй, рядом с ЭТИМ «парнем» даже наводящий ужас Абрак мог бы показаться мальчиком из соседней школы)…
Громила, не поворачивая головы, выслушал коротышкины жалобы примерно до середины и окинул всех тяжким взглядом, видимым даже в темноте.
Потом он сделал короткую затяжку, аккуратно раздавил ногой окурок, осторожно вступил на лед и с какой-то показной неловкостью, частыми меленькими шажочками, то и дело поскальзываясь, тронулся в направлении Фурмана, сопровождаемый возбужденно вьющейся у его ног гадкой человеческой собачонкой. Фурман с ужасом ощутил, как на секунду его волосы сами собой попытались встать дыбом под отсыревшей изнанкой шапки…
– Ну, чё лыбитесь, суки? – пришлепав поближе, с томной угрозой прохрипел громила. – Может, и я с вами посмеюсь?..
Все хранили деликатное молчание, и только большой парень, который прежде так метко пошутил над стукачом-коротышкой, негромко сказал, с досадой отводя глаза: мол, зачем ты опять слушаешь эту обезьяну?..
Громила прошипел короткое ругательство, и парень, огорченно махнув рукой, отправился кататься, а маленький подонок тут же заподсказывал своему хозяину – нежно, как фигуристка, привставая на цыпочки, по-лебединому вытягивая к нему свою коротенькую шею и неопределенно щуря глазки… Но хозяин вдруг оборвал его:
– А ты заткнись, раз облажался! – и добавил что-то еще, замысловато-грубое, но справедливое, отчего все вокруг почувствовали огромнейшее облегчение… Да, что тут скажешь? ХОЗЯИН ЕСТЬ ХОЗЯИН!..
Одарив свору радостью и успокоением, громила с отеческой заботой склонился к своему в очередной раз раздавленному коротышке и стал учить его, как надо правильно себя вести. Малыш покорно кивал и даже переспросил что-то с видом хорошего ученика. Хозяин обнял его за плечи и, продолжая беседу, повел куда-то. На ходу он невнятно отдал несколько распоряжений…
Может, убежать? Успею?.. Прямо сейчас.
Эх, как легко себе это представить!..
Или не получится?
Куда бежать-то?.. В милицию?
А ребята как же?..
Нет, поздно.
Слабый намек на свободную дорожку, дырка, временно образовавшаяся в продуманном контроле стаи над территорией, закрылась, и Фурман с отстраненным интересом стал ждать, чем еще его сегодня попытаются удивить.
Хулиганы продолжали свое угрожающее безостановочное кружение, но пока больше ничего не происходило.
Фурман мог спокойно поворачиваться туда-сюда, наблюдать, осматриваться. Пару раз он вопросительно переглянулся с Бычей и с заметно успокоившимся Колесей. Это было почти смешно – как будто они просто заехали сюда по своей воле и остановились передохнуть. Может, они уже никому здесь не нужны?..
Определенные затруднения в отношении пленников, видимо, имелись.
– А с этим чего будем делать? – буркнул старший хулиган большому парню, вернувшемуся из большого сияющего мира на отгороженную площадку.
– С этим? А чего с ним делать – кончай его побыстрее! И все дела!
Фурман довольно быстро догадался, что это шутка, возможно, даже рассчитанная на то, что он ее услышит. Этот большой шутник своими предыдущими выступлениями вызвал у него не просто симпатию, но какую-то более сложную «братскую» тягу младшего к старшему, – и теперь Фурману стало обидно: нет, он не мог быть его братом, такой же жестокий, как и все остальные. «А где же твой брат? – грустно спросил он самого себя. И, начав мерзнуть, сердито подумал, – Скорей бы уж они меня “кончили”…»
Погруженный в свои вялые мечты, он не сразу среагировал на очень близко подъехавшего парня – и даже вздрогнул от неожиданности. Парень был примерно его возраста, у него было смуглое лицо опытного индейского воина, но во внимательных карих глазах посверкивала искорка необъяснимо дружелюбной, чуть ли не приятельской насмешки.
– Давай отъедем в сторонку, у нас к тебе разговор есть, – с легким татарским акцентом пригласил он, кивнув куда-то во тьму.
Фурмана это предложение удивило и до смерти напугало: что же они собираются сделать с ним такого, чего нельзя сделать здесь?.. В голове опять замелькали какие-то ужасы…
– Да отцепитесь вы от меня!!! Никуда я с вами не поеду! Вы уже со мной поговорили… Мне этого достаточно.
Парень хитровато усмехнулся. Это несколько ободрило Фурмана.
– К вашему сведению, я вообще даже не понял, из-за чего вы ко мне пристали! – обиженно сообщил он.
– Ну вот, как раз там и спросишь.
– Ага, я уже спрашивал!.. Мне все очень понятно объяснили. Набросились все на одного, избили – вот и весь разговор. Ты мне предлагаешь повторить это еще разок? Большое спасибо.
– Ну уж, ты скажешь, прям избили тебя…
– А что же, нет, что ли? Может, это вы меня просто по головке погладили? Приласкали… Надо же, а я и не догадался! Вы, наверное, просто силу свою не рассчитали. Вдесятером налетели, надавали по морде – и даже не сказали за что… Может, вы меня с кем-то перепутали?
Парень снова усмехнулся: не перепутали!..
Тем не менее продолжение битья почему-то откладывалось, и Фурман, воодушевившись, сделал острый ход:
– Главное, вы нападаете все на одного, как трусы какие-то!
Лицо собеседника растерянно посуровело от такой наглости.
– Ну, а как еще-то прикажешь это называть?! Вас же вон сколько! Что я вам вообще мог сделать такого плохого – что сразу всех вас обидел?.. Ну конечно, я один – всех тут оскорбил, наобзывал, наплевал каждому в душу, а половину вообще избил и покалечил!.. Во, оказывается, какой я смелый и могучий! Сам даже не знал. Надо будет рассказать кому-нибудь!.. Жалко, боюсь, не поверят.
– Ты хорошо говоришь… Но только ты забыл, что ты тоже здесь не один. Вон, эти, – приехали тебе на помощь…
– Кто? Эти ребята?.. Да ты чего?! Не надо! Они здесь вообще ни при чем! Это посторонние люди!!! Я с ними просто играл в салочки, вот и все… Слушай-ка, а ты молодец – здорово меня поймал! Действительно: чего я перед тобой оправдываюсь? Я же по твоим глазам вижу: ты прекрасно знаешь, что вся эта каша заварилась только из-за меня одного. Так? Скажи!
Парень уклончиво качнул головой.
– Раз ты не отвечаешь, значит, так оно и есть… Слушай, да отпустите вы их на фиг, я тебе правду говорю, они ни при чем. Мы играли в салки, я здесь от них прятался, а они просто приехали меня искать!.. Вы чего, решили, что у меня здесь целая армия?! Нашли защитников! Да я только знаю, как их зовут, и все…
– Ладно, я тебя понял. Если они ни при чем, мы их отпустим. Но сначала надо с тобой разобраться. Давай, поехали… Ты боишься, что ли? Если ты боишься, я могу дать тебе обещание, что бить тебя больше не будут. Они хотят просто поговорить с тобой. Пошли, не упирайся. Не вынуждай меня применить к тебе силу.
Парень все время употреблял какие-то странные интонации и обороты речи – точно древний восточный богатырь… Но Фурману сейчас было не до этих подробностей:
– Подожди! Да постой ты, черт!.. Убери руки! Кому говорят, руки убери!!! Что ж вы все, как собаки, сразу в драку лезете?! Совсем разучились по-человечески разговаривать?.. Я, между прочим, тоже хочу разобраться, за что мне в морду дали! Ты со мною можешь хотя бы две минуты поговорить по-нормальному, без рук?.. Я тебя прошу как человек человека! Дай мне всего две минуты! Ничего же от этого не изменится?!
– А если ты захочешь убежать от меня?..
– Да не буду я никуда убегать! Просто спрошу тебя кое о чем… От вас тут разве убежишь… Ты только ответь мне по-человечески, а потом – можешь вести меня куда хочешь, хоть к дьяволу… Можете меня там разорвать на кусочки и сожрать… Да, если торопитесь, можете и в сыром виде… Ну, так что? Мы договорились?.. Как «о чем»?! О том, что ты человеком попробуешь быть хотя бы две минуты!!! Справишься?! Или ты вообще не знаешь, как это делается?..
Все, ладно! Хорошо! Предположим, кто-то из твоих друзей решил, что я его чем-то там обидел. Хотя я даже не понимаю, когда и где это могло произойти!.. Ну ладно, если что-то в самом деле было не так, то я даже готов извиниться, пожалуйста, – только скажите за что и, главное, перед кем? Где этот человек-то? Которого я так ужасно обидел. Почему он не может сам выйти и сказать по-простому, что произошло? Ведь я ж его не убил?! Чего ему бояться-то? Что я с ним могу сделать? Пусть тогда придет под охраной!.. Или вы со мной просто играете? И никакого «обиженного» вообще нету?.. Почем я знаю? Вы же ничего не говорите, а сразу набрасываетесь, как какая-то свора диких зверей!.. Откуда же я могу знать, чем я перед вами провинился? Может, я просто случайно нарушил какую-нибудь территорию вашей стаи…
– Может, так, а может, и не так… Хорошо, чего ты хочешь от меня?
– Чего я хочу от тебя?.. Я хочу, чтобы ты мне объяснил, что тут происходит. Ты мне можешь это сказать? Что мне теперь делать? Я просто не понимаю: что я должен делать дальше?! На колени вставать? Перед кем?
– А почему ты МЕНЯ об этом спрашиваешь?
– Почему тебя?.. Я тебя об этом спрашиваю, потому что ты – человек, и я тоже – человек, и вот, так уж получилось, извини, что мы тут с тобой стоим лицом к лицу… Так и хочется сказать: как два дурака… Только мне сейчас не до шуток. Меня тут сейчас будут казнить. Голову мне будут отрывать! И я всего лишь хочу знать ЗА ЧТО. Это понятное желание? Я имею право это знать? Ты можешь мне ответить хотя бы на этот простой вопрос?!
Что ты молчишь? Я не понимаю. Ты язык проглотил?!
– А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?
– …Я хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос: имею ли я право знать, за что меня наказывают. Я понятно говорю?.. Ты можешь ответить на этот вопрос? Тогда ответь.
– …Имеешь.
– Вот, уже хорошо! Тогда скажи, почему нельзя выяснить все это по-человечески? Что в этом такого сложного?! Ведь вы же люди, такие же, как и я! Почему же вы сперва набрасываетесь, как звери какие-то: всей стаей, да еще и со спины, избиваете ни за что – и только потом, когда от человека уже одни косточки остались, начинаете разбираться отчего да почему… Разве это по-людски? Так только волки могут поступать, да и то, только когда охотятся… Но они это хотя бы ради жратвы… волчат кормить… А вы-то ради чего? Хотя вы ведь, небось, тоже при этом думаете, что вы – вовсе не стая диких зверей, а какие-нибудь благородные разбойники: защищаете слабых, помогаете бедным, да?.. Ну точно, так и есть… Я угадал. Ну и ну!.. Вот позор-то… Слушай, а может, вы меня просто боитесь? Ну, а как же? Иначе с чего бы всем вашим бугаям лезть на меня одного? Я, конечно, хиляк, но могу и… ого-го!
Собеседник, шокированный этим предположением, слегка покривился:
– Ну, ты все-таки не это…
– А как еще я, по-твоему, должен вас понимать?!
Ты сам ко мне подъезжаешь и говоришь: «У нас к тебе есть разговор». Хорошо, пожалуйста! Вот, я перед тобой стою. Зачем тебе еще куда-то меня вести? Если ты правда хочешь со мной поговорить – говори, я готов тебя слушать!
– Ну… это не я сам… это ребята хотели… с тобой… А их здесь нет, они там. Они тебя зовут на разговор. Я просто передал.
– Хорошо, я понял. Но ТЫ можешь мне сказать, за что вы меня стали избивать? В чем причина? Я правда не понимаю! Ты мне можешь объяснить – только не кулаками, а словами, – в чем я виноват? Я тебя лично спрашиваю, как человека, а не как члена твоей стаи… Я понимаю: тебе поручили, ты должен это выполнять… Но ты просто скажи мне: что я сделал не так? Или, может, это вообще ошибка? Может, они меня с кем-то спутали? С каким-нибудь вашим врагом – я же не знаю!!! Я вижу: ты нормальный хороший парень, у тебя нормальные человеческие глаза, в отличие от остальных… твоих… друзей… Они правда, если честно, – ты не обижайся – больше похожи на каких-то волков… или на гиен… Хотя, может, я не прав? Может, они нормальные люди… ТЫ мне можешь сейчас помочь? Я ж тебя не о чем-то таком прошу… Пойми, я же человек, я должен знать, за что меня наказывают, почему это происходит! Иначе это же просто какое-то безумие получается, какие-то джунгли, где все жрут друг друга без разбору!.. Я прошу тебя, ответь мне только на один вопрос: ЧТО СО МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ, почему я оказался в этой чертовой мясорубке?!
Парень поморщился и вздохнул – видно, ему было уже совсем тяжело:
– Ну, наверное, ты не так себя повел… – пробормотал он, отворачиваясь.
– Но когда?! С кем?! – с безнадежным напором продолжал вопрошать Фурман… Однако ситуация изменилась: теперь они были не одни.
Видно, остальным хулиганам в какой-то момент надоело ждать окончания их странно затянувшейся беседы: несколько раз из темноты к ним подъезжали разведчики, недоуменно прислушивались, потом с восхищенными обезьяньими ухмылками заглядывали Фурману в лицо и уносились обратно с докладами о происходящих чудесах. Слушателей постепенно стало больше. Правда, ни один из них не мог спокойно стоять на месте: они непрерывно дергались, крутились, толкались и обменивались восторженными впечатлениями типа: «Во заливает!.. Брешет, как по бумажке!» Вновь прибывшие то и дело непонимающе переспрашивали: «А кто это воще такой? Откуда он здесь взялся-то?..» – и из первых рядов им со знанием дела гордо объясняли: это нам читают лекцию – о том, что мы волки!..
В какой-то момент расшалившаяся публика применила к «лектору» старый как мир прием: кто-то подсел под него сзади, а спереди толкнули. Результат, конечно, был бы великолепный: лектор неожиданно для себя летит вверх тормашками! Но Фурман догадался о готовящейся провокации и успел поустойчивее расставить ноги. Когда его – действительно неожиданно – пихнули, он просто наехал на свою «подставку» и свалил ее на лед. Судя по тому, что мальчишка «охнул» и потом злобно погрозил Фурману кулаком, ему было больно – но он же сам все это сделал!
Понемногу пространство вокруг Фурмана несколько расчистилось. Все куда-то разъехались, и он, безнадежно подумав: «Может, они скоро вообще обо мне забудут…» – почувствовал, что ужасно замерз. Содрогнувшись так, что чуть не потерял равновесие, он решил взглянуть на Бычу – и вдруг получил чудовищный удар по касательной в спину (лед давал свои преимущества каждой из сторон: в данном случае трусоватый боец набрал слишком большую скорость и элементарно промахнулся). Фурман невольно закрутился, споткнулся нога об ногу и с большим трудом опять устоял на ногах, но от непритворной боли и очередной подлости разъярился до мгновенного безумия, как раненый зверь, – да и что ему было терять?.. Он дернулся всем телом за ускользающим обидчиком, желая задавить его и порезать на мелкие кусочки своими ножами… но почти сразу остановился, узнав в удирающем того, приседавшего в «подставке», которому он до этого уже сделал больно; тот, таким образом, тоже «мстил», пусть и со спины, по своей гадкой привычке…
Фурман решил, что может простить этого придурка, и, с кряхтением выпрямив спину, встретил холодный сочувственный взгляд своего прежнего собеседника.
– Видишь? – измученно улыбнулся ему Фурман. – Опять ваши со мной «поговорили»…
Парень задумчиво кивнул, открыл рот, чтобы что-то сказать, но выражение его глаз внезапно изменилось: похоже, кто-то опять хотел напасть на Фурмана сзади… Он успел только испуганно дернуть головой. Рядом резко затормозил какой-то молодой энергичный взрослый, назвавший парня татарским именем и спросивший, что здесь происходит. На руке у него была красная повязка, как у дежурного или у дружинника. Получив успокоительный ответ, он заспешил дальше, но через пару шагов снова тормознул и, подняв указательный палец, строго сказал, почти пригрозил: «Смотрите, чтобы все было в порядке. Мы с вами договорились: я вас пускаю, пока у нас мало народу, и с условием, что вы сидите здесь тихо. Если на вас будет хоть одна жалоба… Ты меня знаешь, я шутки шутить не буду!»
– Конечно, я понял, – коротко кивнул парень вслед умчавшемуся и перестал улыбаться.
Фурман не знал, что и думать. Кажется, это было спасение, пусть и запоздалое. Но, с другой стороны, по всей отгороженной площадке по-прежнему свободно раскатывали и разгуливали члены этой самой обычной, как теперь стало понятно, банды из соседних дворов. Это ведь был платный каток, и все они находились здесь незаконно…
– Ну, и что мы теперь будем делать? – с усталым вызовом нарушил молчание Фурман. Парень ему уже не нравился, и глаза у него сейчас были такие же по-волчьи скучные, как и у остальных, – разве что чуть поумнее, но не намного.
– Что делать? Ничего. Пошли, поговорим, ребята там тебя ждут.
– Где «там»? Опять ты все по новой?! – не сдержал возмущения Фурман.
Татарин пожал плечами.
– Мы же с тобой уже говорили обо всем этом?!
– Ну, и что из этого?
– Как «что»?! Сначала вы меня хотели избить здесь, у вас это не получилось, а теперь ты меня зовешь «поговорить» с твоими ребятами в каком-то темном углу? Чтобы вы опять меня всей бандой стали избивать? Ты что, совсем за дурака меня принимаешь?
Парень сурово молчал. Наверное, он оказался в сложном положении. Но Фурману было на это наплевать.
– А если о том, что тут было, узнают, как ты думаешь, что тогда будет?
Поскольку ответа не было, он досказал сам:
– Я так понимаю, что вам всем будет плохо. Я правильно понимаю?
Лицо у парня было грубое и замкнутое. Интересно, его били когда-нибудь по морде? Наверняка ведь били. И много…
– Я тебе честно могу сказать: вы все мне просто на хрен не нужны! Вы ведь… небось, сдрейфили уже, что вас отсюда попрут! Можете спать спокойно: я не собираюсь никому на вас жаловаться. Хотя, может, и стоило бы… Чтобы вы почувствовали себя не благородными разбойниками, а обыкновенной шпаной дворовой! Ты думаешь, там, где я живу, таких нету? А ты давай, приходи как-нибудь вечерком в Косой переулок – знаешь, где это? – наши ребята с тобой тоже «поговорят» по-своему. Хочешь?.. Ладно, я вижу, с тобой бесполезно по-человечески разговаривать, так же, как и с остальными… Только силы зря тратить… Короче: я свободен или нет?
Парень удивился:
– А тебя разве кто-то держал здесь?
– Уп… – Фурман чуть не подавился от такого бесстыдства, но сил у него и вправду почти не осталось. Он уже так смертельно замерз, что в любом случае пора было уходить… – Да-а, тяжелый случай… Ну все, ладно, я пошел.
– Послушай! Если ты боишься, что там… будет много наших ребят… и будет по-нечестному… то я тебе предлагаю: давай сразимся здесь. Ты против меня. Так ты согласишься? Я лично вызываю тебя на поединок. Один на один, идет?
Фурман, может, и хотел бы расхохотаться от такого неожиданного проявления благородства, но губы его уже почти не слушались. У этого татарина-то, небось, разряд по борьбе – тоже мне, рыцарь…
Объясняться пришлось довольно долго, с указанием всех собственных нравственных и физкультурных причин и с тонким разоблачением всех прозрачных восточных хитростей соперника. Прощально удерживая ледяные фурмановские пальцы в своей горячей ладони, татарский богатырь произнес с не совсем понятной торжественной интонацией: «Знаешь, Саша, – (Они уже и познакомились, и чуть ли вообще не породнились…), – ты меня сегодня просто УБИЛ МОРАЛЬЮ…» – «Да?.. Ну, извини, если что было не так… – уже плохо соображая, неопределенно ответил Фурман. – Ладно, все, чао, я уже еле стою. Пока…» – «Нет, до свидания!» – с многозначительной улыбкой поправил его батыр.
Фурман был уверен, что завтра заболеет и умрет, но на душе у него почему-то было как-то по-новогоднему радостно.
– Все кончилось! – сообщил он недоверчивому Колесе, которого давно уже никто не охранял.
– Все, поехали по домам, – замахали они могучему Быче.
…В общем-то, Боря оказался прав, прием сработал… Но это был последний раз, когда Фурман катался на коньках.
III. Лишний человек
Большая часть школьных занятий наводила теперь на Фурмана лишь безумную скуку и тоску. Для себя он уже решил, что не будет поступать в институт, – а раз так, зачем ему зубрить все эти формулы и определения, не имеющие к его жизни никакого отношения?
Этот назревший внутренний отказ от «нормального пути» был как бы запоздалой реакцией на трехлетней давности семейный кошмар, связанный с Бориным поступлением. Фурман тогда перешел в пятый класс, и его старались не слишком посвящать в подробности непрерывно вспыхивавших домашних скандалов. Проблема была в том, что Боря, закончивший школу пусть и без золотой медали, но на одни пятерки, захотел сдавать вступительные экзамены на механико-математический факультет МГУ – куда, как трагически-настойчиво убеждали его родители, «евреев просто-таки не принимают». Боря ни на минуту не желал поверить «во всю эту дикую средневековую чушь» и обзывал родителей «мещанами», «пошляками» и даже «антисоветчиками». Он успешно сдал все экзамены (впрочем, в его способностях никто и не сомневался) – но для зачисления ему не хватило каких-то полбалла. Когда стало окончательно ясно, что его не приняли, набор во все другие вузы уже завершился. Началась истерика. Родители через знакомых и родственников предпринимали лихорадочно-безуспешные попытки Бориного устройства, сам же он высокомерно называл все это жалкой суетой, не без горечи поясняя младшему Фурману, что главное в жизни – это готовность с достоинством встретить любой поворот судьбы. «В принципе, если никаких других вариантов не останется», Боря был готов и к тому, чтобы пойти служить в армию, – пока же он несколько демонстративно «отдыхал»: чуть ли не каждый день ходил в кино, много гулял… Предложения измученных родителей обсудить какие-то новые варианты вызывали у него мгновенное грубое раздражение. Дома стало все чаще повисать мрачное молчание, словно кто-то из близких тяжело заболел…
На второй неделе сентября, когда казалось, что надеяться больше не на что, судьба, поморщившись, все-таки засчитала честно заработанные Борей престижные МГУшные баллы: на физфаке пединститута вдруг обнаружилось одно «горящее» свободное место, на которое его согласились взять без дополнительных экзаменов. Несмотря на очевидное отсутствие выбора, Боря еще немножко, как говорила мама, «повыкобенивался», прежде чем принять этот подарок…
Ужас и отвращение, пережитые всеми членами семьи, как оказалось, пустили глубокие корни в младшем Фурмане. В общем-то, он был уже готов принести себя в жертву (точнее, свое возможное высшее образование и, так сказать, «карьеру» в целом) – ради того, чтобы избавить родителей от необходимости повторного погружения в абитуриентский кошмар (и заодно избавиться от него самому). «Подумаешь, пойду работать водителем троллейбуса… или трамвая – хотя там, конечно, меньше платят… Не всем же получать высшее образование?» – и он представлял себе утешительно-неспешную езду по раз и навсегда отмеренному маршруту, с аккуратным объявлением остановок и осторожным закрыванием дверей…
Поскольку на уроках Фурман от нечего делать занимался тем, что беспощадно смешил соседей, у него испортились отношения со многими учителями. Двойки за поведение, возмущенные замечания в дневник, удаления из класса… В какой-то момент его отсадили от теплой мальчишеской компании в ряд у окна, почти сплошь населенный девчонками-троечницами, – но через неделю-другую он там вполне освоился, так что особо нервным преподавателям пришлось наказывать уже все его новое окружение (смешливые соседки, бывало, обижались на Фурмана, справедливо видя в нем источник своих неприятностей, но ни алгебра с геометрией, ни анатомия, безусловно, не могли конкурировать с навязываемой им рискованно-шутливой игрой – и безобразия продолжались).
Ссоры Фурмана с учителями довольно быстро приобретали «смертельный» характер. Это касалось даже тех из них, кто раньше относился к нему вполне благожелательно. Так, удачно переложив стихами балладу Генри Лонгфелло «Стрела и песня», он неожиданно для себя приобрел совершенно исключительное расположение «англичанки», которая и прежде считала его «способным мальчиком, хотя и немного ленящимся». Успех оказался роковым, потому что ее ожидания возросли, а он, наоборот, расслабился. Чтобы «подбодрить» его, она поставила ему подряд несколько явно незаслуженных троек, после чего Фурман просто махнул на нее рукой и потихоньку принялся за свои обычные развлечения. Еще какое-то время «англичанка» пыталась быть к нему терпеливой и усилием воли сдерживала копившееся раздражение. Но однажды она пришла на урок, уже находясь в каком-то необычайно взвинченном настроении. Спустя минуту двое учеников получили по паре за невыполненное домашнее задание, а в фурмановском дневнике, помимо крупной злой двойки, появилось еще и сравнительно длинное замечание: «Перестал учиться. Болтает на уроке, мешает заниматься другим. Прошу родителей принять меры». По мнению Фурмана, это был уже откровенный, ничем не спровоцированный террор. (Родителей было жалко: они только лишний раз расстроятся, а сделать все равно ничего невозможно…) Ощутив нехорошее бойцовское возбуждение, он вырвал из тетради листочек и стал рисовать рассерженного пузатого человечка на тонких ножках. Карикатура вышла отменная: Фурман сидел на первой парте у окна, и «англичанка», лишь раз хищно глянув на перевернутое изображение, буквально взорвалась. Одна белая сильная рука с кольцами в бешенстве скомкала бедный листочек, а другою художник был вышвырнут из класса с яростным напутствием: «Отправляйся к директору, негодяй, и скажи, что я больше не желаю видеть тебя на своих уроках! И учти, что разговаривать с тобой я буду только в присутствии твоих родителей!..» Однако, поскольку никаких пояснительных надписей на помятой улике, к счастью, не имелось, а сам Фурман во время всех последующих разбирательств твердо стоял на том, что он рисовал не оскорбительную карикатуру на уважаемую учительницу, а «просто абстрактного человечка», доказать некую чрезвычайную злонамеренность его вины «англичанке» не удалось, и в дальнейшем она была вынуждена ненавидеть Фурмана «неофициально».
С маленькой невзрачной «химичкой», которую все звали Химозой, война началась вообще чуть ли не с первого же урока химии…
Ну, а математикой Фурман, если честно, просто занимался очень плохо: торчащие отовсюду ядовитые колючки тангенсов и котангенсов, синусов и косинусов отравляли ему мозг… Как, по-своему, и сама «математичка»: высокая тридцатилетняя блондинка с хрипловатым голосом, красивыми мускулистыми ногами и совершенно антипедагогически выразительной грудью, со слепой тяжестью упиравшейся в сменяющие друг друга пушистые свитера и шелковые рубашки… Впрочем, судя по затравленному «понимающему» взгляду, эта молодая замужняя женщина была уже до крайности утомлена ежедневной работой с равнодушно-жадноглазыми подростками. Спасти ее (даже от самого себя) Фурман, конечно, не мог; но, в необъяснимой тоске по чужой жизни, все ловил и ловил из своей пустынной засады предательски короткие кадры-вспышки, когда унизительно-грубая пахнущая резиной маска «математички» вдруг на доли секунды начинала плавиться в завораживающе однократное – чуткое, посмеивающееся выражение ЛИЦА… Однажды он случайно увидел и, пораженный, запомнил испугавшее его счастье, с которым это женское лицо разом, без всякого перехода высвободилось из-под своей тягостной корки – здесь же, прямо на пороге школы (не подождав хотя бы ради приличия или – хотя бы чтобы не вызвать зависти, чудовищной зависти) – в ином, недоступном для ЧУЖИХ мире… Обомлевший свидетель этой дикой несдержанности, бледненький ленивый троечник из – какого там… восьмого «А»? – тоже ведь был не более чем одним из «чужих», членом необъятного серого множества прыщавых недоростков с тоскливыми жадными глазами…
Литературу и русский вела классная руководительница Вера Алексеевна. С Фурманом у нее были проблемы особого рода: он писал довольно странные сочинения и порою высказывал спорные мысли об изучаемых произведениях. Несколько раз бедная Вера Алексеевна теряла из-за него контроль над ситуацией и «попадалась».
Однажды на дом было задано сочинение, в котором требовалось сравнить человеческую жизнь и жизнь природы, «можно даже в художественной форме». Если учесть, что стояла середина осени, тема имела слишком уж напрашивающееся решение. Фурману это не нравилось, и он долго не находил, про что еще тут можно написать – так, чтобы и самому было интересно. Между тем время уже начинало поджимать.
В пятницу, возвращаясь из школы и уже подходя к своему дому, Фурман машинально обратил внимание на яркое цветное пятно, возникшее в «неположенном месте» под ногами. Это был просто на удивление огромный кленовый лист, занесенный на крышку уличного канализационного люка и безнадежно увязший хвостиком в грязной лужице между ее ребрами. Лист лежал в странной «позе»: как бы в последним рывке из западни наполовину привстав на своих когтистых передних «лапах», – красивое и мощное живое существо, безнадежно охваченное смертью… Место, конечно, было не слишком подходящее. А ведь еще сегодня утром этот лист, небось, считался каким-нибудь величайшим воином у себя на дереве… Бился и держался там до последнего – и вот, валяется в грязи… Встряхнувшись, Фурман едва успел подавить импульсивное намерение вытащить «раненого бойца» и почти силком заставил свои ноги двинуться дальше. Конечно, глупо было бы на глазах у прохожих «спасать» какой-то застрявший в луже кленовый лист… А может, это и называется «Судьбой»? «У каждого своя судьба»… Все равно он уже наполовину сгнил. Осень… Осень – это Судьба, часть Судьбы.
Поздно вечером Фурман вдруг ощутил мягкий укол, короткое царапанье «вдохновения»: как все просто – надо только подробно описать жизнь этого листа, а параллельно – жизнь какого-то человека, с рождения и до конца!.. Но садиться писать не торопился, выжидал и радостно сдерживался до воскресенья…
Родители сочинение одобрили.
Прошло почти две недели, а отметок Вера Алексеевна так и не выставила. Фурман уже и ждать перестал.
Как-то – прямо посреди большой переменки – Вера поймала его в коридоре и под ручку отвела к окну, мол, надо кое-что обсудить. Все с любопытством посматривали в их сторону. За день до этого новенький парень из их класса случайно разбил оконное стекло на другом этаже, и Фурман был уверен, что речь пойдет о поисках и наказании виновника. Но Вера почему-то начала о другом.
Его сочинение ей очень понравилось. Наверное, он не в курсе, но сочинение по этой же теме писали все старшие классы, и теперь лучшие из школьных работ – а его сочинение вне всякого сомнения относится к таковым – будут отправлены в РОНО, где произведут еще один тщательный отбор, уже на городской конкурс. Конечно, сейчас рано говорить об этом, но она хочет, чтобы он ясно представлял себе, что будет дальше… Так вот, учитывая все эти обстоятельства и ни в коей мере не желая обидеть его – наоборот, думая именно о сохранении его уже сложившейся репутации и тщательно взвесив все возможные последствия, она должна задать ему один очень деликатный вопрос. Тут Вера слегка замялась и как-то странно взглянула на него.
– Но перед этим, если ты не возражаешь, я бы хотела услышать от тебя прямой и откровенный ответ на другой вопрос… Возможно, он прозвучит неожиданно, но пусть это тебя не смущает. Скажи, Саша, могу ли я рассчитывать на твое полное доверие ко мне лично?.. Хорошо, извини, я понимаю, что с этим у тебя уже могут быть сложности, поэтому сформулирую иначе: могу ли я надеяться, что ты ПОКА ЕЩЕ доверяешь моему мнению – пусть не во всем, но хотя бы в каких-то важных отношениях? – В ожидании ответа Вера наморщила лоб и уставилась в лицо Фурмана своими круглыми глазами. – Ты ведь понимаешь: я говорю о себе не как об официальном лице, то есть не как о твоем учителе и классном руководителе, а просто как о взрослом человеке – который, кстати, очень хорошо к тебе относится, но при этом немножко больше знает жизнь и заботится о том, чтобы не произошло ничего такого, что могло бы серьезно повредить твоему будущему.
Фурман все еще не разобрался, к чему она клонит, и с трудом прятал непроизвольную улыбку, вызванную острым желанием сказать «нет, я вам не доверяю, ха-ха!». Как бы чуть-чуть подумав, он кивнул: ну ладно, допустим, ПОКА доверяю – такая формулировка меня устраивает, – и что дальше? Все равно фамилию я тебе не назову!
– Если хочешь, я могу дать тебе честное слово, что в любом случае все сказанное останется между нами. – Фурман с вежливым удивлением показал, что ему этого не надо. – Скажи, ты не хочешь, чтобы я просто вернула тебе твое сочинение? Если бы ты сейчас согласился забрать его, то на этом наш разговор мог бы быть закончен… – Фурман чего-то перестал понимать: а при чем здесь вообще его сочинение?.. – Ну, хорошо. Тогда ответь мне, но только правду: ты самостоятельно работал над этим сочинением? Я имею в виду, ты ниоткуда его не списал? – От неожиданности Фурман потерял дар речи. – Извини, но ты тоже должен попытаться понять меня: я уже не успеваю, как раньше, следить за всем новым и интересным, что появляется в газетах и журналах. То есть я еще стараюсь, конечно, но… И тетрадей ваших всегда полно, и к урокам все-таки надо готовиться, а ведь еще и все домашние дела целиком на мне… да и вообще, годы уже не те… Но ты не подумай, что я жалуюсь, я говорю о другом. Попытаюсь объяснить тебе. Ты сдал очень хорошую работу. Не обижайся, но я бы даже сказала, слишком хорошую. Возможно, я вообще не заговорила бы об этом, если бы не надо было отправлять ее «наверх». Мне кажется, что ни ты, ни уж тем более я совершенно не заинтересованы в каком бы то ни было скандале. Ты ведь понимаешь, что для нас обоих будет намного хуже, если я сейчас сделаю вид, что ничего не заметила, а потом ТАМ вдруг обнаружится, что эта работа целиком или пусть даже частично откуда-то тобою списана. Поэтому лучше, если ты скажешь об этом сейчас, мне. Мы можем все это уладить между собой. Обещаю, тебе за это ничего не будет. Никто об этом даже не узнает. Будем считать это просто досадной ошибкой, которая больше не повторится. Я понимаю, для тебя это еще и вопрос гордости, но я тебе гарантирую, что в этом случае твоя репутация ни в коей мере не пострадает. Все это останется строго между нами. Я раскрою тебе один профессиональный педагогический секрет, но ты должен знать, что вообще-то здесь нет ничего особенного. Поверь мне, я уже тридцать лет работаю в школе: такие истории достаточно часто случаются в вашем возрасте. Бывает, чье-то чужое произведение так понравится, что кажется, будто это ты сам его написал…
Лицо у Фурмана было красным, он уже с трудом вслушивался в Верины излияния – все это было мимо, мимо! Он чувствовал стыд, ужасный стыд. Он не знал, куда деваться от стыда… На них же смотрят. Она – дура. Просто старая грязная дура. Что она мне предлагает?! Тридцать лет в школе…
Слава богу, звонок на урок прервал этот кошмар.
– Я прошу тебя, Саша, еще раз обо всем подумать! И помни, все это – только между нами!..
Даже родители не знали, что на это сказать…
О сданном сочинении речь больше не заходила, оно как бы просто «исчезло» (скорее всего, Вера Алексеевна его припрятала во избежание возможных осложнений).
Более смешная история вышла с «Горем от ума».
Сначала Фурман, загрузившись Бориными пламенными речами, написал бойкое домашнее сочинение о том, что Чацкий – это жалкий болтун, который «мечет бисер перед свиньями», вместо того чтобы «заниматься делом». Вера Алексеевна поставила ему тройку за содержание и четверку за русский. (Фурман обиделся и решил в дальнейшем скрывать свои собственные мысли. Следующее сочинение, которое писалось в классе по «Мертвым душам», он впервые в жизни накатал прямо по спрятанному под партой учебнику, из мести даже не прочитав само произведение. Получив и на этот раз трояк за содержание, он совсем запутался: чего же ей, Вере, надо?..) При обсуждении сочинений Фурман неожиданно для Веры Алексеевны изложил какую-то развитую нетрадиционную интерпретацию (естественно, усвоенную им прошлым вечером от Бори) со ссылками на письма Александра Сергеевича Пушкина. Либеральные педагогические установки (а может, и сам черт) дернули Веру Алексеевну вступить с Фурманом дискуссию, и, когда аргументы исчерпались, последнее, что пришло ей на язык, было возмущенно-недоуменное: «Что же я, по-твоему, полная дура и вообще ничего не понимаю в литературе?..» Ответить на столь двусмысленный вопрос Фурман не смог, и в классе повисла долгая задумчивая пауза – ведь Вера спросила так искренне… Наконец класс грохнул. Это был настоящий «момент истины», почти удушье…
Кончилось все по-доброму: после секундной растерянности Вера Алексеевна сообразила, что сама ляпнула какую-то глупость, и, покраснев, улыбнулась…
А Фурман, конечно, стал героем дня.
* * *
Была середина марта.
После звонка с урока Вера Алексеевна попросила Фурмана задержаться на минутку. В четверг у нас на русском будет методист из РОНО, сказала она. От меня требуется продемонстрировать качество моей работы. Я, конечно, могу вызвать к доске кого-нибудь из наших отличников и показать все, на что мы способны, но в данном случае от меня ждут не этого. Да и мне самой, если честно, неохота пускать пыль в глаза. Я знаю, ты у меня не большой любитель зубрить правила. Но я ведь так редко прошу тебя о чем-нибудь: не мог бы ты подготовить мне одну устную тему – в порядке, так сказать, личного одолжения? Не обязательно даже на пятерку, достаточно будет ответить на твердую четверку. Ну как, могу я на тебя рассчитывать? – Фурман с вялым согласием пожал плечами. – Я буду тебе очень признательна…
Пришлось несколько раз читать этот дурацкий параграф. Вообще-то правило было не очень сложное, из пяти пунктов. Насморк понемногу усиливался.
В четверг на русском на задней парте среднего ряда угнездилась строгого вида худая тетенька в очках. В нужный момент Вера Алексеевна вызвала Фурмана к доске. Сознавая свою ответственность, он чуть-чуть волновался, но все ощущения сглаживала притупляющая завеса насморка. Как назло, Фурман забыл дома платок и периодически шмыгал носом.
Вера не просила его вызубрить параграф один в один, поэтому он правильно по смыслу, хотя и не совсем точно пересказал все пять пунктов, вдобавок слегка перепутав их порядок (который в принципе не играл никакой роли). Из-за этих мелких помарок Вера Алексеевна вынуждена была поставить ему четверку с минусом, попросив в следующий раз запоминать правила более точно. Но в целом все вроде бы прошло нормально.
Шмыгнув носом, Фурман с облегчением опустился на свое место. Вдруг сзади раздался громкий противный голос:
– Вера Алексеевна, прошу прощения, но я не могу не вмешаться!
Все с сонным недоумением повернули головы назад. Очкастая тетка наглым тоном заявила, что она категорически не согласна с оценкой уважаемой Веры Алексеевны: ответ «молодого человека, вот этого, который только что выходил к доске», безусловно, не заслуживает четверки, пусть даже с минусом. Вера Алексеевна излишне добра к своим ученикам. Злобная зануда заставила бедную Веру переправить четверку, уже поставленную и в дневник, и в журнал, на тройку. Мало того, она потребовала, чтобы Фурман сел поближе к ней (для чего пришлось освобождать целую парту) и написал свой ответ еще раз – на отдельном листочке и так, как положено.
Кто-то из ребят покрутил пальцем у виска, девчонки качали головами и осуждающе поджимали губы, но все было исполнено по желанию дорогой гостьи.
Фурман частью ума жалел Веру: зря все-таки она на него понадеялась. Вызвала бы сразу кого-нибудь из зубрил-отличников – в крайнем случае, тетка потребовала бы поставить им четверку, но все было бы лучше… Самому-то Фурману до лампочки – что тройка, что четверка. И с бабой этой тоже все понятно – она просто ЗЛАЯ СТАРЕЮЩАЯ СУКА (как только с ней муж живет…). А вот то, что нос уже совсем не дышит и башка как в тумане – это и вправду нехорошо.
Через пять минут события получили новый поворот. Сданный Фурманом листочек методистку не удовлетворил: там не было фамилии, почерк был неаккуратный, а главное, чертовы пункты опять расположились не так, как в учебнике.
– Ну что ж, вот видите! Обращаю ваше внимание, Вера Алексеевна, что я все-таки была права! Молодой человек, подождите, куда же вы? Мы ведь с вами еще не закончили! Присядьте, я вам объясню, что делать дальше. Если вы не можете запомнить правило, то вам нужно взять учебник, выучить этот раздел наизусть и выполнить работу еще раз – или столько раз, сколько потребуется, чтобы сделать все, как надо. Вам же поставили тройку, а не двойку, так что уж постарайтесь хотя бы оправдать эту оценку!
Фурману вдруг показалось, что это уже слишком: в груди с тяжелой ухмылкой шевельнулся короткий малиново-алый меч – но энергия тут же иссякла, и им снова овладело терпеливое равнодушие. Да и вступить сейчас в пререкания с этой дурой – только Вере сделать хуже… Волоча ноги, он сходил к своему обычному месту, взял там учебник, но вырывать из тощей тетрадки еще один лист у него не было ни сил, ни желания.
– У бедя листочка больше дет, – шмыгнув, хрипло объяснил он.
Стерва радостно завелась с пол-оборота:
– Вера Алексеевна, выдайте пожалуйста, молодому человеку пару чистых листочков – он говорит, что у него их нету!
– Пожалуйста. Возьми, Саша, – тихо произнесла Вера. Лицо у нее посерело и словно бы высохло: стало стареньким, морщинистым. Ей было явно хуже, чем Фурману. Может, ей уже пора вызывать врача?..
Чтобы не возникли еще какие-нибудь непредвиденные проблемы, он решил не торопиться и дотянуть оставшиеся до конца урока пятнадцать минут. Ему ведь велели читать учебник? Очень хорошо, он будет его читать. Правда, с этой жабы все может статься – еще потребует, чтобы он задержался на перемене… Ну уж нет, этого он не потерпит! Будь что будет!..
Из носа теперь текло непрерывно.
– Прекратите шмыгать! Вы мне мешаете! – напугав его, брезгливо прошипела методистка. – У вас что, платка носового с собой нет?!
На самом-то деле время от времени покашливал и похрюкивал в классе не один Фурман – просто он сидел близко…
А чего это я оправдываюсь? Ну да, нету у меня платка, дома забыл! Могла бы свой чистый предложить, в конце концов! (если у нее есть… фи…)
Господи, как же она меня ненавидит – даже интересно… – удивился Фурман, поймав на себе очередной леденящий взгляд. – Да я читаю, читаю… Странно, это относится только ко мне лично или, может, ко всем детям вообще – троечникам, сопливым?.. Может, ей нравятся одни отличники? Но некоторые вон тоже сидят шмыгают… Неужели все женщины-методисты такие же бешеные? Откуда же они берутся?.. Так-то, если посмотреть, – обычная тетка. Украшений, правда, много… Так, четвертое…
Ну не могу я совсем не шмыгать!!! Что мне, не дышать?! Ты этого хочешь?!
А я и сам не хочу.
Сдохнуть бы поскорее…
Спокойно. Пять. Господи! Какая же тоска нечеловеческая! И стрелка еле ползет.
…Да пошла ты на хуй.
Перед последним уроком он, собравшись с силами, подошел к Вере и извинился, что подвел ее. Она тихонько махнула рукой: «Да ничего, ты не виноват. Это я не додумала… Ничего страшного. Спасибо тебе. За сочувствие».
Никто. Никто.
Никого. Пустыня.
IV. Подполковнику никто не пишет…
К весне полкласса уже ходило с комсомольскими значками, а Фурман, сумрачно и гордо мечтавший быть принятым в настоящие коммунисты, по-прежнему каждое утро несколькими машинальными движениями завязывал на шее свой заношенный шелковый пионерский галстук. Третий год подряд его избирали главным редактором дружинной стенгазеты, и старший пионервожатый Леня откровенно признавался, что не желает отдавать столь ценный кадр своим «конкурентам» из комсомольской организации. Всю осень он буквально со слезами на глазах умолял Фурмана «еще немножко» подождать с подачей заявления о приеме в комсомол. Но после зимних каникул, когда Фурман уже всерьез забеспокоился о своей судьбе, Леня с неожиданной наглостью пригрозил, что вообще не даст ему необходимую характеристику.
Фурмана настолько оскорбила эта подлая «антикоммунистическая» угроза, что он прервал все отношения с Леней и демонстративно бросил заниматься газетой. У него даже мелькнула злобная мысль пожаловаться на шантажиста куда-нибудь в райком комсомола, и лишь высокомерное презрение к своим жалким «частным» обстоятельствам удержало его от этого шага.
Несмотря на публичный скандал, в ситуации все же сохранилась определенная двусмысленность. Пионерская комната уже довольно давно была закрыта на ремонт, и газету приходилось делать где придется: то у Фурмана дома, то вообще чуть ли не на коленках (раздражавшийся Фурман не раз пытался убедить Леню, что работать в таких условиях невозможно и надо просто на время остановиться). Если бы Леня захотел загладить ссору, он мог бы считать, что газета перестала выходить не из-за бунта главного редактора, а «по техническим причинам»…
Между тем еще осенью состав Совета дружины и, соответственно, редколлегии был почти полностью обновлен. Прежний невзрачный «актив» и склонную к анархизму фурмановскую братию сменили бодренькие доверчивые шестиклассники. Фурман с ними почти не пересекался, и когда в середине марта его – в качестве все еще исполняющего обязанности главного редактора – пригласили в пионерскую на «традиционное чаепитие» новой команды, он вдруг почувствовал себя среди всех этих полузнакомых детских лиц каким-то старым пнем на весенней поляне – особенно по контрасту с Леней, который выглядел вдохновленным и даже помолодевшим. Пионерская комната после ремонта тоже приобрела несколько иной вид: ее серые крашеные стены стали теперь давяще темно-бурыми, зато появились новые маленькие стулья и повсюду на виду аккуратно, точно памятники, оказались расставлены барабаны, горны, знамена, вымпелы… Раньше Лене приходилось постоянно воевать за то, чтобы вся эта парадная атрибутика оставалась в шкафах, – а иначе каждый входивший в пионерскую тут же норовил «сыграть на трубе» или хотя бы чуть-чуть побарабанить; как видно, с новым составом Совета дружины у Лени возникало намного меньше проблем – по крайней мере, чисто дисциплинарного характера.
На само «чаепитие» Фурман опоздал, так как решил после уроков сбегать домой пообедать. Когда он, слегка запыхавшись, постучался в пионерскую, там все еще шло обсуждение текущих вопросов. Фурман пробрался в уголок на свободное место и в ожидании начала праздника скромно занялся изучением обстановки. Этому захватывающему времяпровождению он посвятил целый час, успев потихоньку проклясть все на свете.
Около пяти деловая часть вроде бы завершилась. Но тут Леня – приветственно кивнувший при появлении Фурмана, но так и не сказавший ему ни одного слова, – выкинул очередной фортель. Попросив общего внимания, он с благостной улыбкой объявил, что хочет еще раз – для тех, кто не знает, кто у нас сегодня в гостях, – представить «заслуженного ветерана нашего общего дела, бессменного главного редактора» и т. д. и т. п., который великодушно согласился поделиться с нами своим богатейшим опытом и рассказать «необстрелянной» молодежи о нелегком газетном деле. Пожалуйста, аплодисменты!..
Фурман оказался совершенно не готов к подобному повороту. Он по новой-здоровой жутко разозлился на провокатора Леньку, да и на свою собственную идиотскую наивность: так вот, значит, зачем его сюда позвали – опытом делиться! У него возникло острейшее желание немедленно рвануться к выходу, хлопнуть за собой дверью и больше никогда здесь не появляться. Но чтобы добраться до двери, нужно было перешагнуть через множество чужих ног – и при этом, что тоже немаловажно, ни разу не споткнуться… Кроме того, никто из бедных шестиклашек, конечно, не понял бы причины такого внезапного взрыва негативных эмоций. Решили бы, небось, что он просто «псих» (а потом встречайся с ними взглядами на переменках, – и ничего ведь не останется, как и дальше пугать их, изображая из себя «бешеного»)…
Все весело прогрохотали стульями, расчистив для оратора свободный пятачок, – и Фурману пришлось наскоро сделать окончательный выбор. Пока он вставал и протискивался к «трибуне», следы негодования на его лице удачно смешались с понятным «волнением вызванного к доске», но само начало выступления получилось довольно натужным, так как он не чувствовал, чего все-таки от него хотят.
Через некоторое время Леня вежливо остановил его. «Я прошу прощения, – сказал он, – видимо, это целиком моя вина как организатора, что наша дружеская неформальная встреча становится похожей на какой-то доклад или лекцию. Конечно, послушать доклад интересного человека тоже бывает полезно, но вы все уже достаточно опытные общественные работники, и должны знать, что настоящее живое полноценное общение происходит обычно в форме диалога. Поэтому я предлагаю построить наш разговор немного иначе, чтобы приблизить его к жизни, так сказать. Например, Саша может отвечать на ваши вопросы – естественно, если они у вас появятся. Имеются ли какие-нибудь возражения?»
Молодежь со странной серьезностью отнеслась к поставленному вопросу и, как показалось Фурману, надолго погрузилась в тщательное продумывание всех «за» и «против». Но ее коллективная мысль, судя по всему, обладала совершенно неимоверной скоростью. Спустя какие-то секунды все одновременно пришли к единодушному выводу, что «так оно, наверное, будет лучше», – и после Лениного приглашающего жеста вопросы вдруг посыпались, как из рога изобилия.
Задавались они с одинаковой деловитой интонацией, однако большая их часть (даже если сделать скидку на полный «непрофессионализм» спрашивающих) не содержала ровно никакого смысла и рождалась явно «от балды», лишь бы спросить. Удивительным было то, что этот поток нелепостей не иссякал, и Леня, который взял на себя роль ведущего, едва успевал предоставлять слово тянущим руки.
С какого-то момента Фурман стал подозревать, что несчастные юные активисты, будто бы наивно желающие с наскока овладеть абсолютно всеми секретами журналистского мастерства, на самом деле просто исполняют чей-то (известно чей!) отчаянный приказ: выжать из гостя все, что возможно, а затем… Единственной реальной целью такой атаки могла быть только тайно запланированная на сегодняшний вечер торжественно-унизительная отставка главного редактора. А что – со зловредного Леньки, пожалуй, станется…
Конечно, по большому счету этот «заговор» (если бы даже он и существовал) был бы просто смехотворен. Что ж, посмотрим, решил Фурман, и «живое общение с массами» продолжалось: на какие-то вопросы требовалось отвечать более подробно, а некоторых отдельных наглеющих на глазах вопрошателей приходилось жестоко подавлять ораторским искусством, дабы и остальные держались в рамках.
Все эти «тактические» задачи решались Фурманом как нельзя лучше, однако чем дальше, тем очевиднее становилось исходное неравенство сил: безмозглая пытливость юности, похоже, не знала устали, а у «ветерана» от напряженной бессмысленности происходящего начала раскалываться голова.
Вскоре в фурмановском черепе уже так ослепительно бухало, что теперь он едва ли смог бы самостоятельно добраться до двери, не то что хлопнуть ею. Мелькавшие между грозовыми разрядами в его мозгу умильные видения того, как жертвы его тонких насмешек будто бы решают прекратить свой издевательский допрос, милосердно прощают своего слабеющего обидчика и чуть ли не под руки провожают его до дому, были все-таки явным бредом… Сознание Фурмана с тоскливым безразличием уже примеривалось к возможным повреждениям, которые получит его тело, если он упадет в обморок, – но тут его спас Леня.
Наверное, он просто следил за часами. Начав с нескольких произнесенных задушевным голосом и почти никем не замеченных намеков на то, что с вопросами пора бы закругляться, Леня вынужден был сменить интонацию на более требовательную. Но дело зашло уже слишком далеко, так что и этот сигнал оказался воспринят отнюдь не всеми. А поскольку Леня, похоже, возмечтал именно вот сейчас эффектно продемонстрировать «старому диссиденту Фурману» полную музыкальную управляемость своего коллектива, это мелкое непослушание буквально вывело его из себя, и последний, уже совершенно истерически фонтанировавший источник искреннего девичьего любопытства к газетному делу он заткнул почти по-солдатски грубо. Когда очнувшуюся от сладких грез маленькую, интеллигентно извивающуюся пиявочку отцепили от полумертвого Фурмана, он благодарно отполз в угол и прижал разрывающийся затылок к прохладной стене…
На этом обмен опытом был приостановлен. По указанию Лени дежурные начали сдвигать столы и готовиться к чаю. Видимо заметив, что гость находится «немного не в духе», Леня счел нужным подсесть к нему поближе и извиниться за «неумеренную активность нового поколения», которое пока «еще очень слабо поддается дрессировке». Говорить Фурман не мог (он и веки-то еле удерживал открытыми) и только кивал с безразлично-ласковым выражением – но собеседника это вполне устраивало…
«…Саша, Саша, не зевай, а то тебе ничего не достанется!» – озабоченно встряхнул он Фурмана, только что в глубоком безмолвии скользившего со своими спутниками в узкой длинной лодке по черной глади огромного озера у подножия величественной и прекрасной горы Ассинибойн, чья изломанная временем вершина с несокрушимой гордостью смотрела в чистое предзакатное небо, а могучие плечи и грудь были с нечеловеческим искусством украшены многоцветным бисером осенних лесов, отражающихся… – Фурман успел два раза моргнуть перед тем, как по Лениному сигналу новое поколение со звериной сосредоточенностью накинулось на коробочку с раскрошившимся вафельным тортом, пакетики с солоноватыми сушками и несладкий чай…
Все крошки были подобраны, все пальцы облизаны – и наступил черед коллективного веселья. Начали его с невинных детских развлечений типа колечка; затем перешли к более сложной игре в ассоциации (загадывали не только присутствующих, но и всем известных учителей, несмотря на протесты Лени); в качестве отдыха от «тяжелого умственного напряжения» последовали бесконечные серии неумело пересказываемых бородатых анекдотов; потом стали играть в ручеек; а закончилось все, как водится, дикой беготней вокруг стола, которую Леня безуспешно пытался остановить, – детишки уже устали…
Сквозь головную боль, немного притупившуюся после чая, Фурман с вежливо одеревеневшей улыбкой наблюдал за происходящим, но его взгляд то и дело настороженно возвращался к безусловному лидеру всей этой компании, шестикласснице Маше – необычно беловолосой большелобой отличнице с внимательными голубыми глазами и располагающей улыбкой. Маша была настоящей звездой: всех заводила, со всеми смеялась, всех тянула в пляс… Однако по мере перехода от «культурных» развлечений к стихийному массовому беснованию в ее направленной во все стороны «солнечной активности» стал проявляться некий «фокус»: Машино и без того весьма раскованное обращение с сидевшим справа от Фурмана спокойным широкоплечим парнем постепенно приобретало загадочно вызывающий – и даже попросту неприличный характер. Парень терпеливо пытался утихомирить разбуянившуюся Машу, она делала вид, что подчиняется ему, но эта игра только распаляла ее. Фурману казалось очень странным, что все остальные как будто не замечали в Машином поведении ничего особенного. Малыши-то еще ладно, но Леня?..
Угарное веселье было внезапно прервано мощными ударами в запертую дверь и чьими-то неразборчиво-угрожающими криками с той стороны. Возникла немая сцена. Даже у Лени побелело лицо… К его чести, он первым догадался, что это уборщица, и все просто попадали от хохота… Тем не менее было понятно, что пора собираться по домам.
Напоследок по просьбе Лени нестройный хор исполнил а капелла песню про надежду («Надежда, мой компас земной…»). Но и выйдя из школы на холодный вечерний воздух, все еще долго не могли разойтись, так как Маша с неиссякаемой пьяной энергией настаивала, что они непременно должны попрощаться всеми известными ей способами («Не то пути не будет!»), включая братские поцелуи в щечку, а также «нехорошие тайные людоедские ритуалы племени мумбу-юмбу», сопровождаемые разнообразными похлопываниями, притопываниями и яростно-бессмысленными воплями…
С этого затянувшегося допоздна чаепития Фурман пришел домой наполненный такой необъяснимой печалью, что ее не могла скрыть даже слепящая головная боль…
После двух таблеток кошмарные тиски нехотя разжались, но Фурмана стала грызть гадкая, постыдная зависть к яркости и теплу чужой жизни. Ему вдруг открылось: в последнее время многое, слишком многое из того, что он до сих пор считал частью себя, незаметно, одно за другим отрывалось от него и уносилось прочь невидимым течением. Хуже всего было то, что жизнь на этих «унесенных островах» продолжала идти как ни в чем не бывало – без него. Получалось, что он вообще никому не нужен. (Ну, может, кроме родителей – но и они тоже с какой-то возмутительной беспомощностью отдалялись и отдалялись от того места, где находился он сам.)
Может, это он просто «взрослеет»? И глупо, наверное, жалеть об уходящих детских дружбах и занятиях – ведь эти «потери» случались со всеми, кто вырастал, и никто от них пока еще не умер…
Но в его собственной жизни таких «опустевших мест» становилось все больше – а что же взамен?..
Ничего взамен не было.
НИЧЕГО.
…Хорошо, пусть так… Но подожди, подожди, что случилось-то? Почему именно сегодня все вдруг стало таким беспросветным? Неужели только из-за этого «чаепития»?..
Да что там было-то такого?!
Маша?
Ну и что?..
Вдруг он с какой-то нелепой, отстраненной радостью догадался: СЕЙЧАС ПОТЕКУТ СЛЕЗЫ. Он взволнованно свернулся калачиком – но вместо забытого детского плача из него вырвалось лишь сухое судорожное похныкиванье… Не получилось. Немножко стыдно.
Эх, и зачем он вообще туда поперся?! Хотел «посмотреть», проверить, как они там без него обходятся? Да какое ему дело до всех них – и до «старика Лени» с его фальшивым дружелюбием, и до этой совершенно чужой, бешеной сияющей беловолосой девочки… не говоря уж о явно изменившейся к худшему пионерской комнате… Да он совсем чокнулся – домом она ему была, что ли?!
На следующий день Леня разыскал Фурмана во время большой перемены, желая узнать, что он думает по поводу их дальнейшего сотрудничества. Разговор велся осторожно, с уходами в посторонние темы, и между делом Леня дал ответ и на мучившую Фурмана загадку («А, ты об этом… Да ты, оказывается, совсем отстал от жизни!..»). Словно по десятому разу повторяя один и тот же урок, он терпеливо объяснил, что у Маши с тем парнем «роман» – «но это совсем не то, о чем ты, скорее всего, подумал. Потому что, несмотря на свой юный возраст, они… – Леня вдруг запнулся. – Я вполне отдаю себе отчет, как странно это может звучать – особенно из моих уст, но ничего не могу поделать, факт остается фактом… – короче, ОНИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА. А в наше – я не побоюсь этого слова – развратное время такое чувство, как ты, наверное, уже и сам понимаешь, встречается крайне редко». – «Это что же, как в “Ромео и Джульетте”, что ли?» – с насмешливой недоверчивостью спросил Фурман. Леня развел руками.
Подробности этой истории оказались еще более невероятными: трогательно-серьезные отношения этой парочки начались вовсе не вчера, а продолжаются уже второй год и абсолютно ни от кого не скрываются – поскольку, как уверена Маша, только нелепые человеческие условности, связанные с ее формальным возрастом, отделяют ее от того, что считается «законной» семейной жизнью. Кстати, Леня уже получил от Маши приглашение на ее свадьбу, которая состоится ровно через столько-то лет и столько-то дней, как говорится, «при любой погоде» (сама Маша в любой момент может точно сказать, сколько ей еще осталось ждать)…
Взрослые поначалу, естественно, пытались всеми правдами и неправдами бороться с этой неуместной любовью. Но им пришлось столкнуться с таким безумным, отчаянным и даже прямо угрожающим сопротивлением, что в конце концов все посчитали за лучшее смириться – или, по крайней мере, сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. Важную роль сыграло и то обстоятельство, что Маша и ее мальчик, несмотря на свои, мягко говоря, «не совсем обычные» отношения, оставались бесспорно лучшими учениками в своих параллельных классах. В какой-то момент до всех дошло – и родители это поняли, и учителя, и даже администрация школы (которая тоже оказалась замешана в эти события): еще чуть-чуть, и они могут просто потерять обоих детей – в физическом смысле. Наверное, «борьба» и вправду дошла до точки, за которой уже…
– Вот, такая у нас теперь веселая жизнь, – похлопал глазами Леня.
Делать газету Фурман отказался – на что Леня только понимающе вздохнул (видимо, был готов к такому исходу). Дальнейшую мирную беседу о том о сем прервал звонок на урок. Леня с грустным видом протянул Фурману свою теплую размягченную ладонь, задержал его руку в пожатии, как бы желая продлить общение, и даже успел отпустить его… – но, так и не дождавшись ни просьбы, ни вопроса о «главном», вынужден был сказать сам: «Кстати, если тебе нужна характеристика, то никаких проблем с этим нет». – «А что, были какие-то проблемы?» – на ходу удивился Фурман.
Внимательно посмотрев на него, Леня медленно и вяло погрозил ему сперва кулаком, а потом указательным пальцем. Фурман был собой очень доволен.
Кстати, в той, старой, пионерской – еще перед их с Леней скандальной ссорой – между ними произошла одна анекдотически дикая сцена, которая, как подозревал Фурман, оказала подспудное разрушительное влияние на их отношения.
Тогда срочно потребовалось нарисовать кучу каких-то дурацких плакатов, и Лене пришлось просить Фурмана привлечь к работе его уже «уволенных» из пионерской одноклассников. Леня (или Рубильник – как они его насмешливо называли между собой за его крепкий клювообразный нос) больше ни в каком смысле не являлся для них начальником, и вся тяжесть руководства этой «операцией» легла на Фурмана.
После уроков в пионерскую нежданно завалилась целая разухабистая компания, включая и тех, кто вообще никогда не держал в руках карандаш. Леня и так был на взводе, поэтому Фурману ничего не оставалось, кроме как дипломатично предложить ему удалиться: «Нет, ну правда, наверняка ведь у тебя есть еще много каких-то других важных дел? Я имею в виду – не здесь…» Злобно сощурившись, Леня взял с Фурмана личное клятвенное обязательство, что к назначенному часу все будет сделано, и после этого в самом деле куда-то исчез.
Кого смог, Фурман под разными предлогами вытолкал за дверь, кого смог – не глядя на таланты, засадил рисовать плакаты, но кое с кем совладать не удалось – эти и горн нашли в шкафу, и бедный барабан… Только с большим знаменем Фурман не позволил им баловаться.
Дело, конечно, продвигалось намного медленнее, чем это планировалось. Но если честно, то в полном объеме задание все равно было заведомо неисполнимым. Тем более что половина работников, побуждаемая бездельниками, через некоторое время разбежалась (никому ж неохота было тратить на Леньку целый день – так, порисовали часок в свое удовольствие, и до свидания…).
Как и следовало ожидать, Леня пришел, увидел и рассердился. То есть прямо-таки впал в ярость. Тем, кто по своей доброй воле еще продолжал на него ишачить, его агрессивный тон, естественно, не понравился, они засобирали вещички и тоже смотались. Остались только двое «верных»: Пашка и Фурман.
– Ну, и чего ты этим добился? – не отрываясь от листа, сказал Фурман. – Сегодня мы уж точно не успеем…
Тут Леня совсем сорвался с цепи: он негромко ругнулся матом; схватил и брезгливо разорвал несколько чужих произведений (возможно, и впрямь не слишком удачных, но ведь люди все-таки работали!); потом подскочил к двери, запер ее на ключ, положил его в карман и сорванным голосом прокаркал, что Фурман не выйдет отсюда, пока не сделает обещанного – до последнего листочка, хоть всю ночь у меня здесь просидишь!
– А ты можешь проваливать домой, – угрюмо бросил он ошеломленному Пашке…
Фурман решил, что на этом его оправдывающее сочувствие Лениным трудностям перешло бы уже все границы допустимого. Немного подумав над тем, как ему лучше поступить, он демонстративно отшвырнул от себя незаконченный рисунок, спокойно поднялся из-за стола и неожиданно во весь голос грубо заорал на Пашку, передразнивая Ленины напряженные жесты и интонации. Эффект получился замечательный. В первые секунды Пашка совершенно потерял ориентацию, потом его поразила ужасная мысль, что его несчастный друг заболел психически, и лишь на каком-то уже откровенно пародийном зверском рычании он неуверенно заулыбался. Леня – краем глаза Фурман следил за его реакцией – поначалу замер, прислушиваясь и не понимая, что здесь происходит, затем он весь как-то растерянно обмяк, ссутулился – и наконец нехотя тоже искривил губы…
Атмосфера в пионерской несколько разрядилась. Под давлением Фурмана Леня даже проговорился, что работу нужно сдавать вовсе не сегодня, а завтра, причем даже не с самого утра, а только к четырем часам, – то есть, если учесть, что Леня мог снять Фурмана с уроков, времени впереди было еще навалом, и вообще не из-за чего было устраивать весь этот скандал. Но Лене, видимо, казалось, что теперь любая уступка с его стороны неминуемо будет означать «утрату авторитета», и, несмотря на фамильярно-энергичные попытки Фурмана помочь ему расслабиться, он снова и снова загонял ситуацию в тупик противостояния. Фурман уже тоже охрип, доказывая ему бессмысленность его жестких требований, но Леня уперся, как бык.
В какой-то момент Пашка, утомленный их нескончаемым яростным спором, отпросился помыть кисточки в туалете. Леня выпустил его и опять запер дверь. «Лень, мы же с тобой вдвоем, скажи честно, на кой фиг ты так себя ведешь-то по отношению ко мне? Я пока еще терплю, но я ведь и вправду могу на тебя обидеться», – с укоризненной откровенностью сказал Фурман. «Выбирай выражения, – мрачно предупредил Леня. – Ты еще салага, чтобы со мною так разговаривать». – «А-а, ну конечно, – взвился Фурман. – Я салага, козел, болван, тупица, идиот… Так точно, ваше превосходительство! Мы такие. Зато вы у нас – просто гений! Так хорошо все тут устроили и организовали, работа просто кипит…» На последних словах Леня, прошипев: «Ах ты, щенок!..» – вдруг бросился его бить. Фурмана спасло только то, что между ними оказался стул с железными ножками – пока Леня расправлялся с ним, Фурман успел отскочить. Но на этом препятствии Ленина ярость и не подумала остановиться, и он молча погнался за ошарашенным Фурманом вокруг столов…
На втором круге этого кросса с препятствиями истерически хихикавший и повизгивавший зайчик-убегайчик испугался уже почти по-настоящему: дверь заперта, в школе – никого, кроме Пашки (что он может?..), а бывший морской пехотинец и их старший пионервожатый Леня вдруг обернулся бешеным маньяком с горящими красными глазами и растопыренными когтями и… – сколько они еще так пробегают друг за другом? Если это чудовище догадается вспрыгнуть на стол… Начать кричать? Никто не услышит. Заговорить с ним?.. вернуть его… в человеческий образ…
– Лень, ты что… совсем с ума сошел? Слишком много работал? – запыхавшимся голосом стал выкрикивать улепетывающий со всех ног Фурман. – Ты решил, что ты Волк? Не пугай меня! Мне страшно! Ой! Смотри, не ушибись!
Раскидывая стулья, они побежали в обратную сторону. Леня только сопел. Глаза у него были очень целеустремленные.
Вот он наконец сообразил залезть на стол…
– Да ты что! Грязными ногами!!! Как ты мо… – Фурман еле успел увернуться от мелькнувших перед его носом растопыренных когтей, больно ударился коленом о стул, тут же неудачно налетел на следующий, застрял в нем, попятился, обернулся… Догоняя его мощным «пенделем», Леня резко вскинул ногу в черном солдатском ботинке – и в следующее мгновение она оказалась пойманной обеими фурмановскими руками в непроизвольном, но очень точно выполненном приеме «захват на бедро».
Подпрыгивая на левой ноге, Леня потянул к Фурману свои страшные клешни – тот, пытаясь отклониться, поднял захваченную ногу вверх почти на уровень груди, Леня стал терять равновесие, Фурман с трудом удержал его, орудуя ногой как рычагом… – и на этом все вдруг остановилось.
Леня даже не мог ухватить Фурмана руками, поскольку его нога оставалась в высшей точке подъема. Но и Фурман не смел отпустить его… Кто бы мог поверить? Это был чистый пат.
– Эй, откройте дверь! Что вы там делаете? Пустите меня-то! – вдруг прорезался обиженный Пашкин голос. Возможно, он уже давно стучался и скребся с той стороны, но они не просто не слышали этих звуков.
– Ну, и что теперь?.. – тяжело дыша, вежливо поинтересовался Фурман.
Закряхтев, Леня с еле сдерживаемой угрозой глухо приказал: «А ну отпустил, быстро, я кому сказал!!!»
Ситуация складывалась небывало пикантная.
– Хорошо, предположим, я тебя сейчас отпущу – и что ты будешь делать? Опять на меня набросишься?
– Давай! – нетерпеливо подпрыгнул Леня. – Без разговоров!
Фурман опасливо посмотрел в его бегающие глаза.
– Эй! Ну вы что?! – возмущенно ныл Пашка. – Мне уже надоело тут торчать! Я сейчас дверь начну выбивать! – Для иллюстрации он пару раз стукнул каблуком.
– Нет, на таких условиях я не согласен, – сказал Фурман.
– Хватит болтать, ты!.. – злобно процедил Леня. – Если ты сейчас же не уберешь руки, ты об этом очень пожалеешь. Я тебе это гарантирую. Ну, считаю до трех!..
– Вот видишь! Ты мне все время угрожаешь! Как же ты хочешь, чтобы я тебя отпустил? Ты ведь ведешь себя просто как ненормальный! Гоняешься за мной по всей комнате… Как какой-то бешеный маньяк!!! Ты меня уже довел, что я правда начинаю тебя бояться! Ты вообще соображаешь, чего ты делаешь?! Или ты совсем уже взбесился? Ты хоть помнишь, как меня зовут?!
Леня растерянно взглянул на кричащего Фурмана, потом отвернулся и глубоко вздохнул.
– Ну все. Ладно… Отпусти ногу.
– А ты обещаешь, что больше не будешь меня бить? – с плаксивым надрывом спросил Фурман.
Не отвечая, Леня со странным застывшим выражением искоса смотрел куда-то прямо сквозь него – словно за его спиной стоял еще кто-то… Фурман испуганно обернулся, но там, конечно, никого не было… Ему вдруг показалось, что он увидел, как в Лениных глазах блеснули слезы, и он сразу отпустил его.
Леня повернулся к Фурману спиной и несколько раз потопал ногой, поправляя задравшуюся штанину. Потом пошел отпирать дверь.
– Чего вы так долго не открывали-то?.. У вас тут что-то произошло, да? – Пашка недоверчиво и тревожно переводил взгляд с Лени на Фурмана. – Он тебе не сделал ничего плохого?..
– Конечно, ничего! А чего он мне может сделать плохого? – с преувеличенной бодростью удивился Фурман. – А почему ты спрашиваешь?
– Ну… Мало ли… Так ты уже можешь идти домой, он тебя отпускает?
– Не знаю. Спроси у него.
Леня устало сказал:
– Можете уходить…
Пашка с Фурманом начали молча собираться. В воздухе висела неловкость.
– Слушайте, если вы не очень торопитесь, посидите со мной просто так, а? Совсем чуть-чуть, пару минут…
– Конечно! – с облегчением согласились они. – Мы никуда не торопимся!
– …А что, если мы выключим свет и немножко посидим в темноте? – спросил Леня. – Вы не против?
Наоборот, они были целиком за!..
Без шуток, это было хорошо. Фурман невидимо улыбался, и одновременно в нем все нарастала жалость к этому бедному вспыльчивому одинокому Леньке в его солдатских ботинках.
– В темноте глаза отдыхают, – вдруг глубокомысленно изрек Пашка. – Нет, по правде!..
* * *
Спустя неделю после «чаепития» Фурмана опять попросили зайти в пионерскую. На этот раз Леня предложил ему поучаствовать в готовящейся общешкольной военно-патриотической игре «Зарница». Поблагодарив за проявленное внимание, Фурман уклончиво сказал, что подумает. Но Леню, который в этот момент находился в необычайно благостном и лирически-расслабленном настроении, подобная мягкая «отмазка» совершенно не удовлетворила, и он стал всячески соблазнять Фурмана съездить в ближайшие выходные «на пикник», то бишь на разведку местности для будущей игры. Собирается, мол, маленькая теплая компания, только свои люди, а главное, эта поездка ни к чему тебя не обязывает: вопрос о твоем участии в самой «Зарнице» остается открытым, ты можешь над ним еще подумать и даже отказаться, хотя мне лично этого очень не хотелось бы… Со стороны Лени это был весьма тонкий ход. К тому же, с деланым равнодушием добавил он, мы поедем не просто так: наши шефы из военной части выделили для нас спецавтобус. Фурман искренне удивился небывалому размаху «мероприятия» и – вопреки своим собственным твердым намерениям больше никогда не поддаваться на Ленькины провокации – вдруг согласился ехать.
В воскресенье перед входом в школу действительно стоял небольшой автобус с аккуратно задернутыми желтыми шторками на окнах. В салоне почему-то уже сидели какие-то люди. Поговорив с ними, Леня вышел к своей недоумевающей «теплой компании» и со смиренной ухмылкой объяснил, что заботливые шефы решили прикомандировать к ним консультантов-профессионалов: четырех лейтенантов, недавно окончивших военное училище, капитана и майора. Я прекрасно понимаю все ваши возражения, сказал Леня, но в данной ситуации они абсолютно бессмысленны.
Дорога к выбранному военными месту заняла два с половиной часа. Мелькавшие за окнами по-весеннему замызганные московские улицы постепенно сменялись все более унылыми окраинными пейзажами, которые в свою очередь незаметно перешли во что-то среднее между заброшенной в начальной стадии стройкой, бесконечной мусорной свалкой и голой холмистой степью. Было еще холодно, и на земле там и сям виднелись обуглившиеся языки снега.
В какой-то момент автобус свернул с шоссе на разбитую боковую дорогу и, надсадно завывая мотором, стал пугающе заваливаться на невидимых ямах и вздыматься на гребнях, как корабль в штормящем море. Сперва «качка» вызвала всеобщее веселье, но уже на третьей минуте такой езды многие, судя по лицам, ощутили приступы морской болезни. Автобус продолжал свое мучительное продвижение к неизвестной цели еще неопределенно долгое время, но когда он вдруг замер в странной тишине посреди бескрайней ледяной пустыни, выходить из «надышанного» и «насиженного» салона на свежий воздух никому почему-то не хотелось… Первыми сквозь со скрипом открывшуюся узкую переднюю дверь отважно выпрыгнули юные лейтенанты, за ними с бодрыми улыбками по ступенькам тяжело спустились капитан и майор, а следом, кряхтя и поеживаясь, потянулись пионеры, причем мальчишки на этот раз вежливо пропустили «дам» вперед.
Игру предлагалось проводить в огромном овраге, неприметно начинавшемся метрах в ста от того места, где они остановились (двигаться дальше машина не могла, так как «дорога» внезапно кончилась). Склоны оврага были довольно крутыми, а по его дну бежала замусоренная речушка. По мнению военных, для тактического ротного учения эта местность подходила просто идеально. Но представить себя ползающим по этой окаменевшей грязи (которая, кстати, вскоре должна растаять) было почти невозможно. Вот если бы сейчас было лето…
Как бы в ответ на эти никчемные мечты с потемневшего неба посыпался то ли мелкий мокрый град, то ли замерзающий на лету дождь. Минут пять все героически топтались под этой колючей моросью, а потом побежали к милому автобусу. Но оказалось, что бедняга тоже весь заледенел изнутри за время получасовой стоянки…
Повторная «качка» была перенесена всеми намного легче. Как только выбрались на шоссе, под утешительно-ровное урчание мотора были распакованы припасенные бутерброды и прочая снедь, а из приоткрытых дымящихся термосов по салону аппетитно разнеслись острые запахи настоявшегося чая и кофе.
Офицеры скромно отвернулись к окнам, и только пара лейтенантов на третьем ряду продолжали о чем-то спорить – даже чуть горячее, чем раньше… Леня потихоньку обратил внимание пирующих пионеров на тот странный факт, что никто из офицеров не жует. Спохватившись, все принялись делиться с солдатиками «чем бог послал» (как выразилась сердобольная Маша), и те заметно повесели. После еды даже попытались петь хором что-то общее, но холод и однообразие вечерней дороги быстро сморили большинство пассажиров. Маша уютно устроилась на плече своего парня, остальные прикорнули поодиночке, кто как, – и вскоре все были унесены темными волнами болезненно подробных видений и кошмаров, пробуждаться от которых начали уже только где-то в центре города…
Фурман, открывший глаза раньше других, тупо решал, стоит ли ему жалеть о потраченном выходном. Никакой реальной пользы от этой «разведки», конечно, не было, только зря чужой автобус прогоняли. Но и ничего дурного тоже ведь не произошло?.. К «положительным» итогам можно было отнести, во-первых, то, что он поближе присмотрелся к Маше (неизвестно зачем, правда…), впитав в себя мелкую рябь меняющихся выражений ее лица, интонации ее низкого голоса и сдержанную жестикуляцию «воспитанной девочки» (Маша и сегодня искрилась радостью, но уже без своих бешеных «ведьмаческих» закидонов, а временами – особенно когда ее взглядом завладевал заоконный пейзаж – была просто задумчивой и даже грустной); во-вторых, с неожиданной стороны приоткрылся Леня: он единственный обратил внимание на «голодающих» офицеров, тогда как все остальные (включая Фурмана) с простодушной свинячьей жадностью, не глядя вокруг, уписывали за обе щеки родительские припасы; наконец, он просто побывал на природе, если все это можно так назвать…
Но, как говорится, хорошенького понемножку, поэтому от участия в «Зарнице» надо отказаться, и чем скорее, тем лучше. Может быть, даже прямо сегодня…
Втайне (и вполне пассивно) Фурман ожидал, что ему, как заслуженному ветерану и просто старшему по возрасту, будет поручена одна из высших военных должностей. Но все связанное с игрой происходило в какой-то безумной спешке, а «роли» распределялись вообще чуть ли не в самый последний момент; воспользовавшись неразберихой, хитроумный Леня предложил Фурману второй по общевойсковой «табели о рангах» чин подполковника (что было вполне почетно) – но лишь третью по реальному значению должность начальника штаба одной из армий; к тому же Фурман оказался Машиным «противником», и ему сразу стало скучно.
Правила игры были простыми. На верхнюю одежду к плечам каждого солдата приметывалась нитками пара бумажных погон, которые враг должен был срывать. Один оторванный погон означал ранение (с временным выбыванием с поля боя и обязательным нахождением в «медсанбате»), два оторванных погона – гибель.
Кроме того, у каждой армии имелось свое знамя. Захват знамени врагом считался чистым поражением. Во всех иных случаях победить должен был тот, у кого к контрольному часу в строю останется больше «живой силы». Конечно, это правило могло бы побудить обе армии во избежание потерь просто уклоняться от любых столкновений, но, как сказал Леня, на то в войсках и существуют политработники, чтобы гнать солдат в бой…
Подполковником Фурманом владело грустное чувство бессмысленности происходящего, и он почти не думал над составлением плана боевых действий, которого с уважительным недоумением ожидало от него его непосредственное начальство (два «синих» полковника – командир и комиссар), регулярно (видно, по Ленькиному циничному наущению) теребившее его на переменках. «Ребята, самое главное – не нервничать. Будет вам и белка, будет и свисток!» – отмахивался он. Тем не менее иногда ему приходилось появляться в пионерской и симулировать некую «штабную работу».
Просматривая от нечего делать список участников «Зарницы», Фурман с удивлением отметил, что у «синих» вроде бы намного больше девчоночьих фамилий, чем у «зеленых». Он не поленился и всех пересчитал: действительно, у «зеленых» было на семь мальчишек больше. Наверное, так получилось у организаторов не нарочно, поскольку деление на армии шло автоматически по классам. Но во время битвы эта «случайность» обернулась бы явным силовым преимуществом одного из противников.
«А ведь на самом деле ситуация выглядит достаточно скандально…» – с некоторым удивлением подумал Фурман.
И тут ему неожиданно пришел в голову План. В лихорадочном возбуждении продумав основные детали операции, он истерически потребовал, чтобы начальство незамедлительно явилось к нему – скажите им, что это сверхсрочно, а то все рухнет! Когда напуганные полковники прибыли в пионерскую, он заставил их два раза пересчитать списки, лично убедиться в том, что армия врага имеет серьезное и неоспоримое преимущество, а затем приступил к изложению своего АБСОЛЮТНО СЕКРЕТНОГО плана.
«На войне как на войне», – еще до начала боевых действий предлагалось провести небольшую пропагандистскую атаку, рассчитанную не только на будущего противника, но и на якобы нейтральных организаторов игры, которые так нечестно поступили с «синими». Мы должны публично и во всеуслышание объявить о неравенстве сил, возмутиться, поднять шум, может быть, даже вообще отказаться от участия в игре на таких условиях (понарошку, конечно). «Зеленые», конечно, обрадуются, что они сильнее, а организаторы – растеряются, поскольку менять что-либо в общем раскладе игры уже поздно.
В качестве единственного разумного выхода из сложившейся неприятной ситуации напрашивалась передача «синим» нескольких чужих мальчишек. Но всем понятно, что эти, по сути, «проданные в рабство» бойцы наверняка не станут сражаться по-настоящему против своих собственных одноклассников. Поэтому, если такое предложение и возникнет, то мы от него гордо откажемся: спасибо, мол, предатели нам не нужны, лучше уж мы примем эту несправедливость и будем драться в меньшинстве, как герои.
(На самом деле, скажу вам по секрету, при такой массе участников разница в семь мальчишек, конечно, будет играть определенную роль, но все же она не настолько существенна, чтобы, допустим, нас разгромили с первой же атаки. И даже со второй…)
Итак, все абсолютно уверены, что «зеленые» сильнее нас. Организаторы виноваты перед нами, поэтому мы вправе просить какой-то «форы», каких-то небольших уступок, которые уравнивали бы наше положение. Например, чтобы у «зеленых» семеро их самых сильных парней – по нашему выбору – могли бороться только одной правой рукой (левую можно привязать к туловищу – или просто отрезать на фиг). Это была бы вполне справедливая компенсация. Вообще, мы должны строго потребовать, чтобы их парни при столкновении врукопашную с нашими девчонками сдерживали бы себя и дрались не слишком яростно…
Вы зря улыбаетесь. На самом деле это может очень сильно повлиять на исход всей битвы.
Если учесть условия местности, то, скорее всего, нам придется просто сойтись на дне оврага, что называется, «стенка на стенку»: и у «зеленых», и у нас с одного бока будет отвесный склон, на который почти невозможно взобраться, а с другого – речка, в которую тоже вряд ли кто полезет. Ширина площадки – самое большее метров сто пятьдесят. Там растут какие-то кусты и отдельные деревья, но в основном вся местность просматривается. Тайно обойти противника по флангу никто не сможет. Поэтому существует только одно возможное направление атаки – лоб в лоб.
Главная цель – сохранить свое знамя и захватить чужое. Так что схема расположения войск и у нас, и у них будет более или менее одинаковой: впереди – легкая разведка, дальше по линии фронта – главные силы, на флангах – небольшие резервы, в центре – штаб со своей охраной и мощным резервом, а за ним или где-то поблизости будет находиться знамя с небольшой охраной. С одной стороны, это самое защищенное место, ведь его прикрывает вся армия, а с другой – самое уязвимое, поскольку никто не ждет нападения с тыла.
Враги считают, что у них есть определенное преимущество в грубой силе, поэтому они стопроцентно начнут атаковать нас первыми. Возможно, они попытаются прорваться не в центре, а сначала по одному из флангов… Но это не важно.
Я считаю, что обстоятельства – не по нашей вине – заранее сложились не в нашу пользу. В каком-то смысле мы уже обречены на поражение. Причем даже независимо от того, поднимем мы шум из-за того, что у нас в армии одни девчонки, или не поднимем. Если мы смолчим и никому не скажем о нашем «открытии», то у них просто будет на семь парней больше, чем у нас, и это неизбежно сыграет свою роль. Пусть не сразу, пусть постепенно – но это скажется, и они элементарно прорвут нашу оборону не в одном месте, так в другом… Если же этот факт всплывет, они теперь уже все равно будут уверены в том, что они сильнее нас, а мы, хочешь не хочешь, будем знать, что мы слабее. Дело ведь не только в реальном количестве, а и в настрое тоже.
Конечно, вы – командиры, вам и решать. Но, на мой взгляд, если мы просто сойдемся с ними «стенка на стенку», мы, скорее всего, проиграем. Нам нужно применить какую-то военную хитрость…
Я предлагаю сделать так. Втайне от всех мы разделим нашу армию на две части: маленький десантный отряд, состоящий из наших лучших и наиболее подготовленных бойцов (максимум 10–12 человек), и основное войско, большинство в котором так или иначе будут составлять девчонки, но об этом никто не должен догадываться, включая их самих.
И враг, и все наше войско будут думать, что наше знамя находится у нас за спиной. А мы в полной тайне от всех отдадим его самому могучему и самому надежному бойцу из нашего отборного десантного отряда – он аккуратно обвяжется им вокруг тела, а сверху наденет свитер и куртку. Кроме нас и, естественно, самого этого парня об этом будет известно только одному человеку: командиру десантников. Но это еще не все.
Мы отправим этот отряд в глубокий обходной рейд. Они смогут без всякого труда выйти наверх через горловину оврага – она будет располагаться у нас сзади, дно оврага там повышается, но об этом знают только те, кто ездил сюда на разведку местности, мы как раз оттуда и заходили; а теперь все будут спускаться в овраг по лестнице, она находится примерно посередине, но использовать ее потихоньку не удастся, за этим будут строго следить. Потом отряд должен пройти поверху как можно дальше: мы здесь пока будем сражаться, а они постараются найти там удобный спуск и окажутся глубоко во вражеском тылу, который, между прочим, никем не охраняется. Если им повезет – учтите, ведь это наши лучшие солдаты! – они легко перебьют охрану, захватят вражеское знамя, и это будет нашей победой. Если же охрана там окажется слишком сильной, они просто совершат диверсионный рейд по вражеским тылам: уничтожат по дороге с десяток солдат и нескольких офицеров, возьмут «языка», а может, даже и штаб их разгромят… Короче, они в любом случае отвлекут на себя силы врага, посеют там панику и потом потихоньку тем же путем вернутся обратно к нам. Даже если враги за это время, не дай бог, конечно, прорвутся и захватят наш штаб, знамени-то они там все равно не найдут! А по потерям кто выиграет – это вообще невозможно предсказать…
Понятно, что я предлагаю очень рискованную вещь. Но все равно ведь наши девчонки и оставшаяся часть парней будут стоять до последнего и биться за каждый метр нашей территории. Как раз тут нам помогут любые ограничения, которые будут заранее наложены на «зеленых». Очень хорошо, если с нашими девчонками они будут сражаться не в полную силу, медленнее идти в атаку и т. д. Главная задача для нас – это продержаться до возвращения нашего ударного отряда. Даже если они просто вернутся, такая внезапно появившаяся сила может повернуть весь ход событий.
Нет, если их схватят или перебьют всех до одного, то все равно никто не догадается, что знамя может быть у них. Наш «убитый» или «раненый» знаменосец преспокойненько вернется назад со знаменем – ему будет даже легче до нас добраться, ведь он сможет двигаться не кружным путем, а напрямик, через расположение «зеленых». Еще и разведает по дороге что-нибудь… Конечно, а куда ж ему еще идти?!
Да нет, со знаменем ничего не может случиться!.. Послушайте, я вам уже десять раз объяснил весь расклад. Это наш единственный реальный шанс выиграть!..
Идея была прекрасная. Но ошарашенные «синие» полковнички побоялись брать на себя такую большую ответственность и попросили разрешения подумать до завтра. «Ты не обижайся на нас, но просто нам нужно хотя бы немножко переварить этот твой… план», – оправдываясь, бормотали они.
«Да черт побери, вы командиры или кто?! – возмущался про себя Фурман, бредя домой. – Чего вы так боитесь-то? Это же ваша игра! Вот рыбы какие… Ну, не нравится, тогда сами бы придумали хоть что-нибудь!..»
За остававшуюся до игры пару дней больше ничего не произошло. Судя по некоторым признакам, Лене было доложено о состоявшемся разговоре, но никакой определенной реакции «сверху» не поступило. «Синие» полковники не стремились к общению со своим начальником штаба, и он тоже больше не проявлял никакой активности, будучи внутренне готовым и к тому, что его отстранят от должности за попытку «заговора». В стане «синих» сложилось странное безвластие: никто не смог бы с уверенностью сказать, как будет действовать армия на поле боя и чьим приказам она должна подчиняться.
Уже перед самым выездом Фурман прямо спросил об этом Леню. Тот пожал плечами: вы сами, мол, все решаете, а я ни во что не вмешиваюсь, могу только давать советы, если попросите. «Ну, и какой же совет ты им дал?» – поинтересовался Фурман, имея в виду своих полковников. «Действовать по обстановке», – немного подумав, нехотя ответил Леня. «Это значит, кто кого передавит, что ли?» Леня внимательно посмотрел Фурману в глаза и опять пожал плечами: «Ладно, пора выходить».
* * *
Столпившаяся на границе своей территории разношерстная и возбужденно галдящая синепогонная армия первым делом попыталась свергнуть своих «назначенных сверху» командиров и передать власть избранным представителям «народа».
Покуда все орали и агитировали против смущенно улыбавшихся полковников и их ближайшей свиты, Фурман с помощью лично преданного ему младшего офицера собрал в сторонке пятерых подходящих парней и одну вполне надежную девчонку и объявил им, что с этой минуты они являются членами особого диверсионно-штурмового отряда, который по приказу командования вскоре отправится в «глубокий тыл» врага с чрезвычайно важной и чрезвычайно секретной миссией. Там от вас могут потребоваться самые разные «шпионские» таланты и умения, предупредил Фурман. О самом задании вы узнаете позднее, но, кроме всего прочего, вы должны будете вступить в непосредственный контакт с противником на его территории, то есть притвориться «своими» для вражеских солдат, втереться к ним в доверие с целью получения нужной информации, а кому-то из вас, может быть, даже удастся быстренько выслужиться в какое-нибудь мелкое начальство, чтобы побольше узнать о расположении их войск и об их планах. Поэтому каждый из вас должен быть готов в нужный момент проявить актерские способности… Ну, хоть просто соврать-то вы сумеете в случае чего?.. А тогда зачем туда идти-то? Вы что, собираетесь там сразу броситься под танк и геройски погибнуть? Нам такие герои не нужны. Вы смотрите, а то, может, вам лучше остаться здесь – погибнуть-то и здесь можно. А туда мы пошлем кого-нибудь другого, кто не хочет так быстро отдать свою жизнь… Думаете, не стоит? Если честно, мне вообще не очень понятно ваше удивление по этому поводу: по-моему, в любой книжке про разведчиков, да и в любом «шпионском» фильме совершенно ясно показано, что для настоящего профессионала умение притворяться и играть какую-то роль – это едва ли не самое главное качество. Собственно, все эти книжки и фильмы только про это и рассказывают! На самом-то деле хорошо, что мы об этом заговорили.
Может, вы знаете, а может, и нет, но каждый из вас, прежде чем стать членом отряда, прошел определенную проверку. Естественно, все учесть невозможно, поэтому вопрос о вашей актерской подготовке, видимо, как-то ускользнул от наших сотрудников, которые этим занимались. Ну что ж, тем лучше, потому что в качестве последней, контрольной проверки вашего отряда – и одновременно тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым, – командование решило поручить вам одно секретное дело, в котором вам как раз придется выступить как актерам. От вас требуется СЫГРАТЬ РОЛЬ «разведчиков и шпионов» – но не на чужой территории, а здесь, среди «своих». И никто из них не должен об этом догадаться… Я понимаю, что такая игра может показаться кому-то из вас смешной и ненужной. Но если все у нас пройдет более или менее удачно, то, во-первых, вы подтвердите, что вас выбрали не зря, и это уже хорошо; а во-вторых, на самом деле результаты этой «игры» могут оказаться очень серьезными для всей нашей армии.
Вы – наши лучшие солдаты, сказал Фурман, а ваш отряд – это наше главное оружие. Но скоро вы втайне от всех, в том числе и от наших, уйдете на ту сторону, а нам придется вступить в бой с намного превосходящими нас силами противника… Я отдаю себе отчет, что нарушаю уже все требования секретности, но, по-моему, вам тоже следует это знать, – так вот, с одной стороны, исход войны для нас процентов на 60 или даже на 70 зависит от вашей работы за линией фронта. И – что, может быть, еще важнее – от вашего успешного возвращения назад. Это – что касается вашего «большого» похода.
Теперь о другом задании. Ответьте-ка мне для начала на один вопрос: если взять, допустим, самую сильную армию в мире и разом отправить в отставку всех ее командиров сверху донизу, то есть лишить ее нормального, четкого управления, – сможет ли тогда эта армия хорошо сражаться? Правильно, я тоже так думаю. Если это сделать, то даже самая лучшая армия в мире очень быстро перестанет быть армией, а превратится в какую-то банду… да, во главе с атаманшей. То есть это будет уже не армия, а… не пойми что.
В общем, что тут говорить, – вы сами видите, какая глупость у нас происходит. И это при том, что боевые действия еще даже не начались!
У нас сейчас вместо армии – просто орущая толпа, и в ней действуют законы толпы: кто вопит громче всех и привлекает к себе внимание, того все и слушают, за тем и идут. Получается, что несколько горлопанов заводят всех. А вы присмотритесь повнимательнее, и сразу увидите этих людей… Что, знакомые лица? Так и должно быть. Начали они с того, что им не нравятся их командиры, а кончат призывами бросать оружие и идти брататься с врагами. Кстати, они-то сейчас наверняка заняты совсем другими делами. И уж кого-кого, а их-то вполне устраивает то, что у нас творится. Более того, если бы все это было подстроено их шпионами, то они могли бы по праву гордиться работой своей разведки. Но – не знаю уж, к сожалению или к счастью – все это безобразие устроил не кто-то другой, а мы сами, своими собственными руками… Сейчас, конечно, не время разбираться, чья здесь вина. Может, еще и разберемся – если победим. А вообще-то могу вас утешить: с точки зрения исторической науки, в том, что у нас происходит, нет абсолютно ничего нового. В «настоящей» истории такое уже случалось – ну, взять, к примеру, хотя бы Первую мировую войну, перед революцией… Вы разве этого еще не проходили? А в каком же это классе? Ну, неважно. В общем, весь этот наш бардак – это не что-то небывалое, а вполне типичная историческая ситуация, которая подробно изучена и описана в научных трудах. Ну, в этом и утешение, что нас, может, тоже когда-нибудь опишут… Но вернемся к нашим баранам.
Если называть вещи своими именами, то в нашей армии происходит не что иное, как солдатский бунт. Самым простым решением этой проблемы – особенно учитывая военное положение – было бы разогнать толпу силой и подавить бунт на корню. У нашего командования есть в запасе достаточное количество верных частей, которые готовы немедленно выполнить любой приказ. Дело только за тем, чтобы отдать его. Но, по правде говоря, большинству из нас – я имею в виду членов высшего командования – этого очень не хочется. Все понимают, что при силовом разгоне в толпе неизбежно будут потери. Но речь-то идет не о врагах, а о наших же собственных солдатах, которые… как бы это помягче выразиться? – ведут себя как маленькие дети: «балуются», «озорничают», не слушаются старших… Если мы считаем важным сохранить жизни своих солдат, то в такой ситуации, наверное, было бы разумнее использовать не грубую военную силу – с этим мы всегда успеем, – а какие-то другие, более тонкие методы. Возможно, здесь требуется применить какую-нибудь «военную хитрость»… Например, незаметно подкрасться к ним и… ну да: вдруг залаять! Хороший метод. И главное, тонкий. Боюсь только, что они испугаются и разбегутся, так что мы их потом и не соберем… В общем, мы должны попробовать действовать не в лоб, а как-то в обход, «по-шпионски», так сказать. Между прочим, ведь взрослые часто так и поступают с непослушными детьми: отвлекают их внимание, нарочно запутывают, что-то им предлагают, о чем те и думать не думали, – и через минуту они уже и сами забывают, чего хотели и из-за чего весь скандал…
Кстати, если вы сами этого еще не осознали: в вашу группу как раз и отбирались те люди, которые лучше других подготовлены для выполнения разных «шпионских» заданий. Так что эта проблема – как раз по вашему профилю… Ну ладно, а теперь уже без шуток, на самом деле это приказ: командование поручает разработку и исполнение данной операции вашему отряду. Вместе с нами. Я, как начальник штаба армии, буду оказывать вам всяческое содействие.
Наша основная задача – как можно быстрее восстановить в армии нормальный порядок и управление. Это должно быть сделано до начала серьезных боев с противником и до вашего ухода.
Может, вам будет легче включиться, если вы представите себе, что вы сейчас находитесь уже не на нашей территории, а на той стороне, и что вы имеете дело не с нашими солдатами, а с «зелеными». Или что вы, допустим, проходите проверку на каком-то испытательном полигоне и перед вами некий «условный противник». В каком-то смысле так оно и есть? Как бы вы стали действовать? Вы ведь не можете просто выйти к ним из леса и сказать: эй, вы, придурки, кончайте свой базар и идите воевать! (Это я к примеру, конечно…) Нет, они-то, может, и дураки, но так даже дураки сразу догадаются, кто вас прислал, и вся наша тайная операция сорвется. Тут нужно сделать как раз наоборот: изобразить, что вы «свои в доску», поругать как следует командиров, завоевать полное доверие, а потом уж… делать чего-то еще.
В принципе-то, с точки зрения режиссуры и актерского мастерства, задача у вас не слишком сложная: вы незаметно возвращаетесь в толпу, растворяетесь там, затем каким-то образом перехватываете у их заводил общее внимание, переводите его на себя и в течение какого-то короткого времени удерживаете его; тут выходим мы, дожимаем их окончательно – а дальше все уже идет по плану… То есть от нас требуется «переиграть» их на их же поле, так сказать. Мы должны совершить у них что-то вроде «маленького бескровного переворота». Самое главное – чтобы все это произошло достаточно быстро и, по возможности, без всякого рукоприкладства. Я имею в виду – над нами… Над ними-то можно, но только аккуратно.
Как привлечь внимание толпы? Я пока не знаю. Мы как раз и должны это придумать, изобрести что-то. Понятно, что если кто-то вдруг начнет кувыркаться посреди толпы или громко запоет, к примеру, то это гарантированно привлечет к нему внимание. Самое лучшее было бы просто выкрасть их лидеров. Непонятно, правда, как это сделать на глазах у всех… Короче, можно изображать перед ними что угодно: визжать, плясать, лаять, кукарекать, можно даже разыграть целый спектакль: печальный или смешной – все равно. Да, пусть они там все попадают от хохота… Или зарыдают… Но только помните, что все это должно быть сделано очень вежливо и культурно, чтобы никто на вас потом не обиделся… Нет, сами мы не можем к ним выйти, потому что они сразу же среагируют на наши погоны и вообще не станут нас слушать. Там уже стоит целых два полковника и еще куча капитанов и майоров – и что толку? Только дразнить их… Лучше мы появимся чуть позже, когда они будут готовы нас воспринимать… Ну, так как, цель операции всем ясна?
Разведчики задумчиво покивали, но Фурман с удовлетворением отметил, что у некоторых загорелись глаза – задание-то оказалось интересным!..
– А можно, мы еще немножко пообсуждаем кое-какие детали между собой? – вежливо спросили у Фурмана. – Сколько у нас есть времени на подготовку?
(Надо же, умилился он, какие хорошие ребятки подобрались…)
– Увы! Никакого времени уже просто нет. А то скоро вообще вся война закончится… Ладно, полминуты у вас есть. Хорошо, минута.
Отойдя на несколько шагов, юные шпионы провели короткое возбужденное совещание и разошлись, на ходу стирая с лиц хитренькие гримасы…
Со своего пригорочка Фурман не без волнения наблюдал, как они парочками и поодиночке с разных сторон возвращаются в гудящую толпу (молодцы, действуют как настоящие конспираторы!)… На некоторое время он потерял их, а потом случилось нечто невероятное: двое агентов без всякого видимого насилия вывели из толпы тамошнего главного крикуна и полностью отключили его, заняв его внимание дружеской беседой (интересно, о чем же можно было так долго разговаривать с этим человеком – разве что о футболе?..).
Благодаря этому фокусу накал страстей в толпе снизился сразу на несколько градусов. Фурман был совершенно восхищен остроумием, мастерством и беззаветной самоотдачей, проявленными двумя его тайными агентами, и с сожалением думал о том, что четверо других, еще остающихся в толпе ребят (включая девчонку), теперь уже вряд ли сумеют довести дело до конца… Ну и черт с ним! Все равно они, можно сказать, совершили подвиг! А что еще человеку надо?..
На расстоянии было не очень понятно, что там теперь происходит. Взволнованный Фурман, решив, что для него тоже настает «момент истины», когда нужно рассчитывать только на собственные силы, махнул спутнику рукой и начал продуманное сближение с толпой. После нескольких перебежек он с бьющимся сердцем снова прислушался – и с недоумением обнаружил, что вместо прежнего невнятного жужжания и отдельных анархистских выкриков толпа теперь дружно скандирует какие-то лозунги или речовки. Пытаясь разобрать слова, Фурман долго не мог поверить своим ушам: по своему смыслу эти лозунги были вполне «ура-патриотическими» и даже «шапкозакидательскими»!.. (Со стороны его агентуры это являлось уже чистейшей импровизацией – он только сейчас спохватился, что забыл изложить ребятам «позитивную программу»…) То есть все уже было сделано! Армия снова готова сражаться! А диверсионная группа прошла «проверку боем», справившись со своим первым заданием просто блестяще!
Фурман чувствовал счастливое возбуждение: трусы-полковники посрамлены, а его план воплощается в жизнь!..
Он по-хозяйски скромно подошел к толпе «с черного хода», а когда большинство глаз обратилось в его сторону, пара неотразимых шуток расставила все на свои места…
Следующая неожиданная проблема возникла, когда потребовалось спрятать знамя. Миссия тайного знаменосца была доверена сержанту-шестикласснику довольно хулиганистого вида. Оценить его личный вклад в предыдущую операцию было затруднительно, поскольку ничего выдающегося он не совершил. Безусловным достоинством этого кандидата было наличие спортивного разряда по вольной борьбе. Впрочем, за его абсолютную надежность оба полковника поручились своими головами. В случае успешного выполнения задания ему от имени командования был обещан орден и досрочное присвоение звания капитана (на самом деле таким правом обладал только Леня, но они надеялись либо уломать его, либо – при общей неудаче – списать все долги на поражение). Проблема же заключалась в том, что, сколько они ни искали, вокруг никак не находилось ни одного сколько-нибудь укромного местечка, где можно было бы спокойно произвести необходимые секретные манипуляции со знаменем, – буквально повсюду неизвестно почему шлялись какие-то раздражающе неорганизованные группы развеселой «синей» солдатни.
Время уже сильно поджимало, поэтому в конце концов решено было сделать «как на пляже»: высшие армейские чины встали в кружочек и загородили знаменосца распахнутыми полами своих курток. Парень с геройской готовностью разделся на холоде до футболки – намотать знамя прямо на голое тело, как он хотел, ему все-таки не позволили, – а потом старательно застегнулся на все имевшиеся на его верхней одежде пуговицы (которых оказалось намного меньше, чем нужно, ну да ладно).
Между тем с передовой поступили известия о завязавшемся там бое. Десантный отряд, к которому добавили еще двоих крепких парней, терпеливо выслушал последнюю порцию инструкций на все случаи жизни и ушел совершать свои подвиги, а сиротливая троица высших офицеров, преисполненная черным ужасом родителей, внезапно осознавших, что они только что проводили своего любимого ребеночка на свидание с людоедом, заспешила в противоположную сторону – туда, откуда все громче доносились смешные и тревожаще-дикие вопли сошедшихся врукопашную полков…
Дальнейшее походило на плохой сон.
Никакой отчетливой «линии фронта» уже не было. Среди кустов и деревьев бесцельно блуждали охвостки каких-то частей, непонятные компании и отдельные представители «синей» армии, причем никто не мог толком объяснить, что происходит, куда и по чьему приказу он направляется и где находится противник. Это была картина полного разложения или же разгрома – просто с начала сражения прошло еще слишком мало времени, чтобы в это всерьез поверить, – но, пожалуй, никто не удивился бы и не огорчился, если бы объявили, что так оно и есть….
Большинство встречного сброда (в основном это были девчонки, по разным причинам потерявшие своих офицеров) командирской тройке удавалось повернуть и повести за собой – естественно, уже без всякого строя. Но несколько мелких групп (состоявших, кстати, из одних мальчишек) попытались не подчиниться им, выдвигая при этом какие-то надуманные и даже смешные, на первый взгляд, аргументы: а вдруг, мол, они – это вовсе не они, а переодетые вражеские шпионы, которых специально подослали, чтобы всех запутать? Подобные дурацкие предположения, конечно, легко опровергались. (Выяснилось, правда, что войска действительно не знают своих командиров в лицо, а смотрят только на их погоны…)
Но одна из таких встречных групп, сплоченная и дерзкая четверка дезертиров, осмелилась задать и следующий, уже абсолютно запредельный по своей наглости вопрос: «А чем ты докажешь, что эти погоны у тебя настоящие?» Фурман начал гневную речь, но вдруг понял, что доказать это – невозможно. Ни подписи, ни печати на них не стояло, а нарисовать бумажные погоны действительно может кто угодно…
Выстроившееся полукругом армейское стадо в унылом молчании ожидало окончания спора, но на некоторых чересчур быстро соображавших лицах уже зазмеились злорадные улыбочки…
Между тем один из дезертиров, делая всем успокоительные жесты, подошел к маленькому полковнику, тихо спросил его о чем-то, получил ответ, удовлетворенно кивнул – и с внезапным хриплым воплем «Раз так, получай!..» обеими руками вцепился ему в плечи. Это было так неожиданно, что все, включая и остальных дезертиров, замерли в немой сцене. Маленький полковник, не произнося ни слова, с жалобно-недоумевающим выражением пытался высвободиться из рук напавшего, но тот был сильнее и к тому же хорошо знал, чего хочет, – секунду спустя на землю упал бумажный комок, в котором отнюдь не сразу можно было узнать отодранную половинку трехзвездного погона…
Преодолев оцепенение, Фурман с несколькими офицерами бросились на спасение второго погона, но им помешал еще один бунтарь, неожиданно вставший у них на пути: лицо его было искажено страхом и злобой, глаза сверкали, когти с безумной угрозой выставлены вперед – драться-то по-настоящему он, похоже, не умел, но вот решился же почему-то пойти с товарищем против всех… Завязалась странная возня, в которой одна из сторон, считавшая, что имеет дело со «своими», некоторое время по инерции пыталась соблюдать границы дозволенного, а вторая пользовалась этим почем зря. В разгар этой нелепой неразберихи трое дезертиров неожиданно кинулись врассыпную… «Держи!!! Лови их!!» – с радостным улюлюканьем запоздало рванулась вдогонку стая охотников…
Первого из нападавших удалось отцепить от полковничьей куртки, только когда за него взялись вчетвером: вел он себя как самый настоящий псих, чуть ли не кусался. В конце концов его завалили, безжалостно заломив руки за спину, прижали к земле и намертво связали двумя куртками. Помятого и болезненно побледневшего от всего пережитого полковника усадили отдохнуть на пенек по соседству.
Вернувшиеся из погони сообщили, что второй бандит под шумок куда-то испарился, и это ужасно разозлило Фурмана. Сдерживая ярость, он нагнулся подобрать свою слетевшую во время борьбы шапку.
– Ой, а у тебя, кажется, одного погона не хватает, – произнес кто-то рядом с ним испуганно-соболезнующим голосом.
– Как это не хватает?.. Ты чего врешь?! – распрямившись, рявкнул Фурман.
– Ну, если хочешь, сам посмотри…
Уже заранее возмущенный этой дурацкой шуткой, он мрачно скосил глаза на левое плечо – фу ты, черт, на месте… А другой? – Справа погона не было. Пусто. Только нитки торчат.
Упал?.. Хотя нет, как это может быть – ведь он же был пришит…
Фурман обалдело потянулся поправить чуть сбившийся левый погон и, к своему мгновенному ужасу, едва не оторвал его – он просто лежал на плече, держась на одном узелке…
Как же так?! Когда это случилось?! Он даже ничего не заметил!..
Кто-то подал ему оторванный и истоптанный ногами погон.
Вот скоты…
Полковник был тоже «тяжело ранен» – у него вообще уцелела только половинка одного погона…
Армия «синих» в один миг оказалась почти полностью обезглавлена: из трех высших командиров выбыли из строя (пусть и временно) двое. И это произошло не в бою, а в какой-то нелепой случайной драке со своими же! Еще до начала большого сражения!!! Да «зеленые» и мечтать не могли о таком успехе! Если бы они узнали – какой бы, наверное, хохот поднялся…
Схваченные предатели (одного из них так и не нашли) были публично казнены здесь же на поляне «за измену Родине» и затем печально побрели куда-то сквозь кусты… – в страну мертвецов, как кто-то пошутил.
Этот ужасный инцидент послужил всем уроком. Враг был где-то рядом, а они вместо того, чтобы сражаться с ним, спорят между собой и даже убивают друг друга… Под предводительством уцелевшего полковника войско угрюмой толпой двинулось дальше, а смертельно униженные командиры пошли искать лазарет.
Больше всего Фурмана оскорбил тот факт, что никто из солдат не вмешался и не пришел им на помощь. Все они спокойно стояли вокруг и с интересом наблюдали, как уничтожают их командиров. И только когда драка уже фактически закончилась, они чуть ли не всей кодлой побежали за этими тремя идиотами… То есть по большому-то счету предателями были все – или почти все, за малым исключением. На что же можно было вообще рассчитывать с такими людьми?.. Оставалось только надеяться, что десантники, от которых пока не было ни слуху ни духу, все-таки сумели пробраться в тыл к «зеленым» и там сейчас происходит хоть что-то подобное тому, что устроили здесь враги…
Отсидев в лазарете положенное время и получив справку о выздоровлении, Фурман с одним подштопанным на скорую руку погоном спешно двинулся куда-то – предположительно, в сторону идущего сражения. Довольно долго ему вообще никто не попадался навстречу. Места казались незнакомыми. Занервничав, он начал метаться по каким-то кривым тропкам и в сухих прошлогодних зарослях вдруг натолкнулся на нескольких девчонок из своего класса (они тоже еще числились в пионерах и весело уверяли, что их «сначала насильно пригнали на войну, а потом бросили на произвол судьбы»). Блуждали они здесь уже неизвестно сколько времени и теперь решили немного отдохнуть. Девчонки с радостью согласились продолжать поиски вместе, но Фурману пришлось оставить попытки добиться от них хоть каких-то дополнительных подробностей о происходящем – глупые девчонки не только ничего не знали, но и упрямо не желали ничего знать.
Поболтав с ними минуту-другую, Фурман окончательно утратил всякую ориентацию в пространстве – даже забыл, с какой стороны пришел. Чтобы скрыть это довольно неприятное и унизительное положение, он сказал, что хочет проверить, как действует их знаменитая женская интуиция, и дальше они тронулись уже просто наугад.
Присутствие Фурмана заметно расслабило девчонок: они начали беззаботно рассказывать анекдоты про Петьку и Чапаева, громко хохотать, даже орать песни – и вскоре чуть не наступили на лежавшую в кустах чужую разведгруппу. Несмотря на первую паническую реакцию, их маленький отряд проявил затем чудеса храбрости и сообразительности.
Врагов было меньше, но зато это были одни мальчишки. Судя по их кровожадно-растерянным взглядам, у них имелись и какие-то другие, более важные планы, чем добыча нескольких случайных «скальпов». Стоило находчивым девчонкам завопить во все горло и замахать руками – мол, все сюда! Скорее, мы нашли их! – как враги сломя голову пустились наутек.
Победа оказалась ужасно смешной – вот так люди и становятся настоящими героями!.. Но сам факт, что у них в тылу беспрепятственно разгуливает вражеская разведка, Фурмана очень встревожил.
Проплутав еще немного, они выбрались на полого спускающуюся вниз опушку леса, откуда перед ними распахнулась волнующая панорама БОЛЬШОГО СРАЖЕНИЯ.
Противники свободно располагались вдоль разделяющего их неглубокого овражка. С обеих сторон то и дело раздавались дразнящие крики и обзывательства. Трудно было понять, сколько уже продолжается это «стояние» и что здесь успело произойти. На глазах у Фурмана одна или две мелкие группы «зеленых» быстро перебежали овраг и не то чтобы вступили в схватку, но опасно сблизились с отчего-то медлящими дать им отпор частями «синих». Скорее всего, это была разведка боем перед мощной атакой – за деревьями на другой стороне овражка скрывалось множество вражеских солдат.
Фурман бросил своих девчонок и пошел искать кого-нибудь из начальства. Расспросив по дороге нескольких встретившихся ему офицеров, он сделал весьма неутешительные выводы. Поскольку общий план сражения так и не был разработан, отдельные части «синих» при каждом изменении обстановки пассивно ожидали приказов из Центра. Но естественно, что чем быстрее все менялось, тем хуже осуществлялось общее управление. Настроение у офицеров было либо подавленное, либо, наоборот, истерически приподнятое и бесшабашное. О судьбе же десантного отряда (И ЗНАМЕНИ!..) по-прежнему ничего не было известно.
Кстати, Леня, совершенно не вовремя припершийся на командный пункт «синих», видимо, тоже что-то почувствовал: поманив к себе окруженного курьерами Фурмана, он между прочим поинтересовался, где они прячут свое знамя. «Неужели кто-то уже настучал?..» – с трудом «держа лицо», подумал Фурман. «Прям так тебе все и расскажи… Это же наша самая главная военная тайна!» – попытался шутливо отбрехаться он, но Леня настаивал, ссылаясь на свой нейтралитет. Пришлось наврать, что ответ на этот вопрос знает только полковник, который, к сожалению, недавно отбыл на передовую и в данный момент находится неизвестно где. Пойду-ка я его поищу, а то правда как-то нехорошо… – И, приняв озабоченный вид, Фурман с легким сердцем сбежал с командного пункта.
Неподалеку от передовой он увидел, как его люди кого-то ловят, а затем, поймав и повалив, начинают по-настоящему бить и топтать ногами. Подойдя поближе, Фурман узнал жертву – это был черноволосый сын учительницы пения. Еще в школе, в общей суете перед выходом, Фурман мельком обратил внимание на то, как крепко она пришивает ему погоны. Собственно, именно за это его теперь и били: трижды простроченные по периметру зеленые лейтенантские бумажки с подложенным под них жестким картоном попросту не отрывались!
Возбужденные зрители рассказали Фурману, что парень с самого начала вел себя необычайно нагло: он один, даже не скрываясь, заявился в расположение «синих» и, будучи сам абсолютно неуязвимым, методично стал их убивать. Разозлившиеся девчонки попытались взять его числом, но заколдованный парень оказал им такое ожесточенное сопротивление – кого-то ударил кулаком, кого-то сильно оцарапал, – что пришлось звать на помощь мальчишек… В конце концов врага решили просто уничтожить, физически, вместе с его погаными погонами.
Фурман обеспокоенно (все-таки сын учительницы) заглянул внутрь хрипящего и ворочающегося кружка, на самом дне которого лицом кверху лежал этот странно отчаянный мальчишка. На каждой ноге у него сидело по человеку, но оба то и дело теряли равновесие – с такой силой он дергался. Руками он продолжал при каждом удобном случае вцепляться в чужие погоны и – рвал их, рвал… Вот ему уже и по морде стукнули (может, и не в первый раз), а он – в глазах слезы – все тянет, все выгибает свои руки…
– Эй, кончайте, хватит уже! Остановитесь! – Фурмана не глядя отпихнули, и он рассердился. – Вы чего, совсем уже озверели?! А ну хватит, кому говорят!
– Отойди, не мешай… пожалуйста! Мы сейчас с ним покончим… чуть-чуть осталось!..
– Прекратить! Я кому сказал! Я вам приказываю! Как старший по званию!
Часть экзекуторов, укоризненно кряхтя, ослабила нажим, но кто-то все еще продолжал додушивать несчастного. Силой протолкнувшись в центр круга, Фурман нагнулся, чтобы освободить его, – и этот козел одним движением сорвал с него последний погон.
Все, подполковник был убит. «Вот видишь, лучше б ты сюда не лез!» – сказали ему.
Фурмана настолько взбесила абсолютная несправедливость, нелепость и непоправимость всего происшедшего, что он со страшными попреками (уже как бы даже «с того света») обрушился сперва на этого подлого придурка – которого он, видимо, совершенно напрасно пытался защитить от побоев, – а потом и на хмуро молчащую компанию – которая вместо того, чтобы укреплять оборону, занимается черт знает чем… Заставив их связать пленного и под конвоем отправить его в штаб для допроса, он в яростном отчаянии помчался дальше, куда глядели глаза, – уже ничего, впрочем, не видя перед собой и проклиная на ходу весь мир… О, теперь-то он очень хорошо понимал состояние духа тех «расстрелянных» дезертиров, что отправились искать страну мертвых!..
* * *
Побродив в одиночестве среди прошлогодних зарослей, Фурман постепенно смирился со своим несчастьем (может, это был просто «не его день», как говорится? – Да нет, ведь поначалу все складывалось вроде бы не так уж и плохо…). Но на людях его не покидало странное ощущение, что он – призрак. Хотя все видели его вполне отчетливо и даже вступали с ним в беседы на разные темы. То есть события продолжали как-то развиваться – но ему это было уже не интересно.
В какой-то момент появились пропавшие десантники. Они были упоены своими приключениями и могли говорить только о них. По их словам, выйдя из оврага, они, чтобы не тратить время, решили проехать несколько остановок на троллейбусе (естественно, бесплатно), но не заметили, как он свернул и увез их неизвестно куда; они долго выбирались оттуда, потом долго не могли найти спуск, блуждали по каким-то лесам, вышли к источнику с чистейшей и вкуснейшей родниковой водой, даже принесли ее с собой в какой-то грязной бутылке – хочешь попробовать?.. Короче, никаких следов «зеленых» они вообще не обнаружили и, отлично проведя время, тем же путем (за исключением «неправильного» троллейбуса) возвратились обратно.
Что на это можно было сказать? Что они просто дураки? Или, может, надо было похвалить их, что они вернулись, не потеряв знамени? А ведь могли бы: зачем-то они стали переходить ручей вброд, и знаменосец (никто, кроме командира отряда, не знал, что он изнутри обмотан знаменем), поскользнувшись, упал в воду и промок «почти насквозь»… Фурман только качал головой: все эти бестолковые приключения, весь этот бессмысленный рейд были вполне в духе прочих сегодняшних неудач и нелепостей.
Общий итог «Зарницы», как это часто бывает в подобных случаях, показался обидно двусмысленным обеим соперничающим сторонам. Взрослые (они же судьи) просто отказались объявить в конце победителя: им, мол, сперва требуется тщательно проанализировать весь ход боевых действий и произвести какие-то сложные подсчеты, чтобы все было точно и по справедливости. Результаты игры обещали огласить через неделю, и не просто так, а на торжественном собрании в районном доме культуры, где состоится также награждение особо отличившихся.
Многие были недовольны таким «отложенным» решением и даже высказывали какие-то безумные подозрения о возможном подсуживании, но все эти обиды и пересуды касались давно уже мертвого Фурмана лишь постольку-поскольку…
* * *
Ровная, без происшествий, школьная неделя легко поглотила весь этот бесформенный ком событий и переживаний, переместив его в область «необязательных» снов и кошмаров.
Поэтому, когда Фурман получил именной билетик с приглашением на торжественную встречу участников «Зарницы», он почувствовал не только острейшее нежелание еще раз «встречаться» с кем бы то ни было, но и глубокое возмущение этим нарушением границ между разными «мирами».
Тем не менее он не смог отказать Лене, попросившему его помочь составить списки представленных к наградам. Фурман настоял, чтобы в эти списки были внесены, во-первых, все «синие» десантники, включая глуповатого знаменосца (присвоить ему капитанское звание, конечно, не получилось – да ведь и не за что было, если честно), во-вторых, несколько остававшихся верными ему солдат и офицеров и даже (скрепя сердце) сын учительницы пения, который, как оказалось, занял второе место по числу выведенных из строя противников (одна радость, что «посмертно»)… А потом, слово за слово, Леня все-таки уговорил его пойти на «наш общий праздник». «Возможно, тебя там ожидает сюрприз», – меланхолично намекнул он на прощанье.
Сюрприз? Что это может быть?.. Неужели меня тоже хотят наградить? В списках меня не было… Сюрприз! Орден? Эх, разве я его заслужил?.. А что же, может, и заслужил… Господи, какая ерунда лезет в голову! На кой мне их «орден»?! из туалетной бумаги…
На торжественное мероприятие Фурман явился, как и просили, при полном параде.
Несмотря на некоторые потуги устроителей, вечер развивался по большей части как обычный концерт самодеятельности. Со сцены перед полупустым залом утомительно долго выступали ветераны войны, потом зачитывались стихи и поздравления, исполнялись детские песенки и народные танцы… Публика несколько оживилась, когда участникам «Зарницы» предложили поделиться своими «боевыми воспоминаниями». Каждый вспоминал что-то сугубо свое, но разворачивающаяся под общий хохот картина игры с каждым новым эпизодом представлялась Фурману даже еще более бессвязной и абсурдной, чем в его личных воспоминаниях…
Награждение стояло в программе последним пунктом. «Героев» одного за другим вызывали на сцену, кратко описывали их подвиги и под неутихающие аплодисменты вручали им грамоты, а особо отличившимся прикалывали к груди почетные знаки, «ордена» и «медали». Фурман старательно хлопал вместе со всеми, примериваясь к поведению «героев» на сцене и их наградам и в перерывах придумывая свою «ответную речь»… По правде говоря, он ужасно разволновался: тело сотрясала дрожь, щеки и уши пылали, а ноги и одеревеневшие от хлопков ладони были ледяными…
Его не вызвали.
(Никто не хотел его обидеть. Он ведь и сам знал, что не заслужил никакой награды… Просто он ошибся: не так понял Ленины слова. Под «сюрпризом» добрый Леня, скорее всего, имел в виду очередное «чаепитие в узком кругу» – оно и состоялось тем вечером в маленькой комнатушке на втором этаже, рядом с входом в зал, после окончания «основной части» мероприятия… Посидев там немного, Фурман сказал, что, кажется, заболевает и ему, наверное, лучше пойти домой. Поскольку вид у него и в самом деле был неважнецкий, его, конечно, отпустили, напоследок сочувственно посоветовав лечиться. Но, хотя школу он на следующий день пропустил, заболеть по-настоящему ему не удалось…)
Вздох ангела (внутренний мир)
1
На первом же уроке физкультуры в шестом классе обнаружилось, что за лето кое с кем произошли странные изменения. У большинства на загорелой и чуть загрубевшей коже рук и ног весело золотился мелкий дитячий пушок, а у Мишки Николаева – самого спортивного, смазливого и кудрявого мальчишки в классе – этот пушок теперь удлинился и потемнел, превратившись, особенно на голенях, в узнаваемую тень взрослой (звериной?..) «шерсти». Общественное сознание было весьма взбудоражено этим фактом. Выдвигались различные предположения не только о Николином происхождении, но и о его возможном будущем. Мишка очень старался не обижаться, но, случалось, не выдерживал и «озверевал» – что лишь подтверждало высказывавшиеся ранее опасения.
Через год шутки на эту тему вышли боком: поразившая Николу «нехорошая болезнь» оказалась ужасно заразной, и Фурман, бывший одним из главных насмешников, стал ее третьей жертвой. Отвратительные и пугающие симптомы собственной «волосатости» представлялись ему столь вопиющими, что он всерьез подумывал о том, не начать ли ему ходить на физкультуру в длинных тренировочных штанах, хотя это и противоречило бы строгим официальным требованиям к спортивной форме.
Гуляя с папой, он несколько раз пробовал завести разговор о своих мучениях, но стеснялся сделать это прямо и начинал с косвенных вопросов: мол, а почему вообще у людей растут волосы? На голове – это понятно, а на других-то местах? А у тебя они когда начали расти? (Предатель!!! Ведь это он во всем и виноват! Сам-то – весь зарос волосами, как обезьяна… Передал «наследство», называется…) И что ты при этом чувствовал? У тебя в школе это не считалось чем-то стыдным? – Увы, папа ходил в школу еще во времена раздельного обучения и совершенно не улавливал скрытой в вопросах сына горечи. В конце концов Фурману пришлось кратко объяснить ему подлинную причину своего интереса. Глаза у папы округлились, но он по-прежнему не понимал, в чем заключается проблема. Ведь сама по себе растительность, в том числе и на ногах, – это просто один из признаков наступающей мужской зрелости. Здесь нет ничего страшного, наоборот, можно даже гордиться этим как естественным проявлением мужественности! Кстати, многие (если не большинство) из прославленных в истории мужчин были волосатыми. Взять хотя бы тех же древнегреческих героев и атлетов: в жизни они были совсем не такими белыми и гладкими, как их изображают знаменитые античные статуи. Это просто смешно, ведь греки – южные люди!.. Но Фурман вовсе и не собирался становиться древнегреческим героем или атлетом (особенно если за это нужно платить такой ценой). Он считал, что все это «созревание» происходит с ним преждевременно и у него еще будет возможность стать мужественным – позднее. А сейчас он во что бы то ни стало хочет избавиться от волос на ногах! Должно же быть в аптеке какое-то средство?.. БРИТЬ? НОГИ?! А, черт с ним, пусть брить – лишь бы не было видно…
Но до бритья все же не дошло: унизительная проблема коснулась не одного Фурмана – у Пашки, к примеру, волосы росли даже гуще, да еще и кокетливо завивались колечками, хотя он был почти на год младше… – в общем, потихоньку пришлось со всем этим кошмаром просто смириться. Девчонки вроде бы ничего и не замечали – тем более что одновременно с некоторыми из них самих происходили такие чудовищные изменения, по сравнению с которыми волосы на ногах у мальчишек могли показаться мелочью и ерундой.
* * *
Несмотря на сделанную Фурману радикальную операцию, он продолжал часто простужаться, и кто-то из знакомых посоветовал маме обратиться в платную поликлинику к известному врачу-гомеопату. Прославленное светило оказалось сердитой старухой с крючковатым носом, мышиными усиками и проницательным взглядом. Подробно расспросив маму о протекании беременности и родах и с возмутительной небрежностью осмотрев самого пациента, старуха мрачно заявила, что, прежде чем выписывать лекарство, она рекомендует провести консультацию с невропатологом, причем сделать это лучше не откладывая; если они согласны, она попробует договориться с врачом о приеме прямо сейчас. Мама была явно смущена этим ультимативным предложением, и старуха милостиво пояснила, что врач по фамилии Алексеева – молодой, но чрезвычайно квалифицированный специалист, кандидат медицинских наук, и что она всех своих лучших, так сказать, пациентов направляет к ней… Тут старуху вызвали к начальству. Когда она уковыляла, разрешив посетителям «подумать» в своем кабинете, мама растерянно объяснила, что рассчитывала на прием только у одного врача и на второго взятых ею с собой денег не хватит. Фурман, которому все это уже очень не нравилось, стал убеждать ее плюнуть и уйти, но маме вдруг пришло в голову, что она может прямо отсюда позвонить папе на работу и попросить его срочно подвезти недостающую сумму. К сожалению, папа оказался на месте…
Кандидат медицинских наук Алексеева была вовсе не такой юной, но зато гораздо более жизнерадостной, чем можно было предполагать по старухиной рекомендации. Маму весело попросили подождать за дверью, а настороженно озиравшийся Фурман подвергся активному обследованию. Часть процедур была ему знакома: нужно было, не поворачивая головы, следить глазами за движениями указательного пальца врача; закрыть глаза и дотронуться до кончика носа; фурмановские ноги сами собой послушно дергались в ответ на удары молоточка. Были произведены и другие манипуляции, о назначении которых можно было только догадываться.
Молодая врачиха все делала с предельной сосредоточенностью, но при этом успевала шутить, а разок – Фурман даже не поверил своим глазам – вдруг заговорщически подмигнула «подопытному кролику». Надо же, как свободно она держится, приятно поразился Фурман. Про себя он уже давно одобрительно отметил, с какой изящной теснотой облегает ее фигуру сверхмодно ушитый серо-голубой халатик с абсолютно нестандартным вырезом, в котором спокойно светилась и дышала по-зимнему бледная грудь. Да, это тебе не районная поликлиника… (Между прочим, в кабинете было отнюдь не жарко, да еще и форточка приоткрыта…)
Тут его скромные параллельные исследования были прерваны предложением лечь на кушетку, на спину, сняв брюки, – что мгновенно разрушило всякую приятность. Черт побери, вечно одна и та же история с этими врачами: вроде идешь на прием к ухо-горло-носу, а от тебя почему-то требуют снять штаны… Под брюками у него были старые, неприлично дырявые тренировочные; синие трусы, которые стали ему малы сто лет назад (он же говорил маме!), тоже имели откровенно непарадный вид, а уж за состояние своих носков он и вовсе испугался. Да еще эти проклятые волосы на ногах!.. На холоде кожа сразу посинела и покрылась пупырышками, а реденькая шерстка смешно вздыбилась, точно готовясь вступить в последний бой неизвестно с каким врагом.
Он с безнадежной медлительностью улегся на спину, и ему представилось, как при виде его голых ног эта милая женщина удивленно морщится, а потом, принюхавшись, и вовсе брезгливо отворачивается… А что он мог сделать?! Ну да, раньше надо было думать, а теперь… Будешь терпеть этот позор до конца, с ненавистью к себе решил он.
Между тем доктор Алексеева, с таинственной угрозой позвякивавшая инструментами за ширмой, вернулась к пациенту, равнодушно навалилась на ледяные фурмановские пятки своим животом (с бессмысленной заботой о ее удобстве он постарался незаметно ослабить упор) и начала вкалывать ему в ноги какие-то иголки – то в одно место, то в другое, каждый раз спрашивая, что он при этом чувствует. На лице у нее застыло выражение профессионального внимания. Ни жалкое зрелище его «повышенной растительности», ни прочие проявления свинцовых мерзостей жизни (как любил говорить Боря), казалось, не производили на нее никакого впечатления – хотя, возможно, она просто мастерски скрывала свою естественную реакцию. Дотрагиваясь мягкими теплыми руками до его ног, она два раза мельком улыбнулась ему и один раз отпустила какую-то не слишком удачную шутку (на секунду Фурмана даже посетила невероятная мысль, что, может, все и не так уж плохо, как он с перепугу вообразил?..). Воздействия продолжались, но, поскольку несчастный кролик не реагировал на неоднократно сделанные ему ясные намеки, Алексеева вдруг остановилась и с искренней беспомощностью всплеснула руками:
– Са-аш! Ну ты чего у меня так зажался-то весь? Даже обидно. Я ж тебя не кусаю, правда? Эти процедуры должны быть приятными! Давай, расслабляйся! (Сердито.) Ну-ка, улыбнись мне сейчас же! – Слабенькая улыбочка… – Да… Ну, хоть что-то. А то лежит с таким видом, как будто я его пытаю!..
Наконец эксперименты закончились, и она пошла мыть руки. Пока раздавленный Фурман поднимался и одевался, Алексеева что-то сосредоточенно писала в его карту. Закончив, она попросила сестру пригласить в кабинет маму.
– Ну что я вам могу сказать? – запросто обратилась она к маме, одновременно насмешливо поглядывая на Фурмана. – Мальчик у вас очень хороший. Вы, наверное, и без меня это знаете… (Мальчик с мамой дружно покраснели.) Что же касается состояния его нервной системы… – Она стала употреблять какие-то медицинские термины (застеснявшийся Фурман в этот момент решил перевязать шнурок на ботинке): в общем, что-то там такое было ослаблено и требовало поддержки, но ничего страшного. – …ПО ХАРАКТЕРУ ВСПЫЛЬЧИВЫЙ, НО БЫСТРО ОТХОДИТ… (Господи, а это она откуда взяла? Какой же я «вспыльчивый»-то? Я что, буянил при ней? Даже ни разу не брыкнулся, когда она меня колола своими иголками! И вообще… Разве меня можно таким назвать? Ну ладно, зато хоть «отходчивый», и на том спасибо…)
Домой Фурман с мамой возвращались довольные: мама испытывала облегчение от исполненного долга, а Фурман, несмотря на пережитые унижения, с затаенным весельем вспоминал молодую раскованную докторшу в тесно облегающем халатике; к тому же он услышал от нее нечто важное о самом себе – и это удивляло его и немного тревожило…
2
Затянувшаяся поздняя осень странно сузила мир, сделав его похожим на большой грязный ангар. Иллюзия дневного освещения – для желающих обманываться и строить жизненные планы – поддерживалась с десяти утра до половины первого дня, после чего начиналась ночь. Что ж – тем слаще было ложиться и засыпать, засыпать, засыпать… Хотя иногда и там происходило какое-то неприятное мельтешение, умножались нелепицы, неожиданно сгущался страх. Где-то в черной пустоте космоса мозг Фурмана на протяжении многих часов (или суток – счет времени был потерян) ослепительно выжигался изнутри поисками смертельно-обязательного решения геометрических задач высшей степени сложности, выполненных на «натуре» и представлявших собой титанические металлоконструкции, невесомо парящие в безвоздушном пространстве, – на одной из таких гигантских красноватых балок Фурман и сидел – без шлема, в легком белом костюме астронавта («Но почему, почему именно я должен… У меня же тройка в четверти по математике! А скорее всего, и в году будет!» – отчаянно признавался он в стоящее рядом маленькое устройство связи. ПРОСТО БОЛЬШЕ НЕКОМУ, терпеливо и печально вразумлял его далекий голос…). В затхлых мглисто-коричневых комнатах, похожих на пещеры, велись искусные беседы с кем-то, кто поначалу казался пусть и подзабытым, но весьма благорасположенным «дядей», старым знакомым родителей, который всех знал и обо всех расспрашивал, – но чем дальше, тем очевиднее становилось, что это совсем не тот человек, за которого его принимают, а кто-то другой – и даже, может быть, вообще не человек… Короче, это был сам Дьявол. («Так значит, все это с самого начала было ловушкой! – с непростительным опозданием понимал Фурман, видя, как тот довольно посмеивается. – И я ЕМУ уже обо всех разболтал… даже с адресами… О нет! Нет!..») Или же что-то безобидно малюсенькое, похожее на пенек или сухой гриб, вдруг-вдруг-вдруг-вдруг начинало пульсировать и расти, разбухать с кошмарной, тошнотворной скоростью, грозя в какие-то секунды до предела заполнить и раздавить собою весь мир… – от ужаса Фурмана катапультировало, но этот мерзкий сон преследовал его, повторившись несколько раз.
Родители давно отсутствовали (то ли уехали вместе в отпуск, то ли их одновременно отправили в длительные командировки в разные стороны – в общем, их не было), и дедушке, на которого оставили обоих внуков и хозяйство, приходилось, конечно, нелегко.
Около пяти в прихожей зазвонил телефон. Фурман делал уроки за обеденным столом в большой комнате, поэтому трубку пошел брать дедушка. Вернувшись, он стал как-то бесцельно бродить туда-сюда, и Фурман, недоверчиво присмотревшись к нему, даже немного испугался. В ответ на осторожные расспросы дедушка в совершенно несвойственной ему хвастливой манере заявил: тебе, мол, ни за что не догадаться, с кем я только что говорил. После этого он надолго замолчал, и Фурману пришлось распалить себя чуть ли не до истерики, прежде чем дедушка сказал, что это звонила Лариса Константиновна – прежняя фурмановская учительница в младших классах. До нее якобы дошли какие-то чрезвычайно странные слухи (свой источник она так не выдала) об их трудном семейном положении, и она, помня прежние добрые отношения со всем их семейством, решила предложить им свою помощь. Какую такую помощь? Лариса Константиновна хотела, чтобы ее бывший ученик (пусть и не самый прилежный в учебе, но от этого не менее дорогой ей) на некоторое время переселился к ней. Она объяснила дедушке, что живет одна в большой отдельной квартире и это ее ничуть не стеснит – наоборот, ей хоть будет с кем поговорить. Попытка дедушки убедить ее в том, что произошла ошибка и их семью, вероятно, спутали с кем-то другим, кому и в самом деле живется нелегко, была воспринята как проявление ложной скромности либо, что намного хуже, весьма обидного недоверия. Немедленного решения Лариса Константиновна все же не требовала, но какой-то ответ – неважно, положительный или отрицательный, без всяких обид, – она рассчитывала получить в ближайшие дни.
Все это и впрямь казалось удивительным. Правда, Фурман так и не понял, почему дедушка не мог сразу сказать Ларисе, что им это не нужно. Дедушка неохотно признался, что ему было неудобно вот так с ходу отказать человеку, предлагающему свою помощь; кроме того, он считал, что нужно еще раз вернуться к этому вопросу вечером, когда Боря придет из института (а Борька-то здесь при чем?..).
После ужина дедушка с Борей затеяли какой-то неожиданно серьезный разговор. Младший Фурман некоторое время уважительно следил за обсуждением, а потом тоже попытался было принять в нем активное участие, не к месту заявив, что вообще-то предложение Ларисы Константиновны кажется ему довольно подозрительным, но Боря очень резко осадил его («Да ты, батенька, видно, совсем уже рехнулся, у тебя просто мания преследования развивается!..»). Завершение разговора было совершенно ошеломительным для Фурмана: старшие в полном согласии пришли к выводу, что отказаться в данной ситуации абсолютно невозможно, поскольку с их стороны это означало бы проявить черную неблагодарность и обидеть хорошего человека, желающего их семье исключительно добра. «И вообще, я не понимаю, чем тебя не устраивает возможность пожить пару недель на новом месте, да еще на всем готовеньком?» – удивился Боря. «Но мы ведь не просили ее нам помогать?..» – неуверенно возразил Фурман. Боря только недоуменно пожал плечами. Конечно, следовало еще посоветоваться с родителями, но по большому счету возразить против приведенных МОРАЛЬНЫХ аргументов было нечего…
Вот так черным осенним вечером (это было воскресенье) уже «дважды осиротевший» Фурман очутился на пороге чужой квартиры. Руки ему оттягивал старый портфель, безжалостно набитый учебниками и тетрадками вперемешку с полотенцами и чистыми носками (в новый портфель все это не влезло).
Лариса Константиновна встретила Фурмана со сдержанным волнением и лаской. Она помогла ему раздеться в маленькой прихожей, провела в полутемную гостиную, тесно заставленную невысокой мебелью (свободным оставался только узкий проход вокруг стола), и усадила в глубокое кресло под включенным торшером, сказав, что сейчас приготовит чай.
В комнате было очень тепло, даже стекла запотели. И вообще она была странно похожа на аквариум. На фоне темно-изумрудных обоев, мягко скрадывавших мебельные углы и уступы, сияли белизной разложенные там и сям салфеточки; всюду царил строгий порядок, а необходимые домашние вещи – вроде заварного чайника или сахарницы – словно вышколенные слуги, в чистоте и готовности замерли на особых, отведенных для них хозяйкой местах.
Сама Лариса Константиновна почти не изменилась: такая же худенькая, с высоко взбитой прической и внимательными зелеными глазами. Ее четко очерченные подвижные губы по-прежнему легко складывались в несколько узнаваемых гримас, по которым всегда можно было догадаться о ее настроении, даже если она хотела его скрыть. Лариса Константиновна очень старалась, чтобы ее гость не чувствовал себя заброшенным: вскоре ему был предложен свежезаваренный чай с вареньем из крыжовника, а затем и ужин (два вида салата и неизвестная, но вкусная жареная рыба с отварной картошкой), – хотя, по правде сказать, у Фурмана от тоски по дому куски застревали в горле…
Спать ему было постелено в гостиной на кресле-кровати. Пока Лариса Константиновна деликатно убиралась на кухне, Фурман с судорожной быстротой разделся, спрятал носки в ворохе одежды и юркнул под одеяло. Закончив дела, Лариса Константиновна мягко пожелала ему спокойной ночи, погасила свет и ушла к себе в маленькую комнату. Она еще немного пошуршала там (дверь осталась открытой), улеглась (кровать пару раз негромко скрипнула) и вскоре затихла.
Шло время, а Фурман никак не мог заснуть: то его одолевали тревожные мысли об оставленных родных; то волновали незнакомые звуки, в темноте наполнявшие чужой душный воздух, подобно насекомым; то ему становилось жарко, и он, раскрываясь и ворочаясь, тщетно пытался сдержать непредсказуемые постанывания и повизгивания своего нового ложа; а потом он почему-то начал страшно замерзать под одеялом – до дрожи, до глупейшего щелканья зубами… И, словно хулиган, забравшийся ночью в гулкое и пустое школьное здание, по разным концам его опустошенно скорчившегося тела с навязчивой неприкаянностью болталась нелепая мысль, что теперь он сможет согреться, только если Лариса Константиновна возьмет его в свою постель. Бессонным остатком ума он твердо знал, что это было бы слишком: он уже не маленький, чтобы проситься спать с «чужой тетей» (а ведь как легко проблеять жалобным голоском: «Те-е-тенька, мне стра-а-ашно одному, я з-з-заме-е-ерз, возьмите меня к себе?..»). Она и так уже отлично о нем позаботилась и сейчас, скорее всего, спит и видит третьи сны… Кстати, почему же третьи? – смиренно трясся он. – «Третьи» бывают петухи…
Возможно, издаваемые им при верчении звуки в какой-то момент разбудили Ларису Константиновну, а может, она тоже так и не заснула или же просто встала, чтобы пойти в туалет, – как бы то ни было, на обратной дороге она, не зажигая света, тихонько подошла к нему, увидела его открытые глаза и шепотом спросила: «Ты чего не спишь?»
Плотно закутанный в одеяло, он слегка подергался, изобразив некое недоумевающее движение. Но так как она, склонившись, продолжала ждать ответа, он отворил щелочку для рта и пояснил: «Так… Не знаю». Он не хотел говорить, но дальше у него как-то само собою хрипло вырвалось: «Замерз».
– Ты сказал «замерз»?! Тебе что, холодно?.. – уже в голос растерялась Лариса Константиновна. – И ты из-за этого не можешь заснуть? Что же ты до сих пор молчал?!
Продолжая возмущаться, она кинулась доставать какие-то дополнительные одеяла и покрывала, так что в итоге он уже едва мог пошевелиться под их грудой.
– Ну, надеюсь, теперь тебе будет тепло? – с сомнением сказала она. – Спи! А то скоро уже утро.
(Попросить, чтобы она взяла его к себе, он, конечно, не решился.)
Все опять затихло.
Но он не засыпал. Даже наоборот. Теперь его охватило странное возбуждение. Он и сам не мог понять, чего ему хочется. Есть? Пить? Сходить в туалет?
Нет, догадался он, – просто его грызет какой-то червь. Грызет и грызет. Грызет и грызет…
В конце концов бессонное сопротивление настолько утомило Фурмана, что он вдруг решил спросить прямо, как это делают в сказках:
«Эй ты, Червь! Скажи, чего тебе от меня надо?»
«Тебе ведь уже не холодно?..» – уточнил он на всякий случай.
Через некоторое время откуда-то из глубины донесся ответ: «Мне страшно». Но Фурман не поверил: «Да нет, это МНЕ страшно, а не тебе! Ты должен отвечать. Только по правде!»
«Хорошо… – помедлив, беззвучно сказал червь. – Мне одиноко».
«Ну и что? Подумаешь! Мне тоже одиноко. И что из этого?»
«Я не могу быть один…»
На это Фурман уже не нашелся, что ответить. Ему стало горько и грустно.
Но чужое ледяное волнение, точно быстро растущий горб, все больнее заполняло его грудь…
Каким-то образом он оказался в другой комнате, прямо перед кроватью Ларисы Константиновны. Она лежала спиной к нему. «Что я делаю?.. – бессильно подумал он, прислушиваясь. – Как же мне плохо…»
Его рука потянулась, как неживая, и с ужаснувшей его бесцеремонностью потрясла спящую за плечо. «Это не я!» – в отчаянии хотел выкрикнуть он, когда на него уставились огромные испуганные, непонимающие зеленые глаза. Но вместо этого его рот быстренько, с бесстыдной кривой ухмылкой произнес:
– Ларис Костантинна, извините, вы не пустите меня к себе? А то я никак не могу согреться. Ну пожалуйста! Мне плохо одному…
Она ничего не говорила, но ее лицо как будто разом разделилось: остановившиеся глаза повернулись внутрь себя, словно решая там какую-то сложную задачу, а крупные, четко очерченные подвижные губы, точно пара великолепных танцоров, совершили в это время несколько выразительных па – от расслабленного недоумения и гневной растерянности при догадке о возможно нанесенном оскорблении к суровой, презрительно-самоотверженной решимости… неожиданно перешедшей в мягкое, взволнованное, ожидающее согласие… Хотя ее огромные глаза все еще не могли поверить происходящему, требовали подтверждения… Но она их скромно опустила. А когда снова подняла, они уже были заботливыми и добрыми.
Сев в кровати, она откинула угол пододеяльника и приглашающе подвинулась. Пока Фурман забирался, она повернулась к нему спиной и еще немного подвинулась.
– Тебе удобно? – грубовато-сонным голосом спросила она.
От ее близкой слепой спины сквозь тонкую преграду ночной рубашки шли волны живого тепла. Лежать рядом с ней было ужасно приятно. Но поворачиваться она, похоже, не собиралась…
«Ну, и чего теперь делать? – ехидно поинтересовался Фурман у куда-то запропавшего червя. – Эй, заснул ты там, что ли?..»
И вдруг проснулся сам, потрясенный.
Ничего этого не было?!
Но ведь Лариса Константиновна звонила?.. Или не звонила?
3
Приехав в начале лета в Покров, Фурман неожиданно обнаружил в дальней комнате следы присутствия посторонних: оказалось, что бабушка еще с прошлой осени сдает ее двум девушкам, студенткам покровского педучилища. Через неделю у них заканчивались занятия и они должны были разъехаться на каникулы по своим родным местам.
Вынужденное близкое соседство с незнакомыми людьми вызвало у Фурмана раздражение: во-первых, ему пришлось делить с бабушкой маленькую спальню; во-вторых, на его памяти в эту часть дома жильцов никогда прежде не пускали; а в-третьих, за год совместной жизни у бабушки с девушками сложились особые полуродственные отношения, внутри которых он сразу почувствовал себя лишним.
Впрочем, знакомство с девушками состоялось только вечером, когда они пришли из училища. У одной из них было добродушное веснушчатое лицо, рыжеватые прямые волосы, небрежными прядями заправляемые за уши, и сутуло напружиненная спина – как будто девушка находилась в постоянной готовности подхватить на руки какой-то груз; а у другой, стройной, темноволосой, с мягкими сиреневыми губами мысиком, глаза сильно косили в разные стороны (к тому же правый был черным, а левый – прозрачно-голубым).
Темноволосая с первых же минут проявила волю к лидерству. Сломив общее вялое сопротивление, она настояла на том, чтобы ужин «в честь прибытия бабушкиного дорогого гостя» был не обычным, а торжественным, и во время его ускоренной подготовки очень уверенно и энергично командовала всеми, включая бабушку. Возможно, именно благодаря своей неудержимой активности она показалась Фурману намного более симпатичной и открытой, чем ее усталая рыженькая подруга (неизвестно куда смотрящие, по-козьи бесноватые глаза темноволосой лишь магически усиливали это впечатление). Но то ли она считала своим профессиональным долгом заняться немедленным перевоспитанием столичного подростка, то ли у нее просто был такой «цепляющийся» характер – как бы то ни было, уже на следующий день между ними произошла серьезная стычка.
С самого рассвета за окнами, не переставая, сыпал и сыпал мелкий дождик. После позднего завтрака Фурман устроился с книжкой на диване в большой комнате. Сперва он сидел, поджав ноги под себя и обложившись для тепла подушками, а потом, когда ноги согрелись, вытянул их на придвинутый поближе к дивану тяжелый стул с продавленным кожаным сиденьем. Время от времени он отрывался от чтения и с задумчивым узнаванием присматривался к вещам, давным-давно живущим в этой комнате; опасливо принюхивался к сыроватым запахам деревянного дома; удивленно ловил расходящийся кругами хриплый ор местных петухов; вслушивался в прихрамывающее тиканье и звонко-сухой тридцатиминутный бой старинных маятниковых часов – постепенно привыкая к тому, что снова живет здесь и так пройдет лето…
В какой-то момент девушки, которые до этого тихонько копошились у себя в комнате, перешли в столовую («Мы не помешаем?»), объяснив, что хотят сделать бабушке небольшой «прощальный подарок»: снять с окон тюлевые занавески и постирать их перед своим отъездом. Они деловито осмотрели место будущих работ, притащили из своей комнаты большой старый стул с круглым фанерным днищем в дырочках, и темноволосая со свойственной ей решительностью тут же полезла наверх.
Однако сделала она это с такой редкостной неуклюжестью, что Фурман растерянно подумал: либо у нее, в дополнение к глазам, что-то не в порядке и с ногами (но тогда она – поразительно мужественный человек), либо это просто какое-то бессмысленно-машинальное кокетничанье (ведь он был здесь единственным зрителем, и с чего бы еще взрослой девице устраивать такой цирк перед пацаном?). На стул она поднялась не одним шаговым движением, как это сделал бы на ее месте любой нормальный человек, а сначала взгромоздилась на него на корточках, точно курица, немного повертелась с загадочно-идиотической «детской» улыбочкой и только потом, судорожно вцепившись в ходящую ходуном руку подруги, выпрямилась – да и то не сразу, а в несколько приемов… (Возможно, нескладность ее движений объяснялась тем, что на ней был совершенно неподходящий для подобных физкультурных упражнений наряд: розовая шелковая блузка с большим бантом и короткая черная юбка в обтяжку на красивых голых ногах, – словно она собиралась идти на танцы, да вот пришлось ненадолго задержаться; поскольку ее напарница вышла «на работы» в вылинявшей майке и в домашних джинсах, было совершенно непонятно, почему она тоже не могла переодеться во что-нибудь более удобное?..)
Немножко пообвыкнув «на высоте», темноволосая приступила к решению основной задачи. Если учесть доисторический тип крепления занавесок к карнизу и необходимость все время стоять с поднятыми вверх руками, это оказалось не таким уж простым делом… Впрочем, девушка периодически устраивала общее развлечение: начинала издавать разнообразные пугающие вскрики, как бы внезапно теряя равновесие, с нарочитой беспомощностью растопыривала руки, качалась то туда, то сюда и наконец тяжело, но осторожно наваливалась на плечи поддерживающей ее подруги, ласково ругаясь при этом, что та плохо ее страхует (рыженькая бледнела и пошатывалась от напряжения, но покорно принимала «на ручки» свою малютку).
Сидя на диване, Фурман с интересом поглядывал на их игры, тем более что и без того коротенькая юбка темноволосой задралась на ее гладких, матово отсвечивающих бедрах уже чуть ли не до пояса… Случайно поймав его нескромный взгляд, рыженькая ужасно покраснела и, поскольку обе руки у нее были заняты, попыталась загородить неприличный вид собственным телом. Ее суетливые перемещения, видимо, вызвали небольшую качку, потому что темноволосая тут же недовольно раскричалась, с капризным безрассудством отказываясь понимать шипящие дружеские намеки и советы. Когда же до нее наконец дошло, о чем идет речь, она так нервно и с такой силой одернула свою юбку, что там сбоку что-то не выдержало и отлетело или лопнуло – во всяком случае раздался странный звук, на черном появился просвет, и юбка едва вообще не соскочила… Ч-черт!
Немая сцена.
И вот тут темноволосая сумела показать себя во всей красе. Точно ожившая мраморная богиня, она слегка нагнулась и, зажимая у бедра спадающую ткань, несколькими короткими, но ужасающими разрядами гнева в считаные секунды подавила разброд и замешательство в своей скульптурной группе. Наведя порядок в основании, однорукая богиня вновь – теперь уже с какой-то полубесстыдной грацией – потянулась к занавеске. В три все более яростных рывка она с корнем оторвала ее от карниза, хмуро повертела перед собой, как бы удивляясь, на что же может быть годна эта тряпка, и нахально швырнула в дальний от себя угол – туда, где в кучке не заметенного в суете мусора аккуратно стояли веник и совок.
– Ты что? Зачем так-то?.. – с боязливым укором спросила рыженькая.
– А, все равно же нам стирать!
Наверху делать было больше нечего. Со скучающим выражением темноволосая стала примериваться, как бы ей лучше спуститься. Но вдруг, словно решив, что теперь ей наплевать на условности, легко и свободно опустилась на корточки, с победоносной откровенностью сверкнула там чем-то белым и элегантно сошла на твердую землю.
Фурман резко уткнулся в книгу, но, охваченный хищным волнением, продолжал внимательно следить за осторожным шевелением теней над верхним краем страницы и вслушиваться в их растерянно-озлобленное перешептывание. Темноволосая теперь демонстративно изображала «полное изнеможение»: громко отдувалась, утирала пот со лба, обмахивалась ладошкой – в общем, приходила в себя. Фурману было интересно, что они будут делать дальше – ведь оставались еще три занавески на других окнах. Судя по всему, рыженькой удалось убедить свою бесноватую подругу внять голосу разума и переодеться, но проделано все это было очень быстро и незаметно: когда Фурман, привлеченный каким-то новым движением, поднял глаза, та уже была в черной водолазке и брюках.
Продолжение же оказалось совершенно неожиданным.
Рыженькая взяла веник и стала подметать, а темноволосая, в очередной раз с бесшабашной силой сдув упавшую на глаза челку, вдруг обратилась к Фурману: мол, можно тебя немножко побеспокоить? Дело в том, что нам скоро уезжать, а мне бы хотелось познакомиться с тобой поближе. Надеюсь, это желание взаимно?.. Ну, вот и отлично. Давай поговорим о чем-нибудь – а я заодно пока передохну, устала очень. О чем поговорить? Ну, есть много разных тем… Вот, к примеру, мне было бы интересно узнать у тебя, почему ты позволяешь себе сидеть, развалившись, как господин, когда другие у тебя на глазах работают? Мог бы ведь и помочь! Что скажешь?
Фурман, побагровев, буркнул что-то неловкое, типа «вы меня не просили», но с места не сдвинулся, после чего ему припомнили и то, что он вчера после ужина не помыл посуду, даже за самим собой, а сегодня проспал до двенадцати и не пошел с бабушкой не только в магазин, но и за молоком, которое она решила купить специально для него, – это уж просто стыдно!
– Ну, и зря она пошла: я не люблю молоко, – удачно отбился он. – Я его вообще почти не пью.
– Ах ты, лапушка! Так вот оно в чем дело-то! Ты слышала, подруга? Он у нас, оказывается, не любит молоко – вообще его не пьет, ни капли, представляешь?! Извини, пожалуйста, я этого не знала! Нет, правда, прости – ну, ошиблась, что поделаешь, с каждым может случиться… Слу-у-шай, Саш, а ведь ты у нас, наверное, круглый отличник, да? Угадала? Нет? Ну, все равно хорошо учишься. Что ж, правильно, молодец! Как там: пионер – всем ребятам пример! А ты, конечно, еще и тимуровец: макулатуру собираешь, старушкам помогаешь через улицу перейти… У вас в Москве движение-то – ого-го какое! Я там у вас была как-то… Между прочим, а ты помнишь, подруга, с кем мы тогда вместе ездили? – спросила она рыженькую. – Ну, кто меня вообще пригласил и почему я согласилась-то?.. Как, я тебе разве еще не рассказывала? Да ты что, это ж была целая история! Роман, можно сказать! Ну, или повесть… Точно, «повести Белкина». Подожди, а я-то кто? Нет уж, я не Белкин… Сама ты Максим Максимыч! Да ты лучше послушай! У нас же поездка была организована по полной программе. Ну как же! Приехали мы в Москву ранним-ранним утром, на самой первой петушинской электричке, во сколько она там приходит… Неважно. И, как положено, первым делом отправились смотреть на Красную площадь и Мавзолей Ленина. Часа полтора простояли в очереди, ждали, когда откроют… Да, когда он проснет… – Да ты что говоришь-то такое, дура, с ума сошла, что ли! Как тебе такое на язык лезет… Ладно. Оттуда мы пошли… Не помню уж куда – в общем, гулять по Москве. Весь день гуляли по разным улицам… Я там уже, если честно, устала до смерти – все ж мелькает… И жрать хочется – с самого утра ж ничего во рту не было. Наконец зашли в кафе посидеть – забыла, как называется. Взяли себе пельменей – каждому по три порции, наелись до отвалу… Я чувствую – все, глаза у меня закрываются, не могу, засыпаю… Ну и, короче, дело уже к вечеру, пошли мы обратно на вокзал, и я там по дороге чуть не заблудилась: кругом же народу, все куда-то несутся, москвичи эти злые, орут, толкаются, машины гудят… Я уж думала, вообще никогда оттуда не выберусь! Такого страху натерпелась, не приведи господи, еле ноги унесла. Думаю: нет уж, спасибо, больше меня в эту вашу Москву ни за какие деньги не затащишь! Это все не для меня. Я люблю тишину, покой, природу… Ой, слушай-ка, я тут чего-то вдруг распелась, в воспоминания пустилась – да, старческие, можно сказать… Сама не пойму, с чего это меня понесло-то? Ладно, я тебе лучше после дорасскажу, наедине, а то это не для чужих ушей…
Давайте вернемся к нашей теме. Саш, а тебе вообще сколько лет-то исполнилось? Тринадцать стукнуло уже? Нет? Ну и не говори, я сама догадаюсь. Так, тебе… пятнадцать. Верно? Ну конечно, тогда все с ним ясно! А то я ему, понимаешь, про сбор макулатуры да про старушек, смотрю – а он и ухом себе не ведет, даже вроде как посмеивается! В чем тут, думаю, дело? А раз ему пятнадцать исполнилось, так он уже и не может быть пионером! Точно, как я сразу-то не сообразила: он же у нас член ВЭИЛКАИСЭМ и, конечно, по развитию своего самосознания стоит намного выше всех этих мелких проблем со старушками… А что? Да хоть бы ему еще и нет пятнадцати! Сейчас ведь многие стараются в комсомол пораньше вступить – особенно если кому карьеру нужно делать, вот они и роют землю носом чуть не с детского сада. А он у нас мальчик из приличной интеллигентной семьи… Нет уж, это ты хватила, для члена партии ему пока еще рановато. Хотя кто их знает…
Ну, а ты чего все молчишь-то, Саш? Скажи что-нибудь! Язык проглотил? Чего ты такой скучный-то? Поговорил бы с девушками, повеселил бы нас чем-нибудь!.. Нет, не хочешь?..
Слушай-ка, подруга, а мне вдруг какая идея-то сейчас в голову пришла: а может, он того – шпиён? Боится нам с тобой какой-нибудь страшный военный секрет выдать – вот и молчит? А что: ну, сказал нам, что из Москвы, а мы с тобой девушки доверчивые, простые, деревенские, можно сказать, – уши-то и развесили! То есть я хотела сказать: развязали языки!.. Ты только глянь на него, правда: сидит, затаился весь и молчит – ну точно, как разведчик… Или как рыба… Нет, больше похож на кролика… Да ты что, подруга, – какой же из меня удав? Я уж тогда, по-моему, больше похожа на птичку: летаю себе туда-сюда, порхаю, песенки распеваю… Батюшки, нет, ты посмотри, какой у него взгляд-то недобрый!.. Ой, мне почему-то кажется, что я ему не нравлюсь! А он меня не съест? Правда? Ты меня защитишь в случае чего? Ну, тады ладно! Как-нибудь переживу. Все равно мы скоро уедем и отстанем от него – лежи тогда на диване сколько хочешь.
Эх!.. Беседа у нас, похоже, не получилась, друг друга мы не поняли… Ну что, отдохнули – пора и за работу приниматься?
«Да, точно: давно уже пора тебе заткнуться и за работу!» – злобно подумал Фурман. Но не тут-то было.
– Мог бы ведь помочь нам и просто как будущий мужчина, – вновь принялась она за рассуждения, теперь зачем-то схватив освободившийся веник и прохаживаясь с ним туда-сюда, как с букетом. – Мы же с тобой все-таки женщины! Точнее, конечно, девушки… Напарница смотрела на нее с мрачным неодобрением, и она стала оправдываться: – А что я такого сказала? Я вполне серьезно. Он же у нас и вправду будущий мужчина. Можно сказать, наша опора, защитник Родины… С виду, по крайней мере… Или я чего-то путаю? Ты знаешь, подруга, по-моему, настоящие мужчины должны вести себя как-то по-другому. А может, это у них в Москве теперь так принято? Но что-то я о таком пока не слыхала. А ты? Вроде радио мы слушаем регулярно, газеты тоже читаем… Может, это какие-то новые столичные веяния? Последние писки моды? Ой, прошу прощения, если что не так сказала! Я ведь темная, ой, темная!.. Конечно, до нас тут, в глуши, прогресс медленно доходит… Сашенька, светик, ну ты скажи нам хоть одно словечко, пожалуйста, что ж ты все молчишь-то, как неродной!
Фурман уже достаточно долго сносил ее наглые издевательские выходки и успел сочинить десяток надлежащих ответов (надо сказать, что несколько раз злая девушка сильно задела его за живое). Подняв на нее глаза, он с подчеркнутой холодностью (однако глотая слова от волнения) произнес: в отличие от вас, я не собираюсь никого здесь оскорблять, поэтому разговор в таком духе мне совершенно не интересен; и вообще-то, он ведь только вчера приехал сюда – к своей бабушке, на свою дачу, чтобы немного отдохнуть, потому что в Москве ему весь год пришлось много заниматься (отчасти это было правдой: он очень хорошо сдал выпускные экзамены за восьмой класс и, заняв вдобавок третье место на внутришкольной физико-математической олимпиаде, смог перейти со всеми своими друзьями-отличниками в девятый – специализированно-математический; иначе ему пришлось бы с ними расстаться и искать другую школу). Но, видимо, он ошибся, приехав сюда. Он здесь никому не нужен. На него почему-то с самого утра орут, предъявляют ему какие-то странные обвинения… Что он слишком долго спит… Лично я вас тут ничего не заставляю делать. И не собираюсь вам мешать, если вы сами хотите что-то делать. Но и вы мне, пожалуйста, тоже не мешайте делать то, что я хочу. Наверное, так будет лучше для всех. По крайней мере, пока я здесь остаюсь. И он демонстративно уткнулся в книжку.
– Вот это да! Класс! Подруга, ты все слышала? Не знаю, как ты, а я лично просто поражена – в самое сердце. Смотри-ка, какой он у нас бойкий на язык, оказывается! Я-то думала, что он у нас молчун, а он на тебе – сказал, прямо как отрезал! И такие все формулировки чеканные! Даже зависть берет. А сразу-то по нему ведь и не скажешь, что он может вот так отбрить человека… До сих пор все было так вежливо, культурно: и «спасибо» тебе, и «пожалуйста», и «с добрым утром» – захочешь, не придерешься… Я еще вчера вечером, грешным делом, подумала: это надо ж, как нам с тобой, двум дурам деревенским, повезло, в кои-то веки встретили такого воспитанного, интеллигентного мальчика, просто любо-дорого посмотреть! Да еще и неглупый – по глазам видно! Это ж такое редкое сочетание… И книжки хорошие читает! Неужто, думаю, в этой ужасной Москве такие дети еще не перевелись? Завтра надо будет обязательно познакомиться с ним поближе (ну, ты понимаешь – это я вчера так подумала). Приобщиться, так сказать, к высокой столичной культуре… Ну, раз уж так повезло, что он сам к нам приехал…
Не удержавшись, Фурман ответил:
– Я ведь уже сказал, что я приехал не к вам!
– Ха, вот и пообщались!.. Да, сейчас-то я вижу, что вся эта вежливость и мягкость у него – одно притворство. Маска. Но хоть спасибо за то, что показал нам свое истинное лицо! А то так бы и поверили. Правильно пословица-то народная говорит: не верь глазам своим…
(Уж про глаза-то тебе бы лучше помолчать, жестоко подумал Фурман.)
Снова занявшись занавесками, темноволосая еще какое-то время приговаривала разные колкости, но Фурман ей больше не отвечал, только иногда презрительно покачивая головой, мол, мели-мели, емеля… Собака лает, а караван идет… Вторая девушка, судя по ее угрюмо-виноватому виду, была очень огорчена и расстроена случившимся (так тебе и надо).
После ужина Фурман расположился за большим обеденным столом и один за другим производил быстрые карандашные наброски на разные темы. В какой-то момент в столовую вышла рыженькая (ее агрессивная подружка еще часов в пять куда-то умотала – на танцы, наверное). Она озабоченно покрутилась по комнате, как бы забыв, зачем сюда пришла, потом осторожно спросила, можно ли ей взглянуть на уже готовые работы. Фурман равнодушно усмехнулся: «Пожалуйста». Перебирая листы, она стала вежливо расспрашивать, учился ли он где-нибудь рисовать, почему выбрал именно такое образное решение и прочее. Голос у нее был низкий и хрипловатый. Фурман отвечал достаточно скупо, подозревая, что за проявленным к нему вниманием стоит всего лишь трусливое желание смягчить конфликт с влиятельным внуком хозяйки. Но вскоре характер разговора совершенно изменился. Девушка не только кое-что понимала в рисовании (это-то ладно – у них в педучилище был такой спецпредмет), но и вообще оказалась совершенно другим человеком, чем это представлялось Фурману после скандала. Он-то решил, что она туповатая деревенская молчунья, находящаяся в полном подчинении чужой воле. А она просто была более скромной и предпочитала держаться в тени – но могла и тонко пошутить, будучи к тому же достаточно наблюдательным человеком, и очень четко сформулировать ту или иную мысль или проблему.
Их беседе никто не мешал, поэтому они успели обсудить и ее достаточно невеселую жизнь в далекой «бесперспективной» деревне до поступления в педучилище, и тревожную судьбу деревенских парней – ее одноклассников, которые весной начали возвращаться домой после службы в армии, и ее будущую профессию учителя младших классов, и даже некоторые важные подробности ее дружбы со второй девушкой – кстати, она даже извинилась перед Фурманом «за те гадости, которые ему пришлось выслушать сегодня утром», хотя за ней самой никакой вины вроде бы и не было… В общем, когда они решили разойтись (бабушка вернулась в дом, закончив возиться с огородом), то чувствовали себя если и не старыми друзьями, то уж точно членами некоего тайного (что было как-то по-особенному приятно) братства.
Оставшись в одиночестве, Фурман вынужден был пересмотреть свое понимание некоторых вещей. Во-первых, он теперь видел, что отношения между двумя девушками на самом деле намного сложнее и драматичнее, чем они сами это показывали в постоянно разыгрываемом ими «на публику» спектакле. Но главное, перед ним вдруг в совершенно ином свете предстало то, что называется «женской привлекательностью»: одна из девушек была, несомненно, красивее и эффектнее, другая же, как в сказке, – милее и добрее.
Всю неделю девушки уходили утром, когда Фурман еще сладко почивал, и возвращались вечером, валясь с ног от усталости. Тем не менее бедная косая истеричка при каждом удобном случае пыталась как-нибудь зацепить его. Не поддаваясь на провокации, он лишь поглядывал на нее со снисходительно-хитроватой улыбкой, как смотрят терпеливые взрослые на рискованно расшалившегося ребенка, – что раззадоривало ее уже на очевидные для всех, даже для нее самой, бестактности и глупости, выплюнув которые она успокаивалась. А с ее подругой он продолжал обмениваться тайными дружескими приветствиями, – хотя, отсчитав ровно три дня после того разговора, признал с насмешливой жалостью к самому себе, что напрасно ждал от нее какого-то нового встречного движения. У него даже мелькнула мысль, что, может, она и впрямь достигла тогда своей единственной цели: ведь до бабушки скандал не дошел, и все, в общем-то, улеглось… Но как бы то ни было, он был ей благодарен и не хотел обижаться на нее. Тем более что до их отъезда оставалось уже всего ничего.
4
Как-то он проснулся среди ночи – затерянный в пыльных, тяжелых складках жутковатой предутренней тишины (даже петухи еще молчали). Надо было идти в туалет. Полежав какое-то время, он все же убедил себя вылезти из-под одеяла; постоял, поеживаясь и растерянно присматриваясь то к клубящейся черноте между двумя занавесками, театрально обрамляющими дверной проем, то к бабушке, спящей на соседней кровати лицом к стене, несколько раз скользнул взглядом по ее длинным волосам, и вдруг до него дошло: это не бабушка… А кто же?! Стены шевельнулись, но ледяная обморочная волна схлынула до того, как его крик прорвался в горло: он вспомнил, что бабушка иногда расплетает на ночь волосы…
Конечно, это было смешно. Но он знал, что страх наполняет его уже почти вровень с желанием, и только не ко времени встрепенувшаяся глупая человеческая гордость не позволяет ему тут же юркнуть обратно в норку. Грубовато подталкиваемый ею в спину, он приблизился к проему на расстояние вытянутой руки и замер в дразнящем ужасе… (Там, за тонкой тканью, могучий хладнокровный охотник повторил, точно в невидимом зеркале, все его движения и изготовился к броску.) Ну же – вперед или назад?
Еще не решив, он сделал несколько глубоких, замедленно-бесшумных вдохов и выдохов… – и с внезапной гадливостью швырнул свое тело в узкий черный омут, каждой мгновенно вздыбившейся клеточкой кожи готовясь встретить касание чужого… Вынырнул в жирной тьме – УЖЕ ТАМ, НА ИХ СТОРОНЕ – еще жив! – и полетел-понесся на цыпочках почти вслепую, рассылая на все стороны по панически-телепатическому радио нижайшие извинения за доставленное кошмарным Хозяевам Ночи беспокойство… Ворвавшись в туалет с визжащей погоней на хвосте, лихорадочно заперся (нет, всё, сюда уже нельзя, чур, я в «домике»!..), содрогаясь – ух, да здесь просто ледник! – сделал свои дела и тут, видимо, от холода, проснулся окончательно.
Ему вдруг стало жутко весело. (Хотя действительно, чего ж человеку не радоваться, коли он сумел ловко проскочить под самым носом у нечистой силы и спрятаться от нее в промерзшем сортире! Тьфу-тьфу-тьфу, мир с ними со всеми! А то еще обидятся и как полезут сюда через дырку… Знает он их!..) Все отлично! Вот только сна теперь – ни в одном глазу. И не сидеть же ему здесь до утра? Может, выйти погулять? Но на улице явно еще холоднее, чем здесь. Да и страшновато, если честно… Домашние-то джинны – они ведь уже как бы почти «свои», «полуприрученные», с ними, наверное, можно как-то сговориться «без крови»; но те, что живут снаружи, на открытом воздухе, – их же там легион, и они все совершенно дикие, хуже индейцев, вообще никаким законам не подчиняются, даже, небось, и языка-то нашего не понимают… а зачем он им, если все, что им нужно, они могут найти где-нибудь на помойке?..
В конце концов, осмелев от скуки, он заключил торжественный договор (устный, конечно, – не на туалетной же бумаге его писать, да и чем?) с двумя главными вождями бесовского племени, живущего в доме. Те согласились беспрепятственно пропустить его – только в одну сторону и по строго оговоренному маршруту; при этом они поклялись самой страшной из своих клятв, что никто не дотронется до него и не будет нарочно (по поводу этой формулировки возник спор) пугать его своим видом или звуками; а он, помимо точно таких же ограничений, принятых им на себя (то есть не трогать и не пугать всех этих страхолюдин!), пообещал вообще не смотреть на них и потом, если все пройдет нормально, выставить им целую порцию варенья. (Неизвестно, о чем думали они, а он-то под «порцией» имел в виду маленькую розеточку, ха-ха, – хотя договор есть договор, и свою часть он, безусловно, собирался выполнить.) После того как все необходимые формальности с обеих сторон были улажены, он бесстрашно открыл дверь и совершил длинную перебежку в столовую, честно постаравшись не увидеть по пути того, чего не надо…
Благодаря четырем высоким окнам (два из которых выходили на улицу), сизая мгла в столовой уже понемногу рассеивалась, словно бы впитываясь в проступающие из нее вещи. Если не считать этой муравьиной работы рассвета, во всей округе не спали, похоже, только старинные часы, мерно мучимые маятником. Их кудрявые стрелки указывали на начало пятого. Сколько же он там просидел?
Решив посмотреть, не происходит ли чего на улице, он подошел к окну – но вместо знакомой живой картины, полной воздушных подробностей и всякой мелкой игры, к наружному стеклу чья-то хулиганская рука с оскорбительной назидательностью приставила застывшую мутную серо-фиолетовую фотографию пустыни, вымершей сто лет назад…
Прежнее веселье куда-то предательски испарилось, и Фурмана вдруг охватило тоскливое «пионерлагерное» одиночество. Это не твое время, малыш, тебе надо идти в кроватку и спать, как все…
Но минуты шли за минутами, а он стоял, упершись в лживо прозрачное, такое неспасительное на этот раз окно, – и не мог сдвинуться с места. Потом ему захотелось расплакаться – злыми, мстительными, смешными и беспомощными детскими слезами, – он даже нетерпеливо сморщился, подгоняя их… Но ничего не получилось. Глубинный источник слез был настолько сух, что он с мгновенным испугом догадался: это все, конец, он больше никогда не сможет заплакать. Я болен? Вычеркнут из списка плачущих? Меня кто-то проклял? Но за что?.. Что я сделал не так?!
Он с суетливым сожалением попытался вспомнить, когда в последний раз свободно плакал. Кажется… Или… Но все это теперь было неважно.
Светало. Воздух уже очистился от мути, но на всем еще лежала синяя тень ночной усталости.
Фурману, погрузившемуся в вязкую печаль, вдруг померещилось, что за окном по краю дороги быстро прошли какие-то люди в белесой защитной форме. Кто бы это мог быть? – рассеянно подумал он. Ему показалось, что они были странно похожи на солдат из кинофильмов про войну: на всех – потертая форма старого образца, а в темных лицах – молодых и старых – та же сосредоточенная невысказанная горечь, какую не встретишь у прохожих на улице… Да, точно: отцы и братья, уходящие на фронт, – на мгновение его даже охватило «то самое» щемящее чувство… А вдруг, пока он воевал в туалете с джиннами, на самом деле началась война, о которой еще никто не знает?! Он прислушался: ни далеких взрывов, ни гула летящих самолетов, ни воя сирен, ни шума голосов. Улица оставалась такой же пустой и неподвижной. Призраки?.. Наложение витков времени, как в научно-фантастических романах?.. Но ведь в этих местах, в ста километрах на восток от Москвы, не было никаких боев! А при чем здесь бои? Они просто шли куда-то, как раз в сторону Москвы… А может, где-то неподалеку сейчас снимают кино про войну, и это были усталые артисты, которые, не сняв костюмы и грим, возвращались с ночных съемок? Да нет, о таком наверняка давно было бы известно всему городу. Просто ему что-то почудилось с недосыпа – ну, может, прошли какие-нибудь рабочие с ночной смены… Хотя образ был хороший…
За окном и в доме по-прежнему ничего не происходило. Однако в мелькнувшем видении скрывалась какая-то странная правда, и Фурману стало грустно: что-то другое действительно уходило от него сейчас навсегда, как тот призрачный отряд. Это уходящее казалось обескураживающе родным (хотя только что он и думать о нем не думал), а внезапное расставание с ним было следствием какой-то нелепой ошибки – но и вины тоже. Конечно же, и вины! Как он может вот так просто дать ему уйти, исчезнуть, и все?! Самое стыдное, что даже имя его сейчас никак не могло вспомниться (крикнуть хотя бы «до свидания!» – но кому?). Прячась за стеклом, Фурман с унизительной лихорадочностью рылся в памяти, а уходящее исчезало уже буквально у него на глазах заодно с последними ошметками ночи, спешно покидающими город, словно ему было по пути со всей этой темной сворой, – и Фурман испытал бессильную ревность к легкомысленной и никого ведь на самом деле не любящей ночи, которая сегодня же на закате как ни в чем не бывало заявится сюда, чтобы снова и снова устраивать свои шуточки, – а уходящее будет идти по краю дороги все дальше и дальше, и его уже не догнать…
Ушло. А он с ним даже не попрощался.
Сделав над собой усилие, Фурман отвел взгляд от окна. И вдруг утрата стала ему абсолютно понятна – это было как тупой удар кулаком в грудь. Обомлев, он смотрел сбоку на тяжелое овальное зеркало в резной раме, опирающееся на маленький облупленный шкафчик и занимающее собой весь простенок между двумя «уличными» окнами, – вот здесь, на этом самом месте и даже почти в той же позе, он стоял, когда она, привычно нахмурясь, вышла из своей комнаты, с мимолетным вниманием заглянула в зеркало, заправила непослушную прядку за ухо и в первый раз после того вечернего разговора улыбнулась ему, как бы подтверждая: это был не обман, она все помнит… Он тогда увидел в этом какое-то обещание (вот несчастный идиот!), потом признал, что ошибся, и решил, что этого будет достаточно… – Для чего? Для расплаты.
И вот она наступила.
А называть-то это можно по-разному, разными словами (даже словом «любовь»), потому что это ничего не меняет.
Спасибо хоть, что он сейчас это понял… Вполне мог бы и не понять.
…Зачем все это произошло? А скорее всего, ни за чем. Просто одно за другое зацепилось – в жизни так очень часто случается. Но только ведь ты сам говорил, что ты ей благодарен. Чего ж ты еще хочешь?
Ах, мало?! Ну, знаешь… Много хочешь – мало получишь! (У этого внутреннего голоса были какие-то Борины интонации.)
На улице уже прошли первые прохожие, пробежала озабоченная собачка. Похоже, опять собирался дождь.
Надо идти спать.
Но ведь они завтра уезжают!
И что из этого? Ничего не будет. Уедут, и все. А ты останешься здесь. Неужели непонятно: она чужая взрослая девушка со своими собственными интересами в жизни, о которых ты ничего не знаешь (может, и слава богу!). А ты в любом случае еще слишком маленький для нее. Она тебя, скорее всего, вообще не воспринимает в качестве возможного «объекта»… Это абсолютно нормально, и не стоит устраивать из этого трагедию. Подожди, у тебя все еще впереди. Просто каждый человек должен знать свое место. Ах, ты не хочешь?! Ну, и черт с тобой!..
И черт тут же явился.
Поначалу между ними завязалась веселое препирательство: черт предложил пойти попрощаться с рыженькой, а Фурман приводил разные разумные аргументы против. Но время уже поджимало, и черт, хихикая, подвел своего заболтавшегося дружка к двери и просто-напросто втолкнул его в комнату девушек. Дверь тут же сама собой закрылась с жутким скрипом, и, возбужденно поцарапавшись в нее, Фурман понял, что попал в ловушку.
Здесь оказалось намного темнее, чем в столовой (единственное окно было завешено на ночь большим куском синего брезента с металлическими колечками по краям – возможно, это была сохранившаяся еще с войны светомаскировка), поэтому раздосадованному Фурману пришлось ждать, пока привыкнут глаза. Черт за дверью безумно радовался своей ловкой шутке, и Фурман с некоторым душевным облегчением решил, что имеет теперь полное право на него «обидеться» – друзьям таких подлянок не делают… На самом-то деле эта неуютно длинная комната была проходной – неужто глупый чертяка этого не знал? – занавеска в левом дальнем углу скрывала узенький проем, ведущий в маленькую спальню; чтобы попасть туда, требовалось всего лишь обогнуть одежный шкаф и затем протиснуться между стеной и решетчатой спинкой большой железной кровати.
Возле окна стояла еще одна кровать, и Фурман только теперь заметил, что она пуста. Но ведь девушек было двое… – Засада?! Ему мгновенно привиделась безобразная сцена драки в темноте с двумя яростными полуобнаженными ведьмами, но оказалось, что обе девушки мирно спят вместе на дальней «полуторной» кровати (вероятно, бабушка или они сами экономили таким образом постельное белье).
Рыженькая лежала с краю на спине, а ее подруга в синей ночной рубашке – отвернувшись к стенке. Наверное, им было жарко вдвоем: рыженькая разметалась, закинув руки за голову и смешно выставив сбоку круглую коленку. Фурману бросились в глаза ее голые белые плечи, и он взволнованно решил, что на ней ничего нет, но, приглядевшись, обнаружил, что она спит в большеразмерной мужской майке выцветшего голубого цвета. Это было довольно странно, но в то же время как-то очень соответствовало ее отзывчивому характеру: Фурман легко представил себе, что эта майка подарена ей одним из ее деревенских ухажеров (например, тем несчастным добряком, про которого она рассказывала, что он недавно вернулся из армии и запил от безнадежности, а она пыталась его спасти), впрочем, с тем же успехом майка могла принадлежать ее отцу или брату – а на ночную рубашку у нее просто не было денег.
В полутьме белое лицо спящей казалось неузнаваемо чужим: распухшим, слепым, с бессмысленно размазанными чертами и тяжело дышащим ртом… Чего же я все-таки от нее хотел? – вдруг удивился он. – Зачем я здесь торчу?.. Ах да, мы с чертом решили посмотреть: может, они спят голыми. Ну, я посмотрел, и что? Он стал воображать себе, что будет, если одна из них (вот только кто?) сейчас проснется и… не заорет, не рассердится, а таинственно позовет, поманит его: иди сюда!.. Вариантов было множество. Но все же на всякий случай ему следовало бы сочинить хоть парочку «школьных» оправданий тому, что он делает ночью в чужой спальне… Кстати, на самом-то деле он ведь просто хотел с нею попрощаться.
Ну, так что же ты – прощайся!
Он торопливо прислушался к себе, ища те чувства. Но все уже сложилось как-то неправильно – слишком нервно и смешно… Устыдившись, он растерянно прошептал «пока», тихонько проскользнул в свою комнату, грустно залег в холодную постель и, разочарованный, уснул.
5
На погоду пожаловаться было нельзя. Фурман каждый день ездил на стареньком дамском велосипеде к Черному озеру (раньше – побаивался: цыган, пьяных мужиков, хулиганов, чужих мальчишеских стай…). Там было два хороших места для купания: песчаный обрыв на поросшем старыми соснами берегу и так называемый остров (в действительности это был всего лишь полуостров, довольно слабо прикрепленный к «материку» и напоминающий по форме гигантскую каплю). Середина острова была густо засажена маленькими пушистыми елочками, которые за последние несколько лет заметно прибавили в росте, превратившись в «детское» подобие леска, а все остальное представляло собой приподнятую над озером неровную травянистую поляну с несколькими узкими языками песчаных пляжей. Тенистый сосновый берег был намного спокойнее и чище, чем плешивый и даже по будням многолюдный остров, но Фурман считал, что если кому-то вздумается угонять его велосипед, пока он купается, то на открытом пространстве вору будет труднее скрыться, – и поэтому ездил на остров.
Обычно он быстро окунался, то и дело бросая тревожные взгляды на оставленную на берегу машину, и, немного обсохнув, пускался по наезженным еще с Борей велосипедным маршрутам: то по лесной дороге до маленького круглого Белого озера и потом в сторону знаменитого Введенского озера, посреди которого на острове в бывшем монастыре была женская колония; то к железнодорожной станции и дальше по глухим тропинкам вдоль узкой тихой речки Клязьмы; то по Горьковскому шоссе в сторону Москвы…
Однажды, когда Фурман под чудовищно палившим солнцем дольше обычного бултыхался в озере, на пляже появился знакомый ему взрослый парень по имени Сашка: он жил через два дома от бабушкиного и был Вовиным другом детства (в один из своих приездов Вова даже представлял ему Фурмана как своего брата), а кроме того, он был известным всему Покрову хулиганом. Несколько лет Фурман его не встречал: кажется, Сашка «отсиживал» большой срок за драку с поножовщиной – и вот, видно, вернулся. Голова у него была пострижена наголо, а с лица не сходила идиотическая улыбка человека, который после долгого отсутствия радуется всем проявлениям жизни. Сашка был коротконог и выглядел довольно неказистым в своей явно случайной одежде, но, когда он стянул с себя рубашку, на его плечах и торсе заиграли мощные мускулы, разукрашенные синими татуировками. Брюки Сашка не стал снимать – наверное, еще не успел обзавестись плавками, – так и прилег в них на мелкий горячий песок, улыбаясь сверкающему озеру, сияющему небу и тихим зеленым берегам.
Фурман был сильно встревожен этим соседством. Конечно, глупо было бы думать, что опытный уголовник, едва вышедший на свободу, немедленно позарится на его древний драндулет. Да и сам-то Фурман – всего лишь мелкий пацан с пустыми карманами – вряд ли может быть ему интересен. А в крайнем случае можно успеть пропищать Сашке что-нибудь про его друга детства Вовку с Октябрьской улицы: мол, мы же знакомы и вообще чуть ли не кореши!..
Наплававшись до мурашек, Фурман наконец отважился выбраться на берег передохнуть. Сашка спросил, нет ли у него закурить, и огорченно огляделся вокруг: в эту предобеденную жару отдыхающих было немного, а мужчин так и вовсе ни одного. Пришлось Сашке подняться, отряхнуть брюки и отправиться на поиски курева. Фурман с облегчением пожелал ему счастливого пути.
Минут через пять он понял, что надо снова лезть в воду – иначе просто спечешься. Мысль о том, чтобы ехать куда-то кататься, можно было выкинуть из головы – какое там, до дома бы дотянуть без солнечного удара… Пока же он решил воспользоваться своим одиночеством и потренироваться в нырянии с открытыми глазами. Содержимое Черного озера напоминало коричневый суп со шпинатом, и после нескольких погружений глаза сильно защипало. Но все равно в воде было здорово!
Увы, вскоре на берегу снова появился Сашка, как видно, сумевший разжиться сигаретами где-то поблизости. Фурмана вдруг поразила кошмарная мысль, что он их у кого-то отнял или даже убил из-за них человека… Ему сразу расхотелось нырять, с глазами или без, и он растерянно залег на мелководье, периодически с показной жизнерадостностью суча ногами. А Сашка с комфортом устроился на прежнем месте и ощерился во весь рот – похоже, ему здесь понравилось.
Неожиданно за спиной у Фурмана раздалось несколько всплесков, и мимо него, улыбаясь и роняя капли, к берегу прошла смуглая от загара высокая черноволосая девушка в синем купальнике. Наверное, она приплыла сюда с соснового берега, и Фурману стало стыдно, что он, точно маленький, валяется там, где нормальному человеку едва ли по колено. От неловкости он не нашел ничего лучшего, как «нырнуть» лицом во взбаламученную воду (животом и коленями он и так шкрябал по дну).
Продрав глаза, он увидел, что девушка, направлявшаяся вверх по песку в сторону прибрежной дороги, задержалась рядом с Сашкой, который остановил ее каким-то вопросом. Интересно, что ему от нее надо? Неужели они знакомы?! Она же явно не местная… Не расслышав с высоты своего роста, девушка слегка наклонилась, Сашка хриплым голосом повторил вопрос и почти сразу задал следующий, а за ним еще один – завязав таким образом беседу. Девушка отвечала ему с вежливой готовностью, но при этом недоуменно щурила большие карие глаза и удерживала крайне неустойчивую позу (она ведь только обернулась на секунду и собиралась идти дальше, но, поскольку Сашка нарочно говорил очень тихо, ей приходилось раз за разом изгибаться к нему и переспрашивать). Закрепляя свой тактический успех, Сашка ловко перекатился на живот: он неотрывно глядел на девушку снизу вверх и словно умолял ее о чем-то… Кому-нибудь со стороны эта сцена могла бы показаться чрезвычайно романтичной и подразумевающей длительную предысторию. Но Фурману было уже понятно, что это история про Красную Шапочку: опытный хулиган просто от нечего делать клеился к случайно встретившейся ему незнакомой интеллигентной девушке, в меру своих сил изображая «галантность», – хотя вообще-то ждать от него можно всего чего угодно. Не кричать же этой взрослой девушке: «Беги (или бегите?), а то он тебя съест!» – даже если она и послушается сидящего в озере маленького мальчишку и убежит, то как он сам потом спасется от Волка?..
К сожалению, хорошее воспитание не позволяло девушке прервать затянувшийся вежливый обмен репликами и уйти от греха подальше. Фурман, который вяло бултыхался в воде, тщетно пытаясь избавиться от собственного цепенящего страха перед Сашкой, в какой-то момент с отвращением поймал себя на том, что подловато – как бы из некой машинальной «мужской солидарности» – сочувствует его почти безнадежной игре…
Но тут Сашка резко сел и с презрительно исказившимся лицом покрыл девушку матом. Она растерянно отшатнулась, покраснев так, что это было заметно даже сквозь ее коричневый загар. Больше не глядя на нее, Сашка демонстративно отхаркался и сплюнул на песок («Гад, здесь же потом дети будут сидеть!..» – возмутился про себя Фурман). Девушка весьма благоразумно решила, что отвечать не стоит, но дурацкая женская гордость удержала ее от того, чтобы немедленно кинуться наутек. Осторожно убедившись, что дикий человек не обращает на нее внимания, она повернулась к нему испуганной спиной и, неловко увязая в песке длинными ногами, не оглядываясь пошла своей дорогой.
Сашка курил нервными глубокими затяжками и с недовольным видом водил глазами по озеру. Потом он перекатился на живот, торопливо, словно обжегшись, переложил сигарету в левую руку – и вдруг каким-то невероятным ползающим движением, точно гигантская хищная ящерица, метнулся вслед за уходящей девушкой… От твердой почвы, по которой уже можно было бы побежать по-настоящему, девушку отделяли каких-то полтора метра, она уже наверняка успевала уйти, – но проигрывающее гонку чудовище буквально в последнее мгновенье выбросило далеко вперед переднюю правую клешню, и та мертвой хваткой захлопнулась на смуглой лодыжке. Девушка по инерции дернула пригвожденной к земле ногой, обернулась, издала ужасный то ли вскрик, то ли писк (бедная, она ведь даже не догадывалась о погоне!..) и, отчаянно извернувшись всем телом навстречу опасности, повалилась на спину с заплетенными ногами. Она сразу села и, упираясь руками, попыталась отползти задом, но страшная клешня держала крепко… У Фурмана от переживаний чуть сердце не разорвалось.
…Секунды шли, а кошмарный Сашка все лежал, уткнувшись лысой головой в песок, и не шевелился. Девушка смотрела на него с паническим омерзением. Может, она случайно лягнула его куда-нибудь в висок, и он сдох?.. Вот было бы счастье! Оставшиеся в живых обменялись беспомощными взглядами. Фурмана поразило, что эта воспитанная девушка, кажется, собиралась с духом, чтобы позаботиться о раненом…
Но тут хитрое чудовище пробудилось от своего притворного сна, подняло круглую башку и вновь явило миру щербатую, идиотически довольную улыбку – улыбку настоящего уголовника, похолодев, понял Фурман.
Сашка сел и, не отпуская ногу пленницы, как ни в чем не бывало попытался раскурить потухшую сигарету. Бычок не загорался, поэтому Сашке пришлось проявить очередные чудеса акробатики: действуя одной правой рукой (теперь он перехватил девушку левой), достать из коробка спичку и чиркнуть ею, что получилось у него только с третьего раза. Девушка с терпеливой задумчивостью пережидала эти манипуляции. Глубоко затянувшись, Сашка деликатно пустил дым в сторону, после чего «скованные одной цепью», точно по команде, в быстром темпе разыграли несколько вариантов продолжения. Инициатива принадлежала девушке, и Фурмана поразила скорость, с которой она меняла приемы борьбы: яростное гипнотическое сверкание глаз, угрозы со ссылкой на каких-то друзей и спутников, пролившиеся и тут же высохшие слезы, не слишком умелое заигрывание (смотреть на это было совершенно невозможно), жалостные просьбы, оскорбления, отпихивания, жестко предотвращенная попытка дать пощечину, снова слезы… Освободиться внезапным рывком девушке тоже не удалось (точнее, она освободилась, но не успела отскочить, и Сашка, обозлившись, сжал ее ногу с такой силой, что девушке стало уже по-настоящему больно: «Ну что, может, еще разок попробуешь сбежать? Давай!»).
Фурман торчал в воде, не зная, на что ему решиться: заорать во весь голос? А дальше? Плыть за помощью вдоль берега? Но кто там может быть – избитый (или мертвый) мужик, у которого Сашка отнял сигареты?.. Может, подобраться сзади и неожиданно напасть? – Чтобы хоть девушка успела убежать… Картины одна страшнее другой мелькали у него перед глазами. Или попробовать уговорить его? Мол, друг, зачем тебе сдалась эта брыкающаяся дура? Она ведь наверняка побежит жаловаться на тебя в милицию – неужели ты снова хочешь сесть из-за какой-то ерунды? Ты же можешь найти себе что-нибудь получше и без этих проблем!.. (Потом-то он, конечно, извинился бы перед девушкой за грубость: честное слово, это же была только «военная хитрость»! Ему представилось, как она осторожно улыбается, отходя от пережитого страха… Он провожает ее до дома…) Так ни на что и не решившись, но начав дрожать от холода и возбуждения, он сел на мелком месте и угрюмо подставил солнцу плечи.
Между тем Сашка нагло требовал, чтобы девушка согласилась выйти за него замуж или же заплатила за свое освобождение какой-нибудь выкуп – «калым», как он говорил: одним из вариантов был поцелуй в губы, но и от денег он тоже не отказывался (хотя какие у нее могли быть деньги в мокрых трусах и лифчике?). Потом он придумал новый поворот: сказал, что девушка свободна и может идти куда хочет. Руку он при этом не отпускал. После долгого обсуждения он демонстративно разжал свой захват и даже отвернулся, но, как только девушка дернулась, поймал ее снова. Унизительный спектакль несколько раз прокрутился по кругу, реплики повторялись, и уже можно было предсказать, что за чем последует. Одно лишь было хорошо: пока они разговаривали или даже переругивались, бандит не бил девушку и не делал ей… хуже (хотя нога у нее уже так заметно отекла, что он согласился переменить захват).
Как назло, остров словно вымер, и было совершенно непонятно, чем все это может кончиться. Впрочем, даже если бы кто-то и прошел мимо – какая-нибудь женщина с ребенком – что бы это изменило?.. Но тут вдруг Сашке надоело играть: обозвав девушку шлюхой, он убрал руку с ее ноги (даже брезгливо отряхнул ее) и, обращаясь к озеру, длинно и подробно обматерил всех женщин вообще.
Напуганная девушка не могла поверить в свое внезапно наступившее избавление (Фурман тоже): она даже и не подумала уходить – так и сидела с покорным рабским видом, сжавшись в ожидании новых пакостей и с какой-то обезьяньей озабоченностью тихонько массируя больную ногу. Сашка оглянулся на нее и опять разразился потоком грязной ругани. Только после того как он заорал «пошла отсюда!», злобно замахнулся и пригрозил изуродовать ее, если она сейчас же не уйдет, побледневшая девушка поднялась и неуверенно отступила на несколько шагов. Поскольку мучитель никак не реагировал, она печально повернулась к нему спиной и медленно пошла на плохо гнущихся ногах – по песку, по траве (вступив на нее, она бросила назад какой-то полубезумный взгляд), потом выбралась на дорожку и исчезла из виду.
Сашка курил, глядя вдаль.
Солнышко скрылось за облаками.
Высидев в воде еще минуту, Фурман собрался с духом и прошел мимо отвратительной гадины к своим вещам. Сашка не обратил на него никакого внимания.
Фурман стал лихорадочно растирать одеревеневшее тело. «Завтра заболею, – тупо подумал он. – Быстрее домой…» В спешке он даже не стал переодевать плавки, так и поехал в мокрых.
6
После отъезда девушек Фурман настоял на своем переселении в их комнату – а то, мол, бабушка ужасно храпит по ночам (что было правдой) и не дает ему спать (а это – уже некоторым преувеличением: учитывая отсутствие двери и тонкость перегородки между комнатами, разница в силе звука была небольшой). На самом деле ему просто хотелось додышать воздухом исчезнувших девушек. Еще когда они жили здесь, он пару раз заходил сюда днем, рассматривал их вещи и осторожно нюхал брошенные майки. Однако, проведя весьма беспокойную ночь на большой кровати в компании двух жарких насмешливых призраков-суккубов, он решил перебраться на ту, что стояла ближе к окну и была не так обжита. На том и помирились…
Еще весной он попробовал написать тайное эротическое сочинение в подражание не забытым им новеллам больничного писателя. На первый раз он выбрал самый простой вариант сюжета: зарубежный супершпион во время дипломатического приема на скорую руку соблазняет жену какого-то посла (оставалось, впрочем, большим вопросом, кто кого соблазнил, – оба были мастерами). Работа оставила у Фурмана странное чувство. Быстро поднимающееся возбуждение, безусловно, мешало сосредоточиться на литературном качестве и деталях. Но если именно возбуждение и было истинной целью этого жанра, а все прочее – лишь необязательным украшением, то зачем вообще надо притворяться «литературой»? Наиболее чистым образцом тогда будут схематичные туалетные рисунки – хотя животные как-то ведь обходятся и без этих картинок?..
Тетрадка с запретным сочинением (которое было предусмотрительно начато в ней сзади) некоторое время пролежала без движения на полке в куче других школьных бумажек, но потом Фурман решил проверить на ком-нибудь свои сомнения и дал почитать «секретное произведение» старому приятелю по кличке Влас-Колбас. Тот в полном восторге заказал продолжение, но, пока Фурман обдумывал следующее сочинение, тетрадка была обнаружена мамой. Обошлось, в общем-то, без скандала, но реакция мамы была настолько жестко-саркастичной, что Фурман с детским облегчением отказался от «нехорошего» издательского проекта (к тому же наступило лето, и общение с возможными читателями прервалось само собой).
Боря, который случайно оказался свидетелем разговора с мамой и, преодолев ее раздраженное сопротивление, ознакомился с «крамольным» содержанием тетрадочки, отнесся к младшему брату с сочувственной иронией. Если уж ты дошел до такой жизни, сказал он, то, чем упражняться в писании всякой дряни, почитай-ка лучше произведения хороших писателей на эту тему – может, хоть какой-то толк будет от твоих страданий.
Следуя его непосредственным указаниям, Фурман прочитал подряд три рассказа разных авторов: «У нас в Мичигане» Эрнеста Хемингуэя (грубоватый бытовой эпизод, оставляющий ощущение загадочной недосказанности), «Морскую болезнь» Куприна (душная, потная и отвратительно притягательная история изнасилования пассажирки в корабельной каюте – история, созданная, без сомнений, большим мастером слова, однако по своей атмосфере подозрительно напоминающая сочинения бедного больничного мечтателя) и «Володю» Чехова (жестко описанная трагедия разом ставила на место жалкие мальчишеские мечты о женском внимании), а затем взялся за рекомендованные Борей толстые романы: «Человека, который смеется» Гюго, «Яму» Куприна и первые тома собрания сочинений Мопассана. Он получил самые разнообразные впечатления, в том числе и по непосредственно интересовавшей его теме: к примеру, вместе с увечным героем романа Гюго он узнал о неком совершенно неотразимом способе поцелуя с помощью просовываемого в чужой рот языка (проверить это было пока невозможно – так же, впрочем, как и оценить удовольствие, получаемое от того, что кто-то лезет в твой рот своим языком). Но его немного огорчило и озадачило то обстоятельство, что женщины во всех этих «возбуждающих» произведениях большой литературы почти всегда оказывались лживыми, глупыми или же изощренно жестокими существами…
И вот теперь, в Покрове, маясь от безделья и одиночества, он стал очень серьезно, со всем доступным ему искусством, рисовать мягким черным карандашом голых женщин – каждый раз начиная, вопреки правилам, с головы и лица и придавая им чуть ли не самое большое значение в работе. Эти взрослые женщины всегда выходили у него худыми, печальными и деликатно скованными, несмотря на призывно-ласковые позы; у всех у них были небольшие аккуратные груди, а неведомое для рисовальщика беззащитно-потаенное место с бережной грустью укрывалось им в густых и мягких завитках волос. Все рисунки – даже те, которыми он, возможно, мог бы гордиться как художник, – по окончании работы или максимум на следующий день беспощадно уничтожались. Он пытался рисовать и красками, но его любимая жирная гуашь, которую он использовал «почти как масло», давно уже окаменела в своих пластмассовых баночках, а акварельной техникой он владел плохо: пробы получались либо слишком грязными, либо просто недостойно грубыми.
Но возбуждение все больше одолевало его, загораясь теперь в любой момент, чем бы он ни занимался. Чуть ли не каждую ночь он прокручивал томительное продолжение сна с Ларисой Константиновной; или спасал униженную бандитом загорелую девушку; две смешливые студентки педучилища на своей высокой жаркой кровати защекотывали его до смерти; или же врач-невропатолог Алексеева начинала вести себя уже настолько раскованно, что… По правде, он так и не понимал, что реально происходит во время этого пресловутого «полового акта» – несмотря на бесконечные упоминания в мальчишеских разговорах, художественные описания и отупляющее изучение соответствующих статей в Популярной медицинской энциклопедии. Однажды ночью ему вдруг пришло в голову, что схематически устройство женского полового органа напоминает пустую трубочку, в которую, видимо, и должен вставляться этот неугомонно вздымающийся толстый стебель. Он решил провести эксперимент. Предположим, что так… Дальше в медицинской энциклопедии говорилось о каких-то особых движениях – «фрикциях». Видимо, что-то вроде этого… Неужели у мужчин с женщинами по-настоящему все так и происходит?.. В общем-то, можно сказать, что это приятно, – но не более того. Почему же тогда во всех книгах все сходят по этому с ума? Странно…
Внезапно на конце стебля очень остро защемило. Исследователь испуганно напрягся… Стало немного полегче, но с его прибором начало твориться что-то неправильное: теперь он уже сам собой задергался и запульсировал с неконтролируемой силой, точно зажатое в кулаке живое существо, пытающееся вырваться на волю… Это был какой-то припадок. – Я не могу его остановить! Боже мой, что же это?! Я сам виноват! Я там что-то сломал!.. – На конце бешено подпрыгивающего стебля с болезненной неотвратимостью накапливалась какая-то угловатая тяжесть, словно там, внутри, раздвигая плоть, с чудовищной быстротой разрастался стеклянный многогранник, – еще чуть-чуть, и кожа там просто лопнет… Фурман застонал от ужаса – и вдруг с этими безумными толчками на его руку, на живот, на трусы, на весь мир ХЛЫНУЛА КРОВЬ… Он в панике попытался зажать рану, но пальцы скользили, а дикий зверь прыгал и рвался, плюясь горячей густой пеной…
«Больше не течет, – отстраненно отметил Фурман сквозь пелену смерти. – Остановилась… Для крови слишком густая и липкая. Значит, все еще хуже – это вышел гной. Господи, сколько же его там было…
И как это я до сих пор ходил с этим и еще не умер?» – искренне удивился он.
Надо было что-то делать: будить бабушку, вызывать скорую… А может, обойдется как-нибудь? Какие-то силы в нем еще оставались. Хотя бы посмотреть, что там. Он мучительно поднялся, включил настольную лампу и с брезгливым ужасом оттянул трусы.
Там ничего не было. В смысле – РАНЫ. Все казалось целым. На коже – никаких следов разрывов. Он ничего не мог понять. Неужели гной вылился прямо так…
Может, это не гной? Тогда что?!
И вдруг догадался.
Это же семенная жидкость. Семя. Которое «брызжет» у самцов!.. Так вот она какая…
Что-то в нем тихо вздохнуло.
И что же, я теперь самец? – обиженно подумал он. – А кем же я тогда был до этого?.. Разве не маленьким самцом?
Нет, ты был дураком.
Тут до него дошло, что же он только что сделал. Он потерял свою невинность. Это ведь бывает только один раз в жизни. И вот он сам, своими руками, лишил себя… чистоты. Без всякой любви. Из одного дурацкого любопытства. Хотел попробовать, как это бывает у взрослых… Вот тебе и попробовал. Дурак – не то слово. Даже не идиот. Козел. Предатель. Самец. Грязный самец.
Ничего ведь не поправить. У него мелькнула мысль о самоубийстве… Нет, свинья, тебе придется жить. Ты же хотел узнать, как взрослые с этим живут? Ну, вот и давай.
Стыдливо посмеиваясь, он поплелся в туалет, вытерся, вернулся в свою комнату и забрался обратно в постель. «Вот я уже и не ребенок…» Он с грустью думал о том, что с ним произошло и как теперь жить дальше… Самцом.
На следующий день он поехал на велосипеде на озеро. Погода была замечательная: все светилось, играло красками и блистало на солнце, но жара медлила, разгоняемая легким ветерком. На острове еще никто не купался, только загорали. Фурман с каким-то новым недоверчивым любопытством приглядывался к полураздетым женщинам и девушкам. Одна из них, приехавшая с парнем на мотоцикле, была по-настоящему красивой – с развевающимися волосами, сияющими глазами, отлично сложенная, веселая и в то же время заботливая. Ее парень относился к ней как-то странно спокойно – как к радующейся жизни собаке. Может, это его сестра?
Крепко взявшись за руки, пара с разбегу влетела в дремлющее озеро, шумно поплескалась недалеко от берега, потом парень направился дальше, а девушка со смешной деловитостью проплыла по-собачьи метров пять туда и обратно и вышла из воды. Фурман внимательно смотрел, как она вытирается, расчесывает длинные волосы и подставляет мягкому солнышку свое лицо и тело. Он впитывал каждое ее движение… Вернулся парень и улегся на животе на расстеленное девушкой большое полотенце. Позагорав еще немного стоя, она пристроилась рядом, и они стали лениво переговариваться о чем-то.
Фурман чувствовал глухое безысходное волнение. Сердце тяжкими ударами гнало к его ледяным рукам и ногам темные обессиливающие волны. Пересохший воздух царапал горло, и Фурман задыхался, не в силах втянуть его… Надо сделать это. Черт знает что… Может, перегрелся?.. Надо сделать это. Надо. Да почему я должен это делать? Скорее… Ты просто ненормальный!.. Совсем уже чокнулся?! Рехнулся!.. Где «сделать это»? Прямо здесь, при всех, что ли?! Черт!..
Спотыкаясь, он уковылял за ближайшие молоденькие пушистые елочки и там, трусливо оглядываясь и весь дрожа, сделал это во второй раз. Брызнувшие с мучительной силой крупные матово-белые капли упали на высокие листья травы и, точно благородное перламутровое ожерелье, счастливо заискрились в темно-изумрудной тени… Фурман всхлипнул. Господи! Как же прекрасен был мир и любая песчинка в нем! И только он сам, жалко трясущийся грязный самец, был беспредельно мерзок и отвратителен…
Это безумие отныне стало центром его жизни. Оно диктовало ему настроение каждого дня. Рисование он забросил. Даже читал с трудом. Перед глазами все время вспыхивало и корчилось это. От него было невозможно спрятаться.
Родители решили сделать ему подарок за хорошо сданные экзамены и во второй половине лета поехали в Палангу – к морю, вчетвером, как раньше… Но все было осквернено им. Лишь в самый первый день, выйдя к ветреному морю, он радостно ощутил, как открывшийся могучий и равнодушный простор продувает его насквозь, делая пустым и свободным. Но на том и кончилось. Находясь в каком-то диком раздражении, он поминутно со всеми ссорился и под любыми предлогами стремился сбежать от своих (даже перестал ходить с ними на море) – чтобы в бешеном одиночестве метаться по курортному городку, выслеживая ЕЁ. ЕЁ – которая могла бы пожалеть его, смилостивиться над ним… Она сидела в кафе со своей компанией через два столика от него – и потом уходила, гуляла по тенистым приморским аллеям с подругой – и уходила, играла в волейбол через сетку, загорала голой на женском пляже, переодевалась в освещенных вечерних окнах, смеялась, целовалась и обнималась с кем-то другим… И он делал, делал, делал это, изучая и проводя жестокие эксперименты над этой новой частью себя.
Единственным островком спокойствия была для него городская детская библиотека – там было прохладно и тихо. Осторожно роясь на полках, он нашел толстенный том «Путешествия Нильса с дикими гусями» (оказалось, что до этого он читал очень сокращенный вариант), и теперь, среди пожирающего его кошмара и беды, эта книга о жестоко заколдованном мальчике и его нескончаемом странствии позволяла ему хотя бы ненадолго почувствовать себя тем, кем он был до этого лета…
Физика твердого тела
1
Этим летом Боря заканчивал свой педагогический институт, и родители тревожились, как сложится его распределение (в качестве молодого специалиста его могли на три года отправить работать в какую-нибудь подмосковную деревню или в ПТУ). Большинство Бориных однокурсников, судя по его рассказам, любыми правдами и неправдами стремились закрепиться в столице. Но Боря поразил всех: на заседании институтской комиссии по распределению он попросил, чтобы его направили куда угодно, только не в Москву. Отдельные благорасположенные члены комиссии в личных беседах пытались отговорить своего не самого худшего выпускника от сумасбродства – и, похоже, были слегка обижены его упрямством. После небольшой задержки с выдачей необходимых документов выяснилось, что Борино пожелание удовлетворено в полной мере и преподавать физику ему предстоит на полуострове Камчатка (то есть буквально на другом краю света – до Америки и Японии рукой подать).
Потрясенным родителям Боря высокомерно заявил, что ему совершенно все равно, где и как жить – лишь бы подальше от них.
Ничего нового в оскорбительно-вызывающем поведении Бори по отношению к родителям не было – просто его давнишняя угроза «послать их ко всем чертям» вдруг осуществилась в реальности. Несколько судорожных попыток найти «запасной выход» или хоть как-то повлиять на торжествующего строптивца провалились с громким треском. Ни времени, ни сил на борьбу у родителей уже не оставалось, все аргументы были по тысяче раз проговорены. Даже привычные домашние скандалы вспыхивали теперь намного реже, хотя мучительное желание «остановить уходящий поезд» порой еще подводило взрослых.
Очередное затеянное мамой «обсуждение» закончилось тем, что она в бешенстве разбила об пол тарелку и, грохнув по дороге всеми дверями, ушла плакать в свою комнату. «Ну что я могу тут сделать?! – с возмущением и отчаянием сказал папа испуганному младшему Фурману. – Ты сам видишь, что происходит! Не драться же мне с ним?!»
Слегка остыв, папа обратился к Фурману с «конфиденциальной» просьбой: не мог бы он как-нибудь при случае спокойно, по-братски поговорить с Борей и попробовать понять – просто так, ради собственного интереса, – что же им движет на самом деле. Папа отказывался поверить, что «не очень хорошие отношения в семье» – это достаточная причина для того, чтобы взрослый и в общем-то вполне разумный человек отказался не только от дома и от родных (которые, при всех разногласиях, безусловно желают ему только добра), но и от всех тех преимуществ и перспектив, которые дает ему жизнь в Москве. Папа считал, что Боря что-то скрывает от них. А с младшим братом он, возможно, будет более откровенен. Ведь черт его знает – вдруг он попал в какую-то беду и нуждается в их помощи, но его дикая гордость мешает ему в этом признаться? Ты даже можешь ничего мне потом не говорить – для меня важно, чтобы ты сам разобрался, что с ним происходит, а я готов полностью положиться здесь на твое мнение. Просто незаметно мигни мне, если с ним все в порядке и я ошибаюсь в своих предположениях…
На следующий вечер, оставшись с Борей наедине, Фурман сказал, что хочет понять для самого себя, почему он решил все бросить и уехать.
Боря выдал знакомую тираду, что он больше не может находиться в этой мещанской среде, которая ценит только собственное скотское благополучие и безжалостно давит любые возвышенные человеческие порывы. Фурман понимающе покивал и попросил уточнить, что конкретно Боря имеет в виду – какие его возвышенные порывы родители «раздавили» и как они это сделали? Бросив на него недовольный взгляд и поморщившись, Боря все же снисходительно согласился уделить несколько минут «просветительской работе» и рассказал историю своей погубленной первой любви.
Когда ему было лет двенадцать или тринадцать (ты совершенно напрасно корчишь рожу, козленочек, – просто в силу своего глубочайшего и весьма прискорбного невежества ты еще не в курсе, что небезызвестной Джульетте в момент ее встречи с Ромео было примерно столько же), родители поехали с ним отдыхать в Палангу. Там они познакомились с другой московской семьей, в которой тоже было двое детей – девочка и мальчик, оба чуть помладше Бори. Правда, в Паланге тогда по роковому стечению обстоятельств были только Боря и эта девочка. (Произведя в уме некоторые подсчеты, Фурман уяснил, что его самого в тот момент безжалостно отправили на дачу с детским садом.) Вскоре обе семьи так подружились, что уже не расставались целыми днями: вместе ходили и на пляж, и обедать, и на вечерние прогулки к морю… Кончилось, естественно, тем, что Боря безумно влюбился в эту девочку. А надо сказать, что по своему умственному развитию, начитанности, прекрасно поставленной речи и, главное, способности поразительно здраво судить об окружающем мире она не просто намного опережала всех своих сверстниц, но, как это ни странно, уже тогда была полностью сформировавшейся личностью. (Фурману на секунду представился уродливый карлик, и Боря чутко добавил: «Не беспокойся, деточка, с внешними данными у нее тоже все было в полном порядке…») Казалось бы, что в этом такого – ну, влюбился и влюбился, с кем не случается в тринадцать лет. Но очень быстро выяснилось, что с ней произошло то же самое!
Поначалу взрослые на эту «обычную детскую влюбленность» и особого внимания не обратили – как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они, конечно, немножко похихикали на эту тему – и оставили детей в покое, тем более что в тот момент были целиком заняты общением между собой. Между прочим, с точки зрения педагогики они тогда поступили вполне грамотно, поскольку в 99 процентах подобных случаев эта «болезнь» через неделю-другую, максимум через месяц проходит сама собой без всякого ущерба для здоровья «пациента». Но в том-то и дело, что данный случай относился как раз к разряду уникальных событий, которые ни одна теория в мире не в силах предусмотреть. Отношения этой маленькой влюбленной пары с самого начала были удивительно серьезными и глубокими. Если называть вещи своими именами, это была настоящая любовь – встреча двух абсолютно близких, судьбой предназначенных друг другу людей – то, о чем так много написано в книжках и о чем большинство людей только безнадежно мечтают всю свою жизнь. Разумеется, эти отношения оставались абсолютно целомудренными, так что вообще-то взрослые могли бы и не волноваться.
Однако родителей (особенно наших лицемеров) ужасно напугала столь сильная привязанность детей. На самом-то деле этих старых пошляков оттолкнуло именно живое, искреннее чувство, поскольку в их собственной жизни подобные состояния давным-давно заменились тупой привычкой и подлыми соображениями «полезности».
В Паланге взрослые еще старательно делали вид, что все идет как надо. Вероятно, они уже тогда тайно обсудили между собой возникшую проблему и выработали некий план совместных действий, но потом пришли к разумному выводу, что не стоит портить себе остаток отпуска, и отложили «окончательное решение» до возвращения в Москву. Ведь эти гады прекрасно понимали, чем обернется их вмешательство, но оправдывались тем, что продолжение отношений может повредить дальнейшей успешной учебе детей… В Москве они для отвода глаз нанесли друг другу семейные визиты, после чего все контакты были прекращены.
Через какое-то время Боря, конечно, забеспокоился, но родители сперва усыпили его бдительность, сославшись на какие-то обстоятельства, а потом, скорее всего, просто наврали ему что-нибудь, – честно говоря, он уже не помнит, что там было дальше, но они ведь постоянно врут всем подряд, и это не вчера началось… Кажется, девочка долго болела, переживая этот насильственный разрыв… А сам Боря даже по прошествии стольких лет не мог простить родителям их душевной тупости и жестокости. Впрочем, на вопрос Фурмана, почему же он ни тогда, ни позднее не пытался самостоятельно найти эту девочку (он ведь приблизительно помнил, где она живет, а номер ее телефона можно было найти у родителей в записной книжке), Боря отвечал как-то уклончиво: ах ты, мол, святая наивность! Ты явно недооцениваешь ситуацию, в которой мы с тобой оба находимся. В том-то ведь и беда, что они воспитали в нас совершенно кошмарную, патологическую зависимость от себя! Ты этого, возможно, еще не понял, поросеночек, – ну да ничего, тебе наверняка еще представится случай испытать все это на собственной нежной шкурке, – а я только поэтому и вынужден сейчас все бросить к чертовой матери и бежать отсюда куда глаза глядят!.. В общем, в тот момент Боря не решился выступить против воли родителей, а потом… потом было уже поздно – время ушло.
Другим примером «жалких уступок» родителям и «измены себе» была история Бориного поступления в институт, когда он, мечтавший заниматься наукой, не добрал полбалла на экзаменах в университет и, «от горя совершенно потеряв в тот момент разум», позволил им сделать так, что его запихнули в «этот дурацкий педагогический». Кто знает, с грустью говорил Боря, может, если бы он тогда воспротивился их попыткам «устроить» его и честно пошел в армию, а потом, вернувшись, попробовал бы снова сдать экзамены в университет или в какой-нибудь другой серьезный вуз, все сложилось бы иначе…
И вот теперь он хотел использовать свой последний шанс вырваться от них, «чтобы сохранить хоть какие-то остатки себя».
Планы у него при этом были самые грандиозные: предстоящие три года своей добровольной «ссылки» он собирался посвятить занятиям фундаментальной физикой. (Только полные невежи и профаны, чьи представления о том, как делается современная наука, отстали от жизни как минимум лет на пятьдесят, утверждал Боря, могут считать, что физические открытия совершаются лишь в стенах официальных учреждений и к тому же при помощи бессмысленной груды металла, именуемой в просторечии синхрофазотроном. Увы, главное для настоящего ученого – это по-прежнему наличие собственных мозгов. Если это отсутствует, то никакой синхрофазотрон все равно не поможет! Перед своим отъездом Боря потратил кучу денег, подписавшись на десяток малотиражных научно-реферативных журналов с сообщениями о последних исследованиях и открытиях в интересующей его узкой области физики, и обязал дедушку ежемесячно переправлять их к нему на Камчатку.) На выходе, если все будет идти по плану («ну и, конечно, если удача и Господь Бог будут на моей стороне»), Боря должен был сделать какое-то (детали ни к чему) великое открытие, которое совершит прорыв в современных физических представлениях и, как побочное следствие, откроет ему путь в «официальную» науку. А небольшую трудовую повинность в виде трехлетнего преподавания школьного курса физики каким-нибудь дебилам Боря считал вполне приемлемой и даже справедливой платой за подобную перспективу. Во всяком случае, на хлеб себе он таким образом заработает, а больше ему ничего и не надо. Самое важное – следовать своему призванию и заниматься делом, которое любишь и считаешь важным для человечества. Поэтому даже хорошо, что его посылают так далеко, – меньше будет соблазнов!..
По итогам своей секретной миссии Фурман сделал родителям короткий доклад, который заканчивался неутешительным выводом: Борю уже не остановить, он, как говорится, «полетел», у него все продумано на десять лет вперед и на любые вопросы есть готовый ответ. Поэтому лучше не вставать у него на пути – себе же будет дороже. Раз он так решил, пусть едет. Кто знает, может, что-то из этого и выйдет? А нет – через три года он так и так вернется. В любом случае вскрытие все покажет.
Родители, конечно, расстроились (особенно мама – странно, а чего она ожидала?), но согласились, что, наверное, все так и есть, как он говорит, и значит, им ничего другого не остается, кроме как смириться и ждать, чем все это кончится.
* * *
За два последних года отношения между братьями очень изменились, так как Боря вдруг начал заговаривать с Фурманом на серьезные темы. Обычно это происходило так: Боря неожиданно задавал Фурману какой-нибудь вопрос, на который тот не мог ответить, и затем переходил к лекции. Благодаря такому способу общения Фурман узнавал много нового о самых разных областях жизни. Кроме того, его болезненно соблазняла непобедимо-самоуверенная манера Бориной речи. Поначалу он сильно раздражался и даже пытался сопротивляться, но потом решил, что будет лучше, если он сам потихоньку овладеет этим разящим оружием.
Вообще-то Боря всегда был одиночкой. В старших классах школы у него был один приятель, с которым его сближал в основном общий интерес к шахматам, а в институте, уже на почве увлечения физикой, вроде бы появился другой, но к концу учебы Боря разочаровался в нем из-за его конформизма. Сам-то он оставался непримиримым… Так что Фурман, скорее всего, был его единственным постоянным слушателем.
Бориными героями были гении человеческого рода – великие Ученые, Мыслители и Художники, многим из которых приходилось жертвовать собственным благополучием и даже жизнью ради будущего прогресса человечества. (Впрочем, несмотря на все эти жертвы, основная масса двуногих человекообразных как ни в чем не бывало продолжала пастись неподалеку от того дерева, с которого когда-то спустились их предки.) К гениям у Бори было приподнятое и в то же время довольно фамильярное отношение – словно они были членами одной с ним спортивной команды. Он знал биографии многих великих людей – вплоть до каких-то полуанекдотических подробностей – и с легкостью говорил об их исторической ограниченности и совершенных ими ошибках. Тем не менее Боря считал, что каждый НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК должен хотеть жить именно так: посвятив себя великой цели и яростно сгорая ради нее. Все прочее было лишь разновидностями пошлой и бессмысленной «борьбы за существование», а точнее, за тепленькое местечко под солнцем для себя и для своего потомства.
Выслушивая огненные проповеди о Человеческом Призвании и Судьбе, Фурман поневоле стал внимательнее относиться к тому, как Боря живет. (Первое время его очень угнетало, что после таких разговоров они оба почти без всякого перехода превращаются в прежних, не слишком дружных соседей по детской, но в ответ на его жалобы и упреки Боря лишь насмешливо корчил рожи и говорил: «У-тю-тю, деточка!») В нем было много такого, что делало его непохожим на других.
Для Фурмана он был единственным человеком, который покупает и слушает дома пластинки с записями классической музыки. Обычно, когда Боря включал проигрыватель, Фурман уходил в другую комнату (в доме целыми днями работал однопрограммный радиоприемник, и по нему часто передавали классику: симфонии, концерты, сонаты, музыкальные фрагменты из балетов и арии из опер, – взрослые лишь время от времени делали звук потише или на час-полтора вынимали вилку из розетки: «Пусть немножко отдохнет», как говорил дедушка). Но теперь Фурману захотелось понять, зачем Боря слушает эту музыку, и при случае он выразил желание остаться в детской, чтобы «тоже послушать». Боря чуть-чуть покривился, но потом пожал плечами: мол, пожалуйста, если тебе так хочется, только не вздумай мешать, не то я тебя сразу выкину…
Пока он совершал необходимые манипуляции с проигрывателем, Фурман скованно сидел на краешке своей софы. «Ты лучше сразу располагайся поудобнее, а то ведь это дело надолго затянется», – снисходительно заметил Боря. Невидимая иголка с коротким страшным скрежетом коснулась кружащейся пластинки, и комнату наполнило печально прихрамывающее и слегка потрескивающее шипенье (с этим звуком точно раздвинулся театральный занавес). Боря в расслабленной позе опустился на свой диванчик, нервно дождался первых тактов и закрыл глаза. (Фурман на всякий случай оставил свои открытыми.)
Музыка полилась навстречу, мгновенно застывая в стоячем воздухе, нагромождаясь невидимыми скалистыми уступами, свиваясь тяжелыми кольцами, повисая нежными каплями и вытягиваясь тонкими хрупкими ветками… Боря не подавал никаких признаков жизни, и Фурман долго сидел, не зная, что делать с этим неостановимым движением, и не в силах уследить за его накатывающими и тут же исчезающими волнами. В какой-то момент он уже не смог поднять веки после мигания… и очнулся в испуге от неизвестно когда наступившей тишины.
Ему стало очень стыдно, но Боря, который выглядел странно помятым и невыспавшимся, объяснил ему, что в принципе музыку так и нужно слушать: отдаваясь ее течению, погружаясь в видения и забывая обо всем. Конечно, хорошо бы при этом еще и следить за лейтмотивами, то есть за возвращениями основной мелодии и их сложной перекличкой, поскольку именно такое понимание музыки позволяет наслаждаться ею в полной мере, – но для этого, дорогуша, необходимо как минимум иметь музыкальный слух…
– Хочешь услышать настоящую поэзию? – неожиданно спрашивал Боря и, даже если Фурман после каких-то их предыдущих размолвок зловредно отказывался, говорил: – Ну и ладно. Но ты все равно послушай, чучело, – и начинал с проникновенной заунывностью декламировать с книжкой в руке:
– Печально я гляжу на наше поколенье…
– И скушно, и грустно,
и некому руку подать
в минуту душевной невзгоды…
– Я памятник СЕБЕ воздвиг нерукотворный (?)…
– Погиб поэт, невольник чести, ПАЛ, оклеветанный молвой!.. (Читает так, как будто это о нем самом…) А вы, наперсники (?) разврата!.. (А это кто – может, он имеет в виду меня? Из-за папы…)
– Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит… (Что это за кремнистый туман и почему путь – блестит?..)
– Де-евушка пе-ела в церковном хо-оре
о всех уста-алых в чужом краю-у…
Или задумчиво, как бы и сам прислушиваясь к запутанному смыслу:
– Отцы пустынники (?!) и жены непорочны… (Может быть, правильно «их жены»?..) Понимать дальше было уже очень трудно: «…Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей»… (Сказать по правде, не самое лучшее стихотворение доброго школьного дяденьки Пушкина. Хотя про брата в конце очень правильно.)
А то вдруг:
– А вы ноктюрн (?) сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?.. (Нет, я бы точно не смог. Противное слово «ноктюрн» – что-то связанное с ногтями… А водосточные трубы грязные и ржавые – как можно прикасаться к ним губами?..)
– Товарищу Нет-тэ – пароходу и человеку!
– По морям, играя, носится с миноносцем миноносица!.. (М-да…)
Все это было хотя бы более или менее понятно по настроению. Но любимые Борины мрачно-загадочные:
– По вечера-ам над рестора-анами горячий во-оздух дик и глух…
и:
– Тя-ажкий
пло-отный
занавес у вхо-ода…
(Боре даже пришлось объяснять, что происходит между этим доном Гуаном и страшными призраками, но Фурман усвоил только то, что «пение рожка» – это всего лишь гудок старинного автомобиля) – не говоря уже о притворно безумных «Скифах», в которых «дышит ЫНТЫГРАЛ», – явно не предназначились «детям до 16».
Боря и сам иногда сочинял стихи. По содержанию они были похожи на лермонтовские, но в них гораздо чаще упоминались пауки с паутиной, туман, холод, метель, мечты, сон, а также слова «душно» и «никогда!». Многие из этих стихов начинались печально и тоскливо, а кончались неожиданной грубоватой насмешкой, словно нарочно портившей «поэтическое» впечатление.
Во время разговоров с Фурманом Боря сильно возбуждался: начинал бегать по комнате, говорить громким срывающимся голосом, выпучивать сверкающие глаза и театрально взмахивать руками. С одной стороны, это, конечно, вызывалось огненной «возвышенностью» самих предметов, о которых заходила речь, а с другой – фурмановским «слабоумием». «Как ты можешь не понимать таких элементарных вещей?! – возмущался Боря. – По-моему, тебе уже давно пора обратиться к психиатру!» (Впрочем, то же самое он говорил и родителям.)
Вообще, в Борином поведении были две крайности: почти маниакальная любовь к порядку и то, что мама называла «дикостями». Боря очень ценил разумный порядок и систему, а их отсутствие ужасно раздражало его. Возможно, эта черта характера была как-то связана с «научными склонностями», однако проявлялась она чаще всего в каких-то мелочах. К примеру, Боре принадлежал единственный в доме письменный стол (младший Фурман обычно делал уроки за обеденным столом в большой комнате, а папа пристраивался со своей писаниной где придется). Лежавшие на нем ровненькие стопки книг и тетрадей всегда были строго выстроены по периметру буквой П, а пустая центральная часть как бы призывала: садись и работай! Ящики стола тоже были заполнены в соответствии с неким разумным принципом: в верхнем находились коробочки с перьями, карандаши, циркули и прочие письменные принадлежности, а в трех боковых – чистая бумага и текущие тетради. (Надо ли говорить, что фурмановские игрушки и бумажки кучками валялись по всем комнатам, и он чувствовал себя очень неуютно, когда ему приходилось делать уроки за Бориным столом, хотя со временем и научился самостоятельно ликвидировать следы своего присутствия во избежание возможных скандалов.)
Почерк у Бори был быстрый, но разборчивый, его одежда и обувь поддерживались им в относительной чистоте, а в правом кармане его брюк всегда имелся достаточно свежий носовой платок.
Однако, несмотря на определенную бытовую аккуратность, Боря постоянно поражал близких своими отталкивающими привычками или повадками, которые мама объединяла словами «чесание и ковыряние»: так, во время чтения он начинал бесконечно мусолить собственные жирные волосы, выдергивая из головы целые пряди и изящно «соля» ими вокруг; вечерами, перед тем как лечь спать, подолгу глубокомысленно ковырялся в своих немытых ногах и т. п. Все эти гадкие движения обладали к тому же какой-то завораживающей, притягивающей силой, и Фурман, который мучительно пытался соединить разные стороны Бориной личности, стал ловить себя на невольном подражании наиболее «диким» из его повадок. «Кончай, хватит тебе чесаться! – все чаще не выдерживал он. – Ты меня и так уже заразил своим ковырянием!..» – «Цыц, козявка!» – было ему ответом.
После Бориного отъезда на Камчатку вся детская комната, включая письменный стол и несколько верхних полок с «не детскими» книгами, перешла в полное распоряжение Фурмана.
2
Со следующего года в школе вводилось специализированное обучение, и будущим девятым классам предстояло разделиться на «медико-биологов» и «математиков». Восьмиклассники были предупреждены, что имеющим тройки по спецпредметам лучше заранее искать себе другое место обучения.
Какое другое?! Кроме литературы и физкультуры у Фурмана по всем предметам стояли прочные трояки, а его дневник был разукрашен чуть ли не ежедневными замечаниями за разговоры на уроках и наглое поведение. Но главное, он и представить себе не мог, что ему придется расстаться со своими ребятами.
Собственно, выбора у него не было. Проведенный в классе опрос показал, что половина девчонок собралась идти в медико-биологический, а почти все мальчишки – в маткласс. Было объявлено, что математику в нем будет вести легендарный Евгений Наумович Мерзон – заслуженный учитель, фронтовик и, между прочим, бывший Борин классный руководитель. Желающие могли записаться к нему на факультативные занятия, что все скопом и сделали.
Конечно, они и раньше не раз видели Мерзона на переменках: он был невысокий, широкоплечий, смугловатый, с черными усиками-щеточкой под орлиным носом и вдохновенно отброшенными с огромного лба темными с проседью волосами. Его задумчивые карие глаза смотрели с ледяной строгостью; идя на переменках по коридору, он никогда не уступал дорогу детям, но перед женщинами расшаркивался с какой-то старинной любезностью и чуть ли не целовал им руки (по крайней мере некоторым – кто покрасивее).
При ближайшем рассмотрении у Мерзона обнаружились новые странности: во-первых, он всех учеников называл на «вы», во-вторых, постоянно был с ног до головы обсыпан мелом, а кроме того, регулярно совершал необычные вращательные движения рукой или шеей, словно хотел освободиться от мешающего ему пиджака (возможно, это было следом давнего военного ранения или контузии, но требовалось к этому привыкнуть). Математика же в его изложении неожиданно оказалась по-своему интересной, тем более что начал он не с дополнительных занятий по школьному курсу, к чему все с тоской готовились, а с простейшей теории множеств.
Фурман все понимал, и это его удивляло и радовало. Он даже немного приналег на алгебру с геометрией, и печально-женственная классная математичка в конце года отметила его старания: «Четверку я тебе все равно не смогу поставить, но если ты собираешься учиться дальше у Евгения Наумовича, я готова включить тебя в список тех, кого я буду ему рекомендовать. Это, конечно, ничего не решает, но… В общем, если надумаешь, скажи мне об этом».
В конце апреля в школе состоялась физико-математическая олимпиада. Тем, кто собирался поступать в маткласс, участие в ней обещали впоследствии засчитать как дополнительный конкурсный «плюсик». Олимпиада была назначена на воскресенье, погода стояла по-весеннему благословенная, и родители с трудом уговорили Фурмана тоже пойти – хотя бы для того, чтобы продемонстрировать учителям твердость его намерений.
В кабинете физики собралось человек пятнадцать восьмиклассников, включая несколько чужих. Было предложено три варианта заданий, по шесть в каждом. Первое оказалось неожиданно простым, с ним справились многие; во втором все безнадежно завязли; третье Фурман в конце концов решил каким-то своим самодельно-корявым способом, а четвертое он на последних минутах, поборов всякий стыд, как самый настоящий безнадежный троечник, списал у покрасневшего Пашки, который в это время лихорадочно пытался решить пятое (обычно Фурман предпочитал двойки за безделье унизительному обману, но сейчас… разве сейчас от этого не зависело все его будущее?..).
Три из пяти (по-честному – два). Увы, с этим результатом он умудрился занять на олимпиаде третье место (победителем стал Смирнов, а второе место поделили между собой Быча и Пашка). Ему даже выдали грамоту. И оставили в родной школе.
Несмотря на все угрозы, их девятый математический класс оказался обновленным лишь примерно на треть. Среди «новеньких» было и несколько девочек.
Всю прошлую весну Пашка энергично преследовал своими «провожаниями» маленькую синеглазую Иру Комарову по кличке Муха, ходившую в школу в изящных белых колготках. Муха ловко сбегала от Пашки через проходные дворы, он звал на помощь Фурмана, и эта игра повторялась почти каждый день после уроков (из трех известных на тот момент классных «романов» этот был самым простодушным). Но теперь, когда их «лучшие старые девки» изменили им с раскованными розовощекими медиками, Пашкино внимание переключилось на вальяжную большегрудую девочку по фамилии Воронецкая, и вскоре на всех неофициальных карикатурах его стали изображать в сопровождении вороны (почему-то больше смахивавшей на курицу).
Фурман, успевавший в коротких вспышках воображения пережить интимную близость с большинством знакомых девушек и молодых женщин, все острее нуждался в спасении души, поэтому холодная природная эротичность «пани Воронецкой» (как ее за глаза называл Смирнов) его мало привлекала – уж лучше было «встречаться» с усталой и грустной математичкой. Некоторое время ему казалось, что в глазах одной новой девочки, полноватой и не слишком красивой, он замечает беспричинное сияние доброты, и его стали одолевать мечты о том, чтобы эта доброта обратилась на него… Но это быстро прошло – девочка оказалась самой обычной.
Он в растерянности следил за тем, как внутри у него растет пустота. Из-за этой пустоты его все больше утягивало куда-то в сторону от «основного течения», плавно несущего всех остальных ребят к благополучно-понятному будущему. Они уже точно знали, в какие институты будут сдавать экзамены через полтора года, и даже те, кого приняли в математический класс условно, теперь озабоченно подсчитывали свой «средний балл» и ради его улучшения заискивали перед «нужными» учителями.
Из машинального любопытства Фурман тоже посчитал свой балл с точностью до десятых и выяснил, что его твердая тройка не поддается никакому округлению. К тому же в нем крепко засели Борины проповеди о высоком человеческом призвании. Он мог сколько угодно обещать самому себе, что со следующей недели наконец возьмется за ум и начнет вместе со всеми серьезно заниматься, – но голос Судьбы отчетливо нашептывал ему, что поступать в институт (а следовательно, и улучшать свой «средний балл») НЕ НАДО. Другие – это другие, а ты – это ты, уверенно говорил голос.
Конечно, Фурман хотел бы поскорее найти свое человеческое призвание и начать честно служить ему, но в чем оно состоит, он пока не мог разобрать. Зато все болезненнее становилось его внутреннее разъединение с теми, кого он считал своими и ради кого он, собственно, так цеплялся за школу. Ничего вроде бы и не происходило, но все его старые дружбы на глазах опустевали, холодели и разрушались, словно брошенный жильцами дом. Он не мог поверить, что причина только в том, что ребята решили готовиться к поступлению. Как это вообще связано одно с другим? Не так уж они все и заняты на самом деле… Он осторожно попробовал заговорить об этом с двумя-тремя старыми друзьями, но никто из них не понял, чего же он хочет. Нарвавшись на этот вызывающе прямой вопрос, он не смог на него ответить ни сразу, ни потом. Не призывать же их снова начать играть в солдатики… Поэтому он просто замкнулся.
Еще год назад он с подачи Бори проглотил несколько книг, каждая из которых с необыкновенной силой меняла его чувство жизни и придавала форму его смутным переживаниям.
На обложке первой из выданных Борей книг была крупная, во всю страницу, но слегка размытая черно-белая фотография: мальчик (а может, и девочка) со странным длинным лицом и очень коротко остриженными жесткими волосами настороженно смотрит прямо на тебя из темного дверного проема какой-то дощатой развалюхи, как бы не решаясь, выходить ли на свет или убежать обратно в темноту. Эта картинка, как оказалось, очень подходит к самой книге, автор которой голосом современного ироничного американского подростка с неспешной откровенностью рассказывал историю его внутреннего опустошения и короткого побега из «нормальной» жизни. Фурмана поразило, что человек, похожий на него, может вот так прямо говорить о своем отчаянии и унизительных приключениях. Значит, эта мерзкая пустота росла не только в нем одном. Не только с ним случались гадости и ужасы. Кто-то другой тоже не находил себе места и чувствовал себя ненормальным психом… Герой книги Холден Колфилд – это был он сам, пусть и в американских декорациях. Холден Колфилд – сбежавший, уцелевший и – вернувшийся… Выходит, ПОБЕГ БЫЛ ВОЗМОЖЕН…
Закончив, Фурман на следующий же день взялся перечитывать книгу с самого начала (в предисловии говорилось, что в буквальном переводе с английского ее название было «Ловец во ржи», – и это знание, как ему в восторге казалось, вводило его в круг особо приближенных к Мудрейшему Автору, который тщательно избегал всякого общения с публикой). Теперь он убедился, что Холден Колфилд многим отличается от него. На фурмановский взгляд, он был слишком уж «отвязным» и резким с другими людьми. Конечно, если бы они могли каким-то образом встретиться в жизни, то, может, и сумели бы «преодолеть разногласия» и как-то помочь друг другу… Хотя что толку было об этом гадать? Зато при внимательном перечитывании Фурман понял, каким он хотел бы быть на самом деле, если бы можно было выбирать себе внешность и судьбу. В одном месте Холден вдруг вспоминал о своем младшем братишке Алли, который умер, когда Холдену было тринадцать лет. Видимо, эта смерть и была одной из подспудных причин его срыва. Но дело не в этом. Алли от природы был «ужасно рыжий», и у него был соответствующий характер, который часто встречается у рыжих, – но он никогда ни на кого не злился. Рыжего Алли все очень любили, даже учителя. Фурману Алли почему-то представлялся не только рыжим, но еще и пухлым, толстеньким. Ему казалось, что если бы он был вот таким рыжим, толстым Алли, то мог бы смиренно и незлобиво терпеть любые насмешки и унижения. Он даже хотел бы, чтобы не «все любили его», а наоборот, все дразнили бы его и издевались над ним, а он любил бы их всех и прощал… Вот о какой судьбе Фурман втайне мечтал: сидеть на маленькой грязной горке, быть обижаемым и прощающим. А потом уползти в канаву и тихонько умереть.
И никаких тебе проблем.
У автора другой книжки было неприятное имя Эрнест и странная фамилия: ХЕ-МИН-ГУ-ЭЙ. Сначала Фурман, по Бориной указке, прочел коротенький «эротический» рассказ «У нас в Мичигане», открывавший черный двухтомник, а потом и все остальное. Между прочим, Холдену Колфилду «папаша Хэм» активно не нравился – и, по мнению Фурмана, в этом Холден был очень и очень не прав. Потому что лучшие вещи Хемингуэя говорили о том, что он очень похож на них, только взрослее. Его герои были точно так же выброшены из своего прошлого. С той же тупой тоской и опустошенностью они день за днем бессмысленно волоклись через свое настоящее. А их будущее было даже еще более невнятным и отчаянным, потому что любовь к женщине выжженной пустыней лежала у них за спиной (тогда как Холден с Фурманом еще на что-то слабо надеялись). Оставаться жить после того, как потеряно все, кроме самой жизни, – вот чему учила сдержанная интонация Хемингуэя. А скоро к нему прибавился и брат его Эрих Мария Ремарк.
Третьей роковой встречей стал Владимир Маяковский. Те его стихи, которые Боря до этого читал Фурману, оказались, в общем-то, цветочками. Ранний Маяковский был самым настоящим чудовищем: огромным, никчемным, грубым, нелепым и гениальным. Он шатался в небе над городом, как обезумевший одичавший Гулливер, потому что город не вмещал его одиночества и рушился от его воплей, шарканья и воя. Маяковский плевался стихами, обзывался стихами и мазал ими небо. Его нежность граничила с каннибализмом. Он был таким великим, что ему становилось жалко себя самого. Его стихи невозможно было читать вслух – их надо было шепотом выть и орать.
Маяковский наверняка не смог бы спастись от себя, если бы не Революция. (Первая мировая война своей бесчеловечной огромностью тоже была ему под стать, но она просто сводила его с ума.) Громадное никчемное изнывающее от одиночества чудовище превратилось в Мстительный Р-Р-РУПОР Р-Р-РЕВОЛЮЦИИ, стало ее яростно грохочущим пророческим Бар-р-рабаном Судьбы и ее сияющим огненным штыком. Да, если кого-нибудь на свете и можно было назвать ПЛАМЕННЫМ революционером – так это Маяковского, чье безмерное отчаяние было расплавлено СОЛНЦЕМ ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЫ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО…
Фурман чувствовал страшную зависть – вот это было Призвание!.. Он даже сочинил благодарно-подражательное обращение к Маяковскому:
И если б попался мне этот самый «капиталист», Я б его – Вашей, Владимир Владимирович, книжицей, Голову надвое раскроив…Потом, правда, выяснилось, что Маяковский в конце концов обиделся на всех и покончил с собой. Но это делало его только ближе и понятней:
Я хочу быть понят родной страной. А не буду понят — что ж, По родной стране пройду стороной, Как проходит косой дождь. Вот и Фурман хотел того же…* * *
Весной папа купил ему недорогую черную куртку из искусственной кожи. Она была достаточно длинной, до бедер, с поясом и грубыми серебристыми пуговицами. В школе Фурману сказали, что он стал похож на комиссара. Однако его вид явно портила детская шерстяная шапочка, которую он носил с незапамятных времен. Поэтому вскоре, преодолев вялое папино сопротивление, Фурман приобрел еще и черную «кожаную» фуражку. Теперь его новый «революционный» образ был почти завершен – не хватало только кобуры (на галифе он, конечно, не решился бы, да и откуда их было взять).
В кинотеатрах только что появился новый фильм «Калина красная», который поставил любимый всеми актер Василий Шукшин, сам же сыгравший в нем главную роль. Боря уже успел посмотреть его и очень всем советовал. Родители каждый раз, когда об этом заходила речь, откладывали поход на потом, и наконец Боря, не дождавшись их решения, в воскресенье утром отправился в кинотеатр «Форум» и купил четыре билета на дневной сеанс. Отступать было некуда.
Шукшин играл преступника-рецидивиста, который после очередной долгой отсидки твердо решил «завязать»: он уехал в глухую деревню к полюбившей его доброй девушке, чтобы начать там честную жизнь простого мужика-работяги, – но прежние дружки нашли его и убили.
Фильм вызывал такую печаль и слезы, что после него казалось невозможным сразу вернуться к обыденным делам. Поэтому, выйдя из кинотеатра, Фурманы решили прогуляться до дома пешком, тем более что и расстояние, и погода это позволяли. Боря тут же попытался затеять какое-то обсуждение, но Фурману сейчас совершенно не хотелось ни о чем говорить. Он обогнал родителей и пошел один, задыхаясь от переполнявшей его грудь невыразимой жалости к русской судьбе, к вечереющему весеннему небу, к тяжелым темно-серым домам по бокам Садового кольца и ни о чем не подозревающим редким прохожим. На нем была его новая черная куртка, а фуражку он сгоряча отдал маме на выходе, и теперь, на широком открытом пространстве, напористый ветерок жег ему лицо и лохматил волосы. Но все это было не важно, он лишь ускорил шаг.
Миновав кукольный театр Образцова, он стал машинально присматриваться к двигавшейся навстречу парочке – издали парни показались ему смутно знакомыми… Да нет, чужие. Они уже почти разошлись с ним, но вдруг окликнули: закурить не будет? Эта «типичная» уличная сценка показалась ему происходящей внутри фильма, и он с каким-то избыточно щедрым сожалением развел руками – извините, ребята, не курю. Они слегка замешкались, и он прекрасно понимал каждое их движение – парочка мелких дворовых хулиганов из кривых Самотеченских переулков… Бросив по сторонам хитроватые взгляды, они вежливо сказали:
– Можно тебя на минуту? Только давай отойдем в сторонку, чтобы не мешать проходу… У тебя деньги есть?
Надо же, какая нелепость… Ему было их жалко – несчастные, в общем-то, пацаны. Они ж никакой другой жизни не знают. Вот таких после революции чекисты и собирали в колонии… Он медленно покачал головой и опять развел руками. Но сейчас-то они откуда? Эх, шли бы вы лучше по домам…
– Покажи, чего у тебя в карманах.
Фурман в своей кожаной куртке даже немножко обиделся:
– Ребят, у меня правда с собой ничего нет.
Он посмотрел краем глаза – родители были еще далеко.
– Кончай болтать, вытряхивай все по-быстрому!
Поколебавшись, он пошарил в переднем кармане, достал смятый троллейбусный билетик и с улыбкой показал им:
– Вот, пожалуйста, – все, что есть.
Вообще-то он только что неожиданно для себя обнаружил в кармане пару каких-то монет, похоже, двадцатикопеечных. Вот тебе и раз. Но не отдавать же их! Его вдруг охватило запоздалое волнение: похоже, сейчас начнется… У них же может быть нож!
Один из них, более грубый, угрожающе потянулся к Фурману:
– Я тебе говорю, этот сучонок поиграть с нами решил! Да я его сейчас просто урою…
– Подожди ты, еще успеешь, – приостановил его напарник. – Мы ведь и так договоримся, по-хорошему, да? А то, видишь, я своего горячего друга уже еле-еле сдерживаю… Давай, показывай карманы…
– А ну-ка, что здесь происходит? Предъявите документы! Я из милиции! – неожиданно налетел на них сзади папа. (Вообще-то милиция находилась здесь же, в соседнем доме, хотя ни одного милиционера не было видно.) Опешив от этой внезапной атаки, парни тут же начали горячо оправдываться: а что, мол, мы ничего плохого не сделали, просто стоим, разговариваем со своим другом…
– Это правда? Ты их знаешь? – строго спросил папа.
Фурману было неловко: ну зачем устраивать спектакль?..
– Ну?
Он отрицательно покачал головой, и парни – бочком-бочком – быстренько испарились.
– Ты в порядке? Что они хотели от тебя? – возбужденно спросил папа, но Фурман не успел ответить.
– Сашуня, милый мой, что они с тобой сделали?! – подлетела красная испуганная мама. – Тебе очень больно?
– Да ничего они мне не сделали! – раздражился Фурман. – Просто денег просили! Все как обычно.
– Ну что, получил по морде? – сочувственно осведомился Боря.
– Я – нет, – угрюмо огрызнулся Фурман. – А тебе что, жалко? Может, сам хочешь получить? Могу устроить, по блату…
– Сашенька, скажи, тебе правда не больно?
К ним подошел еще какой-то мужчина (Фурман видел его в кинотеатре) и, узнав в чем дело, искренне огорчился: что ж вы их отпустили? Надо было задержать этих подонков, а тут бы мы подоспели и поговорили с ними как следует! Нет, давно уже пора навести в стране порядок – я это вам как бывший офицер говорю. А то, понимаешь, расплодили тут всякую шваль!.. – и понес, и понес… Еле оторвались от него… «А, просто болтун», – брезгливо поморщился мужественный папа.
Да, сходили, называется, в кино, посетили культурное мероприятие… Господи, как же все это соединить?..
3
Игра в солдатики закончилась в седьмом классе, но еще около года почти вся фурмановская компания занималась коллекционированием электрических моделей немецкой железной дороги в масштабе 1:120 и совместным строительством трехметрового макета местности для нее. Фурман собирал свою коллекцию уже несколько лет, поэтому она была самой большой и разнообразной: 7 единиц «тяги» (4 мощных тепловоза с включающимися на ходу фарами и 3 маневровых, из них 2 паровозика), около 50 вагончиков самого разного назначения, 14 стрелок, 2 автоматических расцепителя вагонов, мощный автопарк (от легковых машин и автобусов до бензовозов и спецтехники), склеенные с мельчайшими подробностями модели немецких домиков с магазинчиками и мастерскими, деревья, десятки метров разборных рельсов и множество дополнительного оборудования. Остальные тоже кое-что себе подкупили, и их общий двухуровневый макет местности с действующей дорогой, выставленный в конце учебного года в школьной библиотеке (большая сортировочная станция в «городке на равнине» и маленькая – в «горной деревушке» на высоте 8 см, к которой составы поднимались по крутой полукруглой насыпи, проходя затем с волшебным эхом через эстакаду из шести соединенных арочных мостов), был всеми оценен по достоинству. Пару легковых машинок даже украли.
К этому времени Фурман был уже настоящим коллекционером: разбирался в каталогах, выписывал специальный немецкий журнал «Модельайзенбане» (по его просьбе папа переводил ему отдельные места), а главное, регулярно ездил на неофициальную «толкучку коллекционеров в центральном магазине «Детский мир». Рядом с отделом электроигрушек, в котором и продавались железнодорожные модели, каждый день с четырех до семи кучковались люди разных возрастов и занятий: узнавали, не появилось ли в отделе что-нибудь новенькое, сами тайком продавали и покупали (за это ведь могли «замести» в милицию), обменивались, просто болтали о том о сем. Многие здесь были уже давно знакомы друг с другом, а о коллекциях некоторых рассказывались легенды. Фурман бывал здесь раз в неделю, а то и чаще.
Маленький, бесконечно подробный, но послушный мирок железной дороги все сильнее притягивал его к себе. В девятом классе у его друзей появились другие интересы, а он продолжал целыми днями придумывать и рисовать сложнейшие путевые электросхемы и невероятные многоуровневые макеты, которые могли располагаться на шкафах, антресолях и подвесных полочках сразу в нескольких комнатах. Конечно, это увлечение – даже по сравнению с их прежней, весьма углубленной игрой в солдатики – могло показаться легкой формой безумия. (Кстати, в сентябре Быча спросил Фурмана, не может ли он на время дать какую-то часть своих солдатиков маленькому Бычиному племяннику, и Фурман, повинуясь внезапному побуждению, отнес ему в рюкзаке всю свою армию за исключением маленьких пластмассовых самолетиков и кораблей, которые мальчишка мог просто проглотить. Быча просто обалдел от такой непрошеной щедрости; а Фурман еще долго устраивал в одиночестве вполне «атавистические» морские сражения на полу, каждый раз изрисовывая по полтетрадки контурами своих кораблей с условными изображениями их боезапаса и наносимых им повреждений в виде аккуратных цветных взрывчиков с черными дымками). Но мир железной дороги не был детским – хотя бы потому, что его построение подразумевало знание основ электротехники, кропотливость и особую недетскую любовь к мелочно копируемой жизни, «точному моделированию». Фурман и раньше склеивал разнообразные модели исторической военной техники, но после сборки они ставились на шкаф и пылились там без толку, постепенно рассыпаясь. А железная дорога жила, действовала – и возможности ее расширения и совершенствования были в общем-то безграничны. Фурман мечтал о редких моделях паровозов и вагончиков, о семафорах, светофорах и шлагбаумах (он даже купил под них на будущее довольно дорогой приборчик с загадочным названием «реле времени») – все это имелось в каталогах, но в Советский Союз почему-то не завозилось, и даже с рук достать эти вещи было почти невозможно.
Однажды Фурман приобрел на толкучке уже склеенный домик с пристроенной к нему огороженной «каменной» площадкой, на которой располагалось летнее кафе: под густым зеленым деревом стояло несколько круглых одноногих столиков в окружении разноцветных креслиц – и в одном из них сидел человечек. Только из-за человечка Фурман и купил этот домик с кафе, потому что на самом деле у него уже был точно такой же, склеенный им самим, но как только он увидел человечка, его разум совершенно помутился. В каталогах железной дороги человечков не было, но о том, что в Германии они производятся, смутные слухи долетали, да и на журнальных фотографиях макетов немецких коллекционеров они были видны, хотя и не с близкого расстояния. Кроме того, в кабинках нескольких машинок тоже сидели человечки. Но машинки выпускались отдельной фирмой, и эти человечки даже через стекло выглядели грубовато… Примчавшись домой и присмотревшись к покупке, Фурман расстроенно понял, что принял желаемое за действительное: сидящий за столиком кафе человечек был всего лишь фигуркой летчика из кабины какой-то немецкой авиамодели. Он и по размеру-то сюда не очень подходил, слишком крупный.
После этого случая Фурман очень остро ощутил пустоту своего мирка: пустыми стояли креслица и скамейки, пустынными были улицы с пустыми автомобилями, никто не жил в домиках с плотно закрытыми занавесками окнами, никто не покупал в кассе билеты, и пустые поезда с раздражающим механическим жужжанием двигались по рельсам… Этому миру страшно не хватало людей, и Фурман не мог понять, почему их нет, почему их здесь не продают. Впрочем, на толкучке говорили, что и в ГДР найти их непросто. Хоть делай их сам! Он даже примерно представлял себе, как их можно было бы изготовить из олова путем отливки. Некоторое время он рисовал возможные фигурки человечков в разной одежде и позах: рабочие, полицейские, прохожие, женщины с детьми…
На толкучке частенько появлялся один парень чуть постарше Фурмана. Звали его Николай, Коля. Он учился в училище речного пароходства на судового механика. Вид у него был довольно потрепанный и нерасполагающий: бледная нечистая кожа, водянистые глазки, красный шмыгающий нос, – но он явно радовался возможности с кем-то поговорить, «показать себя», и Фурман мягко уступал его желанию. Правда, Колю быстро начинало нести, и остановить этот полубессвязный и захлебывающийся матерком поток было трудно. Но Фурман терпел и даже немножко сочувствовал ему: по его рассказам, отец у него был алкоголиком, и из-за стычек с ним ему пришлось переселиться в общагу, нравы в которой тоже были далеко не сахар – и били, и воровали… Было не очень понятно, где и, главное, на что Коля ухитряется заниматься железной дорогой, но он говорил, что в училище его обеспечивают не только бесплатным кровом, форменной одеждой и едой, но и выплачивают небольшую стипендию, из которой он кое-что откладывает; к тому же мать тайком от отца иногда дает ему деньги. Вот так-то, Санек, жизнь и идет, тудыть ее налево, да?..
Несколько машинок были у Фурмана в двух экземплярах, и в принципе их можно было использовать для обмена. Коля уже знал почти все о фурмановской коллекции и однажды предложил ему поменять пожарную машину с выдвижной лестницей на большой ремонтный тягач (такая машинка появилась у Фурмана одной из первых, когда он еще даже не начал собирать железную дорогу, и некоторые тонкие детальки в ней успели отломаться, так что он был не прочь обновить эту модель). Посоветовавшись с папой, Фурман дал согласие на обмен. В назначенный день он привез в «Детский мир» свою пожарную машину. Коля тщательно осмотрел ее, а потом, извинившись, сказал, что по какой-то причине не смог взять из дома свою, но завтра обязательно привезет ее. Дело верняк, Фурман может ни о чем не беспокоиться, ремонтник, считай, уже у него в кармане, так что пожарную машинку Коля берет себе – чего, мол, таскаться с ней туда-сюда, еще сломается. Машинка была упакована в фирменную коробочку, и вряд ли бы с ней что-нибудь случилось… но Коля уже заботливо упрятал ее во внутренний карман своего черного бушлата. Фурману такой поворот, конечно, не понравился, но он успокоил себя тем, что все-таки они приятели и часто здесь встречаются, а кроме того, Коля уже пару раз стрелял у него небольшие суммы и возвращал их в обещанный срок.
На следующий день он приехал в «Детский мир», прождал два с половиной часа сверх назначенного времени, но Коля так и не появился. Не было его на толкучке и в другие дни. Фурман проглотил обиду – в конце концов, невелика потеря. Зато в другой раз будет знать. Его удивляло только одно: неужели этот бедный придурок решил променять толкучку и возможность нормального общения на какую-то жалкую машинку? Что он, так и будет теперь сидеть всю оставшуюся жизнь в своей темной норе, любуясь ворованной вещицей?..
Однако через две недели Коля возник снова и, как ни в чем не бывало, оживленно приветствовал Фурмана: о, какие люди, давно не виделись! Пришлось даже пожать его жиденькую холодную ладошку. Фурман ждал, что Коля сам начнет разговор о машинке, но тот опять завел свои бесконечные дурацкие анекдоты, и Фурман остановил его, попросив вернуть то, что он взял.
На Колином лице быстро сменилось несколько противоречащих друг другу выражений: растерянности, мгновенной хищной злобы и хитроватой дружелюбности. «А я разве что-то у тебя брал?» – с сомнением спросил он. Фурман спокойно объяснил, что и при каких обстоятельствах Коля у него взял и должен теперь отдать. «Ты, наверное, на меня обиделся, да?.. Ну извини, Санек, так получилось, понимаешь? Тут у меня такая ерунда закрутилась… В общем, я тебе честно скажу: я не могу ее вернуть. Все, ее уже нет, сечешь? Но ты не волнуйся, все будет путем, мы с тобой все уладим. Вот послушай. У тебя ведь есть еще одна машинка на обмен? Ну, тоже пожарная, только другая… Да ты послушай меня! Я ж тебе дело говорю! Обещаю, ты не пожалеешь!.. Да не буду я тебя больше обманывать! Зачем мне это надо? Мы же с тобой кореши, так? Ну? Ты мне веришь? Чудак, я ж о твоей же пользе забочусь! Только не надо мне угрожать. Ты еще пацан сопливый, чтобы мне угрожать! Ты меня еще не знаешь! Да подожди, дай я доскажу. А потом можешь идти, куда хочешь… Сань, ты знаешь, с тобой очень трудно вести дела. Короче, так. Ты хотел иметь серый V-36? (Это был маленький тепловозик, выпускавшийся в двух вариантах окраски – у Фурмана был зеленый, но он мечтал и о сером.) Считай, он у меня есть. Ты его цену знаешь. Но я тебе его уступаю, как другу, почти задаром. Да я вообще не о деньгах! Да подожди ты!.. Слушай, ты меня уже утомил. Что ты за человек, а? Ты мне приносишь вторую машинку – и он твой. Тридцать шестой – за две машинки, соображаешь? Я же тебе говорю: в этот раз все будет без обмана. Да, новый. В своей коробке. Да, сможешь проверить. Ну, что еще? Себе в убыток отдаю такую вещь, а он еще сомневается. Да у меня ее здесь оторвут с руками за двойную цену! Соглашайся скорее, мудила!..
Первую машинку все равно было уже не вернуть, и Фурман согласился на сделку. Он попросил перенести ее на послезавтра и тихо промучился два дня, прикидывая варианты Колиного поведения и возможные ответы: скандал с дракой, помощь папы, милиция… (Может, стоит позвать с собою Бычу? В прошлом году, когда какая-то компания отняла у Фурмана деньги прямо в «Детском мире», они некоторое время ездили туда вдвоем, причем здоровенный Быча возил в своей сумке еще и топор – на крайний случай, как он говорил.) Не проще ли махнуть рукой и отказаться?.. Ведь неизвестно даже, откуда у Коли вообще мог взяться этот злосчастный Тридцать шестой. Что, если он просто отнял его у какого-нибудь малыша?..
На этот раз Коля опоздал на какие-то десять минут. Он был спокоен и деловит – ему еще надо было успеть заехать в три разных места. Тяжеленькая Колина коробочка была плотно завернута в газету и перевязана веревкой. «Ну что, сыщик, – усмехнулся он, – будешь проверять? Тогда давай побыстрее, я и так уже из-за тебя опаздываю. А где моя-то?»
Фурман отдал ему легкую коробочку со своей машинкой и стал возиться с узлом. Затянут он был крепко. Вообще, зачем было ее так упаковывать? «Слушай, чего ты там копаешься, а? Можешь побыстрее? Мне ж голову отвинтят, если я опоздаю! Ну-ка, дай я сам!» Он попытался подцепить ногтем один из кончиков, но узел не поддавался. «Да, что-то не получается… Надо разрезать. У тебя с собой ничего острого нет? Вот и я тоже свой ножик оставил… Может, спросить у кого? Ох, черт! Сань, ты меня правда извини, но я уже должен просто лететь! Может, ты без меня это сделаешь? Я тебя не обманываю, ей-богу, вот те крест! Правда, хочешь, перекрещусь? Нет? Ты пионер, что ль?.. Послушай, можно дать тебе один совет? Спокойно поезжай домой, и там все посмотришь. Если что не так – просто переиграем все обратно, и дело с концом. А за ту машинку я тебе отдам деньги. Ничего, я твой должник, наскребу как-нибудь… Ну все, мне каюк! Не могу больше с тобой стоять. Завтра в это же время я тебя жду!»
И он убежал.
Дома Фурман с бьющимся сердцем распаковал сверток. Коробочка была не фирменной немецкой, а из-под нашего заводного цыпленка. Но ее тяжесть убеждала, что внутри находится электромоторчик. Очередная Колина «шутка»? Детский паровозик с ключиком?.. Тяжелое содержимое коробочки оказалось завернуто в несколько слоев мятой бумаги, чуть ли не туалетной. Не мог же Коля обмануть его так подло? Это не лезло бы ни в какие ворота… На обратной стороне бумаги было что-то написано крупными корявыми буквами, но это потом… Внутри лежал камень. Обыкновенный грязный серый булыжник. Тяжелый. Помертвев, Фурман зачем-то начал разбирать матерное послание, но вдруг понял, что оно выведено говном.
Господи.
…Папе он рассказал об этом через две недели. Вот, мол, приключилась такая неприятная история, не знаю, что делать.
Хотя с железной дорогой он простился еще тогда, сразу, держа в руке камень. Напор необъяснимой чужой злобы оказался слишком сильным для маленького мира. И жизнь ушла из него.
4
Могучий очкастый Быча всегда ухитрялся хорошо учиться, уделяя урокам минимум времени и несмотря на свои серьезные занятия спортом. Он также успевал читать разнообразную постороннюю литературу и часто развлекал класс спорами с учителями, ссылаясь при этом на источники, известные разве что энциклопедисту Смирнову. В Быче странно сочетались изощренный интеллектуализм и необычная телесная грубость. К своему телу он относился как к старой проверенной машине, из которой в случае нужды еще можно было выжимать некие новые возможности и достижения. Внешний вид этой «машины» Бычу совершенно не заботил: его равнодушие к свой прическе, одежде и личным вещам доходило до абсурда. Помимо свойственной всем спортсменам способности терпеливо переносить физическую боль, у него, видимо, был еще и пониженный порог кожной чувствительности. Он постоянно – из какого-то «детского любопытства» или просто от скуки – наносил сам себе мелкие раны и увечья, сея вокруг священный трепет и отвращение. К примеру, однажды он принес в школу большой гвоздь и зажигалку и прямо на уроке начал выжигать у себя на запястье какой-то символ. Смирнов был его соседом по парте и наблюдал эту операцию во всех подробностях. Вскоре по помещению пополз нехороший запах, все стали удивленно принюхиваться и оглядываться. Но, похоже, на этот раз Быча все же не рассчитал свои силы: он поднялся с места, неловко зажимая запястье другой рукой, попросил у учителя разрешения выйти и с побелевшим лицом выскочил из класса. После данных Смирновым объяснений все только потрясенно качали головами и молча крутили пальцем у виска. Неделю Быча проходил с повязкой, а потом устроил ее публичное кровавое сдирание (Фурман, к счастью, успел сбежать).
Быче не зря с детства дали такое прозвище. Он легко возбуждался и багровел, но при этом отлично контролировал себя, и «довести» его просто так никому не удавалось. Но если он все-таки свирепел, то превращался в бешеного быка, в слепой ярости крушащего все на своем пути. В девятом классе Быча несколько раз участвовал в жестоких драках. Фурману довелось быть одним из свидетелей того, как он – к всеобщему, надо сказать, удовлетворению – измолотил Медведя из знаменитой хулиганской троицы, хозяйничавшей в Косом переулке (тот, правда, обещал еще вернуться и страшно кричал «все – ты покойник!», но Быча, у которого была слегка разбита нижняя губа, отнесся к его угрозам с восхитительным спортивным хладнокровием). Другие свои сражения Быча даже и не афишировал. «У меня сейчас возник небольшой перерыв в спортивных занятиях, и время от времени мне нужно просто выпускать пар», – спокойно признавался он в ответ на фурмановские упреки в «дикости».
Их более тесное общение началось неожиданно, в период обидного «поскучнения» отношений Фурмана с Пашкой и другими близкими друзьями. Обычно после уроков все расходились по домам парочками или тройками, в зависимости от направления. Быча жил всего в минуте ходьбы от школы – на Краснопролетарской, в замызганном трехэтажном доме с шашлычной, – и уже в Косом все прощались с ним и двигались дальше кто куда.
Однажды на выходе из школы у Фурмана с Бычей завязался интересный разговор. Чтобы довести его до конца, Фурман решил изменить свой привычный маршрут и пошел «провожать» Бычу. Поскольку у его дома разговор еще продолжался, они пошли по Краснопролетарской к фурмановскому дому, там опять повернули – и с тех пор стали ходить вместе.
Быча много знал и был понимающим собеседником, но его буйная телесная жизнь казалась Фурману чрезвычайно экзотичной. И проблемы у него были совсем иные, чем у Фурмана, который как раз недавно прочитал в Популярной медицинской энциклопедии, что онанизм ведет к прогрессирующей импотенции. Никакого «прогресса» Фурман пока не видел, как ни старался, но науке было незачем обманывать, и, поскольку остановиться он не мог, собственное будущее представлялось ему все более мрачным и безнадежным. (На волне этих переживаний он особенно полюбил роман Хемингуэя «Фиеста», герой которого тихо страдал импотенцией на фоне бурной испанской жизни – с корридой, непрерывной пьянкой и прочими угарными развлечениями…)
Перепробовав несколько видов тяжелой атлетики, Быча вроде бы нашел себя в академической гребле, но у него вдруг начала катастрофически расти одна грудь. Ни Фурман, ни остальные ребята ничего не замечали, но Быча уверял, что она уже стала «прямо как у девочки». Его родители забеспокоились и обратились к какому-то хорошему врачу. Выяснилось, что ничего страшного не происходит – «обычный гормональный сдвиг на почве подросткового возраста и физического перенапряжения». Тренировки придется пока прекратить.
Но этот врач был суперспециалистом.
– Знаешь, какой способ лечения он мне посоветовал? – спросил Быча. – Нет, ты не догадаешься. Он сказал, что мне надо вести более активную половую жизнь!
– Что, так и сказал, прямо при родителях?.. – ужаснулся Фурман.
– Нет, наедине, конечно.
Они помолчали.
– И что, он тебе уже порекомендовал кого-то – для лечения, так сказать?
– Ну, знаешь, это ты уж слишком размечтался. Если бы!.. – вздохнул Быча.
Пораженный Фурман, конечно, немедленно принялся развивать этот сюжет.
Доктор велел Быче принимать антигормональные таблетки, и он перестал обращать внимание на свою грудь – растет так растет, подумаешь, хрен с ней. Но месяца через полтора, во время их очередного «провожания», он прямо посреди какой-то болтовни вдруг произнес осипшим голосом: «Эх, Фурман, понимаешь ли ты, до чего ж это приятное дело – ебаться с бабой…» От неожиданности Фурман с трудом сохранил самообладание. У Бычи кто-то появился!.. Грубая откровенность формулировки вызвала у него отвращение и одновременно зависть. «Конечно! А ты до этого не знал?» – собравшись с силами, нагловато заявил он. Быча повел головой и усмехнулся. Ладно, но кто же это мог быть? Девчонки из класса, конечно, отпадали… Какая-нибудь спортсменка? На зависть Фурману, у Бычи были и другие варианты. В конце концов, ему же прописали это лечение!..
Больше они об этом не заговаривали, хотя вскоре Быча чуть ли не силой заставил Фурмана сходить с ним в аптеку за презервативами – молоденькой продавщице покрасневший Быча почему-то назвал их «пакетиками». Они купили сразу два десятка и, давясь от смеха, выскочили на улицу. Фурман взял себе пять (черт, куда еще их прятать-то?..).
Но оказалось, что Бычина тайна разрушила их дружеское общение.
Как-то на переменке они стояли в коридоре у стены и дразнили друг друга, изощряясь в остроумии. Остальные весело толпились вокруг и подзуживали. У Фурмана стена была слева, а у Бычи справа. Разошедшийся Фурман отпустил особенно удачную шутку, все просто согнулись от хохота, и тут Быча без предупреждения со всего бокового размаха пустил огромный кулак Фурману в голову. Благодаря тому, что он ударил именно со всего размаха своей левой, а не ткнул правой по прямой, Фурман успел автоматически среагировать: он мгновенно присел (а может, у него просто подкосились ноги от ветра), и Бычин кулак, просвистев над его макушкой, влепился в стену. «Ай, черт!.. – тоненько вскрикнул Быча. – Я же из-за тебя чуть руку не сломал!» Смеху было… Но про себя Фурман сначала страшно растерялся, а потом обиделся на Бычу до самой крайней степени: он же вполне мог попасть ему в висок! И, главное, хотел!.. Фурман не мог понять, как это возможно. Получалось, что какая-то чисто ситуативная вспышка злобы легко затмевает у Бычи все остальное, что их, как казалось Фурману, связывает… И, следовательно, это «остальное» не имело для него никакого реального значения.
* * *
«Может, мне надо стать художником?..» – думал Фурман. Он ведь с детства неплохо рисовал, два года ходил в студию при районном Доме пионеров, а его лучшие старые рисунки забрал папин одноклассник-кинохудожник для съемок фильма «Доживем до понедельника» (правда, эпизод, о котором он рассказывал, в фильм не вошел, а фурмановские картинки так и пропали). У него была небольшая коллекция репродукций, вырезанных им из журнала «Юность». Особенно ему нравились две картины: «Воскресный день» Жилинского (загадочно умиротворенная романтическая многофигурная композиция в теплых коричневатых тонах) и «Поднимающий знамя» Коржева (суровый человек в белой рубахе с закатанными по локоть рукавами пригнулся над убитым рабочим-знаменосцем, собираясь подобрать упавшее красное знамя; даже на репродукции были видны мощные, крупные, чуть грязноватые мазки – картина просто излучала мужественную горечь революции; в тот сентябрьский день, когда в Чили произошел фашистский переворот и погиб Альенде, Фурман задумал свою картину под названием «Упавшее знамя» – по мотивам коржевской, но еще более трагичную: здесь уже не было никого, кто мог бы поднять выпавшее из мертвых рук знамя…). Кроме того, у них дома было много открыток с репродукциями и несколько больших альбомов, которые он любил рассматривать: «Русская жанровая живопись», Пахомов, книги известных карикатуристов Бидструпа и Жана Эффеля. Но решающее влияние оказала на Фурмана книга «Жажда жизни» о Ван Гоге (даже несмотря на то, что в ней не было ни одной картинки). Ван Гог, несомненно, был величайшим образцом бесконечно самоотверженного служения человека своему призванию – вопреки всему.
Выяснить, художник ты или нет, можно было только серьезной работой. Для начала Фурман, поглядывая в зеркало, нарисовал мягким карандашом автопортрет в половину большого ватманского листа. Своими планами он, конечно, ни с кем из домашних не поделился, но работа была признана весьма удачной. На следующий день он взял черно-белую фотографию своего бывшего восьмого класса (к сожалению, немного мелковатую) и после долгого рассматривания знакомых лиц выбрал Муху с ее высоким лбом и доверчиво распахнутыми глазами. Этот портрет потребовал от него гораздо больших усилий, но результат того стоил. В процессе работы он даже слегка влюбился в маленькую милую Ирку Комарову, которая училась теперь в медико-биологическом. (Между прочим, после первой практики в больнице их жизнерадостные парни возбужденно рассказывали «математикам» чудовищные истории о том, что им пришлось увидеть, работая в качестве нянечек и младших санитаров: одному из них даже «выпало счастье» готовить девушку к операции по удалению аппендицита, то есть попросту брить ее между ног – «вы представляете, какая у бедняги была эр-р-рекция!»).
Фурман нарисовал гуашью еще несколько приятных «картинок» с «сэлинджеровскими» сюжетами – и после этого вдруг завял. Его заела тоска. Нет, никакой он, конечно, не художник… А кто же?
Никто.
5
Весна была уже не за горами.
Как-то раз они всей компанией возвращались откуда-то на метро – высадились на «Маяковской» и, гогоча во все горло, широким фронтом двинулись по залу. Встречные нервно шарахались от них и недовольно оглядывались.
У входа на эскалатор им пришлось сгрудиться и слегка потолкаться, чтобы держаться вместе. Кого-то при этом довольно невежливо потеснили, и Быча, который в тот день находился в ударе, успел добродушно огрызнуться на пожилого дядечку, сделавшего им замечание.
Фурман, хохоча с разинутым ртом над Бычиными прибаутками, приготовился ступить на уезжающую ступеньку. Он сделал привычный шажок, положил руку на поручень и машинально перевел взгляд на встречный эскалатор. Оттуда на него в упор смотрела девушка – он видел только ее широко раскрытые темные глаза и ярко-красное пятно одежды. Движение мира вдруг кошмарно замедлилось, и в тот же миг в этих огромных глазах он узнал свое отражение: грубое, искаженное хамским смехом лицо в окружении таких же мерзко кривляющихся бездушных масок… Эта девушка смотрела на него так, словно готова была любить его, но внезапно столкнулась с его скрытой «темной стороной» – безобразной свиной «харей» – и ужаснулась. Время вдруг снова тронулось: всё поехало, на Фурмана разом обрушились голоса, его рука так вцепилась в поручень, что он покачнулся, он с усилием захлопнул одеревеневший рот и ошарашенно оглянулся – девушка уже сходила с эскалатора. Бежать за ней, просить прощения и умолять увидеть их не такими отвратительными?! Но для этого надо было немедленно начать расталкивать всех, кто стоял сзади… Доехать доверху и вернуться бегом?! Но она ведь не станет ждать, она даже не обернулась… «Что с тобой?» – спросил кто-то. Он помотал головой: все нормально… Все нормально. Надо быстро прийти в себя. Он еще раз тихонько потряс головой. Мне это просто приснилось. Бывают же такие сны, после которых просыпаешься с ужасной черной болью в груди…
Этот случай так поразил Фурмана, что он решил описать его в стихах (естественно, в стиле Маяковского, тем более что Владимир Владимирович в какой-то степени тоже был причастен к «происшествию»: и станция была «его», и наверху, на площади, стоял памятник ему, да и вообще все это было вполне в его духе…). Поэма с нагловато раскачивающимися, размашистыми строчками начиналась с того, как компания вывалилась из вагона и, хлопая клешами, покатилась по мраморному залу, пугая прохожих.
Несколько дней все шло здорово, он исписал уже с десяток страниц, но, дойдя до описания самой Встречи, застрял. Пробовал и так и сяк – получалась какая-то пошлятина. Неправда. Он почувствовал, что у него кончился поэтический «заряд», потрепыхался еще немного и отложил тетрадку до лучших времен.
* * *
Фурман сидел за Бориным столом и пытался делать математику. Было еще светло. За окном виднелся кусочек садика с голыми деревьями и высокая кирпичная стена, отделявшая их двор от двора дома номер один. Вдруг послышался громкий резкий хлопок, над стеной испуганно вспорхнули голуби. Что это было? Выстрел?! Некоторое время Фурман настороженно прислушивался. Но все оставалось тихо и спокойно, и он вернулся к математике, продолжая на всякий случай периодически поглядывать в окно.
В какой-то момент на стене появился одинокий встрепанный голубь (Фурман не заметил, как он прилетел). Похоже, голубь был больной – двигался как-то странно… Тут раздался сильный хлопок, и в воздухе закружились перышки.
Это же оттуда, из дома один, похолодел Фурман. Они что, стреляют по голубям?! Совсем уже сбесились? Разволновавшись, он поспешил на кухню – то окно было всего в трех метрах от стены.
Видно никого не было, но вскоре с той стороны на стену подбросили нового голубя. Они держат их на нитке, понял Фурман. К птице было еще что-то привязано снизу, какой-то сверток. Зачем? У него в голове замелькали тошнотворные образы, как голубей, перед тем как убить, еще и мучают, режут… Голубь неуклюже заковылял по стене и вдруг взорвался. Даже следа не осталось. Фурман опешил. Что происходит?..
«Это карбид!» – озарило его. Он слышал, что они иногда так развлекаются: ловят голубей, привязывают к ним пузырек с карбидом, выпускают и…
Как же это можно?! Подманивают на крошки, говорят добрыми голосами «гуль-гуль-гуль», держат их в руках – живых – живых! – а потом подбрасывают и убивают? Просто ради смеха?
Это не могут делать люди. Только нелюди!.. Но у них же там есть маленькие дети, которые на это смотрят и учатся… Что же делать? Вызвать милицию по 02? Убивают голубей? – Да там только посмеются… Вот ведь гады! Гады!!! Была бы граната!..
Взрывы продолжались еще минут двадцать, и Фурман весь извелся.
Наконец все стихло.
Быстро стемнело. Фурман еще долго стоял на кухне перед окном, ничего не видя и не зажигая света. Потом кто-то пришел с работы, и он обессиленно поплелся к себе в комнату.
Наступили первые теплые апрельские дни, стало пригревать солнышко, и из школы все теперь выходили распахнувшись, стягивали надоевшие шапки и глубоко вдыхали сладостно-оживший воздух.
В один из этих дней в школу вдруг заявилась известная троица: косоглазый Медведь, несколько месяцев назад побитый Бычей в драке один на один, краснорожий Вася Солдатов и их добродушный вожак-самбист Азар – раздавшийся, отяжелевший и потерявший свою прежнюю открытую улыбку.
Подобные визиты случались почти каждый год и всегда вызывали чувство повышенной опасности. Зачинщиком неприятностей обычно выступал бесноватый Медведь. Несколько лет назад он пристал к Пашке Королькову, мать которого незадолго перед этим была назначена директором школы. На первой стадии инцидента Пашка держался слишком гордо, Медведя это разозлило, и лишь вмешательство взрослых спасло тогда Пашку от получения телесных повреждений. В другой раз Медведь зацепил новенького из их класса – просто потому, что у того были пухлые румяные щеки. Но тогда Фурман успел поднять тревогу, и общими усилиями удалось спустить все на тормозах: новенький отделался парой мягких дразнящих пощечин…
Этой весной школа уже пережила одну темную историю, слухи о которой взбудоражили не только все старшие классы, но и учителей. «Группа неизвестных» во дворе школы сильно избила – с сотрясением мозга и несколькими серьезными переломами – ученика десятого класса по фамилии Полоцкий, семья которого собралась эмигрировать в Израиль. Все необходимые документы и разрешения были ими уже получены, парню оставалось только закончить школу – и вот, такое… Избиение произошло после шестого урока на глазах у нескольких девочек-десятиклассниц и было вполне целенаправленным. Нападавшие не скрывали своих «патриотических» намерений: предатель-эмигрант Полоцкий просто получил, так сказать, «прощальный привет от Родины»… Многие в школе знали или догадывались, кто это сделал, но милиция вроде бы так и не сумела ничего выяснить. Эмиграцию Фурман абсолютно не одобрял, но, пытаясь представить себе то чувство, с которым уезжали Полоцкие, он испытывал бессильный стыд за свою страну и с ужасом понимал, что ее вина перед этими конкретными страдающими людьми не только никогда и никем не будет искуплена, но скорее всего завтра же с грубой простотой будет всеми здесь выброшена из головы и из сердца…
Может, теперь троица пришла за Бычей? Чтобы отомстить ему за унизительное поражение Медведя?.. Сам Быча еще не слышал тревожной новости. Поэтому его заботливо увлекли в какую-то дальнюю аудиторию и удерживали за закрытой дверью, пока опасность не миновала.
Впрочем, жертва нашлась и без него – ею оказался очередной новенький из их класса. Как рассказали Фурману, Медведь прицепился к нему «из-за усов»: парень был южного типа – темноволосый, с густыми черными бровями, – ну, и пушок под носом у него тоже был заметно темнее, чем у других. Бить его в школе не стали – сказали, что подождут на выходе. На последнем уроке он сидел весь красный и был настолько подавлен, что, когда его попросили ответить с места, вообще не смог выдавить из себя ни слова и вдобавок ко всему остальному получил еще и пару.
После уроков Фурман попытался уговорить ребят хоть как-то защитить парня, но все только посмеивались, а его неуверенные призывы к классной солидарности звучали по-пионерски фальшиво. Последняя фурмановская надежда – могучий Быча отказался даже «просто для виду» выйти из школы вместе с обреченным. «Да ну его! На что он мне сдался, заступаться за него? Буду я еще рисковать собой не пойми зачем!» – возмутился Быча, и Фурман окончательно убедился в бесстыдном эгоизме бывшего приятеля. Отчаявшись найти помощь среди своих, он предложил парню несколько вариантов возможного спасения: обратиться к кому-нибудь из учителей, вызвать по телефону родителей, сбежать через окно, – однако все они по разным причинам не прошли. Ситуация была бесчеловечной и совершенно безвыходной… все, что он мог, это проводить жертву на заклание.
Пашка был единственным, кто согласился выйти вместе с ними на улицу (правда, ему в любом случае вряд ли что-то грозило – из-за матери). Чтобы не смущать одноклассников, они решили дождаться, пока все уйдут. Пара добровольных разведчиков возвратились и доложили, что «тех» в школьном дворе вроде бы не видно. Но все понимали, что это, конечно, ничего не значит…
Пора было идти (если только не оставаться здесь ночевать – такой вариант тоже рассматривался). Нервно хихикая, они по очереди протиснулись через несколько тяжелых дверей и в испуге остановились на освещенных заходящим солнцем ступенях.
Никого.
Может, они ждут за углом? Фурман с Пашкой осторожно сходили посмотреть – нет, пусто.
Кажется, казнь откладывалась. Это было здорово. Почти счастье… Но когда теперь – завтра, послезавтра? Слушай, а может, они вообще про тебя забыли?..
Дружно решив, что надо жить сегодняшним днем, они похлопали друг друга по плечам, крепко пожали руки и разошлись (на прощанье Фурман предложил проводить парня до дому, но тот сказал, что это уже лишнее, и он пошел с Пашкой).
Весь остаток дня Фурман не мог избавиться от одолевших его мрачных мыслей.
«…Господи, как же мне жить-то в этом мире? – думал он. – Я ведь так долго не выдержу…»
«Подумаешь, какая цаца, – отвечал внутри него какой-то соседний холодный голос. – Не выдержит он. Одним дураком будет меньше, только и всего…»
После ужина Фурман безжалостно вырвал из тетрадки по истории несколько листочков, закрыл дверь в свою комнату и стал писать обращение к людям планеты Земля. Он призывал их остановиться, пока еще не поздно, одуматься и прекратить ежедневно творимое ими насилие и унижения – от ковровых бомбардировок во Вьетнаме и новых испытаний ядерного оружия до «обычного» уличного хулиганства и издевательств над беззащитными детьми, беспомощными стариками и безответными животными…
Излив душу, он перечитал написанное и удивился: «Да, дружочек, видно, твои дела совсем плохи – похоже, ты уже окончательно сошел с ума». Сначала собственная реакция его рассмешила, но потом он вздохнул и, озабоченно покачав головой, пошел готовиться ко сну.
Когда Фурман еще только собирался идти в математический класс, Боря сказал ему: «О-о, дорогуша, тебе следует знать, что Мерзон – очень непростой человек! Но если тебе сильно повезет и ты сможешь познакомиться с ним поближе…»
Фурман так и не добился от Бори объяснения, что же тогда будет. Но вместе со всем классом он с волнением ожидал того момента, когда легендарный Мерзон наконец займется ими всерьез. У них ведь никогда раньше не было классного руководителя – мужчины. А Евгения Наумовича уважала вся школа, но теперь он как бы принадлежал только им. А они – ему…
Все первое полугодие Евгений Наумович был очень занят: кроме преподавания в школе, он вел то ли районные, то ли городские методические курсы для учителей, писал научные статьи, занимался еще какими-то делами… Осенью, пока было тепло, он сходил с классом в однодневный поход, но никакого «контакта» при этом не произошло. Мерзон посматривал на их детскую беготню с какой-то печально отстраненной иронией, и даже попытки двух «умников» – Бычи и Смирнова – завязать рядом с ним громкую «интеллектуальную беседу» на нравственно-исторические и общенаучные темы не нарушили его погруженности в себя. Сам он обсуждал с классом только практические и организационные вопросы. В конце концов все уже привыкли так жить, и кто-то из троечников самокритично предположил, что Евгению Наумовичу с ними просто неинтересно. Но если и так, то что с этим можно было поделать?
На весенние каникулы Мерзон повез их в Одессу. Фурман поехал в своей вызывающе «чекистской» униформе. Ночевали в какой-то школе, в спортзале. Памятник Дюку Ришелье, здание оперы, лестница из «Броненосца “Потемкин”», порт, грязная морская вода… В свободное время начитанный Быча потащил их в знаменитое кафе «Гамбринус», описанное Куприным. После долгих блужданий по чужому городу (местные жители в ответ на их вопросы о «Гамбринусе» лишь задумчиво пожимали плечами) они нашли его – «Гамбринус» оказался обыкновенной полуподвальной пивнушкой, причем их не только не пустили внутрь, но и чуть не побили, так что им пришлось быстренько ретироваться с этого исторического места… Мерзон же в течение всей поездки был сдержанно ироничен и закрыт, как всегда.
Ему, конечно, нравилось, когда на уроках кто-то проявлял сообразительность или даже просто показывал хорошее знание предмета. В качестве особой награды Евгений Наумович тут же давал таким ученикам задачи повышенной сложности, с которыми они чаще всего уже не могли справиться. Но почетным считался уже сам этот жест доверия со стороны Мерзона. Пару раз подобной почести удостаивался и Фурман – в начале года, когда у него еще были надежды…
А теперь он был весь обвешан злыми двойками и замечаниями за разговоры на уроках; все учителя от него устали, и он от всех устал. Надо было бы только дотянуть до лета, осталось уже немного… Хотя что лето? Разве что Боря приедет со своей Камчатки на каникулы и, может, посоветует ему что-нибудь умное… Про то, как надо жить…
Была уже пятница. Шестой урок, матанализ. Большую часть занятия Мерзон посвятил объяснению новой темы. К концу дня он, как обычно, был уже весь обсыпан мелом и постоянно совершал нервные вращательные движения шеей и плечом, словно ему мешал пиджак. В голове у Фурмана была пробка. Он слушал (записывать Евгений Наумович пока не велел), честно пытался понять, заходя, как учили, то с одной стороны, то с другой, но и там и здесь в конце концов натыкался на нее – казалось, она забита ровнехонько в центре «хода сообщения» между головой Фурмана и этой новой темой.
Закончив объяснение, Мерзон слегка отряхнулся и попросил поднять руки тем, кто ничего не понял. К постыдной радости Фурмана, таких оказалось почти полкласса. Евгений Наумович задумчиво потер лоб рукой, оставив там очередной меловой след. «Ну что же делать, раз так? Будем работать. Ничего другого нам с вами не остается… Итак, еще раз с самого начала. После каждого сделанного шага я буду спрашивать, всем ли это понятно». Дело пошло веселей. Но потом то ли Мерзон заторопился и проскочил какое-то важное звено, то ли Фурман на несколько секунд отвлекся, – в общем, все опять стало непонятно.
Заметив, что еще несколько человек переглядываются с неловкими улыбками, Фурман отважно поднял руку. Мерзон остановился не сразу: «Что такое?» – «Евгений Наумыч, извините, но я опять не понял в одном месте…» – «Опять не поняли? (Он обращался ко всем на «вы».) Странно. Вроде всем остальным понятно… Нет? Еще кто-то не понял? Времени уже в обрез… Ну, хорошо. Говорите, Фурман, что же вы не поняли. Только, пожалуйста, не тяните…»
Фурман стоя начал показывать то место на исписанной доске, где, как он думал, он потерял нить рассуждений. Нахмурившись, Мерзон попросил его выйти к доске и повторить сказанное; Фурман стал объяснять, и, вопрос за вопросом, вдруг выяснилось, что не понимает он что-то совсем другое. Вот тебе и раз, надо же было ему вылезти… Мерзон, поглядывая на часы, уже не скрывал раздражения: «Как же вы можете этого не понимать? Весь класс понимает, а вы – нет. Это же элементарные вещи! Примитив! Программа седьмого класса, если не ошибаюсь. Вы просто попусту отнимаете у нас драгоценное время. Вместо того чтобы заниматься со всеми действительно сложными и важными вещами, я должен объяснять вам лично какие-то азы, которые вы по лени не удосужились изучить самостоятельно! Нет, вы действительно этого не понимаете или только притворяетесь?! Я просто не могу поверить… Ну так что же?» Фурман, мечтая поскорее провалиться сквозь землю, неопределенно качнул головой: не знаю, мол, вам виднее… «До звонка у нас остается чуть больше двух минут. К сожалению, ничего полезного мы уже не успеваем сделать за это время… Вы хотя бы отдаете себе отчет в том, что вы сорвали нам занятие?.. Я не понял вашего ответа. – Он что-то бормочет себе под нос, невозможно разобрать. – Что ж, похоже, нам ничего другого не остается, как посвятить оставшееся время Фурману, раз уж мы начали с ним этот разговор. Пожалуйста, объясните нам, только ясно и отчетливо, что же вам здесь непонятно. Не можете?.. Тогда хотя бы расскажите нам, Фурман, как вы умудрились дойти до жизни такой? Если честно, вы меня сегодня сильно удивили. Вы ведь вроде не кажетесь совсем уж дураком? У вас, по-моему, и брат здесь учился, Борис? Я помню! Ну, как раз с ним-то, если мне не изменяет память, все было в полном порядке… А вот у вас, знаете ли, возникли проблемы! И крайне серьезные! Я так понимаю, что вы больше ничего не хотите нам сообщить? Ладно. Тогда я вам скажу. Только должен вас предупредить, что я человек прямой, говорю то, что думаю, и иногда бываю чересчур резким – а некоторые весьма уважаемые люди даже считают, что и бестактным… Не знаю, так это или нет, но с этим, увы, уже ничего не поделаешь, я слишком стар, чтобы переучиваться. Поэтому придется вам с этим считаться, и заранее приношу вам извинения за мои возможные плохие манеры… Вы, Фурман, конечно, далеко не дурак. Я имею в виду ваше интеллектуальное развитие. Собственно, только поэтому я и трачу на вас свое время. Однако так вести себя, не понимая при этом самых элементарных вещей, на мой взгляд, может либо полный дурак, либо… – Прозвенел звонок. – Вот такая загадка получилась. Урок окончен. Принесите-ка мне свой дневник, Фурман, я хочу поставить вам двойку за то, что вы сорвали мне занятие. А на досуге советую вам как следует подумать над моими словами».
Открыв неловкими испачканными руками фурмановский дневник, Мерзон увидел, что там уже имеется свежая и размашистая учительская запись:
«Систематически не готовит уроки. На уроках не работает.
Нарушает дисциплину.
Прошу родителей зайти в школу.
Подпись.
19/IV-74 г.».
– Да, и пусть ваши родители на днях заглянут ко мне, – холодно добавил Мерзон, выводя крупную красную двойку и расписываясь.
Дальше физкультура. Руки и ноги у Фурмана были ледяные, зубы сжаты, внутри – гул и пустота. Он кое-как отбегал на непослушных ногах положенные круги, но играть с ребятами в свой любимый волейбол не остался и в одиночестве пошел в раздевалку.
Да. На самом деле все было очень плохо. Очень, очень, очень плохо…
С трудом переодеваясь, Фурман испуганно почувствовал, что его неуправляемое тело вот-вот совершит какое-нибудь бессмысленное разрушение.
Нет, нет, надо держаться!.. Не сейчас! Потом! Не здесь…
Чтобы прийти в себя, он больно ущипнул свою руку и закусил губу. Надо побыстрее выбираться отсюда. Вместе с этим тяжким царапающим камнем внутри…
Школьная дверь у него за спиной закрылась – и, угрюмо посмотрев по сторонам, он чуть не закричал от вдруг нахлынувшего счастья.
Я же свободен! Я – свободен! Как вот эти кривые, уродливые деревья, как эти тупо плывущие облака и эти глупые, некрасивые, суетливые птички!
Птички-невелички!!!
Я ухожу, понял он, и больше никогда сюда не вернусь.
У поворота он все же решил в последний раз взглянуть на старую школу. Ему пришлось уговаривать себя: ведь сама она ни в чем не виновата, в ней даже госпиталь был во время войны… Выбрав сухое место на дорожке, он аккуратно поставил портфель на неровный асфальт, повернулся к школе и несколько секунд стоял с ней лицом к лицу; да, все правильно; потом неожиданно совершил какое-то коротенькое движение, вроде поклона, – и пошел к дому, переполненный небывалым, испуганным и грустным счастьем перед вдруг распахнувшимся будущим.
Примечания
1
Ζϖον πολιτικον (zoon politikon) (греч.) – животное общественное. Определение человека у Аристотеля.
(обратно)

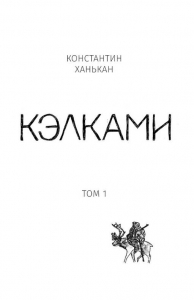





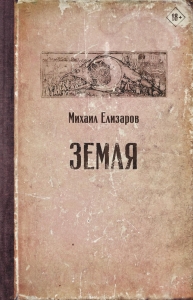


Комментарии к книге «Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть II. Превращение», Александр Эдуардович Фурман
Всего 0 комментариев