Анатолий Андреев Девять Утопический роман об антиутопии
Посвящение:
Им, им!
Предостережение:
Этот роман более реалистичен, чем кажется на первый взгляд.
Пророчество
Кто знает, как оно будет…
Попытка Начала
1. Марсик был отчаянным котом.
Марсик падал с девятого этажа, побывал в пасти у туркменского волкодава, тонул, попал с Веней в аварию, его украли (увезли километров за сто, а он сумел вернуться), попался Вене под горячую руку (Веня не любит об этом вспоминать, ох, не любит), отравился свежей рыбой с Байкала. Семь. Что-то я упустил. Ах, да, его же несли топить, а я выпросил у прагматичного соседа живой комочек, попискивающий, как полая резиновая игрушка со свистком, и потом подарил Вене. Восемь.
Теперь он жил девятую жизнь.
2. Был у меня друг. Придурок редкостный. Звали его, впрочем, Филиппом. Как-то раз пришел он к Васе Сахару.
3. У Алисы были рыжие глаза. Верите? Неправдоподобно?
Ладно, вру. Зеленые – больше устраивает?
На самом деле глаза были черт-знает-какие, практически – русые. Понимаю, что все на свете должно быть определенно, в том числе цвет глаз, но что поделаешь, если реальность срамит наши ожидания. Тем хуже для реальности?4. Что я помню до того, как появился на свет белый? Как ни парадоксально – ничего. Даже темноты – хоть глаз выколи – не помню, хотя она, несомненно, была, как же без нее там.
5. А где же в это время была моя гордость?
При мне. Как и моя слабость…
Вот со слабости все и началось.6. За что бы я поставил памятник себе? А ни за что. Просто так. Пусть стоит. Назло Алисе.
7. Потому что мне не понравилась его улыбка. Не понравилась – и все тут. Гадкая. До ушей. Больших. Наполовину закрытых волосами. Грязными. Которые он то и дело взрыхлял тонкими пальцами. С траурной каймой под ногтями. Тьфу три раза – не моя зараза…
8. Осень. Вечер. Прохладно.
На глазах созревает полная луна. Она в дымке – то ли прячется от любопытных взоров (которые сама же и притягивает), принимая очертания светлого облака, то ли кокетничает, размашисто прикрываясь белой газовой косыночкой.
Так или иначе, полная луна становится символом муторной мути, царящей в жизни вообще и на душе отдельно взятого меня.Я забраковал все восемь вышеприведенных зачинов, каждый из которых щукой или раком, а то и вовсе лебедем белым тянул повествование в свою сторону. Остановился на девятом – том самом, который мне лично нравился меньше всего.
9. Прошло девять лет с того дивного дня девятого сентября одна тысяча девятьсот девяносто девятого года, когда будущее, казалось, не умещалось и в девяносто девять лет – настолько оно было обширным, без горизонта впереди, без облачка. И вот прошло всего девять лет, в которые, казалось, уложилась целая жизнь, такая запутанная и противоречивая.
Нет, была в нем, в девятом, конечно, ложная традиционность. Было «нечто» с изюмом. Было. Зацепиться можно.
Однако мне не нравилось. Отчего же я начал с варианта № 9?
Назло себе. Вы ждали другого ответа? Менее банального? Или он, напротив, не устраивает вас своей оригинальностью?
На вас не угодишь. На вас на всех не угодишь.
Это мой мир, здесь все устроено по моим законам, которые, я так думаю, отражают законы космоса. Лабиринты скроены по моим, сиречь космическим, меркам и лекалам. По меркам ДК.
Итак, мой роман начался с девятой жизни – чтобы быстро устремиться к своим истокам, к началу начал. Так надо.
Впрочем, приступим.9
9.1.
Прошло 9 лет с того дивного дня 9 сентября 1999 года, когда будущее, казалось, не умещалось и в 99 лет – настолько оно было обширным, без горизонта впереди, без облачка.
И вот прошло всего девять лет, в которые, казалось, уложилась целая жизнь, такая запутанная и противоречивая.
Если начинать по порядку, придется стартовать ab ovo. От маковой росинки.
Для начала я бы задался риторическим вопросом: какой город сравнится с Минском?
Рим сравнится. Пожалуй, Осло. А также еще пара-тройка сотен градов всех частей света, абсолютно всех континентов, включая оба земных полушария.
Неужели Минск так плох и настолько типичен?
Что вы. Уймитесь. Хорош, чертовски привлекателен, и даже харизматичен – своим не определившимся характером. От него можно ожидать от «всего» – до «ничего», как от любого молодого честолюбивого организма. У него сразу девять жизней, и все протекают параллельно. Девятое чудо света.
Минск очень удобен для того, чтобы начать рассказ о молодом человеке. Молодость (возраст от двадцати семи до сорока пяти лет включительно) – это тоже девятое, даже дважды, а то и трижды, девятое чудо света; у нее сразу девять жизней, и все протекают параллельно. (Тут, правда, возникает проблема остальных восьми чудес света. А если пока что, временно, в этот момент наплевать на остальные? Плохо, согласен. Легкомысленно. Чудеса есть, а мы делаем вид, что их нет. Хорошо, будем возвращаться к вышеозначенным чудесам поочередно, на протяжении всего романа.)
В одну из жизней нашего города мы, пожалуй, слегка пожалуем.
Смотрим на календарь. Цифры расплываются. Еще раз вглядываемся – прилагая некоторые усилия. Девятое марта. 9. Кто бы сомневался.
Проблема в том, что вчера было восьмое марта. 1990 года. 8 Марта. Два сообщающихся кольца, сплетающихся в символ бесконечности, подозрительно напоминающий совершенную петлю, своей безысходностью способной впечатлить оптимиста любого калибра. Только длинной-длинной змее-анаконде дано изобразить восьмерку. Или клубку змей. 8. Международный женский день, напомню себе, придурку, который решил превратить его в день памяти мужчины. Так сказать, решил справить поминки по себе, ужасному.
Судя по всему, вечер, к сожалению, удался.
На этом вечере я встретил Алису, которую не видел года четыре («Три с половиной года», – уточнила она). И дико влюбился, как потом выяснилось.
С Алисой была Венера, с Венерой – некто Веня. Неизвестно было, кто он такой, но его хотелось называть просто «человек в штатском». То ли выправка его военно-спортивная (плотный ежик на голове, властный взгляд) не гармонировала с гражданским платьем, то ли было оно чересчур модным и экстравагантным, то ли не умел он его еще носить, чувствовал себя в нем скованно, в том числе и потому, что давила на него необходимость одеваться именно так, по статусу, – так или иначе все обращали внимание на его вызывающе дорогой костюм, сидевший на нем хорошо и ладненько, но как на породистой корове великолепное седло. Сложно было представить его развязно и расслабленно танцующим (набитые тугие мышцы, как в комиксах, делали его персонажем техно мультика) – так он и не танцевал. Стоял и попивал…
– Что вы пьете? – спросил я из чистого любопытства.
– Водку, – ответил он нехотя глухим баритоном.
– А закусь?
– Я не закусываю. И не запиваю.
– Круто, – сказал я.
– Мне по х…, – ответил он.
– Круто, – сказал я.
– А ты, видно, интеллигент?
– Вроде того.
– И что пьешь?
– Водку. Только я ее запиваю соком. Или минералкой. В общем, чем придется.
– Тьфу, – сделал он прямо перед собой. И замолчал.
– Ты с Венерой? – спросил я.
– Я с какой-то телкой. Вот вы…бу ее – спрошу как зовут. Это мой принцип. Еще вопросы есть?
– Да я и не задавал вопросов. Так, пытался пообщаться.
– Зачем?
– Не знаю. Я себе такой вопрос не задавал. А зачем люди общаются?
– А они не общаются. У них одно бабло на уме. Одни бабла просят. Другие молча зарабатывают, то есть, отбирают у тех, кто просит. Кто на что учился.
– И все?
– И все. А разве есть еще мотивы для общения?
– Упс, – сказал я. – Пожалуй, я выпью. И непременно запью.Вот этот диалог я помню отчетливо, хотя тысячи других диалогов, куда более содержательных, произошедших с куда более интересными собеседниками, мною забыты начисто.
Потом я целовался с Алисой – и вспоминал четырехлетней давности вкус ее губ – миндаль с ананасом (какие-то датчики или рецепторы в моем внутреннем хозяйстве записали эту пикантную информацию и подсунули ее мне в нужное время; а если бы я не целовал Алису 8 Марта 1986 года… Или все же 8 сентября 1987? Неужели это называлось бы «забыл навсегда»? Странно это все…) Это я тоже помню. А вот когда я отключился окончательно…
Не помню.
Зато я помню, что я периодически «включался» и появлялся на публике как ни в чем не бывало. Несколько раз за вечер. Никто, кажется, за исключением, естественно, Алисы, даже не заподозрил, что я крупно перебирал время от времени.
Пока я сосредоточился на миндале с ананасом, к моим губам подкатила горькая слеза. То плакала Алиса. Я хотел спросить: «Алиса, почему ты плачешь?», но вместо этого стал по-дурацки слизывать все ее слезы, как преданный пёс. А она, чтобы не оставить меня без работы, накапала целое озеро слез. Не прятала лицо и не закрывала глаза – просто стояла и молча плакала. А я, как Барбос, работал языком.
Наконец, я спросил: «Что случилось»?
Случилось непоправимое…
И Алиса рассказала мне, что случилось. Непоправимое – как раз то самое слово. После этого я и отключился в первый раз – с помощью водки без запивона, как и следует истинному мачо.
Чтобы понять, почему мы с Алисой так расстроились, необходимо вернуться на четыре год назад – в тот день, когда мы и познакомились. Ведь это было именно 8 марта, как можно забыть. Но почему Алиса бросила вскользь «три с половиной года»?
Непонятно…
Было чертовски мило и приятно. На ней было открытое платье (жемчужного цвета) на бретельках, ее глаза блестели таким глубоким праздничным блеском (было видно, что она по возрасту счастлива в свои восемнадцать), что отражаться в них тоже было счастьем. Завтра она улетала в Америку учиться любимому дизайну (а у нее столько идей! она же покорит их всех, славных заморских жителей, цветных и разных, но милых, милых, не замечающих плена родных эмигрантских традиций! она заставит их смотреть на мир другими глазами!). Кажется, была немного, удивительно легко и счастливо, влюблена – кажется, в забавного Платона, чуточку в себе неуверенного, но, судя по всему, основательного: приятно, когда он делает вид, что как бы мимолетно ухаживает за ней, а сам не сводит с нее глаз (голубых!), старается угадать ее малейшие и такие невинные желания – наверное, еще не решил, стоит ли в нее влюбляться; приятно, когда на него смотрят другие девочки, а она, Алиса, даже пальцем не шевелит, чтобы получить то, что хочет.
Прелесть! Все впереди! Так и должно быть! Навсегда!
Сегодня вечером это волнующее чувство настолько кстати, так мило, а завтра, увы, оно обратится в милое воспоминание – и тоже очень кстати (и никаких «увы»!). Она же помнит детство: светлая сказка про неуклюжего жука скарабея, который, выполнив свою миссию на земле, расправляет крылья и улетает к бесконечным далям, возвращается на небо к тем истокам, которые породили его (спасибо, мама, и папа, и бабушка, бабушка!), но никакого желания вернуться в теплый плюшевый мир Алиса не испытывает. У нее одно желание: вверх, в небеса, сквозь голубой океан, к чему-то действительно ужасно прекрасному.
И Платон ее забудет – и отлично: зачем же портить жизнь хорошего человека с голубыми глазами?
Нет, пожалуй, она бы не отказалась стать для него приятным, отчасти волшебным воспоминанием, возможно, светлой печалью (ведь не каждый день ему будут встречаться такие девушки, как Алиса, – красивые, порядочные, притягивающие к себе счастье и удачу!), но не более того. Нет, не более.
А вот и первый поцелуй, можно сказать, на виду у всех – и где же тут дорога в бездну, которой все так пугают и потому только завлекают? Так себе. Приятно, пожалуй. Но как-то очень физиологично. Много чужих запахов. Много… влаги. Скользкий язык. С Платошей губы в губы еще куда ни шло (а ведь он не умеет, не умеет!), но вот целоваться с другими…
Бр-р-р.
Тело другого человека подпускать к своему – это целое испытание. Его горячая, ищущая (сразу не поняла) ладонь на обнаженном плече, потом на талии, опять на плече, потом, по какому-то тайному, не вполне целомудренному соглашению, тяжелеющая ладонь скользнула ниже талии…
Нет, дружок. Нет, нет и нет. Это просто невозможно. Наверное, она еще не готова. Пусть это будет в другой жизни, если без этого никак не обойтись.
Тогда еще не казалось, что жизнь преподносит дары, которые обязывают, – счастливой было быть не страшно, от этого спасало легкомыслие.Такой я ее и запомнил: трогательная округлая девичья полнота (и при этом сочная стройность тростинки), пухлые губы, блеск в глазах и взгляд за океан сквозь меня. Она потому и позволила поцеловать себя, что в упор не видела меня, Платона. Это был символический поцелуй – привет тому, еще не найденному ею Мужчине. И его роль покорно исполнил я.
Что ж, мне было это не сложно: я ведь тоже прикасался губами не к Алисе, а к моей Мечте.
Но расставаться не хотелось.
– Что это у тебя за брошь? – спросил я, чтобы как можно дольше продлить мгновение.
– Это серебряный скарабей. Можно, я подарю его тебе на память? На память именно об этом времени. Вот, возьми. Это мой талисман. Он принесет тебе счастье.
– Спасибо. А удачу принесет?
– Счастье всегда приходит через удачу.
– На счастье – давай. Смотри, какая странная скатерть.
– Ты специально подозвал меня, чтобы обнять? Чем же скатерть странная?
– Мне кажется, она с автографом Пушкина.
– Александра Сергеевича?
– Да, того самого.
– А ты фантазер.
– «Сказку о мертвой царевне и восьми богатырях» помнишь, Алиса?
– Помню. Только сказка была о семи богатырях. Мне пора.
– Странно. Мне всегда казалось, что богатырей было побольше. А королевич Елисей разве не в счет?
– Мне правда пора, Платон…
– А какое у тебя любимое число?
Потом потянулись спокойные, размеренные, почти унылые, если бы не молодость, годы – а поцелуй все не забывался. Временами мне казалось, что поцелуй предназначался мне, именно мне, Платону, – и было так стыдно, когда я представлял, что об этих моих тайных мыслях может узнать Алиса. Ведь в моих мечтах было что-то от слабости: я не мог найти себе девушку по сердцу, вот и выдумывал себе прекрасную, скорее всего, несуществующую, Алису. Если она узнает об этом, то поймет, что я слабак и неудачник. Ничтожество. Вот почему я тщательно скрывал (в том числе и от самого себя) то, что казалось мне самой большой моей слабостью.А теперь вернемся в 8 марта 1990. Алиса плакала, я ее целовал. И потом спросил:
– Что случилось?
В моем вопросе была логика: зачем же плакать, если ничего не случилось, верно?
Она плакала так горестно, что мне пришлось повторить вопрос:
– Что случилось, Алиса?
На первый взгляд, ничего особенного: она вышла замуж. Это естественно. Нормально для девушки её лет, почему же «непоправимо». Девушка созрела, ей пора. Тоже логично.
Но я вместо того, чтобы поздравить свою милую приятельницу, выпил бокал, до краев наполненный водкой (рука не дрогнула), – и отключился.
Наверное, пока я находился в забытьи, я думал о чем-то или что-то соображал, не исключено, что строил какие-то планы. У меня есть основания это предполагать, ибо первое, что я сделал, когда пришел в себя, нашел танцующую танго Алису (она уже безоблачно смеялась: «если допустить, что на душе у неё кошки скребли, то это признак характера», – пронеслось где-то в самой глубине моего измученного сознания) и спросил у нее (оттеснив какого-то кривляку в бабочке, изображавшего ее партнера):
– Если я правильно понял, ты меня любишь?
– Да, – сказала Алиса, не переставая улыбаться. Но в глазах ее уже не было и тени того блеска, отражавшего уверенность в неизбежном счастье.
– Ага, – сказал я и, забыв об учтивости, направился к столу, где, помнится, водки было в изобилии. Как и бокалов. Потом вспомнил об учтивости, вернулся к ней, отодвинул кривляку взглядом и просипел, так энергично кивнув при этом головой, словно мне её срубили:
– Спасибо.
И только после этого опрокинул в себя бокал – лихо, в два глотка – под аплодисменты какого-то дебила. Кажется, он сделал то же самое. Так, за компанию.
Я отключился во второй раз.
Придя в сознание, я обнаружил себя сидящим на диване в задумчивой позе (подходили знакомые, мы шутили – они обращались ко мне как к субъекту вполне вменяемому, и это дало мне основании полагать, что никто не замечает, что со мной происходит; много позже я пойму: всем на всех в этом мире просто наплевать). Я размышлял о чем-то, связанном с Алисой. Скорее всего, о том, стоит ли поздравлять ее с замужеством. И если стоит, то в какой форме.
Кроме того, меня слегка мучило любопытство: дело в том, что на моем правом мизинце я обнаружил увесистый перстень, излучавший тяжелый синий цвет. При этом сложно сказать, женский это был перстень или мужской. Как он оказался на моей руке? Чьи это шутки?
Наверное, сейчас кто-нибудь подойдет ко мне, и все объяснится само собой. Наверное, это намек на то, что не стоит так много пить. Посмеемся вместе. Именно поэтому любопытство мое было легким: я почти не удивлялся тому обстоятельству, что неизвестно как стал обладателем великолепного перстня, играющего живой синей искрой.
И тут ко мне подошла Алиса и спросила:
– А ты? Разве ты еще не женат?
Я молча показал ей перстень.
– Красивый, – сказала она. – Только тебе не идет.
– Я женюсь на следующей неделе, – неожиданно для самого себя ответил я. И твёрдо посмотрел ей в глаза. – На ней, вон на той девушке в белом, – я махнул в сторону танцующих, где, вероятно, могла быть и та, которая уже не раз делала мне предложение стать моей верной женой. Главное – верной.
– Понятно, – сказала Алиса. – Но ведь ты меня любишь?
– Не вижу связи между моей счастливой женитьбой и предполагаемой любовью к тебе.
– Значит, любишь, – сказала Алиса.
– Я любил тебя четыре года, – зачем-то выдал я свою самую большую тайну, – а сейчас торжественно объявляю: с этого вечера с любовью покончено. Ее не существует. Это выдумка. Возьми своего скарабея назад. Он честно просидел на мне четыре года и… В общем, он не выполнил своей миссии.
– А я именно этим вечером поняла, что любовь существует.
– Мы с тобой живём на разных планетах.
– Но в одном времени, не говоря уже о пространстве, и в одной системе. Солнечной. Всё можно изменить. А подарки назад не возвращают. Скарабей будет хранить тебя. Он вытащит тебя из любой трясины, он воскресит тебя и поможет победить.
– Ж-ж-ж-ж, – сказал я и молча поклонился в знак того, что каждый имеет право на свои собственные мифы и заблуждения (в тот вечер меня что-то так и тянуло поклониться Алисе; я кланялся непринужденно, как шут, – но ведь кланялся же!). И слабости. И ошибки. В мои, например, ближайшие планы входило то, о чем я, вероятно, в скором времени пожалею, а именно: водка – бокал – забытьё. Ж-ж-ж-ж…
Каждый имеет право быть самим собой.
Каждый имеет право пытаться скрыть от себя своё истинное лицо.
К сожалению, и в третий раз я отключился не окончательно (вопреки всем сказочным требованиям к повороту сюжета). И тому есть веские доказательства: через месяц я женился. Следовательно, я успел в тот чертов вечер сделать предложение своей будущей верной жене. Видимо, она все же танцевала в той веселящейся стае.
И, судя по всему, приняла мое предложение. Дьявол. Дьявол. Дьявол.
Кстати, перстень с моего пальца исчез. Как появился – так и исчез. Даже не смешно.
И ещё один штришок, незабываемый. Веня весь вечер маячил рядом со мной, на заднем плане; его кривая улыбка (плотоядная загогулина где-то поверх костюма) неизменно сопровождала мои выходки. Помню, когда мне становилось особенно плохо, я начинал злиться от отчаяния – но злился не вообще, а весьма избирательно: объектом моей злости становился почему-то Веня, словно именно он был причиной всех моих несчастий. Я даже запустил в него пустую бутылку из-под водки. Промахнулся. Попал в зеркало, а не в него.
«Клоун, бля, по жизни», – глухо звучало у меня над ухом осуждающим рефреном.
Вот что случилось в Минске в марте 1990 года.
Если кому-то покажется, что в этом происшествии не было ничего особенного, не было ничего такого, что могло бы заинтересовать умных и добрых людей, то он сильно заблуждается. Заметные события всегда начинаются с незаметных происшествий. Взрослая жизнь начинается с детства. Река начинается с ручейка – а потом её не удержать.
И Волга рано или поздно впадает в Каспийское море.
Всё происходит так, как и должно быть, хочу я сказать.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.1
Марсик был отчаянным котом.
Марсик падал с девятого этажа, побывал в пасти у туркменского волкодава, тонул, попал с Веней в страшную аварию, его украли (увезли километров за сто, а он сумел вернуться), попался Вене под горячую руку (Веня, не любит об этом вспоминать, ох, не любит), отравился свежей рыбой с Байкала. Семь. Что-то я упустил. Ах, да, его же несли топить, а я выпросил у прагматичного соседа живой комочек, попискивающий, как полая резиновая игрушка со свистулькой, и потом подарил Вене. Восемь.
Теперь он жил девятую жизнь.
– Мар-рс, подь сюда, подлое животное, хромоногое и парнокопытное – рычал Веня, сидевший в своём рабочем кабинете за рабочим столом в чёрном японском халате с изображением золотого дракона на спине, но Марсик его нисколько не боялся. Он словно чувствовал, что не бояться Вени – в высшей степени прагматичная линия поведения, обеспечивающая ему уникальный статус: беззащитное существо, которое плевать хотело на всемогущего хозяина – это бесконечно умиляло Веню.
– Что позволено Марсу – не позволено никому… Можешь объяснить мне сей парадокс? – обратился ко мне Веня.
– Могу. Но тебе этого не понять.
– Ты полегче, полегче. Не надо со мной как с равным. Марс на этом свете один. Верно, крупнорогатое?
Марсик спрыгнул с колен повелителя, давая понять, что не расположен к нежностям.
– Вот сволочь, обожаю, – в глазах Вени холодной звездой блистала влага.
Я первый и последний раз в жизни видел в его стальных глазах подобие слезы.
– Иди сюда, жопа, таблеточку проглотил, пёс. Ну!
Тон Вени стал таким, что Марсик выскочил из-под стола и стал тереться о ноги хозяина.
– Препарат разрабатывали специально для этого Котофеича, ни один император в мире не может позволить себе такой роскоши, а мы вот даже спасибо не мяукнем…
Кот аккуратно, язычком взял таблетку в рот и пошел ее запивать – в углу стояла для него вода из специальной артезианской скважины.
Веня наслаждался зрелищем.
– Художественное творчество – продукт всего лишь удивительным образом настроенного, изменённого, если угодно, сознания, работающего под определенным психологическим углом или градусом, – продолжил я мысль, мощное течение которой было прервано появлением Марсика.
По остекленевшим глазам Вени можно было догадаться, что он послушно погружается в моделируемую мной реальность. Веня вот уже годами зачем-то держал меня при себе – словно шута, сиречь юродивого, или оракула; Марсик ведь не мог говорить, а я был говорящей игрушкой. И мои эпизодические утренние импровизации (после его обычных таблеток и процедур, за «голубым» кофе) были отчего-то необходимы Вене, хотя он и считал своим долгом время от времени ставить меня «на место».
Мы не говорили с ним об этом, но я чувствовал: от меня требовалось всякий раз удивлять Барона д`Огорода (это была кличка Вени, придуманная мной для внутреннего, то есть монологического употребления) – практически до изумления. До икоты. Это было залогом его интереса ко мне. Гарантией наших стабильных отношений, крайне мне выгодных, полезных и необходимых. И если я ощущал, что Веню «зацепили» мои мысли, я мог позволить себе не меньше, чем Марсик, – правда, ровно до того момента, пока он получал кайф от интеллектуального блуда или от перспектив, которыми я его завораживал (тоже ведь своего рода кайф). Я уже знал: в моем распоряжении было от получаса до сорока пяти минут. По истечении этого срока то ли действие таблеток прекращалось, то ли по каким-то еще причинам Барон д`Огород (кличка, глупее не придумаешь!) начинал нервничать, отвлекаться на пустое, как первоклассник, элементарно терять концентрацию – и я, после, желательно, ядерного резюме, удалялся с умным видом.
Могло ли нравиться это мне, человеку с достоинством?
Вопрос риторический: конечно – да. Ведь Барон был моим единственным шансом, ничего другого мне не светило, поэтому я, словно Марсик, вынужден был терпеть наши просвещенные беседы – пока не являлась Венера или молоденькая полуголая барышня (видимо, он нажимал кнопку, то ли под столом, то ли в полу, или как-то иначе приводил в действие систему оповещения кого следует – кто знает, чем нашпигован был его рабочий кабинет).
– Воображение рождает образы в заданной парадигме (и вот тут интеллект помогает, усиленно ассистирует). Можно, как Пелевин, пустоту воплотить, буквально пропитаться ощущением пустоты и понаворотить кучу пустых образов; можно, как Толстой, настроиться на коллективную, народную волну – и тогда отовсюду будет выпирать тело народное, то бишь народный дух, который больно травмируется телом инородным, то бишь разумом. Можно, как Достоевский, предчувствие Бога (потому что очень-очень хочется) растворить в жизни – и захлебываться неземным восторгом от того, что тебе это удалось, удалось воплотить загадочную «русскую душу».
Художественная литература – это пустота, ибо она воплощает то, чего нет – химеры…
Барон резко сменил положение в кресле. Он уже почти клокотал, ибо я уязвил его во что-то тайное. Нажал на какое-то сцепление нейронов. Я выдержал паузу. Возражений не последовало.
– Всю жизнь служить химерам. Забавно, – подлил я маслица в огонь.
Молчание.
– Вот почему все великие художники, как один, приходят к великому разочарованию. К пустоте…
– Не знаю, куда ты клонишь, но я с тобой согласен, – заговорил Барон д`Огород, обращаясь к развешенным на стенах картинам, среди которых видное место занимал портрет обнаженного маркиза де Сада. – Я скажу так: каждый должен пройти испытание миражами литературы. Вот хоть бы я… Прошел. Имею повесть в багаже. И еще кое-что. Имею право сказать: не морочьте мне голову. Да я один, моя осмысленная жизнь, хочу я сказать, стою всей великой русской литературы – в отношении культурного результата.
– Если не понимаешь этого механизма, – продолжал я как ни в чем ни бывало, – то носишься с собой, как дурень с писаной торбой. «Я гений, гений я…» Как только поймешь… Что происходит, если осознать этот тайный механизм? А, Барон?
Я тебе скажу. Не хочешь слышать – закрой уши. Все культурные стимулы жить выключаются. Обман, сладкий обман раскрывается, перестает быть сладким. Культура, творчество не охраняют больше жизнь, не будоражат больше кровь.
Что же остается бедному человеку?
Барон сначала заёрзал, а потом вскочил – но рта не раскрывал.
Я сделал паузу, наслаждаясь своей властью над ним.
– Натура, Барон, – сказал я, наконец, тихим голосом. – Тело. Инстинкты. Тело никогда не обманывает, никогда.
– Вот! – завопил он. – А я о чем! Бросишь камень в меня, в подлеца-человека, – попадешь в жизнь! Во всех людей! В каждого! В тебя, Плато! Клянусь шайтаном! Понимаешь, Плиний Старший?
Получалось, что он объяснил мне то, что я ему только что растолковал.
Это было мне знакомо. Это входило в мои планы. Более того, это было неписанным условием нашей игры (к которой он относился куда серьёзнее, чем я).
– Кажется, понимаю, – сказал я, не собираясь цеплять на себя гримасу, сопровождающую мои эвристические пассажи (Барон смотрел не на меня, а в себя). – Я даже больше скажу: несчастному человеку кажется, что кайф от культуры несопоставим с кайфом, который получаешь от натуры…
– Вот! – утробно рявкнул Веня (Марсик, привыкший к резким переменам климата в этой географической точке вселенной, метнулся, от греха подальше, из-под стола за диван). – Вот, вот, вот… Задачу понял? Найди мне, Плиний, такой культурный стимул, который перекрыл бы стимул натуральный. Давай, отыщи. Вот тогда мы с тобой мир на уши поставим. Всех раком пере…ём. Жестко. Раздвинем оба полушария – и вставим.
«Все просто, – подумал я. – Этот стимул – любовь. И не надо так грубо. Всё произойдёт по взаимному согласию».
Но сказал при этом совсем иное:
– Да, задал ты мне задачку… Это ведь все равно, что отыскать философский камень. Надо пораскинуть мозгами.
– Пораскинь, пораскинь, Скарабей… Нарой свой камень, удиви Веню. Хотя, боюсь, всю мудрость веков мы с Марсиком осилили экстерном в экзист-школе: самая великая культурная ценность – это натура… Это осмелился провозгласить великий маркиз де Сад, и это не детсад. Это целый огород. Ха-ха! Но ты попробуй. А вдруг? Великие, но недостижимые, цели иногда рождают великие реальные результаты – хотя и совсем не те, на которые рассчитывали. Ищи Индию – авось, Америку откроешь.
– Нет, Веня, не Америку, а как минимум иную галактику. Где яблоки падают не вниз…
– А вверх!
– Нет, Веня, не вверх, а …
– В сторону!
– Нет, Веня, не в сторону; там яблоки падают вообще не по земной логике; они могут «падать» в себя, например…
На сей раз Веня не пытался опередить меня.
У меня отлегло от сердца: кажется, в этот раз я справился со своей задачей.
Странно: следующий логический ход – «если я, Платон, достигну результата, то не поздоровится ведь именно тебе, Барон, ибо твоя великолепно оборудованная жизнь пойдет под хвост Марсику» – почему-то не пришел в голову Вене. А я даже был уверен, что и не придет. Потому что он был уверен в том, что я неправ (вот он, решающий довод натуры: верра!) – но ему льстило, что он на честном турнире в чистом поле одолеет умного, напичканного философской культурой мужика. А потом с чистой совестью, «по-культурному», так сказать, – свинца ему (мне, вот что печально) в глотку. За это он готов был выложить деньги. В сущности, ради своего удовольствия.
Материальным же доказательством моей теории могла стать только моя прожитая жизнь. Как иначе можно было обнаружить и показать в действии культурный стимул? Но именно Веня и не должен был ничего знать об этом: он ведь был уверен, что все дело в теории, в умных разговорах. И теории он не боялся. А вот жизни, где он чувствовал себя королем Людоедовиком, отчего-то побаивался…
Барон заговорил уже не так пылко, но все же с огоньком.
– Мы с Мишкой-полковником любим баб, но по-разному: он любит их, словно медведь кусок мяса, он, сопящая фабрика сексуальных грез и фантазий, воспринимает женщин как нагромождение пухлых форм, в центре которых законспирирована полая кишка, счастливо предназначенная для закачивания в нее спермы. В моем же представлении эти таинственные кожаные чулки, то бишь, сладкие недра, притаившиеся в жопе или в промежности, являются способом отрицания Толстого и Достоевского. И тебя, Плиний, только без обид. М…да – это символ сверхкультуры и одновременно ее пароль. Я их е…у – и получаю колоссальное культурное удовлетворение. К мандатым почтения нету! Мое почтение, Владимир Владимирович. Бабы лишены самосознания: это бабочки с пи…ой, которые летят на свечу моего х…я.
Вот почему я е…у их только в жопу: это глубоко культурная акция, которая состоит из фрикций. Трахаю их до тех пор, пока из их белых попок коричневая жижа не польется. Вот это мне нравится, вот это правильно, вот это закон жизни. Это по-честному. Без обмана. Любая святая мадонна – всего лишь вонючая самка. Я люблю добираться до сути, а суть женщины – говно.
Вот ты говоришь, деньги, деньги… А причем здесь деньги? Это вовсе не денежные знаки; это знаки реализации моей природной, то бишь культурной мощи. Деньги – это символ силы. Понимаешь? Любая баба, как только узнает, насколько я богат, кончает моментально. Оргазм наступает у самых фригидных. А ты говоришь…
Я чувствую себя венцом вселенной, я, а ты, Плиний, несколько мешаешь мне наслаждаться этим космическим чувством. Ты как заноза в заднице. Думаю, в конце концов, именно ты поможешь мне увеличить наслаждение до возможных на Земле, здесь и сейчас, пределов. За дело, камрад. Даю тебе девять лет. И не надо огород городить!
– Почему девять? Это великое социальное ноу-хау. Мне потребуется хотя бы жизнь одного поколения.
– Ничего не знаю. Девять – и точка. Ждать я не умею. Желаю все и сразу. Твоя долгая жизнь растянется аж на целых девять лет. Все вопросы к моей божественной интуиции. Я, экстрасенс класса А, имеющий чёрный пояс и девятый дан, – повелеваю. Ю маст ноу, как сделать ноу-хау. Бюджет – девять миллионов евро в год. За девять лет и девяносто миллионов (с учетом уже вложенного) можно перевернуть весь духовный мир, если этот мир, конечно, существует. Ровно через девять лет эта лавочка, если она, конечно, не начнет приносить прибыли, закрывается. Время пошло. Отсчет с девяти вечера девятого сентября сего года…
И давай начистоту… Ты ничем не рискуешь – а это в корне неправильно. Вся наша цивилизация против такого паразитарного подхода. Все должны рисковать, если они хотят добиться результата. Заключим-ка мы пари, как деловые люди. Не добудешь культурной ценности, без которой, как ты уверен, уже невозможна сама жизнь и которая приносит кайф, «обостряющий все наслаждения жизни до пределов немыслимых» (цитирую тебя), я отымею твою Алису в жопу у тебя на глазах. И это будет торжество духа над плотью, ибо плоть и станет духом. Это будет символическим актом, который перевернёт представления о человеке. А примешь мою веру, приходи со своей верной подругой хоть завтра: моя победа мне дешевле обойдется. Будем с тобой одномандатники. Только не надо мне втирать о новоязычниках, козлах из кустов и прочей лабуде. Все это хилое мудачьё. Они Толстого не читали. Просто хотят потрахаться и посылают на х… культурные табу – то, о чем представления не имеют. Для них торжество плоти не есть торжество духа, это бездарное блядство – карикатура на мою жизнь и философию.
С ответом не тороплю. До завтрашнего утра.
Последние три слова я произнес про себя раньше, чем услышал их от Вени. Стиль его юмора я знал уже лучше, чем он сам.
– А дай-ка мне таблеточку, – попросил я, нарушая клятву, данную себе же.
– Вот это по-нашему, это гораздо ближе к истине, – сказал Веня, изучая меня глазами.
В этот момент в комнату вошла девица в коротком халатике. Веня щелкнул пальцами – и халат с нее как ветром сдуло. Не стесняясь моим присутствием, Веня разоблачился столь же быстро. Я увидел то, что видел уже много раз. Вот вам портрет Вени Гербицита (подпольная кличка Фантомас, он же Барон д`Огород, он же Герби, Великий Диктатор, Босс, Маркиз, Адольф, Вензель, Хозяин – кличек у него было немало, что-то около девяти; причем в разные периоды его жизни, которые начинались и заканчивались у него совершенно загадочно для непосвященного, он предпочитал разные, всякий раз другие имена, которые, впрочем, придумывал не сам; неудивительно, что люди путались и со страху называли его как бог на душу положит, все больше Барон или Босс; что касается меня, то я, подчеркивая его самотождественность, неизменно называл его Веня, иногда облаивая кличкой).
Не гигант, но рослый мужик, под метр девяносто, крепкого сложения, все еще рельефные мышцы – бывший спортсмен поддерживает себя в неплохой форме, разве что бока вокруг живота облегает поясок жировых отложений; до блеска выскобленная голова, тело абсолютно лишено волосяного покроя, выбрит даже неожиданно жирноватый лобок, и сиротливый, словно искусственно, несколько набок, вставленный в тело член свисает утомленным, высунувшимся невесть откуда удавом. Из волос на теле только светло-рыжие брови и такие же ресницы; их, слившихся с цветом лица, конечно, не видно, и о Вене хочется сказать: этот экземпляр покрыт великолепной, отлично выделанной смугловато-желтой кожей белого человека. Нечто действительно в духе современного Фантомаса. Что касается глаз, плотоядно выделяющихся благодаря отсутствию бровей и ресниц…
Они до степени карикатуры невероятно гармонировали со всем «кожаным» обликом: взгляд был нависшим и тяжелым, и цвет глаз, каким бы он ни был, казался желтовато-коричневым. Бывали моменты, когда мне казалось, что в каждый Венин глаз вставлено по луне.
Я пришел к себе в номер 117, положил на язык таблетку и запил ее водой.
Раздался звук, напоминающий лёгкий гул реактивного двигателя: тиу-у-у…
Я куда-то улетал, преодолевая пространства, принимающие форму времени.
Улёт…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.1.
«Был у меня друг. Придурок редкостный. Звали его, впрочем, Филиппом.
Как-то раз пришел он к Васе Сахару».
Так начиналась повесть Вени Гербицита, которая называлась «Туз».
– Занятное начало? – спросил он.
– Не оторваться, мистер Герби. Вся классика у вас в подмётках. Ковром у ваших ног. Это же практически Пушкин: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова».
– То-то же… Читай.
Я дочитал повесть до конца. Вот она, если кто-нибудь проявит любопытство. Лично меня она заинтересовала тем, что в ней не было ни капли вымысла.
«Пришёл и говорит:
– Надо закопать двух жмуриков. Барон приказал.
Вася Сахар пожевал свой ус, каким-то тавром разместившийся у него под носом (представьте себе мохнатую подкову, отделяющую нижнюю часть лица от верхней), и задумчиво произнёс:
– Мой кум, он, правда, ещё живой, говорит так: земля любит покойников, но не каждого принимает.
После чего, ни слова ни говоря, пошёл к себе во флигель. Очевидно, позвонил Барону (у него прямой доступ к шефу, что-то вроде правительственной вертушки – редчайшая привилегия). Потом, опять же – молча, взял свой знаменитый заступ (конец черенка венчал металлический набалдашник в виде черепа) и пошёл рыть могилу.
Все гробокопатели, как известно, любят пофилософствовать, и это неудивительно, если принять во внимание, что их профессиональный интерес сосредотачивается вокруг момента перехода человека в мир иной; они, гробокопатели, стоят у истоков процесса разложения плоти; тут поневоле станешь философом, ибо каждый день наблюдаешь жизнь со стороны смерти; но отчего Вася именно тогда произнёс именно эту фразу?
Сахар, неофициальный штатный Могильщик (официально он числился скромным садовником), отменно справился со своим делом. Тела были преданы земле, их не нашли бы даже те, кто очень бы этого хотел (а такие всегда объявляются рано ли поздно). Собственно, за это искусство бесследно прятать и держал Васю всесильный Барон: Могильщик без шума и пыли зачищал концы, порой обделывая делишки весьма и весьма деликатного свойства. При этом сам был – могила.
Филипп заметно повеселел: ещё одна тайна канула в Лету.
Но через три дня он приходит к Васе, бледный как покойник, и говорит:
– Слушай, тут такое дело… Ты только Барону бы не говорил, а, Вась? Не скажешь?
Вася отвечает (непременно при этом разгладив-отерев усы, эту знаковую деталь фольк-стиля, неименным народным жестом – большим и указательным пальцами от ноздрей к углам рта; рот при этом открывается, как у большой рыбы):
– Приятель кума, он, правда, на год моложе за меня, говорит так: не кусай руку кормящую тебя. И думать не моги супротив идти. Я Барону докладываю обо всём.
– Ну, и чёрт с тобой, говори. Тебе же хуже. Труп, который ты закопал недавно, вчера пожаловал ко мне в гости. Ровно в полночь, собака.
Вася перекрестился.
– Который из двух?
– Тот, что в кольцах весь. Шрам на горле – помнишь? Кличка – Щелкунчик.
– Зачем приходил?
– За деньгами, за чем же ещё шастают покойники. И на тот свет из-за денег попадают, и сюда прутся за ними же. Тьфу, погань, а не люди, прости отец небесный. Я ему должен был деньги. Много. Карточный долг. Меня, это… Червовый туз подвёл, сука. Перебор.
– Барон знает о долге?
– Знает, не знает, – какая разница. Сейчас не о том речь. Как это у тебя покойники по ночам разгуливают, а? Во вверенном тебе хозяйстве? Надо бы проверить, а, Вась? Может, он сбежал из могилы. За это Барон нас с тобой повесит за яйца, можешь мне поверить. Правда, сначала язык вырвет, потом глаза выколет. А потом подвесит, как пить дать.
– Ты с Бароном разговаривал?
– Я хочу, чтобы сначала ты проверил захоронение: если Щелкунчик лежит смирно – зачем Барона беспокоить?
– Как же он лежит, если он к тебе приходил?
– Вот этого я объяснить не могу. Не знаю! И не смотри на меня так. Я уж и свечку поставил в церкви «за упокой раба Божьего Щелкунчика». Можно я у тебя переночую, а, Вась?
– А что сказал покойник?
– Если, говорит, не отдашь долг, сука, я, говорит, сначала язык тебе вырву, а потом глаза выколю. И показал мне туз, сука.
– А про яйца ничего не говорил?
– Нет, ничего. Про яйца я уже сам догадался.
– А ты? Что ты ответил Щелкунчику? (Тут Вася опять перекрестился и проехался ладошкой по усам.)
– А я сказал, что у меня нет денег. А он сказал, что ночью опять придёт ко мне. А, Вась?
Сахар пожевал тронутый сединой ус и вошёл во флигель, крепко притворив за собой дверь.
Через некоторое время вышел и сказал (после манипуляции с усами, разумеется):
– Мой двоюродный брат, он, правда, уже умер, говорил: мёртвые к мёртвым, живые – к живым. Ночевать тебя определит господин Барон. Иди.
На следующий день Барон вызвал к себе Васю Сахара.
– Ну, что? – спросил Барон.
– Лежит Щелкунчик, куда он денется. Земли над ним кубов десять. Правда…
– Что там ещё? Говори!
– Руки у него вдоль тела были вытянуты, а теперь на груди сложены по-христиански.
– Может, тебе померещилось?
– Помилуйте, Барон, не первый год служим, службу знаем. В милиции я же был лучшим сержантом, глаз – алмаз… И ещё…
– Давай, не тяни.
– Костюмчик на нём чистый, земелька к нему не пристаёт. Не пачкается. И ещё… Улыбается он, вроде как подмигивает.
– Щелкунчик?
– Да.
– Дыхни, сука.
– Ваше Сиятельство, я уж девять лет не пью.
– Тебе, что ль, подмигивал?
– Не могу знать. Сигнал подавал.
– Ну, ладно. А теперь слушай. Филиппа я хорошо спрятал. Мышь не прошмыгнёт. Он ведь мне когда-то жизнь спас. Я добро помню. Так вот. Этой ночью ему отрезали язык.
Барон рассмеялся.
– Представляешь? Как это могло произойти? Обожаю загадки. Я рождён, чтобы их разгадывать. Что, обоссался? Перед боссом? А, бесенок?
Вася перекрестился, забыв тронуть усы (первый жест оказался явно древнее по происхождению).
– Да брось ты руками перед мордой махать. Тут не креститься надо, а подумать хорошенько.
– Щелкунчик сказал, что сначала язык вырвет Филе, а потом глаза выколет…
– Я в курсе. Мне Филипп говорил. Как ты думаешь, что я предприму в ответ?
– Не знаю, Ваше Сиятельство. Босс.
– Зато я знаю. Язык Филипп мог сам себе отрезать – ну, скажем, умом тронулся. Он же денег был должен покойному – хренову тучу. Хотя Щелкунчик был не чист на руку, ой, не чист. За то, собственно, и поплатился. Я приставлю в палату к Филиппу надёжных людей, свяжу ему руки – посмотрим, что у него будет с глазами. Понимаешь?
Вася смог только кивнуть головой.
– А теперь бери фонарь, пойдём, покажешь мне этого фраера в костюмчике. Что за материя такая? Я имею в виду его прикид, конечно. Надо бы поинтересоваться.
Они бодро зашагали на кладбище.
– Кстати, Вася, все собираюсь спросить: за что тебя поперли из рядов доблестной милиции?
– Да за то, что я полковника на х… послал.
– Кого-кого? Полковника?
– Ага.
– А чего это ты так раздухарился?
– Не могу знать. Бес попутал. Так надо понимать.
Щелкунчик лежал на месте, рядом со своим гей-партнёром по кличке Помада, которого пришлось убивать как свидетеля. Заодно и как пидора. Щелкунчик не улыбался. Не подмигивал. Лицо было чистым, без следов насилия. Ему сделали инъекцию за ухо (вечерняя подруга, грудастая, ноготочками пощекотала и нечаянно царапнула шейку) – и всё, никто ничего не докажет, даже если труп отыщут и проведут экспертизу (его партнёру в тот же момент неуловимым движением, опять же, на виду у всех, сломали шейный позвонок: в принципе, смерть также была лёгкой и быстрой: эти двое прожили короткую, грязную жизнь и умерли в один день и час, как в сказке). Костюмчик действительно был чистым, даже искрился – хоть сейчас под венец.
Когда Вася вновь сровнял могилу с землёй, раздался вежливый стук. Оттуда. Из-под земли.
Барон побледнел. Стук повторился.
– Копай, – приказал босс Васе.
Тот стал креститься, раскрыв рот. Барон оттолкнул его и сам взял в руки заступ. Перевернул все десять кубов. Земля зловеще поблёскивала в лунном свете. Всё было как прежде. Щелкунчик лежал смирно. Не улыбался. Не подмигивал. Барон порылся у него в карманах. Очевидно, искал нож или что-нибудь колюще-режущее. Не нашёл. Обнаружил только туз червей (левый угол загнут) в левом кармане. Не спеша обыскал и грязный костюм его любовника. Безрезультатно.
– Закапывай эту падаль, – бросил он Васе.
Тот послушно исполнил приказание. В тот момент, когда куратор мёртвых бросил последнюю горсть земли (медлил, оттягивал этот момент со знанием дела), из могилы вновь донёсся стук. Точь-в-точь такой, как в первый раз.
Барон приложил палец к губам. Стук повторился.
– Пойдём. Эти трупы с чувством юмора мне ещё пригодятся, – сказал Барон.
В ответ третий раз раздался стук.
Ещё ночью Барона разбудили охранники (он распорядился, чтобы при определённых обстоятельствах его потревожили). У Фили были выколоты глаза. В изголовье у него лежал тот самый туз червей с загнутым левым углом. Дверь в палату была закрыта (ключ у старшего), окна – тоже. Охранявшие палату следили друг за другом, а за ними за всеми следила камера. За камерой тоже было кому следить.
Наутро тела без ведома Васи Сахара были эксгумированы и исчезли в неизвестном направлении. Может, вверх; может, вниз. Может, ещё куда.
Вася потерял свою ответственную должность. И, разумеется, исчез. Бесследно. Сержант догадывался, на что он шёл, когда соглашался на эту непыльную работу, за которую ему платили как премьер-министру какой-нибудь коррупционной державы – так, что он построил коттеджи в городе двум своим сыновьям. Поговаривают, что Вася лежит в том самом месте, где так и не угомонился сгинувший Щелкунчик. С другой стороны, ходит слух, что он подался в Молдавию, на родину предков. Слухи, контрслухи – это вполне в духе ДН ПП.
Последнее, что слышали от Васи Сахара (правда, этих людей так никто и не видел), были слова, которые он произносил, дивясь их смыслу:
– Филипп, он, правда, был старше за меня на два года, говорил: «В Плутоне нет ни одного живого и здорового человека. Ни одного! Попомни моё слово. Вот чтобы у меня язык отсох и глаза ослепли». Сум, су-ум…
Можно не сомневаться, что при этом Вася сначала перекрестился, а потом отёр свои усы.
Не помогло».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.1.
У Алисы были рыжие глаза. Верите? Неправдоподобно?
Ладно, вру. Зеленые – больше устраивает?
На самом деле глаза были черт-знает-какие, практически – русые. Понимаю, что все на свете должно быть определенно, в том числе цвет глаз, но что поделаешь, если реальность срамит наши ожидания. Тем хуже для реальности?
Тогда вам лучше взять в руки другой роман. Я же ни на буковку не отойду от истины. Излагаю все так, как было. Знаю, что неправдоподобно, но так было.
И ещё запомните, пожалуйста, на всю жизнь. Если я, духовный аристократ, говорю «так было», значит, так оно и было. Если бы вы оказались одинаковой со мной породы, вы бы никогда не унизились до требования «предъявите доказательства». Вы бы знали: духовный аристократ органически не способен врать в делах чести. Вы бы знали: не верить мне – значит, унизить себя.
Этот кодекс чести кажется утопическим; на самом деле это единственная духовная реальность.
– Я женился, как и обещал, – сказал я Алисе, ковыряя десертной вилкой в пироге под названием сыромак – тот, что подают в заведении под названием «Салодкі фальварак». Алиса пригласила меня на чай в это уютное местечко, где пахнет чем угодно, земляникой, ванилью, только не катастрофой.
– Знаю. И это доказывает, что ты любишь меня: ведешь себя, как мальчишка. Ты пока не готов к любви.
– А ты готова?
– Да, – просто сказала она.
– Между нами, я так понимаю, все кончено?
Я, кажется, догадался, зачем она настаивала на этом совместном чаепитии: она изящно ставила точку над і.
– Не питай иллюзий, все еще только начинается. А когда ты созреешь, чтобы любить, ого-го… Тебя будет не остановить. Ты горы свернешь. Ты станешь таким, что тебя будет трудно любить, а не любить будет невозможно.
– А сейчас меня любить легко?
– Сейчас тебя еще по-настоящему нет. Ты пока в тугом коконе. Сгусток слизи. Белок. Ты лишь духовный зародыш, не очень симпатичный, как все зародыши, извини. Сейчас ты смотришь на меня однобоко, сверху вниз, и видишь меня в искажённом свете, а потом, когда будешь любить, ты увидишь меня в ракурсе снизу – вверх, и только тогда получишь право смотреть на меня сверху вниз… Это право надо заслужить, Платон. Сейчас ты меня не видишь, ты не знаешь цены ни мне, ни себе.
– Откуда ты все это знаешь?
– Я это чувствую.
– По-моему, ты просто блефуешь. От отчаяния и от какой-то беспросветности, что ли, ты несешь бог знает что.
– Это ты от отчаяния и от страха мне не веришь. Потому что не веришь себе.
– Как может мужчина верить шепоту женской интуиции? А? Он станет жалок! Чакры, мантры, астрал – это не для меня. Шепот, робкое дыханье, трели… Нет, с меня хватит этих пелеринок.
– Ты прав. Мужчина не может верить шепоту женской интуиции в себе. Это глупо. Ладно. Смотри, не потеряй меня. У тебя еще пока есть шанс.
– А если я опоздаю – ты превратишься в лягушку? Или станешь Татьяной Лариной? Тебя заберет Кощей Бессмертный? Куда ты денешься с планеты Земля? Ты рассуждаешь как принцесса голубых кровей, которых уже нет или ещё нет, не знаю, не уточнял.
– Ты можешь смеяться, но это на самом деле сказочный шанс. Я не Татьяна Ларина, я её умудрённая праправнучка – я буду ждать тебя изо всех сил. Но я не знаю, на сколько меня хватит. И я не знаю, куда я денусь. Возможно, меня ждет участь мертвой царевны. Я могу просто умереть от любви. Возможно, возьму и стану обычной бабой. Не расцвету. Тогда меня уже не расколдовать. И мне страшно даже не за себя, страшно за тебя. Ведь тебе нужна я так же, как ты – мне. Без меня ты не состоишься.
– Что значит «не состоишься»?
– Не будешь счастлив, станешь себя корить, тебе будет больно. И еще… Ты не совершишь самого главного в жизни. Я знаю только одно: я, к чему лукавить, по глупости выскочила замуж, сейчас я разведена и жду тебя. Я не хочу давить на тебя своим ожиданием, но я знаю, как ты будешь мучиться, если опоздаешь… Ты ведь очень умный, всё это ты со временем поймёшь, а я только чувствую.
– Что за чушь, Алиса, у меня голова пухнет от твоих слов… Ей-богу, какой-то сентиментальный бред, розовый роман в стиле аж XIX века. Пройденный этап в жизни человечества.
– И голова пухнет, и сердце болит, я знаю. Не злись. Хорошо. Пей чай, Платоша. Знаешь, как делается сыромак? Я его сама умею печь. Рецепт прост…
Она подробно, со вкусом расписывая нюансы (и тут я впервые понял, что женщина никогда не станет равной мужчине, ибо слабый пол докультурен по сути своей), рассказала мне об очень любопытном рецепте сыромака. Я слушал внимательно и, казалось, вникал во все детали кулинарного чуда, хотя на самом деле я прислушивался к недрам в себе, к разбуженному голоску, усиленному дворцовой акустикой, доносившемуся, казалось, сквозь массивные запертые двери. Я обнаружил в себе катакомбы, подземные сети коммуникаций, испугавшие меня.
После этого я сказал ей:
– Я тяжелый и… космический человек, и мне страшновато подпускать себя к тебе. Ты ведь земная женщина. Скажу тебе на твоём языке: если Везувий проснётся, лилии завянут.
Она ответила:
– Не бойся, ничего не бойся. Дело не во мне. Это ты себя к себе не подпускаешь. Так делает большинство мужчин. Но ты особенный…
И я подумал: «Совсем недавно я был убежден, что женщина – это человек, который не совершает поступков; я был убежден, что женщина умеет только мстить мужчине, которого не в силах удержать; а вот сейчас я разговариваю с Алисой – и я уже ни в чем не убежден; иллюзии рассеялись, а убеждения пока не сформировались; опыта стало больше, а уверенности в себе меньше; о, проклятая для умного мужчины полоса… Хилый зародыш. Алиса умнее меня? Женщина умнее мужчины?»
А ответил так:
– Ты испечешь мне сыромак?
– Конечно, испеку, солнце моё.
– Это меняет дело… Жизнь отдам за сыромак.
Что скрывалось за моей бессмысленной репликой я понял только тогда, когда вернулся вечером домой.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.1.
Что я помню до того, как появился на свет белый?
Как ни парадоксально – ничего. Даже темноты – хоть глаз выколи – не помню толком, хотя она, несомненно, была, как же без нее там.
А вот сны свои, которые я помню с пугающими подробностями (это с моей-то, откровенно говоря, очень средненькой памятью: уж не наказание ли мне за абсолютно смертные грехи?), всегда начинались с темноты.
(Кстати сказать, лучше всего я помню сны, которые видел во сне , если вы понимаете, о чём я. И сны во сне были убедительнейшим (хотя и пугающим!) доказательством того, что сон был больше, чем сон. Ведь то, что я видел, имело отношение к моей прошлой, вполне реальной, жизни. Уж я-то это знал. Мои сны во сне и были нитью, связывающей меня с реальностью.)
Темнота.
Я появился на свет из тела женщины.
Конечно, я испытывал к женщине бесконечное благоговение (она ведь создала меня из себя, поэтому всегда присутствовала во мне) – и вместе с тем неукротимое раздражение: зачем ты сотворила меня, если не знаешь, с какой целью ты сделала это?
Главной загадкой моей жизни был не Веня, отнюдь не Веня; главной загадкой моей жизни была женщина: женщина во мне, женщина в Вене, женщина в мире вокруг меня. Женщина стала ключом к мужчине. В том числе – ко мне.
Возможно, поэтому я воспринимал темноту как непременный атрибут женской сути. Это было что-то вроде запаха женщины или женской ауры. Темнота была для меня женским качеством.
Возможно, поэтому темнота рождала сюжеты, которые, кажется, не были воплощены в моей жизни, однако они могли быть с лёгкостью реализованы в любой момент; измени обстоятельства – и мои сюжеты из снов сразу же станут явью, а сама жизнь превратится лишь в потенциальную возможность – вытеснится в сон.
Вот почему мои сны не были жизнью, но они были частью реальности. После моих снов я уже иначе смотрел на Алису. Я постигал её всё полнее и полнее.
То, что я изложил сейчас, – это, кстати, медитация из сна. Именно медитация, сырьё для мыслей, вылепленных чуткими ладонями чувств. И я ходил по земле, наполненный снами, и сны были частью меня.
На этот раз я увидел историю, которая, если бы она случилась, случилась бы именно так, как я увидел это во сне: в этом нет никакого сомнения.
Темнота.
Из ниоткуда появляется ослепительно сияющая точка. Она кишит какими-то информационными микробами, которые размножаются в ужасающих космических масштабах. Я вдруг увидел, как некий молодой человек отделился от точки и подиумной походкой направился к моей Алисе – чтобы сделать ей предложение.
Вот вам портретик акварелью этого парня, если угодно. Облик с обложек глянцевых гламурных журналов – грязноватая поросль на впалых щеках любителя гашиша, женский разрез глаз, короткие курчавые волосы. Что-то восточное в лице: обтянутые кожей скулы? Глаза? Арабская смугловатая желтизна? Среднестатистическое нечто, профессионально сосредоточенное на том, чтобы излучать сексуальную привлекательность, транслировать мнимую раскрепощённость (такие могут носить майку с надписью «секс-инструктор», или ещё какую-нибудь пошлятину в этом роде) – нечто, разбрасывающееся предложениями руки и сердца направо-налево от неуверенности в себе, и эта его неуверенность вдруг придаёт уверенности моей Алисе. Это видно по её глазам. По интонации, которую я не слышу, но чувствую.
Почему она разговаривает с ним? Почему так легко даёт свой телефон?
Мне становится горько и больно. Ей плохо со мной? От отчаяния?
Вдруг меня осеняет (и я знаю, что прав): она всё ещё держит меня как запасной вариант (не вполне отдавая себе в этом отчёт). Развелась с мужем ради меня, заразила меня своей уверенностью – и тут такая картина. Я словно заглянул в щёлку и разглядел то, чего сама Алиса о себе ещё не знает.
Я в шоке. Мне становится по-настоящему интересно.
Я проснулся с уверенностью, что во мне пробудились способности экстрасенса. Мне удалось не мешать себе в напряжённом деле раскрепощения. Причём эта уверенность настигла меня ещё во сне, перед самым пробуждением. И не в виде внятного информационного послания – получил конверт с голубиной почтой, вскрыл, прочитал, усвоил, – а в форме неизвестно как обретённого ощущения. Поэтому когда я открыл глаза, я уже ни в чём не сомневался.
Сны не обманывали : это было аксиомой, сомневаться в которой было глупой тратой времени и сил.
Кстати: сны не только начинались темнотой, но и заканчивались ею.
Темнота.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.1.
А где же в это время была моя гордость?
При мне. Как и моя слабость…
Вот со слабости все и началось. Я приревновал Алису к её бывшему мужу.
Это было настолько глупо, настолько не в моём характере, что я до сих пор с трудом верю в реальность произошедшего.
Однажды я пришел домой, то есть в покой 117 Отеля «Плутон», раньше обычного. Алисы почему-то не было дома. Это не то чтобы взволновало меня; мне даже в голову не пришло увидеть в этом хоть что-либо настораживающее. Вернулся раньше Алисы: что в этом удивительного?
На следующий день картина повторилась: я возвращаюсь – Алисы нет.
– Где ты была? И вчера, и сегодня… – спросил я со смехом.
– А, заметил моё отсутствие… – улыбнулась Алиса.
– Так где же ты пропадала?
– Можно, это будет моей маленькой тайной? Ничего серьёзного, но мне бы не хотелось об этом говорить. Тем более, что это касается не только меня.
– Ладно, – сказал я. – Черешни хочешь?
Я был в Минске и привёз целое ведро спелой крымской черешни.
– Хочу. От неё полнеют, в ней много глюкозы, но я всё равно хочу.
– А почему бы тебе не располнеть? – невинно поинтересовался я.
– Перестань, – пресекла Алиса мои как бы шутливые поползновения. У нас не было детей, хотя, казалось, были все возможности их иметь. К нашим услугам была солидная медицинская поддержка. Алиса делала сложные обследования, но мне пока ничего об этом не говорила. «Пока не время». Я знал, что она очень переживает по этому поводу. Сам я тоже хотел иметь детей с Алисой.
Я поставил перед ней миску мытых ягод – крепких, словно отполированных, ядрышек.
– Веня попросил тебя зайти к нему.
– Барон? – удивился я. – Когда?
Обычно с такой просьбой звонил мне либо он сам, ибо его секретарша, молоденькая японка Ёсико, которой были знакомы, казалось, только эмоции робота, «озабоченного» исключительно работой. Она включала и выключала улыбку, никогда не повышала тона, носила строгие деловые костюмы и следила за секундами. Общение с ней не предполагало ничего личного. Боюсь, даже сам Маркиз и не пытался разглядеть в ней женщину.
– Завтра утром. К девяти.
– Завтра?
Здесь я удивился ещё больше. Барон не выносил моего общества в больших дозах. Мы встречались не чаще трёх раз в месяц.
– А где ты его видела?
– Была у него в апартаментах, – коротко ответила Алиса.
– У Венеры?
Алиса сделала знак рукой (ладонь резко отталкивает от себя воздух и ставит невидимый заслон): больше не хочу об этом говорить. Отношения двух сестёр – это как раз та область, в которой и я хотел знать далеко не всё.
К девяти – значит, без одной секунды девять.
Я вступаю в приёмную. Никого нет. Через секунду загорается большое зеленоватое табло: «Войдите» (на русском и английском).
Я, давно привыкший ничему не удивляться и уж тем более не проявлять чудеса тактичности (это всегда вылазило мне боком), вхожу в кабинет. За столом сидит обнажённый Барон, у него на коленях – раскоряченная нимфа Ёсико (с бесстрастным лицом). Барон сосёт у нее небольшую крепкую грудь и ничуть не смущается моим присутствием. Я видел и не такое, естественно, поэтому просто молчу. Публичный секс – это излюбленный способ Маркиза унижать людей, в упор «не замечая» их присутствия: он заставляет гостей и друзей лицезреть интимные, интимнейшие подробности и тем самым низводит всех присутствующих до уровня лакеев или крепостных, до уровня лакированной кожаной мебели, до уровня плинтуса. «Не пристало барину стесняться грубых, неразвитых холопов», – сквозит в каждом его движении. Он, словно фараон, уверовавший в свою исключительность, просто не желает замечать никого вокруг, когда дело касается его удовольствия. Это принцип его идеологии и политики. Кажется, у него нет никаких секретов от окружающих, до того он органичен – однако берегитесь: Барон ничего не делает просто так. Вся его непосредственность продиктована далеко не безобидными умыслами, против которых вы всегда бессильны: в этом его настоящая исключительность, которую он по-настоящему ценит.
– Будешь? – он предлагает мне Ёсико, похлопывая её по заднице. Та не прекращает своих медленных круговых движений.
– Нет, – говорю я, уже в который раз отказываясь от сексуальных подношений с барского стола, который частенько служит ложем.
– А что так? – любопытствует Барон, без церемоний заставляя даму менять позу и ритм.
– Мне хватает Алисы. Ты же знаешь.
Он смеётся, давая понять японке, что желает сию же секунду перейти к минету. Та исполняет всё без лишних движений, активно и проворно. Барон блаженствует. А мне видна вся её розоватая промежность.
– Вот сука, чувствует меня на клеточном уровне, а сама никогда не кончает, – говорит он о наложнице в третьем лице. Та словно не слышит его слов. Трудится прилежно, молчаливо, демонстрируя искусство устойчивого крещендо.
– Давай жопу, – хрипит уже Барон.
Ёсико опрокидывается на спину и раздвигает руками ягодицы. Маркиз почти с разбегу всаживает в неё свой подрагивающий клинок, после чего с самурайскими воплями начинает долбить её, как резиновую.
Закончив процедуру (как назвать её: секс раунд?), он набрасывает халат и утомлённо присаживается в кресло, ничего не комментируя.
– Так будешь или нет? – указывает он на Ёсико, которая сидит на столе в позе лотоса, готовая, очевидно, к любому продолжению делового утра.
– Нет, – говорю я. Меня выдают и предают хрипотца, двусмысленная пауза и совершенно неубедительный тон.
Барон улыбается. Делает вид, что доказательств моей слабости с него достаточно.
– Можешь попользоваться м…дой, я её не пялю туда, это не моя дырка, – говорит он. Ёсико не смотрит ни на меня, ни на него; она смотрит в себя .
Он делает знак, и она сползает со стола.
– Не люблю эту нацию и расу с желтизной, – говорит Барон, тыча пальцем ей в грудь. – Вроде бы, всё умеют, но жить не умеют абсолютно. Нет таланта жить. Это мусорок, генетический мусор, однако.
Он вопросительно щурится на Ёсико, великолепно владеющую русским языком. Та стоит перед ним, слегка склонив голову набок.
– Чего тебе, п…доглазая? – нервно и при этом неуверенно говорит он. – Ах, да…
Он выдвигает ящик стола (уверен: всё у него с секретами, просто так этот ящичек человеку с улицы не вскрыть), запускает туда ладонь и достаёт нечто, напоминающее пастилку. Подносит к лицу Ёсико. Та послушно открывает рот. Он кладёт ей в рот пастилку, как галчонку, и захлопывает его, поддев ладонью нижнюю челюсть. После чего теряет к ней всякий интерес. Ёсико выходит из кабинета. Я с трудом отрываю взгляд от её подрагивающей задницы, упругой и гладкой.
– Зря ты её не захотел, ещё свежая, очень даже ничего, – говорит он. – И умеет двигаться, умеет ворошить нутром, умеет манипулировать членом, освоила все эти восточные блядские штучки. Ценная шлюха. Тантрическая. С виду не скажешь. Я её министрам часто подкладываю. Никто не жалуется. А вот насчёт Алисы ты п…дишь…
Я насторожился. У нас молчаливый уговор, своего рода пакт о ненападении: мы с ним женаты на сёстрах-близняшках, Алисе и Венере, и интимную жизнь своих жён никогда не обсуждаем. Но Барон делает вид, что сию минуту ничего не знает о существовании договора. Он что-то задумал. Точнее, что-то уже предпринял. Омерзительный Адольф.
– Моя жена Венера знает и о Ёсико, и обо всех других шлюшках, посещающих этот кабинет. Она бывает здесь вместе с ними. И делает то же, что и они. При этом дает этим блядям фору. Чем твоя жена лучше моей? Она такая же, из такого же теста.
Что-то случилось. Раньше Барон никогда бы не позволил себе разговор со мной в таком тоне, и не потому, что щадил мои чувства (для этой акулы и рептилии чужие чувства – или кровавый раздражитель, лакомая слабость, или пустой звук); здесь всё гораздо серьёзнее: ему было невыгодно обижать и унижать меня. Я ему был нужен, очень нужен. Поэтому он играл на моих чувствах – делал вид, что уважает их, на самом деле презирая.
Что же произошло?
Почему он сменил тон, вернее, почему позволил себе не скрывать то, что до сих пор считал нужным скрывать?
– Что ты хочешь сказать, Барон?
Он позволяет себе философское отступление. (Позволю его себе и я, причём, прежде, нежели начнёт Веня. Он и держит меня, собственно, ради философских отступлений. Я для него – отступление, отклонение, излишество. Зачем, спрашивается, мне представлена была секс-сессия с Ёсико? Пока он был с ней, это был монолог как способ самовыражения (Ёсико он не рассматривал как субъект сознания); когда появился я (пусть и по его воле), монолог превратился в диалог. И мой сексуально озабоченный визави сообщал мне следующее: ты, конечно, вправе считать меня скотиной, но я настаиваю: мне нечего скрывать ни от тебя, ни от кого бы то ни было мои отношения с женщинами – и вовсе не потому, что я плохо воспитан, а потому, что умному человеку здесь нечего скрывать. Прятать от посторонних взгляд секс – то же самое, что требовать от человека закрывать своё тело. Это глупый запрет, и жизнь это доказала. Сегодня люди без риска дать пощёчину общественному вкусу могут позволить себе разгуливать по площадям и пляжам почти обнажёнными – и что? И ничего. Скоро секс станет таким же обыденным делом, как и обнажённая грудь на пляже. Моя вина лишь в том, что я впереди планеты всей на шаг. Так подтягивайтесь, массы.)
– Запомни: меня раздражают в жизни две вещи. Первое: любовь. Раздражает невероятно. Если она существует, то я действительно (готов допустить это – чисто теоретически) могу напоминать скотину. Второе: наличие в мире информации, относящейся к человеку, которую я, якобы, неспособен понять. Если такая информация порядка философского присутствует, то я априори превращаюсь в клоуна. Я, сука, не клоун.
Следовательно, любви нет, и нет истины, которая мне не по силам. Это моё кредо, как тебе известно. Ты – единственный человек, который живёт ради любви и ради истины (или делает вид, что живёт ради них; но если это так, если ты хоть на волос лицемеришь, то ты об этом жестко пожалеешь: я распотрошу тебя на молекулы, а с Алисой твоей сделаю такое, чего не могло себе вообразить самое извращенное воображение самого развратного из людей; и поделом, это будет твоя вина, твой грех). Я держу тебя при себе за твою уникальность. Ты дышишь только потому, что дышишь не лёгкими, как все, а какими-то жабрами. По-моему, клоун именно ты.
– Я не уловил твою мысль, Барон. (Хотя я, конечно, уловил её ещё до того, как он раскрыл рот.)
– Я хочу сказать, что пер твою жену так же, как вот эту масяню на твоих глазах. И в рот, и в жопу.
Бессмысленно гадать, правду говорит он или нет. Ни один детектор лжи в мире не уличит его. Рептилия не знает, что такое врать или не врать. Она пожирает для того, чтобы не пожирали её.
– Я тебе, конечно, не верю.
– А вот это уже твои проблемы.
– Хорошо. Допустим. Но зачем ты это сделал?
– Подопытному кролику отныне будут предлагать другую капусту. Ты меня стал раздражать своей принципиальностью сумасшедшего. Мы ускорим эксперимент. И я тебя переиграю.
Одно из двух: либо он меня пугает, как было уже не раз, либо, что гораздо хуже, он решил, что пора принимать решение, – решил покончить со мной как с гуманитарным проектом. Очевидно, случилось что-то непредвиденное. Возникла новая конфигурация обстоятельств.
– Хорошо, Веня. Ты меня можешь растоптать. Пусть я сдохну. Но ты не будешь уже держать на ладони всю вселенную, словно жемчужину, ты не будешь уже властелином всего. Ты чувствуешь, что я где-то прав, и моя погибель станет твоим поражением. Сегодня, во время эпохи диктатуры натуры, ты всемогущ. Ты – Великий Диктатор. Но если всё же возможна диктатура культуры, то неизбежно наступит другая эпоха, и ты превратишься уже не в скотину и клоуна – ты станешь никем. Кто был всем – станет никем. Это даже не трагично, это просто смешно. Если ты уверен, что эпоха культуры не наступит никогда, то можешь избавиться от меня сию секунду.
А если не уверен… Кроме меня, тебе никто не поможет разобраться с тем, что такое культура. Я тебе нужен больше, чем ты – мне.
– Пошёл на х…, – властно сказал Веня.
Но я-то знал, что это капитуляция: больше ему сказать было нечего.
– Время, к сожалению, летит слишком быстро, поэтому мы, к счастью, скоро увидимся, – сказал я.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.1.
За что бы я поставил памятник себе?
А ни за что. Просто так. Пусть стоит. Назло Алисе.
Проект памятника давно созрел в моём воображении. Представьте себе: статуя в виде мускулистого атлета с лицом, явно напоминающим ушастую луну. На ладони правой руки я держу фигурку Фантомаса (даже микрофаллос имеется, даже головка члена обнажена), готовый в любую секунду прихлопнуть и раздавить его, как лысую муху.
Как доказать Алисе, что этот памятник воздвигнут именно в мою честь?
Придётся прибегнуть к интимным подробностям, которые, кроме неё, надеюсь, никто не заметит. Да, да, всё те же вечные шифры и коды, как же без них в художественном послании. Итак…
Пальцы на ладони левой руки… В общем, они сложены в такой замысловатый бутон, что Алиса всё поймёт. Это имеет отношение к технике нашего секса. Кроме того, на туловище памятника присутствуют все девять моих родинок, расположенных замысловатой полосой от сердца – на спину (копия созвездия Скорпиона! я мог бы демонстрировать этот фрагмент звёздной карты всем желающим, и зарабатывать себе на жизнь особенностями своего тела, как это делают уродцы или красавицы); кроме того, обозначен засос в том месте, где оставила его однажды пьяненькая Алиса. Чего ж вам больше?
Памятник, на первый взгляд, был незаслужен, но официальная формулировка бы гласила: от благодарного человечества – за вклад в дело культурного строительства.
Сам я разумею под этим следующее.
Однажды к нам в гости (мы с Алисой были женаты уже девять месяцев) пришла блестящая пара: её сестра Венера с верным спутником Веней Гербицитом, с которым они жили в гражданском браке. Мы недавно справили новоселье и всё ещё находились в возбуждённом состоянии: первые жизненные успехи всегда окрыляют.
Наша квартирка Венере понравилась своим изысканным аскетизмом (в небольшой квартире – много пространства), а Веня неопределённо хмыкнул. Он был при деньгах, дела его шли в гору, поэтому двух-трёхкомнатные лачуги в большом городе даже не рассматривал как жильё. Так, место для свиданий, не более того. Он присмотрел себе загородный дом, и, вероятно, достраивал в мечтах своих дворцовый ансамбль.
Веня к тому времени меня уже изрядно раздражал. Он напускал на себя важность, окружал себя информационным туманом, любил говорить загадками и намёками. Короче говоря, лепил из себя легенду с помощью мифов. «Деньги партии» была его излюбленная тема.
– Николай Ефимович Кручина, заместитель Жоры Павлова, управляющего делами ЦК КПСС, как-то сказал: «Если и я, как Павлов, выпаду вдруг из окна, то это будет не самоубийство». И вскоре выпал из окна, как и его босс. Старику было 83 года. Он знал, что говорил. А ведь эти летающие члены партии выдали деньги самым проверенным людям, под расписочку, персонально. И где эти деньги?
Веня кривил лицо, на котором не было ни морщинки: мол, таким, как ты, этого не узнать никогда. А потом продолжал, обрабатывая пилочкой ногти (пилочку в футлярчике носил с собой всегда), что позволяло ему даже не смотреть на собеседника:
– Знаешь ли ты, на какие деньги зажигаются сегодняшние звёзды культуры? Не знаешь? Лучше тебе этого не знать. За каждой звездой, особенно в шоу-бизнесе, маячат грязные, кровавые деньги. Ты хочешь спросить, чиста ли у меня совесть?
Я ни о чём не спрашивал, однако Веня был уверен, что заданный им вопрос вертится у меня на языке и буквально лишает меня покоя. Он считал себя изумительно проницательным и общался с публикой с галёрки снисходительно, словно Шерлок Холмс с каким-нибудь доктором Ватсоном. Словно посвящённый – с дилетантом.
– Моя совесть грязна до предела, как и у всех лидеров. Совесть чиста только у тех, кто ею не пользуется. Поэтому моя грязная совесть – чиста. У меня нет к себе претензий. Я сплю спокойно.
После своего фюрерского спича (а с монолога в таком духе начиналась каждая наша встреча) он, обозначив своё превосходство, требовал себе водки.
В этот раз было то же самое. Венера сказала, что они практически сговорились в цене с хозяевами, и скоро будут переезжать в особняк за город.
– Будем заниматься огородом, будем капусту сажать, – добавила она, в стиле бурного возражения явно напрашиваясь на комплимент: дескать, куда вам, таким энергичным и деловым, ковыряться в огороде, зарывать себя в земле, вам бы с вашим пропеллером в одном месте горы сворачивать, пустыни озеленять. Строить загнивающий коммунизм или процветающий капитализм. Что-нибудь планетарного масштаба.
– Настоящий лидер сражается за истину, а не за первое место. Первое место – преходяще, истина вечна. Настоящие чемпионы стимулов не утрачивают, даже если им покорились все вершины. Даже по нескольку раз. Их подпирают другие чемпионы, которые могут достичь еще большего. Берегись того, кто принялся выращивать капусту. Бывших чемпионов не бывает, – угрожающе изрёк Веня, потянувшись в карман, очевидно, за пилкой.
– Да будет тебе жужжать, – отмахнулась от него Венера, как от трудолюбивого трутня.
Но Веня достал из кармана не пилку, а ключи от машины.
– Сейчас я принесу вам свой подарок, – таинственно заявил он.
И пошёл за ним.
Почему нельзя было принести сразу?
Нет же, всё надо обставить, как в театре. С прологом, кульминацией и эпилогом. И вешалкой. Которая начинается с буфета.
– А мой подарок будет потом, – сказала Венера. – Мы обсудим его с Алисой, правда, сестричка?
Сёстры удалились в одну из трёх наших комнат, и мне, хозяину, проявляющему гостеприимство, пришлось дожидаться Веню. Я был почти уверен, что он подарит мне щенка или черепаху. Дело в том, что в своё время я подарил ему кота – Марсика (чета мечтала завести у себя пушистую пумпусю; может, потому, что не было детей?). Теперь долг будет платежом красен, то бишь догом: Веня непременно сделает симметричный ответ, только с оригинальным отклонением. Я давно заметил: он мыслит в рамках заданной парадигмы. Вся его самобытность – это оригинальность аранжировщика, а не творца. Он не способен создавать, он способен лишь варьировать по заданным лекалам (сам того не осознавая). Я уже принялся обдумывать, кому пристроить трогательную живность (сам я небольшой любитель разводить у себя в доме флору и фауну).
Может быть, Васе Сахару предложить, соседу, садовнику из Зеленстроя?
Веня вернулся скоро. В руках у него был большой плоский прямоугольный свёрток, напоминающий упакованную столешницу или мольберт. Портрет Марсика? Это уже асимметрично.
Поскольку дар предназначался мне, я вынужден был поинтересоваться, стараясь придать унылому вопросу интонации восклицания. У меня получилось с завыванием, как у собаки, томимой предчувствием:
– Что это? (О-э-о-о?)
В ответ, разумеется, прозвучало поучительное молчание: мол, не торопись коза в лес, все волки твоими будут.
Это была картина. Веня молча содрал упаковку и дал мне возможность насладиться первым впечатлением.
Дорогой багет обрамлял холст (масло), который только условно можно было назвать картиной. Вначале на чувства зрителя обрушивался тревожный фиолетовый фон, ядовитым туманом наползавший изо всех четырёх углов. На меня давил фрагмент космоса, бесконечность которого была передана с гениальностью шизофреника. Когда я стряхнул первое оцепенение, то разглядел огромный циферблат часов, чёрный обод которого представлял собой не законченный круг, а круг разорванный, который лентой Мёбиуса ввинчивался в бесконечное тёмное пространство, сужающееся до ослепительно светлой точки. Это был композиционный центр картины. Стрелки странных часов расплавились под воздействием голубого свечения, остались только обрубленные черенки, обречённо тянувшиеся к цифре 9. Время пожиралось пространством, всасывалось в спираль-воронку – и это ощущалось просто физически. Я, впитывая жар голубого свечения, не мог оторвать глаз от светлой точки, слепившей меня и забиравшей волю. Вдруг меня тоже потащило по спирали в этот раскалённый омут неодолимым притяжением, я пытался руками зацепиться за гладкий пол – но в ту же секунду потерял сознание.
Когда я раскрыл веки, белая точка расширилась, зашевелилась – и из неё сформировался облик Алисы. Я сразу же поймал своими глазами её зрачки, вцепился в них и только после этого успокоился.
– Что со мной?
– Ты упал в обморок на девять-десять секунд, не больше. Всё в порядке.
– Где я?
– Платоша, ты у себя дома. Ты меня пугаешь. Что случилось?
Я не мог объяснить, что случилось. У меня возникло впечатление, что моя защитная оболочка (которая, оказывается, у меня была, но о которой я не подозревал), моя треклятая аура треснула, разорвалась, и внутрь моего тела-души проникла стая демонов, расположившись в каких-то пещерах, закоулках, в бесчисленных сотах, о существовании которых я и не подозревал. Я дышал, работая лёгкими, и ощущал сотовую – невесомую, пористую – структуру своего существа. Я нащупывал в себе бездонный объём, парадоксально заполненный информационной тяжестью, свинцовым сгустком картинок и впечатлений, которыми я был накачан там, в той части галактики, где господствовала светлая точка. Где я побывал?
Это сложно выразить, не впадая в маразм. Об этом, как правило, молчат (кому хочется выглядеть умалишённым?). Я упал в обморок ещё непуганым молодым человеком, а пришел в себя уже почти зрелым мужем, в глазах которого угадывалась спираль того самого разорванного циферблата.
И за это время – девять секунд! – я узрел во всех подробностях то, что в изумлении разглядываю всю оставшуюся жизнь…
В общем, всё это изложено в романе.
Почему, кстати, в романе?
А потому что фактически изложенное в нем является правдой, а юридически – вымыслом. Меня такое положение вещей по многим причинам устраивает. В частности, по такой причине (а проговорюсь, устрою-ка утечку информации). Структурный принцип романа, воплощающий формулы «капли океана» (эпизоды как моменты целого) и «матрешки» (одна история внутри другой), отражает не только структуру личности, сознания, но и саму структуру вселенной. Роман рождается и развивается так, как рождается, развивается и деградирует вселенная. Это моя безумная версия.
Роман – модель атома.
Роман – модель ДНК.
Роман – модель сознания.
Роман – модель Вселенной.
Чем не информационный пир горой!
А еще по каким причинам, а еще почему?
Тем, кто дочитал роман до этой строчки, кто, видимо, также принадлежит к породе заколдованных, а иначе сказать, приговоренных добираться до сути вещей, им, этим странным людям, надеюсь, мало-помалу становится понятно, что вовремя и с тонким умыслом ввинченное «почему» может превращаться в форму идиотизма.
Иногда лучше оставлять вопрос без ответа.
Так понятнее.
Рядом гудел Веня. Он требовал водки. Говорил, что картина называется «Время», автор неизвестен (подпись искусно замазана, завуалирована под облачко космического тумана). Как живопись это не ахти (знакомый художник просветил); а вот как элемент интерьера, как философски нагруженная иконка, вполне может подойти для моего кабинета, где витает эвристическая энергетика. Последний писк моды. Тем более для такого умища, как у меня.
Моё состояние Алиса объяснила гостям переутомлением: накануне я много работал над монографией под кодовым названием «Ad astra». А картину мы с благодарностью принимаем.
Обычный мир, не меняя своих параметров, окружал и обволакивал меня. Однако проникшее в меня новое знание уже не отпускало, напоминало о себе неприятной тяжестью и тем самым пыталось управлять моим существом. Агрессивная природа нового знания не вызывала сомнений.
Конечно, памятник я заслуживал не за это. Тогда ещё я не помышлял ни о каком памятнике. Но без этого кратковременного улёта (вещего сна?) сама идея памятника даже не родилась бы. Я нажил себе беду, как в сказке, каким-то неосторожным движением души, и теперь мне предстояло избавиться от кощеевых чар.
Или, о чем сказки с обреченно счастливым концом предпочитают умалчивать, так и остаться навсегда заколдованным.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.1.
Потому что мне не понравилась его улыбка.
Не понравилась – и все тут. Гадкая. До ушей. Больших. Наполовину закрытых волосами. Грязными. Которые он то и дело взрыхлял тонкими пальцами. С траурной каймой под ногтями.
Тьфу три раза – не моя зараза…
Этот итальянец, подозрительно напоминавший цыгана, считал себя Астрологом. Это был лучший в мире предсказатель. Он с пугающей точностью и простотой предрекал катастрофы, аварии, цунами, казалось, насквозь видел человека.
Веня выписал его из Венеции.
Он беспрестанно лопотал, как мне казалось, на ломаном итальянском. Любое свое действие он сопровождал нескончаемым комментарием.
Само по себе лопотание могло бы выглядеть и смешным; но когда под это словесное журчание он угадывал все подряд, звуковая аранжировка становилась неотъемлемой частью ритуала – слегка нагоняла священный трепет.
Астролог указал на сосну, на которой недавно болтался Аспирин; он указал на его могилу; угадал, в каком укромном уголку располагается кладбище Марсиков; подробно описал венечкино прошлое (чем, собственно, и завоевал расположение Босса); где надо – преклонил колени, поджал хвост, а где и напустил пафосу.
– Знакомься, – сказал мне Веня, представляя вещуна из Венеции. – Астролог.
– А это Платон, – небрежный жест в мою сторону.
Астролог протянул мне руку и, видя, что я не спешу его приветствовать, дал волю языку, всячески помогая себе жестикуляцией. Рукам и пальцам нашлась работа. Глаза его при этом, маленькие белые блюдца с маслинами посередине, вращались не переставая.
– Ты не рад знакомству? – спросил Веня под ломано-итальянский аккомпанемент.
– Не рад.
– Почему?
– Потому что мне не нравится его улыбка.
– А что, собственно, не так?
– Прорицатель и при этом плохой человек – это гремучая смесь. Агент черных сил.
– Да ладно. Забавный малый. Живчик.
Было ясно, что Вене важен сам факт контакта этого «живчика» со мной, объектом и носителем информации; и чем дольше Астролог пребывает в моем обществе, тем больше у него шансов выведать обо мне то, что интересует Барона.
Видимо, Веня всерьез принимался за меня.
– Но, но, но, – между тем заверещал иностранец на повышенных тонах.
– В чем проблема? – спросил Веня так, будто он всю жизнь думал и говорил исключительно по-итальянски.
– Это не он, это не он! – подытожил Астролог по-русски с явным румынским акцентом.
– Уверен?
– Конечно, о, конечно! Абсолютно!
Никто не спешил мне ничего объяснять, а я считал ниже своего достоинства требовать объяснений у столь сомнительной публики, которая нагло мною интересовалась.
– Все хорошо, все хорошо! – сделал ладошкой жест одобрения и одновременно отстранения забавный малый, улыбаясь мне.
– Да пошел ты, – сказал я.
Веня потерял ко мне всякий интерес.
Так я познакомился с Астрологом.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.1.
Осень. Вечер. Прохладно.
На глазах созревает, наливается спелым золотым цветом полная луна. Она в дымке – то ли прячется от любопытных взоров (которые сама же и притягивает), принимая очертания светлого облака, то ли кокетничает, размашисто прикрываясь белой газовой косыночкой.
Так или иначе, полная луна становится символом муторной мути, царящей в жизни вообще и на душе отдельно взятого меня.
Кажется, пора объяснить кое-что из того, что я сам пока ещё понимаю.
В девятисекундном ролике (я о своём роковом обмороке) я прожил целую жизнь, и я отношусь к ней как к реальной жизни, которая по каким-то причинам пока ещё не состоялась. Или состоялась, промелькнув двадцать пятым кадром в сознании всех её участников, – поди докажи.
Так или иначе, у меня нет сомнений в её подлинности и реальности. Она либо была, либо будет, либо уже начинается. И на Алису, и на Веню, и на Венеру, и на себя я смотрю как на людей, с которыми прожил (проживаю?) ту самую невероятную жизнь.
И это не мешает мне воспринимать их живыми здесь и сейчас.
Что-нибудь понятно?
Итак, вот что я узнал о них «там» (как назвать то место, некий смысловой центр, Виртуальный Институт Вероятностей, которого нет на известных людям картах и где сосредоточены – кишмя кишат! – реальные варианты судьбоносных поворотов событий, что случаются в жёсткой причинно-следственной сцепке лишь однажды, превращаясь в окаменевшую историю, которая, по наивному убеждению жителей Земли, не знает сослагательного наклонения (слишком часто остроумное, но неглубокое замечание, брошенное мимоходом, становится убеждением миллионов)?) – узнал то, что они сами о себе, возможно, не знают и не узнают никогда.
Сослагательное наклонение – мать реальности.
Действие предлагаемого повествования происходит в Беларуси, в лесах под Вилейкой, рядом с огромным Вилейским водохранилищем, искусственным озером, тянущимся в длину на 9 километров (кто не знает это место? его знают все). Это абсолютно точно, только не спрашивайте, почему именно там. Я расскажу о многих вещах и явлениях, разумно объяснить происхождение которых я не в состоянии.
Но это не значит, что их не было!
Они были – вот в чем проблема. Это даже не проблема – это вызов разуму человеческому.
Буквально в дебрях лесов, в котловане, идеально круглом, словно полная луна, напоминающим кратер или вмятину от огромного пушечного ядра (от той же Луны, например), построен огромный Центр цивилизации (Це-це), практически городок, с имением Вени посередине (здание главной усадьбы исполнено в полузабытом стиле конструктивизма: напоминает летающую тарелку – так сказать, круг в круге, Центр в Центре) – по документам дурацки именуемое Дворец Натуры (про себя я называю этот бедлам Диктатура Натуры). ДээН. Официальное название – ДН «Планета Плутон». Здесь бывает достаточно много гостей, которых доставляют исключительно по воздуху, на частных самолётах (рядом с Центром – сверхсовременный аэродром), так что дороги сюда по суше они не знают.
Чаще всего, это бывают нужные и весьма важные люди, которые прилетают по делам; однако почти всегда они становятся участниками экспериментов, о которых даже не догадываются. Каких экспериментов?
Если бы я в точности знал об этом, то меня в лучшем случае ждала бы участь невыездного Васи Сахара (от которого – печальным облаком воспоминаний – осталось несколько забавных легенд). В кругах здешней властной элиты я считаюсь человеком малоосведомлённым, с ушами погружённым, как и положено замороченному гению, в свой сегмент деятельности, и, конечно, неспособным на подвиг элементарной систематизации – объять необъятное, охватить взором все структурные ячейки ДН (где, на взгляд постороннего, царит весёлый нестрашный хаос), представить себе Центр как целостный организм, работа которого подчинена определённой, тщательно законспирированной цели. Я считаюсь человеком не опасным, беззлобным, неамбициозным, который по капризу и слабости Босса незаслуженно занимает отчасти привилегированное положение, – чем-то вроде Марсика, только моя разновидность – сладкоговорящий кот-баюн. За глаза меня презрительно называют «Кот Платон». Меня побаиваются за то, что я пользуюсь уважением Барона, и не уважают за то, что я не стремлюсь использовать ниспосланный мне дар богов, то есть, своё влияние на него, в полной мере. Моё сомнительное бескорыстие раздражает, и, несмотря на то, что я не участвую в борьбе за власть, не лезу в дела, от меня рады были бы избавиться в любой момент – как от фактора риска. Положение моё сильным мирка сего представляется неустойчивым, и я, парадоксально наделённый статусом неприкосновенного, словно любимый шут, вызываю снисходительные улыбки, которые дурак должен принимать за доброжелательность.
Не уважают, презирают, ненавидят, побаиваются, не понимают (что вызывает некоторое уважение). Меня это вполне устраивает: положение моё – статус тёмной лошадки (всё-таки свояк самодура-босса, что ни говори) – в некотором смысле исключительно. Я один из немногих, у кого есть доступ к телу Барона и кто при этом не контролируется спецслужбами (как шлюхи Вени, например). Мой роман с властью волнует мне кровь.
Я знаю и вижу многое из того, что не должен видеть и знать. Веня, не стесняясь и не опасаясь меня (очевидно, босс во многом разделяет отношение ко мне своей челяди – возможно, бессознательно программирует такое отношение: он всегда с удовольствием рад указать мне на моё скромное место в иерархии отношений в этом мире), выбалтывает мне топ-секреты пачками.
И действительно: что мне делать с этими секретами?
Я точно знаю: научное ядро ДН – система автономных лабораторий (только не знакомые друг с другом спецкураторы, подчинённые куратору Генеральному, ставленнику Барона, видят относительную взаимозависимость и взаимообусловленность исследований), где ведутся ничем не ограниченные эксперименты: разрабатываются новые технологии по всем магистральным направлениям современных знаний, поделённых на естественно-научный и гуманитарный блоки. Колоссальные исследования ведутся в области генной инженерии, на уровне ДНК; не забыт нано-уровень и информационные технологии; особый почет математике; в медицине, где активно используются наработки врачей Третьего рейха и японских нацистов – в частности, чудо-таблетки, местный продукт, содержат явный германо-японский компонент; в области психологии, где тайные разработки КГБ, связанные с экстрасенсами, телепатией, ясновидением – давно уже не тайна; сама психология давно стала уже нейропсихологией; массмедиа, политтехнологии – всё это также изучается в определённом ракурсе; наконец, создаются новые философии. Да, да, Шопенгауэру и не снилось: философии – на поток. Под прикрытием легальных исследований ведутся исключительно нелегальные. Проводятся бесконечные семинары для каких-то астрологов, шаманов, прорицателей – черт знает кого, вся экстрасенсорная муть и нечисть весьма даже жалует ДН «ПП» – Plutos, как изволят выражаться иностранцы.
Словом, есть только видимость хаоса, за которой легко различается точка приложения всех сил цивилизации: человек, homo economicus (тело и душа человека, и – отдельно – интеллект), но не личность, homo sapiens; в проблему разумно-духовных технологий, в проблему духовного производства личности, не вкладывается ни цента.
Кстати, о деньгах…
Беларусь, как известно, – центр Европы. Но в ходу здесь не евро, а золотые червонцы, напоминающие отлитую луну. Так и говорят: эта танцовщица обойдется вам в девять лун. И лунатикам, то бишь олигархам, есть где тряхнуть мошной: к услугам гостей небольшой, однако исключительный по степени оснащённости специализированными методиками развлекательные центры, луна-парки (как правило, филиалы все тех же лабораторий). Все те, кто окружает Веню, состоят клиентами банков, где на вклады набегают бешеные проценты. На одну луну – пол-луны годовых.
Есть даже своё телевидение, которое благопристойно популяризирует деятельность ДН. И его зрители, не подозревая об этом, становятся участниками экспериментов.
И все это обустроено на деньги Венички, который, выражаясь пафосно-деревянно, не верит в духовные возможности человека (личности); однако, чтобы придать своей вере философскую легитимность, Босс согласился поставить всемирно-исторический эксперимент, который, к тому же, он воспринимает как турнир, приносящий ему немалое удовольствие, ибо победитель заранее известен.
Это версия, в которую должен верить я, главный участник всемирно-исторического эксперимента. Какие цели на самом деле преследует Веня с помощью ДН ПП, я могу только догадываться.
Моя проблема в том, что я – догадываюсь.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.2.
Когда я почувствовал, что в моей жизни на правах полновластной хозяйки присутствует судьба?
Глупый человек не сможет разглядеть судьбы – в лучшем случае он увидит злой рок. Судьба не прячется, но она открывается тому, кто умеет понимать, кто воспользовался возможностью стать личностью. Только открыв для себя, насколько ты обложен законами со всех сторон, ты обретаешь реальную свободу, и от того, как ты распорядишься ею, и будет зависеть твоя судьба.
Иначе сказать, судьба всегда в твоих руках; однако от тебя требуется делать не то, что хочется, а то, что должно.
В этом и заключается суть творчества. Жизнетворчества. Удовлетворять самые неистовые желания в рамках несвободы – самое жалкое рабство, которое рядится в одежды своеволия и бунтарства. Жизнь такого человека не отбрасывает тень судьбы; он лишён судьбы, жизнь его имеет траекторию жалкого существования, которое имитирует линии судьбы.
Это и только это называется ирония судьбы: когда судьбы нет, а кажется, что – в избытке. Линий – хоть отбавляй.
Присутствие в своей жизни судьбы я ощутил тогда, когда понял, что я свободен; а почувствовал себя свободным тогда, когда близко познакомился с Веней; а с Веней я стал сближаться с того момента, когда он ткнул пальцем в серебряного скарабея и спросил: «Это что за насекомое?»
Мой вывод таков: у несвободного человека не может быть судьбы. Можно было бы сказать – всё начинается со свободы; но с чего начинается свобода?
Она начинается с отделения функций разума от функций психики. Ум – вот подлинная точка отсчёта в человеческом пространстве (пространстве физическом, социальном и ментальном). Если что-то и начинается для человека, то начинается всегда с качества ума.
Поэтому всё на свете проще, нежели могло показаться умным, но гораздо сложнее для понимания, чем это представляется дуракам.
Я помню стук судьбы в ворота моей обители. Тук-тук.
«Любовь, о которой столько говорят, в которую хочется верить, но редко удается увидеть в жизни, которая манит, словно клад искателей сокровищ, о которой знает каждый, но которая редко (так, чтобы только напомнить о себе, поманить, заставить поверить в то, что она существует) становится реальностью, – так вот любовь, как ни странно, есть на белом свете. Да, есть.
Почему же любовь – невидимка?
Все дело в том, что чувство любви дано пережить крупным личностям, удел которых не просто прожить жизнь, но – обрести судьбу. Те, кто испытали любовь, – знают, что такое судьба. Те, кого любовь обошла стороной, даже не подозревают, что они горестно, хотя и деликатно, осведомлены о присутствии в мире силы, называется которая «не судьба».
Вот в таких простых координатах проходит – пролетает! – жизнь человека.
Для любви необходимы венцы творения: умный мужчина и тонко чувствующая женщина. Всех остальных просят не беспокоиться по поводу любви. Существуют, в конце концов, секс, эротика, либидо – обойдетесь. Для продолжения рода стимулов достаточно.
И если женщина чувствует тонко, она рано или поздно, через общение с мужчиной, усваивает две библейских по значимости заповеди (которые и умный мужчина-то вырабатывает с величайшим трудом, и то – в пору зрелости): принимать умного и порядочного, следовательно, всегда в чем-то талантливого мужчину таким, каков он есть, гениальным и в то же время сложным и непонятным в общении (ни в коем случае не унижать его подгонкой под всеобщий аршинчик – не ожидать от него блестящих, как все дешевое, доблестей пустых рыцарей), и не навязывать ему своих проблем (не превращать его в инструмент решения своих проблем, заставляя испытывать чувство вины по поводу того, что он невольно обманывает ее ожидания). Принимать и не навязывать.
Надо окружать его заботой и стараться делать общение праздником, – то есть, поводом испытывать радость обоим. Не надо покушаться на свободу любимого мужчины, не надо бояться оставить его наедине со свободой, иначе он перестанет быть тем, кого нельзя не любить. Любовь – это искусство удерживать свободой. Не надо бояться избаловать его излишним вниманием: умного мужчину невозможно испортить любовью. А если мужчина раздражает вас тем, что он озабочен самопознанием, «самокопанием», недостаточно вас ценит…
Значит, не судьба. Любовь не состоялась. Мужчине не нашлось пары. Он может испытывать безответную любовь – но это всего лишь отчаянное стремление к идеалу (что весьма смахивает на карикатуру на любовь).
А бывает, что и женщина не может найти себе достойного спутника – и тоже начинает испытывать безответные чувства к нему, тоскуя, в сущности, по идеалу. Она в принципе готова воспринять главные заповеди – но нет рядом того, кто это смог бы оценить. Увы…
Для умного мужчины любовь занимает место в ряду таких ценностей, как истина, добро, красота и производных от этого духовного и гносеологического корня сокровищ свобода, творчество, счастье . Любовь – это эмоционально-психологическая ипостась истины, свободы, творчества и счастья. Другими словами – результат работы одаренного человека над собой, его духовный багаж, отлаженный строй мыслей и чувств.
Вот почему к умному мужчине надо тонко приспосабливаться – но ни в коем случае не узурпировать его культурные функции, его бремя и каторгу, через которые он приходит к вещам, излучающим духовное сияние. Зачем! Это путь к разрушению гармонии. Тонкая женщина это чувствует – что и делает ее мудрой, хотя и счастливо лишенной ума. Широта натуры мужчины (ум) и женщины (тонкость) должны быть сопоставимы. Тогда мужчина и женщина усиливают достоинства друг друга, чем делают понятие «широта натуры» практически беспредельным.
И это пугает: попробуйте-ка все время укрощать бесконечность.
Вы все еще хотите любви? Уже нет? Возможно, вы правы…
А вот умный мужчина и тонкая женщина всегда стремятся к любви, они рискуют, конечно, но не могут поступать иначе: это было бы неразумно.
Причем здесь весна, соловьи, удушливый аромат сирени и зашкаливающий пульс вкупе с потоотделением?
Все это может быть, конечно, началом подлинной любви, но само по себе является, скорее, ее суррогатом, общедоступной альтернативой.
Попробуйте написать рассказ о любви, не написав того, что я сейчас написал и что, конечно, в рассказ никак не помещается, словно инородное тело в чуждую среду. Как любовь отталкивает разумное к ней отношение, но не может обойтись без него, так и рассказ органично не совместим с аналитикой, удалить которую, однако, можно только с глубиной».– Что это такое? – спросил Веня, небрежно распустив листки веером, что он обычно лихо проделывал с денежными купюрами.
– Это начало одной моей работы; продолжением стала моя жизнь, поэтому перед тобой только отрывок. Возможно, когда-нибудь завершу свой опус. А может, и нет. Во всяком случае, для этого необходимы такие стимулы, которые у меня сейчас отсутствуют. А что тебя так взволновало?
– Меня взволновало, как ты изволил выразиться, то, что в этой твоей галиматье для меня, живого человека из плоти и крови, в котором и страсти бушуют, и мысли водятся, – для меня нет места. Я читаю и чувствую, что это приговор таким, как я. Ты взял и сделал меня – походя, небрежно, без тени сомнения – человеком второго сорта. Этот бред твой философский – просто вызов мне. Ты меня презираешь?
– Да при чём здесь ты?
– Не увиливай от ответа. Если ты так думаешь, значит, презираешь меня. Я, да будет тебе известно, совершенно иначе смотрю на отношения между людьми, на отношения с женщинами.
– Ты имеешь полное право быть самим собой.
– Нет, нет, будь достоин того, что написал. Метишь в небожители – так не прикидывайся овцой. Не унижайся.
– Допустим, я мечу в небож-жители – именно потому и вынужден прикидываться овцой; тебе такое не приходило в голову?
– Ладно. Пусть. Такого унижения и оскорбления я ещё не переживал в своей жизни. Жил, жил как белый человек – и в один момент меня сделали чёрной костью. Быдлом.
– Я не собирался никого унижать или оскорблять; это вообще писано не для тебя.
– Дозволь слово молвить. Я не желаю тебе счастья или несчастья; я хочу пожелать тебе другого: чтобы то, о чём здесь написано, стало стержнем и принципом твоей жизни. По идее, ты не должен быть против – если ты, конечно, не врал, когда писал.
– Я не врал.
– Очень хорошо. А я желаю убедиться в своей правоте – желаю полюбоваться, как будешь ты раздавлен накликанной катастрофой, ибо ты вызвал силы, которые лучше не будить… Давай заключим пари.
– Какое пари?
– Если ты прав, и я живу жизнь бессмысленную и ничтожную, то я готов пустить себе пулю в лоб. Я же планктон, верно? Ты – Платон, а я – планктон. А планктон измеряется не единицами. Счёт идёт на килограммы, тонны, кубические метры, футы. Коэффициент IQ – это к таким, как ты; мои параметры – рост метр девяносто, вес девяносто девять килограммов. У безмозглой половины человечества еще проще: девяносто – шестьдесят – девяносто. Но если выяснится, что прав я, тогда пусть пуля, пущенная твоей рукой, проломит твой уникальный черепок.
– Как это выяснится, как, Веня?
– Это выяснится само собой. Через девять лет. Секундантом у нас будет судьба. Дама почтенная, с репутацией безупречной. Возражения есть, господа?
Так сказал человек, который, по-моему, не имел никакого представления ни о судьбе, ни о счастье, ни о любви.
Но самое замечательное заключалось отнюдь не в этом; самым удивительным было то, что я – без раздумий – согласился и принял это дикое пари.
Пока без комментариев.Казалось, он сделает это легко (я почему-то думал о себе в третьем лице): даст уговорить себя, убедить, что любовь к Ней прошла, исчерпала себя. Сколько же можно мучиться!
Он был уверен, что этот фокус, если приложить некоторые усилия, пройдет с любой женщиной. Как змея меняет кожу, так и он обновит строй чувств. И два условно печальных ангелоида под белы ручки стройными ногами вперед вынесут Её светлый облик из врат его души. Прощай, моя любовь. Это было незабываемо, детка.
Здравствуй, новая надежда.
Не тут-то было. Бесполезные уговоры с пошлым набором неотразимых аргументов уже смешили его, ибо он начинал понимать: эта кожа снимается вместе мясом.
Втайне изумляясь собственной невменяемости, он все больше и больше уважал себя, и обретал уверенность.
Именно катастрофа и петля вернули ему уверенность.
Он знал, что достоин любви вообще, Её любви в частности – как знал и то, что любви не будет.
Но с этим можно было жить. Можно.
Но вот стоило ли?
Именно в этот момент Веня бросил мне вызов, то самое треклятое пари.
Уже после того, как я принял его, я спросил:
«Веня, как я сделал предложение той женщине, с которой я сейчас живу и с которой собираюсь разводиться?»
«А ты не делал ей никакого предложения» (кривая загогулина).
«Каким же образом я оказался женат на ней?»
«Думаю, это она сделала тебе предложение. А почему ты спрашиваешь об этом меня?».
«Сам знаешь», – загадочно выразился я.
Слабость и ничто другое делает людей загадочными.
Загадочность – всего лишь способ защиты, неспособность принять ясность и определённость.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.2.
Итак, я пришел к себе в номер, положил на язык таблетку и запил ее водой. Я знал, как действует Венина таблетка: она усиливает, укрепляет состояния, в которых нуждается организм. Если хочется спать – ты выспишься наилучшим образом, отдохнёшь так, будто целый месяц провёл на Мальдивских Канарах. Если тебе нужно поработать мозгами, голова станет ясной, как божий день. Необходима активность физическая – тебе обзавидуется и Геракл, автор самого пикантного подвига в истории человечества. Желаешь снять похмелье – лучшего способа не найти: вмиг станешь трезвее трезвого.
Короче – действует избирательно, но всегда позитивно, обнаруживая слабые места и мобилизуя ресурсы организма для решения неотложных задач.
Вот почему каждое утро Веня был бодр и свеж, несмотря на регулярные оргии. И его приятели смотрели на его с большим уважением: в их глазах он давно уже приобрёл репутацию супермена.
Однажды после разудалой попойки с Веней, напоминавшей, как всегда, последний в мире шабаш, я проснулся в тёплом предбаннике, один. В камине догорали дрова; вся компания перебралась в главный гостевой коттедж, а я остался (сознательно?) в роскошном банном комплексе, который располагался в стороне от других строений.
Сделав усилие, я принял сидячее положение на деревянной кровати, застланной какой-то кошмой. О прямохождении и речи быть не могло: до морса – вот он, рукой подать, – было не дотянуться. Минут десять провёл я в прострации. Голова раскалывалась и ныла, раскалывалась и ныла, чувство вины, растравленное стыдом, а также характерное для таких состояний запоздалое раскаивание (отсюда уже рукой подать до идеи наказания – до божественной протоидеи), набросились на меня как пираньи и образцово-показательно пожирали меня в назидание потомкам. (Зря, кстати: чужие ошибки не столько учат, сколько привлекают неразумных очевидцев.)
Было очевидно: я потерял над собой контроль. Сил сопротивляться «абсолютной нравственности» не было, и я старался быть распятым своими же руками достойно. Старался не поддаваться греху отчаяния.
Вдруг отворилась дверь – и вошёл свежий Веня, самый нежеланный свидетель дурацких мук моих (но он-то наверняка предвкушал зрелище, и просто не мог его пропустить). Вошёл, взглянул на меня и сказал: «Понятно».
Это прозвучало примерно так: он (я, то бишь) такой же, как все; он ничем не лучше других; он такой же слабак, который мне в подмётки не годится. Лузер.
Стыд и раскаяние вновь показали мне свои длинные языки.
Но Веня на сей раз был великодушным палачом. Он достал пилюлю (где-то в поясе у него была вшита таблетница), разломил её надвое и подал мне.
– Что это?
– Цианид.
Впрочем, мне было всё равно. Вопрос я задал так, из вежливости, а также из чувства приличия: хотелось предстать перед хозяином не окончательной свиньёй.
Таблетку я проглотил (не помню, как).
Минут через десять («через девять, секунда в секунду», – заявил Веня) я переродился. Живая вода – просто парное молоко по сравнению с этим колдовским зельем.
Первое, что вернулось ко мне вместе с крепостью мышц, – чувство уверенности и отдельно чувство уважения к себе. Сразу два, нет, три чувства. Я отчётливо вспомнил всё, что было накануне, и обрёл почву под ногами: мне нечего было стесняться самого себя. Кажется, я относительно чистым выбрался из Содома и Гоморры (вопрос «а стоило ли появляться в этом вертепе?» был решён заблаговременно: стоило; так было надо). Я поблагодарил Веню (он лукаво улыбался), позвонил Алисе и стал раскланиваться с хозяином.
– Рекомендую уложить в постель Алису прямо сейчас.
– Что ты хочешь этим сказать?
Я уже был в состоянии оберегать свою личную жизнь от любого нескромного вмешательства.
В этот момент в предбанник вошла Венера в чёрном купальнике (ёе сходство с Алисой заставило меня вздрогнуть и покраснеть), за ней – очень здоровая, белотелая девушка, идеальная натурщица для купальщицы, с выбритым лобком и молочными железами таких размеров, что их разводы напоминали мордашку упитанного младенца.
Веня сбросил с себя халат и указал на разногабаритных и разномастных спутниц – на то, что было тайным смыслом его слов. Впечатляло. Женщины смеялись.
– Присоединяйся, – сказал Фантомас.
– Оставайся, – по-свойски сказала Венера, не глядя на меня, но и не сбрасывая пока лоскутков купальника (кусочки обгоревшей ткани на смуглом теле). Она была в облике жгучей брюнетки, ногти её были выкрашены в чёрный цвет.
Во рту у меня пересохло. Венера не просто была похожа на Алису – она была страшно на неё похожа, была её двойником, и глаза прятала точно так же, как это делала бы Алиса. Здоровая девушка (работающая под псевдонимом Прасковья, как потом выяснилось) навалилась на меня и вдавила в кошму под визг, хохот и аплодисменты честной компании. Когда я выбрался из-под неё, хохот усилился: моё мужское достоинство – ракетоносец, рвущийся в небеса – предстало их взорам во всей красе. Женщины аплодировали с особым чувством. Фантомас выжидающе улыбался.
Когда я выходил из предбанника, напоминавшего уютный банкетный зал и альков одновременно, Венера стояла уже обнажённой перед Прасковьей, к которой сзади козлом подбирался Барон. Моей особой, судя по всему, никто особо не интересовался. Их сознание уже было изменено .
Я устремился к Алисе. Мне так важно было обнаружить её в другом месте, убедиться, что она – это не Венера. (Это смешно, я знаю; но иногда ничего с собой не поделаешь, пока не убедишься в очевидном, не требующем никаких доказательств.)
Мы провели с ней в постели весь день. Нам было хорошо, просто замечательно, но мне никогда больше не хотелось повторять этот трюк с таблеткой. Было в нём что-то неестественное и стыдное – словно к нам с Алисой присоединялся некто третий, благодаря которому мои сексуальные способности усиливались в невероятной степени. Я уже был не равен себе: в чём-то лучше, а в чём-то и хуже. Под воздействием этих микстур натура во мне стала перевешивать культуру. Кстати, не могу сказать, что Алиса была в полном и окончательном восторге; нам бывало и лучше, ох, как бывало; её, скорее, несколько раздражала моя «не моя» сила. Стоит ли быть сильнее, чем ты есть на самом деле? У чужой, взятой напрокат силы нет неистощимого резерва – твоей слабости, которая позволяет оживить культурный потенциал, то, что женщины ценят в мужчинах больше всего. Пьют таблетки лишь те, кто испытывает проблемы с разумом – кто не делает его центром своей вселенной. Стимуляторы для мыслящего человека унизительны.
Вынужден вернуться к началу начал: во всём соблюдай меру.
Долгое время я таких таблеток не пробовал – впрочем, Веня и не предлагал. В тот раз он просто приоткрыл занавес, чтобы я мог оценить масштаб его могущества.
Он, как всегда, запугивал. Подавлял. Побеждал.
Он на самом деле был Великий Диктатор.
Вене-Дикт.
Итак, я проглотил таблетку…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.2.
«Когда Филя пришёл в себя (о нём, увы, нельзя было сказать «открыл глаза», ибо вместо глазных яблок и зрачков у него были пустые глазницы, прикрытые дрожащими веками), то первым делом попросил ручку (жестами) и, получив короткий толстый тёмно-синий карандаш, написал в приобретённой по такому случаю школьной тетрадке большими печатными буквами, вкривь и вкось: «УБЕЙТЕ МЕНЯ, БЛЯ БУДУ. ПОЖАЛУСТА. МАЛЮ».
Вместо этого его взбодрили, оживили и заставили говорить (под воздействием препаратов, сам Филя по доброй воле наотрез отказывался сообщать что-либо заботливому палачу Барону).
По поводу «говорить»…
Во рту у Фили шевелился только обрубок языка; по воле всемогущего Барона для важного свидетеля раздобыли специально для подобных случаев разработанную компьютерную установку, которая считывала гортанные мышечные импульсы и воспроизводила звуки русской речи – «разговаривала» подобием человеческого голоса, чем-то напоминавшим монотонную электронно-механическую воркотню пришельца (зелёного или фиолетового, как водится).
– Кто выколол тебе глаза? – был первый вопрос Босса.
Веки у Фили задёргались, тело напряглось, покрылось испариной и изрекло с модуляциями чревовещателя:
– Ведьма. Ведьма.
– Спокойно, Филя, расслабься – сказал Барон. – Как она выглядела?
Утробный голос бесстрастно сообщил:
– Красивая баба.
– Одета в чёрное, космы, клыки?
Филя отрицательно покачал головой:
– Сиськи и нежные пухлые руки.
– Этими руками тебе и выкололи глаза?
– Нет.
Филя вновь несогласно дернул головой.
– Чем же?
– Ничем.
– Поясни.
– Они просто взорвались. Лопнули, как воздушные шарики.
– Больно было? – сочувственно спросил Барон.
– Не знаю, – глупо сообщил чревовещатель.
– Так. О чём вы говорили?
Тело вновь напряглось и заскрипело.
– Давай, Филя, давай. А то я тебе яйца отрежу.
– Их уже нет, – чёрный юмор неплохо сочетался с нечеловеческим спокойствием звуков.
– Когда это произошло, Филя?
– Секунду назад.
Встревоженный Барон распорядился. Филю тут же осмотрели (догадка больного полностью подтвердилась: он был лишён самого ценного по самое некуда, однако обошлось без вульгарного кровотечения – чудеса!) и обнесли его просторную комфортабельную кровать щитами, лучше сказать, специальным защитным экраном, ограждающим от излучений всякого рода, – получилась комната в комнате, квадрат в квадрате. Всё строго по космическим технологиям. Там-то, возле прямоугольной кровати, и продолжалась волнующая беседа.
– Филя, меня очень интересует вот этот бесконтактный способ общения, гм. Что говорила тебе ведьма? Я пришью тебе язык, восстановлю всё, Филя. Накуплю тебе лучших тёлок на пять лет. Хорошо, продлю телок на десять. Только дай мне информацию. Такие свидетели, как ты, на вес золота.
– Я хочу Ведьму, – сказало то, что говорило вместо Фили.
– Которая отхватила тебе всё твоё хозяйство с языком впридачу?
– Да, – был звук.
– Филя, блядь, ты в своём уме?
– Да.
В этом месте Филя впервые улыбнулся – пустым чёрным ртом и оскаленными зубами.
– Как она выглядела, твоя Ведьма? Голая?
– Нет. В вечернем платье. Светлые волосы, голубые глаза. Декольте. Пахнет духами.
– Какими?
Филя пожал плечами и опять улыбнулся во весь рот.
– Филя, скажи мне… Чего ты хочешь?
– Как говорил Вася, когда ещё был жив, прошу смерти.
– Погоди, Филя. Мы же давно знаем друг друга. Всякое бывало. У нас есть шанс изменить историю. Давай, поможем друг другу. Я же чувствую: ты что-то знаешь.
– Они везде, – прочревовещал Филипп и перестал жить.
Толпой сбежались врачи (по знаку босса, разумеется, то бишь Босса). Бледная Фатима была под рукой.
– Что? Ну, что? – время от времени вскрикивал Барон, держась в стороне от остывающего тела.
– У него появился язык. И вырос исчезнувший член, – невозмутимо сказал Главный Доктор Яков Кобальт, который рассматривал всё с медицинской точки зрения. – Очень любопытно. Позвольте, я опять отрежу эти части тела? Я разоблачу эти фокусы с материей. Тысячи лет развития науки чего-то значат…
– Фатима! – то ли позвал, то ли спросил Барон, то ли наорал на Кобальта.
Она качала головой и быстро крестилась, после чего мусульманским жестом – лодочкой из ладошек – проводила по лицу. Из ясновидящей она превратилась в затурканную бабу.
– Тьфу! – сказал Барон и направился в угол, обходя молодую медсестру. Резкий («неземной», отметилось в сознании) запах духов заставил его обернуться в её сторону (он продолжал идти, а голова поворачивалась, не в силах оторваться взглядом от «неё»). Она смотрела на него голубыми глазами. У неё были роскошные светло-русые волосы. И явно не маленькая грудь.
Фантомас хотел раскрыть рот – но отчего-то не мог этого сделать: мышцы рта были парализованы.
– Не надо ничего говорить, – ясно различил он звук её голоса (хотя она стояла перед ним и улыбчиво молчала).
– Кто вы? – подумал он (обращение на «вы», да ещё мысленно, было первым за последние годы унижением).
– Ведьма, разве ты не видишь, – отчётливо раздалось у него в ушах (губы её не шевелились).
– У вас есть имя?
– Пожалуйста: Надежда.
– Это вы «опекали» (второе унижение подряд!) раба божьего Филиппа?
– Раба Филю? Нет, это была моя сестра-близняшка Вера. Только он не был божьим рабом.
– Чего вы от меня хотите? – мысленно послал он не тот вопрос, который хотел задать за секунду до этого. – Денег?
– Что ты! Мы не хотим от тебя абсолютно ничего. Ты всё делаешь правильно, строго в соответствии с инструкцией. Мы с тобой в одной команде, одинаково служим – только не Богу, иному Господину, чтобы не называть Его имя всуе. Только ты здесь, на Земле, а мы – всё время рядом вращаемся, около… Ты ведь хотел спросить, чьим рабом был Филя, не так ли? Надеюсь, ты догадываешься, что и он к Богу не имел никакого отношения. Следовательно…
– Чем вы так пленили Филиппа?
– А чем я так пленяю тебя, когда ты овладеваешь мной в облике Венеры? Показать тебе родинку на попе?
Рот у Вени отмер, ожил, нижняя челюсть задвигалась, язык словно оттаял. Он оглянулся. Фатима по-прежнему пребывала в трансе, в отключке – она была временно отключена от своих сверхъестественных способностей. Надежда отошла от него и светлым пятном влилась в толпу белых халатов.
– Яков! – позвал он, скорее, для того, чтобы проверить, вернулся ли к нему голос. Голос вернулся. Доктор оказался рядом мгновенно. Всё возвращалось в привычную колею.
– Вы знаете, Барон, – сказал Яков с убедительной, практически пророческой одесской интонацией, – случай достаточно банальный. Мы имеем дело не с исчезновением материи, а с оптическим обманом. Язык никуда не исчезал, понимаете? Но вот феномен коллективного ослепления…
– Яша, давно у тебя служит голубоглазая медсестра? – он ни на секунду не терял из поля зрения роковую блондинку.
– У меня в штате нет голубоглазой медсестры.
– Вон та, стоит спиной к нам. Позови её.
– Таня! – окликнул Яков Кобальт.
Фигура Наденьки развернулась – и перед ними предстала девушка Таня, чем-то неуловимо похожая на Венеру. Темноглазая и темноволосая. С роскошным бюстом.
– Ясно, – процедил Барон. – Продолжайте заниматься делом.
– Мы забираем тело в морг, – то ли распоряжался, то ли советовался Доктор.
Барон сделал жест, который мог означать: делайте, что хотите, это ваше дело; только не забывайте о программе исследований, ради которой вас всех наняли. Спрос будет – за результат, а не за какое-то тело.
– Но пациент жив, – доложила Таня, мило улыбаясь.
– Жив? – брови Якова изобразили профессиональное удивление. – Что же, получается, мы кому прозевали? Но ведь пульса не было, сам проверял. Многовато загадок для одного трупа, – больного, если выразиться корректнее.
– Таню я на часок заберу, – бросил уже на ходу Барон.
Он не удивился, когда выяснилось, что она обожает в анал.
И стонала она, казалось, голосом Надежды.
Или Веры».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.2.
За моей бессмысленной репликой «жизнь отдам за сыромак» скрывалась полная растерянность. Хорошая мина при плохой игре. Чем меньше был я в себе уверен, тем увереннее хотелось выглядеть. Таков закон огрызающейся слабости.
Мои мысли, понукаемые возрастом и первыми жизненными неудачами, двигались вот в каком направлении.
«Москва слезам не верит» – присказка правильная; но в переводе на язык более глубоких смыслов она означает всего лишь «человек человеку волк». Вой себе на здоровье; слабому не верят, верят только сильному. Москва не слезам не верит, она плевать хотела на того, кто публично дает слабину. Будь сильным, а слабости оставь при себе. Будь волком. И тогда все остальные, вся Москва, соборно выражаясь, тебе поверят, то есть примут тебя как кремень-человека. Человек человеку волк. Логически доказано.
Ах, если бы так. Это была бы идиллия. На самом деле человек человеку волк в овечьей шкуре, волк поневоле, волк потому, что не сумел стать другом. Волк – зверь по отношению к себе: вот что страшно.
Человек человеку – проблема.
Я ощущал себя как проблему, с которой мне, и никому другому, предстояло что-то делать. Истребление иллюзий казалось мне путем, единственно достойным человека; но путь этот вел не к счастью, а к погибели. Разве катастрофа – это достойный личности финал?
Ума-разума не хватало, а интуиция подсказывала: Алиса вполне может стать твоим шансом; но ум, который я уже накопил, подсказывал: не слишком доверяй интуиции. Хотя все же доверяй…
Моя случайная жена (достоин сожаления человек, жена которого – дело случая, а не результат обретения себя) оказалась такой лютой и энергичной коброй, что я стал опасаться женщин вообще; меня возмущала беспринципность, которую жена моя возвела в ранг принципа. Чем хуже становились наши отношения, тем тоньше и деликатнее она вела себя в отношении с нашими друзьями, знакомыми и родственниками. Со мной она позволяла себе все, принцип «на войне как на войне», казалось, был жалким обобщением ее поведения; с другими она вела себя так, что «война» в отношении этой нежной особы всем казалась прямым изуверством. Другие в один голос говорили мне, что я лгу, когда я, доведенный до отчаяния, пытался открыть им глаза. Ты лишаешься сокровища, твердили они, ты отказываешься от своего счастья. При этом покачивали головами: дескать, как может мужчина унизиться до таких обвинений в адрес своей исключительно порядочной жены. Просто уму непостижимо.
Особенно преуспевали в покачивании головами женщины; однако Алиса казалась мне – я готов был поклясться в этом! – исключением из правил. Она казалась не женщиной – настолько она была другой женщиной; помимо воли своей я воспринимал Алису как образцовую женщину.
И все-таки она была женщиной. Между прочим, способной совершать глупости. Кто мог дать мне гарантию, что в ней не проснется кобра?
Вновь оказаться в дружном террариуме?
Здравый смысл подсказывал мне: держись от женщин, в том числе и от Алисы как прелестной представительницы этого племени, подальше.
Незрелый разум уклончиво намекал, что все на свете противоречиво.
Интуиция смело заявляла: потеряешь Алису – не найдешь себя.
Что я сказал, когда я сказал «жизнь отдам за сыромак»?
Я сделал ставку на интуицию.
Я знал, что я сделаю предложение Алисе.
Но я не готов был его делать.
В этот момент в моей жизни появилась (язык не поворачивается сказать «случайно появилась») еще одна женщина, Офелия Виноград, которая прельстила меня дотоле неизвестной мне сладкой заповедью: она принимала меня таким, каким я был, не пытаясь переделывать меня; более того, получая удовольствие от того, что я такой, какой я есть. Она была рядом – а присутствия ее не ощущалось; никаких обязательств, никакой несвободы, никаких женских прав на мужчину. У меня могла быть другая женщина – Офелия закрывала глаза, ибо Офелию устраивало то, что нравилось мне. Это был сказочный вариант. Для эгоиста, для «волка». А «волк», надо сказать, – это человек, которому не дано познать себя. «Волк» – это скотина, подзаборно выражаясь. Юный разум, правда, вновь порадовал коготком принципиальности – завел было свое о единстве противоположностей, но здравый смысл был несравненно старше и тверже.
Алиса – посланница из космоса; а Офелия – земная баба. «Синица в руках или журавль в небе?» – пытал здравый смысл.
Голова у меня пошла кругом. Вместо ответа в голове моей вертелся упрек неизвестно кому: ну, почему, почему принимать судьбоносное решение надо именно тогда, когда ты к этому готов меньше всего?
Из вихрей мироощущения родился компромисс: «Жениться следует тогда, – думал я, что я думаю, – когда уже знаешь, как поведет себя жена в случае развода. Еще до женитьбы желательно побыть с ней в процессе развода».
Я не знал, прав я или нет.
А когда не знаешь, начинаешь настаивать на том, что оказывается под рукой. Хватаешься за соломинку. Из страха перед разумом делаешь ставку исключительно на опыт.
Ведешь себя как сумасшедший.
Желаешь изо всех сил понравиться Москве. Коллективному бессознательному в себе.
Ибо не понимаешь: личность Москве не верит.
Личность-Европа не верит Москве-Азии.
Это, кстати, и называется завоевать Москву.
Когда ты перестал верить Москве, когда ты понял, что «Москва слезам не верит» есть глупость вселенская, афористически упакованная, тогда только ты завоевал Москву, вытравил ее из себя.
Правда, толку от этого никакого: к тому времени, когда ты поймешь это, тебе станет глубоко наплевать на тип отношений, столь любезный Москве, – ты с отвращением отвернешься от «завоевать», «слезам не верить», «подтолкнуть падающего», и сердце твое – чрез врата разума – откроется любви.
И больше нигде не ищи золота.
Вот и весь Дао.
Но в тот момент я еще не знал того, что откроется мне по прошествии Времени.
Я был в начале Пути.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.2.
Темнота.
Мефистофелевская ухмылка.
Откуда она взялась?
Из темноты.
Каждый раз после вещего (содержательного) сна я просыпался другим. В таком сне всегда что-то происходило. Я одновременно обогащался и что-то при этом утрачивал.
Однажды я проснулся и понял, что во сне опять я подвергся информационной атаке или, если угодно, погружению в диалектический рассол , после которого (погружения) умственное зрение мое изощрялось, и я видел природу вещей с разных ракурсов-уровней (с тех пор выражение «нет предела совершенству» я понимаю по-своему, сугубо в духе этого сна).
Меня (без метафор здесь не обойтись) словно перепрограммировали – и я почувствовал, что в принципе мог бы быть другим. Например, Веней. Жить иную жизнь, без Алисы, к примеру. Скажу смелее: я, Платон Скарабеев, обнаружил в себе задатки Офелии Виноград. Или кого угодно еще . Я понял, что я – это не уникальная предопределенность существа как единственного и неповторимого; я – это комбинация вариантов, из которых на ходу вылепилась именно моя спираль ДНК, из чего следует: я вполне мог быть другим, и тоже считался бы я. На вполне законных основаниях. Тут дело в не в том, хочу сказать я, что ко мне в любой момент, пользуясь сном разума, способны «подселить», «подбросить» другого (ую), а в том, что во мне, в природе моей есть потенциал быть другим. Как у Протея. Ко мне не надо никого подбрасывать извне. Из моих собственных, условно говоря, «ребер» можно слепить другого. И химическая формула этого другого будет идентична моей. Ничего не изменится – только не станет меня. Духовная формула изменится. Появится другой – чужой, который, возможно, меня никогда не поймет и не примет. «Все люди – братья» мелочь по сравнению с осознанием того, что мы все едины суть и вследствие этого – враги непримиримые. Ведь я – это наиболее жизнеспособный вариант, воплотившаяся в жизнь вероятность, победившая во мне другие, ставшие угнетенными, я.
Вот почему я – это всегда результат войны и агрессии. Человек по глупости своей гордится своим я: я горжусь, что я кельт. Что я ариец. Что я негр. Китаец. Все это говорит лишь о том, что человек не может быть от рождения белым (черным) и пушистым: закваска натуры не позволяет. Но человек может сражаться с самим собой, с другими в себе – и пусть выживает информационно наиболее совершенное в человеке. Это шанс для диктатуры культуры .
Это, казалось бы, бесполезное, академическое знание зачем-то пришло ко мне во сне.
Но практические следствия не замедлили сказаться. Вот это женское, мягкое бабье свойство, обнаруженное мужским умом в себе, усложнило картину мира, размыло ее, сделало как бы хаотичной и непредсказуемой – видимо, затем, чтобы доказать мне, во всем изрядно сомневающемуся, что держится все эта зыбкая картина мира на организации космической. Проснулся-то я homo sapiens sapiens. Мужчиной. Платоном Скарабеевым. И как бы я глубоко ни понимал кого-то, я мог быть только тем, кто я есть.
И все же… Я почувствовал, что могу почувствовать женщину. Могу понять женщину. Да что там: могу стать женщиной. Я, Платона…
Мефистофелевская ухмылка… Я увидел ее во сне или в зеркале?
Темнота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.2.
Была Алиса с Бароном или не была?
Вот в чём вопрос.
Ах, если бы не сны. И если бы не поздние возвращения Алисы…
Стоп. Всё это враньё. Вопрос не в этом. Дело не в том, была Алиса с Бароном или нет (я был уверен в том, что не была, пока ещё не была); дело в том, что она в принципе могла меня обмануть в любой момент, в принципе могла с ним быть (я в этом также был уверен).
Вот в чём заключался вопрос.
Именно в этот момент я дико взревновал мою Алису к её бывшему мужу. Я же помнил тот карамельный вкус её губ, то её девственное, божественно недосягаемое тело (я был счастлив, что оно недоступно мне: значит – никому!), обретавшее черты женственности только в соединении с чувством. Изредка проступавшая женственность (в интонациях, в жестах, в движениях) волновала особенно: в девушке сквозила великая женщина. Без чувства тело жило своей отдельной, тёмной жизнью. Как же могла она отдавать своё тело чужому мужчине и получать при этом удовольствие?
Ну, как, не испытывая той любви, которую она испытывает сейчас ко мне, отдавалась она своему мужу?
Каждый вечер покорно расставляла ноги?
Испытывала оргазм?
А он имел право делать с ней всё, что захочет. Всё, буквально – всё.
Как я сейчас, когда она со мной. И по-прежнему – чиста?
Самое интересное заключалось в том, что я знал: она была чиста; но тело моё сопротивлялось этому моему знанию и заставляло воображение рисовать убедительнейшие сцены в самом что ни на есть реалистическом ключе, то есть с массой физиологических подробностей: я видел позы, ощущал запахи, слышал стоны.
Чтобы при этом остаться чистой, чтобы не отделять тело от чувства, она должна была любить. Или – запутаться в своих чувствах.
Её замужество, её готовность, и даже запрограммированность любить, любить кого-то, кроме меня, я воспринимал как предательство. То, что она была женщиной, я, мужчина, воспринимал как оскорбление.
И её замужество становилось унижающим меня (и я злился, уже не отличая здоровой злости на себя от нездоровой злости на неё) доказательством того, что она могла быть с Бароном.
Вроде бы, понятный мне, легко читаемый мною Барон сумел так взбаламутить мой внутренний мир, что я сначала испугался вот этой очевидности абсурда, а потом испугался лесной, дремучей мощи шевелящегося абсурда.
Я запутался в своих чувствах.
И Алиса, которая, на взгляд со стороны, жила-пребывала в гармонии с собой, словно большеглазая Красная Шапочка в логове хищников, стала раздражать меня своей уверенностью и спокойствием. Мне стало казаться, что уверенность в себе сегодняшней и в себе завтрашней – это маска, приросшая к лицу маска. Почему я ни в чём не уверен?
Неужели Барон прав?
Неужели все женщины одинаковы?
Неужели любви нет?
Неужели я всё придумал и цепляюсь за свою маску?
Неужели Барон во всём прав?
А?
В душе развёлся какой-то адский муравейник, живший по своим правилам, на которые я никак не мог повлиять, словно этот очаг возгорания или зона катастрофы были отделены от моей воли и сознания издевательски прозрачным, но непроницаемым экраном. Я испытал тот самый древний эффект катарсиса, который иногда называют изменением сознания . (На самом деле, как я пойму позднее, никакого изменения сознания не происходит; всё совершается проще и страшнее: сознание перестаёт функционировать как сознание, оно начинает работать в режиме психики, придавая логическую легитимность неразберихе, которая возникает благодаря одновременно «включённым» разным мотивам поведения, которые, по цепочке, «включают» разнонаправленные чувства; иначе сказать, так называемое изменение сознания – это попросту отключение сознания. Ты видишь то, что хочешь видеть, а не то, что есть. Вот и всё.)
В общем, я напоминал человека, который начал с того, что обнаружил пятна на Солнце, а кончил тем, что само Солнце сделал приложением к пятнам.
И всё это происходило при свете сознания, при том, что называется в здравом уме и твёрдой памяти (и тут же, параллельно, возникало устойчивое чувство тревоги: чувства приветствуют не только сладость саморазрушения, но и противостоят саморазрушению, стоят на страже здравого смысла, коль скоро он в тебе есть).
Я стал вести себя как женщина: цеплялся к любой мелочи, чтобы привлечь ее внимании к себе, чтобы затеять очередное выяснение отношений, которое заканчивалось у нас слегка болезненным и пронзительным сексом. Да, да, секс как продолжение рокового поединка. Роковой поединок как форма любви.
Я очень хотел быть с Алисой – и в то же время моя новая маска заставляла её держаться на расстоянии. Воистину: и хочется, и колется. Се человек.
Это было очередное дежавю (что подозрительно напоминало закон жизни, закон возвращения при одновременном движении вперед): подобный кризис в отношениях, замешанный на моей ревности, мы, благодаря мне, испытали еще до женитьбы. Казалось бы, ревность прошла, раз и навсегда. Перегорела, истлела, обратилась в прах. Болезнь прошла, я приобрел иммунитет. Ничего подобного. Сейчас ревность-болезнь возвратилась – на новом витке, на новом уровне. С новой рецидивистской силой. И сколько таких уровней? Когда закончится эта спираль? Вместе с любовью?
Веня в тот период моей жизни держался определённой линии: при виде меня он загадочно и как бы понимающе улыбался. Всё это наводило меня на нехорошие мысли и заставляло видеть в Вене врага, который на каждом шагу плетёт заговоры и строит козни.
Я терял контроль над собой.
Однажды, когда я подходил к «дому» (комната № 117 Отеля «Плутон»), увидел перед собой Алису, идущую быстрым шагом. Она возвращалась раньше обычного. Я окликнул её. Она обернулась – и оказалась Венерой.
Все смешалось в моей голове. Мы вошли, я закрыл дверь и стал быстро и ловко раздеваться. Венера смотрела на меня с любопытством, но никак не дала понять, что не одобряет моих действий. Я воспринял это как поощрение сумасшествия. Я оставил на ней всю одежду, только бережно снял трусики (чтобы потом так же бережно водрузить их на место – чтобы никто ни о чем не догадался). Она смотрела с любопытством, не помогала мне, но и не мешала. При желании все можно было понять так: во всем виноват я, а она не при чем.
Меня это только раззадорило, как преступника, который уже перешел запретную черту и отрезал себе путь назад, в некриминальное прошлое.
Я вошел в нее сзади, уперевшись во влажный мысик и тут же скользнув в опушенное лоно, и Венера чутко, по-женски отнеслась к моим прямолинейным мужским атакам: она неуловимыми движениями помогала мне, но это получалось у нее «из вежливости», отстраненно, словно она не разделяла моих вожделений, хотя и не хотела обидеть явным отказом. Мы были вместе, но не сливались воедино: градус ее прохладного интереса явно отставал от градуса моей преступной страсти. Я хватал ртом воздух, ее дыхание даже не сбилось. Не самая приятная картина для мужского самолюбия.
Она оставляла меня наедине с моим сомнительным блаженством и моей несомненной виной.
Мотивы ее поведения так и остались не ясны мне. Она ободряюще погладила меня по щеке, дескать, ничего страшного не произошло. Трусики надела аккуратно и внимательно, совершенно не стесняясь моим присутствием. Уже в дверях сказала:
– Не дай бог Веня узнает о твоей шалости. Но ведь он не узнает, верно?
И закрыла за собой дверь, потеряв ко мне всякий интерес.
Жуткий страх буквально окольцевал мое сердце стальными пластинами.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.2.
– Почему мы стали платить за жилье в два раза меньше? – спросил я у Алисы, изучая пришедшую по почте квитанцию. – С каких это пор жизнь стала дешеветь?
– Не знаю, – беспечно ответила она. – Хотела вот тебя попросить: сходи в ЖЭС, узнай в чем дело. Возможно, какая-то ошибка. Насчитают потом кругленькую сумму и сделают нам дыру в бюджете. А нам дыры ни к чему.
Алиса рада была загрузить меня всякого рода мелкими поручениями, чтобы отвлечь меня от впечатлений, которые я получил во время визита к нам Вени с Венерой. Алиса считала, что я сильно переменился с тех пор: мои глаза стали смотреть «в себя», как она выражалась.
– Ты смотришь на меня, а любуешься собой или разговариваешь с собой. Разве нет?
Возможно, она была права. Со мной что-то происходило. Ко мне, в мой внутренний мир словно подселили какого-то страшно законспирированного диверсанта. Я чувствовал, что придавлен внутренней тенью (последствия улёта и ушиба, несомненно). Постепенно тень разбавилась светом, рассеялась, но не исчезла совсем. Я так и ходил – оттененный, тронутый тенью, что, конечно, отражалось в моих глазах, походке, осанке. Мой светлый контур был обведен угольно-траурной ретушью.
Я, к счастью, не испытал на собственной шкуре, что такое рак, но мне казалось, что точнее всего мои ощущения можно описать как предчувствие вызревающих метастазов. Они еще не поразили меня, не расползлись во мне роковыми корневищами-молниями, но уже копили разрушительный заряд, готовясь к решающей атаке. (Тьфу-тьфу-тьфу! Не накаркать бы рак. Я вынужден был признаться себе, что стал суеверен, чего раньше за мной не наблюдалось; даже не так: приписать себе суеверие, значило бы заниматься самообманом; моя чувствительность к информации, как бы это сказать, запредельной по отношению к человеческим возможностям обострилась настолько, что явно стала интересовать мою интуицию. Улёт. Тьфу-тьфу-тьфу!)
Чтобы успокоить Алису, а заодно и себя, я охотно брался за любые поручения: так проще всего было сконцентрироваться на пустяке и отвлечься от метастазов. Я как раз собирался идти в магазин (сыр, перец, чай, к чаю); решил, что по пути зайду в ЖЭС.
Зашел. Вежливо поинтересовался, почему мы, я и жена, стали платить за жилье в два раза меньше.
– Меньше? за жилье? – округлила и без того круглые, да еще в круглой оправе очков глаза барышня, напоминающая вечно бодрую сову. На бэджике, криво посаженном на блузу, было указано: старший менеджер Смех С.В. – Так не бывает.
– Согласен, – вздохнул я. – Тут что-то не так.
– А вы кто?
– Платон Скарабеев. Хозяин квартиры.
– Ага! – обнаружила логику старший менеджер. – В квартире прописана только гражданка Алиса Скарабеева, а вот муж ее, извините, умер. Поэтому он выписан. И платить за него не надо. Вы ей кто будете?
– Муж.
– Ну, вот! А муж как раз и умер.
– Тогда кто же я, по-вашему?
– Трудно сказать, – укоризненно подытожила Смех С.В.
Она встала и пошла к двери, на которой висела табличка, обведенная траурной каймой (видимо, для того, чтобы исключить всякого рода легкомыслие): Копошилко Алмаз Петрович, начальник ЖЭС 117.
Из приоткрытой двери донеслось:
– Алмаз Петрович, тут потеха. Пришел мужчина и говорит, что он муж. А муж умер!
Было слышно солидное, чтобы не сказать гробовое, молчание, изредка прерываемое шелестом страниц. Копошилко не произнес ни единого слова, пока не вник, как следует. А когда вник, указал:
– Разъясните гражданину, как там его, что он больше не жилец. Документы прилагаются.
Старший менеджер попыталась добросовестно разъяснить мне права и обязанности не жильца.
– Подождите, это ведь не смешно! – возразил я в ответ на ее логику.
Я понимал, что лучшим доказательством моего присутствия на этом свете будет убедительная эмоциональная реакция. Но сильно возмущаться почему-то не хотелось.
– А никто и не смешит вас, – без улыбки парировала Смех.
– И что же мне делать?
– Понимаете, по документам вы, если это действительно вы, умерли. Вас нет. Если желаете опять платить за проживание и пользование коммунальными услугами, вам необходимо заново родиться, что ли, документально доказать, что вы есть.
– Но у меня паспорт есть!
– А у нас – копия свидетельства о вашей смерти. Это туз против вашего паспорта-короля!
– Покажите.
– Вот, пожалуйста.
– Да, действительно. Платон Скарабеев. Моего года рождения. И когда я умер, извините за любопытство? 9 мая 2009 г.?
Это был тот самый день, когда Веня привез мне в дар злополучную картину.
– Скорее всего, это мой однофамилец, – невозмутимо сказал я, убеждая уже не столько госпожу Смех, сколько себя.
– Слишком много совпадений: фамилия, имя, год рождения, год смерти…
– Вы хотите сказать, что я на самом деле почил в бозе? С кем же вы тогда разговариваете?
– А вот это мне неизвестно.
Смех поправила очки-телескопы и внимательно всмотрелась в мое лицо, словно отыскивая на нем следы относительно давней смерти.
– Хорошо. Где находится моя могила? По документам. Где?
– Сначала получите на руки свидетельство о смерти. Там вам скажут, наверное. Примите мои соболезнования.
Вот сова. Смех, да и только. Расскажу Алисе – помрет со смеху.
Но Алиса не торопилась помирать со смеху. Склонность к черному юмору никогда не была сильной ее стороной.
Ей не понравилась эта темная история.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.2.
Прогуливался я как-то по знакомым до боли маршрутам ДН. Велосипедные и пешеходные дорожки петляли по кайме леса, и весь этот кучерявый серпантин соответствовал запутанному островному стилю жизни Планеты Плутон. Я так и говорил Алисе: «Пойду, попетляю».
Я подошел уже к самой удаленной от центра точке маршрута (здесь дорожка вклинивается в лес), как вдруг меня догоняет Астролог и почти без акцента повелевает, по-приятельски положив руку мне на плечо:
– Надо бы поговорить, господин Платон. Мы с вами имеем точки соприкосновения…
Он говорил на правильном русском языке, но только каком-то книжном, устаревшем, неживом.
– Терпеть не могу грязного амикашонства, – ответил я.
– А поговорить, тем не менее, есть о чем. На кону большие ставки…
Я продолжал идти не оборачиваясь.
– Хочешь выбраться отсюда на свободу живым и относительно здоровым? – бросил он мне в спину.
– А с чего ты взял, что кто-то ограничивает мою свободу? Почему ты решил, что я здесь не по своей воле?
Он фирменно оскалился.
– Не хочешь – как хочешь. Я полагал, что ты серьезный человек, который серьезно относится к уникальным шансам.
– Я – серьезный человек. Поэтому провокации вениных «шестерок» меня не впечатляют.
– Вот, смотри, – Астролог вытащил из-под полы Марсика. Тот отвел глаза от солнечного света и жалобно мяукнул. Ушки, наполовину белые, были характерной приметой Марсика. Я взял его за левую лапку, тоже наполовину белую…
И похолодел. Так играть с жизнью Босса и с собственной смертью… Да и моей то ли жизнью, то ли смертью…
– И что это доказывает?
– Только то, что смерть Кощея на конце иглы никто не отменял. И этой иглой можешь быть ты.
– Интересно будет послушать, что думает по этому поводу Веня. Мы с ним это непременно обсудим.
Гадкая – до ушей – улыбка вновь изуродовала грушевидное лицо Астролога.
– На понт берешь? Сам прекрасно знаешь: Веня не станет разбираться, кто похитил Марсика. А мне он сейчас верит как никому…
– Хочешь сказать, что ты меня крупно подставил? Детский сад. Через минуту Веня все будет знать о нашем разговоре, да он и сейчас, я уверен, нас слышит.
В ответ Астролог с характерным сочным хрустом, звук которого парализует все живое, оторвал голову Марсика и бросил ее под куст. Тушку аккуратно, чтобы не измазаться, взял за хвост и забросил в траву, в противоположную сторону.
Я ни слова не говоря подбежал к теплому подрагивающему тельцу и проверил (не подвох ли? игра со смертью завораживала): голова действительно была отъединена от туловища. Примерно так же, как вскоре будет отделена моя голова, если, конечно, все произошедшее на моих глазах было правдой.
– Извольте объясниться, – сказал я, вытирая руки о траву.
– Да что тут объясняться? Босса следует ликвидировать, уж слишком многим он стал поперек пути.
– Поподробнее, если все еще желаете на меня рассчитывать.
– А зачем вам подробнее? Главное – наши интересы пересекаются. Не так ли? Вопрос стоит так: либо мы – либо он. Так? Это и есть гарантия серьезности моих намерений.
– Подробнее – это мое условие. Можете считать это капризом. Как угодно.
– Что вас интересует в первую очередь?
– Ваши мотивы. Зачем вам гибель вашего благодетеля?
– Мой благодетель вырезал всю мою семью. Маму. Папу. Двух, нет, трех сестренок, хотя тогда они все были старше меня. Я сейчас живу в Венеции, а тогда, много лет тому назад, моя семья эмигрировала в ФРГ. Мы жили на границе с Чехословакией. Советский спецназ выполнял какое-то особо секретное задание и нас, как невольных свидетелей, вырезали всех, кроме меня. Именно вырезали или передушили, без единого выстрела. Веня отрывал головы девочкам, как я сейчас – его котику. Мне казалось, что я советскому солдату отрываю голову. Я жил ради этой минуты…
– Почему тебя оставили в живых?
– Я, мальчишка, невольно, со смертельного перепугу, спас Вене жизнь. Глаза мои сами округлились от ужаса, когда я увидел, что мой залитый кровью отец вот-вот выстрелит из охотничьего ружья в спину бравому Вене. Это была доля секунды. Но Вене хватило, он отреагировал. Хруст шейных позвонков – и отца моего не стало. А Веня нарушил инструкцию. Он посмотрел на меня. Я сложил руки на груди и закрыл глаза – в знак того, что молю о пощаде и ничего никому не расскажу. Он постоял минутку – и вышел. Именно тогда во мне проснулись мои способности. В 17 лет я сознательно посвятил жизнь поискам Вени.
– Так ты убьешь его? Что говорит тебе твой дар?
– Не знаю.
Я впервые без презрения и раздражения посмотрел на Астролога.
– Почему ты решил обратиться ко мне? Не проще ли самому довершить то, что составляет смысл твоей жизни? Ты забыл, что месть – сладка?
– Я боюсь. У меня трясутся поджилки. Веня кажется мне неуязвимым. В решающую минуту я опять могу закрыть глаза…
– И ты решил переложить на меня свою миссию, венецианец?
Астролог помолчал. Потом изронил:
– Видишь ли в чем дело… Веня тебя опасается. Нет, не так: он тебя уважительно боится. Смерть от тебя есть поражение для него, а смерть от других – знак непобедимости. А ты тверд, господин Платон.
– Но я вовсе не намерен его убивать! (Я воскликнул так, чтобы слышно было маячившим на опушке дубам, и даже краешку неба.)
– Ну, что ж, значит, я был о тебе лучшего мнения, – тихо произнес Астролог. – Дело не только в том, что Веня зверь и у меня с ним личные счеты. Он представляет угрозу всему живому. Тебе совесть позволит оставить в живых палача?
– Как тебе сказать… Это не простой вопрос, – теперь я тоже понизил голос.
– Значит, я в тебе ошибся. Тогда забудь о нашем разговоре, философ Платон.
– Не лукавь, венецианец! Что значит «забудь»! Ты втянул меня в свою историю, сейчас я даже представить не могу, с какой стороны ждать подвоха. Ты столкнул меня с Веней лбами – вот что ты сделал, если говорить прямо.
– Тогда иди и убей гадину.
– Да пошел ты, – сказал я.
За время нашей увлекательной беседы мы набрели в лесу на свежевыкопанную могилу. В землю, очевидно, в изголовье, была воткнута аккуратная табличка с надписью: «Платон». И все.
Я посмотрел на Астролога.
Тот лишь пожал плечами.
Не эта ли, якобы, случайно обнаруженная нами могила была целью нашей неслучайной встречи?
Что произошло? Что они хотели мне внушить?
Когда мы расходились в разные стороны, мне показалось, что за моей спиной жалобно мяукнул Марсик.
Стало не по себе.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.2.
– Знаешь, зачем здесь утроили искусственное озеро, вот это самое Вилейское водохранилище? – спросил как-то у меня г. Гебицит скучным тоном.
– Нет.
– Под ним – центр управления космическим оружием, которое уже создано давным-давно, и у кого кнопка от этих шустрых ракет – неизвестно. Кто-то уже давно контролирует мир, Плато! И не там, на небесах, а здесь, на Земле. Водная поверхность – идеальный отражатель для вражеских радаров. Идеальная маскировка. До поры до времени никто ничего не узнает.
– Бред.
– Все на свете – творение рук человеческих. В смысле Интеллекта. И денег. Думаешь, финансовые кризисы возникают сами по себе? Девяносто восемь семей правят миром. Нами. Мной, суки! Творят всю политику и назначают кумиров. Мы с тобой – ослы, запряженные в чью-то тележку. Тебе кажется это невероятным? Вот тебе всем известные факты. Навскидку, так, первое, что на ум придет. В Лондоне было секретное метро, где размещалась служба разведки. Скоро, по моим сведениям, оно будет выставлено на продажу и будет распродано по кусочкам. Возможно, мы его и купим. Удобное место… Центр цивилизации. Думаешь, оно просто так нам досталось? Есть люди, которые могут купить и продать все, что душе угодно. В Москве есть специальное метро для членов правительства. Завтра и оно будет нашим. Метро – это хороший плацдарм. По-твоему, и это сказки? Объясни мне, как мистер Путин пришел к власти? А, умник? Почему в России неистребима коррупция? Кто убивает американских президентов? Кто их назначает? Кто такой Бен-Ладен? Почему где-то на Земле холодает, а где-то теплеет? Думаешь, за этими «процессами» не стоят силы? За всем стоят силы. Только никто об этом ничего не знает. Планету Земля населяют кролики. И если не будет рядом удава о девяносто девяти головах – кроликам несдобровать. Я тебе больше скажу, открою маленький секрет. России уже нет. Вот мы с тобой сидим, разговариваем на русском языке – а страны России уже нет на завтрашней карте мира. Ее просто вывели из игры и распилили на части. Уже праховые урны истории заготовлены, уже на престижном кладбище цивилизаций есть урна с надписью «Россия». Рядом с Древней Грецией. И Древним Римом. Все дороги ведут в Рим – понял, что это значит? Рим – противоположность понятию мир. Тебя нет, Плато. А ты «личность, личность»… Тличность.
– Отлично. Вот ты нагнал страху, а я возражу. Современные государства, государства нового типа, лидеры цивилизации, делают ставку на высокоразвитый интеллект. Именно поэтому, кстати, тебе интересно с ними тягаться: ты в совершенстве владеешь их же оружием и вполне можешь их побить. Рационализм – основа их духовности (бездуховности, можно сказать: суть дела от этого не меняется). Страны лидеры обслуживают ментальность цивилизации, ее невидимую кровеносную систему: финансы, юридическое обеспечение, моральное, философско-идеологическое, художественное. А вот материальные основы и блага цивилизации куют там, где рабочая сила дешевле, а элита поглупее: в странах второго, третьего, четвертого, пятого – вплоть до девятого мира. Где Россия? Россия – это страна девятого мира. И одновременно – это страна первого мира, потому что это страна Пушкина и Толстого. Могу сказать иначе: все дороги ведут не только в Рим, но также из Рима. Так яснее? Надежда есть, но вы ее не там ищите.
– Ненавижу притчи, эти премудрости слабоумных.
– Вот тут я с тобой вполне согласен.
– Я скажу как воин: пока есть Веня, на России рано ставить крест. В этом я вижу надежду. Риму – Рим. Наш асимметричный ответ чемберленам заставит мир вострепетать и содрогнуться. Они считают, что меня нет, но я восстану из праха. Я изменю будущее. Я, патриот Веня Гербицит, буду девяносто девятым.
– Не говори гоп…
– Да никакого гопа, погоди! Если бы ты знал, до чего просто стать хозяином земной клеточки вселенной. Не веришь?
– Чтобы верить, надо понимать…
– Вот и мотай на ус. Ты не представляешь себе, какое это, помимо всего прочего, удовольствие – разводить мировую экономическую элиту на бабки, Нобелевских лауреатов! Пудрить им гениальные и такие беспомощные мозги! Вот сколько процентов годовых ты получаешь по своему вкладу в моем банке?
– Что-то очень много, едва ли не пятьдесят. Пол-луны на одну вложенную луну.
– И тебя это не настораживает?
– Настораживает, конечно. Попахивает финансовой пирамидой.
– Правильно, пирамидой. Только гениальность нашего проекта в том, что пирамида обрушит не нашу финансовую империю, а их, вот этих девяноста восьми барбосов.
– В чем суть мошенничества, если уж мы заговорили об этом?
– В том, что мошенничества никакого нет, все законно. Более того – все трогательно и наивно. Как в древнем Египте. Детская арифметика, уровень считалок. В это никто не верит – до тех пор, пока не станет поздно. Объясняю. Вас, сребролюбивых клиентов, у меня миллиард с небольшим. Да, да, сеть наших банков разрослась, как пырей. Вы сами в клювике приносите мне свои немалые деньги – в надежде на лакомые проценты. И получаете их, заметь. Вас я прикормил, и даже развратил. Как мне расплачиваться с вами и не прогореть?
– Печатный станок?
– Убогое мышление. Стандартное.
– Ты наивно полагаешь, что существует нестандартное мышление? Когда вы научитесь отвечать за слова! Мышление – это именно определенный стандарт. Мышление без стандарта, то бишь без закона, не бывает. Мышление без стандарта – это больничка, худший из стандартов.
– Наплевать. Я сейчас не об этом. Твой стандарт – убог, если угодно. Хотя станок – тоже проходит. Начинать надо с того, что экономика – это лженаука. И противопоставить лжеметодам надо здравый смысл.
– О-о! И?
– И я на ваши деньги покупаю самые рентабельные компании мира. Самые! А также золото. Потому что завтра бумажки станут тем, чем они по сути и являются: бу-маж-ка-ми. А вы получаете свои жирные проценты. И даете мне денег столько, что я уже завтра оставлю этих 98 саблезубых не у дел.
– Похоже на вечный экономический двигатель.
– Двигатель, но не вечный. Я просто перекуплю планету и заставлю шарик крутиться во имя интересов…
– Следующих 98. И все на круги своя. И все вы – рабы одного принципа: кто сильнее – тот и прав. Какая разница, чьи сегодня в лесу шишки?
– Не скажи. Я справедливость люблю, это чисто русская черта. И буду насаждать ее силой.
– Тоже, кстати, чисто русская черта. Ты переписываешь историю по одним и тем же лекалам. Как осел, идешь за морковкой. По кругу. Просто пришло твое время быть альфа-самцом. Потом твое время уйдет, как у старого Акелы… Законы джунглей. От тли слышу, Веня.
– Законы джунглей, говоришь? Так, да не так. Не совсем так. По законам джунглей я джунгли превращу в оазис. Здесь, у нас, будет город-сад. Теплый Рим, практически. А их я всех заколдую, превращу в глыбу льда, в кусок северного полюса. Поверну реки вспять, буду повелевать громам и молниям… Смертию смерть попру. А?
– Силой силу? Ну, допустим, Робин Гуд. Это старая сказка. И я в нее не верю. А если твой план раскусят?
– Меня раздавят, как муху-цокотуху. Объявят мой переворот всего лишь финансовой пирамидой. Из моей персоны сделают жулика мирового масштаба. Русский, что вы хотите. Варвар. И меня даже до суда не довезут. И в крови ничего не найдут. И сердце трупа окажется здоровым. Все эти методики отработал именно я. Знаешь, как они называются? «Бесконтактные методы активации защитных сил организма человека и животных на неограниченном расстоянии при различных заболеваниях». Все болезни сегодня в принципе лечатся методом активации защитных сил организма. А вся фармакология – просто индустрия для производства дешевой химии. Способ выбивать из людей бабло. Мыльный пузырь. Но есть и обратная сторона медали: методы подавления защитных сил организма. Бесконтактные. На неограниченном расстоянии. При желании всего за полтора часа в твоем организме можно запустить механизм злокачественной опухоли. И через неделю с небольшим тебя не станет. А можно еще проще и радикальнее…
Но этого не случится, на этот раз я все учел. Слишком много государственных интересов самых могущественных стран замкнуто на мне. Скоро, совсем скоро дело со мной будет обстоять так, как с ненавистным всем долларом: уберешь меня – получишь коллапс. Хаос. Я, Веня, стану пупом Земли. Кнопкой. Ты меня понимаешь? Даже в русских народных сказках такого не встретишь. У дракона 98-главого ни единого шанса. Вот этого они не учли: я их куплю на их же деньги.
– Зачем я тебе, Веня?
– Я хочу учесть все. Ты для меня еще один источник информации. Но пока что ты черная дыра: не шибко мне мешаешь, но и не помогаешь. Твоя миссия в том, чтобы признать меня Богом. Или высшим законом. Или порядком вещей. Вот тут ты волен выбирать. Зачем ты мне еще? Я в принципе доказал, правда, пока что теоретически (да за практикой дело не станет: щелчок пальцев – и все придет в движение; но всему свое время): один в поле воин, один может господствовать над всеми. Вот вы тут голову ломаете, а все уже давно решено. Кто герой времени? Я. Кто герой романа? Я. Кто, без ложной скромности, герой человечества? Догадайся с двух раз. Без моей подсказки. Поэтому мне пришлось сочинить гимн «Двуногих тварей миллионы». Это мой гимн. Моя колыбельная. Моя песня.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.3.
– Чем занимался ты в своей жизни? По-настоящему? Всерьёз?
Подобным вопросом регулярно встречал меня Веня. Очевидно, при встрече со мной его мысли направлялись в особый лабиринт и через раз попадали в тупик, где неоновым светом ровно светился вопрос. Я отвечал на него по-разному, но всегда честно. Мне нравилась сама постановка вопроса: просто и по сути. В этот раз я ответил так:
– Всерьёз? Днём ходил по улицам с зажжённым фонарём. Я не шучу, надеюсь.
– Типа разгонял тьму?
– Практически. По другой версии – искал человека. Со скарабеем на лацкане.
– Нашёл?
– Как тебе сказать…
– Хорошо. А почему ты не спрашиваешь меня, где я служил, чем занимался и чем занимаюсь сейчас? Это снобизм?
«Это равнодушие, – подумал я. – К себе».
Но поскольку этот мой самый большой секрет никого не интересовал, я, прикидываясь внимательным к окружающим, спросил в свою очередь:
– Всегда хотел спросить: чем ты занимаешься?
– Хороший вопрос. Слушай сюда.
История Вени оказалась удивительно похожей на историю человечества.
Сначала он ползал на корточках, затем освоил прямохождение, потом научился говорить, читать, писать, закончил школу и быстро усвоил самое главное: в этой жизни кто силен – тот и прав. Путь ему был определен, разумеется, в силовые структуры. Проще всего попасть туда было через армию.
И Веня стал солдатом, да не простым солдатом, а элитным; он попал в спецвойска, в спецназ, служил в особой разведроте, что несла службу на границе, разделяющей блок НАТО и войска Варшавского договора. На границе ГДР и ФРГ.
Обыватели слушали сказки про мирный облик социализма и хищный оскал кровожадного капитализма, а на счету бойца В. Гербицита было уже тридцать трупов специально обученных солдат противника. Каждую ночь шла необъявленная война. И Веня на себе испытал магическую, завораживающую силу маятника: повезет – не повезет, повезет – не повезет, повезет – не повезет. Мимо – в точку, мимо – в точку, мимо…
Веня даже не сразу понял, что ему повезло: он остался жив (хотя, как и все спецлюди, морально был готов к смерти: подспудное отношение к себе, а значит, и к другим, как к пушечному мясу было одним из элементов психологической подготовки). В этой войне испытывалось так много спецсредств, спецтехнологий и спецнавыков, что на гражданку боец Гербицит вышел засекреченным больше, нежели какая-нибудь школа КГБ в Коломне. Отныне и навсегда жизнь и сами потроха тов. Гербицита принадлежали внешней разведке.
В мирной жизни Веня испытал шок: надо было жить, как-то радоваться жизни, а он умел только убивать, получать удовольствие от поединка, убийства, от вида живой крови, покидающей уже мертвое тело, от чувства собственной неуязвимости. По чистым улицам Минска слонялся фантом: никто не должен был знать, где он служил, чем занимался, чем собирается заниматься. У фантома не могло быть друзей, подруг, детей. У физического тела не могло быть тени.
Кодекс мужчины сузился до трех внятных пунктов: сила, удача, молчание. СУМ. От СУМы да от тюрьмы не зарекайся. Как говаривал Вася Сахар, «я сумую», то есть я печалюсь.
Веню окружали «козлы» мужеского пола, не ведавшие изнанки бытия – да что там, самой что ни на есть лицевой стороны жизни! – и «телки», макияжем и парфюмом наводящие тень на плетень, то бишь старающиеся отбить и упрятать запах женщины. Однако Веня чуял этот запашок за версту, и всегда окружал себя отборными здоровыми телками, которые, вот ирония, все, как одна, не очень дружили с гигиеной. Как только на породистых баб надвигался неразговорчивый мышечный комплекс, от которого веяло силой и удачей, у них начиналась течка, и они сами расставляли ноги. И прежде всего – девственницы. Надо ли говорить, что в своей квартире (да, да, у него быстро появилась своя квартира) Веня превращался в неукротимый торнадо, и три четверти женщин не желали продолжать с ним незабываемые интимные отношения. Таких он ничтоже сумняшися посылал на х…, раз и навсегда. К оставшимся применял одну и ту же тактику: брал за волосы, наклонял, срывал трусы и давал волю своим содомическим наклонностям, которые обнаружились еще там, в среде мускулистых парней спецназа. В сущности, он всегда несколько тосковал по жопе, обросшей волосами. Но и белые гладкие задницы его вполне устраивали. Женщины, которые сначала брали в рот, а потом тут же давали в анал, раз и навсегда становились послушными и покорными, даже если потом благополучно выходили замуж, чему он внешне никогда не препятствовал. Но потом, когда они по старой дружбе забегали к нему «одолжить» сотню баксов (мужья у них, как правило, не были такими сильными и удачливыми), он старался унизить их до предела. Часто сдавал в аренду своим приятелям. Ничего, эти сучки терпели. Забегали регулярно. Со своими пассиями он словно подписывал некое секретное соглашение, согласно которому Веня имел право трахать все, что шевелится, там и тогда, где и когда ему вздумается; но в ответ он честно брал на себя обязанность содержать своих наложниц. Выходишь замуж – теряешь право содержанки. Обращаешься за помощью – будешь отодрана и унижена как последняя блядь. Эти правила работали. Ничего не надо было выдумывать.
Веня быстро усвоил главную, и отнюдь не нагорную, заповедь бытия. Кто силен – тот и прав. Эту заповедь, отлитую черным золотом в самой преисподней (горн, меха, адово пламя – и вот, буковка за буковкой, куется тайный девиз всего живого), выдумал не он, поэтому бессмысленно было заморачиваться по поводу того, правильная она или нет, гуманная или не очень. Заповедь имела отношение к основам жизни – это Веня ощущал каждой клеткой существа.
Именно в тот момент из потребности уважать что-нибудь живое не за грубую силу, а за слабость, которая чудесным образом превращается в неодолимую силу, Герби взял себе первого кота, назвал его Марсик, и решил, что жизни ему, Вене, отмеряно девять кошачьих жизней. Девять раз по девять-пятнадцать лет. В среднем лет девяносто-сто. В общей сложности лет сто тридцать – если, конечно, не изобретут что-нибудь этакое…
Поживем – увидим.
Однако первый кот сдох уже на девятый месяц жизни. Но зато как сдох!
Однажды Веня проснулся утром и, еще не раскрыв глаз, ощутил, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже пальцами. Единственная форма активности, которая была ему доступна, представлялась вместе с тем невозможной: он мог только плакать. И Веня заплакал – но только не от страха, не от отчаяния и не от боли (боли, кстати, совсем не было, вместо нее – противная слабость), а от невозможности сопротивляться.
В этот момент к нему на живот мягко запрыгнул Марсик, черный, словно сажа преисподней, лизнул его в соленую щеку, заурчал и улегся на грудь – прямо на то место, где, по ощущениям Вени, крылся корень его внезапного недомогания.
Через некоторое время Марсик поднялся на дрожащих лапах, неуклюже сполз с постели, и его стало мучительно рвать чем-то зеленым. Спина, словно срабатывал пружинный механизм, напряженно выгибалась, а потом бесхребетно опадала, со стороны казалось, что Марсика плющит под воздействием внешней силы. Он извинительно мяукнул и пропал.
Зато Веня обрел возможность двигаться. Первого прилива сил хватило на то, чтобы добраться до телефона.
Врачи в один голос твердили, что Веня перенес микроинсульт, весьма коварный, который – и это очень даже странно! – обошелся совершенно без последствий, если не считать внутренних рубцов на сосудах, напоминающих каллиграфический стиль опытного хирурга.
Немалые силы были брошены на поиски исчезнувшего Марсика. Его нашел сам Веня на берегу лесного озера (на всякий случай цепким взглядом «сфотографировал» место: холмик, напоминающий кратер вулкана) – полинявшего, облысевшего, заваливающегося при ходьбе на левый бок. Он ушел то ли для того, чтобы подлечиться, то ли для того, чтобы тихо помереть вдали от любимых глаз, не расстраивая хозяина. Марсик взглянул на спасенного им спасителя и, отворачиваясь, тактично мяукнул: дескать, стоило ли хлопот, сам же еще не отошел.
Диагноз Марсика Веню не удивил: микроинсульт. Кот забрал себе болезнь хозяина.
Светила ветеринарии оказались бессильны: Марсик не выжил.
Там, где другим чудилось непостижимое, Веня видел факт, подкрепляющий его смутное, но неколебимое мировоззрение.
Второй кот, также черный (Веня не сомневался, что коты темного окраса, словно магнит или маленькая черная дыра с хвостом притягивают к себе негативные мысли и эмоции, способные довести хозяина до инсульта), протянул немногим долее.
Веня запаниковал: дело в том, что он искренне верил в свои способности экстрасенса. Он вообще безгранично верил в себя. Талантливый человек во всем талантлив: это он воспринимал как аксиому. К себе относил в первую очередь; собственно, аксиома казалась ему списанной с него. К примеру, он никогда не играл в большой теннис, но стоило ему взять ракетку в руки, как уже в конце своего первого, казалось, безнадежно проигранного матча он уперся, отыграл три матчбола, а затем упорно довел игру до победы. Опытный соперник удивлялся, Веня воспринимал как должное. Ему особенно приятны были обыденные проявления своей исключительности.
Третий Марсик, нынешнее «парнокопытное», трехцветное, своим жизнелюбием вернул ему мистичекую уверенность в своей непобедимости.
– Понял? – спросил меня Веня.
– Зачем ты мне все это рассказываешь? Мне-то какое дело до твоих грязных баб и звездных котов?
– Имею интерес, – загадочно ответил Веня. – Слушай дальше…
Он сделал паузу, словно предоставляя мне возможность заткнуть уши или вылететь из комнаты. Но я отчего-то не сделал ни того, ни другого. Очевидно, поэтому, улыбнувшись гнусной улыбкой типа «я так и знал, вы все такие», он продолжил.
– Потом я встретил Венеру…
– Можно подумать, Венера не телка. Такая же баба, как и все остальные.
– Погоди. Надо быть честным. Встреча с ней меня смутила.
Честно сказать, я был поражен бесконечно: не ожидал такого от Вени. Хотя нет – именно чего-то такого и ожидал. Просто оказался к этому не готов. Чем может удивить циник? Романтическим порывом, чем же еще.
– К тому времени я уже закончил биофак столичного университета, с отличием, между прочим. Чему ты удивляешься? Честолюбие – тоже проявление силы. Всегда и везде быть первым. Никого впереди: вот мой девиз. А быть первым – значит, опережать информационно. И желание знать о человеке все, особенно все о его скрытых, потаенных резервах, стало главным моим стимулом. Такое знание давало власть, реальную власть. Я насмотрелся на человека в экстремальных ситуациях. Трижды я побывал в состоянии клинической смерти. Ведь это колоссальный опыт. Я там уже ориентировался, как в собственной комнате. Поверь мне, я кое-что знаю о том, чего я хочу…
– Мне кажется, я знаю тебе цену, Веня.
– Да ладно, ара!
– Знаю, знаю. Чем смутила тебя Венера?
– А вот это тебе лучше знать. Меня смутило, что человек не настолько скотина, насколько должен был бы ею быть. Человек – шире природы. Это – открытие, настоящий прорыв, если ты понимаешь, о чем я. И вот этот резерв… Его труднее всего нащупать, описать и заставить работать на власть.
Я молчал.
– Но если его найти и разработать, то мы приблизимся к какому-то жуткому абсолюту, назови его вечность, бессмертие, рай – как хочешь.
– А ты уверен, что вот то начало, которое открылось тебе, когда ты встретил Венеру, совместимо с властью? Не торопись, Веня, а то успеешь…
– Смотри сюда, кочерыжка. Я выбью из тебя нужное мне знание силой. Не мытьем, так катаньем. Даже если ты сейчас сдохнешь, это не будет означать, что ты избежал поражения. Даже смерть не спасет тебя. Победить ты можешь только одним способом: именно одолеть в силовом противостоянии меня. Ты – или я. У тебя нет особого выбора: или ты победишь, или признаешь, что я победил уже давным-давно. Тебе деваться некуда.
Я молчал.
– И молчание – это не ответ. Пора играть в открытую. Я же тебе все карты на стол. Давай и ты. По-мужски.
– Что произошло, когда ты встретил Венеру?
– Именно произошло , это точное слово. Со временем я понял, что произошло: я испытал неземное блаженство. Это было нечто, выходящее за рамки понятной мне природы. Хочу сказать, сугубо материальными причинами мое предчувствие блаженства не объяснишь. Для меня это вызов. Я не привык прятаться от вопросов. Пока что я нашел только тебя, единственный экземпляр, который живет так, словно исполняет мой заказ. Прямо под носом у себя отыскал, причем понял, что отыскал, только тогда, когда нашел; до этого не предполагал, что ищу тебя. А ты оказался шурином. Мужем сестры моей жены. Разве не мистика? Вот почему я готов платить тебе за то, что ты – это ты. Как только ты станешь таким, как я, тебе п…дец. А рано или поздно ты, конечно, станешь похожим на меня. Тут уж мне некуда деваться, и я постараюсь добиться своего. Ты – это и есть последний вызов мне. Ты хорошо спрятался. Хорошо прожить – хорошо спрятаться, верно? Но от меня не спрячешься. Понаписал кучу умных вещей в надежде, что никто их не прочтет? Ду-ра-чок…
– Веня, а ты уверен, что не выдумал все это?
– Плато, из нас двоих недооценивать другого всегда будешь ты как инстанция более высокая (если ты, конечно, существуешь, что тебе придется еще доказать). В этом смысле я в более выигрышном положении. Запомни: я ничего не выдумываю, я прагматик. Дам тебе подсказочку на будущее: в состоянии третьей клинической смерти я узнал много такого, чего ты даже не в силах вообразить. У тебя даже воображение в эту сторону не включается.
«Как тебе сказать, – мысленно возразил я. – Ты, к счастью, ничего не знаешь о моих снах…»
– Я, конечно, мало что знаю о твоих снах, – сказал Веня. Теперь в его улыбке читалось: я же говорил тебе, что от меня ничего не скроешь. – Но я знаю, что ты прежде всего сны скрываешь от меня… Что ж, все на свете вопрос времени.
Усилием воли я прекратил поток мыслей, которые, словно персиды, возникали ниоткуда и ярко штриховали серое полотно. Изо всех сил я воображал себе полную пустоту. Но недолго.
«Отпусти меня, ну, пожалуйста! Что я тебе сделал? Я только живу, люблю свою Алису и думаю, мыслю, при этом никому не навязываю своих мыслей. Отпусти, Венечка!» – захотелось взвыть мне.
Я не сделал этого только потому, что Фантомас только этого и ждал, как волчара запаха крови.
Сработал инстинкт самосохранения.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.3.
– Глупо «демократически» спрашивать у желудка, хочет ли он пищи духовной. Он ее не хочет, и по-своему он прав. Он живет хлебом единым – и это честный лозунг диктатуры натуры . Вся духовная и социальная парадигма сработана под эту диктатуру, и обслуживает ее.
С точки зрения человека, которого невозможно редуцировать к желудку и который, вследствие этого, жив не хлебом единым, по отношению к «желудку в панаме» необходимо осуществлять диктатуру культуры , чтобы поддерживать человеческие кондиции.
Не замечать этого определяющего противоречия эпохи – значит, фактически поддерживать диктатуру натуры. С кем вы, мастера культуры?
В плане философском и нравственно-духовном, личностном, требования культуры более или менее внятны. Но что значит диктатура культуры в плане социальном? Ведь миллиарды желудков в панаме будут против того, чтобы им навязывали азы культуры.
Лишняя личность в духовном отношении – значит лишний и в плане социально-психологическом (в том числе морально-нравственном), и природно-физическом. По полной программе, по всей корявой парадигме. Все не так, как у людей. Урод. Монстр. И лишний измениться не может, и люди – тем более. Лишнего хочется ликвидировать, лишить его жизни. И, заметь, лишнего не жалко, ибо он даже не образует сколько-нибудь заметное меньшинство, он всегда подозрительно один.
Вот это временное равновесие, культурный тупичок и есть духовное содержание эпохи. Хорошо. А дальше? Попытаемся заглянуть в ближайшее будущее.
Духовные ценности должны определять характер социума – то есть люди должны будут измениться, прогнуться под лишнего. Должны – ибо информация более высокого порядка определяет информацию порядка менее высокого. Это закон. Всеобщий, в том числе гуманитарный.
Диктатура культуры – это диктатура Закона. Это, как ни крути, право силы. Значит, социум придется ломать? Духовно – и, значит, социально-психологически, и физически? Ломать волю тех, кто привык жить хлебом единым? Именем культуры? По всей корявой парадигме?
Благородный мотив здесь один: если не ломать, будет еще хуже. Следовательно, социальная революция неизбежна?
Это, конечно, напоминает логику большевиков – с одной только поправочкой. Логика большевиков, формально-диалектическая логика, родившая сумасшедшую доктрину о «диктатуре пролетариата» – это карикатура на логику диктатуры культуры, на логику тотально-диалектическую, которой во времена большевиков не было и в помине. Сначала появилась карикатура, и только потом оригинал. Считать ли это достаточным основанием для того, что оригинал был скомпрометирован, еще не появившись на свет? «Телега впереди лошади» если и аргумент, то аргумент из арсенала все той же формально-диалектической логики.
Но социальные пертурбации – это не шутки. Как относительно безболезненно привить культуру на древо жизни? Или относительно безболезненно – это относительно мало крови?
Как?
Все законы, на которых основана диктатура культуры, прописаны; ситуация почти революционная. Для реализации воли к культуре не хватает той самой воли к жизни. А воли к жизни как момента воли к культуре не хватает потому, что пока в избытке витальное вещество, которое питает диктатуру натуры. Понял?
Я чувствовал, что Веня «поплыл». Он на моих глазах пал жертвой Логоса, не излюбленного своего нейро-лингвистического программирования (НЛП), которым пытался он околдовывать меня, а Логоса, Смысла, когда «ничего личного» становится глубоко личным. Я точно угодил в его ахиллесову пяту.
– Пошёл на х…, – сказал Барон, глядя на меня пустыми, стекленеющими глазами.
Это означало, что сегодня – возможно, к моему великому сожалению, – я победил окончательно. Моя победа в отличие от «поражений», которые только и бывали настоящей победой, не гарантировала мне никакого завтра.
«Победа» очень напоминала поражение.
Серое небо, облитое по краям густым сливочным кремом, выглядело тревожно и умиротворенно одновременно. Сливочное солнце соскальзывало за горизонт.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.3.
«Вскоре после этого на территории ДН Планета Плутон взметнулись ввысь небесно-голубые купола храма Господня в честь святых Петра и Февронии. Строили быстро, силами нескольких бригад.
И вот тут-то начало твориться необъяснимое. Храм вскоре завалился набок, купола «поехали» (кресты, естественно, подались к земле), как объяснили строители, но не разрушились, а как бы замерли, накренясь (зодчие и прорабы никак не могли определить тип и характер строительной ошибки). Батюшки, которых приглашали служить в храм, один за другим заболевали и отдавали Богу душу, сиречь умирали. После третьей смертельной хворобы священнослужители стали отказываться от крайне выгодных предложений; само баснословное предложение они рассматривали как известного рода искушение. Филя, которому с лёгкой руки Барона намертво прилепилась кличка Туз, вновь «поднялся» (ему несказанно везло в картах), но, после исповеди в храме, потерял дар речи. Сам барон д` Огород…
Впрочем, видели его крайне редко, и потому болтали всякое.
Мирская слава Планеты Плутон становилась всё мрачнее и мрачнее, поползли зловещие слухи.
Однажды в Центре появился отец Сысой – цветущего вида мужчина, с ухоженной густой бородой, которому чрезвычайно шёл черный цвет, с влажными вишневыми губами и прямым открытым взглядом. Осмотрев церковь и многократно, размашисто осенив себя крестным знамением, он попросил аудиенции у Барона.
Барон принял пастыря.
Вскоре начались чудеса. Храм выпрямился (причём, брак в стене устранили всего несколько рабочих, просто и обыденно), кресты гордо держали перпендикуляр, верующие охотно потянулись к святому месту, где их неизменно встречал уверенный отец Сысой. Туз вновь обрёл дар речи, а барон д` Огород…
Его в церкви не видели, но с отцом Сысоем он здоровался за руку, если случалось встречаться лицом к лицу.
Туз, пришедший в себя настолько, что уже желал жениться на медсестре Татьяне Оливье, рассказал Барону следующее.
– Они везде – но они не мешают жить. Понимаешь? Они тебя не трогают, словно одобряют твоё поведение. Вот я на исповеди признался, что общался с теми силами – так батюшку хватила кондрашка, а я с перепугу замолчал. Потом вижу – нет, они не мешают мне ходить в храм. Они не против. Понимаешь?
– Кто «они», Туз, как ты себе это представляешь?
– Барон, мы же все в их власти. Неужели ты думаешь, что тебе дали бы Плутон построить, если бы ты делал что-то не то? Значит, Плутон – богоугодное дело, смекаешь? Или вспомни, как я тебя спас… Ты ведь был уже труп, утопленник. Я достал со дна моря неживое тело, и чуть сам не утоп. А ты ожил, волей кого-то всемогущего… Это ведь не я тебя спас.
– Туз, а тебе не кажется, что ты – это уже не ты? Ты уже не тот, прежний расп…дяй, ты стал крепко верующим. Разве нет?
– Конечно, я верю. Я столько пережил. Только вот не знаю, как назвать моего Бога.
– Это неважно. Как говорит Платон, если ты не веришь в себя, то непременно поверишь в высшие силы. В чём-то он прав…
– Знаешь, Барон, не доверяю я Платону. Он какой-то не наш.
– Это не твоего ума дело. Ходи в Божий храм и молись своему дьяволу.
– Да я, вроде, Богу молюсь.
– Вот и молись. А о чём молишься, кстати?
– В карты мне везёт, тьфу, тьфу, тьфу, жениться собираюсь.
– Так ведь твоя Танька на ведьму похожа, разве нет, шулер?
– Ну, и что, что похожа? Я чувствую, что поступаю правильно. У меня на душе спокойно, понимаешь?
– Понимаю, понимаю… Потому и храм для вас построил. Пользуйтесь. Ни в чём себе не отказывайте».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.3.
Офелия Виноград не была коброй; она оказалась изумительным экземпляром рептилии того рода, в котором эгоизм счастливо маскировался под заботу об интересах другого. Она думала только и исключительно о себе – а избраннику ее казалось, что заботится она исключительно о его персоне.
Выяснилось это достаточно скоро и грубо. Пока я жил с Офелией и думал об Алисе (тщательно скрывая от Алисы само существование Офелии), земная Офелия делила меня с неким Альбертом Короедом, самоотверженно принимая все его слабости и недостатки. Растроганный Короед в знак благодарности сделал Офелии официальное предложение. Подарил ей кольцо с дешевым бриллиантом. С которым она явилась в мой дом.
– И давно у тебя с Альбертом? – попытка подавить брезгливость делала мой вопрос несколько надменным.
– Дорогой, но ты меня полностью устраиваешь! – был ответ.
Понятно. Если женщина принялась отвечать не на те вопросы, делать большие глаза и вообще «включать блондинку» (Офелия, кстати, и была яркой блондинкой – светлым пятном в жизни всякого повстречавшегося ей на пути мужчине), значит, она неуклонно следует своему плану, о котором, скорее всего, и сама понятия не имеет. Она просто и естественно держит тебя за дурака, прикидываясь при этом полной дурой. Меня, тебя, Альберта. Всех.
И что опять меня поразило в женщине: она не испытывала угрызений совести, она сразу же стала искать повод обидеться. Кто не верит слезам, любит поплакаться.
С этим проблем не возникло: поводов я дал ей сразу несколько. На выбор.
Проблемы возникли с «нравственным законом во мне». Но это были уже мои проблемы. Я понял так, что «битый небитого везет» – это сказка не о животных, это сказка, созданная самими животными, в частности, лисой. Или коброй. Или скотиной волком. И сказка эта становится олицетворением «народной мудрости».
Какие еще нужны доказательства чудес?
Вскоре я решил, что пришел черед Алисы. Ибо: она не кобра и не эгоистка.
Она мой последний шанс.
И я послал ей SMS-сообщение: «Ты испекла мне сыромак? Кстати, выходи-ка за меня замуж».
Ответ получил быстро. «Я должна подумать. Мне уже сделали предложение».
Зачем же так лупить меня по фибрам?
Зачем же так хватать меня за жабры?
Среднестатистическое нечто, типа Альберта, которое разбрасывается предложениями направо-налево от неуверенности в себе, не отдавая отчета, что эта его, мужская, неуверенность придает ей, женщине, уверенности в себе, – «это» опять перешло мне дорогу?
Нет, это Алиса от отчаяния!
А если она серьезно…
Что ж, своим выбором она назначила цену самой себе.
Или это от молодости и от неопытности?
Тогда надо помочь ей разобраться, надо спрятать свое самолюбие в карман и позволить ей ощутить мою уверенность.
Мне так хотелось придумать ей оправдание – тем более, что ощущение рыльца в пушку не давало мне покоя. Если бы не было истории с Офелией – я имел бы полное право обидеться. Я как человек чести просто обязан был бы сделать это. Но ведь Офелия была. Да, Алиса ничего не знает об этом (я надеюсь). Но ведь я же знаю. Если я буду вести себя так, будто Офелии не было, я буду врать. Я превращусь в дешевого Альберта. Что несовместимо с любовью.
Как быть?
Ведь если быть честным до конца, то именно я и никто иной загнал ее в ситуацию выбора, когда и выбирать-то нечего. Сам факт паузы (сложный, якобы, выбор) – это ее способ сохранить лицо, обрести и закрепить чувство собственного достоинства.
С другой стороны, факт паузы – это еще и способ поставить меня на одну доску с каким-нибудь Альбертино. Я, увы, это заслужил, а она, увы, это почувствовала.
Формально прав был я, а по сути нравственно сильнее была ее позиция. Потому что она не врала, а я врал. Она своими фибрами ощутила, что в моем поведении что-то не так.
Мне пока никак не удавалось не врать, не лукавить. Я чувствовал, что настоящая сила приходит тогда, когда ты не врешь. Это очень сложно – не врать в конечном счете . Дело ведь было не в том, что я был с Офелией; дело было в том, что я тем самым перечеркивал тот вариант жизни, который в глубине души считал единственно правильным для себя. Я предавал не Алису; я предавал себя.
Но понял это только пройдя через предательство, раньше понять почему-то не получалось. Вроде бы, и претензий больших к себе не предъявишь (не сознательно ведь врал!); но правда была в том, что я не столько объяснял, сколько оправдывался, уши у меня при этом были опущены, а рыльце, измаранное пушком, приходилось часто облизывать. Жабры ходили ходуном. Физиологические симптомы нравственной нечистоты были налицо.
Алиса же не врала – и я любовался ее поведением. Даже если я выдумал ее, даже если такой Алисы не существовало, мне нужна была именно моя мечта.
Я понял, чего хочу, врать больше не имело смысла, и во мне проснулась жажда действий.
Добиться Алисы – вот что стало моей целью.
Вариантов действий были тысячи. Я мог позвонить, а мог и не звонить. Не звонить, опять же, можно было по-разному: не звонить час, два, пять, двадцать четыре. Позвонить сию минуту – но что при этом сказать? Можно поинтересоваться погодой, можно доложить о погоде, можно спросить о книге, можно сказать, что люблю…
Тысячи вариантов.
Можно послать SMS – и опять же куча нюансов. Я настолько увяз в соображениях тактических (благо со стратегией все было ясно), что мне стало казаться, будто все будет зависеть от того, как я поступлю и что скажу.
Потом я понял: если мне судьба зависеть от таких мелочей, значит, «не судьба» и есть моя судьба. А если нам судьба быть вместе, что бы я ни сказал, судьбу не изменишь. Придумал я Алису или не придумал: вот в чем вопрос.
И все же судьбе надо помогать (так, вместе с крепнущей мыслью во мне просыпался мужчина). Надо было что-то сделать, и сделать правильно.
И я решил отправить SMS. «Можешь уйти от меня – уходи без предлога. Не можешь – не ищи предлог, чтобы остаться. Просто скажи «да». И пригласи меня на чай с сыромаком. Иногда надо помогать судьбе».
Получил ответ: «Я не ищу предлог. Но сейчас не вернусь».
Самое сложное в мире – разобраться в своих чувствах. Чем умнее человек – тем умнее его чувства. Самое сложное чувство – любовь. Оно по силам только разумному мужчине.
А когда любовь приходит в соприкосновение и взаимодействие с иными укорененными в человеке чувствами, вторгается в его сбалансированный мир (где, правда, к любви уже все готово – иначе зачем вся эта подготовительная работа?), бывает очень сложно понять, чего же человек хочет на самом деле.
Испытываешь изумление, доходящее до степени столбняка: взрослый мужчина, уже отчасти познавший себя (ибо познал, что есть познание), вдруг оказывается в ситуации, когда он не в состоянии себя понять!
А все потому, что все потребности, мотивы поведения, осознанные и неосознанные идеалы одновременно пришли в движение. Все бурлит, клокочет, неумолимо обновляется – кажется, что происходит революция. Кажется, что человек становится другим. В какой-то степени так оно и есть. Вот почему разобраться в себе в этот момент – значит, понять нового, другого человека.
Но это только начало беды, под названием счастливая любовь. Когда ты себя поймешь, наконец, тебе предстоит осознать тот грустный факт, что почти невозможно объяснить свои чувства любимой женщине. Обнаружить их можно – а вот разъяснить нет. Ты остаешься один на один с собой, со своими чувствами. Кто бы мог подумать, что именно любовь делает человека безнадежно одиноким!
И самое страшное – надо в гордом одиночестве принимать решения. Угадывать и взвешивать риски. Бояться. Быть неуверенным – и в этом хаосе принимать верное решение. Это возможно, если не врать. А врать себе на таком уровне умственного развития почти невозможно. Духовный аристократ не врет – просто потому, что для него это противоестественно. Этот признак – не врать, не разрушать нравственный закон в себе – служит родо-видовой отметиной, словно рога у оленя. Аристократ, он же мужчина, не врет.
Вот это все и называется серьезные отношения с женщиной. И только такие отношения создают мужчину. Глубокие отношения не могут быть не мучительны. А любить превращается в искусство – искусство прощать (основа которого, конечно, ремесло), вовремя закрывать и открывать глаза, любить себя, мыслить. Плакать. Смеяться. Ненавидеть. Ревновать. Таить надежду.Почему – «не вернусь»? И почему – «сейчас»?
После нескольких дней мучительного ожидания я не выдержал и позвонил.
– Знаешь что, – сказал я, – ты со своей средненькой внешностью и средней душой просто боишься быть рядом со мной. Ты решила отказаться от счастья, за которое надо бороться, решила быть с Альбертом, так? Лучше синица в руке – так это называется?
– Я не боюсь, – сказала она.
Боже мой, что я наделал, зачем с языка моего сорвалось то, что продиктовано было отчаянием!
И я, прикусив язык, сел писать ей письмо, подбирая слова и стараясь быть объективным.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.3.
Темнота.
Крупная угольно-черная ворона с серым клювом (перья словно наклеены и покрыты тусклым лаком) алчно копошилась в зеленой стриженой траве.
Я долго смотрю на нее взглядом, упирающимся во что-то во мне.
Странная штука любовь: бывают минуты, когда я не люблю свою Алису – и страдаю от этого.
Скрываю это сам от себя.
Темнота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.3.
Дежавю. Новый виток.
Поединок роковой вступал в новую стадию. Это был еще не девятый вал, но шторм усиливался. У моей ревности появилось новое лицо или, если так можно сказать, открылось новое дыхание. Ревность моя – при моем-то умище, который квалифицировал ревность как форму идиотизма! – стала питаться невозможностью прибрать к рукам всю женскую природу моей возлюбленной. (Я ведь говорил: во сне я почувствовал себя Алисой. Нет, Алису в себе. Нет, примерил роль Алисы. В общем, ощутил мужское начало как оскорбительное продолжение женского).
Я испытал (стыдно сказать) ревность к ее желанию иметь ребенка. И эту патологическую ревность взрастил во мне – кто бы мог подумать! – мой умище. То бишь, жалкий интеллект-овца, прикинувшийся волком-умом. И все это под бдительным оком разума. Невероятно.
Вот как это было. Однажды…
Нет, эту занимательную историю следует излагать иначе.
Во мне вдруг обострилась реакция на верно изложенные логические доводы (очевидно, так интеллект и усыпил разум).
Любит ли Алиса меня?
Алиса любит меня (действительно любит!) – как потенциального отца своего ребенка. Как исполнителя своей мечты. Как волшебную палочку.
Но палочку нельзя любить саму по себе. Она любит свою мечту – а ей, да и мне, кажется, что меня. Но есть ли для нее в этом мире я как я, Платон, существующий отдельно и независимо отдельно от ее мечты (против которой я, разумеется, ничего не имею против)?
Или я могу быть только приложением к светлой мечте?
Но тогда, в принципе, приложением может быть любой паршивый альфа-самец. Не так ли?
Я обращался к разуму и разум диктовал мне:
Поступок – это действие, мотивированное ценностями культуры, следовательно, совершенное вопреки императивам натуры. Поступок оценивается по шкале нравственности.
Совершать поступки дано разумному человеку, личности.
На долю дурака остаются активные действия, которые оцениваются по шкале морали.
Поступок часто идет вразрез с активными действиями, точно так же, как нравственность – с моралью.
Исключения составляют поступки женщины, продиктованные любовью к ребенку и его отцу, мужчине.
Так, так. И что же: я для нее Платон или Волшебная палочка?
Разум тупо молчал. Ему не нравилось, когда его припирали к стене.
Жажда абсолютного владения Алисой сводила меня с ума.
То, что я испытывал, можно назвать неразумной ревностью разума к той сфере, которая разуму не подконтрольна.
С точки зрения разума, Алиса мне не принадлежала, разве что отчасти, малую толику.
И надо же, чтобы именно в это смутное для меня время Веня бросил мне на ходу одну фразочку, которая упала, как семя в подготовленную почву: «Если женщина захочет иметь детей, ее ничто не остановит. Ничто!»
Фраза показалась мне загадочной сразу с нескольких сторон. Во-первых, Веня мог намекнуть на то, что Алиса любой ценой хочет иметь ребенка. Что значит для продолжательницы рода человеческого любой ценой произвести потомство? Выражение становится бессмысленным, ибо какая цена у абсолютной ценности?
Любой ценой – значит, то, что значит: цена не имеет значения. Любой ценой – в том числе, ценой измены (по понятиям мужского, культурного мира). Если ребенок сейчас важнее всего на свете и если у нее не получается с законным мужем, почему бы не сменить партнера? В любом случае, это будет ее ребенок. А мужу можно ничего не говорить. Если природа в женщине сильнее всего остального, то женщину (читай: природу) действительно ничто не остановит. Ей нужен донор, а не я, Платон.
Ребенок – вот ключ к Алисе. Вовсе не мои достоинства.
Во-вторых, Веня мог сказать эту фразу с иным умыслом – с желанием намекнуть, что Хозяин в курсе всех деталей молниеносной секс-интрижки с его женой, Венерой. И в таком случае каждую секунду следует ждать мести-подвоха от Вени.
И проект мести под названием «Платоныч, сын Алисы от Вени» – это, конечно, мечта иезуита. Можно не сомневаться: если Веня захочет отомстить (а если Венера даст повод для мести, то он непременно захочет), то он отомстит именно таким образом. Никак иначе.
Я сам, собственными руками сотворил для себя идеальную ловушку, сам влез в нее, закрыл дверь на замок, ловко выбросил ключи – и теперь вот впадал в отчаяние от безвыходности ситуации. От большого ума, судя по всему.
Мы с Алисой стали отдаляться. Вроде бы, никаких осязаемых проблем, ничего конкретного, а неосязаемые трещины поползли по самому фундаменту наших отношений.
Я почувствовал, что она сомневается в своей любви ко мне – из-за того, что я стал меньше любить ее. А количество моей любви уменьшилось потому, что я стал сомневаться в ее любви ко мне. Почему мы раньше избегали этого замкнутого круга, а теперь никак не могли из него выскочить?
Скорее всего, потому, что нас оберегал другой замкнутый круг: чем больше я любил ее, тем больше получал любви.
Объяснение было неизбежно; но что стояло между нами?
Если выяснять отношения – то что выяснять?
Я начинал хитрить сам с собой, думать невнятно и путано, – и сразу как-то так стало выходить, что во всем виновата Алиса.
Как только начинаешь думать неправильно, сразу же соблазнительно подворачивается вопрос «кто виноват».
Это очень сладкий для человека вопрос. Гораздо слаще, нежели «что есть истина», например. Вроде бы, и мыслит человек, и анализирует человечище, и докапывается до первопричин, и при этом не он виноват, по определению, а кто-то другой. Самооценка после таких «оздоравливающих» психостимулирующих (под видом мыследеятельности) акций резко повышается, человек окончательно запутывается, однако до следующего кризиса (который не заставит себя долго ждать и будет, разумеется, покрепче предыдущего) он ходит Гоголем.
С каждым разом вопрос «кто виноват, будь оно проклято» требует все более и более иррационального подхода. С логикой становится все напряженнее. В конце концов, религиозное решение вопроса в силу его «запутанности» представляется единственно верным (и тут наступает эффект долгожданного, но кратковременного катарсиса). Последняя иллюзия, словно сильнодействующий наркотик, приносит человеку невероятное облегчение.
Следующей, после глубокой веры, стадией логично идет самоубийство – вследствие глубокого неверия в себя. На наркотике долго не протянешь, как известно науке.
Кто виноват?
Алиса.
Почему?
Потому что в моей Алисе жила хтоническая шевелящаяся темень, как в бабе дремучей, болотной. И мне трудно было простить это ей. Но нравилось мне в ней именно это – то, что никак не принадлежало и не могло принадлежать мне одному!
Так кто виноват?! (А-о-и-о-а?!)
Алиса!! (А-а-а…)
Почему?! (У-у-у…)
Потому что, она не могла быть вечно моей в каком-нибудь дурацком метафизическом смысле, потому что у меня не было и быть не могло ключей от ее сердца; от меня требовалось вечно прилагать усилия и вечно удерживать ее, и тогда она, возможно, будет вечно моей, куда она денется.
Она должна стать для меня такой же мечтой, как для нее ребенок?
Тогда это будет уже наш ребенок.
Кто виноват?
Алиса.
Почему?
Потому что мне больно.
Умом я уговаривал себя, а в сны это прорывалось грубой правдой.
В конце концов, я, как Гамлет, принц Датский, решил поставить эксперимент: что будет с Алисой, если меня не будет?ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.3.
А вот могила моя мне понравилась.
На ней, разумеется, пока не было памятника, зато все остальное было весьма впечатляюще. Прежде всего, радовало место: оно было замечательным. Кладбище находилось сразу за городской чертой, а могила – на краю кладбища; невдалеке видно озеро, что как-то настраивало на вечный лад.
Вот только проект памятника, давно созревший в моём воображении, сюда явно не годился. Фотография моего тезки была пришпилена на покосившемся кресте, но она была такого качества, что трудно даже было сказать, похожи мы с ним или нет.
На первый взгляд – не похожи. Шевелюра, форма ушей были явно другой породы. Но вот в типе лица и в соотношении черт, как ни странно, было что-то общее. Глаза – те вообще могли бы принадлежать мне, настолько они были нечеткими. Думаю, если бы я привел сюда Смех С.В., то мне было бы сложно доказать ей, что под крестом лежу не я, а кто-то другой. Вот фото моего паспорта, а вот фотография на кресте: только специальная экспертиза обнаружит …ть различий, что уж тут говорить о скромном старшем менеджере ЖЭСа.
Надпись на кресте, о которую запинались мои глаза, повергала в шок: я, живой, смотрел на себя, заживо погребенного. Пришел поклониться собственной могиле. Или это на самом деле не смешно?
Ладно. Отвлечемся от комической стороны дела, перейдем к трагической.
Рано или поздно я буду лежать в подобном месте (не место – мечта, с точки зрения живого). Вот так же: кривой крест, не такая пышная шевелюра. Но в принципе все очень правдоподобно.
Какого памятника заслуживал я, покойный? Да и заслуживал ли вообще? (Странно, но в поток моих рассуждений ни разу не вклинился тревожный импульс «тьфу-тьфу-тьфу».)
Этот вопрос занимал меня не на шутку. Жил, жил, а памятника так и не нажил, не заслужил. В таком случае, какая разница, жив я еще или уже умер?
Знаменитых писателей или поэтов часто изображают сидящими на скамье; они смотрят куда-то вдаль, и это всегда печально. Такой памятник стоит у Зощенко на могиле, в г. Сестрорецке. Рядом с рекой Сестрой. Но мне такой памятник не подходит. Сидеть и смотреть вдаль, вперед, в будущее – это надо заслужить. Во весь рост?
Тогда как, интересно, изобразить мои руки? Я и при жизни не знаю, куда их девать, когда стою без дела. В полный рост – до этого, извините, надо дорасти.
На корточки приличного человека в бронзе не посадишь; лежа – это уже не памятник, а репортаж с похорон. Барельеф?
Шевелюрой я не вышел. Волевые складки где-нибудь в области рта?
А есть у меня воля? В чем она проявилась?
Можно было бы намекнуть на род деятельности: актеру – бабочку или колпак шута, художнику – кисть с палитрой, астроному – телескоп, композитору – мелодию, записанную на нотном стане; дирижеру – палочку в правую руку, летчику – самолет, полководцу – …
С полководцем сложнее. В крайнем случае, полководца можно изобразить верхом на кобыле. А мне? В чем я проявил себя? В намерениях? Да… Мне еще хуже, чем полководцу.
Бюст?
Но надо изваять так, чтобы отразить характер покойного: можно увековечить его восхитительную злость или доброту, запечатлеть блистательное равнодушие или выставить усопшего просто нервным.
А я каков? Разве что задумчивый. Сомневающийся. Могут принять за мыслителя. Не годится. Это обман потомков.
Шикарнее всего, конечно, красноречивая простота. Корявый автограф на камне. От которого продирает мороз по коже. Платон Скарабеев . Нет, еще проще: Платон . Для умного достаточно.
Но для этого нужна всемирная известность и куча памятников за пределами кладбища.
В этот момент ко мне подошел могильщик. Он посмотрел на меня, потом на фотографию на кресте, потом опять перевел взгляд на меня. Я похолодел.
– Dum spiro spero, – изрек, наконец, могильщик.
Теперь я посмотрел на него самым внимательным образом.
– Читатель ждет уж рифмы розы , не так ли? – вопросил он и, не дожидаясь ответа, удалился.
А ставят ли памятники за жизнетворчество? Локти на столе, кулачки подпирают подбородок, взгляд устремлен в небо за окном. По-домашнему и вместе с тем есть полет в вечность. Прожить в такой позе можно, а вот для памятника она вряд ли годится.
Я уже не говорю о любви. Которая не умирает. Любовь и памятник – это пошлое сочетание.
В конце концов, я решил, что с воскрешением следует подождать – по крайней мере, до тех пор, пока я не заслужу памятник.
Мне надо было понять, зачем я живу, и стоит ли мне жить дальше.
Только вот как сказать об этом Алисе? Каково ей будет узнать, что она жила с «нежильцом»!
Из уважения к Алисе я решил, что жертву мне изобразить все же надо, – как же так, заживо похоронили человека! и выписали из собственной квартиры! и денег не берут за проживание, будто я призрак какой! – но воскресать, тем не менее, не хотелось.
К моему удивлению, Алиса трезво и правильно оценила ситуацию.
– Конечно, конечно, поживи отдельно, подумай, что ты увидел в этой треклятой картине… Может, к психотерапевту стоит сходить?
– А почему сразу не в психушку? Или в морг, например?
Наверно, и чувство юмора у меня сильно изменилось: мне не удалось рассмешить Алису с тех пор, как я грохнулся в обморок перед картиной.
Я пошел в паспортный стол, заявил об утрате документов и приготовился к долгой бюрократической процедуре, которая, в принципе, могла закончиться либо сумой (в лучшем случае), либо…
– Вот анкета, заполняйте. Печатными буквами. Большими.
– Я и не зарекаюсь, – ответил я.
Заполнил анкету на получение нового паспорта на имя Вениамина Девятьярова (такова была девичья фамилия моей матери). Выводить свое новое имя и судьбу большими печатными буквами, как на памятнике, я так и не смог себя заставить, поэтому оживил строгие клеточки анкеты своей каллиграфией.
Каково же было мое удивление, когда я получил паспорт на имя Венедикта Девятого!
– Разве Вениамин и Венедикт не одно и то же? – удивилась паспортистка. – И потом: у вас такой корявый почерк, как… у неживого, ей-богу.
Я счел за лучшее не оспаривать свои сомнительные права и удалился в новую жизнь с новым именем. С гордо опущенной головой.
– Кто ты теперь? – спросила Алиса.
– Как тебе сказать… Зови меня Веня.
– Как Гербицита? Эту толстокожую скотину? Ни за что!
– Вообще-то я пожелал стать Вениамином, если в этом мире хоть кого-нибудь интересует точность…
– Нет, ты для меня всегда будешь Платоном! Всегда!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.3.
– Я знал, что вы подружитесь! – встретил меня Веня, когда я возвращался с прогулки. На руках его благополучно восседал живой и здоровый Марсик, с фараоновской ленцой и азиатским бесстрастием щурившийся на мир.
– Ты о чем? – спросил я, леденея изнутри.
– Ты ведь не станешь теперь избегать общества Астролога?
– Это он тебе сказал?
– Ну, да, он.
– А еще что он наплел?
– Сказал, что ты настроен к нему дружественно. Разве нет?
– И весь спектакль, то есть наш разговор, изобразил в лицах?
– Какой спектакль? Он сказал, что не ошибся в тебе. Вот и все.
– Мне он сказал нечто иное.
– А-а, понимаю… Не знаю деталей, но не бери в голову. Видишь ли, на него иногда находит. В него словно вселяется другой, в нем оживает другая личность. Теневая. Он раздваивается. И на время перестает контролировать себя. Я его в таком состоянии не видел, но знаю об этом по его рассказам. А также из иных источников. У него тяжелая судьба… Кстати, нельзя ли поподробнее, что за спектакль он учинил?
– Да ладно, я погорячился. Ты же знаешь, мне не нравится его улыбка.
Что-то подсказывало мне, что Веня действительно не знает о нашем разговоре с Астрологом. Пока не знает. Вот только к добру ли это?
– У меня к тебе дело, – сказал Веня, почесывая за ухом Марсика.
– Я сейчас немного занят…
– Дело серьезное и весьма необычное. Тебе предстоит… ну, скажем так, командировка. Вояж, выражаясь светским языком.
– Командировка куда – в окрестный лесок? Под белы ручки?
– Нет, не угадал; в город Венецию, есть такая точка на земном шарике.
– Ты выпустишь меня из ДН Плутон?
– Что значит «выпустишь»? Я тебя никогда не держал на привязи. Ты свободный человек, чем мне, собственно, и интересен. Ты отправишься в Венецию со своим новым другом Астрологом. Двое мужчин европейской внешности проведут время приятно и с пользой для дела. «Выпустишь»! Звучит обидно.
Веня определенно что-то задумал. Единственное, что я мог предположить с большой долей вероятности: дело было неординарное, важное, рискованное.
И еще: я, скорее всего, никогда не узнаю об истинных целях своей «командировки». Возможно, это был способ отправить меня на тот свет; но это плохой, неоправданно сложный способ. Гораздо проще избавиться от меня здесь, в ДН. Возможно, цель командировки – венецианец. Но почему я избран его сопровождающим?
Вопросов было слишком много, и задавать их себе становилось бессмысленным. Веня явно контролировал ситуацию, а мне явно отводилась роль подопытного кролика. Собственно, ничего нового. Просто еще один, очередной раунд. Что я мог противопоставить всемогущему Фантомасу? Пожалуй, только одно: я мог показать Вене, что я не сломлен духом и в принципе готов ко всему. Впрочем, он, вполне вероятно, именно на это и рассчитывает. Что ж…
– Увидеть Венецию, ты не поверишь, – было одним из моих капризов. Мечта юности. Ты, как всегда, угадал. Кроме того… Я согласен с древней заповедью спецназа: на службу не напрашивайся, от службы не уклоняйся. Зачем огород городить? Я готов.
– Ну, вот и ладненько.
Веня, похоже, нисколько не сомневался в таком исходе переговоров. А если и сомневался, то этого не узнает никто и никогда. Ну, и противник мне достался – врагу не пожелаешь.
– И в чем же смысл вояжа? Увидеть Венецию и умереть?
– Никак нет. Что-то слишком часто ты стал заговаривать о смерти. Ты нужен мне здесь живым. А смысл… Я бы сказал, не смысл, а цель командировки проста: вы доставите мне пакет.
– Из Венеции – сюда?
– Совершенно верно: из Венеции – сюда.
– Вопросов больше не имею.
Веня рассмеялся.
– Да ладно, – сказал он. – Как это «не имею»? Ты от меня что-то скрываешь. Едешь туда неизвестно куда, черт знает зачем – и ни единого вопросика? Это плохо. Я, твой начальник, не заслужил подобного оскорбительного равнодушия, которое характеризует тебя как плохого подчиненного. Члена команды.
– Что будет в пакете, Босс?
Веня рассмеялся еще громче.
– А ты вскрой и посмотри. Потом опять закрой. Я разрешаю. Там будет палочка с ваточкой. На которой – слюна с десны одной госпожи. Молодой и симпатичной.
– Материал для анализа ДНК?
– Возможно, и материал для анализа ДНК; возможно, чума двадцать первого века под видом ДНК. Вскрой, посмотри, если интересно. Свободен, солдат. Документы и деньги для командировки найдешь на этом столе. Через час.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.3.
– Мои астрономы, – сказал Веня, – давно уже поменяли представление о вселенной. То, что изучают сегодня в школе – это просто мифы древнегреческие. Вчерашний день.
Все держится на пяти китах – на пяти галактиках. Пентагон – вот основа основ. И выдвигается новая революционная гипотеза – о девяти галактиках. Почему революционная? Потому что девять галактик образуют уже качественно новое целое, нечто вроде шара, если ни о чем можно сказать, что оно имеет форму шара. Здесь представления о пространстве и времени могут измениться, измениться просто и забавно, и то, что мы видим, например, ты видишь меня, а я тебя, это уже было, несмотря на то, что оно есть и, вопреки всему, будет. Жизненные циклы в универсуме протекают параллельно – и всегда есть возможность подправить порочную практику. Правильно ты говорил: яблоко может падать и «в себя». Откуда, кстати, ты об этом знал? Ну, да ладно, придет время – сам расскажешь. Пойми, стать господином земли – это малость ничтожная, это просто ноль воображения. Давно уже пора думать о том, чтобы стать господином Пространства и Времени. И для этого у меня, сегодня, здесь и сейчас, есть все возможности. Пространство и Время – безхозны, отдаешь себе в этом отчет? Совмести галактики, научись кочевать по времени – и ты бессмертен. Бессмертие становится элементом творческой игры. Это философско-математическая задачка, а не биологическая. Поэтому не беспокойся за свою жизнь, понял? Никакого Бога нет, а бессмертие – без проблем.
– Почему же ты так трясешься за свою жизнь?
– Потому что я могу выпасть из цикла как нежизнеспособная ветвь эволюции. За жизнь и бессмертие надо бороться, этого никто не отменял! Вопрос бессмертия – это вопрос воли к жизни!
– А по-моему, бессмертие имеет лик закона. Обнаружил закон – прикоснулся к бессмертию. И потом… Прожить жизнь – это испытать все. Сто жизней – это модель абсурда, а космос он на то и космос, чтобы противостоять хаосу и абсурду. Ты говоришь о психологическом бессмертии, а я о реальном.
– Я говорю о физическом бессмертии, которое можно выразить в математических параметрах.
– Вот-вот, психологическое ощущение вечности непременно привязано к физическим параметрам. А я об информационном аспекте вечности.
– По-моему, мы с тобой из пустого в порожнее переливаем.
– Из пустого в порожнее – это великолепный тренинг. Не каждому дано. Здесь истоки реальной философии.
– Возможно. Но я не хочу таким образом убивать время.
– А что такое убивать время? Это значит ощущать время, давать времени жизнь. Время попадает только в ловушку смыслов. Пустота, возможно, самая подходящая ловушка времени. Интересно, есть ли закон пустоты? Информационный закон пустоты?
– Ты серьезно?
– Вполне.
– Спрошу у своих гениев. У меня их с десяток. Эйнштейн нервно курит в сторонке – таков масштаб дарования! Они, кстати, его ни в грош не ставят. Так, баловство. Формула для средней школы и средних умов. Между прочим, одного руководителя секретной физической лаборатории, где работают с нейтрино, зовут mr. Hell, а второго, зав. пространством и временем, величают mr. Heaven. Эх, Плиний, слишком близко ты подошел к тому, что можно доверить только специально подготовленным и тренированным людям. Я тебя к сути жизни допустил! А это смертью пахнет.
Жизнь человека уже давно поставлена на карту, и никто его, человека, об этом не спросил. Так, информируют о прорывах, которые известны по Нобелевским премиям. А ведь Нобеля дают – гладят по головке и закладывают сахар под язык – за вчерашний день. Сегодня у настоящих ученых уже другие стимулы и задачи иного порядка. Мы отрегулировали количество миллиардов, которые в состоянии прокормить планета: получилась цифра 9; мы уже прикинули, как распределить этнические квоты; мы сляпали машины на водороде – мои гении все уже запатентовали, все готово к массовому производству; мы научились строить дешевые умные дома. И так далее. Завтрашняя жизнь уже распланирована. Более того. Завтрашняя жизнь уже устарела, еще не начавшись. Открою тебе маленький секрет. Мне доставляет удовольствие ошарашивать умного человека, который вдруг понимает, что он живет позавчерашними иллюзиями. Слушай же сказку новейшего времени. Мои гении научились распылять в воздухе нейрочипы. Подышишь такой вот мельчайшей взвесью – и в мозг твой внедряются ма-аленькие крохи. И ты, независимый и свободный, со всем своим умищем становишься управляемым и ручным. И не надо уже никого физически убивать. Зачем так грубо? Дается команда – и человек самоуничтожается, самоликвидируется. Вспомни наших святых отцов, добрых грешников, царство им небесное. Кстати, каждый из них аккурат перед преждевременной своей кончиной собственноручно распыливал пастве своей несколько граммов, буквально орошал воздух капелью в их намоленной обители. Можно сказать, отцы сии потчевали братьев и сестер живительными глотками воздуха. Под Рождество. Результат превзошел все ожидания.
– Интересно, я дышал уже этой взвесью или нет?
– А зачем тебе знать? Узнаешь, когда придет время. Так вот, устроить комфортное существование для 9 миллиардов – это не проблема, все это мелочи жизни. Главное – во имя чего?
Вот тут все гении буксуют. И mr. Hell, и mr. Heaven разводят руками как домохозяйки, у которых никак не получается праздничный пирог. Все ингредиенты в наличии, печь прогрета до рекомендованной температуры, а результат корявый. Какой-то последний камешек в мозаике мироздания никак не хочет встать на свое место. Нет общей картины. Гении прогнозируют: не появится универсальной идеи, способной воодушевить всех и каждого, с таким трудом спланированное мироздание завалится как карточный домик. Вот из-за этой блажи и топчемся пока на одном месте… Энергию идеалов им, бестиям, подавай. Слово разум , если уж на то пошло, в разных контекстах встречается все чаще. Вынужден это признать. Должно быть, лестно услышать такое? Ты меня слышишь?
Я его и слышал, и не слышал. Слышал краем уха: это очень точное выражение. Его слова вызвали во мне неожиданную реакцию. Вместе с ощущением улёта я испытал ощущение смещения, ощущения разложения своего неделимого существа по информационным полочкам, ощущение структурной пертурбации – сам здесь, мысли там, а голова эвон где. Я притянул, уловил смыслы и в это мгновение сотворил смысловую гармонию. Как физики создают и удерживают антивещество или вещества, живущие доли секунд (но от этого эфемерные соединения не перестают быть моментом универсума), так и я ощутил модус информационного закона: целое мгновение во мне жили все когда-либо постигнутые мною смыслы одновременно. Я попросту стал моментом (атомом? нейтрино?) вселенной. И я произнес от имени сфер:
– Вот слушай, что я сейчас понял: закон вещества, закон пустоты, закон нравственности (личности), закон времени и закон пространства – это законы одной природы. И я есть закон для тебя, а ты – для меня.
– С чего ты взял?
– Говорю тебе: на меня прозрение нашло.
– Бога, что ли, узрел?
– Да нет же, экстрасенсорика сработала. Она ведь на смыслы тоже откликается.
– Платоша, хочешь, я тебя с Гигантюком познакомлю?
– Зачем? Мне с ним не о чем говорить…
– И то правда. А с mr. Hell’ом?
– Лучше с mr. Heaven.
– И о чем ты с ним будешь говорить?
– Об авторе «Одиссеи», разумеется.
– О Гомере?
– У меня есть сведения, что автором бессмертной, хотя и глуповатой эпопеи был, скажем так, другой.
– Мне чем-то не нравится ход твоих мыслей.
– Да это не мысли; это информация, которая существует во времени и пространстве.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.4.
– Так ты патриот, Веня?
– А как же? Всякий уважающий себя человек – патриот.
– Я как-то не улавливаю связи между феноменом по имени Веня и вполне сермяжным патриотизмом.
– А что тут улавливать? Надо мочить америкосов, желательно, их же средствами. Они нас всех за быдло держат, а сами стопроцентный «мусорок». У них нет будущего.
Я был несколько озадачен. Попытался вырулить на чистую воду:
– Они лидеры цивилизации, мы все на них равняемся, следовательно, мы все немного америкосы.
– Вот ты, Платон, равняешься на мусорок?
– Я – нет, но я не аргумент, я не объективный показатель; я хочу сказать, я и к своему родимому племени, к своей массе отношусь скептически…
– Именно ты и аргумент. К массе-племени иначе относиться невозможно; но америкосы к личности относятся так же точно, как ты – к массе. Улавливаешь?
– А русские что, относятся к личности иначе?
– Конечно! Они нутром чуют: личность – это и есть самый крутой перец.
– Что-то я не замечал за нашими такого. За русскими. Скорее, я порой впадаю в грех отчаяния: мне кажется, что цивилизация под названием «русский мир» умирает. Ее скоро не станет, как не стало цивилизации инков, древних греков, древних римлян, да мало ли кого еще. Мы исчерпали себя, что ли; у нас перестали блестеть глаза, мы утрачиваем волю к жизни… Боюсь, до личности мы не дотянем.
– Ты не служил в армии. Там есть экземпляры, которые демонстрируют такую силу духа, что америкосы отдыхают. Русские – интересная нация, а америкосы вырожденцы: вот и весь сказ.
– А китайцы?
– П…доглазые? Это биомасса, минимум креатива, дефицит серого вещества. Им в голову каждого недоложено граммов по двести. Саранча как таковая.
– Погоди… Ты от имени земного шарика или от имени русских? Ты же, вроде, элиту представляешь.
– Конечно, элиту, а элита – это и есть русские, поэтому они и должны представлять земной шар.
– Что-то у меня голова кругом. Ты ведь не к войне готовишься?
– Угадать, о чем ты сейчас думаешь?
Я думал вот о чем. «Патриотизм… Забавно. Смутные надежды, предположения, ожидания – оказывается, в нем жило все это, только он не догадывался, пока не встретил свою женщину. К тому времени он был разведен во второй раз, оставил ребенка, сына, кажется; в нем исподволь формировался гнусный комплекс холостяка и одиночки, комплекс, противиться которому было почти невозможно. Настоящее имя ему – разочарование в женщине. Еще более настоящее – разочарование в себе. Еще более настоящее – разочарование в человеке. Еще более настоящее – разочарование в культуре. И каждая новая встреча, которых он не искал специально, но и не избегал, только укрепляла его в том, что его разрушало: он разочаровывался быстрее, чем успевала вызревать робкая симпатия. Он уже понимал, что разочарование – результат сравнения женщины с идеалом, которым, оказывается, он незаметно для себя был очарован.
То же самое и патриотизмом. Если тебе наплевать на людей, при чем здесь русские? Они что, не люди?
Каким идеалом человека очарован ты, Веня? Ты пустил в свою душу тирана, та темень, где мхи и камни, стала источать аромат незабудок, и теперь вот ты, Веня, учишься страдать. Патриотизм… Ты ведь не патриотизм ищешь; ты взыскуешь…»
– Не все так просто, Плато. Я не столько философию господства пытаюсь обосновать, сколько… Скажи мне, ты считаешь меня умным?
– Не знаю, не уверен, что ты умный.
Скрывать не было смысла. Ставки в нашем противостоянии были слишком высоки.
– Ответ правильный. Если умен ты, то я уже не умен, ибо не подпадаю под твои критерии. Но вот тебе придется доказать, что ты умен. Я поставлю тебя в такие условия, когда выжму из тебя все, на что ты в принципе способен. Ты удивишь сам себя, если жить захочешь. Скажи, я рассуждаю как глупец?
– Нет, сейчас ты рассуждаешь здраво, даже умно; только я не уверен, что умный человек поступал бы так же, как ты. У тебя как-то ум за разум…
– Не финти. Для тебя ум и жестокость несовместимы, так? Вздор слюнтяя. А я вот носитель такого ума, при котором совместить могу все. А? Что у нас на кону? Жизнь. Не твоя или моя, а жизнь вообще. И я ее защищаю до последнего, ее можно доверить мне, я зубами перегрызу глотку любому врагу. А ты?
– Главным ты считаешь спасение во имя существования?
– Да! А ты? Ты возьмешь на себя ответственность за жизнь? В ком из нас Бог жизни свил гнездо? В ком больше витальной энергии? Силы?
Странно: я не нашелся, что ответить. Хотя ответ, казалось бы, лежал на поверхности. Во всяком случае, вопрос не поставил меня в тупик.
Но я не дал ответа. Отчего-то воздержался.
Лично для меня это был вполне определенный ответ.
Веня выдвинул ящичек стола, достал стопку страниц, бросил на стол. Я узнал свои заметки «А хотят ли эти русские жить?». Он убедился, что я увидел то, что мне показали, и вновь положил заметки в ящик. Задвинул и закрыл. Молча.
Стол – идеальная рабочая поверхность. Ничего личного, ни одной сентиментальной безделушки. За исключением, пожалуй, одной непонятной композиции: наперсток на небольшом серебряном блюдце. Иногда Веня в задумчивости перекатывал наперсток по краям блюдца, по столу, покручивал его в пальцах и со слабым звоном сбрасывал на блюдце.
Вот содержание моих заметок, если угодно.
А хотят ли эти русские жить?
Российские массмедиа стали запускать деморализующие нормального человека сюжеты.
И в этом стихийном процессе наблюдается переход количества в такое качество, которое уже настораживает и, я бы сказал, дурно пахнет.
То по либеральному телеканалу хапугу вице-губернатора Московской области покажут, который просто так, за здорово живешь, вывез из России миллиарды, и об этом все знают, а вот арестовать негодяя почему-то никак не представляется возможным: он, видите ли, был всего лишь человеком системы, винтиком, удачненько оказавшимся в нужное время в нужном месте – какой с него спрос?; то о коррупции в прокурорском корпусе расскажут со знанием дела и смакованием деталей, и при этом с тайным наслаждением пояснят, что наказать прокуроров-взяточников никак нельзя, потому как они фрагмент прогнившей системы; то о лесных пожарах заведут речь, чтобы подчеркнуть: все горит синим пламенем, а тушить попросту некому, ибо чиновники-коррупционеры в отпусках, проедают награбленное (опять же: отдельно взятый пожар не затушить отдельно взятым брандспойтом – это вам системный сбой, а не банальный пожар); то вот сегодня авторы патриотического журнала «Наше время», понаехавшие в Беларусь, стали с некоторым блеском в глазах рассказывать о том, что Россия как цивилизация – как система! – вымирает, что русские больше не хотят жить, уже не сопротивляются, и при этом авторов интересует не «как жить дальше», не модель выживания, а сладострастно будоражит совершенно отвлеченный, с точки зрения выживания, вопрос «кто виноват поименно в бедах матушки-России», то есть, авторы буквально иллюстрируют тип сознания инфантильный, безответственный, убогий, выморочный. Нежизнеспособный.
Примеров несть числа. Имеющий либо уши, либо глаза легко их приумножит.
Примеры складываются в систему, будь она неладна.
А система – в корявую судьбу. Эх…
Повторю: на человека, обладающего здоровым мироощущением, чувством собственного достоинства и внятным представлением о культурных ценностях, подобная «системная» симптоматика действует угнетающе.
Глядя на вышеупомянутых авторов, а равно и на их антигероев, которых они линчуют в стиле садо-мазо, хочется, чтобы эта Россия, которую болезные авторы, плоть от плоти деградирующей системы, как-то полномочно, уверенно, от души, представляют (при этом в старом добром русском духе то ли обожают отчизну (замечено, что при упоминании древнего имени Рогнеда у них наворачивается слеза), то ли презирают, то ли ненавидят), поскорее издохла.
Просто из человеколюбия и милосердия хочется, чтобы загнивающая система оздоровилась, пусть даже ценой собственной жизни. Загнанных, запутавшихся в постромках лошадей, оказавшихся в беспросветных тупиках истории (навоз застит свет, однако), ждет незавидная участь, не правда ли?
А как – оздоровилась?
Как?
Лично я согласен с авторами (вот только они вряд ли согласятся со мной): это вопрос не столько социального ноу-хау, сколько проблема наличия воли к жизни. Выживут, если захотят.
По отношению ко всем, в том числе и русским, сказанное звучит справедливо. Но по отношению к русским, разумеется, это звучит особо – особо актуально и особо экзистенциально. Просто – особо. Потому что русские – особые. Что имеется в виду?
Видите ли, мир устроен сложно и одновременно просто, что позволяет глубоко познавать этот мир или мелко спекулировать на глубине, кто во что горазд. Вот, скажем, немудреный тезис «запад живет хорошо» – это жизненный факт, который всегда становится аргументом в ловких руках либералов, норовящих как следует припечатать обескураженную Россию. «Мы, со своей статью, со своей особенной ментальностью славянского востока, не можем так жить, просто фатально не способны» – это тоже весомый почвенный аргумент, и тоже от жизни.
Прежде чем включаться в гибельный спор, попытаемся понять, откуда взялись две взаимоисключающие позиции, которые словно на роду написаны?
По большому счету, речь идет не о либералах-западниках или консерваторах-народниках; речь идет о двух картинах мира, о двух моделях жизнеустройства, к которым восходит спектр обслуживающих «западную» и «восточную, собственно русскую» ментальность идеологиях: о модели социоцентрической (которой бесконечно дороги права народа) и модели индивидоцентрической (которая истово радеет о правах человека). Озабоченные правами народа видят врагов народа (поименно!) в тех, кому дороги права человека; для вторых первые являются тормозом и пережитком (практически, теми же врагами, душителями свободы, если без оттенков).
Идеология – это часть правды, которая выдается за всю полноту истины; и часть правды в полном соответствии с диалектической природой любой информации действительно присутствует и в народном, социалистическом мироощущении, и в индивидуалистическом, волчье-капиталистическом.
И потому – вечный бой. Даешь правду! И глазки горят, и ручки к топору, и перо к бумаге.
Человек для народа или народ (общество) для человека?
И кажется, что мы стоим перед извечной альтернативой, и вот уже «всем сердцем» судорожно цепляемся за какую-нибудь правду. А там – воздастся по вере. Алгоритм – проще некуда; но он работает, вот в чем сложность.
На самом деле перед нами ложная альтернатива, которая, по сути, представляет собой гносеологический мираж. Или, если так привычнее, – тупик.
Что объединяет народников (в широком смысле) и гуманистов-либералов (в смысле узком)?
Их объединяет то, что они единым фронтом, народно-антинародным, выступают против прав личности. Там, где личность, – там культура и истина, там закон как познанная необходимость (не путать с одномерной правдой-маткой).
По большому счету, диктатуре культуры, диктатуре закона и истины, левые и правые противопоставляют диктатуру натуры, диктатуру силовой регуляции. Кто сильнее – тот и прав. Если побеждают индивидуалисты, которые за народ, за родину, – следовательно, народ прав; побеждают правозащитники с «человеческим» уклоном – значит, пора торжествовать идее справедливого общества.
Вот где подлинная альтернатива: диктатура натуры (природная, силовая регуляция) – или диктатура культуры (культурный регламент и порядок). Еще проще: психика или сознание.
За первой диктатурой стоят бессознательное приспособление и, как следствие, идеологическое освоение мира (вера). За второй – научная гуманистическая картина мира, опирающаяся на познание.
Субъект натуры – человек (гипертрофирована функция правого полушария).
Субъект культуры – личность (NB: функции правого и левого полушарий сбалансированы и приведены в гармоническое равновесие).
Идеологические корма – это духовная пища человека, истребляющего в себе личность. С одной стороны, в цене по-прежнему, как и века, как и тысячелетия назад, не философы, а проповедники – глашатаи правды с горящими глазами. Самый главный аргумент – горящие сдуру глаза. Правда посильнее истины будет (иначе говоря, сильная натура делает слабую культуру своей служанкой). Каждый желает перекрасить мир в свой цвет – правый или левый, красный или белый, черный или зеленый. Идеолог не умеет «думать» иначе – просто потому, что он не умеет мыслить.
С другой стороны, наступило время, когда идеологиям, любым идеологиям, сегодня нет доверия. Вопрос «что есть истина?» объявлен риторическим возгласом бездумно вопиющего в пустыне, ибо вопрос этот в плоскости идеологии утрачивает всякий смысл. Человек идеологический чувствует, что он врет, что ему врут, что смысл любой идеологии сводится к древней заповеди «кто сильнее – тот и прав». Смысл идеологии сводится к воле к жизни. К потребностям. К инстинктам.
Наступает усталость от идеологии.
Вот он, нюанс самоновейшего времени: с одной стороны, потребность в идеологии отменить невозможно, ибо ум и душа взыскуют «системного» мировоззрения; а с другой – нарастает усталость от идеологии, ибо в человеке все громче и громче говорит личность: душу верой уже не обманешь, а ум к науке, к философскому восприятию «вещей» еще не готов.
В этой изменившейся ситуации русские народники-почвенники упорно роются в своих корнях, а русские индивидуалисты без устали продолжают кивать на запад – и те, и другие, начитавшись родного до боли Достоевского, ищут спасительную идею в идеологиях. В этом – завораживающая особенность России, которая при ближайшем рассмотрении оказывается банальной закономерностью: русские, в значительной степени предрасположенные к познанию, всю энергию направляют на приспособление, отрываясь, с одной стороны, от народа, и не врастая, с другой стороны, в культуру.
А народ, превратившись в толпу и плевавший на все, в том числе и на восстание масс, – пьет, отказывается искать истину в идеологиях. Отказывается почитать вождей и святых. Отказывается просыпаться. Ленится жить. Навеки почил?
Народ словно чувствует: воля к жизни – в нем, в народе. Воля к жизни справится с любыми идеологиями. А вот идеологии не породят волю к жизни.
Отсюда следует: воля к жизни де факто стала самой привлекательной идеологией. Но в упор не замечать очевидного – особенность русских, которые волю к жизни научились искусно трансформировать в причудливые идеологии. Пар уходит в свисток (громко). В пустоту.
Хотят ли эти русские жить? – вот в чем вопрос.
Звучит зловеще, примерно так же, как – «что есть истина?».
Когда западники молятся на запад – они, словно дремучие восточные почвенники, молятся пням: молятся воле к жизни.
Ну, так и называйте вещи своими именами: чтобы стать составляющей нынешней западной цивилизации, в духовном (в идеологическом, будем откровенны) смысле надо опуститься, а в технологическом – подтянуться. Мы вслед за всем цивилизованным миром выбираем диктатуру натуры. Так? Так. В крапинку наша модель диктатуры или в полосочку – не суть важно. Неча на российскую систему пенять – не такая уж она уникальная, чтобы прогнивать тогда, когда все остальные процветают. Она не прогнивает – она обнажает свою простейшую суть. В основе системы – человек, а не личность. Как и везде.
Иное дело, что мир, похоже, может выжить только перейдя к диктатуре культуры (гармонии). К культу Личности.
Но это уже совершенно другой сюжет и принципиально другой разговор. И, возможно, у российской идеологической элиты с ее природной предрасположенностью к рефлексии, к анализу умонастроений, к возведению сложных идеологических системных комбинаций в этом всемирном процессе, в процессе перехода от цивилизации к культуре, есть неплохие шансы на лидерство. Возможно.
А пока цивилизация находится в агонии, в цене иное экзистенциальное вещество – элементарная воля к жизни.
Жить хотите, русские?
Сказанное дальше адресовано новому, молодому поколению, которое, конечно, ничем не лучше предыдущего, однако, надеюсь, менее идеологически ангажировано – следовательно, глупее, ближе к жизни. Адекватнее. Не стесняйтесь своего великого культурного наследия – станьте проще. Смените приоритеты (желательно не навсегда). Укротите буйные идеологические фантазии. Попытайтесь хотя бы перековать меча на орала, то бишь, идеологии на юриспруденцию и менеджмент. Хапуга вице-губернатор должен сидеть в тюрьме. Это удивительно стимулирует волю к жизни.
Оздоравливает атмосферу. Укрепляет систему.
И, к сожалению, становится национальной идеей.
С которой завтра, в эпоху культуры, придется сражаться не на жизнь, а на смерть, проявив теперь уже разумную волю к жизни.
– Оно же, сука, погаснет через несколько миллиардов лет, вот в чем загвоздка. Или наоборот: воспылает и испепелит все живое.
Веня любил вот так, безо всякой внешней мотивировки, переключаться на одному ему внятную волну.
– Дай попробую догадаться, о чем ты, Веня…
– Тут и дураку ясно: я о солнце красном. О Солнце! О, Солнце, о, соле мио! О, о, о!
– Предположим, погаснет. И что?
– Вот вы, умники, бесите меня, как кретины. Неужели не ясно, что вот эта неизбежная перспектива – Солнышку кердык! – влияет на мое поведение и на мой образ мыслей уже сегодня? Я уже проникаюсь тьмой. Вся тьма – оттуда, из будущего.
– Миллиарды лет – это, практически, вечность.
– Нет, тупость умников – это нечто особенное. Ты иногда, блядь, на чурку похож. Если мы будем сидеть и на звезды смотреть, миллиарды лет пролетят как одно мгновение. Меня знаешь, что в этой связи забавляет? Данте и Толстой превратятся в пыль. Любой гений, любые мозги и души – в пыль. Их недосягаемый результат в момент обратится в ничто. Представляешь? Я, ты, Моцарт, Пушкин – одна горстка пепла. Одна тьма на всех. Одна братская молекула. Нет, дьяволишко не дремлет, иногда его тупорылые космические ребусы забавны. Вот лично мне как нормальному человеку хочется в этот момент напакостничать. Просто взять и насрать всем на головы. Перед нулем мы все равны. Вечность все спишет. Нет, умник?
– Это вопрос философский.
– Платоша, это не ответ. Я уверен: ты в чем-то да разделяешь мою позицию. В чем-то я абсолютно прав. Нет?
– Да.
– Ключевое слово, в данном случае, я настаиваю, ненавистное тебе абсолютно .
– Да.
– Но это же не по диалектике, чувак.
– Как раз по диалектике. Твое ключевое слово не способно справиться с природой относительности.
– Ну, и черт с ней, с диалектикой. Что будем с Солнцем делать?
Он очень внимательно смотрел на меня. Я чувствовал, он готов взорваться, как звезда, если я начну в абстрактно-логическом духе «уповать на науку», «гений человека» и прочее. Я ответил искренне:
– Наверное, надо уже сегодня мобилизовать пока что не очень впечатляющие резервы человека, чтобы через пять-шесть миллиардов лет жизнь продолжилась. Ключевые слова – уже сегодня . Memento mori, собственно.
– Рад слышать. Вот честное слово – рад слышать, – он козлобородо, a la глянцевый Мефистофель, потер руки – я бы сказал, пошелестел кожей. – Именно! Всех надо ставить раком уже сегодня! Что я, по-твоему, делаю?
– Надо полагать, пытаешься продлить неблагодарному человечеству жизнь.
– Платоша, ты недостоин сам себя. Чего ты зубы скалишь? Ты опять бесишь меня.
– Понимаешь, по-моему, о вечности следует говорить с улыбкой, не так серьезно, иначе за ней не угнаться. Пипл в пепел – отчасти смешно, согласись. С морщинистой рожей инквизитора размышлять о вечности – отдает средневековьем. К вечности надо относиться прагматично, что ли.
– А по-моему, последней смеяться будет та сука, которая станет скучно ворошить наш пепел. Если пять миллиардов лет не вкалывать изо дня в день, то пепла не избежать. Меня как русского патриота бесит пепел как всеобщая перспектива. Это меня унижает. Я хочу еще при жизни своей, жизни отдельно взятого человека, почувствовать и понять, что мы в принципе способны выжить, даже если не станет Солнца. Смешно?
– Правильнее, наверно, было бы сказать «нисколько не смешно», но мне смешно, ей Богу. Зачем тебе вечная жизнь, Веня?
– На этот вопрос у нас будешь отвечать ты. А я буду зубы скалить. Посмотрим, кто из нас больший философ…ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.4.
Редкий мартовский снежок, растерянный, робкий: белое, рожденное серым.
– Будущее, будущее… А мы вот научились видеть прошлое.
Веня, наслаждаясь реваншем за те моменты, когда он вынужден был признавать мою правоту (зная, что я глубоко переживаю мою нечаянную победу), впадал в транс абсолютного нарциссизма, когда он истово верил в безграничные возможности творческого духа (за всё заплачено рукою щедрой!), царящего в его империи.
– Ты, Плиний, можешь восстановить прошлое в деталях? Не веришь, что это возможно?
Элементарно. Вот пилюля, да, да, эта маковая росинка. Прими её – и добро пожаловать в своё родное прошлое. Поброди по закоулочкам. Припади к истокам.
Нюанс такой: ты сможешь возвратиться только туда, где однажды возникло сильное эмоциональное потрясение, связанное с риском для жизни, возможно, с чьей-то смертью.
Даже когда «вспомнишь», восстановишь в памяти что-нибудь нейтральное (например, ты собирал тюльпаны), знай, что это как-то связано с потрясениями. Мы научились «ловить» адреналиновые следы мощных эмоций. Хочешь пилюлю? Хочешь по-настоящему познать себя?
Предупреждаю: у тебя будет меняться сознание, и рано или поздно ты утратишь свою идентичность, основа которой – вера в разум. Зато станешь таким, как я, не верящим ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. А если не станешь, ты ничего не поймёшь в жизни и человеке. Я верю в нутро, в ядро человека – в натуру. Хочешь пилюлю? Боишься?
Я боялся. Но хотел.
– Что тебя смущает?
Меня смущал такой нюанс. Я знал, что картинки детства ярко оживают перед смертью. Стоило ли так небрежно дёргать тигра за усы? Так самоуверенно окликать смерть, которая ещё сама не торопится приглашать тебя первым звоночком туда – в общем, всем известно, куда (хотя толком об этом никто из живых ничего не знает).
Я сказал об этом Вене.
– Все наши, человеческие, достижении связаны с тем, что мы выцарапываем информацию у небытия; если хочешь, тесним смерть. Всё это связано с риском, всё на грани фола. А разве становятся чемпионами иначе? Хочешь пилюлю?
Я понимал, что противиться воздействию «маковой росинки» бессмысленно. Сознание включалось только на краткое время, на миг – и то для того, чтобы убедиться, что оно не управляет информационным комплексом по имени Платон, а лишь бесстрастно констатирует сам факт процесса некой «перезагрузки» всех сфер, связанных с высшей психикой и высшим разумом, «перезагрузки», происходящей помимо сознания.
Через минуту я обнаружил себя на диване, свернувшимся калачиком, словно от нестерпимой боли (смотрел я сверху в отверстие, похожее на замочную скважину). Нет, скорее, я напоминал эмбрион человека.
Еще через секунду провалился в сон.
Именно в этот момент я проснулся – и сразу понял: то, что я успел разглядеть, погружаясь в бездонность сна, мне не понравилось, именно потому не понравилось, что слишком было похоже на правду. Я пробудился, имея пробоину внутри корпуса, – рваную рану в сердце.
Я увидел во сне отца (нет, лучше сказать, в сознании моём всплыла картина, состоящая из множества эпизодов, которую я мог оценивать не только глазами детскими, глядящими оттуда, из прошлого, но и цепким взором сегодняшним, относительно той ситуации взглядом из будущего , то есть из моего настоящего – как-то всё это органично пересеклось в одной точке).
Я увидел не только отца (вот его характерная фигура с моими родными пропорциями, растерянно-виноватое лицо сильного человека), а ситуацию, в которой он (волею судеб?) оказался, ситуацию, при которой заслуженное и выстраданное им счастье было невозможно: ему стыдно было быть счастливым – перед собственным сыном, передо мной. Ведь для меня его счастье было оборотной стороной несчастья моей матери.
Поистине: самая большая помеха любви – хорошая семья. А мой отец (на беду?) встретил свою любовь. В этой ситуации можно быть счастливым тайно – но и это невозможно, ибо твоя возлюбленная искренне считает, что ты ее предаешь. Ты ведь не с ней – следовательно…
А он был с ней. И ему за это было стыдно. Он не мог позволить себе быть с ней – позволить себе блаженство, которое разрушительно сказывается – не на семье, нет, ее уже не существует как здорового, жизнеспособного организма – на отношениях с твоим умным, воспитанным, великолепным сыном, который, увы, не в состоянии пока оценить масштаб твоей личности и саму суть мужской, а равно и женской, природы.
Казалось бы, этот заколдованный круг, райская половина окружности которого незаметно смыкается с адской кривой (в какой-то момент они коварно меняются местами), становится идеальной петлей. Совершенная ловушка для умного и порядочного! Дьявол весьма тонко утилизовал убийственную сторону диалектики – чем, собственно, выдал свое присутствие в этом мире. Иных следов дьявола, по большому счёту, и не найти. Это единственное серьезное доказательство.
И вот тут умный человек, мой отец, делает трюк, который срамит самого дьявола. Он пытается жить с идеальной петлей на шее, пытается совершить невозможное – и это у него получается. Оказывается, рваная рана в сердце и петля для умного и порядочного очень даже совместимы с жизнью – именно потому, что он получил их как свидетельство порядочности и ума.
Жить можно. Ломает и корежит все – но именно этот кошмар и усиливает ощущение жизни. Правда, при этом нарастает ощущение того, что ощущение счастья, которого ты так несчастливо лишен, – это обязательное условие жизни. Все это вместе как-то уживается.
В общем, рваная рана как предчувствие счастья…
Я просто вжился в ситуацию моего отца, на какое-то время стал им, его глазами оценил всё изнутри и со стороны. И испытал острое чувство вины за то, что невольно заставил испытать отца непомерное чувство вины, конечно, сократившее ему жизнь.
Все эти сны, погружения, предчувствия предчувствий давали мне ажурную надежду (хотелось думать, что я становился лучше: вот она, коварная природа веры!) на то, что отец, которого уже не было на земле, обязательно почувствует моё чувство, и ему станет легче. Представляю, с каким грузом на сердце он умирал. Но он почему-то не просил прощения; он сказал, что любит меня.
Он просто сказал самое главное и не сказал ничего лишнего.
А если бы я не ощутил и не понял того, что понял и пережил сейчас?
Мне стало страшно за умершего отца моего.
А потом я испытал гордость за него: он умирал с чувством выполненного долга – долга личности перед всеми теми, кто, возможно, личностью никогда и не станет. Но он надеялся, что я его когда-нибудь пойму.
И я понял его.
И мне стало легче. Края рваной раны сомкнулись и взялись грубым рубцом.
Кстати (кстати ли?): мой отец любил собирать тюльпаны (он сам мне рассказывал мне об этом).То, что описано здесь, произошло буквально в мгновение ока – в тот момент, пока я открывал веки. Раскрыв глаза, ещё добрых несколько секунд я ничего не видел, ибо сосредоточен был внутренним взором на картинах прошлого.
Первое, что я увидел, когда обрёл зрение, была рожа Барона.
Рядом с ним стояла женщина с восточной внешностью – узбечка или таджичка. Барон дал знак. Та заговорила:
– В детстве его с матерью бросил отец. Он ушёл к другой женщине. Не хотел уходить, но ушёл. Мальчик так переживал, так переживал. Была большая обида на отца.
Я молчал. Я тоже мог сказать, что творилось в душе этой женщины: она меня побаивалась, ибо то, что она видела во мне, было выше её понимания. Инстинктивно она относилась ко мне как к великому и ужасному. Примерно как к Барону.
– Это Фатима, лучший в мире экстрасенс, она из древнего персидского рода, – сказал Фантомас. – Твоё прошлое, настоящее и будущее у меня как на ладони. Объясни мне, зачем я тебя держу при себе и вожусь с тобой?
– А ты у ясновидящей спроси.
– А я спрашивал. Потому и держу.
Я давно отдавал должное Вене: то, что он говорил, всегда было правдой (ложь – всегда проистекает из слабости, а слабость Веня презирал наипаче). Но и то, о чём он молчал, о чём не хотел говорить, тоже было правдой.
Поэтому он и держал меня «при себе»: я знал его лучше, нежели он сам когда-либо узнает себя. Он чувствовал: убрать меня – всё равно что лишить себя головы. Я дополнял его в чём-то существенном, словно тело продляет тень, словно завтра – сегодня. Поэтому Фантомас и ненавидел меня как свою вероятную перспективу . А как иначе?
Где-то сбоку нагло мяукнуло «парнокопытное».
Я испытал острое желание помочиться на проплывающего мимо нахальным курсом командорской яхты кота Марсика, однако преодолел злобное и позорное искушение чрезвычайным напряжением воли.
Единственное, в чем я не мог отказать себе, так это в том, чтобы вообразить себе распятого кота.
Это была роскошная мечта таксидермиста.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.4.
«Однажды отец Сысой был замечен на кладбище, которое и кладбищем-то можно было назвать только условно: могилы были, но всё больше безымянные, а чаще всего – никак не обозначенные. Впоследствии батюшка стал появляться там регулярно, если не сказать маниакально (под разными предлогами, зачастую наивными и неубедительными, о которых, тем не менее, он считал своим долгом сообщать новому Могильщику, уже не отвлекавшемуся на мирные обязанности садовника и носившему странную кличку Аспирин). Почему святого отца столь заинтересовало это сомнительное место?
Кто знает. Но Барон при каждом новом известии о кладбищенском визите о. Сысоя потирал руки и говорил:
– Так, так… Ловись, рыбка, большая-пребольшая.
К слову сказать, Сысой вовсе не был похож на рыбу – ни на большую, ни на малую. Скорее, он напоминал упитанную приманку. Барон же упорно гнул своё:
– Ловись, ловись…
И, судя по всему, дождался своего.
На о. Сысоя напали прямо под носом у Аспирина (кандидата биологических наук, кстати говоря). Это случилось сразу после Крещения. Был светлый, можно сказать, солнечный зимний день, морозный и безветренный. Что в такую погоду делать на кладбище – сказать невозможно. Кто напал на святого отца?
Тут следует прямо, безо всякой мистики, назвать вещи своими именами: на него вероломно покусилась либо Вера, либо сестра её единокровная Надежда. Из числа труднообъяснимых совпадений, обычно сопутствующих столь неординарным происшествиям, стоит отметить разве что следующее: о. Сысой в своих проповедях в последние дни только и уповал на Веру, путая её иногда с Надеждой. Это известно по опросам паствы, которыми ненавязчиво занимались неприметные сотрудники одной из лабораторий. Неизвестно, из каких соображений и по какой причине, но результаты этих опросов оперативно сообщали непосредственно Барону, и Барон, опять же, чрезвычайно радовался этому заурядному обстоятельству – пастырь твердил о вере.
Но вот зачем Вере – какой-то Сысой?
Не скажите. Барон давно вёл какую-то сложную игру, в которой Вера, Надежда и Сысой были всего лишь пешками.
Возможно, самый интересный вопрос, который следовало бы задать в связи с происшествием в окрестностях ДН ПП (кладбище находилось от храма не дальше, чем Гефсиманские сады от Ершалаима), был таким: что значит – напала (сиречь покусилась)?
Лишила жизни? Ограбила? Ещё что?
Нет, нет и ещё раз нет; напала – значит, осквернила честь Сысоя, совершила акт прелюбодеяния, а попросту – изнасиловала любезного и благочестивого о. Сысоя. Именно, именно: в морозный день. В развратной позе всадницы. В этом происшествии много загадок.
Как отреагировал на сие известие Барон (Аспирин хладнокровно, но предательски подрагивающим голосом, доложил боссу обо всём в деталях уже через минуту)?
Неоднозначно. Что-то ему не понравилось.
А в поведении о. Сысоя отчётливо наметились перемены. Он стал ходить гоголем, практически – женихом, посматривать на всех свысока, и вскоре худшие опасения Барона подтвердились: Сысой решил посвататься к объекту своей симпатии, а именно: к Татьяне, которую он, само собой, близоруко принимал за Веру.
Вскоре в конце трудовой недели старательная, никому ни в чём не отказывавшая медсестра Татьяна получила два букета одновременно: один скромный, сдержанный – три оранжевых гербера, символизировавших то ли три солнца сразу, то ли святую троицу в лице Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа (или же Святодуха, по иной версии); только вот один гербер был явно побольше, а два других – явно поменьше, и это некоторым образом озадачивало; другой букет был сама неброская роскошь – семнадцать кремовых бутонов роз на крепких зелёных стеблях, бутонов, оплетённых, нет, овеянных белыми мушками гипсофила, словно слетевшими с фаты невесты.
Туз, увидев вишнёвые губы о. Сысоя, побледнел, однако же твёрдо вручил розы вслед за герберами.
Татьяне предстоял мучительный выбор: стать матушкой, ходячей добродетелью, семенящей в длинном платье (скрытая сексуальность сейчас в моде: только коленки и грудь будут выдавать ладное тело, склонное к модным сексуальным наклонностям); она плывёт, мило потупившись, скрывая улыбку в уголках рта – а все будут смотреть на неё и завидовать вишнёвым губам Сысоя; или…
Связать свою судьбу с состоятельным проходимцем, так понятно, по человечески живущим по принципу «после меня хоть потоп»?
Всё это так сложно.
Поэтому Татьяна решила поступить проще некуда: она приняла предложение Туза, и при этом вовсе не отвергла ухаживаний о. Сысоя.
А что Туз?
Он с восторгом принял статус кво, пробормотав молитвенным тоном «так карта легла, такое, значит, дело».
А что о. Сысой?
Он поначалу решил было надуть вишневые губы, помня свой статус; но стоило ему вспомнить гладкие коленки прихожанки Татьяны, как он явно чувствовал: что-то надмирное, которое было сильнее его воли и разума, шептало ему: «Третьим будешь? Соглашайся, сука. Будет сладко».
И он, памятуя, что все в руках владыки живота нашего, смиренно согласился. Значит, так надо.
После этого Барон попросил аудиенции у Сысоя. Если бы кто-нибудь мог слышать хотя бы фрагмент их спокойной беседы, он немало бы изумился.
– Ну, что же ты, сука, скурвился? – вежливо интересовался Барон.
По губам Сысоя невозможно было прочесть, «да» он ответил или «нет». Кажется, нечто среднее.
– Карту верни, – мило улыбнулся Барон.
Сысой нырнул рукой под рясу и достал оттуда туз с загнутым углом.
Далее самое чуткое ухо уловило бы обрывки:
– Не смог навязать им свою волю, балбес…
– Смог…
– Не смог, сука…
– Пытался…
– На карту записаны все твои переговоры, и даже все твои мысли…
– Помилуйте, благодетель…
Далее следовало неразборчиво то ли «да», то ли «нет». Барон был чрезвычайно осторожен.
Через неделю в ДН ПП появился новый священник, отец Никодим, молодой, энергичный – разумеется, приступивший к своим обязанностям после того, как получил благословение самого Барона.
А еще через неделю Барон ровно в девять вечера вышел из своей резиденции. У входа (случайно?) столкнулся с Аспирином. Нос к носу. Барон поднял на него глаза, блеснувшие холодным лунным блеском, Аспирин быстро кивнул. Барон вернулся в свои хоромы.
Марсик отчетливо ощутил перемены в настроении хозяина: после «парнокопытного» он трижды удостоился «скотины». Это был хороший знак. Случалось редко.
О. Сысоя отпевали всем миром.
Скорбели все».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.4.
Прикусив язык, я сел писать письмо своей Алисе, подбирая слова и стараясь быть объективным.
Тогда я еще не знал, что пишу письмо самому себе. Женщинам такие письма не пишут…
Письма умных влюбленных – это нечто.
« 1. Ты бессознательно ставишь меня в положение, когда я веду себя таким образом, что тебе не составляет труда множить и множить обиды – пятна на солнце.
Тебе необходимо развернуть меня своей (моей) не самой светлой стороной. Ты мне будто мстишь. За что?
За то, что я не помог тебе реализовать нормальные ожидания нормальной женщины. Я не дал тебе семьи и материнства. Ты – женщина, и в известном смысле ты права. А я мужчина. Поэтому я – враг (логика женского бессознательного). И ты собираешь этому «доказательства». Я постоянно говорю что-то не то, понимаю тебя не так, ем не той вилкой, надеваю не ту рубашку. Я вообще подозрительно не тот.
И, действительно, недоразумения нарастают как снежный ком.
Тебе нужна такая ситуация?
К сожалению, нужна.
Вот я сказал: «Средненькая внешность».
Да, я так сказал. Но что я имел в виду?
Есть внешность, которая становится судьбой: яркая, самодостаточная. Она уже несет в себе образ. Несчастной женщине с такой внешностью, которой все завидуют, не надо ничего говорить. Желательно вообще никак себя не проявлять. Влюбляются ведь в этот образ, а не в нее. Она сама по себе никого не интересует. Внешнее фатально становится значительнее внутреннего. Женщина становится приложением к образу, а не наоборот.
У тебя – слава богу! – не такая внешность. Тебя надо увидеть изнутри, в тебя надо вжиться, как в себя. Тогда ты можешь стать родной. Женщина с судьбоносной внешностью фатально не может стать родной.
Что я сказал обидного? Ничего.
Но ты цепляешься за внешнюю сторону высказывания. «Моя» Алиса чувствовала направление моих мыслей, читала мои мысли, улавливала скрытые смыслы. А «чужая мне» Алиса закрылась и провоцирует меня (бессознательно, конечно) на высказывания и поступки, дающие основания воспринимать меня негативно.
Я тебе нужен как враг. И ты лепишь из меня образ врага.
«Средненькая душа», сказал я.
Великая душа – это способность вмещать великую любовь. Средненькая душа любить не умеет.
Что я сказал обидного?
Ничего. Но ты произвольно меняешь контекст, опять изволишь понять меня в том смысле, что я стремлюсь тебя незаслуженно обидеть. Я плохой. И стоит ли со мной связывать свою судьбу? Ответ ясен даже полной дуре: не стоит.
Ты видишь то, что хочешь видеть.
Я шлю тебе SMS: «На всякий случай: выбираешь не только ты, но и я».
Вновь обида. А я выбираю между двумя реальными Алисами: между той, которая умеет любить и чувствовать меня, и той, которой выгодно меня не любить, ибо она уже хочет чего-то иного.
Что тут обидного для тебя?
Чем тоньше и глубже я становлюсь, тем более тебя это раздражает.
А раньше было с точностью до наоборот.
2. Ты тоже обречена выбирать не между мной и кем-то еще (выбирать две разные перспективы в жизни); ты обречена выбирать себя – между собой и собой.
Твой выбор таков: либо полнокровная жизнь со мной (материнство, любовь) – либо ставка на жизнь серую, без глубоких эмоций, словно в отместку себе подлинной.
И я, твой любящий я, вчера разгадал ту женщину, которая внутри говорит мне «нет». И я сильно задел ее. Я разгадал ее – и тебе было неприятно видеть себя со стороны. И я, разумеется, становился от этого все хуже и хуже.
Сегодня я понял, что в тебе живет, живет еще и та, которая желает сказать «да», но не может этого сделать. Боится. Она зажата страхом. Поэтому стремится видеть во мне агрессора. Доказывает себе, что она – это не она.
В тебе сражаются две разные установки, две разные женщины: одна хочет пойти со мной, другая – активно против. И ты не понимаешь, где ты настоящая.
А настоящая ты – и там, и там.
Поэтому перед тобой мнимый выбор.
Нельзя выбирать между собой настоящей и настоящей, между «любящей» и «стервой». Ты не сможешь стать стервой, даже если этого захочешь. Но ты не хочешь пока возвращаться к той, которую я обидел (хотя и не по своей воле – да что толку сейчас об этом говорить).
Вот твоя проблема: ты открылась себе с другой стороны. Конечно, ты не сейчас открылась себе, а еще там, за океаном. Сначала поверила себе, а потом засомневалась. А тут так еще совпало, что и я кручусь на распутье. Я не помог тебе, как следовало бы. В результате сейчас ты бессознательно разворачиваешься ко мне стервозной стороной – и злорадно видишь во мне то, что тебя пугает – и потому заставляет еще больше разворачивать меня моей неприглядной стороной (что тебе, следует признать, великолепно удается).
Тебе кажется, что любовь ко мне прошла.
Но ведь это значит, что любовь к себе прошла, а на смену ей вторгается эгоизм. Мертвый, холодный эгоизм. Тоже дитя космоса, только не солнечной его стороны.
Я не пугаю тебя; я пытаюсь тебя защитить.
Все бы уже давно рухнуло, но ты успела сделать главное: ты открыла глаза мне. Ты запустила личность во мне.
И я понял, что люблю тебя.
Теперь я тебя никому не отдам. Но я бессилен перед логикой стервы. И вот от отчаяния пишу это нелепое письмо.
3. Ты полагаешь, что можно не сражаться с собой, а просто ждать и «выбирать»?
Тебе кажется, что ты сейчас пассивна, потому как выжидаешь?
Увы, ты активно гребешь в ту сторону, где обитают обычные «стервы», ты дрейфуешь в их стервячий рай. Чтобы сидеть на берегу реки и мудро ждать, пока счастье само не приплывет к тебе в руки, надо знать, чего ты хочешь. А ты не хочешь этого знать. Вот почему твое ожидание разрушительно. Для нас. Для тебя, и для меня.
Ты упорно не желаешь настраиваться на меня, не хочешь видеть во мне то, что когда-то выбрала инстинктом любящей женщины, верно угадала то, что я еще и сам в себе не разглядел.
Ведь меня такого, каков я есть на самом деле, невозможно не любить. Я достоин любви. Ты это чувствуешь – и злишься. Не было бы меня – путь в стервы, к женскому несчастью, был бы открыт.
В женщине борются две стихии: стерва, жаждущая не нужной ей любви мужчины, – и достойная любви женщина.
Это вечная борьба. Если угодно – борьба натуры и культуры. Тебе нельзя от нее уклониться. Ты вынуждена принять вызов. В этом нет ничего страшного. Это естественно. Но очень серьезно. Это не игра.
Тебе надо воссоединиться с собой. Восстановить себя как целое. Перестать распадаться на половинки. Заставить темное служить светлому. Пусть стерва пошустрит у тебя на побегушках, а не наоборот.
И я – на стороне любящей. Выберешь любовь к себе – полюбишь и меня (вернее, поймешь, что всегда меня и любила, никогда не переставала любить).
Никуда не ушла твоя любовь, не бойся. Ты меня любишь.
Но, знаешь, хватит лелеять обиды, хватит превращаться в накопитель и отстойник обид.
Я не мог тогда дать тебе счастья – но это не значит, что я не в состоянии дать тебе его вообще. Разница есть, согласись.
Помогай мне, переключайся, включайся, борись. Давай руку.
Я понимаю: человеку нужно время, чтобы разглядеть в себе личность. Вот в этом смысле паузу в наших отношениях я понимаю и принимаю. Но паузы длиной в жизнь не бывает. Очнись. Я борюсь сейчас с тобой, как Герда с заколдованным, замороженным Каем (хотя я тоже в какой-то момент был Каем, каюсь, – но не Каином, заметь!).
Искать счастье стервы (стервино, евино, что ни говори, счастье) – не такое уж и счастье. Бедная Офелия, если разобраться…
Ты сейчас переключилась в сторону силового решения проблем. Потому и в Москву укатила, к подружке-стерве, которую бросил муж и которая окунулась в жизнь под названием «все мужчины сволочи, и их надо бросать – чем чаще, тем лучше». Запретить себе любить, стать сильной, самодостаточной, никого к себе не подпускать, зарабатывать деньги (независимость), жить для себя – вот твой идеал, который, во всяком случае, жизнеспособен. Иными словами, твоя новая программа, в которой мне нет места, дает тебе возможность родить ребенка. Так природа берет свое, заставляет тебя реализовать женскую программу – пусть и не благородно, зато безотказно. И если я разоблачаю твой идеал – я плохой. Враг. А твоя стервозная подружка – лучший друг. Это все оттого, что сейчас ты враг себе, своему счастью (в известном смысле). Ты незаметно трансформировалась в стерву – и это тебя испугало. Но я уже успел узнать тебя другую. И ты меня вполне устраиваешь. Ты меня уже не запугаешь, убери свои ядовитые колючки.
Женщины беззащитны перед мужчинами, надо это признать; счастье женщины зависит от мужчины; поэтому природа дает женщинам шанс отомстить – стать колючими стервами и причинить боль мужчинам. Тот пустячок, что женщина при этом губит и себя собственным ядом, природа не предусмотрела. У природы задачи другие. Ее волнуют не проблемы счастья, а проблемы выживания. Природа-мать…
С другой стороны, мужчины также беззащитны перед женщинами; счастье мужчины зависит от женщины; на тот случай, если мужчина и женщина все же найдут в себе силы быть счастливыми, существует любовь.
Выбирай. Решай. Но не торопись, а то успеешь.
Я люблю тебя. И жду. Кстати, в своей SMS в Москву, где ты сейчас находишься, я так и написал: « Жду тебя . Если честно, тоскую по тебе ». Но ты не поняла, я почувствовал это.
И сейчас я чувствую, что ты не чувствуешь меня, не хочешь идти навстречу, не хочешь отходить от мстительной, разрушительной и по-своему сладкой программы. Там, где гибель, – там и наслаждение. Ты обрела психологическое равновесие, долгожданную устойчивость, которая кажется таким важным завоеванием; наконец, ты получаешь кайф, рядом подруга, много шампанского. Тебе невыгодно и некомфортно слышать мои несладкие песни, которые вновь вышибают почву из-под ног. Вникать в мои речи – это требует усилий, внутренней работы. Да и натура – дама не слабая. Не пошел бы я к черту?
Да запросто, дорогая. Хочу заметить напоследок: тебе было невыгодно. Сейчас – выгодно. Выгодно стать любящей. За счастье стоит бороться, но, к несчастью, это надо делать вдвоем. Кстати, что значит бороться?
Думать. Всего лишь думать.
С Новым годом, милая?
P.S. Вот не могу удержаться, мысли все лезут и лезут. То, что с тобой происходит, – это классика. Вспомни Наташу Ростову: нельзя приличных женщин так долго и мучительно заставлять ждать счастья. Это верно.
Но иногда мужчине, чтобы остаться приличным, приходится заставлять женщин ждать. Моя, мужская, проблема тоже традиционна: объяснить то, что объяснению почти не поддается. Понять. Познать себя. Тут, кстати, даже Толстой был бессилен…
Да что там! Даже – Библия. Самое умное, что могли придумать за тысячелетия, – это патриархат. Унизительный патриархат. Продиктованный слабостью. Сильный, то есть умный, мужчина ищет любовь.
09.12. 20..
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.4.
Темнота.
Сырые и холодные ноябрьские туманы.
Низкое солнце заливало своим холодным светом проспект и, казалось, закатывалось оно где-то в начале проспекта.
Я с тайным восторгом жду ночь.
Я хочу побыть в темноте и насладиться темными сторонами своей натуры.
Светлое мое начало в курсе, и оно не противится. Скорее всего, у него просто пока не хватает сил. И я в согласии с самим собой ухожу в темноту. Меня отпускают.
Я вернусь оттуда, где все дышит пороком, просветленным, ослабевшим, отягощенным чувством вины. Я вернусь оттуда более человечным. Я стану лучше, чем я был до того.
Еще несколько таких туров, и я уже без восторга жду ночь. Мне есть, что вспомнить, но нечего рассказать. Мне уже стыдно, что я был ночным паломником.
Еще через несколько лет я буду искренне осуждать тех, кто с тайным восторгом ждет ночь. Я буду видеть их насквозь. Светлое начало во мне окрепло. У темных сторон моей натуры уже нет сил сопротивляться.
Странно: я не уверен, что со временем стал лучше – я, всю свою сознательную жизнь изо всех сил стремившийся к свету.
Я не хочу сказать, что свет погубил меня. Я хочу сказать, что свет не одолел тьму. Просто тьма кончилась. Ночь иссякла. А света не прибавилось.
Чем темнее ночь, тем сильнее должен быть свет, хочу я сказать.
Ненавижу проклинающих ночь и славящих день только потому, что их время пришло. Ушло, хочу сказать я.
Ненавижу и себя, конечно.
Темнота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.4.
Слава богу, как говорится, что мне хватило ума не исчезать «по правде», то есть не делать свое мнимое исчезновение реальным для Алисы. Не становиться без вести пропавшим. Не делать ее вдовой. Что-то подсказывало мне, что потом, через некоторое время, когда правда откроется, Алиса может не простить мне этой жестокости. Я могу действительно умереть для нее.
Иными словами, я очень даже допускал мысль, что Алиса любит меня именно так, как я себе представлял в мечтах. Но на эксперимент все же, по слабости своей, рискнул. Возможно, мне просто эгоистически хотелось насладиться ее чистой любовью ко мне?
Кроме того, я не хотел травмировать Алису по соображениям абстрактно-гуманистическим (которые в качестве аргументов второго плана, оказывается, я всегда принимал к сведению, когда формировал стратегию поведения): мало ли, а вдруг она надумает именно в этот период становиться мамой – переживания могут сильно повредить малышу.
Кроме того, я, вероятно, рассчитывал на то, что вынужденная пауза в наших отношениях пойдет нам на пользу.
Я чувствовал, что были и еще соображения более глубоких уровней (сколько их там? поди, сосчитай). Скажем, мне хотелось вывести на чистую воду Астролога. А вот зачем? Тут неясно.
Кроме того. Бессознательно я все время изучал Веню, подбирался к нему с разных сторон, собирал на него досье (что, между прочим, ассоциировалось у меня с действиями, способствующими исполнению «дела жизни»); мне все время недоставало критически важной информации, чтобы составить себе внятную картину этого феномена исчадия (вот уж кто поистине заслуживал фамилии Чадской; барон Чадской, господа, прошу не любить и не жаловать!). Это тоже было скрытым мотивом.
Все это подвигло меня на поступок. У каждого поступка не менее девяти мотивов. Если менее девяти – это не поступок; так, подвиг какой-нибудь.
Исчезновение было заменено другой легендой: командировкой и заданием – так сказать, временным исчезновением.
Отчасти это было правдой. В моей миссии, которую при желании можно было интерпретировать как командировку, присутствовал фактор задания. Однако полная правда заключалась в том, что целью командировки было все же исчезновение, а средством – задание. Что я имею в виду?
В результате командировки неизбежно должен был исчезнуть один из трех временно задержавшихся на Земле: либо Астролог, либо Веня, либо я.
Лично я рассчитывал на первый вариант; Астролог, само собой, на последний; Веня, не исключено, – на первый и последний.
В чем заключалось задание?
Это как посмотреть. С точки зрения Вени, я должен был доставить ему доказательства абсолютной преданности Астролога плюс кое-что еще (а скорее так: кое-что сверхважное плюс доказательства абсолютной преданности Астролога).
С точки зрения Астролога, я должен был помочь ему разобраться с проблемами личного характера, что, естественно, заставит меня раскрыться, то есть, обнажить свои уязвимые места.
С моей точки зрения, я получал уникальный шанс заглянуть за кулисы.Итак, я исчез на пять месяцев (по согласованию с Веней, вместе с венецианцем). О, это целая история, как-нибудь к ней вернусь. И не раз.
По возвращении я нашел Алису беременной. На шестом месяце.
Она обрадовалась, а я, казалось бы, должен испытать припадок ревности-дежавю: чей ребенок?
Но не случилось ничего подобного: я посмотрел на нее – и сразу понял, что она ждет ребенка от меня. Я стал другим. Мой ум наконец-то стал властвовать над эмоциями, хочу сказать я. Человек меняется тогда, когда в нем прибавляется ума; следовательно, меняются только те, кто способен умственно развиваться. Большая часть людей не меняется.
Те, кто способен меняться, живут во времени; остальные просто – живут.
Всему свое время. Свое время. Что такое время? Это ясно даже ребенку; но далеко не всякий взрослый поймет, чем вызван мой вопрос. Когда я восклицаю «что есть время?» и внимательно прислушиваюсь к себе, я веду себя как взрослый. У меня есть веские на то основания. И не надо крутить пальцем у виска. И не надо думать о секундах свысока.
Процесс эволюции «от человека – к личности», проходящий во времени, я прочувствовал в полной мере.
Те, кто способен меняться, живут в пространстве; остальные – в разной степени привязаны к месту жительства.
А теперь представьте себе на секундочку, что перед вами стоит задача описать процесс превращения человека в личность , человека, живущего в определенном месте, – в личность, средой обитания которой становится время и пространство, – собственно, стоит задача породить личность. Представили?
Сейчас проверим. Если вы правильно уяснили суть задачи «сотворить невозможное», то у вас перо запляшет, станет валиться из трясущихся пальцев, голова пойдет кругом, накатит приступ противной слабости. А если вы решите уклониться от шокирующей задачи, то вам станет еще хуже: вас будут непрерывно преследовать муки совести, маскируемые под позывы тошноты. Знакомая симптоматика?
Если нет, то вы везунчик; если да – то вы здорово влипли.
В случае положительного решения вопроса, то есть, таки да , я даже не стану интересоваться «как вам такой выбор?», ибо вы можете принять невинный светский вопрос за грубое издевательство.
Да, следует также учесть: если вы влипли, обратной дороги у вас нет. Вас ждет либо победа, которую разве что вы сами и отличите от поражения, либо просто поражение.
В таких случаях хочется от имени какого-то неунывающего и неутомимого дьявольского персонажа, то и дело путающего добро со злом, пожелать: «Удачи, детка!»
Это прозвучало бы как выстрел в спину.
Пиф-паф!
«Ой-ой-ой…»ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.4.
Психотерапевт сказал мне, что состояния, подобные моему, лучше всего изживаются в процессе творчества. Детям, испытавшим глубокий стресс, например, дают в руки краски. Мне с учетом моей профессиональной деятельности рекомендовали писать роман.
Меня это устраивало по многим причинам.
Во-первых, я давно уже хотел браться за роман, но взваливать на себя такую ответственность мне казалось чем-то вроде городского пижонства в деревенском исполнении. «А сем-ка вылеплю-ка я Венеру Милосскую. Уж больно она на Маньку смахивает. Не боги, чай, горшки обжигают; а вдруг и во мне дремлет Дедал». Писать роман по рекомендации психолога – это иное дело, такая мотивировка меня ни к чему не обязывала. Одно дело творить и совсем другое – лечиться. Пусть думают, что я лечусь.
Во-вторых, писателя можно дергать и отвлекать от работы, укоряя его недостаточным рвением в отношении хлеба насущного, а больного теребить неловко, более того, хлеб насущный с насущным маслом, а также сычужным сыром каждое утро исправно доставляется в его комнату (за которую он не платит!) на блюдечке с голубой каемочкой.
В-третьих, писатель должен мечтать о такой судьбе: сначала умереть – тем и привлечь внимание к своей особе. Кому ты нужен здоровый, полный энергии и энтузиазма? Таким только палки зависти в колеса колесницы таланта. Вот я и хотел выяснить: можно ли прославиться после своей смерти? Чтобы иметь право расписаться на камне.
В-четвертых, было очевидно, что относительный покой мне обеспечен лишь до тех пор, пока я не завершу свой роман – пока не выздоровею, если прибегнуть к терминологии моей возлюбленной. После этого я должен буду вернуться к жизни. К нормальной жизни. Такого уговора на словах не было, но он логически вытекал из хода вещей. Во всяком случае, я готовился именно к такому повороту событий.
Так что роман, можно сказать, оказался моей судьбой.
О чем я собирался писать?
А разве у больного есть выбор? Он может писать только о том, чем болеет. Или, по-другому: пусть ложится на бумагу то, что рвется из тебя. С больного взятки гладки. Я за себя не отвечаю. Хе-хе-с…
Но гладко было на бумаге. На деле же все стало оборачиваться непредвиденными осложнениями. После очередной главы я настолько входил в образ, что путал реальную жизнь и ее продолжение в своем воображении. И выдумка казалась мне реальнее действительности – вот в чем была проблема.
Как-то я мимоходом бросил Алисе, которая была занята приготовлением насущных отбивных:
– А не подарить ли Вене Марсика II? Что ты думаешь по этому поводу?
– А чем плох Марсик I?
– То есть как чем? – изумился я. – Он ведь сдох. Принял благородную смерть. Не кощунствуй.
– Веня, тьфу ты, Платон, что ты несешь? Когда он принял благородную смерть? Что ты выдумываешь?
– То есть как когда? Тогда, когда заболел Веня. Разве нет?
– Ты лекарства сегодня принимал?
– Перестань держать меня за дурачка. Тебе что, сложно набрать номер телефона и выяснить, что стряслось с Марсиком?
– Платон, вот я при тебе набираю телефон Венеры, вот идут гудки, вот раздается в трубке ее голос. Поговори с ней сам.
Я осторожно поинтересовался здоровьем Марсика. Да все в порядке, ответила Венера, что ему станется? Здоров, как кабан. Задница, как у бобра. Тогда я перевел разговор на Веню и справился о его здоровье. «Боже мой!» – воскликнула Венера, – «да он здоровей Марсика будет! Минотавр!». Мне ничего не оставалось, как пожелать здоровья и ей.
– Ну, что скажешь? – ехидно спросила Алиса, шпыняя лопаточкой, изготовленной по нанотехнологиям, отбивные.
– Скоро ли ужин, дорогая?
– Вот всегда так: сначала ты городишь Бог знает что, испортишь мне вконец настроение, а потом как ни в чем ни бывало просишь пожрать!
Мне было неловко, практически стыдно – тем более неловко и стыдно, что я готов был поклясться своим романом: Марсика нет в живых. Что тут скажешь? Пришлось долго извиняться неизвестно за что. Результаты покаяний обычно сказывались на следующий день, поэтому вечер был трагичен.
Я принял двойную дозу успокоительного и мрачно жевал восхитительно приготовленное мясо, косо уставясь в голубую кайму.
На следующий день, рано утром, Венера позвонила сама, в слезах и в панике.
Оказалось, что ночью Марсик сдох, а вчера еще сидел на коленях у Вени, которому нездоровилось, и смерть Марсика необъяснима, загадочна, Веня чем-то отравился, а рвало Марсика, и кот спрятался под шкаф, и не вылазил оттуда, и там умер, а Веня теперь не находит себе места; не об этом ли говорил вчера Платон, и теперь ей, Венере, страшно за Веню.
Алиса пересказала мне все это и ждала моей реакции.
– Скоро ли завтрак, дорогая? – спросил я.
– Все уже на столе, – ответила моя жена и посмотрела на меня с опаской.
– С каких это пор Венера стала красить ногти в черный цвет?
– Откуда тебе это известно? Она только раз позволила себе такой каприз. Об этом знала только я.
Голос Алисы дрожал, губы подергивались, в глазах прятался страх.
– Я тоже знаю, как видишь, – ответил я, скорее, раздраженный своим пророческим даром, нежели удовлетворенный.
– Веня будет жить? – спросила она меня за чаем почти шепотом.
– Почему ты так настойчиво интересуешься здоровьем этого бугая?
– Он не только бугай, он еще по совместительству муж моей сестры.
– С каких пор тебе нравятся бугаи?
Алиса швырнула чайную ложечку и выбежала из-за стола.
Мне неловко было перед Алисой, однако после таких сцен мой роман бойко продвигался вперед.
Но не в этот раз. Когда я зашел в спальню изобразить покаяние, Алиса набросилась на меня как осатаневшая кошка в период течки. Все наши ссоры и недоумения в одно мгновение переплавились в страсть. В нас, оказывается, под слоем поверхностных чувств и наносных ощущений дремала неостывающая любовь.
Вот об этом я и писал свой роман, дорогая.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.4.
– Это же был не Марсик? – спросил я у Астролога.
На небольшом круизном теплоходике мы подплывали к Венеции.
– Ты имеешь в виду котика, у которого на твоих глазах оторвали голову?
– Именно это я имею в виду.
– Не злись. Нет, нет, это был не Марсик. И головы ему я не отрывал. Никакого вреда не причинил.
Я посмотрел на него. В деталях вспомнил сценку в лесу. Даже ощутил ладонями кошачью шерсть и липкую кровь. Что значит – не отрывал?
– А котик был как таковой?
– Котик был.
– Мяукал?
– Мяукал.
– Как ты сумел меня обмануть? Как это тебе удалось? Я ведь видел все собственными глазами…
– Это самое простое из того, что я умею. Элементы гипноза в сочетании с одной секретной технологией, извини. Ты видел то, что нужно было мне. Управляемая галлюцинация. Это несложно. Хотя этому невозможно научить. Как фокус – это сложно, а как феномен – нет. Извини.
– Почему ты все время извиняешься?
– Я поневоле выставил тебя дураком. А я тебя уважаю.
– Я сейчас вижу перед собой тебя, венецианец? Или ты – моя галлюцинация?
Он рассмеялся.
– Сию минуту – перед тобой я. Собственной персоной.
– А кто ты, венецианец?
Он с неподражаемой естественностью дернул плечиком:
– Не знаю. Ей богу, не знаю.
– Расскажи, что тебе известно о цели нашей поездки.
– Не могу. Не спрашивай.
– А хочешь, я расскажу тебе все, что известно мне?
– Нет, не хочу. Вряд ли ты имеешь представление об истинных целях нашего вояжа…
Я заглянул в его глаза, в которых бездонным колодцем отразилась кибернетическая пустота – и отчего-то не стал настаивать.
Вот как вести себя с этим монстром?
Где здесь была правда, где ложь, а где – и то и другое вперемешку?
Все было настолько запутано, что мне стало легко и просто: будь что будет. Стану действовать по ситуации. Ко мне в полном объеме вернулись пошатнувшаяся было уверенность и ее детище – раскованность, а также сестра родная – интуиция.
– А небо-то какое, венецианец! Небо! Лазурь первозданная. Здесь не могла не возникнуть живопись. Здесь надо быть слепым, чтобы не взять в руки кисть и краски.
– У меня к тебе просьба, если позволишь.
– Я весь к твоим услугам.
– Называй меня Магус.
– Хорошо, Магус. Конечно. Почему нет?
В этот момент он повернул голову ко мне; в глазах его волнами пробежала рябь, подобие изломанного штрих-кода, и они превратились в овальные экранчики, отражающие нагромождение металлических конструкций. Поразительное ощущение безжизненности, поселившееся в его живых глазах, вновь насторожило меня. Я даже не успел толком испугаться, как он кинулся ко мне и его пальцы, удивительно напоминающие стальные пластины, сомкнулись у меня на горле. Я мгновенно обмяк, оказавшись не в силах оказать никакого сопротивления. Наверное, Магус, превратившийся в терминатора, пережал какую-то главную артерию.
Так же быстро он отпустил меня и поднял глаза к небу. Я сидел и растирал теплыми пальцами горло.
– Вот ты и на свободе, Платон. Добро пожаловать в Венецию.
Лицо его улыбалось. Металлические конструкции спрятались за плотью маслин, глаза излучали живой блеск.
– Да пошел ты, – сказал я.
Магус виновато опустил глаза.
– Зачем ты хотел придушить меня? Или ты сейчас объяснишь мне, за каким лешим ты бросаешься на людей, или пошел к черту. Я не желаю иметь дело с психом.
– На меня иногда находит. В меня словно вселяется бес.
– Это не объяснение, это бред. Не прикидывайся юродивым.
– Да, бред. Но это объяснение. Ты ведь не рассказал Боссу о том, как я отрывал его Марсику голову. Боссу бы это не понравилось. Но ты не выдал меня. Тебе можно доверять. И я говорю тебе правду. Я не знаю, кто я; я не знаю, что со мной происходит. Я хочу, чтобы ты мне помог.
– Почему – я?
– Если не ты, то кто же?
– Ты рассказывал мне о своих сестрах…
– Это правда. Почти все правда.
– Ты хотел убить Веню…
– Это правда. Я ненавижу его и в то же время чувствую к нему болезненную привязанность.
– Как я могу помочь тебе, болезный?
– Не знаю. Но ты в силах мне помочь. Ты, и никто другой.
– Вот только тебя мне и не хватало, Магус. Скоро я буду в твоей шкуре: никому не верю, себя боюсь, всех ненавижу.
– Нет, нет, ты справишься; я вижу твое будущее…
– Стоп! Не надо мне предсказаний! Нет, скажи только вот что: Алиса будет счастлива?
– Она будет жива.
– Я спрашиваю, будет ли она счастлива?
– Разве жить, не умирать – само по себе не является счастьем?
– Ты увиливаешь от ответа.
– Да, это будет горькое счастье, другого я предсказывать не умею.
– Счастье горчит, это правда. Значит, и я останусь жив?
– Скорее, жив…
– Зачем мы прибыли в Венецию, Магус?
– Здесь живет дочь Босса.
– Дочь? У Вени есть дочь?
– Анализ ДНК подтвердит или опровергнет это.
– Так подтвердит или опровергнет?
– Подтвердит.
– А кто же является матерью его симпатичной дочери?
– А сам-то ты как думаешь?
– Я? Что я могу думать по этому поводу? Я впервые слышу о дочери Вени.
– Вот и подумай.
– Вариантов миллионы!
– А если подумать?
– Да не пялься ты на меня. Понятия не имею, на что ты намекаешь.
– А я не намекаю. Я просто уверен, что ты знаешь.
– Подожди-ка, – вдруг сказал я. – Подойти ко мне.
Магус покорно подошел.
– Покажи мне свою голову. Нет, не затылок; покажи макушку. Так. У тебя здесь шрамик. Будто укус комара, еще красноватый. Откуда у тебя этот шрам?
– Не знаю. Честное слово, не знаю…
– Этот шрам был у тебя до того, как ты попал к Вене?
– Не было. Что ты хочешь сказать?
В этот момент в глазах у Магуса вновь зарябил штрих-код, и я, как ошпаренный, отскочил от него. Он с ловкостью гориллы придвинулся ко мне, отсекая путь к отступлению. В руках у меня оказалась бутылка с минеральной водой. Ни секунды не сомневаясь, я врезал ему по черепу: сверху – вниз. Молотом – по наковальне, словно ошалевший от происков буржуазии пролетарий. Голубоватое бутылочное стекло разлетелось в стороны, зашипевшая вода залила лицо Магуса. Он скорчился, закрыв лицо руками. Я вцепился ему в волосы и рванул голову вверх. Заглянул в его глаза. Приготовился увидеть покореженные конструкции штрих-кода.
Но в них стояла мука.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.4.
– Знаешь, как я путешествую по миру? – спросил Веня. – Я не летаю, не плаваю и не езжу; я перемещаюсь в специальной капсуле. Я называю ее «Капелька». Сию минуту здесь, следующую – там. Вот представь, какая у меня психология – у человека, живущего «здесь и сейчас» в «там и потом»! Представил? Правильно: хочу я того или нет, я обладаю психологией сверхчеловека. Для меня давно весь мир един; проблема лишь в том, что он поделен неправильно. Но это мы исправим…
Интересно, а какая у меня, Платона, психология, психология человека перемещающегося?
Я прекрасно помню свои ощущения пассажира.
Регистрация. Посадка. В этом действе всегда много тревожного: всем предстоит оторваться от земли и несколько часов провисеть в воздухе в дюралевом корпусе. Статистика за нас: катастрофы терпит ничтожное количество воздушных пассажиров; но вдруг в этот раз судьба выберет нас? Чем хуже были те, кто рухнули в океан месяц назад в роскошном аэробусе сверхсовременного дизайна?
Самолет «Боинг 737–300». Резвая и энергичная стартовая скорость делает всех беспомощными. Законы притяжения всех вдавливают в кресло, и на лицах пассажиров, оказавшихся в салоне, застывает испуганно-молитвенное настроение.
Боинг мощно отрывается от земли – и сразу всплывают забытые ощущения. Тело никогда не забывает шоков и потрясений. Ощущение улёта, оказывается, сопровождает меня всю жизнь.
С неослабевающей стартовой мощью мы уверенно и бесцеремонно вспарываем слой грязно-мутных облаков и выныриваем в пространство, где облака оказываются и сверху, и снизу. Мы – наискось и вверх – пронизываем межоблачную прослойку. Быстро приближаемся к верхнему слою – к легким перистым облакам и, соответственно, удаляемся от слоя грязно-мутных кучевых. Сверху этот нижний слой облаков кажется бесконечным полем, покрытым плотно сбитыми кусками замороженной серой ваты. Впечатление замороженности было главным. Ледяные торосы из ваты.
Удалились далеко от этих торосов – дальше, чем от земли до торосов. Вошли в невесомые перистые, которым, казалось, не будет конца. Но вот и они кончились. Выше – только вечернее небо. Внизу серый туман, под которым – замороженная вата. Скучно. Смотреть не на что. Жалко: готов к впечатлениям, но ничего не происходит.
На горизонте назойливым сигналом горит тускло-оранжевая полоса заката. И без нее на душе тревожно: в голову лезут нелепые фантазии, связанные с внезапной (теоретической, конечно) возможной неполадкой двигателей. К смерти никто не готов. Все готовы к страху.
Все испытывают одно и то же.
– Все испытывают одно и то же, – сказал мой сосед, своей бородкой, очками и интеллигентной аурой (жесты, интонации, манера поведения) напоминавший типичного профессора. – Ощущения, в прежние тысячелетия доступные лишь одному Икару, сегодня могут позволить себе испытать все, кому не лень.
– Вы профессор? – спросил я, проявляя свойственное всем людям любопытство.
– Да, да, – сказал он, очевидно, привыкнув производить впечатление профессора.
– А этот, Икар… Он же выдумка. Его ведь не было, верно, профессор?
– Икара, разумеется, не было. Но он реален как метафора. Этот вымышленный персонаж отражает наши реальные потребности.
Ровный гул двигателей. Мне стало приятно, когда его перебил человеческий голос:
– Вы обратили внимание? Девять раз в поле нашего зрения попадали другие лайнеры, с которыми мы разминались то на встречных, то на параллельных курсах, а трижды – на перпендикулярных. И в небе стало тесно.
– Вы наблюдательны, профессор.
– Да, я наблюдателен. Так же, как и вы, смею полагать. К тому же я привык анализировать. И вот что я вам доложу: высшее образование сегодня – такой же миф, как и миф об Икаре. Мыльный пузырь.
– Что вы имеете в виду?
– Университеты сегодня – это сигнальный сервис. Они не учат мыслить, они не затрагивают человеческое измерение, они не делают людей лучше. Вся их функция – дать потенциальным работодателям своеобразную гарантию, что вот этот выпускник с дипломом обладает интеллектом, способен учиться и воспринимать новые знания, трудолюбив и честолюбив. Дать сигнал: обратите внимание на этого клиента. Вот и все. И такая социальная маркировка стоит неоправданно дорого. Диплом выполняет своего рода татуировку, как у индейцев. Он несет социальную информацию, но не личностную. Университетов становится все больше, а люди становятся все невежественнее.
– И что вы предлагаете, профессор?
– Пока не знаю. Мы летим в никуда. Цивилизация входит в пике. И лично я готов к смерти. Я наигрался в мыльные пузыри.
– Мне необходимо подумать, – сказал я и прикрыл глаза.
Очнулся я – уже в дымке перистых.
Стремительно приближались плотные кучевые.
Гроздья огней. Касание бетонной полосы. Сцепление шасси с землей. Характерное подрагивание корпуса лайнера. Победный рев двигателей.
Льютон. Великобритания.
– Добро пожаловать в самое сердце цивилизации, – мрачно изрек профессор. – Здесь просто радуги из мыльных пузырей.
Я вынужден был признаться себе, что у меня психология обычного человека: как только я оказался на земле, у меня отлегло от сердца. Как и у всех.
– Не кажется ли тебе, что наша цивилизация входит в штопор? – спросил я у Вени.
– А я что, по-твоему, делаю? Я и пытаюсь вывести ее из штопора.
– Не кажется ли тебе, что мы уже прошли точку невозврата? Мы набрали такие обороты, что не в состоянии сбросить скорость.
– Прошли точку, не прошли точку… Что толку об этом говорить? Делай, что должно, и будь, что будет. Разве не ты мне об этот все уши прожужжал?
– Этот старинный рыцарский девиз мы с тобой всегда понимали по-разному. То, что «должно» для тебя, для меня смерть; а то, что «должно» для меня, для тебя не жизнь. Веня, у тебя ведь есть высшее образование?
– А как же? Университетский диплом. С отличием. Я всегда умел учиться. И всегда был открыт новым знаниям. Поэтому и стал тем, кем стал.
– Мы живем на одной Земле, но никак не можем встретиться и посмотреть друг другу в глаза; мы говорим на одном языке, но совершенно не понимаем друг друга; мы учились в одних университетах, но учились при этом разному: ты – знанию, я – пониманию. Не кажется ли тебе это странным?
– Нет, не кажется.
– Вот тут я с тобой согласен: мне тоже не кажется. Мне кажется это закономерным.
– Вот видишь: я всегда говорил, что у нас много общего.
– Я и тут с тобой согласен.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.5.
– Знаешь, что там – за семью дверями и девятью замками? Там ШИС.
– В смысле скопище шизоидов? – невинно осведомился я.
– Нет. Школа Изменения Сознания. ШИС.
Барон был настроен серьезно. Он не улыбался, и своими окаменевшими мышцами лица давал мне понять, что моя улыбка также будет неуместна. Наступал час, когда в Вене просыпался академик-исследователь; в это время он предельно концентрировался и терпеть не мог всяких отвлекающих маневров, чужой расслабленности, рассеянных глаз, блуждающих улыбок…
– Зачем мне знать об этом? Меньше знаешь…
– Затем, что именно этой Школе ты обязан маленькому чуду – тому, что еще ходишь живым.
Когда Веня начинал разговор подобным образом, когда он резко и неожиданно повышал градус откровенности, это всегда предвещало изменение качества наших отношений. В такие моменты я сразу чувствовал себя подопытным – и почти никогда не ошибался. Что-то произошло. От меня чего-то ждали. У меня отбирали свободу. Скорее всего, сейчас я услышу нечто такое, после чего я помимо воли своей буду наделен статусом секретного сотрудника, и мне, возможно, никогда уже больше не вырваться из стен ШИСа или Плутона. Никогда.
Мне нельзя было ошибиться. Я улыбнулся:
– Вероятно, я должен поинтересоваться, почему Школа столь внимательна ко мне.
– Все просто, – отмахнулся Веня. – Ты исключительный экземпляр.
– Я?
– Ты, ты, и не строй мне глазок. Не люблю. Будем играть в открытую.
Ему не терпелось приступить к главному.
– Объясняю.
Из его четких, логически выстроенных объяснений следовало, что лаборатория или, иначе, ШИС, имеющая сложную структуру, была нашпигована разного рода биогенераторами, излучателями, психотропными пушками, которые с помощью высокочастотных колебаний могли на расстоянии управлять человеком, избирательно или массово, – в частности, мастера конторы неплохо отработали технологию заражения заурядных людишек идеями. Как? Через воздействие на подсознание. «Есть у меня один чудотворец, второй Тесла. Изобретает такое, что уму непостижимо. Гений, прирожденный гений». Эти внушенные идеи с различным «индексом тревожности» могут спровоцировать цепную реакцию и вызвать самую настоящую эпидемию идиосинкразии в массах. И напротив: биогенераторы позволяют не только внушать, но и считывать мысли. Элементарно. Вот такая интерактивная связь. Человек, существо информационное и волновое, подсоединен к некоему пульту управления, но даже не подозревает об этом. Чувствует себя бодро и уверенно, сам лихо управляет батальонами. Но стоит дать команду – и человек совершает черт знает что. И так можно влиять на кого угодно. На резидентов, на президентов…
Оборотная сторона полной демократии – тотальный контроль.
– Регулярные экономические кризисы, дефолты, свиные и птичьи гриппы, всякого рода непостижимые инфлюэнцы – думаешь, все эти цветочки сами по себе завелись? Все эти технологии у нас разработаны. И они неплохо продаются. Психотропное оружие, к примеру, стреляет давно и исправно. Войну никто не прекращал. Только воюют теперь не страны, не режимы, не капиталисты с марксистами; сегодня человек в погонах и с царем в голове начал поход против быдла.
Моя улыбка давно уже была раздавлена маской бесстрастия, гипсом застывшей на лице.
– Думаешь, изменение климата тоже происходит само по себе? Думаешь, глобальное потепление – это не результат наших экспериментов по управлению климатом? Думаешь, тучки бегают сами по себе, заблудившись в вечности?
Я молчал.
В лаборатории, в частности, изучали психическое программирование живописью.
– Почему так популярны всякие Пикассы, кубики, квадратики и прочая черная шваль? А? У Шишкина, между прочим, нашего «лесника», не меньше энергетики, но пушечки направлены против него…
Я молчал, словно Будда, обладающий тайным знанием.
– Есть отдел НЛП. Стоит бросить одно ключевое слово во всемирную паутину или в эфир – и в разных странах и этнических группах как на дрожжах формируются несколько разблокированных типов поведения, каждый из которых направлен на уничтожение, скажем, одного объекта. Никакие спецслужбы не уследят за управляемым хаосом. Сначала мы запускаем в массы вирус «Бен Ладен», или «Битлз», или «гомофобия»; потом отбираем из числа адептов подходящий психогенетический материал; потом кодируем его; потом роняем словечко…
По логике вещей «шисики» вышли на экстрасенсорные способности – на энергетический центр человека. Быстро выяснили, что дар предвидения (не такой уж и редкий, кстати) связан прежде всего с эпифизом. Да, да, эпифиз, шесть букв. Эта штучка, горошина такая, расположенная в теменной части головы, реагирует на всякого рода излучения и энергии. Да, да, обнаружили тот самый «третий глаз», шарик, способный концентрировать всю не воспринимаемую чувствами человека информацию. Быстро вышли на вещества, способные стимулировать эпифиз. Назову самое безобидное: аметист, например. Способствует выработке мелатонина, вещества жизни. Не носишь амулетика? Напрасно.
Оказалось, что человек, помимо всего прочего, это еще и великолепный психотронный ретранслятор энергии из космоса; есть экземпляры, способные принимать излучение на себя, принимать энергию, потенцию, здоровье. За себя и за того парня. Человечество путем мутаций рождает несколько таких экземпляров в столетие. На что способны такие люди в оперировании информацией – одному Богу известно. Ньютон и Менделеев просто жалкие подмастерья, убогие подручные у этих никому не известных маэстро.
По существу, в человеке, клеточке вселенной, закодированы все тайны мироздания. Клонирование и генная инженерия интересуют нас не в смысле продления жизни и улучшения здоровья граждан, а в плане выведения особой породы, у которой эпифиз… Нам бы горстку таких биороботов – и тогда… Тебе никогда не приходило в голову, что управление шариком, то бишь планетой Земля, – дело всего лишь одной технологии, освоить которую способен и дурак?
Впрочем, на эту тему достаточно.
– Мы давно раскусили тебя как тайного или скрытого экстрасенса, – продолжал Барон, осознав, что мое фундаментальное молчание может длиться вечно. – Возможно, до поры до времени ты и сам не подозревал об этом. Возможно, и сейчас не подозреваешь. По тебе не определишь. Браво. Но это не важно. Интрига заключается еще и в том, что твои энергетические данные оказались связаны с невероятно развитым интеллектом. Это единственно известный нам случай, а у нас данных, можешь мне поверить, миллионы и миллионы феноменов. Ты обладатель уже не интеллекта – а разума, что ли. По интеллекту первый – Гигантюк. Поэтому структура твоей личности столь необычна. Блядь, Плиний, ты редкий жук. Смекаешь, к чему я клоню? А вот Гигантюк всего лишь капризный подросток. Как личность – в принципе неинтересен.
Я неопределенно пожал плечами. «Кто такой Гигантюк?» – подумал, но отчего-то не спросил.
– У тебя эпифиз развит чрезвычайно, – лениво констатировал Веня.
Я молчал.
– Ты единственный на земле человек, дар предвидения которого имеет космические масштабы. Но ты почему-то пишешь про любовь… Плиний, ты не достоин сам себя. Женщины, зажигающее нас желе на пружинках, ходячие утробы, и мы, носители разума, попадаем в одну номинацию… Платон, ты что, ё…улся? И Гигантюк туда же…
– Дьявол, дьявол, дьявол, – вяло ругнулся я себе под ноги.
– Что с тобой? – поинтересовался Барон, как лечащий врач у VIP-пациента.
– В слове «дьявол» шесть букв. Произнесешь три раза – получишь три шестерки. 666. Это работает.
– Мало ли в каком слове шесть букв, – усмехнулся Веня. – Например, в слове «девять». С тремя девятками не пробовал работать?
– Чего ты хочешь от меня, Веня?
– Вот на этот вопрос мне и нужен ответ. Все зависит от границ твоих возможностей. Будем искать ответ вместе. Кстати…
Под занавес Барон приберег любопытную информацию, которую я расценил как грубое психологическое давление: наверняка по мне шарахнули из пушки, заряженной волновой бомбой, начиненной шрапнелью «элементы НЛП». ШИС уже запатентовал в США пилюльки «Грибоед» (Griboeat), вызывающие болезнь горе от ума. В принципе можно сделать болезнь заразной. Нет никаких противопоказаний. Было бы желание.
Я, считавший себя наследником лишних, дожил до того благословенного времени, когда умных в буквальном смысле объявили больными (ибо: клинически доказано). Персонажи от Соломона до Евгения в соответствии с новейшими технологиями превратились в пациентов, история литературы поразительным образом стала напоминать историю болезни – точнее сказать, диагностическую книгу, куда стараниями фаустусов-книжников веками скрупулезно заносились клинические признаки болезни. Гамлеты выродились в дон-кихотов.
И вот сегодня завораживающий всех мыслящих фантом лопнул, словно мыльный пузырь: да здравствует тело, да излечится дух. Cogito ergo sum – это даже не психологический, а просто химический процесс. Не пей, братец, пилюльку: козленочком станешь.
Понятие «духовная свобода» нашло химический аналог, свою сакральную формулу: Griboeat.
Во что же превратилась история человечества? В историю победы натуры над культурой?
– Скажи мне, Барон, ты ведь тоже экстрасенс?
– А как же? Экстракласса. Кто тебя вычислил? Я. Битва экстрасенсов – обычное дело. Я не только философ, но и экстрасенс. Я ни в чем тебе не уступаю; правильнее было бы сказать, я во всем тебя превосхожу. Пора бы тебе это понять…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.5.
Мы стояли на берегу озера.
Облака переворачивались и летели по небу так быстро, что напоминали перекати-поле в замедленной съемке.
– Платон, Платон, все, что я вижу вокруг себя, называется Очень массовое Очень коллективное Очень бессознательное. О! О! О! Или «ООО». Общество с ограниченной ответственностью. Группа нулей. И это единственный источник жизни, креатива. Все остальное – от лукавого.
Ты, Платон, от Лукавого. И у меня есть доказательства. Фактические, психологические, философские.
Вот на наших, уже столько повидавших мозолистых глазах, вылупилось новое поколение. Которое, конечно, считает себя первым и небывалым. Уже даже не смешно. Они гордятся, что едва ли не первые стали вырабатывать мировоззрение индивидуально, самостоятельно, каждый сам за себя. Общей социалистической кормушки не стало, и каждый повар стал готовить острые блюда на свой вкус. Красота. Я хотел сказать – свобода.
Но замечаешь ли ты, что мировоззрение всех поголовно и каждого в отдельности стало быстро обретать общий вектор? Они все стали искать более-менее общую платформу, начало объединяющее, а не разъединяющее. Потянулись к общему корыту.
А следующее за освобожденным поколением, поколение next, открыто уже тоскует по общей идее – национальной идее, европейской идее, общечеловеческой, экологической, космической, педерастической. Маленькие люди всегда тянутся к большой идее…
– А великие люди – к универсальной, – сказал я.
– Не встревай, Платон. Почему мелким мозгам нужна крупная идея?
А потому что так проще. Мало сказать, что это закон маленького, аленького, блядь, человека. Поскольку малых сих легионы – это закон жизни. Но это не единственный закон жизни, согласен. Следующий закон принесешь мне ты, Платон, в клювике, и подашь на блюдечке с оранжевой каемочкой. А молекулы, атомы, бациллы и прочие микроорганизмы и наночастицы – это забота ботаников, муравьев с интеллектом. Вот я их и развожу. Во-первых, их содержать проще, нежели сверхсложные сверхкомпьютеры; во-вторых, люди пока эффективнее. Маленькие люди с большим интеллектом и непомерными амбициями – дети, блядь, скучный молодняк.
Нет, нет, мир можно удержать только генеральной идеей – всем доступной, но никому не ясной. Общие параметры такой идеи также разработаны, причем, далеко не самыми умными людьми. Возьми притчу об Иисусе. Вот архетипы-кирпичи, из которых возводится храм веры: жертвенность, милосердие, безвинное страдание, предательство, преданность, слабость под видом силы, неистовая и бездоказательная (это главное, главное: доказательность унижает веру) вера в чудо… Черно-белая сказка для аленьких. Действует безотказно. А ты – «диктатура культуры»…
Знаешь, чего я действительно боюсь?
Греческий философ Хрисипп умер от смеха, наблюдая, как его пьяный осел пытается есть инжир. Вот и я боюсь загнуться от смеха.
Ну, что, Платоша, взлохматим шарик земной? А ведь запросто. Чем хороши твои законы духовности? Тем, что их, в первую очередь, можно использовать против той же духовности. Ты ведь изобретаешь своего рода вечный двигатель: уже на научной основе мы лишим доступа этих баранов к разуму. Указав путь к разуму – ты отлучаешь их от разума. Ты становишься теоретиком диктатуры натуры.
Ты думаешь, я стану засекречивать твои законы?
Напротив, я их опубликую. Что похоже на бессмыслицу более всего? Глубокая, тонкая, парадоксально выраженная мысль. Поэтому мысль надо убивать «как бы мыслью». Это эффективно. Надежно. Проверено. Только с помощью мысли можно избавиться от мудрости, вообще от содержания. Мои олухи-интеллектуалы так прокомментируют твои законы, что от них камня на камне не останется. Интеллект победит разум, можешь не сомневаться. И знаешь, на что я буду опираться? На нежелание знать истину. Это закон законов жизни. Ты делаешь ставку на истину, а я на легкую, приятную, комфортную истину; ты на трактат – а я на Библию. С картинками. Интеллект, сука, принесет мне ее в зубах. Осовременим, подшаманим, пустим в массы. А с разумом твоим не договоришься. Нет, лучший разум – это интеллект.
Вот тебе пример. Ты хочешь заставить людей передвигаться быстрее. И это достаточно просто. И вот уже общеизвестно, как быстрее всех пробежать стометровку, однако никто не спешит повторять этот подвиг. А зачем? Закон наименьшего сопротивления – вот закон законов. Хорошо жить – жить без подвигов. Какая диктатура культуры? Зачем усложнять себе жизнь? Не смеши меня.
Я, как обычно, свои контраргументы упаковал в монолог и попытался скрыть от самого себя.
«Так-то оно так, да вот только…
Обычную жизнь обычного человека подпирают недосягаемые образцы.
Именно культурные чемпионы помогают бесталанному человеку гордиться собой. Они придают смысл его жизни.
В сущности, подлинное призвание гения – раствориться в толпе, которую он так презирал, ибо рожден был ею…
Примерно так».
– Что молчишь: сказать нечего или сопротивляешься?
Я пожал плечами.
– Чему ты пытаешься противостоять, умник? Ну, вот чему? Очень Массовому очень Коллективному очень Бессознательному. А надо не противостоять, надо возглавить этот парад безголовых. Все остальное – от лукавого.
И ты, Платон, от Лукавого.
«А ты?» – мысленно возразил я.
– И я от Лукавого. Но мне положено, я законнорожденный. А ты – байстрюк, сукин сын, тебя мамка случайно в подоле принесла. По паспорту ты голубых кровей, а по сути – лукавых кровей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.5.
«Отец Никодим явно сменил тактику. А заодно и стратегию.
Он прилюдно пребывал в трудах и молениях, на Татьяну не обращал никакого внимания, на кладбище не забредал. Ходил одиноким угловатым аистом, словно аршин проглотив, то есть по военному держа спину, немного задрав при этом голову (что священнику шло чрезвычайно), ступал твердо, прямо смотрел в глаза. Словом, излучал уверенность и неколебимость.
Сказывают, что будто видели его однажды ночью у Аспирина. Ну, допустим, видели. И что? Это не компромат.
А вот то, что к Никодиму средь бела дня заглянул как-то сам Барон (после воскресной проповеди: видно, священник сказал что-то условное, подал знак), это ушлые обыватели ДН ПП проморгали.
У Барона, ясно, был не праздный интерес.
– Появлялись? – с порога спросил Босс.
Никодим приложил палец к губам.
Барон достал какой-то маленький прибор и нажал кнопку.
– Все, защита поставлена, – сказал он через минуту. – Нас никто не услышит.
– Ой ли? – нервно двинул плечиком о. Никодим.
– Вышли на связь? – не шутя вопросил Хозяин.
– Вышли.
– Кто?
– Наденька.
– Надежда, значит. Почему не Вера, не Мария?
– Наверное, намек на то, что дают надежду, типа оставляют шанс.
– Что сказала? Потрудись передать слово в слово.
– Сказала, что вы, Хозяин, сбиваетесь с пути. Во второе ваше свидание, когда вы, прошу прощения, имели Надежду, вы имели также неосторожность, кха-кха, подписать какой-то документ, говоря нашим языком. В общем, вляпались во что-то сакральное. Насколько я понимаю, речь шла о какой-то сделке.
– Знаю, знаю… Дальше.
– Теперь вы нарушаете какой-то пункт.
– Какой, Нико, какой пункт? Еще вчера я ничего не нарушал.
– Не знаю, Босс. Не ведаю.
– Ты здесь затем, чтобы узнать, на какой такой библии я им поклялся и что я сейчас нарушаю. За что они оставили мне жизнь? Почему они оставили жизнь мне? Что я обещал им взамен? Неужели я элементарно закодирован, только сам не знаю на что? Нико, Нико, не огорчай меня. Работай.
– Прямо они не говорят, Босс. Не принято.
– Разговор записан?
– Что вы, Босс? Ваш туз с чипом не срабатывает. Более того, после каждого контакта издает какие-то издевательские попискивания. Не удивлюсь, если там зашифровано сообщение для вас.
– Давай карту.
Никодим снял карту со шнурка, на котором висел также нательный крест немалой величины.
Барон помолчал, затем веско спросил:
– А ты, случаем, ничего не подписывал? Может, ты уже двойной агент? А? Продал душу, сука?
– Нет, Босс. Им нужны вы. Вы их главный генеральный проект. А я так, сошка, пылинка. Тля.
– И никто тебя не соблазнял, тля?
– Не знаю, – Никодим опустил глаза.
– Что значит «не знаю»? Верку е…л? Она почему-то первая дает. Незабываемо.
– Нет.
– Что тогда?
– Мария… она подняла подол и показала мне… В общем, у меня до сих пор стоит, как дед мороз под елкой.
Барон помолчал. Потом тихо, как удав, просипел:
– А как они приходили к тебе? Как?
– Во сне, – просто ответил Никодим.
– Почему, ну, почему они приходят к нам, когда захотят, а мы к ним сунуться не моги? Система нипель: туда дуй, оттуда…
– Х…, – сказал Никодим.
– Правильно, Нико. Верно. Что-то все у нас разладилось. Туз не срабатывает, а над этой хитрой карточкой, между прочим, бились лучшие мозги человечества; ты, Нико, не внушаешь доверия…
– У меня бессонница, я не могу спать уже неделю.
– Не ропщи. Спи, не спи, они достучатся до тебя, если надо. Прямо во время проповеди возьмут тебя за яйца. Насчет Фили не узнавал? Что у них с ним за шашни?
– Боюсь, это просто запасной канал связи и, не исключено, возможность прямого воздействия на вас.
– Стучите, суки, друг на друга.
– Обижаете. Служу верой и правдой, Босс.
– Куда ты денешься. Ты у меня вот здесь. На одну ладонь посажу, другой прихлопну. Уничтожу одним волшебным словом.
– Я знаю, Босс, – совсем не испугался тот, кого в миру звали Нико. – Я ваш вечный должник.
– То-то же. Слово Платон не звучало? Пла-тон. Напряги свою память. Мне нужна зацепка. Сдается мне, что именно Платоша им шибко против шерсти. Либо очень, очень по шерсти…
– Нет, такое глупое слово не звучало.
– Хорошо. Что будем делать? Идеи, спрашиваю, есть?
– Я бы для начала расшифровал послание. Туз подозрительно пищит, однако. На словах мне ничего не передали, но ведь контакт со мной был. Значит, я являюсь носителем информации. Вы же знаете это ведьмачье племя.
– Ладно, разберусь. Мария похожа на Таньку Оливье, верно?
– Нет, Босс. Она похожа на Венеру, вашу жену».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.5.
– Какое глупое письмо ты мне написал! – бросила мне с порога Алиса, вернувшись из Москвы.
– Разве? – ответил я, наслаждавшийся тревожным покоем, наступающим сразу вслед за исполнением предписания «сделай, что должно, и будь, что будет». В этом мне помогали виски и мой молчаливый приятель. Он лишь мимикой реагировал на мои монологи, неизменно при этом покачивая головой, мол, «да, да, да, все это так неразрешимо». Мы сообща боролись с зеленым змием, то бишь, старались не думать. Славно проводили время.
– Конечно.
– А каким должно быть умное письмо?
– А вот каким. Во-первых, начинать и заканчивать надо поэтически: я тебя люблю! Целую. Обнимаю. Это можно писать через строчку. Женщинам нравится, когда их обнимают и не отпускают от себя. Дальше: я не могу без тебя жить! Тоже почаще. Ты на свете всех милее! Ты – единственная! Вот каким. Вообще, Платоша, твой ум превращается в недостаток.
– Просто потому, что он еще не стал достоинством.
– Ну, вот! Опять? Что надо сказать девушке после долгой разлуки?
– Дай подумать.
– Да не думай! Сразу говори!
– Я тебя люблю!
– Вот, уже теплее.
– Я не могу без тебя жить!
– Совсем хорошо!
– Ты на свете всех милее! Всех румяней и белее.
– Это потому что шампанского много пила, поэтому и румяная. Этого мог бы не говорить.
– Я же сказал «всех белее»…
– Но перед этим ты сказал «всех румяней».
– Дай я тебя обниму…
Меня неодолимо влекло к Алисе. Причем, нежность моя проявлялась в форме грубоватых прикосновений. И я видел, как волнующе сказывались на ней прикосновения моих ладоней, плеч, колен. По лицу ее тенью пробегали отблески сладких спазм, которые, как давало понять тело, зарождались внизу, а дальше…
Дальше процесс становился неуправляемым.
Я видел, что она не в силах противиться моему мужскому желанию, но и безвольно отдаваться она была не в состоянии. Она вырывалась и льнула. Ей хотелось, чтобы ее брали. Ее сопротивление было страстным победным призывом и формой полнейшей капитуляции одновременно. Я ворвался в нее, сразу добравшись до сокровенного, и солнечно-лунный взрыв породил сладчайшие судороги, которые упругими волнами разгладили все ее существо. Из этого жуткого дионисийского хаоса родилось вещество нежности, которое заполнило пустоту, образовавшуюся после взрыва. Из нежности родились слова, передававшие непередаваемое: «Я тебя люблю».
Вот когда эти простые слова выражают то, что они должны выражать – невыразимое, предельно содержательное. Женщина знала, что теперь она навсегда стала другой, что в ней открылась и поселилась вселенная.
И все это благодаря именно этому мужчине, который, скорее всего, даже не подозревал, что причастен был к рождению нового мира.
Он чувствовал себя Зевсом, а она ощущала его как могучий первотолчок и сразу вслед за этим – как придаток вселенной, которой он был творец, но не хозяин. Зевс? Да исполать тебе, добрый молодец.
И всесильному Зевсу, да-да, на коленях стоять приходилось.
Может ли Бог создать такой камень, который сам же и не поднимет?
Да запросто. В чем проблема? Это загадка не для женского ума.
Две вселенные тянулись одна к другой, пугая и волнуя друг друга энергией, готовой к созиданию и разрушению.
Опять взрыв. Энергия которого превращалась в нежность. Зевс в тучах. В смысле, облако в штанах.
– Знаешь, почему тебе хотелось тотального разочарования в мужчинах? – спросил я, когда ко мне вернулась способность соображать.
– Почему? – спросила она не из любопытства, а из вежливости; к ней способность соображать не вернулась.
– Потому что жизнеспособно только простое. Все мужики – сволочи, все бабы – дурры. Это очень удобно. Это универсальный вариант защиты в битве полов.
– Но ведь каждой женщине хочется чувствовать себя защищенной, – кутаясь в меня, как в облако, промямлила она, чтобы хоть что-нибудь сказать в ответ. Она бессознательно сопротивлялась. И потому вступала в диалог.
– И мужчине тоже. Просто он чувствует себя защищенным тогда, когда ему есть, кого защищать. Как льву. А знаешь, какой вариант защиты самый надежный и самый человеческий?
– Какой?
– Счастье.
– М-м-м, – сказала она. – Я тебе ужасно верю.
– Это значит: перекладываю ответственность.
– Ты так считаешь?
– Но не настаиваю на этом, заметь.
– Наверно, ты прав. Женщины ведь и вправду глупые люди.
Мог ли я после этого считать ее дурой?
Нет. Умнее и прелестнее существа я не встречал в своей жизни.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.5.
Темнота.
Свет в конце тоннеля. Сверхскоростной поезд «Сапсан» мечется между двумя вселенными, имя которым Психика и Сознание. Вселенные существуют каждая по своим законам. В этих вселенных, то тут, то там, живу я. Психика населена густо, здесь активничают все, от академика до магистра ложи масонов. Здесь работают не головой, а локтями, фибрами, жабрами. Швабрами. Плачут. Смеются. Не понимают. Поезда всегда переполнены, все стремятся под прохладные своды пустынных библиотек Сознания, но прибывают почему-то в бушующую страстями Психику. И все довольны. Все смеются. Потом вновь толпами, миграционными косяками тянутся к полюсу Сознания, штурмуя «Сапсан», надолго здесь не задерживаются.
Я сижу в библиотеке, постоянно один, и постепенно начинаю понимать. Я дышу легкими, а они жабрами. Они могут лишь глотнуть воздух, но дышать им не могут. Вот почему нет никого вокруг.
Ну, хорошо. Мне от природы, помимо всем причитающихся жабр, дарованы еще и легкие. Чтобы жить было легче. Веселее.
Ладно. Согласен. Но почему все остальные так обделены?
Ладно. Они обделены. Принимаю как факт. Так сказать, кто-то неровно делит. Рука дрогнула. С кем не бывает. Но почему толпы и косяки не выстаиваются ко мне в очередь за интервью и автографами, почему не пытают меня на все лады, словно первого космонавта, как там, в другой вселенной? Как оттуда выглядит Психика? А? Почему в упор не замечают моей исключительности? Почему они, из праздно-безобразного любопытства сующие свои заточенные завистью носы во все смердящие дыры, обходят эту черную информационную дыру под названием Сознание как сговорившись? В упор не замечать меня – это у них врожденное, что ли?
Или – это я обделен?
Вдыхать воздух полной грудью в библиотеке – наказание?
За какое же, интересно было бы знать, преступление?
Темнота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.5.
Любовь резко ограничивает твою свободу.
Любовь настолько сложное чувство, что человек, способный испытать любовь, становится другим: занесенным на землю из космоса.
Любви нельзя изменить, как нельзя изменить законам, лежащим в основе вселенской гармонии. Можно нарушить эти законы, и расплата наступит незамедлительно. Но отменить ничего нельзя.
Веня нервничал не напрасно. Он, как «Титаник», нарвался на риф в том месте мирового океана, где рифа никакого быть не должно. У него не было оснований не доверять карте. Но риф внезапно появился. Великолепный лайнер получил пробоину в бок. Веня нервничал.
Веня чувствовал, что его бессознательное, которое росло и крепло по мере того, как рос и мужал его интеллект, содержало в себе все то, о чем говорил или молчал Платон. Он теоретически допускал такой сюжет: человек может превратиться в личность. Платон и не скрывал: одновременно с бессознательным в тебе растет и сознание, где интеллект, тот самый хорошо тебе знакомый интеллект, обретает свойства разума. Интеллекту и разуму в одном теле и в одной душе становится тесно, и начинается борьба за жизненное пространство. Верх берет кто-то один: тело и душу рано или поздно венчает либо интеллект, либо разум. Человек – венец вселенной; венец человека – личность.
Но почему один превращается в личность, в человека разумного, а другой так и остается человеком неразумным, хоть и развитым интеллектуально?
Почему один человек коронован венцом личности, а другой – нет?
При этом чем более ты развит интеллектуально, чем более богатым и содержательным становится твое бессознательное – тем глупее, тем все более и более неадекватным миру становишься ты сам. Интеллект одновременно делает тебя и более умным (по сравнению со всеми другими – Аз есмь Бог) – и еще более глупым (по сравнению с одним только Платоном – предположим, предположим). Тут я не совсем понимаю, но предчувствую, интуитивно ловлю (браво, мое расчудесное бессознательное!), что так вполне может быть. Допустим. На всякий случай. Так учили в спецназе.
Бессознательное в личности никуда не исчезает, не утрачивает своей витальной первобытной мощи, но оно работает на личность, хотя и делает вид, что подчиняет ее себе. А вот в человеке, говорит Платон, бессознательное играет роль сознания – и человек, в отличие от личности, живет в другом мире. По сути – в другой вселенной. Мироощущение и мировоззрение у человека и личности – разные. Ощущение мира и воззрение на мир – разные. Личность – король для бессознательного; человека – раб бессознательного. Вот и вся разница, если на то пошло.
Они, человекообразные, смотрят разными глазами, смотрят на одно и то же, а видят разное, испытывая при этом разные чувства, которые возбуждают разные мысли.
Мой интеллект способен понять это. Я могу допустить такую возможность. Чего не хватает мне, чтобы стать личностью?
Платон говорит: есть универсальный тест – способность любить.
Но я не готов любить. Точнее, так: я готов не любить. Я всю жизнь целенаправленно шел к этому. И эту свою особенность я ощущаю как силу, а не как слабость. И все было хорошо. Пока я не нарвался на Платона.
Я не могу решить проблему любви как интеллектуальную, логическую загадку.
И я чувствую, что Платон прав. Странно, он говорит, что мне не хватает широты души – то есть, объемов бессознательного. Размер глупости, оказывается, тоже имеет значение. Глупый человек, идущий на поводу у своего интеллекта, становится выдающимся глупцом, почти умным, что делает его безнадежным дураком.
Когда я слушаю Платона, мне кажется, что из нас двоих кто-то сошел с ума, из нас двоих кто-то ненормален. Он доказывает мне, королю, что я – жалкий раб… Иногда я втайне убежден, что это он сумасшедший, и тогда его речи только веселят мне душу, укрепляют мой дух, цементируют силу воли. Но иногда, в черные дни, мне кажется, что Платон прав, и мне хочется его убить. При этом я чувствую, что, убив его, я подталкиваю на край гибели самого себя.
В этом моя проблема. В чем моя проблема?
Я не чувствую себя зависимым от Платона, вовсе нет. Психологически я устойчив, как скала, здесь мне мало равных. Я со смертельным холодком боюсь одного – его роковой для меня правоты.
Наличие Платона рядом делает меня нерешительным «гнилым интеллигентом» (хотя вот о нем такого не скажешь: он убежден в своей правоте, как глубоко верующий, хотя он меньше всего похож на верующего, да и презирает он этих богоугодных, правда, не яростно презирает, а снисходительно – не тратит на презрение силы).
И я невольно учусь у него, даже подражаю ему, и он постепенно становится источником моей силы (возможно, сам того не подозревая; или, хуже того, будучи убежденным в этом?).
Как быть?
Вот до чего я докатился. Последний раз я задавал себе такие вопросы в подростковом возрасте. Выражение «рыба гниет с головы» Платон понимает так: человек всему голова. Иногда в шутку скажет: наш мир держится на 9 больших рыбах. Вот и поди, пойми его.
Неужели моя империя начала гнить с головы – как раз с того места, которое ее, собственно, и породило?
Что же теперь: отказаться от власти? Свернуть проект?
Все это наводит меня вот на какие мысли: Платон – сволочь (еще не додумав свое, я уже слышу в себе контраргумент с интонацией Платона: интересно, чем ты при этом думаешь?). Я пригрозил, что в один прекрасный день убью его.
Он так посмотрел на меня, что мне стало ясно: эта скотина не боится смерти.
Чего же он боится?Любовь резко ограничивает твою свободу.
Любовь настолько сложное чувство, что человек, способный испытать любовь, становится другим: занесенным на землю из космоса.
Любви нельзя изменить, как нельзя изменить законам, лежащим в основе вселенской гармонии. Можно нарушить эти законы, и расплата наступит незамедлительно. Но отменить ничего нельзя. Любовь с одинаковой степенью вероятности может стать способом самоубийства, а может – инструментом счастья.
Ты можешь выбирать, и свобода твоя становится безграничной.
Безграничная свобода всегда лежит в пространстве между «или – или» и располагается она во времени между полночью и полуднем.Вот что он хотел этим сказать? Подошлю-ка я к нему свою Венеру. Пусть она его соблазнит. Так, на всякий случай. Мне от этого станет легче.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.5.
Серое хмурое утро.
Идет дождь.
Отдельные капли шлепают вразнобой, где-то льется с желоба струйка воды. Во всем этом разнотонном шуме присутствует скрытый ритм. Музыка дождя?
В комнате тихо. Очень тихо.
Мягко шуршит компьютер. На фоне музыки дождя.
Нервы напряжены до предела. Музыка души?
Предстоит писать – и я бросаюсь в мутный омут с головой.
Что значит писать?
Исторгать из себя то, то добыто было мною в снах и/или в состоянии улета . Другого объяснения у меня нет.
Я люблю душевный кризис, этот единственный способ внести ясность в жизнь. Значит, у меня душевный кризис?
Конечно. Иначе – зачем мне писать?
Мне надо вернуть себе Алису. Познать себя. Иначе – зачем писать?
Странная штука любовь (это все из снов, из снов). Бывают минуты, когда я не люблю свою обожаемую Алису – и страдаю от этого. А любить не могу. И страдаю. Отношусь к ней не как к постороннему(ей), а как к части себя.
– О чем будет твой роман? – спрашивает в этот момент Алиса.
И вот парадокс: я знаю, о чем мой роман, но еще тверже знаю, что объяснить это невозможно.
– Да так… Помолчу пока. Из суеверия.
И еще больше спешу писать, писать. Чтобы было ясно, но необъяснимо.
Зачем?
Я вижу, как Платон может превращаться Веню, как Веня может достойно соперничать с Платоном. И как люто они ненавидят друг друга в себе.
Я вижу в Алисе то, что она сама не хочет замечать: я различаю в ней Венеру.
Более того: когда я обладаю Алисой, мне сладко представлять ее Венерой. И я ничего с этим не могу поделать.
И я стараюсь, чтобы небо было над головой, а земля – под ногами. Хотя знаю, что Земля круглая, а никакого неба нет.
Разве можно, зная это все, не писать?
Зачем тогда люди?
С какого-то момента Платону уже невозможно не писать; а до этого момента пишет только Веня. Веня как предтеча Платона…
Это была присказка, а сказка – давно позади, то есть впереди присказки.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.5.
Через день Магус рассказал мне много интересного.
Оказывается, дочь Вени была дочерью родной сестры Магуса.
– Какой сестры? – спросил я. – Ведь всех твоих сестер Веня, гм, уничтожил. Или я что-то упустил?
– Всех, да не всех, – сердито отвечал Магус. – Самую красивую и самую любимую мою сестру, Бэллу, – а ей в ту пору было столько же лет, сколько и незабвенной Джульетте, – он изнасиловал на моих глазах. Молча и очень нежно. Да, да. Он ушел, а Бэлла лежала и улыбалась. Чему ты так удивляешься? Через девять месяцев она родила ему двойню.
– Я удивляюсь вот чему: с чего ты взял, что я должен был знать, какая женщина подарила Вене двойняшек?
– Иногда мне кажется, что ты видишь людей насквозь. Веню я боюсь, а тебя, я не знаю… От тебя я бы держался подальше… Я не могу тебя понять.
– Магус, ты меня поражаешь: в тебе столько всего намешано. Сначала ты мне показался плохим человеком, теперь ты мне кажешься человеком не без достоинств; в общем и целом ты производишь впечатление обычного человека, местами одаренного сверх меры…
– Так оно и есть. Я же говорю: ты видишь людей насквозь.
– Видят насквозь людей писатели-философы. А я… Пока не уверен. Во всяком случае, мне и в голову бы не пришло, что у тебя есть сестра Бэлла, а у нее две дочурки…
– Дочь и сын.
– Конечно, дочь и сын, как же я сразу не догадался, ведь это проще простого. Достаточно взглянуть на тебя, чтобы догадаться: у тебя есть сестра и племяннички. Как, бишь, их зовут?
– Не скажу.
– Ты их любишь?
– В племяннице души не чаю.
– А мальчишка не по душе?
– Я его не знаю.
– Русский язык ты учил по книгам?
– Я выучил его за три дня. Под гипнозом. Это несложно. Я бы сказал, элементарно.
– А у нас знание иностранного языка считается показателем уровня образованности…
– Пустяки. Не стоит хлопот.
– Где живет дочь Бэллы тоже, конечно, не скажешь?
– Не скажу. Не верь, не бойся, не проси – так, кажется, у вас говорят?
– Смотря кто говорит. Я говорю иначе: и плакать, и смеяться, и ненавидеть, и понимать.
– Интересно вы, русские, рассуждаете. С парадоксом.
– Надо говорить – парадоксально мыслите.
– Ага. Я запомню.
– И еще нюанс. Вообще-то мы живем в Беларуси.
– Интересно вы, белорусские русские, рассуждаете – парадоксально мыслите.
– Вообще-то это не мы так рассуждаем; это Бенедикт Спиноза начал. Еврей. Из Голландии.
– Это имя мне ни о чем не говорит.
– Вижу, что тебе гораздо ближе «не верь, не бойся, не проси».
– Да, ближе.
– В таком случае, ты более русский, нежели я. И стал ты тем, кем стал, задолго до того, как приехал сюда, в Беларусь.
– Что ты хочешь сказать?
– Я хочу сказать, что вижу тебя насквозь.
– Дочь Бэллы зовут Мария. Она живет в Беларуси, – медленно произнес Магус. – А сына зовут Платон. Местонахождение его неизвестно.
– Платон и Мария… Спасибо, я так и думал, – ответил я, не понимая, лукавлю я или нет. – А скажи, как она выглядит, Мария?
– Она часто меняет свой облик, – улыбнулся Магус.
– Я так и думал. А с Платоном ты темнишь?
– Темню.
– Так проясни.
– Местонахождение могилы до недавнего времени было неизвестно.
– Я так и думал. А почему Веня вдруг воспылал любовью к дочери? Что же он, раньше о ней не знал?
– Раньше не знал; а потом, когда узнал, – не обрадовался.
– Почему?
– Босс считает, что ребенок может стать его слабым местом, его ахиллесовой пятой, а у него не должно быть уязвимых мест. Слишком много врагов. Слабость – непозволительная роскошь.
– А теперь самое интересное: зачем Бэлла решила объявиться? Зачем она заставила тебя появиться здесь? Зачем ей понадобилось, чтобы Веня узнал о своих детях? И, наконец, последнее: где сейчас Бэлла?
Выражение, появившееся на лице Магуса, позволило понять, что до сих пор он менял маски. У него даже цвет глаз становился разным, не говоря уже о смыслах, таящихся во взглядах. Он даже не вживался в роль, он просто становился другим. Думаю, это его свойство поставило бы в тупик самого Станиславского. Сейчас передо мной сидел глубоко несчастный человек, не скрывавший своего горя. Взгляд его потух, рот уменьшился наполовину.
– Бэлла решила напомнить о себе тогда, когда Платон заболел неизлечимой болезнью. Тогда я вышел на Босса. Нам оставалась только надежда на чудо.
– Но чуда не произошло… Чудес, как известно, не бывает.
– Нет, чудо случилось: Платон выздоровел окончательно. Босс действительно всесилен, как Бог.
– Отчего же Платона не стало?
– Спаси его, – сказал Магус.
– Кого? Босса? Да меня самого надо спасать.
– Нет, не Босса. Платона.
– Его сына? Который умер?
– Да.
– Так ведь он похоронен. Он не живой. Разве нет?
– Нет.
– Я спасу твоего племянника – хотя бы потому, что он мой тезка, – зачем-то сказал я, излучая неземную уверенность в своих силах.
С этой минуты Магус превратился в ручного кота – временами капризного, однако всецело зависящего от меня. Он служил у меня котом, а не я у него – хозяином.
А вот Веня служил у своего Марсика грозным хозяином.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.5.
– Мыльный пузырь…
– О чем ты?
– Бессмысленно говорить «мыльные пузыри цивилизации». Дескать, образование, медицина, педагогика, экономика, что там еще – это мыльные пузыри цивилизации.
– А как надо говорить?
– Сама цивилизация превратилась в мыльный пузырь.
– О, Веня! Ты заставляешь себе аплодировать!
– Не торопись. Как раз ошибешься. Я настроен радикально. Чем наркобизнес отличается от фармакологического бизнеса? Наркотрафик – огромный международный бизнес. Тебя смущает его нелегальность? «Связи с мафией, с организованной преступностью»… Вас всех, чистоплюев, черпающих свои суждения из продажных СМИ, возмущает несоответствие законам, которые писаны все той же мафией, незаконно избранной, организованной и продажной. Да, наркотрафик живет и развивается по особым правилам – он по-своему легален. Да, я босс этого бизнеса. «Связи с мафией, с организованной преступностью»… Это все сказки для замороченных религией, тем же опиумом для народа, как известно. Все на свете организовано, в том числе и преступность. На деньги которой, как видишь, – оглянись вокруг себя! – проведены самые крутые эксперименты в истории человечества. Все для человека. Все во имя человека. И уже завтра мы можем жить, благодаря мафии и организованной преступности, нормальной, здоровой жизнью. Говорю тебе: мы технологически подготовили высший уровень развития цивилизации. И кто нам мешает? Та мафия, которая организованно борется с организованной преступностью. И тут появляются, Веня, весь в белом, и наношу смертельный удар по раковой опухоли, имя которой Мыльный пузырь. Вот теперь прошу не скупиться на аплодисменты.
– Вот теперь ты их не получишь. Даже если все, что ты говоришь, имеет смысл, пусть даже минимальный… Один мыльный пузырь ты заменишь другим. Только и всего.
– Зато это будет честный мыльный пузырь.
– Он и сейчас честный: сейчас все честно врут, осознанно врут, я имею в виду. С умыслом. Намеренно. Понимая, что они врут.
– Но я не буду врать. Я честно объявлю конец света. Я приучу людей к этой мысли. Если ничего другого не остается, надо встречать смерть с достоинством.
– Веня! Принимать смерть тогда, когда ее еще можно избежать, – это глупость, а не геройство. Оставим достоинство умным. Чтобы не врать человеку, надо дать ему реальную перспективу. А ты собираешься честно лишить его всяческих перспектив.
– Реальных перспектив нет. Есть только миг. За него и держись.
– Я соглашусь с тобой только в одном: в принципе, справедливо, что земляне примут гибель свою из рук такого монстра, как ты. Цивилизация тебя взрастила, ты же и становишься ее могильщиком. Как Вася Сахар. Просто честно исполняешь свой долг. С достоинством. Но цивилизация взрастила и меня… Получается, что я и есть последний шанс для всех.
– Мания величия и вам не чужда, сэр, как я погляжу.
– «Мания величия» – это вопрос терминологии. Назовем это проще: ответственное мышление.
– Опять мы попали в зону ненавистной мне турбулентности: ответственное – не ответственное, штопор – не штопор, точка возврата – точка невозврата, голова – ноги… Я же чувствую, как лучше! Я же хочу, как лучше! Против истины же не попрешь!
– Истина в том, что таких людей, как ты, нельзя и близко подпускать к категории истина. Ты всегда из самых благих намерений сделаешь так, что хуже некуда. Ты умеешь только чувствовать и хотеть; ты не умеешь мыслить. А пришло время мыслью защищать жизнь, а не чувством. Чувства обманывают, мысль, отделенная от чувства, – еще более вводит в заблуждение, а вот разум… Только разум ориентируется в зоне турбулентности. Но ты же и прав, зараза: выстрелишь в тебя – а попадешь…
– Во всех! И в этом моя сила. Я герой масс, а не ты!
– Пожалуй.
– А давай так: выстрелишь в тебя – а попадешь…
– Попадешь в себя, Веня. Можешь не сомневаться. И тогда уже точно всем конец.
– Опять турбулентность?
– Диалектика. В переводе с нервно-поэтического на разумный.
– Ладно. Скажу так: это все теория. Мыльный пузырь.
– Возражаю: это философия. Чтобы отделить чувство от мысли – нужна философия. И это единственное на свете, что отличается по составу от мыльного пузыря.
– Знаешь, что?
– Знаю. Ты опять начнешь ругаться. Ты сердишься…
– Да пошел ты!
– Неотразимый аргумент. Вечный. Как любовь. Но любовь остается, а вот сила на наших глазах превращается в слабость…
…Я очнулся в больничном боксе на ортопедическом матрасе. У меня было сотрясение мозга. Веня приложился основательно матерым апперкотом. Змеиный выпад. Я даже не заметил начала удара. Вот это школа.
Стоило мне закрыть глаза, как перед моим «мысленным взором» девять лун начинали водить бесконечный хоровод.
Я тут же открывал глаза.
И с раздражением упирался взглядом в стену, выкрашенную в успокаивающий светло-зеленый цвет.
Который лично меня раздражал еще больше.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.6.
Я решил сменить тактику.
Я вошел к Вене, и у меня на лбу было написано шумеро-аккадско-вавилонскими руническими письменами: я решил сменить тактику.
– Что новенького? Что-то случилось?
Именно этого я и ожидал. Дуэль. Немедленно. К барьеру.
– Вот, почитай.
Я бросил ему на столик свою недавнюю работу, так, пустячок, эссе, название которого выражало суть моего сегодняшнего мироощущения: «А может, я и рифмую зря?».
– Некогда читать. Изложи вкратце.
– Изволь.
Я вкратце изложил суть.
– Итог такой: да, я разочарован культурой. Вот цитата из эссе: «Из всего сказанного я бы сделал такой вывод: ни в коем случае нельзя понижать культурную планку ради народа, ради не испорченного культурой горшкового сознания. Народ этого понижения просто не заметит. Понижение обернется унижением культуры, только и всего. Напротив, во имя народа планку надо держать на недосягаемом уровне – чтобы не возникал соблазн подменять культуру народной культурой (культурой как проектом). Аполлона Бельведерского – горшком.
Дело в том, что человек человеку – даже не волк; человек человеку – никто, он попросту не интересен сам себе, а уж другому, подобному себе, и подавно. Человек интересен себе только как личность – как культурное существо. Все эти разговоры о «повышении – понижении» являются ничем иным как выражением комплекса неполноценности личности, еще не достаточно развитого культурного существа. Человек, лукавое существо, спекулирует на том, что он не в состоянии стать личностью, что культура для него смерти подобна. Он прикидывается слабым, а личность при этом испытывает комплекс вины. Народ играет в свою любимую игру: битый небитого везет». И так далее.
– Как прикажешь тебя понимать?
– Как хочешь, так и понимай.
– Так, так.
Веня окончательно отвлекся от дела, занимавшего его чрезвычайно.
– Чую вызов – чую запах крови, если ты понимаешь, о чем я.
– Твое чутье, как всегда, тебя не подводит, – парировал я.
– Ты сдался? Ты признал мою правоту? Боже, какая скука…
– Напротив, я решил, что я победил, и мне тоже стало скучно…
– Вот это уже поинтереснее. Я принимаю твой вызов, и очень надеюсь при этом, что ты не сошел с ума. Вот только ты пришел не вовремя. Давай завтра.
– Нет никакого завтра, Веня.
– Тогда давай, карты на стол. У меня мало времени. У меня нет его вообще, если быть точным. Ни секунды.
– Вот это верно.
– Вижу, ты решил сыграть на опережение. В чем ты можешь опередить меня, в чем? Ты? Разве что первым уйдешь туда, в Долину Великого Ничто. Поперек батьки в пекло. Господь в дорогу, Скарабей.
– Боюсь, и здесь мне не опередить тебя, о великое ничтожество: как только не станет меня – то и тебя, моей тени, не станет в то же мгновение.
– Так, так, интересно. А если ты убьешь меня? Если ты лишишь жизни меня, свою тень, сам-то останешься жив? Вот, возьми пистолет и прикончи ненавистного меня. Не забудь про контрольный в голову. Да, и первым выстрелом целиться следует в голову. Стрелять в сердце, в живот – это романтическая глупость. Не профессионально. Все начинается с головы, поэтому заканчивается также ею. Я сегодня добр, разрешаю. Пользуйся добротой, дорогой, ни в чем себе не отказывай.
Я засмеялся в меру громким, а главное – неудержимым смехом, который в данный момент был моим главным оружием. Такой бесстрашный смех должен был взбесить противника. Веня подсунул мне пистолет, который стрелял в того, кто нажимал курок. Он сам мне когда-то рассказывал об этом. Вероятно, забыл.
– Нет, нет, иначе я подумаю, что ты боишься убить меня. Стреляй лучше ты, – я был само великодушие.
Я ведь достаточно хорошо знал Веню – по крайней мере в некоторых отношениях. Он не позволял ярости взять верх только оттого, что чуял опасность. Инстинкт самосохранения обострился в нем до предела – это хорошо, это мне на руку.
– Ладно, сделаем так, – сказал Веня. – Ты берешь этот пистолет и отходишь в тот угол; я беру другое оружие, скажем, вот этот кортик. Нет, это не не фора тебе, не горюй, просто неравенство в оружии уравняет наши шансы: я таких героев, как ты, уложил в сыру землю штабелями аж до преисподней. Согласен?
Ответом ему был мой искренний смех. Пока я так смеялся, он меня не убьет: я знал это точно. Убить меня несломленным – значит, не убить меня, значит, поставить мне вечный памятник. На это Веня не пойдет. Моя смерть должна укрепить его, а не посеять сомнения в душе. Значит, сейчас последует какая-нибудь хитрость; скорее всего, он сымитирует слабость.
– Хорошо, я сдаюсь, – сказал Веня в ответ на мой смех. – Ты не боишься смерти: это серьезный аргумент. Ты не боишься мучений Алисы: это еще более серьезный аргумент. Ты не боишься проиграть: это аргумент, достойный уважения. Итак, чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы ты признал: ты не станешь убивать меня. Это не значит, конечно, что ты не можешь меня уничтожить, о, нет; ты способен это сделать, еще как способен; это значит, что ты моя тень. Я хочу, чтобы ты признал: ты есть не что иное, как моя тень. Убить меня – противоестественно, как самоубийство. Такое случается, конечно, но это не в порядке вещей. Убить себя – значит, признать свое поражение. Ты же ведь за жизнь? Так вот я выступаю гарантом жизни, я, а не ты. Если я прав – ты меня не убьешь; а если убьешь – значит, жизнь ничто не может спасти.
– Знаешь, чем я был занят сейчас, до твоего прихода? – спросил Веня без всякой паузы. – Я занят делами престолонаследия. Только что прикончили шейха Бен Ладена, главаря Аль-Каеды. Так себе был парниша. И кто бы, ты думал, его убил? Я, Веня, Венедикт Первый и Последний в своем роде. А почему убил? А потому, что этот плохой мальчик отказывался уничтожить Штаты, Соединенные Штаты Америки. Нам такой не нужен. Теперь вот ищем ему преемника.
– Кому это – нам?
– Нам, реальному правительству Земли. Вот чем я занят. А еще я занят созданием геофизического оружия. Остались, в сущности, детали. И я буду повелевать громами и молниями, испепелять ненавистные территории засухами и смерчами. Насылать бури, устраивать наводнения и потопы. А ты отвлекаешь меня от важных дел. Ты и математик этот гребаный. Как сговорились…
– Зачем ты рассказываешь мне про свои важные дела? Хочешь сделать меня своей тенью? Брось, Веня, жалкий трюк. Кромсаете, делите, устраняете, назначаете… Суета сует. У тебя нет важнее дел, чем я. Давай я скажу тебе самое важное, а то сам ты не догадаешься. Я немного лукавлю, я играю с тобой в кошки-мышки. Меня невозможно убить. Убив меня, ты меня же и обессмертишь. У тебя, по сути, нет выбора.
– И что ты предлагаешь?
– Я предлагаю осознать: ты моя тень, и лучше тебе признать это – и тогда ты обретешь подлинную свободу, Веня. И ты станешь непобедим, Веня.
– Мы ведь разговариваем без свидетелей?
– Как тебе сказать… Ты ведь бывал там , знаешь, что уши есть везде. Завтра о нашем разговоре узнают все. Хотя мало что поймут в нем… Что-что, а уж утечку информации они организовать умеют.
– Кто это – они?
– Реальные правители реальных правительств, Веня.
– Я подумаю, – сказал Веня, подумав. – Возможно, наименьшее зло – все же уничтожить тебя.
– Не надо путать наименьшее зло с наибольшим удовольствием.
– Не знаю, не знаю…
После того, как я вышел от Вени, рубаха моя стала влажной от пота в течение трех секунд. Я словно выпустил пар.
Нет, я не блефовал; но это не значит, что я не боялся.
А может, я оттого и боялся, что блефовал?
Думаю, Веня был бы разочарован: я, носитель разума, знал о себе гораздо меньше, чем полагалось бы ответственной за жизнь инстанции.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.6.
Закатное небо напоминало зарисовку карандашом: курчавые завиточки, плавные четкие линии, легкая штриховка.
Иногда небо выглядит как законченная картина с выставки – пейзажный шедевр, состоящий из сплошных полутонов, который долго лелеяла рука мастера.
А порой небо копирует корявый детский рисунок.
Почему меня так привлекает небо? Потому что я оттуда? Или потому, что я стремлюсь туда?
И то, и другое верно; но ни то, ни другое не является ответом на мой детский по форме и философский по сути вопрос.
У меня ощущение такое: я состою из неба. И у меня характер неба. И я изменчив, как небо (хотя не меняюсь по сути). И дождь, и солнце, и снег, и туман – все с неба. И я глубок, как небесный океан. И раздражающе непознаваем, хотя очень удобен как предмет исследования. Обо мне столько всего известно – и это знание все больше становится формой неясности. Вот-вот и дотянешься до неба в курчавых завиточках. Чтобы понять, что ты рукой хватаешь пустоту.
Почему-то принято считать, что люди живут на земле.
Это спорный вопрос. С таким же успехом можно утверждать, что мы живем на небе и ходим на голове, по небу, аки по суху, поэтому всем кажется, что мы стоим на земле и передвигаемся на ногах. Все зависит от точки отсчета. Верх и низ легко меняются местами.
Но тех, кто думает, что он живет на небе, – единицы. Гораздо больше тех, кто убежден, что люди живут на земле. Таких несколько миллиардов.
Все так условно. Тех единицы, а этих – единицы миллиардов. Почему же простых единиц гораздо больше миллиардных единиц?
Вопрос несложный. Ответ очевиден: на земле жить удобнее и приятнее.
Я и сам люблю Землю. Но я все равно живу на земле, касаясь неба. Все мы выходим из земли и уходим в землю. Это так. Только вот сама земля является песчинкой вселенной. И это так. Вот вам, кстати, и смысл: мир устроен так, а не иначе. В этом мире оказался возможен человек. Замечательно. Из человека порой вылучается личность, как из кокона – бабочка. Правда, из кокона бабочка получится всегда, а из человека личность – в виде исключения. Это так. И у человека есть язык, и у него есть душа, и есть разум. Это так. И они бывают разных размеров (по меркам человека), даже разных масштабов (по меркам космоса). И они стремятся к своему пределу. Великий разум к своему, а мелкий умишко – к своему. Бессмысленно спрашивать, какой в этом смысл. Гораздо больше смысла в том, чтобы природу вещей обернуть себе на пользу: разум-бабочка должен раскрывать себя как разум, коль скоро это оказалось возможным, а интеллект-кокон должен оставаться собой. В их противоборстве зарождаются новые возможности. Делай что должно, и будь что будет. В словах средневековых рыцарей, умевших судить так себе, не выше сапожка, оказался заложен космический смысл. Но этот смысл пришлось добывать нескольким поколениям подряд. Природа вещей не существует сама по себе; ее надо умудриться выявить, чтобы потом сказать: такова природа вещей.
Я, Платон, вовсе не ощущаю себя как претензия здравому смыслу. О, нет! Я ощущаю себя самим собой. Если угодно, я исполняю свой долг. Долг бабочки. Которая потом превратится в кокон. Из которого впоследствии непременно вылучится иной Платон. Так было.
И да будет так. Дайте воссиять разуму. Это ведь нечто горнее (не путать с Нагорним). По сути, небесное. Не отделяйте землю от космоса. Кокон от бабочки. Себя от себя.
Сознание мое заштормило, и я вновь (правда, на сей раз без пилюль, без картин – словом, без чего бы то ни было внешнего, без по-сторонних раздражителей) испытал эффект штопора, эффект спирали. Я испытал ощущение улёта , говоря уже привычным языком романа. Высокий строй мысли сдетонировал, существо мое превратилось в сгусток информации и энергии – и я, то бишь, я, Платон Скарабеев, первым во второй раз направился в путь, ведущий к Девятому Уровню.
Теперь этот путь занял гораздо больше времени: на несколько вечных секунд больше. Я уже стал различать детали. Девять уровней мне показались именно девятью фазами пути. Я, конечно, мог ошибиться, но на два-три уровня, не больше. Уже рябило от зебры. В первый раз мой путь показался мне сплошным неделимым отрезком из пункта В в пункт П. Сплошным темным тоннелем.
И что в итоге?
А в итоге меня распирало ощущение невозможности поделиться своим опытом с кем бы то ни было. Я мог передать свой бесценный опыт либо косвенным способом (непосредственно опыт, добытый путем непосредственного контакта с угаданной природой вещей, не передавался – в полном соответствии с моим представлением о природе вещей), либо никак.
Следовательно, мой выбор был косвенным способом . Через роман, например. Я выбирал не то чтобы из двух зол, но из двух невозможных . Одно из которых было чуть менее невозможным.
И это уже шанс для человека. По-моему.
Смысл удаляется от первосмысла, от привычного представления о смысле (при этом неумолимо приближаясь к привычной категории бред, к чему же еще) настолько, что становится весьма даже похожим на бессмыслицу.
Так ведь тотальная диалектика и есть форменная бессмыслица, с точки зрения высокоразвитого интеллекта (уточним: с точки зрения недоразвитого разума).
Совместите эти точки зрения.
Если у вас это получится, вы первым оседлаете смысл косвенным способом . Ключевое слово здесь не первым, как показалось бы Вене, а специально выделенное словосочетание косвенным способом . Не вы, так другой, какая разница (никакой разницы для всех, кроме первого: о, боги, сколько же в человеке желчи, которая, переплавляясь, становится веществом культуры – иронией). А вот косвенным способом будет жить вечно как свойство универсума. Природы вещей, если придерживаться терминологии романа.
Вы не покинете Земли, но вам удастся коснуться неба.
И это не трюк. Не гейм-литература.
Это та самая сладкая каторга Атланта.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.6.
«Информацию считать с червового тузика было проще простого: она записана была в той же мудреной программе с тысячью степеней защиты, которая предназначена была для записи информации волновой природы: звуковой, визуальной, тактильной, запаховой. Объект не мог не оставить следов. Однако обычных следов, которые невольно оставляет обладающий физическими параметрами объект, не было. Что же, Нико общался со стерильными духами?
Да ладно. Дух – это сгусток информации. «Дух веет, где захочет» в переводе на язык современной науки означает: он будет веять там, где нам угодно, где мы сочтем нужным.
Послание содержало три строчки, издевательски набранные корявым телеграфным шрифтом: «Сроку на исправление даем нашу неделю то есть ваших девять дней тчк если не устроит ваше поведение дадим знак тчк желаем успеха тчк».
Ровно через девять дней издох везунчик Марсик III. Околел внезапно, словно хозяйственная крыса ловко прихлопнула его кошкобойкой.
Веня стал чернее осенней тучи.
Утром он вызвал к себе Платона.
– Настало время приоткрыть карты, Платоша. Время играть вслепую прошло.
– Я давно играю в открытую. У меня на руках один туз, как известно. И тот козырной.
– Шути свои шутки, шут гороховый. А что тебе, нищеброду, скрывать? Ты обладаешь секретными технологиями? Климатическим оружием? Сакральными знаниями? Знаешь тайную тропинку в иное измерение? Держишь мир в кулаке? Что ты миру, что мир тебе? Не силен ты ни сном, ни духом . Не верю я свободе нищих. Кому нечего терять, с тем не о чем разговаривать. Но тебе есть что терять. Вот тут мы будем точны и откровенны.
– Не думаю, что я могу потерять нечто особенное. Мир не заплачет обо мне, а я о мире и подавно, это верно. Разве что… Я чувствую себя счастливым. Вот с этим чувством немного жаль расставаться. Это несколько мешает.
– Да ладно заливать. Алиса уже не в счет?
– Алиса – эпицентр моего счастья.
– Надеюсь. Сейчас мы изменим правила игры. Наша жизнь – игра, верно? Что есть игра? Система правил. Хозяин жизни может изменить правила игры. Следовательно, изменит жизнь. Возражения есть?
– К чему ты клонишь?
– Я не клоню. Я приказываю.
– В таком философском ключе приказы не отдаются. Поконкретнее можно?
– Платон! Что тебе известно о том мире, который мы не любим упоминать всуе?
– Боюсь, что ничего.
– Ответ неправильный.
– Зато честный.
– Ответ лживый насквозь. Подумай хорошо. Не заставляй меня прибегать к нашему детектору лжи девятого поколения, который вывернет тебя наизнанку. Поверь мне: все твои концептуальные потроха выплывут наружу. Детектор смоделирует систему ценностей, даст полную картину идеалов. Обнаружит слабые места. Обозначит тайные намерения. Словом, ментальность разложит на молекулы.
– Ты предложил открыть карты. Мы оба знаем: сейчас ты запугиваешь. Кто мешает тебе испытать меня детектором лжи насильно? Вот он я, читай меня, как открытую книгу, и не требуй на то моего согласия. Потроши меня, как карася.
– Открою еще одну карту. Детектор лжи читает любого человека, на раз. С личностью он не может справиться. Импульсы личности его дезориентируют. Модель сознания личности компьютеру пока не под силу.
– Спасибо за правду. Ладно. Баш на баш. Кое-что о том мире мне известно. Однако сведения мои мизерны и противоречивы. К тому же…
– Верю, верю. Заметь, я даже не стану спрашивать тебя, что ты знаешь. Мне это интересно, но не настолько, чтобы обсуждать сейчас это с тобой. Скажу просто: тебе предстоит, гм-гм, посетить тот мир в его минуты роковые. Спокойно, спокойно. Именно посетить – и вернуться назад, выполнив мое задание. Героическая гибель будет приравнена к провалу – со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями: если ты не вернешься, Алиса исчезнет. Но только пройдя через ад. Предварительно честь твоей дамы сердца будет осквернена самым неподобающим и недостойным образом. Это будет неслыханное извращение, можешь не сомневаться. Аспирин уже отвел ей квадрат самой жирной земли. Слово Барона. Или вы будете счастливы вдвоем – или ты погубишь вас обоих. Никогда еще благополучие столь многих достойных людей не зависело от сообразительности одного человека.
– Барон, ты в своем уме?
– Не надо эмоций. В своем. Я знаю твои возможности лучше, чем ты сам. Открываю карты почти до конца: на карту поставлена не только твоя жизнь, но и моя. Так что пощады не жди. У тебя нет выбора, поэтому перехожу к делу. Да или нет?
– Да.
– Ответ правильный. Особенно ценным его делает то, что он последовал без раздумий. Вот тебе смысл секретной миссии. Прочитай три раза про себя и сожги. Читай в этой комнате. За пределами этой комнаты даже думать не моги о том, что сейчас узнаешь.
Платон читал и не удивлялся. У него было ощущение, что он уже знал об этом – знал, но не то чтобы забыл, просто не было необходимости оживлять это знание. Теперь вот вспоминал. А когда он узнал об этом?
Вместо ответа вспоминалось колючее ощущение, с которым он смотрел на картину «Время». Спираль циферблата. Улет. Это случилось тогда.
Веня смотрел на Платона, Платон смотрел на Веню. Оба открыто читали в душах друг друга. Платон прекрасно понимал, что он необходим Вене ровно настолько, насколько от него, Платона, зависит жизнь Вени. Как только Веня раскусит Платона, получит от него то самое сакральное знание неизвестной природы, он в ту же секунду устранит носителя этого знания. От греха подальше. Это самый вероятный сценарий. Мотивы предполагаемых поступков Гербицита вне рамок прагматичной логики из уважения к себе не рассматривались.
До сей поры Веня особо не торопился: он постепенно и планомерно подбирался к феномену Платона; но как только Барон ощутил угрозу собственной жизни, он все свои обещания и посулы взял и аннулировал.
Маркиз не просто ускорил события, так сказать, пришпорил время, он сотворил для этого идеальную ловушку. Если шустрый Платон успешно выполняет задание Вени – то приносит свою смерть, а также верную погибель своей возлюбленной, в собственных зубах. Он сделал свое дело. Браво. В его услугах больше не нуждаются. Аннигиляция.
Если нерадивый Платон проваливает задание, то это означает: страхи о болезненной интегрированности Платона в существование Вени на клеточном уровне оказались преувеличенными. Зачем нужен Платон, если он не представляет собой жизненно важный фактор? Если он не спасает в нужный момент?
Если без него можно обойтись, без него нужно обойтись. Аннигиляция.
Веня отдавал себе отчет, что Платон без иллюзий ориентируется в раскладе интересов. Веня понимал, что Платон великолепно осознает: его, Платона, единственный шанс выжить – доказать, что Веня зависит от Платона, из чего следует: лишить жизни Платона – убить себя.
Мало приятного жить со своим alter ego; но если выбирать между жизнью и смертью, то есть, между alter ego и zero ego …
Что ж, тем лучше: когда в дело вступает прагматика, вся непредсказуемость человека становится предсказуемой. Прагматизм его стихия, здесь Веня непревзойденный чемпион. Если Веня прав, сейчас последует атака Платона – атака противника, понимающего, что связаны они одной артерией, состоящей из мириад капилляров.
– Барон, еще раз обращаю твое внимание на нетривиальность ситуации. Ты заставляешь меня идти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что.
– Совершенно верно. Питаю слабость к точным формулировкам.
– Я ведь могу сделать все, что в моих силах, но так и не добиться желаемого.
– Ты лучше добейся желаемого, а силы можешь сэкономить. Хватит скулить. Мы начинаем жить по законам военного времени.
– Хорошо. Мне нужна «маковая росинка». Горсть «маковых росинок».
– Ого! А ты в курсе, сколько стоит это удовольствие?
– Мне наплевать. Это твои проблемы.
– Согласен. Мне нравится ход твоих мыслей.
– Еще… Никакой слежки, никакого воздействия с твоей стороны. Иначе я прекращаю эксперимент.
– Согласен.
– Еще… Нет, больше ничего. Пожелай мне удачи.
– Даже не знаю, честное слово…
– Я ведь могу отказаться прямо сейчас. Пропадем оба. Во мне иррационального тоже, знаешь, хоть отбавляй. Не делай вид, что ты нужен мне больше, чем я тебе. Это дешевый шантаж.
– Пока не знаю. Будь здоров.
– И тебе не хворать».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.6.
Счастье. Да.
А вот как его строить, это проклятое счастье?
Тянуться к счастью – это я еще понимаю. Тянись к тому, чего нет, – и само стремление делает тебя лучше. На свете счастья нет, но есть к нему стремленье. Это я как раз очень хорошо понимаю. В основе такой стратегии лежит здравый смысл: счастья нет, вернее, оно есть как идеал, как нечто недостижимое (что принципиально); но вот стремление к нему уже вполне реально и, по-настоящему, стремление к счастью следовало бы и считать счастьем.
Счастья нет: вот что уравнивает людей на Земле. Это благая весть.
Признать, что счастье существует, не являясь при этом мечтой идиота, – это совсем не безобидно; эта элитарная доктрина вносит раздор между людьми. Она коварно делит их на тех, кто может быть счастлив, и тех, кто не будет счастлив ни при каких условиях. Вот дай человеку денег, любимую красавицу-жену, коня, войну – а он, мятежный, будет бежать от того, о чем еще вчера так неистово мечтал. Самое ценное в счастье – его недостижимость? Энергия мечты?
Эх, вот о чем я забыл тогда спросить Пушкина: «И все таки: есть счастье или нет? Строго между нами… Я в курсе: «Я думал: вольность и покой замена счастью… Боже мой! Как я ошибся!» Это правда?»
Возможно, вся встреча-вечеря задумывалась с этой тайной целью: получить редчайшую возможность задать вопрос тому, чье мнение тебе хоть как-то интересно. При этом прошу обратить внимание на мою постановку вопроса: я ведь не собирался спрашивать, «что есть истина?»; я даже не интересовался тем, что есть счастье. Вопрос мой был бы убийственно щадящим и чудовищно бестактным: есть счастье – или нет? Но по тону, по интонации я был бы сама вежливость. Ничего личного. Да или нет, ok? Репортер всемирной стенгазеты «Вечность today» просит поделиться пророка вечно актуальным мнением по вечно актуальному поводу.
Предположим, аристократ отвечает мне: на свете счастья нет; хотя…
Это один разговор.
Предположим, органически не способный лукавить аристократ спокойно подтверждает: на свете счастье есть; ну, сами подумайте: если его нет, то какой тогда смысл во всем?
Признать, что счастье есть – значит, быть готовым к ответу на совсем иные вопросы, в частности, «что есть истина?» и «что есть счастье?».
А на эти вопросы ответы мне известны, ибо они, эти ответы, у людей умных, по сути, идентичны. Катастрофа в том, что они совершенно совпадают по сути. А дуракам не понять. Счастливые, то есть умные люди действительно похожи друг на друга; но еще более похожи друг на друга – до неразличимости – люди глупые, то есть несчастные.
Хорошо. У меня есть Алиса. В этой ситуации даже не отрицать, а всего лишь сомневаться в счастье, значило бы совершать предательство. Ибо: не этого ли я желал? Не к этому ли стремился? Не ради этого ли жил? Отваживался мечтать? Дерзал мыслить?
Сделать Алису инструментом сколь угодно счастливого, но все же несчастья, означало бы какое-то вселенское поражение. О том, чтобы прямо смотреть в глаза Вене, можно было бы забыть навсегда.
Невозможность счастья означала бы:
– смерть автора;
– смерть романа (согласимся: мертвый автор не создаст живой роман);
– смерть культуры (зачем сознание, если оно не в силах обосновать первородство любви?);
– смерть.
Возможность счастья – это уже шанс для автора, романа и культуры.
Вот почему моя личная жизнь с Алисой перестала быть моим личным делом. То есть, все это было моим личным и интимным (там, где ему и положено – не только в спальне, кстати сказать), вне всякого сомнения; однако результат волновал уже не только меня. Пушкина, например. Или Веню.
Боже мой! Даже любовь налагала на меня обязательства. Ведь это я, олух царя небесного, и никто иной, в запальчивости провозгласил на весь мир: любви законы непокорны; ее порывы благотворны, а вот закон ей – неподвластен. И если человек несчастен, то беззаконие царит; и в человеке говорит младенчество и слабость. Да. И малодушье. Вот беда.
Жизнь с Алисой стала вызовом.
Боже мой! Неужели даже в любви я не мог позволить себе ничего личного? Где же еще раскрываться бедному человеку, как не в любви и творчестве? А? Эти кандалы культуры под звонким прозвищем «закон» – заколебали! Где вольная воля? Где обещанный рай? Где? Только звон закона в бескрайней степи, неотличимый от колокольчиков кандалов. Эх, птица-тройка, кто тебя выдумал?
И, главное, зачем?
Ответ, который я со временем получил (добившись его от самого себя, от кого же еще), гласил: именно в любви и творчестве нет ничего личного. Бедного, ма-аленького человека вообще просят не беспокоиться, ежели он не мечтает стать личностью. А если мечтает – пусть забудет о дешевом эгоизме. А также о культе индивида. А захочет стать героем, то есть героически забыть о личности в себе, пусть прежде подумает вот о чем: героическая любовь и героическое творчество вновь неизбежно приведут к отрицанию героического в форме большого культа самого что ни на есть мизерного в человеке. Маленький человек, индивид – это вывороченный наизнанку культ героя. Это недостойная мыслящего человека клоунада. Хотя и в ней, надо признать, много прелюбопытного для личности, привыкшей совать свой нос и в героическое, и в комическое, и в космическое. Всюду и везде, понимаешь. Везде и всюду. Се человек, стремящийся стать личностью. Ему позволено. Но что позволено Личности, то не позволено человеку. Аленькому человечку, сукину сыну, – возбраняется.
Либо личность – либо все остальное: вот как сегодня стоит вопрос.
Так ему и передайте.
Что-с? Вы о демократии, то бишь, о диктатуре натуры?
Пусть демократично примет к сведению наши заметки о звезде Пентагон. Гори, гори, ваша звезда нашим синим пламенем.
Пусть привыкает к новым для него звукам, 9 раз на дню повторяя мантру диктатура (9 букв) культуры . Затем более привычное: ом мани падме хум. Затем опять: диктатура культуры, блядь.
Так звезда с звездою говорит.
Так ему и передайте.
Давно заметил: начнешь говорить о счастье – а закончишь проклятьями в адрес аленьких. Может, это тоже закон культуры?
Закон. Если проклятья становятся тоской по любви.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.6.
Темнота.
Глаза мои прикрыты, но я всем телом, каждой клеточкой свой прислушиваюсь к скрипу, который производят прикрепленные к рукам моим крылья. Легкие, толщиной со стружку деревянные рамы, обтянутые тонким пергаментом, крепко привязаны от кистей до предплечий кожаными шнурками. Пергамент плотно приклеен к дереву воском (перья – это элемент мифа). Размах крыльев такой, что любой порыв ветра позволяет мне зацепиться за воздух и парить, дожидаясь следующей волны зефира. Сил, вопреки представлениям людей, я трачу очень мало. Все мои ощущения сосредоточены на том, чтобы слиться с дуновением, стать частью воздушной среды и дрейфовать в нужном мне направлении.
Я учусь быть птицей. И это мне удается. Птицей быть легче, чем человеком.
Теплые лучи солнца на моем лице (все-таки день летнего солнцестояния), приятный скрип рамы, и привычный уже взгляд с высоты птичьего полета. Люди кажутся мне ничтожными, и дела людей кажутся мне мелкими.
Наконец, я дождался нужной погоды. Упругий и устойчивый ветер позволяет мне надеяться на то, чтобы осуществить задуманное. Легкий поворот крыла – и я почти стою в воздухе, быстро возносясь за облака. Чем ближе к Солнцу – тем холоднее.
Так я и думал. Икар упал по какой-то другой причине. Не из-за жары.
Ветер почему-то ослабевает, и я рискую сорваться в штопор. Вот в чем дело. Икару не хватило опыта. За стремление к Солнцу хвалю, но для этого надо быть технически и морально подготовленным.
Виртуозно вхожу в плотные слои облаков. Покрываюсь мельчайшей водяной капелью. Набухшие влагой крылья тянут вниз. Резкий порыв воздуха – в туловище тебе бьет тугая волна, от которой перехватывает дыхание, – и я опрокидываюсь вниз, превращаясь в гонимую ветром груду мусора, чем-то напоминающую нелепо летящую мельницу. Руки вывернуты, но боли я не чувствую. Мне очень обидно: я всего-то расслабился раньше времени. И этого уже не поправить.
«Как всегда подвел человеческий фактор», – успеваю честно отметить про себя.
Стремительно приближается Земля.
Никакая она не матушка.
Темнота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.6.
Девять кругов-колец.
Узнаю тебя, жизнь-анаконда, и приветствую звоном щита!
Но как же тяжело по траектории жизни добраться до слепящей точки и проникнуть в нее, туда, за невидимый глазу занавес.
Верблюду в игольное ушко – значительно легче.
Кстати, богатому пролезть в царствие небесное – раз плюнуть. Это вообще не проблема. Это логическая ошибка. Спрашивается: как попасть богатому в царство небесное?
Ответ: никак. Ибо: никакого такого тридевятого царства не существует. Я уточнял там , у Марии.
Вообще, многое, о чем мы с ней говорили, я стараюсь не вспоминать; я не могу это забыть, но я стараюсь не вспоминать об этом. Вот такая мягкая форма забвения. Мягкое забвение как форма душевного комфорта.
Но мне не всегда это удается. Дело в том, что эта древняя игра в кошки-мышки с сами собой технологически напоминает известную проблему человека: жить и при этом не помнить о смысле жизни (смысле, о котором ты прекрасно осведомлен!). Казалось бы: от чего заболел – тем и лечись. Заболел смыслом – смыслом и лечись.
Это всем известно.
Однако никто не прибегает к этому средству. Почему?
А вдруг вылечишься? Что тогда?
Заболеешь неизлечимой хворобой: желанием проникнуть в тридевятое царство. Это уже наваждение. Омут.
Но омут манит. Ом мане…
Не всегда удается избежать неизбежного.
Человек всегда недостоин сам себя – то есть, личности, живущей в нем. Но как только он становится достойным самого себя, достойным уважения, его тут же хочется пожалеть.
Я помню, о чем мы говорили с Марией. Я помню, что мы с ней делали. Я помню свои ощущения.
И я не знаю, можно жить с этим или нельзя. Иногда кажется, что можно; но порой накатывает гносеологическая тоска – хочется вырваться за пределы собственного Я. Куда?
В пространство и время. В никуда.
Девять кругов-колец.
Хочется срубить башку анаконде-жизни.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.6.
Уже в процессе работы над романом я понял (понял, что откуда-то знаю это), что есть женщины, которые очаровывают, а есть такие, которые соблазняют.
Алиса принадлежала к первым, избранным.
Венера – ко вторым, которых большинство. И Венера принадлежала к элите большинства.
Я же принадлежал к людям той непростой породы, с которыми, казалось бы, другим находиться рядом невыносимо. Однако до поры до времени все шло вопреки этому прогнозу.
И все-таки жизнь взяла свое: я взбрыкнул в самый неподходящий момент.
Мягких серых тонов небо – уже не по-зимнему высокое. Это начало февраля.
Конец февраля выдался туманным и сырым.
За это время я пережил острейший приступ ревности.
Ревность делает мужчину таким же глупым, как беременность – женщину. Слишком много гормонов – и блистательный ум превращается в унизительную хитрость.
С чего все началось?
Трудно сказать. Наверное, со снов. Тревога зародилась там. А потом в один прекрасный день, когда виден стал конец зимы, мне вдруг показалось, что Алиса подозрительно легко смирилась с тем, как я погрузился в роман – отдалился от нее, если называть вещи своими именами. Я творил иную жизнь и одновременно жил в ней – а она ходила где-то рядом, счастливо улыбаясь.
Однажды с утра я, как обычно, засел за роман. А она вышла из дому и куда-то пошла… Как обычно?
Во-первых, я только сейчас осознал, какой бесконечной свободой пользовалась моя жена. Я не знал, куда она ходила, с кем проводила время. Во-вторых, я не представлял, чем она жила. В-третьих, проклятый сон…
Я быстро встал, надел что поприличнее и выскользнул из квартиры вслед за ней.
Алиса шла расслабленной, уверенной, в чем-то неуловимо изменившейся для моего глаза походкой. Наконец, она подошла к учреждению явно медицинскому: вокруг сновали люди в белых халатах. На корпусе, в который она вошла, висела табличка: «Женская консультация».
Алисы долго не было.
Потом она вышла из корпуса вместе с мужчиной.
Счастливо улыбалась.
Распрощалась с ним, поцеловав при этом как родного.
Что прикажете думать?
Только на девятый день, когда роман не клеился, когда в голову лезла всякая жизненно неважная чепуха, я решился задать Алисе вопрос, от ответа на который многое зависело в моей жизни:
– Кто такой этот твой Альберт?
– Альберт Сигизмундович? Это мой участковый гинеколог. А ты откуда знаешь?
– Я сейчас говорю не о гинекологе, я имею в виду этого Альбертино, этого джиголо с отвратительными черным усиками. Как его зовут?
– Его зовут Альберт Сигизмундович, это мой участковый гинеколог. Никакого джиголо я не знаю.
– С каких это пор участковыми гинекологами стали мужчины?
– Это что – допрос?
– Это предъявление улик. Я видел тебя вместе с этим смазливым усатеньким селезнем…
– Ты за мной следил?
– Какая разница? Да, следил. Что это меняет?
– Это отвратительно!
– Нет, отвратительно, что ты его целовала. На глазах у всей больнички. Этого селезня! С усами!
– Ты свихнулся!
– Нет, у меня сейчас обостренная интуиция. Я все чувствую. Я под тобой вижу на девять футов. Меня не проведешь. Я не мог видеть во сне этого чернявенького просто так. Значит, это было в жизни! Стоило мне один раз выйти за тобой… случайно…
– У тебя просто талант портить все в самый ответственный момент. Как у Ивана-дурака: жечь уже не шкуру лягушки, а почти фату принцессы!
– А у тебя талант…
– Замолчи! Замолчи сейчас же. Скажи лучше, что ты ревнуешь меня потому, что очень любишь.
– Я? Я не ревную тебя, клянусь своим сном…
– Ты просто ревнивый дурак. Я – беременна! А ты – ревнивый и самовлюбленный осел! Мул!
– Как это – беременна?
– А так. Чем я, по-твоему, занималась, пока ты тут с ума сходил и вынашивал свой роман? Я вынашивала планы иметь ребенка, а теперь вынашиваю ребенка! Каждый должен заниматься своим делом! Вынашивать и носить свой крест. И нечего тут шпионить за мной и за собой.
– Я хотел сказать, что очень люблю тебя.
– Правда?
– Очень.
– Очень-очень?
– Да уж куда больше, если я приревновал тебя к этому специалисту… Усатому…
Гармония – это когда каждый занят своим делом.
Как я мог забыть об этой элементарной, с точки зрения разума, истине?ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.6.
Итак, о мертвом племяннике, которого я должен воскресить, несколько подробнее.
Он вознамерился убить своего папашу. Мотив?
В ненависти сына к отцу было много претензий даже не младшего поколения к старшему, а будущего – к прошлому. Платон ненавидел себя за то, что он является сыном своего отца – наследником омерзительного генетического кода. Убить отца для Платона означало: убить следы отца в себе. Убить за то, что отец спас его от неизлечимой болезни – вторично подарил жизнь и обременил чувством благодарности, не интересуясь при этом судьбой сына; за то, что отец свел мать в могилу; за то, что покалечил жизнь сестре; за то, что он, Платон, сын Венедикта, в принципе испытывал желание убивать.
– Расскажи мне, что ты знаешь о семье Босса, – попросил я Магуса.
– Это секретная информация.
– Тем более интересно узнать.
– У Вени был отец, – начал Магус, – который оставил его с матерью и ушел к другой женщине.
– Мне знакома эта ситуация не понаслышке…
– Мальчик Веня очень переживал. Так никогда и не простил отцу своему предательства – он это именно так воспринимал. В детали принципиально не вникал и смягчающих обстоятельств не признавал. С детства мечтал стать сильным, на девять голов сильнее всех остальных, как Геракл, чтобы отомстить отцу, когда вырастет. Отомстить – значит, избить, унизить, задавить силой, показать ничтожность противника. А мать боготворил. Но когда она вторично вышла замуж вопреки его желанию, возненавидел ее пуще отца своего. Так и разрывался между ненавистью к матери и отцу.
– А кто был его отчим?
– Высокопоставленный работник властных структур.
– Как звали отца?
– Платон. Гм-гм.
– Так. Не отвлекайся. Подросток ощущал себя брошенным и преданным…
– Подросток ощущал себя брошенным и преданным, поэтому весь мир воспринимал как враждебную среду. Занимался боевыми видами спорта, был весьма агрессивен, поделив обитателей Земли на хищников и жертв; разумеется, готовил себя в хищники. Сам напросился в армию, делал ставку исключительно на свои силы и способности. Дальнейшее, полагаю, тебе более-менее известно. Во всяком случае, как он достиг нынешнего своего положения, я не знаю, да и не стремлюсь знать. Слишком ценю жизнь сестры и племянников…
– Быстро понял, что самая мощная изо всех известных ему сил – это интеллект. Не видел себе равных, пока не повстречал… одного забавного господина, указавшему на иной, альтернативный источник силы. В общем, классика бессознательного освоения жизни, когда кажется, что ты очень умный, хотя на самом деле действуешь по технологии высокоразвитого интеллекта, целиком и полностью зависимого от психики. Что начинает делать в этой ситуации утративший первенство интеллект? Он начинает относиться к разуму ровно так же, как Венедикт Платонович к своему папашке: со страху начинает ненавидеть грозного противника. И, разумеется, начинает вынашивать планы по деморализации и испепелению врага, нимало не интересуясь целями и мотивами последнего. Правда, уничтожить врага – уже не детский проект наивной мести; уничтожить – значит, присвоить себе его силу, перехитрить его, заставить потерять бдительность и опрометчиво раскрыться. Фантомас, он же Босс, уже понимает: чти врага своего, ибо ни у кого другого не выучишься тому, чего не ведаешь сам; никто другой не укажет тебе твои слабые места и не научит свою слабость превращать в силу. Да здравствует сильный враг, который делает меня сильнее! Бездумно нахватался восточных штучек. Запад вообще наивно полагает, что его умственный потенциал прирастает притчами Востока. О, боги! Это Восток травестирует Запад, предлагая из-под полы жалкую философскую контрабанду в качестве оригинального продукта. Со временем Веня и Восток переиграл – его же оружием. Весь предыдущий интеллектуальный опыт убеждал: выше интеллекта не существует ничего. Веня разучился бояться, и Веня ничтоже сумняшися бросился с головой в омут. И теперь вот не ведающий сомнений интеллект, ведущий поединок роковой, все более и более начинает сомневаться – не в себе, нет, не в своих силах – в своем гносеологическом потенциале и своей философской правоте; с такими категориями интеллект еще не работал; Веня, привыкший побеждать, бросает вызов своим сомнениям – и, похоже, совершает роковой просчет: все более и более начинает поддаваться диалектической логике разума, все более и более допускать мысль, что интеллект – лишь начальная ступень разума, и ступеней таких, ведущих в иное измерение, не одна. И не две. И не три, и не четыре, и не пять, и не шесть, и не семь… Возможно, и не восемь даже, а все девять. Что начинает делать интеллект, осознающий свое ничтожество и понимающий вместе с тем, что разумом ему никогда не стать?
Здесь Платон строго взглянул на Магуса, который подобрался под его взглядом и принял позу подчинения.
– Правильно: он объявляет войну не на жизнь, а на смерть, ибо: терять ему больше нечего. Собственно, это правильно, это достойно уважения, это мудро, по меркам природы: разум извлечет уроки, а интеллект отдаст все силы, чтобы вооружить разум… В общих чертах это даже восточным мудрецам было понятно.
Но… Здесь есть одно «но». Что это за «но», ты хочешь спросить?
– Я ничего не хочу спросить; я давно уже не понимаю, о чем ты говоришь.
– Не имеет значения; ты просто слушай. Я стремительно приближаюсь к тому возрасту, когда высказаться для меня важнее, нежели быть услышанным, не говоря уже о том, чтобы быть понятым. И все же так важно, когда тебя кто-нибудь слушает: тогда ты говоришь ясно, четко из уважения к молчаливому собеседнику. Я все равно поставлю вопрос, который волнует меня и Веню. Смысл «но» заключается в следующем: каковы шансы у интеллекта на успех в сражении с разумом? Если интеллект обречен в силу некоего закона, то агония превращается в спектакль или ритуал, а если интеллект не обречен? Веня чувствует, что интеллект не обречен, и в этой ситуации, как ни странно, разум оказывается в худшем положении: интеллект, смертельно напуганный, мобилизовался весь без остатка, а разум «не бьет лежачего». В этой ситуации, Магус, разуму стоит поучиться у интеллекта: нельзя расслабляться, надо выложиться на все сто; чтобы интеллект превратился из противника в союзника, надо выложиться до конца. Победа разума – это не уничтожение качеств и свойств интеллекта, а превращение их в источник развития. Понял?
Магус молчал.
Потом сказал:
– У меня к тебе есть еще одна просьба.
– Считаешь, одной недостаточно? Меня и первая твоя просьба вгонит в гроб. Спасти Платона! Как ты себе это представляешь?
– Никак не представляю. Вообще никак. Но есть еще и вторая просьба. Очень прошу.
– Валяй. Двум смертям не бывать. Но если не выживу, выполняя первую просьбу, не обессудь.
– Спаси Марию.
– Дочь Вени?
– Да. Мою любимую племянницу.
– Магус, ты в своем уме? Ты просишь невозможного.
– Знаю. Но я очень прошу.
Он взял мою ладонь и вложил в нее небольшой предмет с острыми краями. Это была вторая половина нефритового скарабея.
– Откуда это у тебя? – спросил я так, словно ничего не случилось. Магус в роли посланника небес: надо обладать очень своеобразным чувством юмора, чтобы сотворить такое. Мне было нисколько не смешно.
– Мария велела передать тебе.
– Какая Мария?
– Моя племянница, какая же еще? Она велела вручить тебе вот эту вещицу и настоятельно попросить о помощи.
– Ты ничего не перепутал? Может, это я должен просить о помощи тебя?
– Нет, ничего не перепутал. Помоги, Платон. Век помнить буду.
– Да, своеобразное у вас представление о помощи: давай, поможем Платону – давай, пошлем его за смертью. Так, что ли?
– Помоги, Платон. По гроб жизни буду обязан, – Магус вряд ли соображал, что говорил.
– Что значит «спаси Марию»? Я же не бог, верно. Что с ней?
– Она поклялась убить своего отца. Она и любит его, и ненавидит. И то, и другое – до смерти.
– Веню? Вениамина Платоновича?
– Его самого. Марию нельзя подпускать к Боссу.
– Что за семейка! Друг друга пожираете, да еще и меня на десерт подавай вам! Отвернись!
Магус тотчас отвернулся к стене и даже закрыл глаза. Я достал из кармана другую половинку скарабея. Не раздумывая совместил их, ожидая сверхъестественных громов и молний. Но ничего не произошло.
Я не отрываясь смотрел на скарабея, состоящего из двух половинок и весьма напоминающего яйцо, гладкое и увесистое. И вид круглого яйца, и ощущения, связанные с яйцом, помогли мне сосредоточиться. Отчего Мария решила, что я нуждаюсь в помощи? И что за помощь мне такая – поди туда, не знаю, куда и спаси, как себе хочешь, детей Вени?
– Магус, есть одна проблема. Пока моя жена не будет в безопасности, я не могу действовать решительно. Чтобы я помог тебе, ты должен помочь мне.
– Как, Платон? Что могу сделать я, бедный венецианец, несчастный маг и фокусник? Стоп! Твоей жене Алисе поможет ее сестра Венера. Они вместе покинут ДН Плутон. Вместе. Об этом я позабочусь.
– Ну, вот, можешь, если захочешь. А теперь веди меня к Марии.
– Мария! – крикнул Магус.
Дверь отворилась и вошла Мария, улыбаясь мне, как старому знакомому.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте! Мы с вами где-то виделись? – нарочито небрежно спросил я.
– Не думаю, – ответила она, улыбкой противореча своим словам.
– Что ж, как скажете. Магус, позволь нам поговорить наедине.
Магус вышел.
– Ну-с, – сказал я.
– Я вас слушаю.
– Да нет, это я вас слушаю.
– А мне, собственно, нечего вам сказать. Я прибыла сюда по вашей настоятельной просьбе, которую передал мне дядя.
– Хорошо. Как к вам попала половинка скарабея? – самым заговорщицким в мире тоном, призывая на помощь все свое чувство юмора, спросил я.
– Какого скарабея?
– Того, которого по вашей просьбе передал мне ваш дядюшка. А?
– Я ни о чем своего дядюшку не просила. Это недоразумение. А скарабей – это навозный жук, что ли?
Теперь она улыбалась мне как человек, который знает только то, о чем говорит. И ничего больше.
– Да, конечно, – сказал я, – очевидно, вышло недоразумение. У вас возникли проблемы с вашим отцом?
– Можно сказать и так. Вы поможете мне его убить? Дядя сказал, что только вы в состоянии мне помочь.
– Хорошо. Я смогу вам помочь. И только я. Условие такое: вы беспрекословно выполняете мои указания.
– Вы обещаете мне, что отец мой будет мертв?
– Я обещаю вам, что вы получите то, чего хотите больше всего на свете. Вы ведь жаждете мучительной гибели своего обожаемого папаши?
– Допустим.
– Я знаю его ахиллесову пяту. Я знаю, как вы можете уничтожить его нынешнюю суть. Я обещаю вам, если вы сделаете все, как я скажу, от вашего нынешнего папаши и следа не останется.
– Хорошо. Я согласна. Что я должна делать?
– Вы должны будете поверить в то, что я вам сейчас скажу.
– Говорите.
– Обещаете поверить?
– Что такого невероятного вы мне можете сказать? Ладно, обещаю.
– Самое верное средство убить вашего отца – перестать скрывать свою любовь к нему. Именно так, вы не ослышались: ваша любовь и ничто иное за короткое время сотрут вашего отца в порошок, превратят в другое существо. Прежний Веня Гербицит будет убит. Что появится на месте прежнего – во многом будет зависеть от вас.
– Вы сейчас о том, что я должна подставить левую щеку, получив оплеуху по правой? Это не ко мне. Никакой любви к этому ублюдку я не испытываю!
– Хватит истерить! Хватит врать! Хочешь ликвидировать папашку – или нет? Да или нет?
– Да!
– Тогда иди и выплесни на него яд своей любви!
– Как вы понимаете этот бред – убить любовью?
– А так, что вы пробудите в нем любовь к себе, своей дочери. Это единственное, что он скрывает от себя всю свою жизнь. И это разорвет его изнутри.
– Я не сестра милосердия! Я – киллер! И убить его – смысл моей жизни.
– Вы хотите убить его или победить в схватке со злом?
– Какая разница! Убить! Я хочу видеть его труп!
– А я уже вижу перед собой почти труп. Труп по имени Мария. Ведь вы раздавлены любовью к своему отцу. И убийство отца не возродит вас. Вас возродит его любовь к вам, и она же убьет прежнего негодяя. Разве не этого вы хотите больше всего на свете? Если не этого, то я не в силах вам помочь.
– Я начинаю тихо ненавидеть вас. Нельзя ли как-нибудь попроще? Вот мой кинжал; вот его сердце. Все.
– Ясно. Вы пришли ко мне затем, чтобы я помог вам убить себя. Вы обратились не по адресу.
– Вы не можете вот так просто бросить меня. Мне больше не к кому обратиться. Признаю, ненависть ослепляет мой ум…
– Это хорошо. Значит, в вас еще много любви.
– Предположим, вы правы. Предположим, я согласна. Что я должна делать?
– Я обязуюсь организовать вам встречу с отцом. Он будет беззащитен, а вы – вооружены любовью. Но прежде еще одно условие. Вы любите своего брата?
– Да. Нежно люблю.
– Он вас также любит больше жизни. И из любви к вам он тоже собирается убить своего отца. Вы, только вы способны удержать вашу семью от распада. И, если угодно, спасти жизнь брату. Либо вы спасаетесь все вместе – либо…
– Что я должна делать?
– Для начала я должен вас хорошенько спрятать.
– Где?
– Прямо сейчас – в соседнем кафе под названием «Хронос». Вы будете сидеть там и ждать меня ровно столько, сколько понадобится.
– Хорошо, Босс.
– Я не босс. Зови меня Платон.
– Хорошо, Платон. Как скажете. Я могу идти?
– Идите. Ждать умеете?
– Разве это так сложно?
– Это непросто. Возьмите с собой книжку. Вы вообще читаете книжки?
– Читаю. «Оговорочки от Пети: смейтесь, дети, плачьте, дети» – вот это сейчас читаю.
– Ну, и как?
– Прикольно. Мне нравится этот писатель, Bar-in.
– А я бы его убил, честное слово.
– Да ладно. О вкусах не спорят. Ну, я пошла?
– Конечно.
В дверях я остановил ее вопросом:
– Мария, мы точно нигде с тобой не встречались?
Она пожала плечами.Через некоторое время в комнату вошел Магус.
В этот момент в кармане моей куртки зазвонил сотовый телефон. Не мобильный, а именно сотовый: связь была через космический спутник.
– Привет! Как там у вас дела? – спросил Веня.
– Не очень, – ответил я, чтобы его не разочаровывать.
– Не верю я тебе, – сказал Веня.
– Не верь, не бойся, не проси…
– А также не убий, не украдь, не совершай невозможного… Слишком много запретов для свободного человека. Я хочу видеть тебя сию минуту.
– Но это невозможно!
Смех Фантомаса невозможно было спутать ни с каким другим звуковым колебанием воздуха. Думаю, он подражал самому дьяволу, и, хотя дьявола никто не видел, мало кто сомневался, что смеется князь тьмы именно так, как это делал Фантомас: жуткая смесь карканья с торжествующем воплем подавляла волю к жизни его визави.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.6.
Полная луна светит в окно.
Я открыл глаза.
И никак не мог понять: во сне я проснулся или наяву?
Ладно. Разберемся.
Начинаю торопиться. Куда, спрашивается?
Оказывается, я знаю, куда. Знаю, но не спрашиваю себя.
Понятно. Так происходит, когда спишь. Но происходящее вокруг воспринимаешь как будто не во сне. Явее чем наяву.
– Давай скорее! – слышится за окном.
Смутно знакомый голос. Кто это?
– Ну, давай же, вот недотепа! Времени в обрез!
– Да иду! – якобы с раздражением, как старому знакомому, отвечаю я.
– Семеро двоих не ждут – забыл, что ли?
Тот, за окном, настойчив.
– Да кто нас ждет, Гомер?
Слава богу, я быстро разглядел его.
– Бог ты мой, самая приличная компания на свете. Творческие люди. Ты думаешь, одни ведьмы собираются на шабаш? Это все мифы. Опоздаешь – пеняй на себя.
Пока мы пробираемся сугробами, – декабрьский снег скрипит, ноги вязнут в рыхлой пучине – Гомер вводит меня в курс дела. Мою забывчивость мы, не сговариваясь, списали на травму, нанесенную мне Веней. К тому же Гомер еще и пожалел меня. Сам Гомер. Пал жертвой русской диалектики, и теперь вот – «битый небитого везет».
Пока мы выясняли ситуацию, снег сошел, нас окружали предальпийские луга.
Наконец, взору нашему предстала гора Олимп. Стало совсем тепло.
И только полная луна намекала на неизменную систему координат.
На самой вершине, в гроте, похожем на палац, живописно расположилась компания классиков, а именно: Гете, Байрон, Сервантес, Пушкин, некоторых я и не узнал с первого взгляда. Шекспир (чтобы его признали, он строил из себя Гамлета) нервно курил в сторонке и косился, если я правильно разобрал, на раннего, то есть безбородого еще, Льва Толстого, настойчиво упражнявшегося в английском. А это кто особнячком? Ах, это Данте, Данте, как же без него, майн гот. Весь в мыслях о Беатриче. А может, все еще об аде грезит или мысленно стены чистилища украшает фресками. Кто разберет этих гениев.
В реальности легендарные классики производили впечатление не слишком знакомых между собой людей, которые мнутся в ожидании вечеринки. Хмурой заносчивости было меньше, чем можно было ожидать.
Я отчего-то занервничал. Не каждый день, знаете ли…
– Мы вовремя или мне извиниться? – спросил я Гомера.
В этот момент пробили куранты (глухо, где-то во глубине кратера Олимпа – на одном из верхних уровней), и двери в низенькие, задрапированные дешевым бархатом покои широким жестом распахнул персонаж, весьма напоминавший Булгакова. Михаила Афанасьевича – слугой?
Значит, доигрался, мастер. Покой отныне будет только сниться.
Предстояла церемония, смысл которой в переводе с булгаковского возгласа «Прошу, месьё, располагайтесь!» все поняли так: займите места за столом согласно некой неписаной иерархии. Благо еще, стол оказался овальным. И все же независимые гении поглядывали на место во главе стола, туда, где длинный овал плавно переходил в конус, – на точку, с которой начинается яйцо. Ab ovo.
– Гомер! – тихо предложил Шекспир.
– Гомер! – развязно вскинул одну руку Мигель де Сервантес, у которого, по иронии судьбы, также было овальное лицо. – Сделайте честь, амиго!
– Он мне обязан! – подмигнул мне Гомер. – Сюжет, который позднее яйцеголовая профессура будет определять как архетип дороги, попросту говоря, бесконечное странствование, у меня слямзил этот перец, отец хитроумного идальго. Думал, никто не заметит, ан нет! А Чайльд-Гарольд? А Онегин, который зачем-то бранил Гомера? А Фауст? Все бродяги. Странники. Паршивцы. А у Толстого, этот, как его… Наполеон! А?
– Да ладно, Гомер, я вас уважаю, конечно, но ведь и вы со своей дорогой были далеко не первым…
– Ну, если никто не против… – перебил меня Гомер и уселся во главе овального стола.
Шекспир театрально фыркнул и отвернулся: в нем вновь проснулся Гамлет. Байрон и бровью не повел. Пушкин потер руки и засмеялся.
Далее все расселись без проблем. Четыре человека – по правую руку от почетного председателя, четыре – по левую. Я хотел было примоститься с краю краев, но мне суждено было сидеть рядом с Гомером, слева от него. Чьи происки привели к такой исторической ошибке, не могу сказать в точности. Справа от почетного председателя местечко себе оттер Шекспир.
– Итак, я собрал вас на Олимпе, благодарные коллеги, чтобы сообщить… – начал Гомер.
– Разве мы на Олимпе? – спросил я шепотом, склоняясь к Данте.
– А вы кто такой будете? – в ответ ехидно спросил меня мэтр, явно сердясь на то, что я занимаю чужое, то есть, его, место. – Давно ли в клубе избранных? Сколько сотен лет, считая от раннего Ренессанса?
– Я? – опешил я от подобной бестактности. – Да, я, собственно, никто. Я у себя во сне, если вы понимаете, о чем я, сударь.
– Ах, да, разумеется, о, мадонна, да, – любезно ответствовал суровый Дант.
Надобно признаться, ответ его вселил в меня некоторую уверенность.
Я все искал возможности встретиться глазами с веселым Пушкиным, но мой кумир уже легко нашел общий язык с лордом с туманного Альбиона. Судя по всему, их разговор благоразумный изобиловал желчью мрачных эпиграмм. Хотя разобрать можно было только одно слово: Мадрит.
Повестка была озвучена, и она никому не показалась странной: предстояло обсудить вопрос о том, что такое литература.
– Литература есть род изящной словесности, – изрек фон Гете, и с его юридически выверенной формулировкой невозможно было не согласиться. Многие в ответ на глубокомысленную реплику степенного Иоганна Вольфганга закивали головами, но вскоре, как по команде, остановились. Что-то их насторожило.
– Я бы сказал, что существует литература и литература, – очевидно, вкладывая в свои слова особый смысл, возразил лорд Байрон. Хотя он открыто и не выказывал своего несогласия, собравшиеся поняли лорда именно так.
– Что вы имеете в виду? – возразил ему между тем Шекспир.
– Оставьте ваш англосаксонский диспут, сейчас не время и не место, – солидно возразил Данте. Он, стоявший у истоков европейского Возрождения, считал себя вправе иметь какое-то совершенно особое мнение.
– Вот именно! – пылко поддержал его Лев Толстой. – Ах, как вы правы!
– А я считаю, что божественно прав Пушкин: не продается вдохновенье, но можно, черт возьми, рукопись продать! Хотя мне этот совет, откровенно говоря, не слишком помог. Ха-ха!
Все обернулись в сторону блиставшего глазами благородного Сервантеса.
– Да ладно, Сааведра, – миролюбиво то ли отвел комплимент, то ли принял его Пушкин. – Я же фигурально выразился. Пусть покупают то, что им нравится, понимаете? Я написал одно, а они покупают другое. Но денежки светская чернь пусть вынимает! Злато – это святое!
– Вот тут вы в точку, Александр, – сказал Байрон. – Я, собственно, всегда полагал, что аристократ поймет аристократа.
– О, come on, лорд! – великодушничало солнце русской поэзии.
– Что такое рукопись? – тихо спросил Гомер.
– И что же? Что это доказывает? – возвысился над столом голос искателя истины.
– Слово предоставляется графу Толстому! – ввернул Гомер, лихо справляясь с правами председателя.
– Хвала Древней Греции! – отреагировал русский отец «диалектики души», достояния уже всемирного. – Я, например, призываю всех к коллективизму, сиречь душевному единению. Народ-богоносец, мать его!.. Умом ведь не понять: слезам не верит, а сам то и дело рыдает, как кулик на болоте. Мысль народная – вот что не дает мне, старику, покоя. Потому что и не мысль она вовсе… Так, тростник. Мыслящий тростник. Что-то в этом пункте меня смущает, едрит-Мадрит. Ну, да ладно, поздно уже: что написано пером, не вырубишь топором… Кстати, почему я не вижу здесь пророчишку Достоевского? Я бы пригласил Федора Михайловича, чтобы объяснить ему, что он не прав со своими бунтами копеешными, а вот кое-кого – не будем показывать пальцем, не в театре – с удовольствием вычеркнул бы из списка приглашенных, на веки вечные… Лицедейство – это фальшь и вранье!
– Господа! Я думал, что мы собрались сюда, чтобы обсудить проблемы личности, а не народа, – как-то очень благородно, изумительно подражая аристократам, произнес Шекспир.
– И я так думал! – быстро согласился с величайшим трагиком Пушкин.
– Хочешь говорить о литературе – говори о личности, – пробубнил я про себя.
Все повернули голову в мою сторону.
– Не соблаговолите ли вы, досточтимый Гомер, представить нам этого юношу, – надменно проговорил фон Гете. – А то сидишь за одним столом со всяким… Я государственный деятель, поймите меня правильно, – закончил он свою речь, словно снисходя до оправданий.
– Это Платон, – сказал Гомер, которому, казалось, становилось скучно все происходившее.
– О!!! Идеальное государство!
– Аристократии в нашем полку прибыло!
– А-а…
– Ммм…
– Браво!
– Я помню по Лицею: образ души-колесницы – это мне по душе.
– А вот миф о пещере… По глубине – это достойно Дон Жуана. По самое некуда. Ты не находишь, Александр?
– Позвольте, позвольте, я хоть и не окончил казанский… Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают.
– Это вы сейчас о чем, граф?
– Господа, уймитесь, право слово, – сказал Гомер. – Это Платон, да не тот. Это Платон Скарабеев. Ска-ра-бе-ев.
Под сводами грота нависло молчание.
– Что есть Ска-ра-бе-ев? Русский? – изумился творец «Фауста». – В Россию с любовью? Сколько ж можно!
Шекспир отвесил книксен, очень смешно подволакивая при этом колено, словно Байрон, смотревший пред собой в тот момент отрешенно, не исключено, что с несколько оскорбительным оттенком. Более всего меня интересовала реакция Пушкина. Но он, кажется, даже не понял, о чем речь.
– Яволь, – невольно съязвил я. – Мой дядя самых честных правил…
Толстой поджал губы, как бы давая понять, что русским гениям на Олимпе и так тесно. Не продохнуть. Олимп один, а этих русских, знаете ли…
– Раз уж столь высокое собрание обратило внимание на мою скромную персону, то… – начал было я.
В этот момент Данте устало прикрыл глаза и то ли зевнул, то ли произнес сакральное «mama mia». А Пушкин – готов дать руку на отсечение, как Сааведра! – стал рисовать на скатерти профили повешенных.
– …то позвольте мне объясниться.
Вежливое молчание воцарилось за столом.
– Я, – сказал я, – я…
– Вы аристократ?
Мне показалось, вопрос прозвучал из-под ладони el Dante.
– Да. То есть нет. В смысле…
– Бедное внебрачное дитя. Почти всем присутствующим здесь это так или иначе знакомо.
Взрыв смеха сотряс низенькую залу. Сморкались, кашляли и утирали слезы долго.
Я выжидал до тех пор, пока в наступившей тишине явственно не стал различим скрип плетеного кресла. На котором отрешенно, будто даун, раскачивался лорд.
– Я счастлив присутствовать в столь избранном обществе, среди признанных олимпийцев, среди элиты элит. Это было мечтой всей моей жизни. Понятно, что столь дерзкая мечта могла осуществиться разве что во сне. Собственно, так и произошло. Прошу понять меня правильно, но вы все у меня в гостях. И потому только, разумеется, что я побывал в гостях у каждого из вас. Вы ко мне, можно сказать, с ответным визитом.
Тут только Пушкин поднял на меня глаза.
– Да, именно я, Платон Скарабеев, собрал вас всех здесь. Гомер к этому событию не имеет никакого отношения. Он был приманкой. Выполнял роль наживки. Червяка, если на то пошло. Ибо: рыбак рыбака видит издалека.
И что я вижу, господа?
Вы ведете себя так, как повели бы себя в жизни. Лев Николаевич, перед вами же Пушкин! Александр Сергеевич, на вас смотрит сам Гомер! Что за пургу вы гоните насчет литературы! Я думал, что вы, светила, давшие в творениях своих бессмертные образцы личности, – я думал, что вы скажете мне, человеку XXI века, огромное человеческое спасибо за возможность посмотреть друг на друга. Вы же ступени, по которым человечество выбирается из ада. И что я вижу, надменные вы мои?
– Комедия, – величаво произнес Алигьери. – Вы запутались, как я когда-то. В сумрачном лесу. Не потому ли вы пошли по моим стопам-кругам? И эта девятка, элементарно производная и унизительно зависимая от тройки… Девятка – как полная луна, верно? Как лампада. Едва светит. И манит, манит… И ведет куда-то в никуда. Волчица. Вот попомните мои слова: волчица слопает мир и не подавится.
– Александр! Вам ничего не напоминает слово Данте? Нет-с?
– Вы правы, лорд. Ассоциации болезненные.
– Я не имел в виду дантиста.
– Я также, лорд. Полагаю, вы метили в свободы, гения и славы палача. Сволочи редкостной. Поэтому я предпочитаю укороченный вариант. Дант. Просто Дант.
В этот момент Пушкин рисовал уже женские головки.
– Господа! Мы вам тут не мешаем разводить флору и фауну? Гомер – червяк, теперь вот волчица объявилась… Нельзя ли просто сказать: мир поглотит алчность человеческая. Если вы об этом. Почему обязательно надо прятаться за волчицу? То она вам Рим спасает, то она мир сожрет. Вы уж как-нибудь определитесь. Гербаррий, доннер ветер. Клянусь «Вертером».
– Гомер! Зачем вы пригласили этого германца? У него же явные проблемы с образным мышлением! Ни черта не рубит, дьявол. Лишь бы Маргариту обрюхатить… Так можно договориться до того, что мой alter ego хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий есть клинический идиот только на том основании, что он стал бросаться на ветряные мельницы!
– А что, разве нет?
– Что-о? Я, как известно, с температурой участвовал в сражении при Лепанто! И мне ли…
– Мигель, остынь. Де Сервантес! Угомонись. Беда с этими благородными. Это не я пригласил германца. Платон пригласил. Я, как известно, червь. Я Бог.
– Это который Платон? Кухаркин сын? Чумазый?
– Фу, граф, не комильфо!
– А чего он!
– Господа! Вы предатели, господа! Как я теперь стану в глаза смотреть Вене, а? Вы же предали личность! Александр Сергеевич! Я так на вас надеялся!
– Надежды – сны бодрствующих.
– Лев Николаевич! Вы, как всякий недоучка, слишком много знаете. Не встревайте!
– Я – офицер, прошу не забывать об этом!
– Да тут все через одного офицеры, к сожалению. Найти приличного человека без погон – просто утопия.
– Есть и министр.
– Вы, жалкий эрудит, вы смели назвать нас предателями?
Почтенное собрание враз затихло, ибо запахло жареным. Пушкин тренированной правой уже сжимал-разжимал пальцы. Мне как идейному вдохновителю проекта надо было спасать положение.
– Если я не прав, Александр Сергеевич, я готов извиниться – перед каждым из вас и перед вами в частности; в любом случае, я не слишком дорожу своей жизнью, так что вам ничего не грозит. Я даже оружия в руки не возьму. О дуэли не может идти и речи. Тут уж извините. Прощай, оружие. Я слишком хорошо понимаю ценность каждого из вас. Но именно потому, что я не слишком дорожу своей жизнью, я скажу вам все, что думаю о вас. Я слишком дорожу истиной. Сейчас мне стыдно за ваше поведение, и я чувствую себя брошенным, преданным. Я ведь за ваши идеалы сражаюсь! Я ведь вам поверил! А вы ведете себя так, будто чувство собственного достоинства для вас пустой звук. Если бы я не знал, кто вы такие, я бы каждого из вас вызвал на дуэль за оскорбление высокого духа великих шедевров родовитого Гомера, графа Толстого, де Сервантеса, лорда Байрона, дворянина Пушкина, аристократа Алигьери, фон Гете, и, да простит меня вот этот «Потрясающий Копьем», того лорда, который скрывается за псевдонимом Уильям Shakespeare… А перед дуэлью я бы порекомендовал всем вам без исключения почитать на вечный сон грядущий вышеперечисленных авторов. «В их произведениях, – задиристо сказал бы я, – вы найдете то, что называется достоинство, честь, ум, совесть. Да хотя бы только это».
Изумленная Луна, казалось, застыла в самой середине окна, внимая моим речам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.7.
– Кто такой Гигантюк? – спросил я.
– А, задело! Зацепило! Я вижу: ты никогда не пропустишь мимо ушей важную информацию. Зачем тебе Гигантюк?
– Пока не знаю. Ты ведь сам несколько раз вспомнил о нем – в контексте, так или иначе касающемся меня. Никто тебя за язык не тянул. Ладно, не хочешь – не говори.
– Ты прав: я не хочу говорить о нем. Но я скажу. У тебя вдруг, нежданно-негаданно, одним союзником стало больше, а у меня – меньше. Говорю об этом только потому, что я все еще убежден: истина на моей стороне. Я верю в свою победу!
– Самое ценное в твоей галиматье – «все еще». Этой оговорочке цены нет. Ты сомневаешься, Веня…
– Я играю в открытую. И иду до конца.
– И при чем здесь Гигантюк?
– Руслан Гигантюк, 1970 года рождения. Математик. В одиночку размотал три тупиковые математические теоремы. Весь математический мир в шоке. Просто поверить не могут: как такое могло быть под силу одному человеку. Несравненный геометр. Интеллект уникальный. Но кроме математики его ничто не интересует. Мы создали ему идеальные, с точки зрения его потребностей, условия. Понимаешь, это бог цифири и геометрии. Он за малым не контролирует само пространство. Он его как-то вычисляет, сводит к единой точке, потом вновь раскручивает спираль…
Я едва устоял на ногах: во мне шевельнулось то самое ощущение улёта .
– А я здесь при чем?
– Понимаешь, он решил какие-то свои вселенские задачи и сдулся, потерял ко всему интерес. Мы уже почти время за бороду ухватили, какие-то смутные, но небывалые возможности открываются, и вдруг этот говнюк сливает… Я его тормошу: в чем дело, предатель? А он отвечает: думаете, я цифрами занимаюсь? Нет, оказывается, я занимаюсь нравственностью. Я это только сейчас понял. И я отказываюсь работать на вас. Вот скажи мне: как связаны математика и нравственность? При чем здесь нравственность? Это как ты со своей любовью носишься. Не ожидал я удара в спину со стороны математики. Руслана подозревать в грязной игре невозможно: невинен, как дитя, и так же глуп. Гений, бля. Просто вещает от имени космического закона.
– А если он прав, Веня?
– А что тогда вокруг нас происходит, Плато? Реальный мир – он что, виртуальным оказывается? Я прожил виртуальную жизнь? Меня окружали виртуальные люди? Меня что, не было, что ли? Этот п…дюк мог ошибиться, не тот значок в своих теоремах поставить – и все, весь мир с ног на голову переворачивается. Не верю я ему!
– А я верю.
– Верю! А доказать ничего не можешь!
– Математически не могу, а философско-логически – вполне. Нравственность – это проекция информационного закона, форма закона сохранения и превращения информации. Я делаю Гигантюку браво. С помощью математики, посредством расщепления пространства и времени выйти на нравственность и, значит, на разум! Ай да сукин сын! Мне бы и в голову не пришло. Интеллект тоже чего-то стоит.
– В том-то и дело, что не стоит, а стоит (он поставил ударение на второй слог). Работать на нас – это одна сторона вопроса, здесь мы бы его перехитрили. Он как вкопанный замер перед философией, перед проблемами добра и зла. Чуть ли не каяться начинает. Короче, к математике потерял всякий интерес. С другой стороны, я его понимаю.
– Ты? Гигантюка?
– Он семь лет возился со своими теоремами, он вложился в них и душой и телом, он просто выработал свой ресурс. Человек созрел, выплеснулся – и больше ты из него ничего не выжмешь. Это же какой информационный рывок! Сколько энергии потребовалось! Вот я давно родил свою главную идею, сейчас я ее только оттачиваю и воплощаю. Сил на другую идею, на какую-нибудь нравственность, на другую картину мира у меня попросту не осталось. А вот ты, родил ли ты главную свою идею? Что там у нас с «диктатурой культуры»?
– Пожалуй, я нахожусь в процессе. Ближе к финишу.
– Давай, поторопись, времени у тебя, судя по всему, осталось немного. Гигантюк, сука! Подкосил мироздание своей цифирью! Лучшие математики мира будут у меня искать ошибку в доказательствах. И найдут, я кожей чувствую!
– А если не найдут?
– Не найдут, Скарабей, рухнет вселенная. Сложится, как хижина дяди Тома. А родится ли другая такая – неизвестно. Я бы на твоем месте не спешил радоваться…
– Я не радуюсь; я думаю.
– Вот, вот, думай. Марс, парнокопытное! Ползи к папочке, мохнатость! Кто у нас король, а? Ты, мразь, ты, признаю…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.7.
– О, небо!
Где же справедливость, где ж правота, когда священный дар – не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан – а озаряет голову безумца, гуляки праздного?
А, Плато?
– У тебя, Веня, память в 9 раз лучше моей. Ты наизусть помнишь то, что я должен был бы повторять по 9 раз на день. Ты наизусть помнишь то, что я должен знать бы как «Отче наш». Где же справедливость?
– А справедливость, Скарабей, в том, что я служил в спецназе. И нас заставляли тренировать память. Я до сих пор знаю всего «Онегина» наизусть. Вот ты знаешь «Онегина»?
– О, боги! Не знаю. Но я обожаю его!
– А я знаю то, что ты обожаешь. И если бы мы с тобой выступали перед широкой аудиторией, то знатоком и обожателем «Онегина» объявлен был бы я, а ты – и то в лучшем, самом лучшем случае – довольствовался бы сомнительными лаврами корявого интерпретатора. Клянусь котом!
– И это так, клянусь собакой!
– Так чем ты лучше меня?
– Тем, что я умнее.
– Но умнее – не значит лучше. Это логическая ошибка.
– Нет, Веня, лучше – всегда и только значит умнее.
– Понимаешь, Плато, с тобой трудно соглашаться. Ты даже «Онегина» своего не знаешь наизусть. Чем докажешь, что ты его обожаешь? Ничем.
– Я его понимаю.
– Но это не доказательство.
– Для тебя не доказательство, для тебе подобных – не доказательство. А для неба – доказательство.
– Но живем-то мы на Земле. Спустись на землю, Плато.
– Земля подвисла в космосе. Она всего лишь теплая капля нашей галактики. Очнись, Веня. Включи мозги.
– Ты безумец. Ты смущаешь доверчивых мифом понимания. Ты ничего не умеешь. У тебя даже память нетренированная, как у нерадивого пионера. И для таких, как ты, издревле предусмотрена смертная казнь. Именем неба, между прочим. Что-то пользы в тебе я не нахожу, Плато. Ни грамма пользы. Ты бесполезен. В лучшем случае – бесполезен. Я скажу тебе парадоксальную вещь. Ты ведь любишь парадоксы? Ну, так слушай. Я целиком и полностью на стороне Пилата и Сальери. Понимаешь? Они для жизни необходимы. Такие, как ты, для жизни тоже не лишние; они, возможно, соль земли. Или перец. Но не хлеб. А солью сыт не будешь. Соль, как известно, – это белая смерть. Ты соблазн, ты специя, ты приправа. Но ты не основное блюдо. Без тебя прожить можно. А без нас с Сальери – нет. Мы грубая пища, согласен; но в жизненной цепочке мы основные элементы. Необходимые.
– Подожди, Веня. Сальери – миф. И Пилат миф. А я не миф.
– Нет-нет, Плато, не стоит переиначивать историю. Она мудрее тебя. Те мифы, которые вошли в плоть и кровь людей, – они давно перестали быть мифами; это больше, чем мифы; это облик истины. И я стану мифом, то есть формой истины. Существом о девяти головах или что-нибудь в этом роде. Страшное, ужасное, но неотвратимое – и потому отчасти желанное. А ты, Плато, ты станешь никем. Никем не станешь. Кто ты? Никто. Ты еще даже не миф. Я тебе больше скажу, я скажу убийственную для тебя вещь, Платон. Ты соткан из не подходящего для мифа вещества. Из тебя миф не слепишь. Из тебя миф – как из говна пуля. Ты не той природы.
– Как сказать. А Фауст? А Онегин? Я бы даже Одиссея вспомнил как прародителя. Чтобы понять – надо пройти путь. Путь, ведущий к истине, – это наш путь. Надо пройти девять кругов-колец, которые хитро-мудро крутит для нас жизнь-анаконда. И когда ты все постиг, анаконда превращается в разорванный круг, который лентой Мёбиуса ввинчивается в бесконечное тёмное пространство, сужающееся до ослепительно светлой точки. Ты попадаешь в спираль-воронку и становишься частичкой космоса.
– Не смеши меня. Мифами становятся те, кто их соблазняет, убивает твоих героев – словом, доказывает их нежизнеспособность. В школе преподают Татьяну Ларину, которая любила Онегина; а Онегина, который убил друга, преподают как Мефистофеля. Как исчадие ада. Про Одиссея вообще забудь. Бабник и плут.
– Но Пушкин специально «Онегина» написал в стихах. Роман – в стихах. Чтобы опоэтизировать Онегина. Сделать из него поэтический миф.
– И что, получилось?
– Получилось, конечно. Это великолепный миф. Правда, его никто не воспринимает. Пока.
– Вот-вот, ты опять за свое. Все, Платон, хватит. За пока бьют бока. Я, кажется, принял решение. По поводу тебя. Извини, но ты практически труп. Ты разочаровал меня как версия будущего. Мне нужен боец. Будущее завоевывается. Жизнь – это война за будущее. А растекаться мыслью по древу, стремиться в Итаку, останавливать мгновение – это лузерство. Это слизь. Плюнуть – и растереть. Возражения есть?
– Есть.
– Прошу. Последнее слово – это святое в нашей цивилизации. Последнее слово для жертвы обстоятельств. Я, палач истории, весь внимание.
– «Девять».
– Что – девять? Поясни.
– Нет. Я устал. Я ведь тоже человек. Иногда сила превращается в слабость.
– Что ж, последнее слово переходит ко мне. Сила – это сила, слабость – это слабость. Я ненавижу растекания и перетекания. На чьей ты стороне, ты на земле или на «небе»? Тот, кто не определился, тот становится моим личным врагом. А любить врагов – это, как ты понимаешь, не ко мне. Все мои враги, которых я отправил на небо, лежат в земле. Аминь.
– Ну, и черт с тобой.
– А-а, последнее слово решил оставить за собой. Типа еще борешься. Еще не все потеряно. Открой глаза, фауст. Ты уже на небе.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.7.
«Почему «маковая росинка»?
Да потому что с ее помощью Платон мог зацепиться за сильное переживание, связанное с тем уровнем, где обитают Вера, Надежда, Мария. Тогда общение с ними стало бы в принципе возможным.
Строго говоря, маковая росинка должна была служить фонариком, который поможет сориентироваться в той чуждой для всего живого спирали, где однажды сподобился побывать Платон. Дважды войти в одну и ту же информационную спираль, что было ясно еще древним грекам, не представлялось возможным. Информационные перегрузки были запредельны по отношению к возможностям человека.
Вот впечатления Платона, записанные от его имени (готов биться об заклад, что выдумки здесь немного, хотя сам Платон никогда и никому не рассказывал о своих «путешествиях»).
Первая «росинка» завела меня в глубокое детство (чего я, собственно, опасался). Я вспомнил (точнее так: в памяти моей ожили картинки), как мы играли в футбол. Детали – свет, нагретый сухой воздух, плотные звуки – были настолько натуральными, что мешало впечатление некоторой неестественности: как в кино. Пожухлая трава, по которой скользил мяч, сделанный из настоящей коричневой кожи – из лоскутов-прямоугольников, прочно сшитых суровой ниткой, отчего мяч напоминал крепкий черепаший панцирь. В одном месте выпирает грубым рубцом шнуровка из кожаных полосок (здесь упрятан сосок туго накачанной резиновой камеры). Примешь мяч шнуровочкой на голову – мало не покажется (а не примешь – не пацан). Пацаны орут, как оглашенные. Я пробиваю штрафной: пенальти. Это решающий момент всего матча. Разбегаюсь – бью, уверенно, впритирку со «штангой», то есть с большим камнем, который обозначал стойку ворот.
Гол! Победа!
Соперники принялись бурно протестовать. Делают это нагло, с вызовом. Дескать, я промазал, не попал в ворота. Пробил мимо. «Несчитово! Несчитово!»
У меня от такой несправедливости аж дыханье сперло. Я стал орать писклявым голоском (сейчас я терпеть не могу этот самозабвенный детский крик), что все это хлюзда, пусть Витька, их вратарь и мой друг, докажет (а он, бедняга, жутко расстроился из-за того, что пропустил, сел на корточки и уронил на колени голову). Витька тоже промямлил что-то нечленораздельное, по смыслу напоминающее «конечно, несчитово».
Я опешил. Кодекс вечной дружбы в секунду был нарушен. Чтобы не передраться окончательно, было принято решение перебить штрафной.
Я расстроен настолько, что ворота кажутся мне меньше раза в полтора (не исключено, что «штангу» просто сдвинули, но проверить никто не даст), одиннадцать шагов превратились в двадцать, вратарь теперь другой – переросток Колян, который, как краб, закрыл все своими длиннющими руками от камня до камня.
Откуда он взялся? Ведь он не играл за ту команду. Где Витька?
Теперь все орут на меня, как будто это каша заварилась из-за моего каприза. Ворота еще уменьшились, рубец неловко лег на стопу, мяч попал в «штангу» и от Коляна влетел в ворота. Я вне себя от радости и, главное, от нечаянного уже торжества справедливости.
Но и этот гол не засчитали, игру тут же прекратили. У меня в глазах слезы, я захлебываюсь от очевидной несправедливости. Даже не так – от попранного чувства реальности. Мне горько. В первый раз я стал свидетелем того, как справедливость была легко унижена вместе со мной, а сила легко восторжествовала.
Вторая росинка также выхватила сюжет из детства: видимо, основа личности действительно закладывается в детстве.
Отец с мамой оставляют меня в пионерлагере, дома оставить не с кем: мама на сессии в пединституте, отец работает. Лагерь на берегу холодного и прозрачного озера Голова, со дна которого бьют ключи. Купаться можно только в жаркую погоду, зато в ледяной воде водятся рыбки «маринки». Я видел, как их потрошат старшие: выбирают внутренности и обязательно тщательно соскабливают черную слизь с тушки, иначе рыбу есть нельзя, можно отравиться. Черная слизь ядовита, это знают все. Зачем тогда ловить этих «маринок»?
Рыбачить я не люблю, в отряде все ребята старше меня, они дураки и плохие, дружить не с кем.
– Ты что, плачешь? – строго спрашивает отец.
– Нет, это песчинка в глаз попала, – отвечаю я. – Заберите меня отсюда…
– Ты хочешь, чтобы мама из-за тебя бросила институт?
– Нет, не хочу.
– Тогда терпи.
Машина увозит папа и маму, на меня наваливается черное отчаяние. Я могу позволить себе упасть в траву и наплакаться вдоволь. У меня еще полчаса до ужина.
Но не тут-то было.
– Вставай, жаба, чего сырость разводишь? – орет звеньевой отряда, которого все зовут Башка. – Иди, достань мне сигарету. Придешь пустой, получишь по чайнику.
Вечером Башка бьет меня, стараясь не оставлять следов. Жаловаться нельзя, будет еще хуже.
– Как дела? – спрашивает отец через неделю (суббота – день родительских визитов). – Все наладилось?
– Все хорошо, – отвечаю я дрогнувшим голосом, чувствуя, что мне в глаз опять не вовремя попала злосчастная песчинка.
Чтобы отвлечь отца от своих проблем «с глазом», я жалуюсь в самом общем плане:
– Эти дураки зовут меня Тошка. Как собачку.
– Говорил я маме, – вздохнул отец, – что имя тебе на роду написано – Вениамин. Так звали деда твоего. Но ведь женщину разве переспоришь…
– Вениамин? – вздрогнул я. – Нет, уж лучше Тошка.
Третьей росинки не понадобилось: ко мне во сне пожаловала Мария, на что я втайне и рассчитывал.
«Почему не Вера? Не Надежда?» – подумал я.
– Потому что с ними у тебя безнадежно испорчены отношения, – кротко пояснила Мария.
– Вы знаете, зачем я искал с вами встречи?
– Все это так непросто, – уклончиво отвечала моя собеседница.
– Да ладно, – сказал я. – Веня был у вас в плену и чем-то обязан вам по гроб жизни.
– Мы спасли его, мокренького.
– Какой ценой, интересно?
– Цену назначаем не мы.
– А когда это было?
– Люди у меня не привязаны к датам, а ко времени человека привязать невозможно.
– Могу я взглянуть на контракт, который подписал Веня?
– Вы так грубо выражаетесь. Никакого контракта нет и в помине. Веня готов был выжить любой ценой. И он с благодарностью принял наши предложения.
– В чем суть предложений?
– А почему вы так уверены, что я буду говорить с вами об этом?
– Да потому что иначе вы не пришли бы ко мне.
– Ох, уж эта земная логика. Кажется, у вас это еще и психологизмом называется. Нас интересуете вы, а не Веня.
– Так вот он я, берите, не стесняйтесь.
– Мы не имеем права, да и возможности причинить вам вред. Вы приписаны к другому Уровню.
– К девятому?
– Как же! Держите карман шире. Что вы знаете об этом Уровне? Это непостижимо! Что за самонадеянность человеческая!
– Значит, мой Уровень пониже. Пятый? Седьмой?
– Типично человеческое ступенчатое мышление степенями. Разные уровни – это разные качества; каждый последующий Уровень не отменяет предыдущий, напротив, Третий возникает на основе Второго, Четвертый на основе Третьего, и так далее. Принцип «от простого к сложному» соблюдается неукоснительно, но соблюдается также принцип «единого высшего уровня сложности», обязательного для всех уровней. Уровни образуют целостность. Каждый отдельно взятый уровень содержит в себе качества всех остальных уровней, однако в определенной комбинации, что и определяет его эффективность. Говорить об одном – значит говорить обо всем. Это как с цветами: в красном есть оранжевый, в оранжевом – желтый, в желтом – зеленый, красный и оранжевый, а также голубой, синий и фиолетовый. В каждом цвете содержатся все остальные, но вы никогда не спутаете красный с зеленым, например.
– Какой Уровень представляете вы, Мария?
– Все это так непросто. Еще вчера я уверенно излучала все свойства Третьего, сегодня мне по силам Четвертый; но завтра мне и Второй может быть в тягость.
– Так что там с Веней?
– Веня совершил главное: он, извините, породил вас, Платон. Породил и заметил, что немаловажно. Для низшего информационного Уровня такие, как вы, – прямая угроза, информационная угроза, разумеется. Веня заигрался, он позволил вам поднять голову, обозначить новые возможности. Это чревато гибелью для системы, для Цивилизации, по вашему, в которой Веня, существо Первого Уровня сложности, едва справляется с собой и себе подобными. Мы призваны по возможности направлять и контролировать людей, особенно выдающихся; мы не против достижения Девятого Уровня, но это надо делать постепенно, весьма постепенно. Вот вы при всем своем потенциале в данную минуту , извините за выражение, обозначающее ваше примитивное времяисчисление, представляете собой не столько умного человека (по вашей терминологии), сколько вредоносный вирус, вас нельзя запускать в отлаженную и пока что жизнеспособную систему, ибо такие, как вы, будут стремиться превратить одну систему, Цивилизацию, в другую – в Культуру. В принципе – это прогресс, то есть движение от одного уровня сложности к другому. Но если это сделать быстро и неподготовленно – не будет ни Цивилизации, ни Культуры. Про кессонову болезнь слышали? Слишком быстрое всплытие – и бодрый клиент пускает кровавые пузыри. Вы напоминаете слишком сильно действующие дрожжи, если так понятнее. А мы своего рода фильтр, регулирующий напор информации. Таково наше призвание и предназначение. С одной стороны, мы спасаем плохо подготовленную цивилизацию от вас, от претензий личности, а с другой – спасаем вас от цивилизации, пытаемся сохранить личность для грядущей эпохи культуры. Человек принес для мироздания столько хлопот…
– И что мне передать Вене? Чтобы он меня укокошил во благо… короче, во какое-то всеобщее благо?
– Боже, какой вы грубый. Не тонкий. Вам надо сохранить жизнь, обязательно. Берегите себя. Но и вы должны беречь Веню.
– Я? Этого сатрапа? От кого беречь?
– От самого себя. То есть, его от него же. Как же вам объяснить…
– Ага. Понял. В вашей сказке также Битый Небитого повезет. Где-то я это уже слышал.
– Ничего. Вы были там, в других Уровнях, поэтому рано или поздно поймете меня. Еще и мне фору дадите. А вот то, что вы сообщили, вот этот смысловой излишек…
– Чувство юмора называется.
– Чувство юмора – это хорошо. В вашей ситуации самое смешное, извините, в том, что не разобрать, кто из вас Битый, а кто – Небитый. Кто тело, а кто – тень.
– У вас тоже с чувством юмора все в порядке.
Мне показалось, что она поощрительно улыбается. Совсем как земная девушка, за которой пытается ухаживать симпатичный ей молодой человек.
– А вам-то, вам-то что за интерес (я так почему-то и сказал, с китайщинкой) возиться с нами?
– А какой интерес может быть у законов, например? Мы плоть сути. Мы вещество, из которого состоит порядок вещей. Ясно?
– Нет.
– Чудесно. Ах, как это замечательно называть вещи своими именами! Нет – значит, нет.
– Там, на Земле, мы иногда говорим: называйте кошку кошкой.
– Вот именно, кошку – кошкой, белое – черным, Алису – Венерой.
– Вы уверены?
– Конечно, черное стоит белого.
– Ладно, вам виднее. А знакомо вам такое имя: Данте?
– Алигьери? Ах, это так забавно: круги ада! Нет ничего смешнее! Ад – это представление о мире в самом начале Уровня первого. Первоклашки, так?
– Первоклашки – это остроумно.
– Что значит остроумно?
– Остроумие – это симпатичная форма глупости, это шутки весьма неглубокого ума. Извините. Для нас Данте велик.
– До сих пор? Да, людей умом не понять.
– А откуда вам известно имя Алиса?
Видно было, что Мария смутилась.
– Алиса была у вас? Скажите только – была?
– Все это так непросто… На память о нашем разговоре – ах, как много значат разговоры в жизни людей, верно? – позвольте мне подарить вам сувенирчик, так, пустяк. Вы называете это кольцо. Или перстень. Похоже на круг ада, если я правильно понимаю. По-нашему, это частица пространства, которое привязано ко времени… ну, скажем, ко времени нашего разговора.
– Спасибо.
– Не стоит. А если я потеряю его?
– Не получится. Время и пространство всегда с вами, всегда к вашим услугам, если вы им служите, конечно. Понятно?
– Ясен пень.
Девушка заразительно рассмеялась.
– Чувство юмора называется? Прелесть!
– А что мне подарить вам? У меня нет с собой ничего такого.
– Мне? Меня же нет! Я же… Мария условная. Нет, нет, я и безусловная тоже, не расстраивайтесь. Хотя меня нет. Ну, хорошо. Подарите вот этого скарабея Хепри, если не жалко. Точно такого же я где-то обронила.
– Нет, скарабея не могу. Понимаете, это подарок мне. От одной девушки. Это вещица уже стала частью моей жизни. Смысл моего талисмана, боюсь, невозможно перекодировать. Послание мне не может стать посланием вам.
– Ах, да… Извините. Забудьте. А можно я потрогаю его?
– Пожалуйста. А что значит Хепри?
– Как, вы разве не знаете? «Возникший из себя самого», «Возникший из своего имени». Это великий символ.
– Он мне совсем не этим дорог. Понимаете…
– Нет-нет, ничего. Все в порядке.
– С подарком неловко получилось.
– Это по моей вине. У меня как-то уровень за уровень зашел. Но вы все же умудрились подарить мне чувство юмора. Как это, кстати, вам удалось? Ведь меня, мне казалось, невозможно воспринимать чувствами – только сознанием, очень, очень развитым сознанием… Как?
– Гм-гм, – отвечал я».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.7.
– Платоша, почему ты опять бросил свою рубашку на кресло? Ах, она грязная? Сколько раз тебе повторять: несвежие вещи бросай в корзину для белья!
– Алиса, ласточка, я виноват.
– Ты виноват, а я ходи за тобой, как нянька, и подбирай!
– Ну, солнце!
– Что, «солнце»? Когда начнешь за вещами следить?
– Да я уже! Я вот только на секунду отвлекся…
– На секунду…
– Ну, зайцы мои, не ворчи!
– Не ворчи! – ворчала она. – На тебя невозможно не ворчать…
Я, если честно, никакой особой вины за собой не чувствовал; да, имела место невинная расконцентрация бытовая как следствие концентрации творчески-духовной; но моя маленькая вина была великолепным поводом для того, чтобы горячо сблизиться.
И Алиса никогда не упускала такого повода. За что я был ей всякий раз благодарен.
Помнится, жена моя бывшая пеняла мне моими рубашками и тапочками («разбросаны, как следы пьяного Минотавра на ковре!») как полному ничтожеству. Никогда не упускала такого повода. Размахивала моими рубашками, как знаменем моей нечистоты и, что было особенно обидно, непорядочности. И я старался не остаться в долгу. Что раз за разом углубляло пропасть между нами. Во мне просыпался отвратительный человечек, подозреваю, тот самый, аленький, который оттачивал свое ядовитое остроумие в полемике с разъяренной женщиной, отчего мне становилось стыдно за себя, то есть, за него, этого паршивца, который затыкал рот личности во мне своей мохнатой лапой. Вот, сука.
В общем, индивиду во мне, моему маленькому человеку, жилось в нашем с Алисой доме вполне уютно. Он был домовым , если вы понимаете, о чем я. И он разворачивался ко мне своей безобидной, мягкой и светлой стороной (которая у него, оказывается, была).
А все почему?
А все потому, что Алиса уважала мое право на творчество, а повод поворчать использовала как способ привлечь внимание к себе. Немного ревновала меня к творчеству. И стеснялась этого. Она любила меня.
А бывшая жена презирала творчество как напрасное, глупейшее разбазаривание сил, как лузерское время провождение, а повод использовала, чтобы выказать презрение ко мне, слабаку и умнику. Она ненавидела меня и жалела себя, которой досталось такое вот счастье, сидящее за компьютером, разбрасывающее тапочки, сорящее рубашками в немодную расцветку и нимало не интересующееся зарабатыванием денег, главным делом людей, не интересующихся счастьем.
Что является главным в отношениях с женщинами? Рубашки?
Никак нет. Главным является мое отношение к себе, отношение личности к маленькому человеку во мне. Звезды – к звезде.
Я всегда помнил это и, наверное, поэтому ценил один дурацкий анекдот, который сейчас намерен рассказать всем желающим его услышать.
Входит однажды солидный мужчина в бар и делает заказ:
– Бутылку виски, стакан и наперсток.
Вышколенный бармен, не выказывая удивления, все исполняет быстро и точно.
Каково же было удивление бармена, когда он стал свидетелем такой сцены. Мужчина налил порцию виски себе, аккуратно плеснул спиртного в наперсток и произнес, доставая из кармана маленького человечка, весьма странный тост:
– Ну, Вася, расскажи, как ты в Африке колдуна послал на х..!
И немедленно выпил.
Я всегда относился к маленькому человечку в себе, как к Васе, способному отважно послать могущественные силы куда подальше, а потом расплачиваться за этот нелепый жест всю жизнь. Сначала необдуманный поступок, «голые эмоции», – потом сожаление на всю оставшуюся жизнь.
Вася – не мой герой.
Но однажды я побывал в шкуре Васи. И понял, что поступок Васи, как ни прискорбно, был поступком мужчины.
Однажды Алиса встала не с той ноги, затем села не на ту метлу. Потом привязалась к рубашке, обнаружила не в том месте тапочки, припомнила мне, что я давно обещал сходить на почту, но так и не сходил, и посуду мог бы догадаться помыть, всякий раз просить, что ли, и вообще…
Голос ее дрожал от ярости, клокотавшей внутри.
И я, застигнутый врасплох обидными придирками и нападками (а у меня в голове роман, роман!), возгорелся от ее ярости в доли секунд, сознание среагировать не успело – в момент рассвирепел до такой степени, что потерял над собой контроль. Бешенство было настолько сладким и испепеляющим, что я почти любовался гибельным восторгом, водоворот которого неодолимо влек меня прямо на тяжелые, мокрые камни, расшибиться о которые в лепешку было делом мгновений. Весь мой потенциал любви враз обратился в ненависть, и я, назло жизни, выбрал смерть.
Разброс гибельных ощущений был настолько противоречивым, что они могли быть описаны совершенно иначе. Например. Это было все равно, что наблюдать за тем, как из кратера вулкана вихрем вырывается огненная лава, едва тронутая ровным синим адским огоньком-отливом, – и устремляется ко мне. Но я не только не собирался спасаться как-нибудь по-человечески, сломя голову, что было бы естественным для человека здравомыслящего; я собирался устроиться поудобней, чтобы с максимальным комфортом наблюдать за последними секундами собственной жизни. Назло кому-то. Было похоже на то, что инстинкт страха смерти во мне заменили инстинктом любования страхом смерти. Меня словно подменили.
При этом водоворот, вихрь смутно напоминали мне улетную спираль, что лишь добавляло моим ощущениям роковой необратимости.
И вот эта неукротимая витальная мощь, эти обнаженные недра – поток, лава, камнепад или что-нибудь подобное – во многом объяснили мне мое происхождение. Которое непосредственно влияло на мое предназначение. Даже являясь господином информационного космоса, я оставался рабом стихии. Все мои культурные достижения подпитывались лавой. И, теперь я это понимал, без лавы они ровным счетом ничего не стоили.
Чем я писал свой роман?
Я обмакивал вечное перо разума в лаву инстинктов.
И я понял: призвание мужчины повелевать и властвовать. Сметать все на своем пути. Власть и сила – вот суть мужского начала. Это не обсуждается, ибо неотменимо; это можно принять к сведению, как неизбежный сезон дождей в центральной Африке или сезон песчаных бурь в пустыне на севере Африки. Или лаву.
Какие претензии к Васе?
Да те же, что и к Вене: мужчина, порождение натуры, может стать всемогущим Васей-колдуном; а может – самим Господом Богом, если станет существом отчасти культурным, если усилит свое природное стремление повелевать культурными технологиями! Культурно оснащенный мужчина, мыслящее существо, – это ведь и есть нечто божественное. Бога-то ведь создал мужчина. По своему образу и подобию.
Веня часто кажется мне Васей, безрассудно-отважным, но при этом трогательно-беззащитным. Его все боятся, а он трепещет перед «колдуном», то есть, перед непостижимостью собственной природы. И потому со страху посылает колдовские чары, как истинный мачо, на х…, в антураж дешевого борделя. А потом приседает, зажмуривается и ждет грома небесного, вслед за которым он – ни секунды в этом не сомневается – превратится в Васю.
Что же это получается: пишет роман Платон, а за вдохновением обращается к Вене?
Все никак не удается описать самое сладкое и главное для романа – как мы миримся с Алисой, как мы благодарим друг друга за то, что сумели остановиться на грани. За то, что мы победители. Как мы смотрим друг на друга новыми глазами, бесконечно верим друг другу и где-то про себя понимаем: Платон + Веня = Начало Пути. Алиса + Венера = Тоже Начало Пути. Мы учимся укреплять свою любовь, не подпитывая при этом ненависть. Это большой труд. И немного фокус. Трюк. Далее формулы обогащаются и принимают только нам внятный вид:
(Алиса + Венера) + (Платон + Веня) = Любовь.
Гигантюку и не снилось.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.7.
Темнота.
Перистые облака были похожи на барханы, если смотреть на них с высоты перистых облаков.
Мы беседуем с Икаром, словно два бесстрашных аса, допустивших одну единственную, ставшую, однако, роковой, ошибку.
– Нет, – говорит Икар, – какой, к черту, штопор и зефир! В литературе по моей проблеме все описано верно: Солнце расплавило воск, крылья расклеились и я полетел вниз. Однозначно.
– Как же так, – горячусь я, – чем дальше от Земли, тем меньше тепла. Доказано наукой. Как твои крылья могли расклеиться! Ты каким воском пользовался?
– Обычным, пчелиным.
– Никаких добавок?
– Что такое добавки?
– Ну, да, ты же в другие времена жил… Как-то бесхитростно все у тебя: увидел Солнце, полетел и обжегся. А какого рожна, кстати, летел-то?
– Любопытство одолело. Дай, думаю, махну к светилу, а оно как въ…бало своими лучами…
– Есть версия, что ты, типа, к истине приблизился, стремился к Разуму. Люди этого боятся пуще Солнца.
– Что такое Разум?
– Понятно. Ты, я так понимаю, к Разуму не имеешь никакого отношения?
– Да какой там Разум! Говорю же тебе: воск расплавился…
– Ну, да. А такой красивый миф о тебе сложили. Прямо песня. Заслушаться можно. И я вот уши развесил…
К Солнцу стремился Икар, крыльями тьму разомкнув;
Чу! вдруг податливый воск с перьев закапал изрядно.
Будет тебе, пчеловод! Сто ты получишь плетей!
Это ведь ты виноват, в том, что Икар – не Гагарин.
– Я в поэзии не силен, как говорится, ямба от хорея не отличу… Слушай, тут ко мне Мария пристает со всякими вопросами, герой я или не герой… Чего хочет эта баба?
– Кажется, я знаю, чего она хочет.
– Иди ты!
– Нет, нет, не то, что ты подумал. Она пытается докопаться до истины, убедиться, что люди постепенно умнеют, от эпохи к эпохе становятся все умнее и умнее. Интеллект – вот конь прогресса, а разум – всадник.
– Что, правда, что ли, умнеют?
– Я в этом убежден. Тянутся к Солнцу, осваивают космос. Становятся все более и более интеллектуально развитыми. Некоторые и разумом мужают.
– Хочешь, открою тебе одну тайну, раз уж у нас такой душевный разговор зашел?
– Про Дедала, отца своего, станешь ты мне говорить?
– Нет, не про него; про него в следующий раз. Тоже еще тот фрукт – палец в рот не клади. Одна история с куропаткой – Perdix perdix — чего стоит… А корова для Пасифаи? А рабыни? Ни одну тунику мимо не пропускал. Тьфу! Нет, Дедал, слышь, не мой герой. Я про Гомера расскажу. Знаешь, как он ослеп?
– Ну, мало ли причин живому в этом страшном мире остаться без зрения…
– Он первый воспарил к Солнцу. Он, а не я.
– И как ослеп?
– Острые и горячие лучи Солнца выжгли ему глаза. Перестал видеть – вот память и обострилась. Потому и запомнил всю «Илиаду» и «Одиссею» до конца. Вот я сколько ни пытался – ни фига не вышло. Не дал Зевс памяти, обнес, сука, дарами своими. А знаешь, кто реальный автор этих поэм?
– Не знаю, откуда ж мне знать. Сейчас я, полагаю, услышу сенсацию?
– Вообще-то, это всего лишь слухи, так сказать, официально не подтвержденная версия. На Крите болтали разное. Но склонялись к мысли, что … (тут он понизил голос – П.) – это наше все.
– Кто, кто?
– Минотавр в пальто. Сам попробуй догадаться. Это же элементарно.
– С чего ты взял, что я могу догадаться?
– Как с чего? Ты же у нас… (тут он вновь понизил голос – П.)
– Кто, кто?
– Да ладно прикидываться, на Крите любой сопливый мальчишка, еще даже не сведущий в эротике, это знал!
– Ты думаешь, и я там был?
– А то!
– Ты мне столько загадок задал – просто голова кругом.
– Как будто в лабиринт попал? Это мне знакомо.
Темнота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.7.
Я должен был ехать сразу в Рим, но я решительно воспротивился и изменил маршрут: сначала из Венеции во Флоренцию. Потом опять в Венецию. И только потом в Рим. Зачем такие зигзаги?
Зигзаги – только для непосвященного. Я хотел побывать во Флоренции по причине отчасти прозаической: именно там Алигьери встретил прекрасную флорентийку Беатриче, именно там зародилось чувство, которое впервые в мире будет названо «духовным единством души с любимым предметом»; уже тогда Данте назвал любовь «разумным» чувством, «стремлением к истине и добродетели». Казалось бы, что здесь такого?
Он поставил любовь в один ряд со «стремлением к истине и добродетели». Он привязал чувства к разуму. Это называется не просто опередить свое время; это называется навсегда опередить любое время, какое бы ни стояло у вас на календаре. Данте каким-то сверхусилием, посредством невероятного прозрения единожды и однократно – легко при этом, невероятно легко, вдохновенно! – вознесся на 9 уровень, просочившись сквозь гносеологические барьеры и ловушки. Как он, по-вашему, проникся идеей кругов, пусть не спиралевидных, не переходящих друг в друга, но все-таки кругов, иерархически расположенных?
Вряд ли он был подготовлен к этому, вряд ли сам понимал, что ему удалось совершить. Но такие вылазки за пределы возможного, непонятные и никому не нужные сегодня, подготавливают завтра – если, конечно, оно наступит. Наше будущее должно охранять настоящее и корректировать прошлое. Будущее в каком-то смысле важнее прошлого и настоящего.
Прошло 700 лет. Данте как не понимали тогда, так не понимают и сейчас. Я испытываю особого рода слабость к таким вот феноменам: к простым, но глубоким вещам, которые навсегда опережают любое время, в какое бы ни жил человек. Я постоянно в поисках 9 уровня, который всегда рядом, всегда под рукой, но недосягаем при этом, словно какая-нибудь звезда Плутон. «Евгений Онегин» – именно такая вещь. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». И в конце – любовь, как искупление всему, как победа над презрением. Пушкина не понимают всего 200 лет. Александр Сергеевич еще молодой лишний. Но на нем навсегда незримый отпечаток 9 уровня. Именно в этом смысле он избранный, ни в каком другом. А во лбу звезда горит, звезда Пентагон…
Я хочу сказать, что 9 уровень достижим, он уже неоднократно бывал достигнут. И следы этого уровня даже зафиксированы на материальных носителях. Вот я держу в руках томик «Онегина», вот читаю, вот прикасаюсь к этому уровню, проникаюсь им, впускаю его в себя или, если угодно, проникаю сквозь игольное ушко (весь мой ментальный состав волнуется и реструктурируется) – и вдруг, заряженный энергией этого уровня, выхожу в жизнь, чтобы мгновенно сообразить, что я не от мира сего. Хотя именно я, и никто иной в такой степени, являюсь плотью от плоти этого мира. Я. От мира. Сего.
А вот Сократ с Платоном уже поболее Александра Сергеевича ворочаются в гробу. «Есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество». Это Сократ. Вопросики есть? Знание – это познание, мышление, понимание. Если Сократ прав, то история человечества представляет собой череду предсказанных унылых катастроф. Скука.
Скажу больше: истории пока нет. Есть только миг, за который все судорожно хватаются.
А вот Платон, тот самый Платон, то есть, не я, хотя я бы наверняка сказал нечто подобное, если бы меня не опередили более чем на 2000 лет (тут уже погрешность в 300–400 лет ничего не решает). «…Мы считаем самым ценным для людей не спасение во имя существования, как это считает большинство, но достижение совершенства и сохранение его на всем протяжении своей жизни». Вопросики?
…Флоренция встретила меня дождем, самым обычным пошлым дождем, словно во времена Авраамовы, что меня чрезвычайно порадовало. Если бы я попал в рай на земле, то можно было бы подумать, что любовь могла зародиться только здесь, в этом бесподобном уголке мира. Но дождь был таким обыкновенным, белорусским, что я воодушевился. И я живу точно под таким же сереньким небом. И к нам заглядывает солнце. «В сто тысяч солнц закат пылал» – это же случилось совсем недалеко от нас, в Москве. В одной стране. Что мешает мне испытать то, что когда-то испытал Алигьери?
«Ты, Платон, вместе с Данте, Пушкиным, еще парой троек безумцев – одной крови» – вот о чем шептал мне дождь.
Зачем же мне было возвращаться в Венецию?
Дело в том, что по дороге из Венеции в Равенну, по дороге, петляющей между берегами Адрии и болотами По, заболел малярией и умер бесподобный Данте. Могила великого Данта меня интересовала меньше всего: могилы как раз у всех одинаковы. А вот выехать из Венеции в последний путь, дорогой бессмертия, Via Dolorosa – это было мне любопытно.
«В последний путь» и «дорогой бессмертия» оказались такими же заурядными вещами, как и дождь во Флоренции. Никаких особенных эмоций, ничего сверхъестественного.
И вот я в Риме. Столица империи, которая, как имперская Москва, разрасталась кольцами-кругами, словно гигантский амфитеатр, вопреки моим ожиданиям, вовсе не показалась мне городом мертвых душ. Напротив, вечный город также воодушевил меня. Житель Рима всадник Публий Овидий Назон написал здесь свою «Науку любви» – я ни на секунду не забывал об этом. Я слонялся по музеям, пытаясь, насколько это возможно, восстановить связь времен – хотя бы протянуть отдельные ниточки от событий тех лохматых годов в наши дни. В одном из музеев я, наконец-то, уяснил себе, что значит приветствовать жизнь звоном щита. Это не пустая метафора. Я постучал по щиту легионера. Звук был гулким, не пустым. Казалось, воин в латах, одного со мной роста (исполин когда-то), подмигнул мне.
Почему я опасался увидеть Рим столицей мертвых душ?
Потому что Гоголь, вслед за Данте, писал здесь свою бессмертную поэму в трех томах?
И да, и нет.
К Риму, городу, где я никогда не был, у меня давно, сколько себя помню, сложилось личное отношение. Нет-нет, Ромул и Рем, персонажи школьной программы, вскормленные огромными сосцами черной волчицы, здесь не при чем. Дело в следующем.
Николай Васильевич Гоголь, учащийся Нежинской гимназии, где, вероятно, также изучали историю Древнего Рима, а возможно, и «Метаморфозы», получил от одноклассников прозвище «мертвая мысль», то бишь, «Мертвая Мысль».
Я совершенно не удивился, когда узнал о судьбоносном прозвище. Я в принципе не сомневался, что Гоголь, гений «мертвой мысли», должен был обнаружить свое равнодушие к ней и в жизни, что не ускользнуло от злого ока доброй детворы. Поэтому я не то, чтобы обрадовался такому «убедительному» «доказательству»; для меня просто все встало на свои места: именно «Мертвая Мысль» должна была породить «Мертвые души», и никак иначе.
«Мертвая мысль» как нечто одушевленное, как предтеча «Мертвых душ» – как вам такой поворот мысли?
Феномен «Мертвых душ» – это феномен «мертвой» – бедной, скудной, не восприимчивой к диалектическим метаморфозам – мысли, и доказать это несложно.
Тут интересно другое. Почему так упорно Гоголь считается мыслителем, едва ли не гениальным мыслителем-провидцем, вставшим в один ряд с другими мыслителями, с тем же Пушкиным, например? Или Овидием?
Кому и почему выгодно гальванизировать этот хилый миф?
Думаю, все дело в том, что Гоголь на радость дуракам доказал следующее: ум литературы – это ее глупость. Это несказанно порадовало целую армию писак. Это отворило ворота на Парнас.
Писатель, не бойся выглядеть, и даже быть глупым, если ты умен – это одно.
Писатель, не стесняйся того, что ты глуп, все равно тебя будут считать умным – это несколько иное.
Гоголь стал великолепным аргументом против Пушкина. Если мы живем в мире, где «Мертвые души» без ущерба для репутации можно считать глубже, умнее «Евгения Онегина», то шутки в сторону. Мир в опасности. Danger. Если размечтаться, я бы очень желал шепотом спросить у Пушкина: зачем Вы подбросили Николаю Васильевичу идею «Мертвых душ»?
В общем, у меня были сугубо личные причины полюбоваться городом, где «мертвая мысль» рождала гениальные «Мертвые души». И что же?
Я был разочарован. Город как город. В нем можно было вполне написать и «Онегина». Вполне. И «Чайльд-Гарольда». И «Метаморфозы». С другой стороны, «Чайльд-Гарольда» можно было написать и в Венеции, как, собственно, и «Мертвые души». А «Метаморфозы» можно было спалить так же, как второй том «Мертвых душ».
Вывод напрашивался сам собой: не место создает шедевр, а шедевр – место.
Вечером я вернулся в номер гостиницы, лег на диван, достал из загашничка таблеточку. Я намерен был предпринять тайный вояж туда . У меня накопилось несколько жгучих вопросов к Марии. Мне надо было освежить память.
Что такое память?
Когда-то я помнил, что это такое. Сейчас забыл.
Наутро я никуда не заходил и прямиком отправился в Венецию, где с нетерпением ждал меня Веня.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.7.
Мне надо было в срочном порядке завершать добровольно взятые на себя перед мирозданием обязательства – достраивать свою вселенную, то есть разрушать ДН ПП изнутри.
Почему – в срочном?
Потому что всему свое время, время собирать из камней мифов ДН Плутон и время разваливать цитадель; время задумывать роман, время вынашивать его и время завершать. Время писать роман и время растить ребенка. Время жить, время умирать и время возрождаться.
Но роман дозревал ни быстро, ни медленно – как ребенок, в соответствии с законами внутреннего развития, и невозможно было форсировать этот процесс, опираясь на свое желание. И приступы вдохновения здесь ничего не решали.
Однако зрел не только роман параллельно с плодом ребенка; зрел и сам Платон. А также Веня. И Алиса. И многие другие.
За прошедшие 9 месяцев Платон во многом изменился.
Вначале, когда автор жил во время мучительного вынашивания и быстрого, облегчающего записывания романа, он с восторгом угадывал тайные мысли и действия Вени Гербицита. Более того, он научился опережать своего противника на шаг везде и во всем. С Веней не соскучишься – потому что Барон часто удивлял себя самого и себе подобных.
Но не Платона.
Казалось бы, игра сделана больше, чем наполовину. Однако добить Фантомаса никак не удавалось. Более того, Хозяин начинал диктовать свою волю в самых непредсказуемых условиях. Босс уверовал в свою вечную жизнь, и Платон знал, что Великий Диктатор в чем-то прав. Убить Адольфа романными средствами никак не получалось; его можно было уничтожить вместе с романом. Но роман, как ребенок в утробе, развивался, чтобы родиться, а не погибнуть. Роман, не важно, написанный или еще не написанный, уже существовал. Джин уже ожил.
Вот почему, когда пришло время завершать роман, Платон перестал аплодировать себе; он стал себя опасаться.
«Откуда я так хорошо, во всех гнусных подробностях и деталях знаю Веню? Откуда это страшное знание? Какая сука надиктовала мне эту сагу?»
Но ведь знаю же! Никто так хорошо не понимает и не чувствует Веню, как я, Платон. Никто.
Уважение к себе произрастало из страха. Только критики-интеллектуалы считают, что писатель должен перевоплотиться в своего героя. Автор знает, что ни в кого перевоплощаться не надо. Надо, увы, добросовестно быть самим собой. Здесь и сейчас. И тогда все, к сожалению, получится.
И Платон стал относиться к себе как бы со стороны – как к Вене. Искусство видеть себя со стороны вовсе не такое безобидное, как может показаться на первый взгляд. Вместе с беспристрастным и объективным взглядом рождается беспокойство – беспокойство от незнания и неприятия себя. Совершенно беспристрастный человек перестает любить себя и, в конце концов, прекращает дружить с собой. И что же происходит дальше?
Правильно. Браво, говорю вам. Платон перерождается в Веню. И никакого перевоплощения, обратите внимание; сугубое перерождение: на костях Платона взрастает Веня. Всего лишь оборотень. К чему я клоню?
Правильно. Бросишь камень в Веню – попадешь…
Правильно. Лучше не произносить имени того, в кого попадешь.
Не стоит разбрасываться камнями, ибо: попадешь в того, в кого следует.
Вот почему Платон стал тщательно собирать доказательства того, что он никогда не общался с тем «Веней», о котором написал роман и которого он так изумительно чувствовал на клеточном уровне. Никогда.
Но было поздно. Джин, как говорится, уже был выпущен из романа.
– Как же мы назовем нашего малыша? – поинтересовался как-то Платон у Алисы.
На душе было невыразимо блаженно, как бывает, когда наблюдаешь летнее закатное небо. Курчаво-белое нутро облаков тронуто розовым, все это почти воображаемое неземное благолепие (смотришь-то ведь закрытыми глазами) живописно расположилось на ласковой глазури (может, так и возникло когда-то рождаемое здесь и сейчас «блюдечко с голубой каемочкой»?). Возраст эмоций, которые вызывает такой закат, вечно юн.
Видно было, что вопрос мой не застал ее врасплох.
– Мы назовем его Веня…
– Как?! – вырвалось у Платона.
– Дорогой мой, ты привыкнешь, оно благозвучно, многозначно. Венедикт Платонович… У меня мурашки по коже. А у тебя – нет?
– У меня – да.
Для счастья мне не хватало одной способности: отворачиваться от близких мне людей, какими бы сомнительными сторонами те ни изволили повернуться ко мне. Иначе говоря, у меня была одна способность, делающая меня несчастным: рано или поздно окружающие меня люди становились мне дорогими.
– А может…
– Что, дорогой?
– Может, как-нибудь Платон Платонович?
– А ты уверен, что хочешь этого?
«Хочу ли я?» – спросил я сам себя.
И я не нашел в душе своей твердого ответа на продиктованный слабостью вопрос.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.7.
– Тссссс! – Магус выставил указательный палец вверх. – Только ни о чем меня не спрашивай и не пытайся понять: Босс сейчас будет здесь.
– Что значит – сейчас?
– Сию секунду.
– Магус! Кто дал тебе скарабея? – я невольно понизил голос.
– Мария!
– Магус! Ты жалкий лгунишка. Не ври мне!
– Клянусь землей и временем! Тссссс!
И правда: дверь отворилась, Веня вошел.
– Соскучились? – поинтересовался этот свободный человек, как ни в чем не бывало, словно продолжая телефонный разговор.
– Ты что, звонил из соседней комнаты?
– Нет, из ДН ПП.
– Это правда, правда, – подтвердил Магус.
– Как я оказался здесь в мгновение ока? Видишь ли, время и пространство – загадка для философов; для тех же, кто обживает пространство и время, кто живет в них, загадки никакой нет: либо ты ставишь их себе на службу (хотя принято думать, что Пространству и Времени, этим господам вселенной, можно только услужливо покоряться), либо сам становишься слугой. Пока мы живем, время и пространство работают на нас; когда мы умираем, они перестают для нас существовать. И в таком порядке вещей сокрыты наши кратковременные победы и торжества. Мы тоже можем показать язык вечности. Единственный способ у времени и пространства заставить нас покориться и служить себе – сделать нас бессмертными. Но в этом гиблом деле, по ходу, даже они бессильны.
– Знаешь, Веня, этот монолог ты украл у меня, хотя я его и не произносил никогда. Но он – мой.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Мой образ мыслей постепенно становится твоим…
– Не обольщайся. Я – это я, и ничего с этим не поделаешь. И ты мне нужен именно как ты. Я делаю ставку на тебя. Ты поможешь мне узнать, где располагается центр управления космическим оружием, которое уже создано давным-давно, и у кого кнопка – неизвестно. Кто-то уже давно контролирует мир, Плато! И не там, на небесах, а здесь, на Земле.
Я ничуть не удивился и произнес расслабленным голосом:
– Так называемая кнопка, то есть, центр управления космическим оружием, которое создано не так давно, как кажется, находится в Риме. Точнее, под Римом. Там сидит тот, кто контролирует мир, Веня!
– Откуда ты это знаешь?!
– Ты хочешь сказать, что это невозможно?
– Плато, не шути. Этим нечего шутить, – сказал он сердито.
– Ладно, – сказал я. – Постараюсь донести до тебя ход своих мыслей.
Я говорил уверенно, как несколько минутами ранее с Магусом. Я славно размялся, и теперь творил чудеса. Ворожил.
– Конечно, я насторожился, когда ты отправил меня в вояж с Магусом. И я, конечно, знал: что бы ты мне ни сказал и что бы ни говорил мне Магус – это будут отвлекающие маневры. Лапша на уши. Истинную цель путешествия ввиду ее невероятной секретности и важности я знать попросту не мог. Следовательно, необходимо было предположить самое невероятное. Самое невероятное – пустить козла в огород, то есть, хочу я сказать, доверить мне заниматься делами, жизненно важными для тебя. В каком-то смысле доверить мне твою жизнь.
Веня молчал.
– Что есть главное для тебя? Победа в схватке, которую ты ведешь с каким-то очень сильным противником. Это – цель, все остальное для тебя – средства. Судя по всему, тебя уже стало поджимать время. И ты решил достать туза из рукава. Джокера. Меня. Тебе не удалось обнаружить противника посредством разведки, анализа химического, физического, экстрасенсорного. И ты сделал ставку на неведомый тебе анализ философский. Казалось бы, что за бред! Какая философия, когда речь идет о войне!
И ты оказался прав. Загадка не в философии, но в мышлении, в законах мышления. В архетипах. В философии психологии, в философии бессознательного. Ты бы мог и сам догадаться. Ведь рыбак рыбака видит издалека. Но ты слишком «уважаешь», то есть, боишься, противника, ты утратил способность видеть его со стороны. Страх заставил тебя переоценить его. А я – и ты это прекрасно понимаешь – не боюсь ни тебя, ни его. Итак…
Итак, я давно мысленно шел по следу простой фразы: все дороги ведут в Рим. Мне хорошо известна психология сильных мира сего: им надо не просто победить, им надо на корню извести противника, сжечь и развеять его пепел. Иными словами, мало убить, надо унизить врага. Провести как мальчишку, обвести вокруг пальца. У него под носом, открыто провести свою тайную операцию. Тем самым сотворить легенду, миф о своих выдающихся достоинствах. Люди помнят только те сражения, которые овеяны мифами. Легкая победа не делает тебя легендой. Вот ты, разместившись возле Вилейского водохранилища, поступил точно так же: расположился в самом пекле, в непосредственной близости от оружия, которое дает власть над миром и угрожает прежде всего тебе. Это парадоксально. Точно так же решил тебя провести твой противник. Любой дурак знает, куда ведут все дороги: они ведут в Рим, столицу некогда могущественной империи. Именно поэтому враг твой спрятался в самом видном месте. Никто не будет искать там, где следует искать прежде всего. Да и попробуй надежно укрыться на Земле! Каждый клочок под контролем. Боже мой, наша планета давно уже стала квартирой о пяти комнатах. Играть в прятки давно уже нереально.
Когда ты послал меня в Италию, в Венецию, я понял, что моей целью станет Рим, хотя и не знал еще, что можно искать в Риме. И предчувствие меня не обмануло. От мира до Рима – один шаг. В направлении друг другу.
Ты сделал ставку на разум в битве интеллектов. Не так ли?
– Мне надо отлучиться. Меня ждут великие дела, – сказал Веня. – Время вышло, терпение кончилось, жребий брошен. А ты мне еще пригодишься, Плато… Пока ты меня не слишком разочаровываешь – в общем и целом.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.7.
Луна, казалось, прильнула круглым ликом к самой середине окна, внимая моим речам.
Пушкин, облаченный в элегантный, стройнящий его камзол, примирительно скрестил руки на груди. Но во время своего спича он отчаянно жестикулировал руками.
– Хорошо. Сказано неплохо. Мы не требуем от вас извинений. Верно, господа? Глупо требовать более того, что вы можете дать. Но попытайтесь встать выше аристократической обиды – сиречь напрячь мозги. По крайней мере, двоих из нас – Гомера и Шекспира – не существовало; во всяком случае, вам весьма непросто будет переубедить нас в обратном. Понятно, что это не отменяет величия «Гамлета» и «Улисса». Но в какое положение вы ставите меня, дворянина и аристократа Пушкина, который вынужден находиться в компании двух мифических существ и одного не проснувшегося лжефилософа? Авторы «Гамлета» и «Улисса» не могут вести себя так, как ведут себя эти шуты, скорее всего, плоды вашего неуклюжего воображения. Из солидарности с гениальными создателями бессмертных творений, под коими я имею в виду «Гамлета» и «Улисса», я тоже веду себя как шут. Именно потому, что я не шут гороховый. Моя особая признательность лорду Байрону: он понял меня с полуслова. И, как видите, поддержал.
Избранное общество вопреки моим ожиданиям хранило молчание, с любопытством ожидая дальнейшего развития событий.
– Далее. Кто таков Мигель де Сервантес Сааведра? Сохраняйте хладнокровие, солдат морской экспедиции и сын бедного хирурга. А также комиссар по закупке пшеницы, ячменя и оливкового масла в Андалусии для «Непобедимой Армады» Филиппа II. В этом нет ничего зазорного, разумеется, однако при чем здесь духовный аристократизм? Комиссары глубоко чужды аристократии. Я бы рекомендовал считать последнюю мою фразу пророчеством, если бы оно уже не сбылось. Продразверстка – глубоко не аристократическая работа; к тому же она была неблагодарной и опасной. Два раза Сервантесу пришлось реквизировать пшеницу, принадлежавшую духовенству, и хотя он выполнял приказ короля, его отлучили от церкви. В довершение несчастий он попал под суд, а затем в тюрьму, поскольку в его отчетах усмотрели нарушения. Что произошло с его рукой – неизвестно; возможно, ее просто отрубили за воровство. Я ничего не утверждаю, спокойно, я лишь хочу подчеркнуть сомнительность кандидатуры в номинации «сеньор благородство». В тюрьме, кстати, он и начинает свою шнягу об идальго. «Дон Кихот» – вещь сомнительная, чтобы не сказать окололитературная. Благородство вообще скользкая тема; она коварно граничит с пошлостью.
В связи с этим у меня возникает вопрос: в каком смысле вы, идальго Платон, надеялись и рассчитывали на меня, приглашая в подобную кампанию? Я, русский мещанин, могу пожать руку этому бродяге и авантюристу, но я отказываюсь считать его равным себе. Кихот – клинически лишний, а не духовно лишний.
За столом возник ропот. Поэтому Пушкин продолжил скороговоркой:
– Далее. Вам угодно было пригласить поэта-романтика лорда Байрона. Не хочу никого разочаровывать, но пригласили вы Джорджа Гордона Байрона, циника и весьма тщеславного глуповатого господина, к тому же падкого на светские удовольствия и лесть. О каком достоинстве вы говорите? Всю тоску по достоинству он выплеснул в свои гениальные произведения. Вам следовало бы пригласить не лорда Байрона, а Чайльд-Гарольда, если вы понимаете, о чем я. Далеко не каждый творец в жизни соответствовал тем критериям, за которые он ратовал в творчестве. Уважать его как художника – это одно, а как человека – это иное. Вертер застрелился, а Гете, сын зажиточного бюргера, нет. Кого вы в результате пригласили? Рассудительного господина министра? Рад за вас. Темы Данте и Беатриче я даже касаться не буду: это романтично до неприличия. Сплошной сироп. Хотя с этой любовью все так запутано… Знаю по себе. Ладно, Бог с ней, с Беатриче. Алигьери гигант, и точка на этом.
Что получается в результате, г. Платон?
Вы заставляете меня, и, смею надеяться не только меня, вы заставляете нас, как вы изволили выразиться, «недостойным поведением» протестовать против попыток спутать нас с нашими персонажами. Только избранные из избранных живут так, как пишут, и пишут так, как живут. (Под сказанным я разумею следующее: достойно личности пишут и так же достойно живут.)
– Mein Gott! Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет! – изрек Иоганн Вольфганг, умудрившийся развернуться сразу ко всем присутствующим своим патрицианским профилем.
– Вот именно! Целомудренна та, которой никто не домогался, – вставил свой эрудированный пятачок вездесущий граф.
– Суха теория? Отнюдь! – горячо возразил я. – Теория – это жизнь. Сегодня если и зеленеет древо жизни, то лишь потому, что оплодотворено оно теорией. Нет ничего практичнее хорошей теории. Нет ничего жизнеспособнее хорошей теории. Теория – входит в состав культуры; древо жизни совокупно с мыслящим тростником – это дремучая натура. Так вот противопоставление натуры и культуры сегодня методологически неверно…
– Те-те-те… Договорились до того, что перестали различать автора и героя! Что же, по-вашему, Шекспир и леди Макбет – едино суть?? Гомер и Одиссей – одна сатана?
– Вы хотите сказать, что не являетесь автором бессмертной «Одиссеи»?
– Никак не могу привыкнуть к вашей лживой диалектике! Скажешь одно – тебя тут же обвинят в другом!
– Александр Сергеевич! Вам угодно утверждать, что вы и Онегин суть разные лица. Но не может же человек, у которого в душе нет ни капли онегинского, создать своего героя! Я же читал ваши письма жене!
– Не тебе, не тебе – а имени твоему. Не Пушкин, а Онегин в Пушкине – вот кого вы желали бы видеть пред своими сонными очами, если так понятнее. Вот кому адресованы ваши упреки. Мифу!
Отсюда следует: статус мероприятия – чествовать элиту элит – явно не соответствует (по разным причинам) составу участников вышеупомянутого мероприятия. Элиту элит пригласить на вечеринку практически невозможно даже во сне, вот что самое печальное. Это даже утопичнее, нежели создать «идеальное государство».
Засим я готов откланяться, упомянув, однако же, последнее.
Кто таков Платон Скарабеев? Это даже не Уильям Шекспир. Имя сего театрального господина хоть связано с Гамлетом. А с чем связано ваше имя? С нелепостью «Платонов – Невтонов»? Скажу вам как поэт: Платон для уха русского влечет цепочку малоприятных и малоприличных ассоциаций. Судите сами: Платон – питон, планктон, понтон, бульон, моветон… A propo: зачем же читать письма, адресованные не вам?
– Но ваше глубоко личное я нахожу и в «Онегине»! Наверное, я по Пушкину судил обо всех классиках. Типичная методологическая ошибка…
– Ох, уже эти идеалисты… Я же эфиоп, явно не эталон. Впрочем, от русского Платона можно кое-чего ожидать.
– У меня к вам просьба, – сказал я, торопясь.
– Какая? Не уверен, что все, о чем вы просите, следует исполнять. Обещать ничего не буду. Но я выслушаю вас. Поспешите. Публика на нерве.
– Поставьте на скатерти ваш автограф. Подлинный.
– Зачем?
– Давайте рассудим здраво. Вас же нет. И меня нет. И ничего этого под луной также не было. И быть не могло. Чего вам стоит? На нет и суда нет.
Он улыбнулся и взял в руки уже опробованное стило.
– Вот здесь, между профилями казненных и профилями милых дам, будьте любезны…
Он, наконец, внимательно и без пренебрежения взглянул на меня и решительно поставил размашистый автограф, пробубнив себе под нос:
– Однако вы большой жук, Скарабеев…
А внизу, ближе к бахроме, приписал:
«Платон не так прост, как помнилось Гомеру слепому.
И всех он еще удивит; но я его первым заметил».
Тут я проснулся (полная луна, отпрянув от окна, сместилась на противоположную сторону неба) – и прямо-таки расплакался от злости. У меня ведь было пару каверзных вопросов к Гомеру и Шекспиру. Они – я уверен! – в точности знали, кому выгодно было взвалить на них бремя авторства. В течение веков быть великими анонимами. Великий никто, написавший великое ничто. Мне их было жалко, о зависти не могло быть и речи. Чему завидовать?
А каково маяться авторам «Гамлета» и «Улисса»?
Посвящу я свой роман им, безымянным, но реальным.
Я верю, что у меня появится шанс когда-нибудь собрать на вечеринку самых-пресамых.
Я обвел глазами комнату, казавшуюся таинственной в лунном свете. На спинку стула небрежным мужским жестом была брошена скатерть. Я быстро развернул ее. Рисунки Пушкина были на месте. Я присмотрелся.
В профилях казненных декабристов я узнал участников вечери: Гомера, Шекспира и себя. Наши тела – палка, палка, огуречик – комично болтались на виселицах.
Палач, державший в руках петлю, был наряжен в камзол Пушкина.
Пустое, задранное к небу лицо палача с торчавшей длинной худой бороденкой издевательски напоминало цифру 9.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.8.
Звезда Пентагон
Рынок, демократия, религия, секс, национализм – это инструменты диктатуры бессознательного, диктатуры натуры , с помощью которых, однако, цивилизации удалось создать не пользующиеся авторитетом высшие культурные ценности.
Целых пять китов, на которых покоится цивилизация, стремительно входящая в штопор глобализма. В принципе хватило бы первых три позиции, и дело свелось бы к классическим трем китам. Но пять лучше: у пятиконечной Системы появляется внутренняя противоречивость, гарант устойчивости. Пятиугольник легко принимает форму замкнутого круга (он же круговая порука, он же круговая оборона, он же тотальная агрессия: на выбор). Перед нами вписанная в пять углов звезда Пентагон, украшающая древо цивилизации, похожее на пирамиду или рождественскую ель.
Итак, рассмотрим все пять позиций по порядку.
1. Рынок. Почему на рынке, на базаре правилом хорошего тона считается торговаться?
Принято ссылаться на традиции; специалисты утверждают, что в Коране даже есть страницы, где недвусмысленно указывается на необходимость торговли, коммерческого диалога, который является не только знаком взаимного уважения, но и едва ли не роскошью человеческого общения.
Словом, базар – это любезное сердцу место, где принято торговаться. Иначе говоря, диалог уважаемых продавца и покупателя трактуется как социокультурная традиция.
Думаю, дело обстоит несколько иначе. Что значит торговаться?
Навязывать свою цену на товар. Если ты сумел сбить или завысить цену, проявив при этом психологический напор, агрессию, изворотливость хитрющего беспринципного интеллекта (единственный принцип – деньги не пахнут), ты продемонстрировал силу, которая выражается уже в определенной сумме. Сила дорогого стоит; собственно, стоит денег. Тебя есть за что уважать: за жизнеспособность, за умение захватывать жизненное пространство. Получается, что тебя уважают за то, что ты – слава Богу! – не способен стать культурным. Человек торгующий – это богоподобный человек, ибо он ведет себя по образцу и подобию Всемогущего Господина: выстраивает отношения с миром с позиций абсолютной силы.
Все дело в силе. Деньги и торговля как способ их добывания – экономический эквивалент силы, а сила – решающий аргумент в эпоху культа бессознательных отношений. Вот почему умение торговаться стало одной из моральных ценностей homo economicus`а. Цивилизация сделала ставку на концепцию «человека экономического», homo economicus`a (культура же пока стыдливо ориентируется на «человека разумного», не понимая пока толком, фантом это или неизбежная перспектива). Этот экономический homo, если не считать нескольких антуражных Библейских заповедей, создан из двух прабиблейских канонов, сформулированных еще в дописьменную эпоху и отражающих реальные потребности реального человека. Первый гласит: кто сильнее, тот и прав. Второй вторит: все на продажу (сильнее, разумеется, тот, кто посредством второй эффективнее реализовывает первую заповедь). Чтобы выяснить, кто на свете всех сильнее («чьи в лесу шишки?»), необходим такой инструмент, как демократия.
2. Демократия. Итак, культ силы, силовая регуляция всех отношений – экономических, политических, нравственных – вот «духовный» (точнее – волевой, более природный, нежели культурный) стержень человека цивилизации.
Рынок – продление природной (силовой) регуляции, где деньги превращаются в эквивалент силы; однако «культурная», «духовно-правовая» легитимизация рыночных отношений начинается с политики, а именно: с высшей ее формы, демократии, при которой «простой» (то есть неспособный мыслить) человек свободным волеизъявлением выбирает отчего-то исключительно рыночные ценности. Никогда не ошибется. Ему подсказывают сердце и желудок.
Демократия – это возможность для сильного жить за счет слабого. Своеобразный гуманизм демократии можно увидеть в том, что бесчеловечный принцип «побеждает сильнейший» (отчасти, согласимся, справедливый принцип) распространяется на всю парадигму социальных отношений и принимает форму «честных» правил игры. Демократия – это проекция природных отношений на социум, своеобразный социальный дарвинизм, «гуманитарная» аранжировка базовых (природных) потребностей. Демократия создает и поддерживает оптимальную среду для развития рыночных отношений. Демократия не могла не появиться; если есть рынок – рано или поздно появляется и демократия. Рынок содержание отношений, демократия – форма.
Вот почему демократия выгодна сильным в первозданном, природном смысле (а кажется, что выгодна самой культуре), она стоит на страже интересов рыночных чемпионов, и никто в такой мере, как сильные мира сего, не заинтересованы в том, чтобы демократия торжествовала во всем мире. Экспорт демократии, проходящий по статье «благие намерения, то бишь гуманизм», становится формой агрессии (все той же диктатуры натуры).
Демократия – это возможность для одного представить базовые (прежде всего – экономические) потребности всех людей в таком выгодном для них свете, чтобы они доверили ему представлять свои интересы на политическом уровне. Америка – страна образцовой (безо всякой иронии) демократии. Именно в Америке возможности демократии реализованы с впечатляющей полнотой. Америка сделала ставку на витальные и обслуживающие их ментальные (не культурные) потребности человека (см. ниже два «глобальных» заповедных канона, основу нынешней транснациональной идеологии – глобализма). Это естественно и по-своему правильно – в том смысле правильно, в котором лев пожирает антилопу. Но она исключила из потребностей человека права личности – и это катастрофа. Демократия сегодня плоха не тем, что неэффективно обслуживает права человека, а тем, что делает это с пугающей эффективностью – тем, что обслуживает потребности натуры, а не культуры, homo economicus`a, а не homo sapiens`а.
Отсюда и все большее разочарование в демократии на фоне экономических триумфов и того «железного» факта, что противопоставить демократии вроде бы и нечего. Разочарование в демократии приводит к разочарованию в человеке.
А действительно: что же можно хотя бы теоретически противопоставить демократии?
Для этого, прежде всего, надо что-то противопоставить «рынку» как экономическому содержанию человеческих отношений. А тут и «выдумывать» ничего не требуется: сама жизнь (натура!) стихийно (бессознательно!) противопоставила стихии рынка идею регуляции (уже нечто из арсенала культуры); «цене», категории рыночной, уже давно противопоставили «ценность», категорию культуры. Проблема в том, что «рынок» пока регулируется, так сказать, в пределах и рамках своей первозданной функции, не утрачивая своей самотождественности. Где та грань, за которой количество перейдет в качество, – за которой «рынок» из содержательной категории превратится в инструмент диктатуры культуры и в новом своем качестве станет выполнять функции ограничения прежнего «рынка»?
Вопрос в такой плоскости даже не ставится – ни в науке, ни тем более в общественном сознании. Это плохо. Однако вопрос в такой плоскости в принципе может быть поставлен (что мы сейчас и делаем) И это хорошо. Пожалуй, это единственная хорошая новость для рынка сегодня.
Таким образом, предпочтительнее демократии на сегодняшний день, во-первых, желание выжить (а человек экономический, не станем питать иллюзий, будет стремиться заработать на всем, даже на отсутствии перспектив выживания: на гибели потомков можно неплохо погреть руки уже сегодня); во-вторых, демократии можно противопоставить потребности личности, человека культурного (разумного), которого успел-таки породить человек экономический. С точки зрения личности, лучше, гораздо лучше демократии – диктатура культуры. В общем и целом на сегодняшний день – это утопия, не станем лукавить. Тут можно было бы и закрыть вопрос, если бы не антиутопия, ставшая реальной перспективой нашей жизни: тотальное разочарование в самой идее демократического и, следовательно, рыночного мироустройства. Рост апокалиптических настроений сегодня очевиден. Человек экономический не спасет планету Земля. Он ее уничтожит, если уже не уничтожил. Потребительское общество потребляет само себя.
Я, разумеется, не знаю, как следует осуществить диктатуру культуры, едва ли не эквивалент царства Божия на Земле. Уж, конечно, не коммунистическим методом, ибо диктатура пролетариата – это разновидность диктатуры человека экономического, которая сегодня осуществляется в форме демократии. Зато я отдаю себе отчет в следующем. Во-первых, тенденции развития человека (развития, подчеркну, а не деградации), если взять многие тысячелетия его развития, – от натуры к культуре, от человека – к личности. Факт того, что с личностью пока не считаются, сам по себе еще не является аргументом в пользу того, что с личностью не будут считаться никогда. Во-вторых, если тенденция к реализации личностного начала не будет укрепляться, человечество с его демократическими иллюзиями попросту исчезнет. Боюсь, в скором будущем вопрос будет ставиться именно таким образом: или человек становится личностью, или человек прекращает свое существование. К обезьяне уже нет возврата; только вперед – к личности.
А как же вера? Разве вера в человека, которая является производной от веры в Бога, ничего не решает?
3. Религия. В монолитной цепи «рынок – демократия» не хватает еще одного звена, превращающего жестокую, как палка, прямую в перспективный треугольник, легко принимающий форму круга, а именно: религии. Sic: рынок – демократия – религия. На этих трех китах (так и хочется сказать – на трех палках) держится цивилизация.
Почему рынок и демократия непременно нуждаются в религии?
Религия («духовность!») еще более очеловечивает рыночные (силовые) отношения, которые нуждаются в режиме демократии, – очеловечивает настолько, что вступает с ними в противоречие. «Не убий», «не украдь» – это все ограничения в правах и возможностях сильного. В православии популярна притча о том, как торговцев изгоняют из храма Божьего. Казалось бы, религия едва ли не осуждает рынок.
С другой стороны, суть западной версии христианства великолепно иллюстрируется лозунгом: «Иисус любит победителей». Иисус, вне всякого сомнения, обожает рынок и демократию, которые обожествляют номинацию «чемпион». На самом деле религия «духовно» освящает все то же бессознательное копошение, ибо вера, психогенный феномен, противостоит началу разумному (культурному). Не случайно на самой сильной валюте мира вытравлена надпись во славу Божию. «Мы верим в Бога», – написано на искусительном долларе со змееподобной эмблемой. Деньги (сила!) – это святое. И в прямом, и в переносном, и в самом что ни на есть сакральном смысле этого слова. Для людей, «мыслящих» в рыночных категориях (то есть бессознательно принимающих рыночную данность), деньги неизбежно превращаются в смысл и цель существования.
Религия осторожно намекает, что деньги, на которых, кроме заверений в верности Богу, изображены, как правило, портреты политических деятелей (а надо ли специально оговариваться, что политика – это продление экономики, все тех же рыночных отношений?), это далеко не все, что раб Божий, то бишь человек, жив «не хлебом единым». Фактически же религия, любая религия, всего лишь корректирует рыночные отношения в сторону милосердия, ибо на корню отвергает культурную регуляцию. Именно гносеологическое отрицание культуры делает религию одним из столпов цивилизации. Религия – это нечто из области прав человека, но не личности.
Цивилизация буквально молится деньгам, ибо уповает исключительно на силу. Более разрушительного в духовном смысле инструмента представить себе невозможно. Однако есть и своего рода позитив. Если ты зарабатываешь «нечестным», неправедным путем, скажем, проституцией, наркотиками или войной (под предлогом экспорта демократии), но зарабатываешь при этом много, неприлично много денег (прикасаешься к святому, богоугодному, что ни говори), ты уже отчасти искупаешь свою неправедность. Человек, карманы которого буквально набиты сакральными бумажками, предметом грез всякого нормального человека, по определению не может быть исключительно отрицательным героем.
Религия, согласимся, осуждает некоторые проявления рынка (и это косвенно свидетельствует о культурном потенциале вероучений); однако она живет и здравствует именно потому, что процветает рынок.
Я не собираюсь утверждать, что существует только один источник возникновения религии – рынок. Сказать, что рынок заказывает идею Бога, было бы абсолютизацией в информационном космосе homo sapiens только одной его составляющей – homo economicus`a.
Существует и другой, не менее (если не более) важный, источник возникновения религии.
Гносеологические корни религии целиком и полностью – в сфере психологического управления. Как и всякая форма духа, религия не случайна, то есть она не могла не возникнуть. И возникла она как служба смерти, как «вздох угнетенной твари» (К. Маркс). Она паразитирует на страхе смерти, на действительной трагичности неразрешимых «экзистенциальных дихотомий» (Э. Фромм). И действительные сущностные противоречия предлагает разрешать «легко и приятно»: иллюзорным способом. Иначе говоря, религия есть способ духовной компенсации. Лично мне такая формула религии представляется исчерпывающей. И речь не о том, насколько мешают или помогают иллюзии жизни значительной части населения Земли. Речь о соответствии типа духовности, создаваемого религией, действительным потребностям реального человека, о роли религии в выработке действительно достойных духовных программ.
Религии есть на что опираться в структуре сознания человека. Потребность в психологическом приспособлении всегда будет гнать человека под защиту «высших сил». Однако с точки зрения теоретического (научно-философского) сознания, управляющего идеологическим, никаких особых философских проблем с религией сегодня нет. Все сакральные манипуляции – чисто психологического свойства (от потребности), и идеологичность религии легко объяснима.
Истинная проблема религии – в ее своеобразной амбивалентности: теоретической несостоятельности и одновременной глубокой практической укорененности в жизни. И здравый философский смысл говорит нам, что невозможно ограничится теоретическим разрешением проблемы, у которой множество иных измерений, нравится нам это или нет.
Амбивалентность религии, равно как и амбивалентность всех прочих инструментов диктатуры натуры, объясняется тем, что натура (в интересующем нас контексте – психика) «тянется» к культуре (к сознанию), эволюционирует в сторону культуры. От низшего – к высшему; от простого – ко все более сложному; от формальной логики – к диалектике; от системного мышления – к целостному; от психологического приспособления – к разумному пониманию (познанию). Более того, логика, и даже закон информационного развития (закон сохранения информации) гласят: натура неизбежно порождает культуру и так же неизбежно видит в ней своего смертельного врага.
Благодаря религии, принципиально оппонирующей рынку, рынок и демократия приобрели гуманитарную респектабельность, «культурную» легитимность и «перспективу». Иной, «лучший» мир, судя по всему, уже не за горами.
4. Секс. Казалось бы, странно говорить о сексе, о сексуальных потребностях в контексте религиозных предписаний, особенно строго осуждающих плотские проявления человека. «Не прелюбодействуй!», «Не пожелай жены ближнего своего!»: эти библейские слоганы стали моральными императивами. Попытка обуздать коллективным бессознательным индивидуальное – налицо. Однако рынок и демократия, опираясь на иной тип коллективного бессознательного, несколько иначе относятся к сексу, товару исключительно и вечно прибыльному. Святому, потому что грешному. В связи с амбивалентными характеристиками компонентов пентагона интересно было бы рассмотреть тему сексуальности.
Строго говоря, весьма органично раздвигает треугольник до четырехугольника (который еще ближе по своей геометрии к кругу!) еще одно производное от сакральной триады: секс, наиболее актуальная идеология (светская религия) эпохи. Культ силы и секс – близнецы-братья.
Тут вот что бросается в глаза: для человека экономического, который холит и лелеет свои базовые потребности, тема «про это» стала едва ли не культовой. Виноват: именно культовой, безо всяких оговорок. Пожрать, поспать, поселиться (хлеба и зрелищ, как говаривали в старину) – вот ценностный ряд «маленького человека», думающего брюхом и подбрюшьем, активно потребляющего. Без этой темы нет демократии; можно сказать, демократия в принципе не представима без эротики и секса, поскольку ее герой, homo economicus, «думает» тем самым лобным местом. Потребление, удовольствие – его религия, и секс в этом контексте становится вещью едва ли не сакральной.
Истинный демократ чтит «Библию» человека экономического с ее золотым аморальным правилом: кто сильнее, тот и прав. Даже маленькие слабости большого человека должны быть проявлением его силы. Вот почему для него любовь сводится к сексу, а секс – к проявлению силы. Секс становится органическим продолжением демократического (силового) мироощущения и миросозерцания; если угодно, секс становится атрибутом идеологии – идеологии потребления, конечно. В политике инструментом демократии становится война, в интимной жизни – завоевание дамских сердец, то есть психологический напор, органично переходящий в насилие, агрессивный, животный секс. Отсюда и фронтовая лексика записных сердцеедов: любовный фронт, любовные победы, любовные поражения, сразить наповал, взять штурмом неприступную крепость…
Иметь кого-то, вступать с ним в половой контакт – значит, угрожать кому-то, посылать его в сторону смерти. Секс как проявление насилия: это очень естественно и органично. Мы имеем дело все с той же диктатурой натуры.
Вот почему образцовый демократ должен быть сексуально озабоченным, в противном случае это сомнительный демократ. Война (в широком смысле – насилие) и секс – два главных, неразрывно связанных между собой мотива, присутствующих там, где торжествуют рынок и демократия. Кстати, спорт, сублимация военных действий, буквально кишит секс-символами, столь любезными цивилизации. В искусстве цивилизация предпочитает культивировать образ блондинок.
Сексуальная революция парадоксальным образом не угрожает религиозным умонастроениям (а религия, в свою очередь, не в силах запретить сексуальную революцию): это ли не лучшее доказательство торжества рынка! Более того, сексуальная революция нуждается в религиозном возрождении и обновлении: одно проявление бессознательного, сексуальное, уравновешивает другое, моральное, и политика сдерживаний и противовесов вновь позволяет Системе (диктатуре натуры) обрести известную устойчивость. Кажется, устойчивость вечную.
Здесь даже богомерзкий гомосексуализм особо никого не смущает. Демократия и гомосексуализм – стороны одной монеты (той самой, что особо ценится на рынке). Отношение к гомосексуализму стало буквально тестом на демократичность мышления и поведения. Хочешь прослыть недемократом – усомнись в гуманизме гомосексуального движения. Религия, вроде бы, против; однако однополые браки уже начинают освящать. Однополая любовь (точнее, секс; любовь – это уже категория культуры, а не натуры) – явление не в последнюю очередь экономическое и, следовательно, политическое. А от политики не может себе позволить отмахнуться даже религия. Приходится демонстрировать гуманизм (модус которого – бесконечная толерантность, граничащая с беспринципностью) по отношению к аномальным проявлениям человека.
В известном смысле сторонами той же монеты являются демократия и феминизм. Почему феминизм является законнорожденной дщерью цивилизации – и именно той ее стадии, которая называется капитализм, – и при этом выдает себя за дочь культуры? Феминизму непременно хочется быть царского, высокородного происхождения.
Доминирующие отношения при капитализме – экономические, что означает: в человеке как существе информационном, в основном, задействован уровень телесно-психологический, низший, поскольку есть еще и высший, духовный. Человек как субъект экономических отношений, то есть потребитель, «честно» сведен (урезан) до эффективного удовлетворения базовых потребностей. «Лирика», «истина», «философия» и всякая прочая духовная чепуха, которая не имеет отношения к витальному, к выживанию, попросту перестала интересовать цивилизацию на высшем этапе ее развития. Капитализм, представляя собой новейший вид тоталитаризма (по сравнению с которым все до него существующие деспотии – если не сущий пустяк, то уж точно детский уровень), ограждает человека от самого себя, не позволяет человеку превратиться в личность. Препятствует его полноценному информационному развитию. Капитализм сделал человека врагом самому себе – не злонамеренно, конечно, а всей совокупной логикой отношений. Как в природе, так и в логике общественных отношений виноватых нет; есть бессознательное освоение жизни и приспособление к ее законам. Навязанный человеку образ жизни, объем взваленной на него обязательной для эффективного функционирования в социуме информации, необходимость весь свой информационный и энергетический ресурс поставить на службу выживанию (когда, как известно, не до жиру духовного), сама «культура цивилизации», наконец, – глубоко и принципиально некультурны.
И это, как ни парадоксально, является сегодня формой сохранения жизни (другой попросту нет), поэтому выступать против цивилизации – значит, бороться с жизнью. Делать это следует весьма и весьма разумно. Логика развития цивилизации подвластна законам, здесь нет, строго говоря, персонально виноватых. С другой стороны, логика развития цивилизации неизбежно должна привести либо к преодолению ее «информационных перекосов» – либо к погибели всех и вся. И здесь уже персональная познавательная активность весьма и весьма кстати, ибо фатального наличия позитивного сценария с неизбежным хэппи эндом в природе не существует. Присутствие законов – это не наличие предопределенности, а наличие фактора, который предопределяет множество вероятностей. Известно: закон что дышло: его необходимо «повернуть» в нужную сторону, то есть в необходимом объеме учесть «порядок вещей». Отменить нельзя, а учесть можно и нужно. Настораживает всеобщая вера в некий отдельно от человека существующий «разумный порядок», который как-то счастливо оберегает своих неразумных детей от роковых необратимых ошибок. Это и заставляет в разумной форме выступать против цивилизации – против враждебных личности техногенных, идеологических, экономических, экологических и иных перекосов.
Итак, культура является сегодня факультативным признаком человека, которому (человеку) вовсе не обязательно стремиться к превращению в личность. Это немодно, неактуально, непрестижно и попросту глупо. Гораздо актуальнее и престижнее продемонстрировать витальные возможности (социума и, соответственно, индивида как члена подобного социума). В связи с этим начало женское, принципиально некультурное (потому что натурное, телесно-психологическое, бессознательное) получает в известном смысле идеальные условия для расцвета. Чтобы быть лидером цивилизации, надо быть женщиной. Надо быть человеком, не различающим «сознательный» и «бессознательный» типы управления информацией, «разум» и «интеллект». И пусть никого не смущает преобладание мужчин в политике и экономике самых важных на сегодня сферах жизни. Это всего лишь усовершенствованные, наиболее эффективно выполняющие свои социальные функции женщины. Отсюда до идеологии феминизма рукой подать. Эта идеология не могла не появиться (вот он, закон!). Дескать, сама жизнь «доказывает» востребованность женщины. Оно бы и верно, только не «жизнь доказывает», а иррационально организованный мир, среда обитания человека. Феминизм в таком мире становится адекватной формой приспособления.
У нас есть все основания сказать: у цивилизации женское лицо; более того, у нее женская природа. Вот почему феминизм стал идеологией не просто кучки замороченных женщин, он стал идеологией цивилизации. Идеологией власти. Вера в бессознательное природное начало, бессознательное отрицание культурных регулятивов – это в широком смысле феминизм. Скажем, мужской шовинизм небритых мачо – это вариант феминизма; литературоцентризм (и вообще культ художественного отношения к жизни) – феминизм; отрицание философии, лукавая ее подмена «художеством» – феминизм (несмотря на то, что творится подмена руками «умных» мужчин); власть над душой человека в принципе – феминизм. И в таком своем качестве женское отношение к жизни (феминизм) превратилось в главную проблему человечества; если угодно – в главную угрозу существованию человека. Таков сегодня модус глобального вызова: натура угрожает культуре с позиций феминизма. Мужчины могут противопоставить этому разгулу бессознательного культурное измерение – или превратиться в женщин, чтобы благополучно разделить с ними судьбу всего бессознательно существующего.
Феминизм – это особого рода идеология, где натура доминирует над культурой, а кажется, что наоборот. А все дело в том, что интеллектуальная составляющая, будучи продлением психически-бессознательного, бессознательно же выдается за культуру, за разумное отношение.
Утрата половой идентификации вообще и феминизм в частности есть адекватное и закономерное проявление сути цивилизации, которая так и не научилась различать натуру и культуру. Претензия феминисток сравняться в правах и возможностях с мужчинами – это, по существу, претензия уравнять в правах натуру и культуру. Еще точнее – обойтись без культуры. Это идеология власти, власти натуры.
Только культура восстанавливает равенство полов перед лицом истины – то есть функциональное их неравенство, приводящее к равенству «по возможностям», к равенству перед лицом жизни.
5. Национализм. Хотите получить пятиугольник (полноценный, вросший в почву пентагон) – добавьте к сексу национализм. Культ силы и национализм – также близнецы-братья.
Культура возникает там и тогда, где и когда «национальный код» (психологическое, бессознательное) служит способом выявления «кода общечеловеческого» (культурного, духовного); если национальный код становится самоценным, важнее общечеловеческого, то есть превращается из формы в содержание, – перед нами натура, то есть та самая почва, на которой пышно взрастает идеология национализма. Национальное, иначе говоря, «вторично» по определению: вот почему оно так стремится объявить «вторичным» вненациональное, общечеловеческое. Перед нами классический комплекс неполноценности. Это, кстати, объясняет, почему любой национализм так легко совмещался и совмещается с фашизмом (гипернационализмом).
Правота, природная правота националистов в том, что они испытывают чувство любви к «малой родине», к органике, к родному болоту, к «невыразимому и душевному» – к форме, иначе сказать; они не могут подняться выше чувств, становятся их рабами – они инстинктивно ненавидели и будут ненавидеть всякого рода «рефлексию» и «концепции», то есть то, что составляет содержание культуры.
По-человечески это понятно (хотя и несимпатично); в культурологическом смысле – дремучий лес, преступление против истины.
Национализм представляется им формой выживания, а они сами себе – борцами за жизнь нации. Героями. Однако борьба за свое место под солнцем, продиктованная правом сильного, освященная всем строем рыночных отношений, одновременно превращается в борьбу против культуры. Герои превращаются в антигероев. Просвещенный национализм (то есть идеология, признающая приоритет культурного, общечеловеческого), если без национализма в принципе невозможно обойтись, еще допустим; однако признание приоритета национального кода над кодом общечеловеческим (будь то добродушно-лапотный или агрессивно-скинхедовский варианты национализма) – это скрытый призыв к войне, к насилию, к пренебрежению высшими культурными ценностями.
Любовь к родным осинам «дает право» националистам не думать, они правы уж тем, что неспособны мыслить. Как мило в XXI веке изображать из себя детей природы. Отсюда все эти камлания и мантры местного пошиба с бубном или без бубна. Кстати, националисты весьма религиозны – «культурны», на их языке. Для них нация, народ и Бог – в одном ряду. Можно сказать иначе: для них «с нами Бог» – примерно то же самое, что «держите вора».
Национализм как феномен бессознательного неизбежно смыкается со всеми другими проявлениями бессознательного, как-то: рынком, демократией и далее по списку. Корень у них один: матушка-натура.
Демократы и гомосексуалисты с феминистками просто обязаны выступать против национализма. Но как можно оставаться демократом и быть при этом против мягкого, просвещенного национализма? Кроме того, не забудем, что у национализма всегда есть чувствительный экономический аспект. Как запутано все на свете…
Язык интернационального общения – это язык культуры, язык сознания. Не английский, не французский, не русский – именно язык культуры. Если национальная элита упорно разводит свой родной язык, язык ощущений, и язык культуры, язык понимания, она, в конце концов, ставит себя вне «общечеловеческого» закона и обрекает себя на подпольное существование. А там, внизу, в пространстве виртуальном, но затхлом, у носителей вируса национализма рано или поздно формируется патологическая психология. Натура берет верх над культурой, и весь мир представляется скоплением вражеских (или дружеских, но чужих) племен. Нормально, когда люди стремятся к компромиссу; если они в принципе отвергают приоритет «наднационального» в иерархии культурных ценностей – это ненормально. Национализм на деле выступает формой самоуничтожения.
Подведем итог. Рынок, демократия, религия, секс и национализм – вот способы порабощения личности, которые ее же и породили. Пятипалый пентагон – это инструментарий, с помощью которого нападают и побеждают, а также спасаются и терпят поражения – чтобы нападать и побеждать. Sic. Это, так сказать, плохая новость.
Хорошая новость заключается в том, что даже цивилизации не под силу отменить диалектику, непосредственно связанную с понятием прогресс. Цивилизация должна породить культуру, где торжествовать будет диктатура разума.
Это можно было бы назвать верой, если совершенно отвлечься от технологии сознания. Однако сознание уже есть, и с этим неприятным фактом цивилизации придется считаться.
Потрясающий парадокс: с одной стороны, все стремятся к экономическому процветанию, которое обеспечивается демократией, а с другой – происходит разочарование в самом существе демократии – под разговоры о том, что лучше демократии ничего не придумано. Этот парадокс свидетельствует о том, что человечество бессознательно дрейфует Бог знает куда, во всяком случае, подальше от того места, будь оно Востоком или Западом, где думают головой. Прячем голову в песок как нечто лишнее для жизни, на манер упитанных страусов.
Вся надежда на информационную амбивалентность, в основе которой натурно-культурный симбиоз. И рынок, и демократия, и все прочие элементы общественного устройства – это всего лишь инструменты, способы достижения целей, и не надо превращать средство в цель. Такой невинный подлог не делает чести даже поэтам. Поменяйте точку отсчета, измените систему координат, по-новому осознайте цель – и та же демократия обнаружит свой культурный потенциал: она может стать способом утверждения диктатуры культуры.
Таким образом, дело не в демократии, не в автократии, и вообще не в «кратии», а в умении мыслить. Дело в нашем отношении к культуре, а не в том, насколько эффективно мы включились во всеобщую гонку за лидером цивилизации. Сама номинация «лидер цивилизации», при ближайшем рассмотрении, оказывается не просто не престижной – она оборачивается формой аутсайдерства. Не торопитесь, а то успеете.
Думаю, в ближайшем будущем человеку диктатура культуры не грозит; ему грозят такие цивилизационные (демократические, обратим внимание) последствия, как глобальное потепление, глобальное помутнение рассудка и, боюсь, глобальная агрессия. Человек экономический честно обнаруживает свое натуральное лицо: другого у него нет. Демократия в этом контексте осознается не как альтернатива деспотии, а как прямой путь к апокалипсису.
Беда в том, что человек духовный (разумный, культурный) пока не стал точкой отсчета для общества, и неизвестно, может ли ею стать. Пока все вокруг живут по законам джунглей (прообразам законов демократии): «каждый сам за себя», «война всех против всех» и «выживает сильнейший». Все мы в той или иной степени – увы! – американцы, поскольку живем и выживаем все в той же цивилизации и по законам этой цивилизации. И быть лидером цивилизации, повторим, не так уж и почетно, если разобраться. Почетно было бы быть лидером культуры, если бы эта номинация не была безнадежно утопической.
Вот наша сегодняшняя дилемма: антиутопия или культурная революция?
Собственно говоря, сам феномен глобализма, феномен то ли расцвета цивилизации, то ли выражения ее кризиса, то ли попросту фаза интенсивного цивилизационного распада, – сам этот феномен оказался возможен именно потому, что в должной степени не сформировалось отношение познания, в результате чего науки так и не обрели своего содержания, реального объекта изучения. Глобализм – феномен именно цивилизации, но не культуры, ибо содержанием процессов глобализации стало отсутствие культурного содержания. Вот почему «предметный» разговор в рамках отношения приспособления всегда беспредметен: он лишен объекта. Глобализм, по идее, вплотную подводит к осознанию феномена культуры. Однако цивилизацию и культуру разделяет не пресловутый «один шаг», а принципиально разное соотношение типов управления информацией. Субъект цивилизации – индивид (кавалер звезды Пентагон), субъект культуры – личность. Сама цивилизация есть предмет (форма), объектом (содержанием) которого(ой) должна стать культура. При этом переход к культуре означает не исчезновение цивилизации, а появление у нее объекта, осознанного содержания.
Пока что «духовное» содержание цивилизации определяют потребности индивида (homo economicus’a), то есть содержанием, с позиций личности и культуры (с позиций homo sapiens’a), является бессодержательность, «звезда Пентагон», вот почему доминирующей духовной и эстетической идеологией сегодня стал постмодернизм, где культ формы превратился в содержание. Постмодернизм, идеология индивида, протестующего против жесткого нормативизма социума, – это выражение диктатуры натуры, выдаваемое за высшие культурные достижения. Содержанием бессодержательной идеологии становится индивидоцентризм – культ ощущений (хотений, желаний), культ иррационального – следовательно, культ формы.
Необходимо осознать, что глобализм существует потому, что это выгодно – тем, кто преуспел в бессознательном освоении мира. Пентагон – это инструмент глобализма как вершины цивилизации (читай: бессознательного типа отношения к действительности), инструмент диктатуры бессознательного, диктатуры натуры .
Если же перспективу духовного развития связывать с персоноцентризмом, последовательно ведущим к гуманизму, формой проявления которого вполне может стать диктатура культуры , то здесь все еще только начинается.
Если выживем – то увидим.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
1
1.8.
Солнце ноября, бледно-багровое с фиолетовым напылением небесное тело, с трудом поднималось сквозь сырой мутный туман.
– Для тебя, Платоша, настал час истины. Сейчас ты узнаешь о себе кое-что новенькое. Как ты будешь жить с этим дальше – вот в чем вопрос.
Итак…
Думаю, ты уже догадался: мы, то есть, те, кто выполняет мои указания, делаем ставку на нейротехнологии. Опыт колоссальный. Поле для экспериментов – вся планета. Результаты впечатляют. НЛП, нейромаркетинг, нейрорелигия, нейрорадость, нейропечаль – нейро, нейро… Мы внедрились на нейроуровень прежде, чем поняли, что это смертельно опасно. Клонирование – жалкие трюки по сравнению с нейроманипулированием.
Человек толпы, наш аленький герой, солдат-с-раной, как говорили у нас во взводе, уже – с удовольствием, заметь, с удовольствием! – хавает то, что ему готовят, покупает то, что ему продают, радуется условным радостям, печалится условным горестям. А хавает он говно, а продают ему барахло. Аминь. У человека толпы нет ни единого шанса. Нейротехнологии делают его ручным, управляемым и предсказуемым. Все расписано, вплоть до вкусовых ощущений. Можно программировать изменение вкусов на пятилетку. Например, от бекона – до банана. Я иду в консалтинговую компанию, желаю знать, как продвигать мне мой товар или, лучше, группу товаров – и я гарантированно это продам. Нейромаркетинг работает на все сто. Рынок становится управляемым также на все сто. Все революции подавляются на нейроуровне элементарно. Гораздо проще, чем могло показаться. Также на все сто. Наступает, нет, может наступить по нашей отмашке Эпоха Нейро (EN). И об этой революции ни одна шавка знать не будет. Просто пастухи придут к овцам и начнут их стричь. Бе-е-е!
«В чем же тогда проблема?» – спросишь ты. «Стригите и радуйтесь. И обрящете. Не так ли?»
И ты, как всегда, будешь прав. Что-то здесь не так. Долго не могли понять, что именно. Сейчас поняли.
Аленький, сука, не проявляет должного энтузиазма. Понимаешь? Нет? Он не годится для глобальных целей. Его жизнедеятельность, как некогда труд раба, крайне неэффективна. Мы уже просчитали: для того чтобы выжить, человек должен научиться «производить», что ли, всплеск духовной энергии. Аккумулировать – затем отдать. Отстреливаться, как Солнце, протуберанцами. Подводить себя к состоянию максимальной самоотдачи. Ему кайф (самоотдача, между прочим, сопровождается выбросами адреналина), обществу польза, мирозданию во благо. Необходимо создать для человека такую среду, чтобы он мог относиться к себе как к источнику управляемой духовной энергии. Что-то вроде этого. Необходима мобилизация всех ресурсов. Хорошо это или плохо? К черту философские подробности. Это ни хорошо, ни плохо. Это не обсуждается. Без этого человеку в будущем не выжить. Все 9 миллиардов под ружьё! Но вот аленький, homo economicus, Homo Eco (HE) на подвиги не способен. Вот засада «экзистенциального свойства», как говорят мои умники. Не смейся! Вот поверну сейчас движение цивилизации в сторону потребностей аленького – запоешь тогда! Несколько миллиардов лет протянем, а там в ледяную топку. Сотри ухмылку! Рано радуешься…
Объясняю. Нужна альтернатива. Нужно человека так «спланировать и выстроить», чтобы информационные пласты, составляющие его суть, пришли в движение. Тогда можно рассчитывать на эффект мультипликации.
– Нужна личность! – воскликнул я.
– А-ё-ёшеньки, услышали знакомое слово. Аминь. Нужна альтернатива, повторю для особо одаренных, как говорил наш прапорщик. И мы собрали на тебя досье. Умники называют его карта личности.
Самая большая проблема была в том, чтобы отыскать тебя. Именно тебя, нелюбимого. В мире на сегодняшний день живет всего от семи до девяти особей, которые соответствуют параметрам «личность». Количество их в разные периоды и эпохи колеблется, конечно, ибо личности смертны и еще как смертны, но оно ни разу не превышало пока что порог девять. В чем тут дело – пока неясно. Ты – один из девяти. Почему именно ты?
Личность, согласно современным научным данным, возникает на стыке «писатель – философ», «художник – мыслитель», если говорить языком для аленьких. Эпоха такая. И личность должна «засветиться», обозначить себя своими публикациями. Это пока что единственная объективная основа. Вот мы тебя и вычислили. Знаю, знаю, ты написал немного. Но наши умники разработали специальные критерии: тотальная диалектика, тело-душа-дух, истина, красота, высшие культурные ценности, что-то там еще… Между прочим, критерии взяли их твоих работ в том числе. Что, польщен? Не торопись, а то успеешь.
Итак, карта личности. Хочешь полюбоваться на себя в зеркале науки? Хочешь, конечно. Смотри. Любуйся.
Тут много параметров. Ну, вот, в частности, есть такой любопытный штрих. Поддаешься ли ты нейропрограммированию? Поддаешься. Но до определенного предела. Проклятье нейропрограммирования в твоем случае снимается эффективной защитой – сформированными разумными потребностями, которые выступают как установка личности. Нейрошпагой тебя не проткнуть. Как только личность выстроена на разумных, сознательных духовных технологиях, она перестает быть объектом нейроманипуляций. Чары расточаются. Вот ты нас и заинтересовал. Чтобы ускорить процесс, процесс раскрытия твоих духовных резервов, я имею в виду, тебя «подселили» (но так, чтобы не спугнуть) к такому монстру, как я. Если ты думаешь, что я не личность, то ты глубоко ошибаешься. Возможно, я своего рода мутант – но все же мутант на основе личности. Если я и тень – то тень личности. Джо сих пор существовали инь и янь ; а я – тень . Чего молчишь?
– Ты не личность. Ты природный материал, из которого личность может быть создана. Ты глина, но не божественная искра. Глина – это не тень искры; это вязкая, липкая и мокрая субстанция…
– Ладно. Ты еще ответишь за свои слова. За каждое слово. Пока речь не об этом. Дай мне договорить. А то прихлопну раньше положенного времени.
Перехожу к главному. К эффекту мультипликации. У таких, как ты, если случается любовь, то это непосредственно сказывается на творчестве: вдохновение прет и прет; именно в таком состоянии вы постигаете то, что называется истина, а также многочисленные производные от нее, как-то: свобода, закон, познание и прочая чертовщина; все это нарастает как снежный ком – и превращается в состояние, которое называется счастье. Я верно излагаю? Верно. Ergo: если личность не находит любовь, она так и узнает главного – истины. А не узнает главного – не будет всплеска духовной энергии. Личность возбуждается только тогда, когда ее стимулируют высшие культурные ценности. Кстати, как вы находите любовь в сегодняшнем мире? Но вот вам как-то это удается. На вас давит семь с лишним миллиардов – и все же девять ростков выживают.
– Твои умники неплохо потрудились. Есть ли среди них личности?
– Ах, как мы зрим в корень… Не скажу. Не положено.
– Можно еще один вопрос?
– Вопрос-то можно, только вот с ответом могут проблемы…
– Есть ли личности среди физиков?
– Пока только теоретически. Мы работаем над этим вопросом.
– Эх, мне бы с ним поговорить!
– С Гигантюком? Забудь. Дай договорить. Покорить универсум сможет только личность. Но пока что личность – это некое дурное семя, нечто самопроизрастающее, то, что не ставится на поток. У нас есть элитные школы по всему миру, в разных этнических регионах, туда попадают детки с высочайшим IQ, там все порядочные, воспитанные, физически развитые, симпатичные – но личностей нет. Более того: личность дает потомство весьма аленькое, весьма! От элиты – дурное племя Эко. Это вам расплата! Подарочек из космоса!
Вопрос в лоб: можешь ли ты воспитать личность или подсказать, как это делается? Какие условия необходимы для того, чтобы вырастить личность? Мне нужны твои соображения по этому поводу. Это твой долг перед мирозданием. Разве нет? Лично мне ты напоминаешь глупого мула: и потомства не оставляешь после себя, и жизнь каторжная. Разве нет?
В ответ я рассмеялся. И назвал его «наперсточником».
Чем окончательно вывел Веню из равновесия.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.8.
«– Привет, Платонище! Рад видеть тебя в добром здравии. Ну, как ты себя чувствуешь?
– Спасибо. По-разному плохо.
– В таком случае сразу перейдем к сути: как там у нас дела?
– Все это так непросто, – уклончиво ответил я прежде, чем сообразил, что и как мне сказать.
– Гуд, гуд, как говорят америкосы, окей. Вау. Выкладывай.
Теперь и Платон, и я, ваш непокорный слуга, ощутили, что вести разговор с позиции силы будет выглядеть с моей стороны слабостью. Почему?
Да потому, что Платон уже смотрел на меня с позиции силы. Что-то изменилось.
В принципе, я предполагал, что события будут продвигаться в этом, не слишком желательном для меня, направлении. И я не побоялся рискнуть. Пусть будущие судьи (а судьи будут кто, интересно?) учтут это смягчающе-отягчающее обстоятельство. Собственно, и выбора большого у меня не было. У меня, всесильного Босса и Хозяина, не было выбора?
Да, да и еще раз трижды да: выбора не было. Глупо отрицать очевидное.
Прикончить Платона?
Это значило бы признать собственное поражение. Платона можно убрать, но «свято место», которое он занимает в раскладе сил в мироздании, убрать невозможно. Где-то рядом наверняка растет другой Платон, уже играющий в футбол. Никто бы не знал о моем скрытом поражении, а я бы знал. И тем самым избрал бы судьбу проигравшего. Не вариант для чемпиона.
Делегировать Платона туда – значило вооружить своего оппонента.
Но другого выхода у меня не было. Мой шанс состоял в том, чтобы вооруженный мною до зубов противник стал сражаться за меня, то есть, в некотором смысле против себя.
Однако и у Платона не было другого выхода, кроме как принять мои правила игры.
Он был моим шансом, а я был его шансом.
И это был единственный перспективный вариант для нас обоих.
Поэтому я не собирался заблуждаться по поводу расстановки сил. Его любовь, его ахиллесова пята, его слабость была моей силой. Можно было не сомневаться: Платон не предаст любовь (читай – свободу, счастье, истину и т. п.); а если он ее все же предаст – это будет уже не Платон. Это было гарантией моей безопасности.
Гарантией его безопасности был он сам.
Итак… «Как там у нас дела?»
– Я «общался» с Марией.
– Что значит общался?
«Все это так непросто», – вновь захотелось сказать Платону, но он, отдадим ему должное, поделился информацией сполна. Что, конечно, было своего рода вызовом и отчасти демонстрацией силы.
Тем не менее, должное отдадим.
«Общение», то есть, сфокусированные смысловые импульсы, почерпнутые в состоянии транса, будем откровенны, он интерпретировал приблизительно так, как излагаю здесь я. Пожалуй, несколько тоньше и элегантнее. Уровни, дрожжи, фильтр, цивилизация, культура, битый-небитый – все это он изложил мне популярно и внятно. С юмором.
– Это все? – перехватил инициативу я.
– Пока все.
– Не густо.
– Да, не густо. Но кое-что.
– Кое-что. Но ты не добился желаемого.
– Зато я добился невозможного.
– Хорошо. Мы зачтем тебе хождение за три Уровня. Если ты ответишь мне на волнующий меня вопрос: за что же они так с Марсиком III, а? Чего они хотят от меня? – спросил я.
– А ты заведи себе Марсика IV, и оставь в покое отца Никодима.
– Что-то ты голос повышаешь, или мне показалось?
– Ты спросил, я ответил. Если тебе не нравится мой ответ, при чем здесь мой голос?
– Дерзишь, дерзишь… Раньше такого за тобой не замечалось.
– Раньше ты не позволял себе так бесцеремонно обращаться с моей жизнью.
– Так… Изволили выйти на тропу войны.
– Нет, все проще: я вынужден принять твой вызов.
– Ладно, достаточно. Отныне твоим девизом будет «береги Веню, своего Босса, благодетеля и гаранта неприкосновенности», мягко говоря. Носи его на руках и целуй в попу.
– Я знаю, Мария намекнула мне на это. А знаешь, от кого беречь?
– От «них», от кого же еще.
– Нет, Хозяин, не от «них», а от меня.
– Шантажируешь?
– Чтоб мне с этого места не сойти.
– Как это понимать? Ты будешь хранить меня? Это называется пустить козла в огород сторожить капусту.
– В принципе, ты рассуждаешь верно. Разница только в том, что я не козел. А вот ты недалеко ушел от овоща. Я должен стать твоей надежей и опорой. Чтобы выжить самому. Ничего личного, никакого альтруизма, Боже упаси. Здоровый эгоизм. Доверься мне, как говорят американцы.
– Фак ю, извини за выражение. Я и так нуждаюсь в тебе несколько сверх меры.
– Я должен стать жизненно необходимым тебе.
– Ну, вот и становись.
– Уже, спешу и падаю. А знаешь, что должно стать твоим девизом?
– Холить и лелеять Платона?
– А также целовать его в попу. По утрам и вечерам. Вот эту заповедь вытрави себе на лбу особо крупным шрифтом. Чтобы любой первоклашка мог прочитать.
– Ладно. Заведу очередного кота, а там посмотрим. Правильно я понимаю?
– Думаю, да.
– У меня к тебе вопрос, Платон. Его можно истолковать по разному. Для меня он не носит личного характера…
– Давай твой вопрос.
– Тебе Мария что-нибудь подарила? На память?
Я растерялся настолько, что наверняка изменился в лице.
– И что же она тебе подарила, если не секрет?
– Кольцо.
– Кольцо? Вот как интересно. Мне она подарила наперсток. Вот этот.
– Ты хочешь сказать, и ты там был?
– Неважно. Проехали. Наперсток… Что бы это значило?
– Да разве же ее символы поддаются однозначному толкованию! Что она при этом сказала? Как прокомментировала свое подношение?
– Как? Да никак. Может, пей поменьше? Не стаканами, а глоточками? Мы ведь с Филей тогда были изрядно под шафе. Дескать, не теряй головы в любых обстоятельствах. Или – предохраняйся, береги себя, принимай меры безопасности, а? Как ты думаешь?
Я пожал плечами. Дескать, слишком мало информации об этом эпизоде твоей жизни. Хочешь знать мое мнение – выкладывай все.
– Почему тебе кольцо, а мне – наперсток?
– Не знаю, Веня. Сказал бы раньше, я бы у нее поинтересовался. Разве возможно понять их логику?
Тайна мироздания, перед которой мы оба были беспомощны, сблизила нас. Мария была для нас одинаково чужой. А мы были хоть и врагами друг другу, но – свои.
– У меня к тебе есть одна просьба, Веня.
– Валяй.
– Алиса…
– Что Алиса?
– Не хочу, чтобы она появлялась в твоей резиденции.
– Просьба, хочу, не хочу… Мне кажется, ты слишком многого хочешь, человече. Она свободная женщина, пусть гуляет, где захочет. Кстати, не стоит идеализировать этот твой аленький цветочек. Когда меня идеализируют, то явно недооценивают; а когда идеализируют женщину, то явно переоценивают. Она немного ведьма, как и все остальные бабы, позволь сказать тебе это по дружбе. Я замечал за Венерой: когда она на моих глазах превращается в блядь, она красит ногти в черный цвет. Как только эта блажь проходит, она меняет прическу, макияж и маникюр. Ну, вот ведьма, понимаешь…
Я чувствовал, что он абсолютно прав – и абсолютно в этом убежден.
Но вот мою абсолютную правоту донести до него было выше моих возможностей.
Что же это получалось? Я общался с ним, как с ребенком. Он был по-своему прав, а я был прав глобально (и потому неправ, с его точки зрения). И поскольку умнее был я, то я и был в ответе за него, хотя его земные возможности были просто несопоставимы с моими. Уровни нашего общения не пересекались, точнее, я сверху вниз видел и понимал его, а он снизу вверх в принципе не мог видеть меня как информационный объект, я для него не существовал как реальность – только как гипотеза.
Сильные, сильнейшие мира сего не ведают, что творят?
Малые сии? Алые?
Как его бросить после этого?
А как терпеть рядом эту скотину? Эко-свинью?
Вот тут-то мне захотелось завыть и обратиться к Марии. Вселенский абсурд, основанный на здравом смысле, – это, конечно, запредельный Уровень. Мое сознание было явно не готово к восприятию подобного как нормы.
Может, не было никакой Марии, может, это все мне лишь приснилось?
Я был ни в чем не уверен. И вот это неуверенное, растерянное, легко впадавшее в слабость существо было призвано беречь Босса?
Вместо ответа мне послышался лесной шум – на ветру скрипели сосны. Еще один – параллельный – шумовой уровень составлял плеск воды в озере, словно мягко отфыркивалось овальных форм млекопитающее, мой предок, носитель моего ДНК.
Стало страшно за вечность.
Стало жутко.
– Время, к счастью, летит слишком быстро, поэтому мы, к сожалению, скоро увидимся, – сказал Платон.
Он старался излучать уверенность в наших общих слабых силах, но излучал нечто большее, а именно: мудрость».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.8.
– Платоша, я постирала твои рубашки. Сложи их, пожалуйста, в платяной шкаф. На твою полку. Нет, не надо, я сама.
– Alles! Alles! Алиса! Я уже лечу. На крыльях любви.
– Не надо, говорю же, я сама. Мне приятно.
– Мы превращаемся в домохозяйку, зайцы? В домоправительницу, пупсы?
– Не дождешься, мой платиновый. Только из-за твоей монографии. Пиши и знай мою доброту.
– Ты убиваешь меня своим великодушием.
– Будешь выпендриваться, останешься без обеда.
– Кстати, по поводу обеда… Автор уже начинает подумывать в эту сторону, уже предвкушать….
– Все уже на столе.
– То есть как? А помечтать, а меню обсудить, а слюну пустить, а получить по лапам, наконец, за то, что я стащу хлебную корочку? Нет, так нечестно.
– Говядина, тушеная особым способом, от которой некоторые млеют, за которую готовы душу продать, нас устроит? Бокал «Пино нуар» красного, полусухого – покатит? Салат, как мы любим, помидорчики, огурчики, лучок – не откажемся?
– Фантастика! Признайся, мы вчера это обсуждали?
– Ничего мы не обсуждали. Ты на себя взгляни: глаза блестят, смотрят в себя…
– А видят тебя…
– В себя смотрят, непонятно, с кем общаются… О чем с тобой можно говорить? Быстрее заканчивай свою монографию и возвращайся ко мне. Для меня время исчисляется не абстрактными годами, а конкретными минутами.
– Ну, ты же знаешь…
– Я тебя не виню, но я одна без тебя не могу…
– Ты знаешь, в меню чего-то не хватает.
– Чего?
– Первого.
– Первого? Какого первого?
– А вот этого первого.
– Платоша, тебе еще работать, не распускай руки. Получишь по лапам!
– Наплевать на монографию.
– Ага, так я и поверила. Платоша! По лапам! Платоша, все уже на столе… Ну, вот, мясо теперь остынет. Я тебя люблю…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.8.
Темнота.
– Кто, кто?
– Гомер. Меня зовут Гомер.
– Да слышу я, слышу. Не глухой. У нас, в земле славян, ты наверняка был бы Гошей. А дальше, у китайцев, – Го-Ша.
– Ты хотел меня видеть?
– Откуда тебе это известно?
– Мы же с тобой живем в одном мире – в одном времени, в одном пространстве. Здесь тайное рано или поздно становится явным. Ладно, смотри: вот он я.
– Маленький, неказистый… Слепой?
– Не настолько, чтобы не отличить правду от вранья.
– А у тебя-то что за интерес предстать пред мои светлые очи?
– Я тебе интересен как прошлое, а ты мне – как будущее.
– В принципе, конечно. Несомненно. Только вот почему именно ты и я субъекты диалога?
– Да потому что «Одиссея» – это фрагмент романа «Девять».
– Ты в своем уме?
– А ты сам подумай… Куда, по твоему, плыл Одиссей?
– Да мало ли куда. К Пенелопе, например.
– Верно, возвращаются всегда к женщине. А бегут от кого, знаешь? От женщины.
– Бегут, чтобы вернуться?
– Типа того.
– А смысл?
– Боже мой, Одиссей плыл по направлению от натуры к культуре. От сердца к голове. От интеллекта к разуму. Разве у мужчины есть выбор? Паруса души наполняются ветром познания только тогда, когда ты плывешь от полюса психики к полюсу сознания. Когда достигнешь полюса противоположного – куда тебе дорога? Назад. Цифра 9, кстати, весьма напоминает парус.
– Иди ты! И ты того же мнения?
– Конечно, да.
– Получается, ты начал «Одиссею», а я ее закончил?
– Те-те-те… Со скромностью у вас в XXI веке туго. Ты ее пытаешься продолжать. Я бы поосторожней был с идеей начала и конца.
– Ну, да, пытаюсь продолжать. Для меня большая честь…
– Ну, вот чего ты расшаркиваешься, как прыщавый поручик на балу, честное слово! Я по делу пришел говорить. Как мудрец к мудрецу.
– Я весь внимание.
– Забавно с тобой иметь дело. Ты что, правда цены себе не знаешь? В наше время с этим не шутили…
– Ну, почему не знаю? Я с уважением отношусь к себе, и все такое…
– Да не знаешь, я уж вижу, что не знаешь. Ты, Плато, не достоин сам себя. Так, кажется у классика?
– Что-то в этом роде.
– У вас, я вижу, не принято называть гения гением?
– Не особенно принято, если честно. Скорее, какого-нибудь недомерка в гении произведут…
– А что так? Ведь это безобразие, если гения не признают. Вот я гений, это ежу понятно. И ты гений. Разве нет?
– Гениальность – тема темная…
– Да не темни ты! Говори прямо: считаешь себя гением или нет?
– Видишь ли…
– Я слепой – ты забыл? Ха-ха!
– Я хочу сказать, что если ты не знаешь себе цену – то ты ничтожество; а если кичишься своей гениальностью – еще большее ничтожество.
– Ну-ка, ну-ка, как ты сказал? Да, далеко тебя занесло. Мне порой тебя не понять. А хорошо сказал!
– Я рад, что мы находим общий язык.
– Да кто тебе сказал, что находим? Ничего мы не находим. Так, болтаем всякое.
– Пусть так. Но болтать всякое с самим Гомером…
– Тьфу! Вот не люблю! Неужели ты не понимаешь, что я дурак?
– Боюсь, что отлично понимаю.
– Так чего же ты кривляешься? «С самим Гомером…»
– Я восхищен тем, что ты еще десять тыщ лет тому назад стремился к разуму.
– Насчет десяти тыщ лет вопрос спорный; возможно, что и все 9. Да, я стремился к Разуму. Глупый Икар слишком буквально понял мою метафору Солнце Разума. Понимаешь? Ха-ха! Спалил себе перья! Орел недобитый! А я видел Истину. Потому и ослеп.
– И что есть истина?
– А то ты не знаешь! И не надо переходить на шепот. Завели себе сакральную традицию: на Вы и шепотом…
– Где критерий истины?
– Если бы ты не знал, что есть истина, разве ты писал бы роман «Девять»? Вот тебе и критерий. Скажешь – нет?
– Я соглашусь с тобой, соглашусь.
– Разумеется. Надо знать себе цену.
– Только вот как объяснить это другим?
– А зачем?
– То есть, как зачем?
– Зачем объяснять это другим? Твоя задача приблизиться к истине. Не надо никому ничего разъяснять. Захотят понять что-нибудь в этой жизни – будут читать тебя, не захотят – туда и дорога.
– Все верно. Только у меня с ними одна дорога.
– Дао? Даога, как говорят дети. Устами младенца, ха-ха! Верно, у тебя с ними одна Даога. Но не унижайся до поисков читателей. Если Олимп не идет к Гомеру, следовательно, Гомер должен двигать кости к Олимпу. Ты сделал свое дело. Ты вошел в клуб избранных. Почему мы сейчас с тобой разговариваем? Мы члены одного клуба.
– Как называется этот клуб?
– Я бы назвал его «Девять», если ты не против.
– Пожалуйста, это великая честь для меня…
– Тьфу! Это для нас честь! Я ведь тоже писал «Девять», дурья твоя башка! Да вот ослеп, не выдержал! Сил хватило только на «Одиссею»… Хлеб-то надо было зарабатывать. Ты что, в самом деле не понимаешь, что каждый, кто серьезно относится к литературе, пишет «Девять»?
– Понимаю. Только мне как-то неловко об этом говорить.
– Тогда молчи. Главное – чтобы понимал. Ладно, пора мне. Вене привет.
– Что ты имеешь в виду?
– А то ты не знаешь… Скажи ему, что он входит в состав истины. Кстати, как у тебя со зрением? С умственным зрением – полагаю, до тебя дошло, о чем я? Не притупляется после того, как тебе открылась истина? Ведь эта вспышка – что-то нечеловеческое. Мощность – сто тысяч солнц, примерно. Думаю, пора тебе возвращаться к женщине. Жена, домашний очаг – что может сравниться с этим покоем?
– Погоди минуту. Когда еще увидимся в следующий раз. Может, опять через 9 тыщ лет. До меня слухи дошли, по поводу авторства «Илиады» и «Одиссеи»… Можно спросить?
– Читай, что ты написал. Там все ответы.
– Ты думаешь, я все понимаю, о чем написал?
– Учись у себя. Другого пути нет.
Темнота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.8.
Венеция встретила меня проливным дождем.
Веня нетерпеливо поглядывал на меня.
– Ну? – спросил, наконец, он.
– Плохи дела, – ответил я. – Никакого центра по управлению космическим оружием в районе Вечного города не существует.
– То есть, как не существует? Как это – не существует? Он должен существовать. А если не существует – тем хуже для него! Я раздраконю к е…еням всю эту древнеримскую бутафорику! Не будите Везувий!
– Веня, этого центра в районе Вечного города не существует так же, как не существует его и под Вилейским водохранилищем. Это блеф. Вы, господа, пугаете друг друга, а у страха глаза велики.
– Не учи меня жить! Мне нужен этот центр под Римом! Вынь да положь. Этот миф мне слишком дорого обойдется. И тебе, кстати, тоже. Нам обоим нужен этот центр. Точно так же, как нашим врагам нужен несуществующий центр под Вилейкой. У нас у каждого по козырному тузу в рукаве. Кстати, откуда тебе известно, что под водохранилищем ничего нет? Это мой самый большой политический секрет. Этот мыльный пузырь давно стал глобальным фактором геополитики. Этот радужный пузырек подпирает Гео.
– Веня, что мне твои секреты? Я был у Марии.
– У какой Марии?
– Не у твоей дочери, нет. У той Марии.
Веня мгновенно успокоился. Мой визит к «той Марии» его поразительным образом никак не заинтересовал. Плохой это был знак или хороший?
Впрочем, что было гадать. Веня уже принял решение. Развязка была близка.
– Ты думаешь, реальность центров имеет какое-нибудь значение? Никого не интересует, существуют центры или нет. Меня интересует другое: как ты докопался, что мы блефуем? Сейчас не я, сейчас ты самый страшный человек в мире. За твою жизнь я не дам и ломаной луны. Ты сам подписал себе смертный приговор. Боюсь, ты просто не оставил мне выбора.
– Выбор есть всегда. Вот тебе сейчас предстоит выбрать между моей смертью и возможностью видеть свою дочь, Марию. Посмотрим, насколько ты у нас железный.
– Ты хочешь сказать, ты похитил мою дочь?
– Нет, нет, что ты, как можно было такое подумать обо мне. Просто волею судеб мне довелось узнать, где она находится.
– Ты решил меня шантажировать?
– Нет, я решил поставить в смертельной игре на человеческое в человеке.
– Ты ставишь на миф.
– Ты тоже.
– Я ставлю на реальный миф.
– Я тоже.
– Ну, что ж, не я этого хотел, пусть будут тому незримые свидетели. Для начала мы распнем твою жену. Что на это скажешь?
– Вполне предсказуемый ход.
– И что на это скажешь?
– Тебе не найти мою жену.
– Хочешь сказать, я тебя недооценил?
– Нет, скорее, переоценил себя.
– А ты уверен, что я захочу увидеть свою дочь?
– Конечно, уверен. Ты Марсика любишь. Ты Бэллу не смог забыть. Ты к Венере не равнодушен. Ты даже меня по-своему любишь. Ты – сильный, только ты сильнее, чем тебе кажется.
– Во как!
– А Мария тебя обожает. Куда тебе деваться от Закона жизни? Я представлю тебя ей как выдающегося писателя, взявшего себе кокетливый псевдоним Bar-in. Вы с ней поладите.
– Не торопись, всему свое время. Ты кофе любишь? Я хочу пригласить тебя в кафе на чашечку кофе. Как писатель писателя.
– Как Сальери – Моцарта?
– Типа того.
– Ну, что ж… Ты мог бы убить меня прямо здесь. Раз ты этого не сделал, пойдем пить кофе. В кафе «Хронос», если ты не против. Погоди. А может, ты хочешь сделать миф частью своей реальной жизни? И меня – частью мифа заодно? То есть, все-таки отравить меня ядом?
– Я бы ничего не исключал в этой жизни.
– Даже того, что за столиком в кафе встретишь свою дочь Марию?
– Я верю в мистику не как в нелепость, а как в непостижимую составляющую неотвратимого хода жизни. Мария в двух шагах от меня? Думаю, ты перестарался, пытаясь расшевелить мое гипотетическое чувство к дочери. Или ты меня к чему-то готовишь?
– Я бы также ничего не исключал в этой жизни.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.8.
С уже почти завершенным романом жить становилось сложнее, нежели вообще без романа. По благому совету доктора я делал все, чтобы изжить (прожить?) виртуальный кошмар. И я изживал его, приближаясь тем самым к пониманию собственной сути, – и выздоравливал. Чтобы опять заболеть еще более тяжело и безнадежно.
Вот тут доктор дал маху. Лечение и помогало мне, и губило меня.
Необходимость подтверждать то, что я придумал свой роман, высосал его из пальца, а не описал свои «улётные» пророческие фантазии, становилась все более актуальной.
Но раз за разом подтверждалось другое: роман оказывался более реалистичным, чем казалось на первый взгляд. Раз за разом какое-нибудь самое невинное слово могло отозваться бурей. Мои фантазии оказывались связанными с жизнью невидимой, но прочной нитью.
Однажды Веня показывал мне свою коллекцию холодного оружия. Вдруг глаза его вспыхнули.
– А это пистолет XVII века, он оказался у меня случайно. Ведь что такое случайность?
Склонность к обобщениям, вкус к логической операции «за деревьями различать лес» могут быть как чертами философа, так и характеристиками любителя помудрствовать. Веня философом не был, что раздражало в его лукавых «философских» импровизациях более всего.
– Случайность – это свойство реальности. Вот я знавал один экипаж, где подобрались два молодца. У одного, командира экипажа, фамилия была Хило, у другого, штурмана, фамилия была Нехило. Ну, вот клянусь! Люди специально приходили посмотреть на тандем. Дивились чуду. Как же так, как могло такое произойти, чтобы в связке, в одной кабине оказались Хило и Нехило? Для людей это было доказательством того, что случайность может стать законом жизни. Все на свете – дело случая, камрад!
Пока Веня говорил это, я решал для себя вопрос: случайно или не случайно в романе моем оказались бок о бок mr. Hell и mr. Heaven.
Откуда они взялись, черт бы их побрал?
И я готов уже был примириться с Веней в себе; меня пугало только, как отнесется к этому Алиса. Врать ей из благих побуждений или говорить горькую правду, которая может разрушить наш брак?
Я готов был показать ей свой роман, где буйство фантазии выглядело смело и забавно; но как нечто, имеющее отношение к жизни, мой роман пугал меня самого.
– Так о чем твой роман? – спросила Алиса то ли в самый подходящий, то в самый неподходящий момент.
– Понимаешь…
Я решил подготовить ее к восприятию реальной чертовщины.
Оказалось, что она готова к тому, что я не готов к ее уровню восприятия жизни.
– Понимаешь, я придумал двойника, а он прирос ко мне. Самое ужасное, что я, может быть, ничего и не придумывал. В общем, все запуталось…
Мне было страшно поднять глаза и дать ей возможность заглянуть в меня: в тот момент я сознательно не ставил никакой внутренней защиты против чужого любопытства. Моя беззащитность была формой доверия.
– Вы все мужчины одинаковы. Но ты, Платон, особенный: тем ты мне и дорог. Веня в тебе украшает тебя.
– Ты так думаешь?
– Конечно. Я знаю о жизни не меньше твоего. Я ношу в себе жизнь.
Как только я понял, что Алиса не испугается изнанки жизни, а точнее, лицевой ее стороны, я вздохнул с облегчением.
Теперь мне осталось самое простое: назвать вещи своими именами.
О чем мой роман?
О нас с Алисой.
А Веня Фантомас? А Венера?
Мы с Алисой победили их.
И я понял, что не надо отбирать у себя победу – не следует принижать мощь, хитрость и коварство противника. Да здравствует Веня, сука бесподобная!
«Да здравствует разум!» – хотел этим сказать я.
Что ж, возможно, Веня и был моим двойником, а все эти истории – не что иное как видения Платона , игры его воображения, навязчивые галлюцинации. Мистическая история?
Возможно.
Но мне понадобились более веские доказательства, которые я мог бы предъявить самому себе. Чтобы считать себя вполне нормальным.
Лучше всего, если бы доказательства были материальными. Как улики.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.8.
– Это был нейрочип!
Веня взволнованно ходил по комнате; таким я его не видел никогда.
– Да, да, чип, внедренный в мозг Астролога. Этот чип становится частью структуры головного мозга. И с помощью этого невидимого глазом чипа я могу управлять человеком. Могу на расстоянии, могу непосредственно, с помощью НЛП. У меня есть гений «наночипианы», его так и зовут – Нано, и он может все. Вот это и называется контроль над сознанием человека. Я хотел тебе это показать во всем блеске. Да вот ты, дурак, по-русски огрел моего цыгана бутылкой. Вышиб мозги человеку!
– Скорее, вправил, – парировал я. – Кстати, что говорит твой Нано по поводу воздействия нейрочипа на разум? Не на сознание, не на интеллект – а на разум, а?
– А, ты все о своем! Думаешь, нейрочипы не справятся с разумом?
– Думаю, не справятся.
– Хочешь поговорить с Нано?
– Хочу. Но ты не дашь.
– Правильно, не дам. Собьешь мне гения с пути истинного.
– С пути истинного – не собьешь. Я направлю его…
– Полагаешь, разумом оборониться от прогресса?
– Интеллект уже затеял две мировых войны, сейчас благополучно заполыхает какая-нибудь планетарная нановойна. Я хочу узнать у твоего Нано, знает ли он разницу между разумом и интеллектом? До тех пор пока разум будут принимать за интеллект, насилие будет принимать все более и более изощренные формы. Или интеллект – или разум . Вот как сегодня стоит вопрос перед человечеством. Понимаешь, разум именем истины защищает все живое, а интеллект, прикрываясь шкурными соображениями, – истребляет; разум познает, а интеллект приспосабливается; фокус в том, что рано или поздно эффективное приспособление оборачивается катастрофой. Сейчас де факто точкой отсчета в мире является интеллект; когда точкой отсчета станет разум…
– Этому не бывать, для этого сначала надо сойти с ума!
– Я бы выразился иначе: надо овладеть логикой диалектики; когда интеллект поймет, почувствует (вот оцени коварство диалектики!), что ему одна дорога – становиться разумом, он перестанет видеть в разуме своего врага, а увидит противоположность; враг – это одно, а противоположность – это другое; противоположность – это твоя суть, вывернутая наизнанку; противоположность даже ближе друга, ибо она есть ты сам. До тех пор, пока интеллект видит в разуме врага, от такого информационного перекоса страдают все. Когда точкой отсчета станет разум…
– Когда точкой отсчета станет разум, я, хищник, пойду на корм более сложному информационному монстру, так?
– Такая метафора отчасти справедлива.
– Так вот этому не бывать: я не умею проигрывать.
– Как ты не поймешь, что ты уже потенциально разум, ведь разум без интеллекта невозможен! Как ты можешь проиграть самому себе?
– Всегда думал, что схоластика – это сильная сторона интеллекта, но и разум, я вижу, не чужд слабости погонять из пустого в порожнее…
– Приходится говорить с тобой на одном языке.
– Нет, общего языка мы не найдем.
– Тебе невыгодно его находить; точнее, ты в упор не видишь собственной выгоды.
– Повторю для особо одаренных: я не умею проигрывать. Твоя выгода – смерть для меня, и не надо лохматить бабушку.
– Интеллект не поступится своей логикой, даже если мир рухнет; интеллект – это высшая глупость, настолько высокая, что почти граничит с умом. Вот почему разум носится с интеллектом, словно баба с младенцем.
– Словно дурень с писаной торбой.
– Или так. Ответственная за мир инстанция – разум, а прогресс обеспечивает, торит дорогу в будущее – интеллект.
– Ты мне зубы не заговаривай. Фокус не пройдет. У этого мира один господин.
– Конечно, один.
– Интеллект.
– Интеллект, стоящий на службе не только у брюха, но и у разума.
– Опять схоластика! Почему ты не можешь на пальцах объяснить мне суть? Слабо?
– Потому что ты не в состоянии освоить диалектику высшей пробы. Тебе не дано. Ну, не твой размерчик. Иди в детский сад и объясни, как устроена вселенная. Слабо?
– Опять дешевый трюк: метафоры, метаморфозы… Сдаешься?
– Не думал я, что ты до такой степени идиот. Порог невменяемости пещерный. Извилины родились еще у троглодита, и троглодит всегда будет твоим авторитетным папой.
– А-а, нервишки тоже пошаливают!
– Бывает. Иногда хочется всучить тебе все это хозяйство – личность, истина, добро, красота – отдать, и посмотреть, как ты возьмешься синим пламенем. Мир пустишь прахом за пятилетку! Хочется доказать тебе свою правоту любой ценой.
– Так ведь это же неразумно!
– Неразумно, конечно. Но во мне иногда тоже просыпается логика интеллекта. Как говорится, ничто человеческое и мне не чуждо.
– А зачем мне истина? Я, не будь дурак, на разум спихну это гиблое дело…
– Еще бы. Гений приспособления, известная штука. Хоть бы спасибо иногда сказал…
– Это ты мне спасибо скажи, что я хоть дураком тебя выставляю, но все же даю жить… Так мир или война?
– Боже мой! Судишь, дружок, не выше сапога. Ты так ничегошеньки и не понял… И мир, и война, разумеется. И всего побольше. Сегодня я твой вассал, а ты мой господин; завтра, глядишь, все окажется с точностью до наоборот. И вот тогда я укажу тебе твое место. Самое интересное – тебе бы понравилось, да разве тебе объяснишь… Вот смотри: если бы Сатана с Богом существовали, то Сатана был бы непременно интеллектуально развитым, хитроумным, а Бог бы – умным. Усекаешь? Интеллектуально развитый Дурак-Сатана потому и совершает вечно благо, вопреки своей гнусной природе, что не в силах освоить диалектику. Хочет зла – ан выходит благо; хочет как лучше – а получается славная дорожка в ад. И Сатана комплексует перед Богом, который насквозь видит проделки этого злокозненного балбеса. Ну, разве умный станет творить зло? Умный и зло – несовместимые вещи. А теперь подумай: кто людям ближе: Бог или Дьявол? Кого эти аленькие чувствуют на клеточном уровне? А? Да Бог для них чужеродная материя, они боятся его пуще всякого ада. Боятся, ибо не понимают. А вот с Бесом они на дружеской ноге – такие же поганцы. Ум! Ум всему голова!
– Я тебе не верю.
– Вот это золотые слова: ты можешь только верить или не верить, хотя на словах доказываешь абсурдность веры. Все-таки ты порядочная скотина, позволь тебе сказать это по дружбе.
– А вот ругаться… Относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Кстати, интеллектом сказано или разумом?
– В данном случае мы имеем дело с проблесками разума у интеллекта.
– Выкручиваешься, ну, весь в меня.
– В кого же мне быть?
– Зачем же ругаешься? Это унижает мое чувство собственного достоинства.
– Вот скотина! У тебя же его нет! Ты же его имитируешь! У тебя есть только дешевое самолюбие. Вот обрати внимание: я могу порой унизиться до интеллекта, а ты стремишься выглядеть разумно. Кто вассал, кто господин?
– По-моему, ты переходишь все границы. Страх теряешь.
– А мне выгодно подчеркнуть условность границ.
– Зато мне – невыгодно.
– Это точно.
– Нейрочип – это мое изобретение, и, даст Бог, в человеке так и не проснется разум. По крайней мере, я сделаю для этого все возможное. Будете плясать под мою дудку. Половина населения ДН ПП уже танцует…
– Так, может, нам больше и не встречаться?
– Позовут – на коленях приползешь, куда ты денешься с подводной лодки? А то мир прахом пущу. Понял? Хе-хе…
И вдруг, понизив голос, сказал:
– А хочешь я сверю твой ДНК с моим?
Это прозвучало как угроза.
Самое интересное, я воспринял это как угрозу.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.8.
Пухлые тучки, облаченные в пышные панталончики, устроили на небе пикантный канкан.
Луна, нисколько не скрывая своего нескромного интереса, пристально наблюдала за ними.
Я рассказал свой «литературный» сон Вене. Зачем?
Трудно сказать. Порой на нем я делал апробации своим рискованным теориям. Кроме того, в общении с ним интуиция моя обострялась, как никогда. Масса эмоций и адреналина – вот что такое был для меня Веня. Он был очень интеллектуально развит, но очень неглубок; однако же его неглубокие доводы неизменно помогали мне оттачивать мою глубокую философию.
Неловко признаваться, но его взгляды с неожиданной стороны помогали мне понимать себя.
Он, если совсем честно, где-то был моим соавтором.
Реакция Вени на мой сон оказалась совершенно для меня неожиданной. Логичной, если разобраться (так ведь на то, чтобы разобраться, требуется время). Но вот после таких реакций я не то чтобы начинал уважать Веню, нет, конечно, это не то; я понимал и чувствовал, насколько же в нем много неистребимого жизненного запаса – и злился оттого, что никак не могу сделать Веню своим союзником.
А ведь мне этого хотелось больше всего на свете…
– На твоем литературном сходняке не хватало только меня, – сказал он тихим, уверенным голосом.
– Ты-то здесь при чем? Где ты и где – литература? Ври, да не завирайся, – ответил я ему с раздражением.
Литература для меня действительно святое, и Веня, конечно, давно играет на этой моей слабости. Для меня давно уже нет ничего святого, но вот с литературой происходит какая-то чертовщина: чем дальше – тем больше святится имя настоящей литературы.
– Плато, ты не замечаешь очевидных вещей. Честно говоря, иногда меня это трогает: такой умище – и не видишь того, что у тебя под носом творится. Ох, уж эта простота мудрецов…
– Поконкретнее можно?
– Можно и поконкретнее и пооткровеннее. Помнишь мою повесть про Туза? Ты еще спрашивал что-то о ней. Ахинею какую-то нес. Так вот, повесть устарела еще до того, как была мною написана – потому что она была написана в пику тебе, следовательно, под твоим сильным влиянием. Сейчас ты видишь перед собой автора бестселлера, автора выдающегося современного произведения. Этим автором являюсь я, а не ты, заметь. И на твой литературный сходняк я в следующий раз попаду обязательно. Вот увидишь. Сяду одесную Пушкина.
Это было слишком. Сегодня, когда упоминают имя Пушкина, я начинаю нервничать – и всегда, как показывает практика, по делу.
– Как называется твой бестселлер?
– Он называется «Bestсовестный». Слыхал? Автор – Веня Bar-in перед вами, собственной персоной.
Об этой чуши не слыхал разве что глухой, да ленивый впридачу.
– Bar-on – это ты?
– Bar-in. Есть разница. Я обскакал тебя даже на твоем поле, Плато, можно сказать, побил тебя в твоем родовом гнезде. Поражение должно быть чувствительным.
– Но ведь это же блоггерская туфта.
– Не скажи. Пока ты играючи и игриво изволил беседовать с вечностью, я вошел в контакт с бессознательным эпохи. А стоящая литература аккумулирует в себе бессознательное эпохи, не так ли? Не этому ли ты меня учил?
– Так да не так. И потом: я вообще никого ничему не учу, я только высказываю свое мнение…
– Те-те-те, пой, ласточка, пой. «Братьев Карамазовых» читал? А я знаю о них в твоем пересказе. Так вот там тоже один из братцев, помнится, никого ничему не учил, только все вышло по его наущению.
– Я толком не читал твоего «Bestсовестного», но непременно прочту, чтобы иметь представление о выдающемся современном произведении.
– Вот ты сначала прочти, а лыбиться потом будешь. Да, ты прав: сегодня маятник культуры качнулся в сторону от сознания – в сторону бессознательного. Это так. Но ты не оценил масштабов угрозы и степени необратимости процесса: маятник качнулся в сторону настолько, что задел за само вещество энтропии, царапнул антивещество. Только не делай вид, будто не понимаешь, о чем я!
– Ты выражаешься коряво, но я понимаю, о чем ты.
– Я выражаюсь так, как выражался ты.
– Я не умею так коряво, ты мне льстишь.
– Заткнись. И слушай умного человека. Так вот. Процесс духовно-культурной энтропии зашел настолько далеко, что мир рассыпался уже не на фрагменты, а на молекулы. Вот мой «Туз» был о фрагментах; а сегодня вещество жизни – это молекулы. Понимаешь? Звезды есть – а вселенной не стало. Вот ты написал «Вселенная – не место для печали». А вселенной вообще нет. Есть только отдельно взятые звезды, хаотично разбросанные по небосводу. Вот я и написал книгу о звездочках. Собрал в ладонь горсть звезд – и швырнул их в никуда. Горят ярко. Что и требуется сегодня доказать.
– С этого момента поподробней, пожалуйста. Что горит? О каких звездах речь? Можешь все это изложить связно?
– Тебе не дано быть современным, а мне – дано. Что мы сегодня имеем? Клиповое, фрагментарное сознание. Вот ему и надо адресовать свои художественные фишки. Надо говорить на его языке. Они, эти клипари, разучились сосредотачиваться на чем-либо отдельном, хоть даже на себе, любимом, более девяти секунд. Если через 9 секунд за шуткой, за приколом, за дозой информации, за яркой эмоциональной или интеллектуальной фишкой – словом, если за звездой не следует звезда, клипарь отрубается. Все, его внимание улетело. Это факт, зафиксированный в моих лабораториях. А ты ему про апокалипсис о девяти сериях, в трех томах… Смешно. Не в коня, то бишь не в клипаря, корм. Ты пишешь без адреса, и читать тебя уже некому.
– Я пишу свои романы из презрения к читателям, не смыслящим в литературе; а ты – из любви к читателям, которые презирают литературу. Знаешь, что такое хорошая литература, хорошая проза? Это не горсть звезд; это портрет на фоне эпохи, а еще лучше – частная история на фоне времени. А горсть звезд – это трюк факира.
– Знаю, знаю, эка, удивил. Но ты не понимаешь главного: еще вчера твои взгляды казались проявлением вечного в наши дни, а сегодня все поменялось. Да, да, поменялось: ориентация на высокую культуру, как ни прискорбно это признать, была исторической ошибкой. Тупиковым вариантом развития. Сегодня это становится очевидным. Качественный скачок, о котором ты так любишь рассуждать, происходит у тебя на глазах, и ты оказался первым, кто его прозевал. Мы переболели вирусом культуры, а сегодня выздоравливаем. А ты у нас продолжаешь хворать на всю голову. Врач, исцелись сам. Как говорится, ты слишком хорош для этого мира, но не слишком жизнеспособен. Знаешь, что делали спартанцы с талантливым, но хилым потомством?
– Боже мой, что может натворить развитый интеллект, не способный совершить качественный скачок – превратиться в разум. Боже мой! О чем твой опус?
– Не опус, а книга. В том-то и дело, что она ни о чем. О звездах. Которые я запулил в никуда. Тебе кажется, для этого не нужен талант? Меня читают миллионы, а ты не признаешь за мной таланта? Но ведь моя книга отразила сознание эпохи! Моя, а не твоя! Это – факт! И Пушкин пожмет руку мне, а не тебе!
– Бедный Пушкин. Оставь его в покое.
– Он не заслужил покоя. Он превратился в залапанный символ. Его также читают миллионы.
– Врешь! Миллионы читают не того Пушкина!
– Но ведь читают же!
– Хорошо. Вас с Пушкиным читают миллионы. Зачем тебе это?
– Как – зачем? Массы кормятся с моей руки. Мне выгодно такое сознание, мне выгодна такая литература. Они ведь не только в чувствах, они и в мыслях клипанутые. Я их возьму голыми руками. Они ведь вообще лишились самой главной защиты – защиты разума. Разве не ты мне об этом говорил?
– Клипомания – это болезнь.
– Это диагноз, согласен. Больничка. Добро пожаловать в реальный мир, где рулят клипоманы. И ты в этом мире пишешь свои «связные» романы. Кто из нас более неадекватен?
– Неадекватен – чему?
– Ой, вот только не надо этих ваших штучек. Чему, кому, чу и щу пиши с буквой «ю»… Не надо лохматить бабушку. Ты неадекватен миру, в частности, людям, его населяющим. Я даю такой продукт, который востребован; а ты даешь продукт, который не имеет рыночного эквивалента. Кто из нас сумасшедший?
– Не скажу.
– А я и не спрашиваю. Вопрос был риторическим, как говаривали в Древнем Риме. Но на твою литературную тусовку позовут меня. Потому что до сих пор вся литература писала о том, что реально волнует реальных людей. А ты – ошуюю и одесную… Тьфу.
– Веня Барин, эко тебя разобрало. Да черт с тобой, пиши бессвязное, поблескивай тем, что блестит. Ведь твои девятисекундные бараны и о тебе забудут через все те же 9 сек! Детское, подростковое сознание – оно же нежизнеспособно! Это ты издал роман «Оговорочки от Пети: смейтесь, дети, плачьте, дети»?
– Да, это супер-проект. Просто на зависть.
– Девятилетний герой романа, описанный семилетним автором… Это уже не смерть автора. И даже не смерть культуры. Это явление культурному миру гражданки с косой. Не бабы, это мы уже проходили; не коса до пояса – а коса как символ п…ца. Лам-ца, дри-ца, гоп-ца-ца…
– Вот, вот, вот, ты сейчас заговорил, как герой «Bestсовестного». Ведь можешь, когда захочешь! Но тебе до меня далеко.
– Нет, Веня, нет; это тебе до меня далеко.
– Не дальше, чем до звезд. До которых я уже дотянулся. Лакомиться фрагментами – кратчайший путь к славе сегодня. Глупо этого не замечать.
– Твой «Бес_совестный» всего лишь фрагмент вселенной. Первый уровень. Детский сад. А ведь девять уровней еще никто не отменял.
– Точнее сказать, их никто еще не вводил как закон.
– А законы вселенной не вводят, Веня; их чтут, как «Отче наш», только на том основании, что это законы. Это в свободном обществе карают именем глупого закона, а во вселенной для глупых нет свободы.
– Знаешь, что? Ведь «Bestсовестный» наполовину состоит из твоих выражений. Из твоих матриц. Что скажешь?
– Нет, это не мой культурный проект. Ты услышал то, что захотел услышать. Слышите то, что хотите слышать, читаете у Пушкина то, что он не писал, по римскому праву судите о праве личности… Обо мне надо судить по моим книгам, а не по моему раскрепощенному бессознательному. Бесы сознания ошую, агнцы одесную. Короче говоря, вольному воля, спасенному рай, а умному – вселенная. Так понятнее?
– Ты еще забыл упомянуть «кесарю кесарево, а клипанутому – клипанутое». Как ты собираешься сражаться с клиповым сознанием, гидра которого лезет изо всех щелей? Ты, господин Геракл, безумно умный? Люди уже сожрали самих себе; вопрос дожирания – вопрос доживания. Перед каждым – блюдечко с голубой каемочкой, на котором возлежит он сам, приготовленный особым способом специально обученными людьми. Просто объедение. Или вам не нравится наше угощенье? Мир не хочет развиваться в сторону культуры. Не хотим мы, понял? А из таких, как ты, будем делать чучело – и в музей. Ошуюю динозавры, одесную – ты. Ты уже не ты, а мечта таксодермиста. Тебя уже нет. Это я по щедрости и широте душевной разговариваю еще с эхом прошлого, которое я, признаюсь, едва не принял за отголосок будущего. Но теперь все, чары развеялись. Дорога моя ясна.
– Я не собираюсь сражаться с клиповым сознанием. Что толку? Ломать – не строить. Я собираюсь… Почему ты так боишься 9 уровня, Веня?
– 9 уровень – это миф.
– Допустим. Но сам миф о 9 уровне – уже больше, чем миф.
– Чем больше, чем?
– Чем миф.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
9
9.9.
– Ты отравил моих котов!
Если Веня утро начинает с пунктиков, значит, он, ко всему прочему, встал не с той ноги. «Села не на ту метлу», – как говорят о себе в подобных случаях здравомыслящие женщины.
– Идиот! Зачем они мне нужны?
Я почувствовал, что мне также крайне трудно сдержать раздражение. Накипело. Видимо, мне также подвернулась не та метла.
– Не хочу ничего слышать. Тебе нельзя доверять! Ты всегда обманешь! Не верю!
– А ты тупое безмозглое существо. Из-за таких, как ты, уродов мы все время на грани вымирания.
– Знаешь что? Давай-ка оставим в стороне все чудеса техники и возьмем пистолеты XIX, нет XVII века, и станем стреляться до тех пор, пока один из нас не завалит другого, – легко сказал Веня.
Решение, очевидно, созрело не сию секунду.
– Предлагаю драться на луках. Лук и стрелы. Еще честнее.
Я также демонстрировал боевую форму.
– Еще честнее на дубинах. Только пусть дубинами станут пистолеты XIX века с отравленными пулями.
– Ужас какой-то.
– Вот-вот, чтобы пострашнее.
– Но только с ядом я тебе не доверяю: ты станешь мухлевать.
– Пожалуйста, вот тебе цианид на выбор: можешь попробовать прежде, чем мы начнем стреляться.
– Благодарствуйте, сыт по горло вашим гостеприимством, Барон.
– Стреляться будем без секундантов?
– Отчего же? Соблюдем все правила дуэли. Вашим секундантом, я полагаю, станет Время, моим – Пространство.
– Почему не наоборот, граф?
– С условной вечностью, Маркиз, возможно, вы еще и найдете общий язык, а вот с безмерностью вселенной…
– Нет, я изберу своим секундантом инстанцию поавторитетнее. Интеллект – вот мой секундант.
– В таком случае моим секундантом станет – Разум.
– Ты полагаешь, это не одно и то же?
– В принципе одно и то же, но разница такая же, как между светом и тьмой. Как между мною и тобой.
– К барьеру, Скарабей! Ты – тлишный человек.
– Я всегда готов, Барон!
– Ты отравил моих котов!
– Нет, забрало их Время. К черту! Я хотел сказать, к барьеру!
– Занавес. Я хотел сказать, пистолеты. Вот полюбуйся на эти произведения искусства: принимать смерть из таких изящных стволов – одно удовольствие.
Пистолеты были коллекционные, изготовленные во Франции в XVII веке. Взяв в руки тяжелое, испещренное узорами оружие, невозможно было с ним расстаться. Кажется, я понимал вот эту слабость Вени – коллекционировать старинные пистолеты и холодное оружие. От этих честных орудий убийства веяло чем-то чистым и наивным. Казалось, сама судьба вкладывает тебе в теплую ладонь леденящую рукоять.
Прошлое исправно поставляет нам романтические мифы. Ничего удивительного не было в том, что Веня сподобился на лирическое отступление.
– Почему, Платон, я так тянусь к тебе? Как будто закон притяжения работает в отношении людей.
– Видимо, потому, Веня, что и я не в силах оторваться от тебя. То ли ты мой спутник, то ли я твой, если честно.
– А ведь ты обречен, давно обречен. Просто не понимаю, ума не приложу, какого дьявола я с тобой ношусь, как дурень с писаной торбой. Вот скажи, отчего?
– Не скажу.
– Почему?
– Твое бессознательное – мой шанс. Оно умнее тебя.
– А твое бессознательное?
– Оно глупее меня.
– Пошел в жопу!
– Сам пошел!
– К барьеру!
– Подожди! Последнее, что я хочу сказать. Маркиз! Человечество не выживет без аристократии, без духовной аристократии, без подлинной элиты. Ты, Веня, – псевдоэлита. Пока точка отсчета в мире потребности быдла – ты король. Но поставь в центр вселенной личность – и ты превращаешься в ноль. А выжить можно только за счет резервов личности, поэтому личность рано или поздно станет стержнем жизни. Вот потому ты и бесишься, подчиняешь себе все, что шевелится. Захватываешь жизненное пространство направо-налево, как амеба. Приблизил меня к себе, чтобы уничтожить. Но ты просчитался. Я – смерть твоя! Надеюсь, нас услышит кто-нибудь еще, кроме нас, и меня правильно поймут.
– А как же милосердие? А как насчет подставить другую щеку? Возлюбить врагов? Я слышал, разумные люди называют себя гуманистами.
– Последнее слово в этом мире останется за культурой, а не за милосердием в трактовке попсовых талмудистов.
Я говорил, вроде бы, разумные вещи, но мне казалось, что я буквально плююсь ядом, как кобра. Да и слова мои действовали на Барона, будто яд.
Он сжимался, играл мускулами и, казалось, издавал шипение.
– К барьеру!
Белые по краям и тронутые седоватой чернью в середине матерые тучи подтягивались неспешно и солидно, словно несметные силы рати небесной.
Начало сентября. Еще зелено. Берег лесного озера. Ветер. Вечер.
Внезапно тучи, сгустившиеся до черноватой синевы, замерли. Ветер стих. Вода затаила дыхание. Казалось, один из наших невидимых секундантов не выдержал и моргнул.
В то же мгновение раздались два выстрела. Слившиеся в один.
Не успело затихнуть эхо в лесу, как черно-золотыми разломами – крест накрест – блеснули молнии, одновременно напоминавшие и реки на снимке из космоса, и вывернутые корни деревьев, враставшие в космос, и оголенные остовы деревьев, и плывущую по воде стаю змей, и метастазы раковой опухоли, и кровеносную систему человека, и причудливо переплетенные линии в сером веществе мозга, и бог знает, что еще напоминали ослепительные жилы молний. Золотые трещины-вспышки мгновенно почернели, застыли – и в этот момент, сразу вслед за кратким остеохондрозным хрустом, будто хребет свернули старому чудищу, шарахнул гром такой ядерной силы, что, казалось, пространство, время и сама вселенная должны были разлететься в пух и прах.
Или – породить новую вселенную.
Взметнувшееся со всех концов леса воронье, похожее на выброс хлопьев сажи откуда-то из адских недр, застилало полнеба, галдело колокольным гулом и тревожно кружило на фоне грязных, тяжелых и, казалось, съежившихся туч.
Заходящее солнце оранжевым жаром жгло горизонт. Возникала полная иллюзия, что находящийся невдалеке ДН ПП пылает, словно сухой валежник.
На берегу озера рядом с холмиком, напоминающим кратер вулкана, в расслабленной позе лежали два сложившихся по закону земного притяжения тела, отдаленно напоминавшие трупы; но опытный глаз сразу различил бы главное: тела еще не окоченели.
И действительно, мужчины время от времени судорожно втягивали в себя воздух сквозь полураскрытые запекшиеся ротовые отверстия.
Платону пуля задела сердце, Вене – едва не зацепила мозг.
– Веня…
– Плато, ты жив?
– Кажется, да. Немного.
– Хорошо. Возьми в моем левом нагрудном кармане навигатор. Нажми большую красную кнопку SOS. Соску. Кнопка у меня. Понимаешь, о чем я? Эх, зачем ты мне помешал…
С этими словами, произнесенными медленно и внятно, так, как требовали сержанты выговаривать предсмертную реплику в учебке спецназа, собрав последние силы, вкладываясь в каждое слово, ибо от сказанного могла зависеть жизнь товарищей, Веня отключился. Судя по выражению его лица – напряжение спало, кожа разгладилась – он попал в хорошо знакомое место и в неплохую компанию.
Платон нашарил рукой небольшой навигатор-маяк. Сосредоточился. Расстегнул карман. Достал небольшой маяк, напоминавший мобильник. Все кнопки сразу стали красные и липкие. Он выбрал и нажал самую большую из них.
После этого, намертво приклеив палец к заветной кнопке, отключился, провалившись в черную дыру.
Спутниковый сигнал SOS приняли те, кому он был послан.
Вовремя подобрать раненых, а также оказать первую необходимую помощь, было делом техники.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?
1
1.9.
«Декабрь. Солнца нет и нет. Сыроватые тучи бесконечно тянутся по небу, словно грязная пена с берегов гигантского лазурного океана. Я уже даже не могу сказать, скучаю ли я по Солнцу. Я просто забыл, что значит купаться в солнечных лучах.
Сначала я хотел – и даже взял на себя такие обязательства! – изложить свои мысли на бумагу. Но что-то удержало меня от этого.
В результате все, что осталось от меня «по этому поводу» – мой внутренний монолог. Истина личности, по моему глубокому убеждению, может существовать только в таких вот эфемерных формах, как внутренний монолог. Получается забавно. С одной стороны, истина все же есть; с другой стороны – она живет доли секунды, ничтожно малое время – настолько малое, что на протяжении этого времени невозможно оказать влияние на кого-то, нельзя воздействовать того, кто личностью не является. На род человеческий, на социум, на отдельного человека. Это ли не забавно? С третьей стороны, внутренний монолог и есть нечто «втуне», то есть, предназначенное для внутреннего потребления, для внутренней самооценки – нечто, не предполагающее выноса на площадь, на всеобщее обозрение. Внутренний монолог невозможно превратить в учебное пособие, даже если он будет записан и отредактирован.
Личность и нужна обществу как искра, как девять особей на семь миллиардов, как проблеск сознания, как мелькнувший, но не зафиксированный монолог. Я не хочу сказать, что эти девять – безнадежно более совершенного качества, нежели противостоящая им масса: элита элит и миллиарды. Я хочу сказать иное: эти девять рождены энергией и смыслом, производимыми миллиардами. У этих девяти есть папа и мама, но они рождаются человечеством.
И миллиарды не столько завидуют личностям (глина не может завидовать искре), сколько рассчитывают на них. И где-то они, люди, правы своей сермяжной правотой. В личность инвестировали, теперь пускай она приносит дивиденды. Как корова молоко.
А что может личность?
Сколько ни говори – тебе не поверят. Молоко оказывается непригодным к употреблению. Личность говорит – но ее никто не слышит. Вот и получается, что внутренний монолог – это форма защиты, способ отгородиться от враждебного мира, способ издевательски вернуть должок.
Так нужны ли эти искры, летящие из труб локомотива-паровоза истории? Что толку возиться с ними? Вспыхнули – и погасли на ветру. Туда и дорога. Во тьму.
Одну секундочку!
Умножьте девять на количество людских поколений. Начните не с Адама, а хотя бы со времен Гомера. Получится уже кругленькая цифра. Попробуйте это количество сунуть в топку истории. Что-с? Геноцид?
Вот именно. Из искры пока что никак не возгорается пламя; однако же без искры нет прогресса. От искры возгорается искра, как от свечки свечка: об этом забыли?
Вот почему личность одинока: она разговаривает на языке вечности со всеми, сознавая, что это бессмысленно. И не говорить не может – и словами делу не поможешь. Остается внутренний монолог как форма сопротивления. Внутренний монолог как мостик от личности к личности. Взмах ладошкой в темень вечности. Забавно.
Хорошо. Я готов к компромиссу. Одна из самых престижных форм внутреннего монолога, изобретенных человечеством, – это роман, который человечество тут же заставило заговорить понятным всем языком. Роман стал формой бессмысленности, как и все на свете. Роман так роман. Личность это ни к чему не обязывает. К тому же сегодня это весьма удобно, учитывая то обстоятельство, что романы перестали читать.
Не угодно ли роман, Веня?
Это будет ответ на твою тузовую повесть.
И на «Best» книгу, бестия ты этакая))».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
2
2.9.
«Из простреленного бока темной тучи густо сочился горячий солнечный луч, словно струя воды била фонтаном в пробитую шлюпку, – и луч все расширял маленькую дырку, свет лился в пробоину все более широким, неудержимым потоком, и, наконец, тучу смяло и разорвало в клочья.
Шлюпка затонула в голубой акватории.
Веня смотрел на небо, а перед глазами стояла картинка из прошлого: на зеленоватой глади воды, выложенной осколками битого зеркала, отплясывали солнечные зайчики, рискуя порезаться.
– Рассказать тебе, как меня спас Филя? – задумчиво спросил Барон.
– Зачем? – в тон ему отозвался Платон.
Они стояли на берегу озера, и взгляд их блуждал между небом и водой.
– Затем, что нас, похоже, связывает больше, чем нам хотелось бы.
– А… Ну, тогда валяй.
…Барон вместе с Филей быстро гребли на шлюпке к берегу, сорвав немыслимый куш в казино на борту яхты «Орион». Кроме того, Филя по кличке Туз смухлевал в карты так нагло и так дерзко, что беглецы должны были молить небеса, чтобы им дарована была легкая смерть от пули со смещенным центром тяжести. Но с яхты отчаянно мазали, хотя палили из десятка стволов, трезвые и пьяные. То ли это был не их день, то ли шлюпка оказалась заговоренной. Стрелки теряли уверенность, били, скорее, на пустом кураже, сторону беглецов уже открыто принимали плотные сумерки и приличное расстояние до яхты. Видно, вместе с золотом и валютой парни прихватили и сундучок с пиратским фартом.
Так бывает.
До берега оставалось уже метров триста, когда в борт шлюпки, чуть ниже ватерлинии, с сочным треском, как гарпун, цокнула пуля крупного калибра. Пробиты были оба борта; кроме того, пуля задела внутреннюю часть бедра Фантомаса. Потоки крови и фонтаны воды зловеще перемешивались, из Вениной вены толчками уходила жизнь.
Шлюпка быстро затонула. Последнее, что помнил Веня перед тем, как потерять сознание, – это свое острое сожаление о том, что он так и не трахнул весьма аппетитную блондинку-крупье, которая, конечно, обмочила свои ажурные трусики, когда увидела (глазам не поверила!), как сыграла Венина ставка «семнадцать на черное». Из набора «все» или «ничего» божественный перст простодушно ткнул во «все». Что, собственно, составляло стоимость яхты. Богатые, серьезные люди вмиг превратились в шакалов, вооруженных охотничьими карабинами. Для серьезных людей нет выбора деньги или кровь; здесь провидению нет работы, выбор всегда один: деньги, деньги и еще раз деньги. Любой ценой. То есть, ценой крови.
Первое, что вспоминается Барону после того, как к нему вернулось сознание, – это растерянное лицо Фили. Туз был не столько обрадован или потрясен, сколько растерян.
– Где мы? – синими губами прошептал Веня.
– На берегу, – тихо ответил Туз.
– На том свете или на этом?
– На этом. Том самом. То есть, мы живы пока. Как я думаю.
– Ты спас меня?
– Вода не приняла тебя, – загадочно отвел в сторону глаза Туз.
– Что произошло?
– Ты пошел ко дну, как слиток золота. Я стал тащить тебя за шею – за лысину ведь не ухватишь, будь оно неладно! Куда там! Обоих потянуло вниз. Ну, думаю, конец. Отпустил твою лакированную башку и всплыл, едва воздуху хватило. Доплываю до камней – вижу, ты качаешься на волнах рядом, как резиновый. Руки раскинул. Вот те крест. Думал, утопленник. Вытянул на берег – а ты дышишь. Лаки бой.
– Не скромничай. Ты спас меня. Просто сам в шоке, поэтому ничего не помнишь. Так бывает. От страха силы удваиваются, а память отшибает. А что с ногой сделал?
В том месте, где из вены хлестала кровь, виден был лишь намек на рубец.
Филя пожал плечами.
Веня вспомнил кожей (воспоминание было смутным, как взгляд сквозь зеленоватую толщу морской воды): к ране на его ноге прикоснулись пальцы морской женщины, не русалки, а живой земной женщины, обитающей в море. Марии, если не изменяет память, хотя глупее этого выражения в данном случае ничего не придумаешь: как можно пытаться вспомнить то, чего не было и в помине? Мария приложила указательный палец, увенчанный наперстком , к губам: мол, остальное вспомнишь потом, в спокойной обстановке. Тогда и пообщаемся.
Веня так и поступил.
Результатом воспоминаний стало убеждение: огонь его не взял, и вода не приняла – и все потому, что он пока не выполнил возложенной на него миссии. В кармане брюк обнаружен был тот самый наперсток.
– Понял? И я там был, – заключил Веня.
– Где там?
– У Марии.
– Раньше надо было сказать. Я бы ей привет передал.
– Так ведь ты и был моим приветом. Посланником и приветом одновременно. Помахал ручкой тете Марии от дяди Вени.
– А получилось, что хвост стал вилять собакой, ты не находишь? Теперь ты мой привет.
– Не хочешь спросить, чем мы занимались на яхте с Филей?
– Я знаю, Веня.
– Научился читать прошлое?
Теперь привилегия отставлять вопросы без ответа безоговорочно перешла ко мне.
Мелкие чайки кружили вразнобой, напоминая рассеявшийся пух, поднятый потоком воздуха вверх. Их тела отливали на солнце белым серебром, словно чешуя рыбок, за которыми они охотились.
Потом чайки опустились на воду и покрыли ее легкими белыми поплавками.
Успокоились».После прочтения повести, я задал автору только два вопроса. Первый:
– Веня, развей мои сомнения. Мне кажется, ты стал гораздо меньше выражаться на крепком русском. Я прав? Уж не мое ли влияние сказывается, а, Веня?
– А ты знаешь, отчего «поле брани» называется именно так?
– Поле битвы – оно же поле брани… Нет?
– Нет, нет, ничего подобного. В прежние времена, когда хотелось выплеснуть из себя агрессию, люди выходили в поле и бранились, матерились, орали благим матом. Не в лесу, где тебя деревья окружают, да и живность всякая, а в голом поле орали, чтобы рассеялся заряд агрессии. В пух и прах. Мои гении доложили мне, что бранные слова разрушают ДНК, генетический аппарат, они влияют на наследственность того, кто выражается, естественно. Словом, мутагенный эффект на лицо, черт бы его побрал. Ну, вот, совсем без брани не могу, брат. И наоборот, Платоша: молитвы ставят хромосомы и спирали на свои места. Матерщинники живут меньше. Марсик II, я подозреваю, окочурился от того, что я его, сукиного кота, матом крыл на чем свет стоит. Думал, что если ругать – то это на пользу. Вышло, что во вред.
– Боишься ругаться?
– Боюсь поминать всуе… Вот воскликну в сердцах, задам чертей, не к ночи будь помянуто, и чувствую, что опутывает меня тот мир. Я словно окликнул их, а они отзываются. Вот и Марсики мои отныне посветлее станут: светлые коты специализируются на том, чтобы отдавать хозяину свою положительно заряженную энергию.
– Значит, я здесь не при чем? В храм потянуло. В мистику чертову. И ты, Брут…
– Почему сразу в мистику? Мои академики выяснили: качество интеллекта напрямую зависит от частоты употребления «горячих» слов. Способность контролировать эмоции – вот что характеризует интеллект. Способность обуздывать их, подчинять, но не подавлять. С горячительным, судя по всему, следует быть осторожным всегда и везде.
– Значит, без меня здесь дело все же не обошлось?
Комментариев не последовало.
Вопрос второй:
– Мефистофель, он же дьявол, – это метафорическое преломление натуры в человеке; культура – Бог, если угодно. Не кажется ли тебе, Веня, что твоя повесть именно об этом?
Барон уклончиво промолчал.
В другой раз, когда мы вскользь затронули литературную тему, он отреагировал следующим образом (отзываясь не столько на мои слова, сколько на свои мысли, как это часто бывало):
– Твое описание любви… От этого тошнит. Переживания какие-то, кривлянье. Нафталином, испорченным еще в XIX, нет, в XVII веке, несет за версту. Современные отношения мужчины и женщины – в принципе не такие. Тебя читать никто не будет. А меня – будут. Но мне на это наплевать. Кстати, дай мне почитать что-нибудь свое, из последнего. «Ad astra», кажется?
Если ты мужчина, мачо, самец, твоя жена и твои любовницы должны оказаться в одной постели с тобой. Чем раньше – тем лучше. Если этого не произошло, если вы все не делите одно ложе, то это вовсе не означает, что женщины по природе своей хороши; это значит, что ты не справился со своей задачей. Не вижу здесь никакой нравственной проблемы. Хотя математически пока не доказано.
– В таком случае, чем тебя так задело описание любви, Веня?
– Ненавижу любовь, понял?
– Ненавидишь то, чего нет?
– Именно. Поэтому и тебя ненавижу. Хочешь, вызову тебя на дуэль, чтобы прикончить по благородному?
– А разве то, что происходит между нами, можно назвать как-то иначе, нежели поединок? По-моему, ты опоздал с вызовом: дуэль уже давно началась. И повесть твоя – просто запоздалое тому подтверждение. Это ответ на мой роман.
– Ты слишком высокого мнения о себе, если решил, что способен так долго противостоять Барону. Вот сию секунду я смахну тебя в урну вечности, будто муху сраную. Желаешь?
Думаю, он специально не дал мне времени на ответ. Вместе со словом «желаешь», которое сопровождалось острым крючком «?» на конце, в комнате возник Аспирин.
– Ну? – уставился на него Хозяин.
– На кладбище неладно.
– Говори, не тяни, знаешь ведь, что не люблю, балбес, бля. Тьфу, ну, разве можно с вами не ругаться?!
– Батюшка… Отец… Нико повесились.
– На сосне, что ли?
– В точности не знаю.
– На сосне, конечно, сволота. Стволы гладкие, ветки крепкие, от земли высоко, одно удовольствие… У тебя коты на примете есть?
Аспирин выпучил глаза, подался всем телом вперед и старался быстро соображать, чтобы угодить Хозяину. Но связи между котами и Никодимом, очевидно, не улавливал. Поэтому тупо молчал, сбитый с толку.
– Мне нужен Марсик.
– Есть, есть, есть один котик. У дочери моей кошка Маргарет недавно окотилась.
– Порода?
– Британцы, дымчатые, упитанные, большие. Своенравные, черти. На кривой козе не подъедешь.
– Цвет?
– Светлые, как бы бурые… С голубовато-серым оттенком…
Было видно, что описание цвета тяжело давалось Аспирину.
– Не черные?
– Нет, нет, Боже упаси…
– Такой мне и нужен. Выберешь лучшего. Нет, трех лучших. Вот за это спрошу. А Нико… Отработанный материал. Он давно уже сломался. Предай земле то, что от него осталось. Аминь.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
3
3.9.
– Платоша, почему ты бросил писать свою монографию?
– Не пишется.
– В чем дело? Расскажи.
– Как тебе объяснить… Бред какой-то. У меня предчувствие, что я начну писать роман. Впечатление такое, будто писатель вырывает из рук ученого-мыслителя вечное перо. Два джентльмена дерутся, как торговки на базаре.
– Роман? Разве ты рожден писателем? Так странно слышать от тебя такое… Мой муж – писатель… А что, в этом что-то есть. Но все равно странно. Ты такой умный, а писатели такие легкомысленные…
– Мне и самому странно. В общем, забудь о том, что я сказал про роман. Это я так, от отчаяния.
– Я так тревожусь, когда у тебя что-то не получается. Как будто я сама накосячила.
– Все у меня получается. Просто творческий кризис. Это нормально.
– Я заметила: как только тебя настигает творческий кризис, это сказывается на наших отношениях.
– Правда?
– Да, да. И наоборот: как только у нас все хорошо, ты тут же бежишь к столу. Как сообщающийся сосуд.
– Завтра к нам должны прийти Венера с Веней. У них дела идут в гору, они такие важные.
– Да, они на пике жизненного успеха. За них можно не беспокоиться. Но вот завидовать им не хочется.
– А кому ты завидуешь?
– Как кому? Нам.
– Правда?
– Ну, конечно. Лучше, чем у нас, просто не бывает.
– Откуда ты это знаешь?
– Женщина не может не знать таких вещей. Это дано нам от рождения.
– Так-так-так, так-так-так…
– Платоша, ау, ты где?
– Да я, вроде, здесь. Как ты думаешь, не повесить ли вот на эту стену картину? Что-нибудь космическое. Последнее время на меня давит космос. Извини за бред.
– Кажется, я понимаю. Тебе надо писателя и мыслителя усадить за один стол и дать им домашнее задание. Пусть пишут роман.
– Сказку, что ль? В которой намек на намеке сидит и намеком погоняет? Да меня уже тошнит от многозначительных намеков. Умным людям сегодня нужны особые сказки. Научные фантазии, что ли.
– Вот, вот. Пусть пишут роман, в котором растворится твоя монография.
– Как ты себе это представляешь?
– Я же в тебе растворилась? Да еще как. А ты – во мне. Вот, потрогай мой живот. Представляешь, как маленький будет толкаться, рваться на волю, к нам с тобой. Но ведь этим маленьким будешь ты – во мне.
– Хочешь сказать, что ты беременна?
– Я бы очень хотела так сказать… Пока не знаю. Ты был бы рад?
– Честно? Я был бы ошеломлен. Рад – это глупая, бедненькая для такого случая эмоция.
– Обычно все говорят: я так рад, дорогая.
– Вот они и плодят себе подобных. Скупость в мыслях порождает скудные чувства.
– Но все-таки ты был бы рад?
– Конечно, рад.
– Ну, вот. Так бы и сказал. Ведь рано или поздно это случится. Я это знаю. Поэтому ты готовься.
– Скорее всего, ты права.
– Я знаю. У нас будет замечательный ребенок.
– Нет, я о другом. Пусть сольются в романе инь и янь.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
4
4.9.
Темнота.
Атум-Хепри.
Темнота…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
5
5.9.
Я ощутил себя переминающимся с ноги на ногу на территории Марии.
– Доброго времени суток, Мария!
– Доброго времени! Добро пожаловать!
– Спасибо. Ты очень приветлива.
– Не обольщайся, далеко не всегда. И не ко всем. Но в сей момент я рада тебя видеть.
– Я ненадолго. Можно сказать, по делу. Появилось несколько вопросов, без ответа на которые жить мне становится все труднее. Я начну, если позволишь.
– Но я не справочное бюро. Я вообще, можно сказать, имею отношение к появлению вопросов, а не к ответам на них.
– Я знаю, знаю. Возможно, я к тебе затем и пожаловал, чтобы поднабраться вопросов. Возможно, мне как раз и нужны ответы в форме вопросов.
– Давай попробуем. Я вся внимание. Вот оцени, что я сейчас сказала: в данный отрезок времени я вся состою из внимания. Из тех материй, из которых соткан интерес. Прелесть, правда?
– Да уж, забавно. Где Бэлла?
– Кто такая Бэлла? Ах, Бэлла… Всех разве упомнишь: Грэтхен, Маргарита, Бэлла… Об этом лучше спросить у Васи Сахара. Он унес эту тайну в могилу.
– За что ее убили?
– Ее никто не убивал. Она сама себя убила. Отравилась. Пожалуй, «убила» в ее случае – слишком громко сказано. Она просто не захотела жить.
– Причина?
– Любовь к Вене.
– Страсти-то какие.
– Она бросила свою любовь к ногам Вени как обвинение. Она рассказала ему, как любила его всю жизнь, и то насилие над ней, девчонкой, она вовсе не восприняла как насилие: это была любовь. С первого взгляда. Ну, что значит, с первого взгляда? Просто люди видят то, что искали (даже если не догадывались об этом). Зачем второй или третий взгляд, если достаточно первого? Любовь с первого взгляда – бессмысленное выражение. Масло масляное. Просто – любовь. Она вовсе не боялась русского солдата, а с тихой страстью отдалась ему. Он был ее первым и последним мужчиной. Зевсом, проявившим невинный интерес к юной земной красавице. Кстати, после этого с Веней что-то случилось. Когда он встретил Венеру, он был ко многому готов. Вот видишь, встречи с женщинами меняют вас, мужчин. Тебя тянет ко мне, женщине…
– Шутка? Чувство юмора? Блещешь остроумием?
– Не уверена. Истина, мысль – в русском, очень умном языке, категории, отчего-то, женского рода. Возможно, я это имела в виду. Женское начало – вечно живое. Представь себе «мертвую мысль». Как-то не по себе становится…
– Представляю. Забавно: ты тоже во многом не уверена. Это как-то придает мне уверенности.
– Все это так непросто…
– Знаю. У меня от тебя голова кругом.
– В каком смысле?
– В самом что ни на есть земном. Ты мне нравишься. И это волнует меня.
– О! о! о! Хорошо, что нас не слышит Алиса, верно?
– Я хочу тебя. Чувствую себя немного преступником, но все равно хочу.
– Как тебе такое в голову могло прийти!
– Не знаю. Тебе виднее. Только это не в голову пришло.
– Вы, люди, порой пугаете меня. Хотя если бы вас не было, что было бы со мной? Могу ли я существовать отдельно от вас? Вопрос открытый.
– А ты меня не пугаешь. Почему ты не обиделась? Почему тебя не оскорбили мои слова? Они тебя не оскорбили, я это чувствую.
– Я вынуждена признать: процесс познания – это очень интимный процесс. Результат процесса можно показать другим, а вот сам процесс – штука темная и сомнительная, что ли. Во всяком случае, не терпит свидетелей. Никогда не знаешь, что из этого получится.
– Сколько всего аморального я совершил – а все из любви к нравственности!
– Верно, верно. И никому об этом не расскажешь. Ты чист, а всем будешь казаться грязным.
– Вот, вот. Поэтому я рад тебе открыться. Мне нечего скрывать, я вообще презираю тайны, но я вынужден секретничать, иначе не проживешь. У тебя много поклонников?
– Как тебе сказать… Если попытаться отразить эту сторону моей жизни на твоем языке, получится что-то вроде следующего: я – вечная невеста, которая никогда не станет ничьей женой. И ничуть по этому поводу не горюет.
– Но мужчины у тебя были?
– Были. Здесь следует остановиться. Я надеюсь, ты пощадишь мою скромность, обнаружив чувство собственного достоинства. Не стоит продолжать эту тему.
– Значит, тебя тоже тянет к мужчинам?
– Тянет… Но ревновать меня не надо. Я не девка, я невеста…
У меня все было с ней, как с женщиной, только женщиной при этом она не была. Все ее женские прелести, манера поведения, жесты, темперамент – все, все в ней было пугающе идеальным; тело, между прочим, было смутно знакомым, близким к пропорциям Алисы. Но впечатление суррогатности, неорганичности не покидало меня.
Длился сладкий миг экстаза очень долго – может, сутки, по земным меркам. Может, гораздо дольше. Во всяком случае, на это потребовалось время.
– Утолил свою страсть к познанию? – спросила она с улыбкой, стыдливо запахивая на себе халатик.
– Нет, – честно ответил я.
Она рассмеялась так, будто смешнее ничего не слыхала в своей жизни.
– Мария, с кем я сейчас занимался любовью?
– Скажем так: еще недавно, в тот момент, когда мы были вместе, я вся состояла из страсти. Ты хочешь внести меня в свой донжуанский список?
– Маша, ты же знаешь, что это не так!
Она покраснела. Честное слово, она покраснела!
– Извини, – сказала она. – Не называй меня так больше. Это слишком интимно даже для наших отношений. Пойми меня правильно, я меньше всего хочу тебя обидеть, но… В общем, давай считать, что между нами не было ничего личного.
Она твердо посмотрела мне в глаза.
– Конечно, – сказал я. – Безусловно.
– Вот и ладненько. За это ты еще больше достоин любви. Ты на глазах становишься другим, Платоша.
– Платон. Я бы предпочел – Платон.
– Да, конечно. Извини. Мне безумно жаль с тобой расставаться. Я-то знаю, насколько ты хорош.
– Спасибо, Мария. Если бы ты знала, как мне приятно это слышать.
– Я вижу, ты все понимаешь правильно. Процесс познания тоже должен быть человеческим. Даже к камню надо относиться по-человечески или к облакам, не говоря уже о разуме. Почему люди так небрежно, так бездумно относятся к разуму, Платон? Или к любви? Все бесценное для них превращается в товар, который ничего не стоит.
– О, Мария, твое чувство юмора делает тебе честь.
– Разве я сейчас пошутила?
– Возможно, и нет; но бездна горьковатой иронии – это то, что сегодня хочется считать культурной ценностью.
– Можно, я тебя поцелую?
– Маша…
– Что же я делаю! Я совершаю преступление против совести: я не должна превращать тебя в раба истины, в маньяка вечных истин! Это недопустимо. Это называется сбивать с пути истинного. С меня за это строго спросится. Ах, тебе не объяснить…
– Я уже в состоянии понять то, что невозможно объяснить. Я уже никогда не стану ничьим рабом. Даже рабом истины.
– Правда? Значит, я уже стала частью тебя. Ты быстро возмужал. Стоп! Знаешь, где мы сейчас с тобой побывали? Мы пронеслись по пятому уровню. Боюсь, что чиркнули по шестому. Все так стремительно. Ты постепенно осваиваешься в лабиринтах мироздания.
– Скажи, а у тебя есть начальник?
Она рассмеялась.
– А это вопрос первоклашки, извини. Какой начальник? Я сама себе царь и бог. Хорошо, царица и богиня. Я сама с себя строго спрошу. У нас высочайшая степень самоорганизации. Мы сами себе кнут и пряник. Нам не нужны пастыри со стороны.
– А почему я здесь не вижу никого, кроме тебя?
– Хороший вопрос, очень хороший. Ответ нужен?
– Ты хочешь сказать, что…
– Вот именно.
– Я долго думал… Пожалуй, я подарю тебе моего скарабея. Нет-нет, я этого хочу.
– Дареное не дарят, – сказала Мария, взглядом сообщая мне что-то очень важное.
– Ты хочешь сказать…
– Я давно обронила этого жучка. Но это именно мой талисман. У него поцарапана левая лапка, вот, видишь? Так что скарабей счастливо обрел хозяина. А по поводу твоего презента на память не беспокойся. Ты сделал царский жест: подарил мне чувство юмора – обхохочешься, доложу я тебе. Как Иван, который пошел туда, не знаю куда, и принес то, не знаю что. Но ты попал именно туда, куда надо, и принес именно, что требовалось. Удивил мир. Как видишь, Платон, ты сыграл роль сказочного героя. Боюсь, и не одного. Кроме того…
Она опять покраснела.
– В общем, я теперь имею представление о том, что вы называете любовью. Но вот что мне не дает покоя: если не совмещать любовь с юмором, то гремучая смесь получается. Чистый яд. А если совместить, то на выходе будем иметь какое-то диво-дивное… В общем, получается коктейль из живой воды с мертвой. Напиток богов. Немногим дано вкусить сей нектар. Это высокий уровень.
Мария долго молчала. И я молчал, думая, как мне казалось, ни о чем (прекрасно при этом сознавая, что вблизи Марии думать ни о чем было невозможно: уже своим присутствием она организовывала строй мыслей и задавала ему направление).
– Я все никак не могла понять, почему мне фатально не удается зацепиться за 9 уровень. Теперь поняла. Все дело в чувстве юмора. Понимаешь? Ничего ты не понимаешь. Ты думаешь, это ты ко мне пришел? Не исключено, что это я к тебе пожаловала.
– А пожаловала, так отплати мне добром за добро. Могу я узнать, где находится Мария, дочь Вени?
Мой вопрос отчего-то Марии не понравился.
– Мне кажется, твой визит затянулся, – сказала она. – Я больше не хочу тебя видеть. Даже тебе изменило чувство меры. Человек, увы, несовершенен.
Я молча встал и направился к выходу.
– Спроси об этом у Астролога из Венеции, – прозвучало мне в спину. – Прощай.
Я сдержал себя и не оглянулся. Что-то подсказывало мне, что я нарвусь на пустое место. А мне хотелось, чтобы Мария осталась в моей памяти желанной и не чужой. В общем, частью моей жизни, которую вовсе не хотелось вычеркивать из памяти.
Но я все-таки оглянулся. (Вот она, моя суть! Я обожаю расставлять все точки над ё . Не люблю мифы, миражи, фантомы. Люблю грубую реальность. Предпочитаю видеть то, что есть, а не то, что желаю увидеть.)
Мария замерла посреди комнаты, опустив руки вдоль тела.
В глазах её стояли слёзы.
Конечно, я забыл её поблагодарить.
А вот не попрощался с ней я вполне сознательно (что было совсем невежливо, согласен – зато символически: мне важно было дать ей этот знак).
– Подожди, – сказала Мария.
Я остановился.
– Возьми вот это, – сказала она, вкладывая мне в ладонь небольшой предмет с острыми краями.
– Что это?
– Половина скарабея из нефрита. Вторая половина его будет появляться в твоей жизни тогда, когда ты будешь нуждаться в помощи. Помощь никогда не отвергай, принимай с благодарностью. Возможно, я поспешила, выбрав тебя, – я ведь тоже могу ошибаться. Но мне кажется, что ты именно тот, кто нужен, чтобы продлилось время человеческое. Кроме того, ты нужен им.
– Кому – им?
Исчезновение Марии совпало с моментом моего пробуждения.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
6
6.9.
– Тебе, я так понимаю, необходимы неопровержимые доказательства того, что твоя выдуманная история – реальна?
Оказалось, Алиса давно и терпеливо готовила меня к самому невероятному, заботясь о моем душевном здоровье.
– Помнишь, как мы с тобой познакомились? Помнишь, что было там и тогда ?
Она сощурилась.
– Где? Когда? – спросил я, холодея.
– Там. Где ты поцеловал меня в первый раз.
– Ты про скарабея?
– Не только.
– Помню. Я все помню. То кольцо, синее такое… Как оно оказалось у меня на пальце? Признайся: это ты его подбросила?
– Да нет, Господь с тобой. Не я.
– А кто же?
– Откуда мне знать? Кольца я, если честно, не помню.
– Как не помнишь? Ты еще сказала, что оно мне не идет.
– Извини, солнце мое, не помню.
– Ладно. Теперь давай поговорим про скатерть…
– А что про скатерть?
– Помнишь, там была скатерть с автографом Пушкина?
– Это у нас с тобой сейчас есть скатерть с автографом Пушкина. Раритет. Который ты притащил Бог знает откуда. И никому взглянуть на него не даешь. А тогда никакой скатерти не было.
– Ну, Алиса, ты меня еще фантазером назвала… Неужели не помнишь?
– Извини…
– Ладно. Алиса, а что еще было там и тогда ?
– Ты сейчас о чем, Платон?
Она смутилась точно так же, как Мария там и тогда .
– Ладно, забудь. Можно, я задам тебе один вопрос? Он давно меня мучает. Просто любопытно.
– Конечно. Я отвечу. Если смогу.
– Этот скарабей… Как его, кстати, зовут?
– Не знаю.
– Ага. Замечательный символ. Я так рад, что ты мне его подарила. А как он оказался у тебя?
– Ой, все это так непросто, – сказала Алиса. – Он достался моей маме от моей бабушки. А вот к бабушке он попал каким-то странным путем. Темная история. Однажды…
– Подожди. Ты мне потом расскажешь эту историю, ладно? А сейчас Алиса, у меня для тебя сюрприз. Подарок. Дай ладонь. Закрой глаза. Теперь открой.
Она разжала ладонь. На ней лежал тяжелый перстень из моего сна, тот самый, что подарила мне Мария.
– Какая прелесть! Какое… космическое кольцо! Это ведь не тот перстень, который был там ? Боже мой, какое оно необычное, это кольцо!
Алиса улыбалась. А рядом с ней стояла и улыбалась Мария (которую видел только я, Платон Скарабеев: этот признак сумасшествия не порадовал меня).
– В слове Скарабеев – 9 букв, – зачем-то сказала Мария. – Со скарабеем никогда не расставайся. Слышишь? Никогда. Это важно.
– Тссс! – цыкнул я и приложил палец к губам.
Благодарная Алиса подняла юбку – точь-в-точь как Венера: вновь женское изящество оборачивалось формой разврата. Дежавю.
Мария целомудренно покинула комнату – собственно, исчезла.
С Алисой было слаще, чем с Венерой.
Мне срочно надо было покинуть помещение и выйти на улицу.
Еще вчера отороченные черным горностаевым мехом белые тучи свежими павами проплывали пред моим изумленным и восхищенным взором.
А сегодня перистые облака были похожи на хлопья грязной мыльной пены, клочками разбросанной по голубой реке.
Что будет завтра?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
7
7.9.
Наступило время Ч.
Для меня наступило. А возможно, и не только для меня.
Мне предстояло ответить самому себе на несколько крайне неприятных, дьявольски сложных, ускользающих от внятной постановки вопросов. Точнее, ответы у меня были, только вот я никак не мог решить, какие их них считать правильными.
Вопрос первый . Чего ради я нахожусь у Вени в самом сердце его империи?
Варианты ответов:
1) Для того чтобы победить его?
2) Для того чтобы выполнить некую миссию, от которой я не вправе отказаться?
3) Не знаю.
Вариант третий сразу отпадал в силу его унизительности для мыслящего человека. Даже если ты не знаешь, ты догадываешься, почему ты не знаешь и в той или иной степени отдаешь себе отчет, что тебе необходимо для того, чтобы знать. Культивировать незнание, неведение, счастливо приносящее катарсис, могут только идиоты. Время идиотов и нирван, кажется, безвозвратно проходит. Ну, пару тысячелетий на раскачку, не более. А может, счет уже идет на столетия. Не исключено, что и на десятилетия. Но это не суть. Время вышло.
Вариант первый?
Да, конечно, я затеял с Веней нешуточную битву, и назад мне дороги нет.
Однако сам факт сражения с Веней – это следствие, но не причина. Мотивы нашей смертельной схватки, как сказали бы бесстрастные детективы? Голая психология? Смешно. Голая метафизика? Глупо. Голая правда?
Что есть правда? И какое отношение имеет она к истине?
Что есть истина?
Искусно подвести к этому убийственному вопросу и вовремя ввернуть его, значит, загнать в тупик всех, и правых, и виноватых. Считается, что только дурак возьмется на него отвечать. А умным положено с умным видом не ведать. Не врубаться. Дескать, кто знает, тот не говорит… Говорить об истине – значит, трепаться попусту. Напрасно тратить слова.
И я, конечно, в курсе этой философской традиции. И я готов бросить ей вызов. Вот только соберусь с духом.
Остается вариант второй?
Не знаю. О, мама дорогая, да, безусловно, хотел я сказать. Остается второй вариант. Точнее так: следует начать со второго варианта. Вот вам, кстати, ниточка, за которую мы потянули клубок истины.
Итак, миссия. Во-первых, слово дурацкое, грозно-сентиментальное, затасканное и оттого подозрительно фальшивое. Иначе говоря, речь идет о том, что мне проще выполнить свою задачу, чем не выполнять ее. Суть «миссии»?
Ну, давай, чего ты мнешься. Не бойся пафоса, если без него не обойтись; не бойся банальности, если она к месту. Не бойся. Ты ведь не себя боишься и не мыслей своих; ты боишься реакции любителей нирван, малых сих, малюсеньких, решивших уравнять всех не перед истиной, а перед фактом невозможности постижения ее. Ну!
Ладно. Суть миссии…
Смешно, ей богу! То, что я сейчас скажу, для меня звучит как обычное рассуждение. Но с точки зрения какой-нибудь всемирно-исторической, здесь столько всего судьбоносного. Окей. Суть миссии – с помощью разума внятно ответить себе на вопрос, что есть истина.
С точки зрения человека, живущего на планете Земля, ответ на этот вопрос существует. Более того: уклоняться от ответа на этот вопрос есть самая большая пошлость и самое великое лицемерие. Истина в том, что высшие культурные ценности, порожденные самой жизнью, должны определять жизнь всех, нравится им это или не нравится. А высшие культурные ценности – это истина, добро, красота. Вот и все. Три категории, у каждой из которых по девять параметров. За подробностями обращаться к роману «Девять».
Вопрос второй : а почему эта миссия перенесена в логово Вени?
А потому что Веня сумел сконцентрировать суть цивилизации: бессознательно делать ставку на бессознательное в человеке, принимающее облик как бы сознательного, а именно: делать ставку на интеллект, более зависящий от души, нежели от разума. Моя миссия вообще родилась благодаря Вене, – благодаря тому, кто подписывает смертный приговор землянам.
Я не против цивилизации выступаю; я выступаю за культуру, высший этап развития цивилизации. Но если я не могу доказать это Вене – я не докажу это никому. Для них героем всегда будет Веня, но не я. Я вообще из области потусторонней – антигерой, антихрист, антимир. Анти – мое второе имя. Я, выступающий гарантом жизни, – я, мыслящая материя, воспринимаюсь как угроза. А Веня, выступающий гарантом уничтожения жизни, – он выступает как символ надежды.
Наступило время Ч.
Вопрос третий : и что мне делать?
Ответ: надо стремиться сохранить жизнь, вопреки тем, кто во имя жизни саму жизнь и уничтожают. Долг перед истиной выше долга перед людьми?
Долг перед истиной, с точки зрения разума, является долгом перед людьми.
А пафосу-то, пафосу…
А все верно. Там, где пересекаются жизнь и смерть, уместен и желателен пафос, отражающий градус мыслей и чувств. А если даже здесь здоровому пафосу не находится места, значит, смерть становится необратимой. Без пафоса о смерти говорит либо дурак, либо…
Да, пожалуй, только дурак.
Бессмертие – категория разума, означающая бесконечное продолжение жизни усилиями личности; с позиций души бессмертно только сегодня, поэтому для аленьких – это интимная категория, это вмешательство в их личную жизнь, покушение на их священное право «не понимать».
Мы состоим из звездного вещества, из той самой звездной пыли.
Вот почему Канта так волновали звезды, наш материальный состав.
А пыль и нравственность (состав духовный) – несовместимы.
Вот почему Канта так волновал нравственный закон внутри нас.
Совместишь пыль и нравственность – получишь личность.
По сути Канта волновала личность, которая вновь превращается в прах, в ту самую звездную пыль, – но духовное, сотворенное личностью, становится таким же бессмертным, как и пыль, – можно сказать, входит в состав бессмертного наряду с пылью.
На языке науки все это куда менее романтично называется функционирование закона сохранения и превращения информации.
На языке души это звучит как музыка сфер, которую нельзя трогать «руками», щупальцами разума: Бог, непознаваемая Истина, апокалипсис. Глубоко личное они путают с глубоко эгоистическим. Глубоко заблуждаются. И потому берут количеством: их много, ты один. Количество – это мера цивилизации, поэтому они все меряют количеством: чувства, мысли, счастливые дни.
Качество – это высшая мера, это приговор цивилизации – и одновременно пролог культуры.
Вот честное слово: говорить об этом неловко, потому что без пафоса не обойтись, а пафос поиска истины ассоциируется с горящими глазами глупых праведников, публики, действующей на меня тошнотворно; но не говорить об этом стыдно.
Пусть говорит разум, и замолкнут чувства?
В таком случае, мы еще не сказали о главном: когда говорит разум – чувства трепещут.
Пафос пафосу рознь.
Даже чувства мои отличаются от чувств Вени. При мысли об этом охватывает инфернальная радость, смешанная с райским страхом.
Выть хочется. На луну. От счастья.
Если хочется выть на луну, это верный признак того, что пришло время Че.
Время с любопытством остановилось. Замерло.
Бессмертие на несколько вселенских секунд превратилось в эфемерную категорию.
Что впереди?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
8
8.9.
Наголо выбритая круглая Луна, которую время от времени закрывали полосатые тучи, висела над Плутоном огромным золотым медальоном, – казалось, свисающим с шеи кого-то огромного, невидимого, растворенного во мраке Минотавра, с недобрым любопытством разглядывающего объект, известный людям под названием планета Земля. Чудище, как известно, обло и озорно. А также лаяй барбосом.
– Смотри! – Веня бросил руку вверх (Адольф! Адольф!), дождавшись, когда сгустившаяся темнота сделает светоносное небесное тело хорошо различимым.
Оловянный обломок монеты-луны с какой-то выпуклой гравировкой на нем таинственно манил неразгаданным.
– Чей профиль отчеканен на матушке Луне, угадываешь?
«Наполеон? Сталин? Что-то римское?» – заметалась мысль, приученная видеть на деньгах профили сатрапов (сила – к силе!), ниже которых профилактически размещают петитом: «А с нами Бог…»
– Нет, нет, – отмахнулся Веня, как будто слышал слова, звучащие у меня в голове. – Мой профиль, смекаешь?
«Не может быть…» – окатило меня изнутри морозным газом. Душа, казалось, покрылась инеем.
– Может, может, – устало возразил Веня. – Еще как может.
Я вынул из кармана разменную монету, золотую луну. Ну, конечно. Тот же профиль. Как я раньше не замечал.
А Веня тем временем исполнил «Двуногих тварей миллионы» в попсовой джазовой обработке, и гимн его чем-то стал напоминать «Мурку».
Не сфальшивил ни разу.
– Ленин, Сталин, Троцкий… – начал он, отложив гитару. – Все это доказывает не правду социализма или капитализма, а правду природы человека. Власть, полученная из рук народа, – от лукавого. Единственный легитимный источник власти – это сила. Вот власть царя – я бы признал; а мандат на власть, вручаемый скопищем болванов…
– Для меня легитимна та власть, которая хотя бы отчасти осуществляет диктатуру культуры. Власть должна опираться на истину и закон более, нежели на чаяния народа. Есть только одна власть – власть Закона. Не правового закона, который, как известно, что дышло, а Закона как познанной необходимости.
– Ты, как я посмотрю, тоже не особенно благоволишь к демократии.
– Да, я не люблю демократию. Но если действовать от имени Закона, всегда будешь действовать во имя большинства, опираясь при этом на личность. Диктатура культуры, диктатура Закона – вот источник власти. Я тоже считаю, что пора перестать заигрывать с народом – но по иной причине, по иным соображениям.
– Ты просто прячешь за словами то, что я провозглашаю открыто: единственный источник власти – это сила. Чистая сила. Как таковая. Великая культура – это великая иллюзия. Это ложь. Ну, вот назови мне хоть одного великого деятеля культуры, искусства, науки, политики, – ладно, пусть не великую, просто мало-мальски заметную в историческом масштабе фигуру, которая хотя бы в первом приближении могла примерить на себя звание «приличного человека»? Этот был талантлив – но подлец; этот сукин сын – но талантлив, этот хотел как лучше – получилось хуже некуда; этот часть той силы, что вечно хочет зла, но почему-то совершает благо… И сказка про белого бычка в темных пятнах – бесконечна.
– А ты имеешь представление о том, что значит «приличный человек»?
– Конечно, имею; но это идеал, у которого нет ничего общего с жизнью, и потому вредный, лживый, недосягаемый идеал. О человеке в этой жизни судят исключительно по его социальным амбициям и по социальному результату. Всегда и только. А приличные результаты чаще всего становятся результатом неприличного поведения. Ergo: дай результат – и ты победитель. Которого не судят. Что не так? Победа. Вот я и побеждаю. А пятна… Они есть даже на Солнце, что уж тут говорить о бычке.
– Да ты философ, как я погляжу.
– А ты думаешь, что только ты философ? Да моя философия покруче твоей будет. Чему ты удивляешься? Думаешь, Вене чихать на философию, царицу наук, и он запросто отдаст ее в забаву таким разумопоклонникам, как ты? Как бы не так. Ты меня крупно недооценил. Просто в моей философии главный пункт – победа любой ценой. В том числе над такими, как ты. Никому ни единого шанса в этой жизни. Таково неписаное правило цивилизации, не так ли? Иисус любит победителей. Кто силен, тот и прав. Подтолкни падающего. Победитель получает все. Победить можно только на всех фронтах сразу. Только в моей философии появился роковой нюанс: до меня ключевым словом было победа , для меня же ключевым словом становится любой . Любой ценой. Разницу улавливаешь? Победа любой ценой означает: если нельзя победить иначе, я побеждаю ценой смерти. Меня уже нельзя победить, потому что меня ничто не остановит. Я уже не отдам, как та женщина из притчи, своего ребенка лжематери, лишь бы ребенок был жив. Мой ребенок погибнет, но он не попадет в чужие руки, ибо: только та сила является силой, которая готова победить абсолютно. И совесть у меня при этом есть, а как же. И бела она у меня, как овца тонкорунная, ибо я служу истине. Что не так? Дефицит милосердия смущает?
– Я ни слова не сказал про милосердие.
– Не сказал, так подумал.
– Я подумал о том, что бывает сила духа, рожденная глупостью. Силу надо доверять только умным. Иначе мне просто жалко людей-несмышленышей.
– Вот-вот, жалко… Все вы, как только запахнет жареным, то есть истиной без прикрас, сразу прячетесь за милосердие. Я тебе скажу, что такое милосердие. Милосердие – это своеобразный технический клапан, это момент сложной технологической цепочки, с помощью которого стравливается излишнее давление жестокости, изнутри распирающее доброго человека. Так что и я не чужд милосердия. Поинтересуйся у Марсика.
– Браво. Ты, как всякий интеллектуально развитый балбес, наполовину прав. Есть философы, а есть мыслители: это разное. Мыслитель – это умный философ. С точки зрения мыслителя, ты сейчас говорил о милосердии в понимании интеллектуально развитого циника, полуумного философа, который в человеке видит только индивида. А есть еще милосердие как момент в полной мере философского отношения: такое отношение, присущее личности, заставляет не задирать нос перед падающим, и уж тем более не подталкивать его, а просто подать руку. Главное не победа, тем более, любой ценой; главное – истина. Истина – это и есть победа. Все иные победы не просто унижают человека, они его фактически уничтожают. Ты победил всех, этих дураков несчастных, которые считают, что победителя не судят. А судят именно и только – победителя. Победил ты их – и толку? Их всех, 9 разномастных миллиардов, а вместе с ними и нас с тобой, потому что мы часть их силы, надо выводить на новый уровень. Победа может быть только общей – когда-нибудь думал об этом, победитель? И могила – одна на всех.
– Ты опять попер в свои дебри, как Че Гевара херов от культуры. Давай, слабай мне лучше что-нибудь на гитаре, Че Гевара. Давай.
– Я не умею.
– Тогда спой.
– Я не умею.
– А я умею. Я умею все. И петь, и танцевать, и убивать, и любить, и думать, и править. И тебе ли со мной тягаться? Ницше? Что Ницше?
– Ты бы не трогал этого беднягу Ницше. Ему и так досталось: мало того, что его мучили хронические головные боли, к тому же, вдобавок, его философию, и так излишне попсовую, просто залапали массы. Сам, конечно, виноват: надо было изъясняться более внятно. А то Заратустра, Заратустра… Теперь вот каждый Беня думает, что Ницше ему по зубам.
– Ницше для меня уже пройденный этап. И художественные тексты я пишу не хуже тебя. И на все лады. Хочешь – «Туз», хочешь – «Bestсовестный». И баб у меня было больше. Поуниверсальнее буду именно я, как ни крути. Никого впереди – вот мой девиз.
– Никого – в смысле пустота впереди?
– Нет, в смысле я возглавляю все живое, которое хоть на шаг, но позади меня топчется.
– Весь вопрос в том, куда ты ведешь все живое.
– Не я веду. Природа во мне ведет. Сила. А вот куда – это мы постепенно и выясняем. Недооценил меня, признайся?
– Недооценил. В том смысле, в каком можно недооценить минотавра.
– А что? Минотавр – это мощь. Мало равных. За правду хвалю. Где правда – там и сила.
– Минотавр в лабиринте – это несколько комично, не находишь?
– Минотавр не может быть жертвой по определению – вот что главное. Его нельзя изобразить без уважения.
– Ну, что ж, в той философии, которая от интеллекта, ты определенно добился высот.
– Ты хочешь сказать, что есть другая философия? Не от интеллекта? От разума, надо полагать? Это еще большой-большой вопрос.
– А если все же есть?
– Вспомни мой девиз – и отойди в сторону. Это добрый совет. Как сказал бы Заратустра, ищи свою магистраль на обочине.
– Магистраль на обочине – это путь маргинала. Это мудрый совет.
– Хорошо, пусть мудрый. Бери. Мне не жалко.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Попытка Конца
Мне хотелось победить Веню, раздербанив всю его Империю, пустить прахом все его чаяния, циничные надежды, злые умыслы.
Не покидало ощущение, что все это колоссальное «чудо света» в чем-то подобно пушинке: его легко смахнуть, сдунуть, закрыв глаза от удовольствия; однако я бы нисколько не удивился, если бы, открыв глаза, вновь увидел за окном крепостные сооружения, которые и не собирались сдаваться. Закрыть глаза и опять дунуть? Вечный бой?
Человек – это вечный бой.
Империя может исчезнуть, как мираж, но и культура – тоже мираж, то, чего нет в жизни, но что в силу какой-то логики вещей способно противостоять фортам натуры.
Все мотивации homo cidus, прямой потомок НЕ, черпает из горячих точек цивилизации, каждая из которых стала иконой интеллекта: деньги, политика, религия, национализм, секс.
Все девять мотивов личности – разум, истина, культура, философия, свобода, любовь, красота, добро, счастье – просто закупорены, будто джин, в просмоленный кувшин, который валялся бог весть сколько в прохудившемся запаснике ветхого музея, пока его не утащил оттуда местный дурачок Иоанн. Затем он продал кувшин за полушку подгулявшему барону В., который просто не мог пройти мимо выгодного дельца; барон определил место кувшину в подвале, подальше от любопытных взоров. До поры до времени. И вот история ждет, пока какая-нибудь Мария в облике Золушки (а в душе Гретхен), задумав поплакать по поводу неудачно складывающейся личной жизни, заберется в подвал, расхерачит подвернувшуюся под руку керамику (аленькие щечки, в глазах – слезки: прелесть! это вам любой подтвердит), рассыпавшуюся в прах, узрит явление утомленной, нечеловечески прекрасной мумии джина и объявит всему миру, что на нее, бедную служанку, снизошел, а прямо говоря, покусился, святодух, от которого она и понесла. А ловкий в любовных делах солдат, на которого все думают, здесь не при чем. И молодой повеса студент Фауст, который подарил ей перстень, тоже не при чем. И потный сын богатого мясника, толстый, источающий сырой дух парной плоти, не при чем. И хилый сынок барона не при чем. И бодрый еще барон тоже не при чем.
И люди поймут, что Мария – святая, и что сын ее весь в Фауста , родившийся от Джинна, есть богочеловек.
Вот всего-то: люди делятся на думающих интеллектом и мыслящих разумом. И все. Интеллект приспосабливает к горячим точкам, разум критически относится к ним, ориентируясь на вечное в человеке; разум спасает человека от интеллекта, величайшего достижения эволюции, оплота фантастически развитой цивилизации и одновременно угрозы всему живому.
Вот как объяснить это аленьким ?
И в то же время бросить их, как младенцев на съедение злому року , совершенно невозможно: это предательство.
Я смертельно устал. Мне так хотелось стать просто аленьким и в то же время хотелось наказать их, неразумных, замороченных гордыней интеллекта. Мне хотелось и жить, и умереть. И плакать, и смеяться.
И понимать.
С этим сложным ощущением я шел по сырому песку, оставляя после себя временные следы. На душе было по-своему прекрасно: пусто, печально, и только сладкими бубенцами постанывали регистры будущего, которое жило во мне в тени сумеречного прошлого.
Свет не победит мрак, это было бы противоестественно; но свет способен извечно противостоять мраку.
Противостояние и есть победа, глупое противостояние – поражение.
Куда я шел – куда глаза глядят?
Нет, меня вел инстинкт будущего.
Я шел через лес и угадывал: вот здесь размещалась резиденция Вени, здесь жил я, вон там было кладбище, тут – церковь, напротив – наукоград.
Проблема была только в одном: ДН «Плутон» исчез. Светло-коричневое земляное поле, ровная поверхность – и больше ничего. То, что именно здесь разлагался этот нарыв цивилизации, не вызывало никакого сомнения, как, впрочем, и то обстоятельство, что я не обнаружил ничегошеньки.
Даже Луна, казалось, не светит, а делает вид, что ничего не знает. С ума сойти.
Нет никаких особенных следов гигантского демонтажа, великой стройки или вселенского развала.
Тишь и пустынная благодать кругом.
Стало не по себе.
Но ведь я все это видел собственными глазами, все это было реальней реального! Откуда во мне это знание? Описанное в романе?
Или роман – это не доказательство?
Мне показалось, что самое время поставить Точку.
Жирную.
Весомую.
Точку конца, которая, если на неё вдумчиво посмотреть, начинала светиться, превращаясь в маленькую луну, в точку отсчёта – точку начала.
И тут же ручкой, взглядом и всем существом своим я споткнулся о точку, как о кочку на пути, разгоняющимся в неизвестность.
Значит, ещё рано было заканчивать. Роман никак не мог исчерпать жизнь.
Где-то там, на бездонном горизонте, тучкой, обычно предвещавшей бурю, соблазнительно маячило будущее.
– Видишь тучку? – спросил я у Алисы.
– Нет. Небо чистое.
– А я вижу.
Алиса мягко вытащила роман у меня из рук.
Положила ладонь на лоб.
Ладонь была теплая.
Указательный палец ее украшал перстень, в камне которого переливалась тяжелая синяя искрящаяся капля.
Тот самый перстень, который был подарен мне Марией.
– Хватит писать роман. Время писать роман, и время жить…
– Да я и не роман вовсе пишу.
– А что?
– Да так… Читай, если хочешь.
– А я пойму? Я часто не понимаю того, что ты пишешь.
– Я отвечу так. Сначала я наивно желал быть понятым. Всеми и до конца.
Затем настало время, когда быть услышанным сделалось важнее, нежели быть понятым.
Сейчас я приближаюсь к тому уровню, когда высказаться для меня важнее, нежели быть услышанным. Так понятно?
– Как тебе сказать…
– Попробуй, почитай, это не Бог весть какая премудрость. Я старался быть понятным.Один общий роман, или Что нам Гекуба после Гекатомб?
Отечественный философ В. Гербицит как-то заметил: «После гекатомб 1937 года, все советские писатели, в сущности, писали один общий роман: в плане этическо-философском их произведения неразличимо походили друг на друга. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» – удивительное исключение… Да и он, в сущности, в основе своей удивительно советский».
В сущности, подобное происходит с ощутимой периодичностью: писатели всех времен и народов не сговариваясь на очередной волне новейших умонастроений (коллективного бессознательного, будем откровенны) начинают писать, как впоследствии выясняется, один общий роман, или пьесу, или стихотворение. По прошествии времени волне, образовавшей течение (направление), присваивают имя, словно эстетическому урагану или торнадо. Например, строгий Классицизм. Или разбушевавшийся Романтизм. Или суровый реализм. Или прикольный Постмодернизм. Все течет, все меняется, бушует и вновь стихает; не меняется только вот этот удивительный алгоритм: коллективное умонастроение дает старт новому общему роману.
Между прочим, это свидетельствует о волновом, бессознательном характере художественной словесности, самого умного из искусств, однако. Литература, которую создают отдельно взятые писатели, оказывается феноменом массового ажиотажа. Индивидуум служит толпе? «Да это парадокс, и больше ничего!» – воскликнет какой-нибудь отдельно взятый читатель. И мы не оставим эту реплику без внимания.
Вот и сейчас на наших глазах формируется течение: все как сговорившись пишут один роман. На первый взгляд, подобное утверждение может показаться парадоксальным. Ведь мы, после гекатомб 1990-х, имеем неслыханное разнообразие: писатели решительным образом отличаются друг от друга: Виктор Пелевин не похож на Михаила Шишкина, Михаил Шишкин ничем не напоминает Владимира Сорокина, Владимир Сорокин – просто противоположность Людмиле Петрушевской, которая вообще как бы неповторима. Это мы сейчас упомянули постреалистов. А ведь есть еще крепкие реалисты (хотя и в них есть что-то от пост) – Захар Прилепин, Людмила Улицкая… Да что там! Свобода – мать разнообразия. Тут впору говорить о культе индивидуальности, уникальности и абсолютной непохожести. Просто исполнение мечты Маяковского: больше художников слова, хороших и разных. Куда уж больше…
Однако схожести у них, у этих неповторимых писателей, гораздо более, нежели различий. Они «неразличимо походят друг на друга» в плане мировоззренческом. Они схожи в главном: все как один дружно, словно по команде, отвернулись от разума .
И все как один, будто в ненавистном строю – напра-аво! в направлении правого полушария! с левой ноги! повзводно, поротно, шагом марш! – самым разнообразным способом стали выражать одно и то же: недоверие к разуму, к личности. Все как один отвернулись от личности и повернулись лицом к человеку, презирающему личность в себе.
А ведь их никто не заставляет писать один общий по смыслу роман, все делается на исключительно добровольных началах. Что за парадокс в парадоксе!
Откуда такое подозрительное единодушие?
Если кратко изложить то, что требует долгого и неспешного разговора, получается, к сожалению, нечто излишне категоричное и агрессивное (таков, увы, закон философского дискурса); «долго и неспешно» сегодня, когда все привыкли орать и вклиниваться, воспринимают как форму капитуляции.
Однако «глас вопиющего», в пустыне ли, в литературе ли, – занятный и, судя по всему, древний жанр, и если не остается ничего другого, то почему бы и не воспользоваться правом на крик, на блиц крик, я имею в виду?
Думать – значит, сверять свои мысли, желания и поступки с универсальной шкалой ценностей; иными словами, ставить заслон природному эгоизму «культурнорожденными» законами.
Не думать – значит, не замечать объективного присутствия в мире универсальной системы ценностей и действовать по принципу «делаю, что хочу»; иными словами, абсолютизировать эгоистическое начало в человеке, игнорируя начало культурное.
Мыслить – становится способом жизнедеятельности личности, субъекта культуры; не мыслить – способ существования человека (иногда говорят маленького человека , чтобы вызвать жалость к его неспособности быть личностью), субъекта цивилизации.
Альтернативой личности становится уже не глупец, а человек, интеллектуально развитый. Он мимикрирует под личность, создает видимость равного в культурном отношении.
Однако личность и человек различаются не качеством деклараций о благих намерениях, а качеством информационного отношения к миру: личность познает мир и оперирует законами; человек приспосабливается к миру, выдает приспособление за познание и в качестве единственного ведомого ему закона признает «заповедь», не вошедшую в нагорную проповедь: умри ты сегодня, а я завтра.
Вот это сакральное «из не вошедшего» и выдает интеллект с ушами: интеллект является функцией психики, то есть бессознательного отношения к жизни; однако (вот он, его величество парадокс, одно из немногих на сегодняшний день достижений культуры!) интеллект может выполнять также функции «неангажированного сознания», – и тогда человек начинает мыслить, превращаясь в личность, а в интеллекте появляются проблески разума.
Жизнеспособность интеллекта не следует путать с жизнеохранительной миссией, за которой стоит философия (читай – универсальная система ценностей).
Разум – это инструмент, с помощью которого человек может понять себя, то есть выстроить свои отношения с высшими культурными ценностями. Интеллект, которым заправляют бесы сознания (ср. бес-сознательный ), – инструмент, с помощью которого человек запутывает свои отношения с культурой, делая культурно неактуальным само понятие истина.
Интеллект, каким бы развитым он ни был, не меняет главную потребность человека: потребность приспособления так и не становится потребностью познавать. Поэтому потребность витийствовать, медитировать, принимать позу мыслителя не превращается в потребность мыслить. Интеллектуальная игра не становится философией. Интеллект, как бы разум, замутит как бы философию. Так вот как бы и живем.
Парадоксальным выражением неспособности думать сегодня становится какая-то мультяшная мудрость: у меня есть мысль, и я ее думаю (таким нехитрым способом разводятся мысль и мышление). Забавное сходство с императивом натуры налицо: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Это уже архетип, от которого рукой подать до закона.
По сути получается именно так: кто думает мысль, тот расписывается в своем неумении мыслить, ибо: мысль, ставшая законом, не принадлежит тебе, а мысль, твоя мысль является и не мыслью вовсе, а так, навеянным ощущением. Чувством, если называть вещи своими именами. И «мысль» эту можно «ужинать», «танцевать», «думать» – можно делать с ней все, что угодно, ибо закон «думаю то, что пришло мне в голову» («вижу то, что хочу видеть») никто не отменял.
Только называйте кошку – кошкой: мысль – мыслью, чувство – чувством, неспособность мыслить – глупостью, способность творить законы – философией.
В этом контексте литература, ставшая на защиту прав человека, представляет собой чрезвычайно жалкое зрелище: она защищает то, что губит великую литературу, или, если угодно, то, что лишает литературу возможности стать литературой.
Казалось бы, всего-то: культ личности заменили культом индивида (как бы личностью). В конце концов, я ведь право имею . Это с точки зрения интеллекта.
С точки зрения разума, все гораздо сложнее и печальнее. Культ интеллекта становится формой культа бессознательного. Мыслящее существо заменили существом, имитирующим мышление. Великая литература никогда не отстаивала права человека (с его великим правом – не думать): это миф, запущенный индивидами; «мертвые души», заполонившие культурное пространство, словно сорная трава-мурава, интересовали великую литературу именно как «мертвое живое», как угроза культуре; великую литературу интересовал путь от человека к личности (или наоборот: но точка отсчета при этом всегда была – личность); ее интерес – всегда и только – были права личности, права человека мыслящего, то есть права, которые и поныне существуют, пожалуй, в виде абстрактного закона.
Но они существуют: как ориентир, как универсальная (sic!) система ценностей. Как осиновый кол, вбитый пусть даже в бархан (мы же в пустыне вопием, не станем этого забывать).
Вот откуда подозрительное едино-душие : у всех душа без рассуждений приняла безнравственный, без-умный императив индивида: раздавите гадину разума, долой культуру, личность – к стенке; кто был ничем, тот достоин всего. Этот императив стал выгодным и глобально легитимным, он кормит, потому как обслуживает потребность приспособления к нежеланию познавать.
Раньше все под тоталитарным прессом – «после гекатомб 1937 года» – писали умилительно-идеологический роман (на разные лады обыгрывая беззаконие, ставшее законом: репрессивный универсализм советской этики стал объектом «обожания», потому что вселял жуткий страх); теперь все пишут роман, отключив левое полушарие самым радикальным образом, изредка в культурных судорогах что-то там покритиковывая – типа дайте мне свободу не думать, уберите оковы культуры, бряцающей кандалами законов. Или совсем незатейливо: руки прочь. Не трожьте музыку (забредшую ко мне мою мысль) руками (разумом). Получается предсказуемый роман с непредсказуемым бессознательным, индивидоцентрический роман.
Да вот беда: свобода и разнообразие не спасают от одной упряжки, в которую, как оказалось, вполне себе впрягаются и конь, и трепетная лань, и рак, и щука, и всякие мутанты. Им по пути. Этот парадокс «по щучьему велению» и тянет воз «общего романа», который – еще одна культурная катастрофа – не претендует на истину. Вообще никак. Просто воз смысла в гору, не более того. Тяжело – да, и что из того? Кому сейчас легко? Разные писатели в едином порыве отказываются искать истину из принципиальных интеллектуальных соображений: на «этой волне» с истиной не то что не по пути – как-то себе дороже. Запишешься в правдоискатели – выпадешь из общей обоймы. Отстанешь от жизни. Нет, лучше быть как бы скромным.
И в этом что-то есть; скромность, несомненно, украшает, тебя начинают узнавать, однако скромность никогда не была достоинством великой – то есть, думающей – литературы. Опять грабли парадокса: не увернешься.
Что может написать человек, запрещающий себе думать, презирающий мышление (потому, конечно, что мышление презирает такого писателя)?
Что бы он ни написал, он всего лишь покажет язык культуре. Или фигу (все зависит от размеров скромности). Он будет кривляться, забавляя публику, потому что забавлять сегодня – главная стратегия «писателя» (тут бы покорректнее, поскромнее, если так понятнее: автора книг , что ли; и «читателя» у автора книг нет, у него есть поклонники, фанаты общего романа, единого прекрасного дискурса). Это вовсе не смешно. Забавлять означает завоевывать. Завоевать читателя сегодня можно одним единственным способом: угодить ему. Повернуться к нему передом, к личности задом.
Мифы работают, сказка становится былью.
Ибо: выгодно.
Вот она, вся сущность примитивной идеологии индивида, маленького человека, пишущего для таких же пигмеев.
Разнообразие в культурном смысле – это разнообразие не просто концепций, но культурных стратегий, вариативность познавательного отношения; ведь не тесно же на культурном поле Грибоедову, Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Толстому, Достоевскому, Чехову? Нисколько не тесно. Путь от человека к личности всегда уникален и тернист. Отсутствие внятных концепций ведет к пестроте, к формальному разнообразию, которое порождено единообразным приспособительным отношением. И здесь все лишь похожи друг на друга своим стремлением выделиться. Затратить столько усилий, чтобы не стать личностью, – это банально. Человека от личности отделяет гносеологическая пропасть, хотя кажется, что один маленький шажок. Нет, это от великого до смешного один шаг, а от человека до личности – пропасть. А ведь «великое» и «смешное» кажутся жутким разнообразием, тогда как личность и человек воспринимаются почти как синонимы.
Но внешность, то бишь культурная личина, обманчива. Не обманывает лишь закон, гласящий: культурно значимая оригинальность литературы определяется уровнем представленного в ней персоноцентризма . Как известно, каждый судит в меру своего понимания; так вот мера понимания писателя – это мера его приближения к персоноцентрическим ценностям.
Я даже не стану разбирать литературных достоинств упомянутых мной не столько уважаемых, сколько талантливых авторов. Да-да, и тут не обошлось без парадокса, признаю. Во-первых, я анализировал творчество многих из них неоднократно, вдумчиво и неспешно (без ложной скромности); во-вторых, это вовсе не литературный глас вопиющего, хотя и исполненный на литературной площадке.
Я лишь скажу: не следует питать иллюзий: кто был ничем, тот ничем и останется. Маленький человек – это культурный попрошайка. Сколько ему ни подавай, он никогда не станет работать в духовном смысле, то есть думать. Стоит ли писать «один общий роман», стоит ли лабать на рояле литературы, даже если попрошайничают, сучат ручонками миллиарды, нескучно проводящие время в прокуренном казино жизни? Сегодня даже «желудок в панаме» по отношению к этим жующим звучит неоправданно романтично; как назвать это стадо, чтобы никого не обидеть?
Стоит ли писать «один общий роман», вызывая уверенность у этих сильно чавкающих мира сего, что думать – удел слабых?
Вот в чем вопрос.
Ответ на который хорошо известен.
«Тем более. Зачем кричать-то?» (аргументы отдельных индивидов, как правило, излагаются не системно, зачем себя утруждать, а в виде отдельно взятых «убийственных» вопросов). «Императив культуры, как известно, гласит: не плакать, не ненавидеть, и даже не смеяться – а понимать. Про вопить вообще ничего не сказано».
Именно, именно. Золотые слова. Ай, да Спиноза…
Только вот когда поймешь, все равно вопить хочется (этот парадокс в императиве между строк зашифрован: так нас природа сотворила, к противоречию склонна).
Кроме того, вдруг на волнах сегодняшнего общего течения – как назвать этот форпост? постпост? постпостпост? донашиваем остатки с некогда барского, социоцентрического плеча? – творится «удивительное исключение» – вдруг кто-то пишет другой, персоноцентрический роман? Вдруг уже вторгается эпоха пред ? А так бывает, ох, как бывает. И этот писатель воспримет краткий вопль как возглас в свою поддержку. Ему будет приятно. И такой парадокс вполне возможен.
Собственно, на него, на парадоксально мыслящего писателя, вся надежда.
Ибо: один в культурном поле – воин.
Пишущий свой, уникальный роман.
ЗАДУМАН 13.04.08 ЗАКОНЧЕН 9 мая 2012

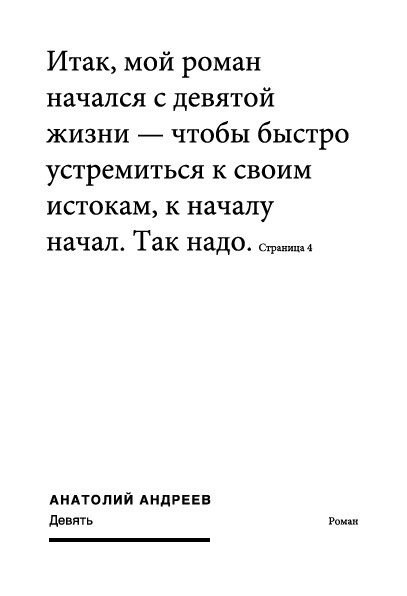
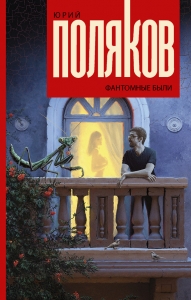





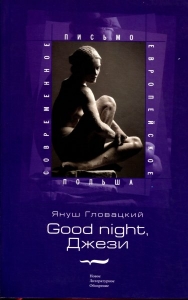



Комментарии к книге «Девять», Анатолий Николаевич Андреев
Всего 0 комментариев